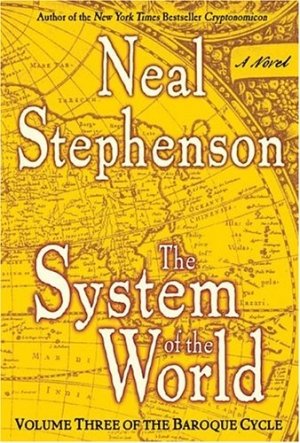
Предшествующие события:
В октябре 1713 г. шестидесятисемилетнего Даниеля Уотерхауза, основателя и единственного члена несостоятельного Колледжа технологических искусств Колонии Массачусетского залива, неожиданно посещает алхимик Енох Роот, который появляется на пороге его бостонского дома с письмом от принцессы Каролины Бранденбург-Ансбахской (тридцати лет), предписывающим ему немедленно ехать в Англию.
С принцессой Каролиной, тогда — нищей сиротой, Даниеля познакомил двадцатью годами раньше его друг и коллега Готфрид Вильгельм фон Лейбниц. Остаток детства и юность она провела в Берлине, во дворце Шарлоттенбург, при дворе короля и королевы Прусских, в окружении художников и натурфилософов, в том числе Лейбница. Сейчас она замужем за кронпринцем Ганноверским Георгом-Августом. Её супруг покрыл себя славой в недавно закончившейся войне за Испанское наследство и даже снискал прозвище Юный Бранденбургский Храбрец. Общее мнение гласит, что они — прекрасная пара: принц хорош собой и отважен, Каролина — обворожительна и умна.
Бабка Георга-Августа София Ганноверская в свои восемьдесят три года по-прежнему неутомима душой и телом. Виги (сторонники одной из двух английских политических партий) добились принятия закона, по которому София объявлена наследницей болезненной сорокавосьмилетней Анны. Если она вступит на английский престол, то Каролина станет принцессой Уэльской и будущей королевой Англии. Заклятые враги вигов, тори, на словах согласны, что наследовать должен Дом Ганноверов, однако среди них немало тайных якобитов, которые мечтают посадить на трон Якова Стюарта, католика, проведшего почти всю жизнь во Франции, марионетку могущественного Короля-Солнца Людовика XIV.
Англия и ее союзники, то есть почти все протестантские государства Европы, только что закончили четвертьвековую войну с Францией. Вторая её половина, называемая войной за Испанское наследство, отмечена многочисленными победами союзников, одержанными под началом двух блистательных полководцев: герцога Мальборо и принца Евгения Савойского. Тем не менее войну выиграла Франция, в значительной мере за счёт успешных политических манёвров. Внук Людовика XIV получил Испанскую Империю, главный мировой источник золота и серебра. Если якобиты посадят на английский трон Якова Стюарта, победа Франции будет полной.
В ожидании скорой смерти королевы Анны виги — придворные и политики — укрепляют связи между Англией и Ганновером. Побочным следствием этого процесса стало обострение давнего спора между сэром Исааком Ньютоном — выдающимся английским учёным, председателем Королевского общества, директором Монетного двора в лондонском Тауэре — и Лейбницем, тайным советником и старым другом Софии, наставником принцессы Каролины. Формально они спорят о том, кто первый придумал дифференциальное исчисление, но корни их разногласий куда глубже. И Ньютон, и Лейбниц верят в Бога, обоих тревожит, что многие их собратья по науке видят противоречие между механистическим мировоззрением и догматами христианской веры. Оба разработали теории, примиряющие науку с религией. Построения Ньютона зиждутся на древней протонауке алхимии, построения Лейбница — на концепции пространства, времени и вещества, которую он назвал «монадологией». Системы эти кардинально различны и практически непримиримы.
Принцесса Каролина хочет предотвратить конфликт между двумя величайшими учеными мира, чреватый политическими и религиозными последствиями. Она попросила Даниеля, старого друга и Ньютона, и Лейбница, вернуться в Англию, оставив в Бостоне молодую жену и маленького сына, и выступить посредником в споре. Даниель, знающий мстительный нрав Ньютона, видит обречённость затеи, однако соглашается, главным образом потому, что беден, а принцесса обещает застраховать его жизнь на крупную сумму.
Даниель отплывает из Бостона на тяжеловооружённом торговом корабле «Минерва». В заливе Кейп-Код их атакует капитан Тич по прозвищу Чёрная Борода. Он каким-то образом проведал, что доктор Уотерхауз находится на борту «Минервы», и требует от капитана, Отто ван Крюйка, выдать ему пассажира. Ван Крюйк, который ненавидит пиратов куда больше, чем средний капитан торгового судна, выбирает бой и после длящегося целый день сражения уходит от преследователей в открытое море.
«Минерва» благополучно пересекает Атлантический океан, но у юго-восточного побережья Англии штормовой ветер едва не выбрасывает её на острова Сими. В конце декабря она заходит в Плимут для починки. Доктор Уотерхауз покидает корабль, чтобы отправиться в Лондон сушей. В Плимуте он встречает Уилла Комстока, с семьёй которого связан давним знакомством.
Дед Уилла — Джон Комсток, дворянин-тори, в середине прошлого столетия сражался против Кромвеля, а после Реставрации вернулся в Англию и участвовал в создании Королевского общества. Позднее он впал в немилость и вынужден был удалиться от двора, в том числе из-за интриг своего дальнего (и куда более молодого) родственника и замятого врага Роджера Комстока. Даниель преподавал натурфилософию одному из сыновей Джона. Впоследствии тот перебрался в Коннектикут. Уилл родился и вырос в американском имении отца, затем вернулся в Англию и поселился в Корнуолле. Он — умеренный тори и с недавних пор граф Лоствителский. Королева Анна вынуждена была раздать множество подобных титулов, дабы обеспечить тори — партии, к которой она сейчас благоволит, — большинство в палате лордов.
Даниель проводит святки с семьёй Уилла в поместье под Лоствителом, и молодой граф убеждает его по пути в Лондон сделать небольшой крюк.
Дартмур
15 января 1714
Нет ничего глупее изобретательства.
Джеймс Уатт
— На этих равнинах от нестерпимого холода гибли люди вдвое вас моложе и вдвое упитанней, — сообщил граф Лоствителский, лорд-смотритель оловянных рудников, егермейстер Дартмурский, одному из своих спутников.
Ветер ненадолго стих, как будто Борей выпустил из груди весь воздух и теперь делал большой вдох где-то над Исландией, так что молодой граф мог, не повышая голоса, продолжить:
— Мы с мистером Ньюкоменом очень рады вашему обществу, но…
Ветер налетел с размаху, словно трое путешественников — свечи, которые он вознамерился задуть. Каждый крепко упёрся в землю подветренной ногой, силясь удержать равновесие. Лоствител крикнул: «Мы не сочтём невежливым, если вы захотите вернуться в мой экипаж!» Он кивнул на чёрную карету, от которой они не успели ещё далеко отойти. Карета покачивалась на французских рессорах и ухищрениями создателей выглядела почти невесомой — казалось, ветер давно бы погнал её кувырком по вересковой пустоши, если бы не упряжка разномастных лошадок, чьи косматые гривы стлались по ветру параллельно земле.
— Мне странно слышать от вас про «нестерпимый холод», — отвечал старик. — В Бостоне, как вы знаете, сказали бы «лёгкий морозец». Я одет для Бостона. — Он распахнул пелерину, показывая, что она подбита енотовым мехом. — После бесконечных поворотов в Лидском ущелье нам всем не вредно проветриться, особенно, если не ошибаюсь, мистеру Ньюкомену.
Томас Ньюкомен, рассудив, что других пояснений не требуется, вскинул бледное, как луна, лицо; последовавший затем кивок означал у этого дартмурского кузнеца нечто вроде официального поклона. Сообщив таким образом, что покинет на время своих спутников, он повернулся к ним широкой спиной и быстро зашагал в подветренную сторону. Вскоре он сделался неотличим от многочисленных стоячих камней, что можно трактовать как характеристику телосложения мистера Ньюкомена, хмурости дня или слабости Даниелева зрения.
— Друиды любили вкапывать большие камни стоймя, — заметил граф. — Ума не приложу зачем.
— Ваш вопрос содержит в себе ответ.
— Как так?
— Чтобы через две тысячи лет после их смерти люди пришли к стоячим камням в Богом забытом месте и поняли, что тут кто-то жил. Герцог Мальборо, возводящий свой знаменитый Бленхеймский дворец, ничем не отличается от друидов.
Граф Лоствителский счёл за лучшее промолчать. Он развернулся и пошёл по жёсткой пожухлой траве к странным, покрытым лишайником камням. Даниель двинулся следом и вскоре понял, что это единственный уцелевший угол разрушенного здания. Земля под ногами пружинила. Она была насыпана тонким слоем на ветхие стропила и крошащиеся бруски торфа. По крайней мере камни защищали от ветра.
— Как лорд-смотритель оловянных рудников, приветствую вас, Даниель Уотерхауз, от имени владетеля этих мест!
Даниель вздохнул.
— Если бы я последние двадцать лет обретался в Лондоне и пил чай с чиновниками геральдической палаты, я бы понял, кто этот ваш владетель. А так…
— В 1338 году Дартмур вошёл в состав герцогства Корнуолл и, таким образом, сделался владением принца Уэльского. Титул был учреждён королём Эдуардом I в…
— То есть вы столь окольным путём приветствовали меня от имени принца Уэльского, — перебил Даниель, не дожидаясь, пока граф углубится в ещё более тёмные дебри феодальной иерархии.
— И принцессы. Каковой, в случае воцарения Ганноверов, станет…
— Принцесса Каролина Ансбахская. Да. Её имя возникает в разговорах снова и снова. Так это она велела вам отыскать меня на улицах Плимута?
Граф сделал обиженное лицо.
— Я сын вашего старого друга. Мы встретились случайно. Моё изумление было неподдельным. Моя жена и дети обрадовались вам совершенно искренне. Если сомневаетесь, приезжайте к нам на следующее Рождество.
— Тогда зачем вы прилагаете столько усилий, чтобы ввернуть в разговор принцессу?
— Потому лишь, что хочу говорить без обиняков. Существует болезнь ума, поражающая тех, кто долго живёт в Лондоне, — она заставляет рациональных в прочих отношениях людей приписывать тайный и нелепый смысл событиям вполне случайным.
— Я наблюдал эту болезнь в самой тяжёлой форме, — сказал Даниель, имея в виду одного старого знакомого.
— И я не хочу, чтобы, прожив шесть месяцев в Лондоне и узнав, кому принадлежат здешние земли, вы подумали: «А! Граф Лоствителский действовал по указке принцессы Каролины — бог весть, в чём ещё он меня обманул!»
— Прекрасно. Сообщая мне об этом сейчас, вы проявляете мудрость, удивительную в человеке столь юных лет.
— Некоторые сочли бы её малодушием, проистекающим из несчастий, постигших моих отца и деда.
— Только не я, — коротко отвечал Даниель.
Он вздрогнул, почувствовав рядом какое-то движение и вообразив, будто на него падает стоячий камень, но это всего лишь вернулся заметно порозовевший Ньюкомен.
— Дай бог, чтобы мне не пришлось путешествовать по морю. С меня хватило и сегодняшней поездки в карете! — объявил тот.
— Воистину, не приведи Господь! — сказал Даниель. — Весь прошлый месяц бушевал такой шторм, что укачивало даже матросов, и они по несколько дней кряду не могли есть. Сперва я молился, чтобы нас не выбросило на скалы, потом — чтобы выбросило.
Оба собеседника рассмеялись, и Даниель остановился перевести дух. Ньюкомен держал в руках глиняную трубку и кисет, а теперь и граф достал свои. Он хлопнул в ладоши, привлекая внимание кучера, и знаками показал, чтобы тот принёс огня.
Даниель отмахнулся от протянутого ему кисета.
— Когда-нибудь эта индейская трава убьёт больше белых людей, чем белые убили индейцев.
— Только не сегодня, — заметил Ньюкомен.
Если пятидесятилетний кузнец не церемонился в присутствии графа, то лишь потому, что они с указанным графом целый год работали вместе, кое-что строили.
— Надеюсь, остальная часть плавания была легче, доктор Уотерхауз.
— Когда непогода улеглась, мы увидели скалы и, проходя мимо них, помолились за упокой души сэра Клудсли Шауэла и двух тысяч солдат, погибших тут на обратном пути из Испании. А узрев на берегу людей, мы, поочерёдно вглядываясь в подзорную трубу, поняли, что они прочесывают отливную полосу граблями.
Граф понимающе кивнул, и Даниель повернулся к Ньюкомену, смотревшему с любопытством; впрочем, к слову сказать, он всегда так смотрел, если не мучился тошнотой.
— Видите ли, — продолжил Даниель, — у островов Силли разбилось немало кораблей, нагруженных пиастрами, и после бури морская пучина нередко изрыгает на сушу серебро.
Некстати прозвучавший глагол заставил кузнеца поёжиться. Граф поспешил шутливо заметить:
— Лишь таким путём серебро достигнет английской земли, покуда Монетный двор переплачивает за золото!
— Жаль, я не знал этого, когда сошёл на берег в Плимуте! — воскликнул Даниель. — У меня в кошельке были только пиастры. Носильщики, кучера, трактирщики бросались на серебро, как голодные псы — на мясо. Боюсь, я переплачивал за всё вдвое-втрое!
— То, что удручило вас в плимутских гостиницах, может обогатить здесь, несколькими милями севернее, — сказал граф.
— На меня ваши края не производят впечатление благодатных, — возразил Даниель. — Жившие здесь бедолаги даже крышу не могли сделать выше уровня пола!
— Никто здесь не жил, — отвечал граф. — Это то, что старожилы называют «жидовскими домами». Тут была рудная залежь.
Ньюкомен добавил:
— Вот у того ручья я видел остатки молота, которым дробили руду. — Раскурив трубку, он свободной рукой достал из кармана чёрный камень размером с булочку и вложил Даниелю в ладонь. Камень был тяжёлый и на ощупь казался холоднее воздуха.
— Взвесьте его на руке, доктор Уотерхауз. Это оловянный камень. Его доставляли на место, где мы стоим, и плавили на торфяном огне. Олово текло в вырубленную из гранита форму и, затвердев, становилось бруском чистого металла.
Граф тоже раскурил трубку, что придало ему добродушно-педантичный вид, несмотря на то, что он 1) не перешагнул порог двадцатичетырёхлетия и 2) был одет по моде трёхсотлетней давности и к тому же обвешан различными диковинными геральдическими эмблемами, среди которых присутствовали, например, миниатюрная оловянная пила для резки торфа и бутоньерка из веток местного дуба.
— Вот здесь в рассказ вступаю я, вернее, мои предки. Оловянные слитки везли примерно такой же ужасной дорогой, как та, которой мы сюда приехали, в оловопромышленные города. — Он сделал паузу, чтобы перебрать брякающие амулеты у себя на груди, и, наконец, нашёл старый молоточек с острым бойком. Грозно взмахнув им в воздухе (а в отличие от большинства графов Лоствител выглядел так, будто ему и впрямь случалось работать молотком), он продолжил: — Пробирщик отбивал от каждого бруска уголок, дабы проверить его чистоту. Староанглийское название уголка — «coign», отсюда, например, «quoin»…
Даниель кивнул:
— Так называется клин, который подкладывают под казённую часть пушки.
— Отсюда странное английское слово «coin», не связанное с французским, немецким или латинским языками. Наши европейские друзья говорят «монета», но мы, англичане…
— Достаточно.
— Вас раздражают мои слова, доктор Уотерхауз?
— Лишь в той мере, Уилл, в какой вы мне симпатичны и были симпатичны ещё ребёнком. Мне всегда казалось, что у вас ясная голова. Но сейчас, боюсь, вы вступаете на путь алхимиков и дилетантов. Вы собирались объявить, что у англичан деньги иные. По-вашему, разница заключена в чистоте металла и символически присутствует в самом слове, означающем монету. Однако, поверьте, французы и немцы знают, что такое деньги. Утверждать иное — значит ставить снобизм выше здравого смысла.
— Если так повернуть, то и впрямь звучит глуповато, — произнёс граф без обиды и продолжил задумчиво: — Быть может, я для того и взял в поездку, с одной стороны, кузнеца, с другой — шестидесятисемилетнего учёного, чтобы придать предложению некоторый вес.
Жестом изящным почти до незаметности он дал понять, что пришло время трогаться. Все трое уселись в карету, лишь граф ненадолго задержался на подножке — обменяться учтивостями с компанией верховых джентльменов, которые выехали из ущелья и остановились, узнав герб на дверце экипажа.
С четверть часа ехали в молчании, граф смотрел в открытое окно. Плавную линию горизонта нарушали только резкие очертания причудливых утёсов, называемых здесь «Торы». Одни походили на корабли, другие — на алхимические печи, третьи — на крепостные стены или челюсти мёртвых чудищ.
— Вы совершенно правильно меня оборвали, доктор Уотерхауз. Я говорил цветисто, — промолвил молодой граф. — Однако в этом дартмурском пейзаже нет ничего цветистого. Или вы возразите?
— Отнюдь.
— Так пусть пейзаж скажет то, что не удалось мне.
— И что он говорит?
Вместо ответа Уилл вытащил из нагрудного кармана исписанный листок и, повернув его к окну, прочёл: «Древние могильники, языческие курганы, поля кельтских сражений, алтари друидов, римские сторожевые башни и канавы, прорытые корнуолльцами в поисках олова с запада на восток, вспять движению Великого Потопа — всё безмолвно смеётся над Лондоном. Земля Корнуолла говорит, что до вигов и тори, до круглоголовых и кавалеров, католиков и протестантов, да что там — до норманнов, англов и саксов, задолго до того, как Юлий Цезарь высадился на этом острове, существовал глубокий подземный ток, хтоническое биение металла в первозданных жилах, взраставших в земле, подобно корням, ещё до Адама. Мы лишь блохи, насыщающие наш жалкий аппетит из самых тонких и поверхностных капилляров».
Он поднял голову.
— Кто это написал? — спросил Даниель.
— Я, — отвечал Уилл Комсток.
Крокерн-тор
тот же день, позже
Столько камней проступало сквозь ветхое рубище почвы, наброшенное на скальную наготу здешних мест, что путешественникам пришлось вылезти из экипажа, от которого теперь неудобств больше было, чем проку. Дальше они могли либо идти, либо ехать на якобы прирученных дартмурских пони. Ньюкомен пошёл пешком, Даниель предпочёл ехать, но готов был изменить решение, если нрав пони окажется под стать его грозному виду. Камни перемежались кустиками травы, мягкими, как перина, и пони так тщательно выбирал, куда ставить копыта, что, казалось, позабыл о старике у себя на спине. Дорога вела к северу параллельно бегущей слева и внизу речке и угадывалась через два раза на третий, но, по счастью, была отмечена навозом недавно прошедших тут лошадей.
По обе стороны от неё в разных направлениях тянулись каменные стены, такие старые, что во многих местах камни выпали, оставив зияющие пустоты, а верхняя поверхность кладки, когда-то ровная, просела и обвалилась. Даниель мог бы вообразить, что край давно обезлюдел, если бы не овечьи катышки, хрустевшие под башмаками Ньюкомена. Некоторые холмы поросли ельником, густым и мягким на вид, словно шубки полярных зверей.
Ветер шумел в ветвях, как быстрая ледяная вода по острым камням. Однако большую часть земли покрывал бурый по зимнему времени вереск. Здесь ветер безмолвствовал, если не считать резких хлопков, которые он производил, шарахаясь в Даниелевых ушах, как пьяный вор-взломщик.
В череде Торов, тянущихся на север до горизонта, Крокерн был самым неказистым и самым близким к дороге, за что его, вероятно, и выбрали. Он походил не столько на Тор, сколько на пень и щепки, оставшиеся после того, как настоящий утёс срубили и увезли. Путешественники поднялись на возвышенность и увидели останец над собой. Люди и лошади, сгрудившиеся с его подветренной стороны, позволяли оценить размеры и расстояние — выше и дальше, чем думалось вначале, как бывает со всеми труднодоступными местами. В прошедшие часы у Даниеля было чувство, что они еле ползут, однако, когда он обернулся, все бесчисленные извивы и повороты дороги, по пути незаметные, предстали ему сжатыми, как сцепленные пальцы рук.
Торы представляли собой выходы скальной породы из разряда тех, что, по мнению Лейбница, образуются в ложах рек. Рыхлые слои выветрились, толстые каменные пластины громоздились одна на другую, словно стопки книг в библиотеке, вытащенные книгочеем в поисках нужной. Рухнувшие плиты лежали дальше по склону, наполовину уйдя в землю под дикими углами — трёхтомные трактаты, отброшенные читателем в негодовании. Ветер с подъёмом только крепчал; бурые пташки махали крыльями изо всех сил, но не могли преодолеть незримое течение воздуха и медленно плыли навстречу Даниелю хвостиками вперёд.
На зов графа к подножию Крокерн-тора съехались примерно две с половиной сотни джентльменов, однако здесь они производили впечатление десятитысячной толпы. Немногие удосужились спешиться. От кого бы ни вели род эти господа, все они были истинные современные джентльмены и, подобно Даниелю, существа здешнему краю инородные. Как дома чувствовал себя один кузнец, Томас Ньюкомен, который, засунув ручищи в карманы и заслонясь плечами от ветра, сразу стал похож на обломок старого Тора. Теперь Даниель вдруг понял, кто это: гном или карлик из какой-нибудь саксонской саги о кольце.
Будь Даниель склонен к алхимическим рассуждениям, он бы сказал, что подвластный ветрам каменный Тор состоит из Земли и Воздуха, однако ему это место казалось скорее влажным. Ветер забирал у тела тепло, как снеготаяние. Воздух (в сравнении с городскими миазмами) был сама чистота, а земля выглядела свежеумытой, как будто Даниель стоит на дне новоанглийской речки, только что вскрывшейся из-подо льда. Итак, Влага; однако присутствие Томаса Ньюкомена означало стихию Огня, потому что гном никогда не отходит от своего горна.
— Не поймите меня превратно, я был бы рад способствовать товариществу совладельцев машины для подъёма воды посредством огня, — сказал Даниель на двенадцатый день святок, после того, как Ньюкомен раскочегарил топку, и сделанная его руками машина, шипя и хлюпая, как дракон, принялась откачивать воду из мельничного пруда Лоствитела в бочку на крыше графского дома. — Однако у меня нет денег.
— Взгляните на клапан, при помощи которого мистер Ньюкомен запускает машину, — сказал граф, указывая на кованый маховик в средней части отходящей от котла трубы. — Производит ли он пар?
— Разумеется, нет. Пар образуется в котле.
— Английская коммерция — котёл, создающий весь надобный нам пар, сиречь капитал. Недостаёт клапана, который направит пар в машину, где он сможет совершить нечто полезное.
Нагромождение отколотых плит создавало естественные скамьи, возвышения, кафедры и балконы, так что оловопромышленники разместились ничуть не хуже, чем в обычном зале собраний. Их совет сошёлся, как сходился уже полтысячелетия, согласно указу короля Эдуарда I. Самый старый по возрасту участник Оловянного парламента выступил вперёд и предложил незамедлительно проследовать в ближайшую таверну, «Голову сарацина», где (как понял Даниель) предполагалось выпить и закусить. Говорящий явно не ждал возражений, как не ждёт их священник на бракосочетании, вопрошая, известны ли кому-нибудь препятствия к соединению молодых. Однако граф Лоствителский, ко всеобщему изумлению, возразил.
Он встал на замшелую каменную скамью, на которой прежде сидел, и произнёс следующее:
— Его величество король Эдуард повелел, чтоб совет собирался здесь, как все полагают, произвольно ткнув монаршим пальцем в карту и указав точку, равноудалённую от четырёх оловопромышленных городов, в неведении, что выбирает один из самых диких и бесприютных уголков Британии. Отсюда возник обычай продолжать собрания в Тавистоке, ибо никто не верил, что король желал своим вассалам принимать решения в месте столь неудобном. Однако я думаю о короле Эдуарде I куда лучше. Полагаю, он не доверял парламентам и хотел, чтобы его оловянщики добывали металл, а не проводили время в разглагольствованиях и не строили заговоры. Посему он выбрал это место сознательно, дабы наши решения принимались быстро. Я утверждаю, что мы должны извлечь пользу из мудрости короля и остаться здесь. Ибо добыча олова и меди в упадке, шахты затоплены, и у нас нет иных дел, кроме тех, что мы сами себе измыслим. Я измыслил одно дело и немедленно к нему перейду.
Мой дед был Джон Комсток, граф Эпсомский, отпрыск той ветви нашего древнего рода, которую в просторечии зовут Серебряными Комстоками. Как вы знаете, он умер в забвении, а мой отец, Чарльз, вынужден был после свержения Якова бежать в Америку. Я не обольщаюсь касательно моих предков.
Однако даже те из присутствующих, кто считает нас якобитами (что неверно) и называет закоренелыми тори (что правда), а равно утверждает, будто королева Анна сделала меня графом с единственной целью — противопоставить палату лордов герцогу Мальборо (что, возможно, истинно), — даже те из вас, кто не желает знать обо мне и моём роде ничего, кроме оскорбительной клеветы, наверняка слышали о Королевском обществе. И если вы, как пристало благоразумным джентльменам, высокого мнения о нём и его трудах, то мне позволено будет упомянуть о давней связи между этим обществом и моим дедом Джоном Комстоком, который при всём консерватизме своих взглядов был передовым учёным, создателем порохового производства в Англии и первым председателем Королевского общества. В Чумной год он поддержал многих натурфилософов, предоставив им убежище в Эпсомском поместье. Множество открытий совершили в доме моего деда Джон Уилкинс, покойный Роберт Гук и человек, стоящий сейчас по правую руку от меня: доктор Даниель Уотерхауз, член совета Тринити-колледжа в Кембридже, член Королевского общества, ректор Института технологических искусств Колонии Массачусетского залива. Доктор Уотерхауз недавно пересёк Атлантический океан и сейчас направляется в Лондон для встречи с сэром Исааком Ньютоном…
При упоминании Даниеля по рядам продрогших, раздосадованных джентльменов пробежала лёгкая рябь любопытства. Имя Исаака произвело фурор. Даниель подозревал, что это связано не столько с дифференциальным исчислением, придуманным Исааком, сколько с тем, что тот возглавляет Монетный двор. Догадку подтвердили следующие же слова Уильяма Комстока, графа Лоствителского:
— Много лет на рынках нашей страны не видели серебряных монет. Сразу после чеканки они попадают в плавильные печи золотых дел мастеров и в виде слитков отправляются на Восток. Денежная единица Англии теперь — золотая гинея, но для расчётов между простыми людьми она слишком велика. Нужны монеты помельче. Из чего их будут чеканить? Из меди? Из олова?
— Из меди! — выкрикнули несколько голосов, но их сразу заглушили сотни: — Из олова!
— Не важно, не важно, нас это не касается, ибо наши рудники не дают металла! — провозгласил граф. — Так что не о чем тут и говорить. Отправимся в «Голову сарацина», дабы не умереть от голода и холода. Но поскольку все наши шахты затоплены, медь или олово для английских монет будут ввозить из-за границы. Нам это не принесёт никакой прибыли. Заседания нашего древнего парламента останутся курьёзным обычаем; почему бы не сойтись ненадолго на стылой вересковой пустоши и не разъехаться затем по своим делам?
Если только… если только, джентльмены, мы не откачаем из шахт воду. Знаю, вы возразите: «Мы испробовали ручные водоподъёмники, машины на конной тяге, ветряки и мельничные колёса — всё без толку!». Я хоть и не горнопромышленник, господа, но мне это известно. А ещё лучше известно это человеку, стоящему по левую руку от меня, мистеру Томасу Ньюкомену из Дартмура, который из скромности называет себя кузнецом. Те из вас, кто покупал у него горный инструмент, хорошо его знают. Однако я видел, как он создает механические чудеса, в сравнении с которыми кайло — все равно что скрип ржавого колеса в сравнении с концертами герра Генделя, и я назову его высоким именем инженера.
Те из вас, кто видел машину мистера Севери, могут быть невысокого мнения об устройствах для подъёма воды посредством огня; однако изобретение мистера Ньюкомена, хоть и подпадает под тот же патент, работает на совершенно ином принципе, как явствует из самого факта, что оно работает… Доктор Уотерхауз дергает меня за рукав, я более не могу его сдерживать.
Для Даниеля это оказалось полной неожиданностью, однако он и впрямь нашёл, что сказать:
— В Чумной год я преподавал натурфилософию отцу этого джентльмена, Чарльзу Комстоку. Мы по много часов изучали сжатие и разрежение газов в машинах, созданных мистером Бойлем и усовершенствованных мистером Гуком. Уроки не прошли для юного Чарльза втуне; через двадцать лет он передал их своему сыну Уиллу на ферме в Коннектикуте, где я имел удовольствие их обоих навещать. Я видел, как уроки эти излагаются столь превосходно, что ни один член Королевского общества не смог бы ничего убавить или добавить. Уилл прилежно усвоил наставления отца. Судьба вернула его в Англию, Провидение сочетало браком с прелестной уроженкой Девона, королева даровала ему графский титул. Однако не иначе как Фортуна свела его с инженером, мистером Ньюкоменом. Ибо машина, которую мистер Ньюкомен построил в Лоствителе, есть древо, возросшее из семени, что упало на почву Эпсома в самый чёрный для Англии, Чумной год. Ветви его сейчас гнутся под бременем зелёных плодов; если вы хотите вкусить от них, вам следует лишь некоторое время поливать это древо, и вскоре яблоки посыплются вам в руки.
Из услышанного джентльмены заключили, что сейчас их попросят раскошелиться, или, как с недавних пор модно стало говорить, «сделать инвестиции». Почти все успели замёрзнуть, а многие и натёрли сёдлами зады, поэтому ропот прозвучал не так громко, как мог бы при иных обстоятельствах. Однако Уилл Комсток уже вновь завладел общим вниманием.
— Теперь вы видите, почему я не поддержал идею перебраться в «Голову сарацина». Мы собираемся, чтобы устанавливать цены и решать другие вопросы, связанные с оловом. Поскольку оловодобытчики в некоторых отношениях не подчинены общему закону и общему налогообложению Англии, парламент этот издревле противостоял попыткам управлять нами извне. Без капитала машина мистера Ньюкомена останется не более чем занятным приспособлением, наполняющим мою бочку. Шахты так и будут стоять затопленными. Ни меди, ни олова из них не добудут, и Оловянный парламент утратит всякое влияние. Однако если вы, джентльмены, проявите заинтересованность — то есть, говоря без обиняков, если некоторые из вас захотят приобрести паи в товариществе совладельцев машины для поднятия воды посредством огня, тогда описанное мною прискорбное положение дел изменится, вы купите себе революцию, а у Оловянного парламента будет столько дел, что ему волей-неволей придётся перенести свои заседания в весёлую таверну неподалёку, где, к слову сказать, ваш покорный слуга сегодня оплачивает каждому первые две порции выпивки.
«Голова сарацина»
вечер того же дня
— Теперь в глазах некоторых вигов вы — тори, — предостерёг Уилл, — и мишень для отравленных стрел межпартийной розни.
— Так уже было, когда в Чумной год я вышел из отцовского дома на Холборн, чтобы отправиться в Эпсом, — устало проговорил Даниель. — Или когда, отчасти по настоянию вашего отца, стал придворным короля Якова. Такое случалось всякий раз, как я имел дело с Комстоками.
— С Серебряными Комстоками, — поправил Уилл. — Или с Оловянным, как прозвали меня в парламенте.
— Впрочем, здесь есть свои удобства, — заметил Даниель. — Мистер Тредер весьма любезно предложил отвезти меня в Лондон. Он отбывает завтра.
Граф поморщился.
— И вы с благодарностью согласились?
— Я не видел причин отказываться.
— Так знайте, что среди тори тоже есть фракции.
— И межпартийная рознь?
— Да. Хотя внутри партии — как и внутри семьи — она нередко принимает более причудливые и часто более жестокие формы. Как вам известно, доктор Уотерхауз, я — третий сын у отца. Меня много били старшие, и я совершенно утратил вкус к дрязгам. Я не хотел становиться лордом от партии тори, поскольку предвидел нечто подобное. — Он обвёл взглядом таверну, отыскивая мистера Тредера. Тот стоял в углу с несколькими джентльменами и ничего не говорил, только слушал и что-то записывал гусиным пером в книжечку.
Уилл продолжил:
— Однако я сказал «да» королеве, потому что она моя королева. С тех пор мне немало досталось и от вигов, и от якобитов-тори, но двести миль по дурной дороге отсюда до Лондона отчасти смягчают удары. Сейчас вы пользуетесь тем же преимуществом, но как только вы сядете в карету и тронетесь по направлению к столице…
— Понимаю, — отвечал Даниель. — Однако мне удары не страшны. Ибо меня сопровождает — чтобы не сказать «преследует» — длинная череда ангелов и чудес, благодаря которым я достиг столь преклонного возраста. Думаю, потому меня и выбрали для этого поручения: я либо заговорён, либо зажился на земле. В любом случае судьба моя решится в Лондоне.
Южная Англия
конец января 1714
Верный своему слову, мистер Тредер — вернее, караван его телег, экипажей, сменных лошадей и верховых сопровождающих — забрал Даниеля из «Головы сарацина» утром 16 января 1714 года за несколько часов до того, как самый оптимистичный петух начал прочищать горло. Мистер Тредер с учтивым поклоном предложил, а Даниель с искренней неохотой принял честь ехать с хозяином в его личном экипаже.
Поскольку Даниелева особа удостоилась такого внимания, его багаж (три матросских сундука, из которых два были продырявлены пулями) заслужил привилегию ехать в подводе, следующей сразу за каретой. Для этого пришлось снять уже уложенные туда вещи и расставить всё заново, на что потребовалось несколько минут.
Даниель наблюдал за погрузкой, не садясь в карету, и не оттого, что тревожился (багаж видел и не такое), а потому, что дорожил последней возможностью размять ноги, которые от долгого сидения плохо разгибались. Он прошёл по конюшенному двору, высматривая в лунном свете кучки навоза, чтобы не наступить. Слуги сняли с телеги три одинаковых ящика. Отполированное дерево превращало серебристый свет в узор бликов. Все три были мастерски сделаны и снабжены замками, петлями и ручками в форме листьев аканта и прочей флоры, любимой римскими архитекторами. За ними на телеге рядами стояли денежные сундучки, иные размером не больше табачного ларца.
Примерно такие же ящики заказывали состоятельные члены Королевского общества для хранения и перевозки особенных достижений науки. Когда Гук сделал Бойлю воздухосжимательную машину, тот велел изготовить роскошный деревянный футляр, дабы подчеркнуть её значимость.
В своей мастерской под куполом Бедлама Гук с помощью Комстокова пороха привел в движение поршень такой машины и показал, что она может, выражаясь языком Гука, служить искусственной мышцей. Всё дело в том, что калека Гук хотел летать и понимал, что ни его, ни чьим-либо ещё мышцам не хватит на это сил. Гук знал, что некоторые газы, например рудничный, сгорают с большой быстрой; если бы он научился их получать и заставил бы двигать поршень, машина бы работала успешнее, чем на порохе. Однако Гука отвлекали другие заботы, а у Даниеля были свои дела, которые и развели его с Гуком, поэтому он не ведал, сумел ли тот усовершенствовать искусственную мышцу. Теперь это наконец сделал Ньюкомен, однако его махина была велика и уродлива, что отражало разницу между Ньюкоменом — кузнецом рудокопов и Гуком — часовщиком королей.
Даниелю стало не по себе: если вид трёх добротных ящиков наводит его на столь долгие размышления, как ему вообще удаётся вставать по утрам? Раньше он боялся старческого слабоумия, теперь понял: возраст просто парализует его той значимостью, какую приобретает каждая мелочь. А теперь ещё история с машиной по подъёму воды посредством огня! Впрочем, возможно, он слишком строг к себе. В таком возрасте ничего нельзя оставлять на потом. Очевидно, те, кто всё успевает, умеют направить свои дела параллельными курсами, чтобы одно помогало другому. Они слывут чудодеями. Других затеи тянут в разные стороны, не приводя ни к чему путному; эти люди прослывают безумцами или, увидев тщетность своих усилий, бросают всё, а то и спиваются. Даниель ещё не знал, к какой категории принадлежит, но ему предстояло вскорости это выяснить. Посему он постарался забыть про Гука (что было нелегко, потому что в одном кармане у него лежал удалённый из мочевого пузыря камень, а в другом — часы Гуковой работы) и сел в карету.
Мистер Тредер пожелал ему доброго утра, затем, выглянув в окошко, обратил к своей свите краткую речь, общий смысл которой сводился к тому, что неплохо было бы всем тронуться в сторону Лондона. Указания были встречены с несколько преувеличенным энтузиазмом, как будто идея ехать в Лондон — блистательный экспромт мистера Тредера.
Движение началось и продолжилось таким образом, что вечером 16-го они были чуть ближе к Лондону, чем утром того же дня, а к вечеру 17-го ещё несколько сократили это расстояние. 18-е свело на нет достигнутое накануне. Наверстали ли хоть сколько-нибудь 19-го, сказать трудно. В некоторые дни (например, когда они взяли севернее, чтобы посетить окрестности Бристоля) их можно было обвинить в том, что они не приблизились к цели ни на шаг.
Отец Даниеля, Дрейк Уотерхауз, как-то переместил самого себя, двух лошадей, несколько мешков овса, Женевскую Библию и мешок с одиннадцатью сотнями фунтов стерлингов из Йорка в Лондон (то есть примерно на то расстояние, какое Даниель намеревался преодолеть в обществе мистера Тредера) за один день. Поездка эта и другие подобные вошли у пуританских торговцев в пословицу как образец делового рвения. Если сравнить Дрейка с ретивым зайцем, то мистера Тредера уместно назвать медлительной черепахой. В первый день он не менее пяти раз останавливался, чтобы обстоятельно побеседовать с встреченными джентльменами, которые, как один, оказывались из числа участников недавнего заседания под Крокерн-тором.
Даниель уже начал подозревать, что мистер Тредер не в себе, когда во время очередного разговора его слух различил звяканье монет.
Даниель одолжил в дорогу изрядно книг из скромной по размеру, но разнообразной библиотеки Лоствитела и за чтением не особо вникал в действия мистера Тредера, однако слышал и видел много такого, что человеку с его формой антиугасания умственных способностей всячески мешало сосредоточиться.
Как о смерти прихожанина извещает церковный колокол, так конец разговоров мистера Тредера неизменно сопровождало бряцание монет — не дробное треньканье фартингов и осьмушек испанского пиастра, но полновесный звон английских гиней, которые мистер Тредер встряхивал в кулаке. Очевидно, такова была нервическая привычка мистера Тредера — во всяком случае, других объяснений не находилось. Один раз Даниель застал своего спутника за тем, как тот, зажмурившись, одной рукой жонглирует двумя монетами; открыв глаза и поймав на себе взгляд Даниеля, мистер Тредер убрал одну в правый, а другую в левый карман камзола.
К тому времени, как они миновали Солсберийскую равнину на пути к окрестностям Саутгемптона и таким образом оставили странные друидические сооружения позади, Даниель понял, чего ждать от путешествия с мистером Тредером. Они ехали все больше по хорошим дорогам через процветающую страну — ничего примечательного, если не считать, что Даниель впервые видел такие хорошие дороги и такое процветание. Нынешняя Англия отличалась от Англии Дрейка, как центральная часть Франции — от Московии. В города не заглядывали. Изредка заворачивали в предместье, но лишь для того, чтобы посетить усадьбу, прежде одиноко стоявшую среди буколической зелени (или выстроенную недавно в подражание такого рода усадьбам). В целом, мистер Тредер предпочитал ехать лесами и полями, средь которых нюхом выискивал старинные родовые поместья, где всякий раз оказывался желанным, хоть и неожиданным гостем. Он не доставлял товаров, не оказывал явных услуг. Его специальностью были разговоры. Им посвящалось несколько часов в день. После каждой беседы он возвращался, приятно позвякивая, в карету и доставал Книгу — не амбарную (что было бы безвкусицей), а обычную, с чистыми листами для записей, и гусиным пером делал в ней какие-то таинственные заметки. Он смотрел в свой путевой дневник через крохотные очочки, похожий на проповедника, составляющего Писание на ходу — благовестник некоего евангелия, не ставшего менее языческим при всей своей рафинированности.
Впрочем, надо сказать, это впечатление несколько ослабело, когда они (наконец-то!) приблизились к Лондону. Теперь мистер Тредер наряжался с каждым разом всё великолепнее и не пренебрегал париками. Указанный предмет туалета, служивший большинству людей не более чем украшением, преображал мистера Тредера совершенно. Даниель относил это на счёт полнейшего отсутствия черт лица. Дотошный исследователь мог отыскать на мясистом овале, венчающем шею мистера Тредера, некое подобие носа и, пользуясь этим ориентиром, определить прочие части, составляющие лицо. Однако без этих усилий физиономия мистера Тредера казалась tabula rasa, как срезанный мясницким ножом шмат говядины. Поначалу Даниель думал, что его спутнику лет шестьдесят, затем начал подозревать, что мистер Тредер куда старше, просто возраст, словно обезьяна, карабкающаяся по зеркалу, не нашёл зацепок на этом лице.
Саутгемптон — большой морской порт, а поскольку мистер Тредер был как-то связан с деньгами, Даниель думал, что они повернут туда, как несколькими днями раньше полагал, что они заедут в Бристоль. Однако вместо Бристоля они прочертили параболу в объезд Бата, а вместо Саутгемптона зацепили краешек Винчестера. Складывалось впечатление, что мистер Тредер предпочитает города, основанные римлянами, а на современные порты смотрит, как на становища дикарей-пиктов. Так и не приблизившись к солёной воде, они взяли курс не совсем на Оксфорд, а на мелкие города между Оксфордом и Винчестером, о которых Даниель ни разу в жизни не слышал.
Впрочем, его никто силком туда не тащил. Мистер Тредер неоднократно извинялся за извилистость своего маршрута и предлагал посадить Даниеля в наёмный экипаж, чем лишь добавлял тому решимости претерпеть всё до конца. 1) Отчасти из соображений хорошего тона — выпрыгнуть из роскошной кареты и умчаться в пролётке значило открыто признать, что он спешит, а в кругу мистера Тредера такое не уважали. 2) Он боялся, что не сможет разогнуть колени, если вынужден будет сидеть долго, что в быстрой карете произошло бы по определению. Мистер Тредер перемещался тем неспешным способом, какой выбрал бы сам Даниель, будь у него такая возможность. 3) Он и впрямь никуда не торопился. Со слов Еноха Роота можно было заключить, что письмо Каролины — не более чем песчинка в вихре бурной деятельности, которую развил Ганноверский двор в мае—июне сего года по заключении Утрехтского мира, поставившего точку в войне за Испанское наследство и заставившего европейских правителей гадать, чем они будут заниматься до конца восемнадцатого века. Каролина станет принцессой Уэльской, а порученное Даниелю дело приобретёт срочность не раньше, чем испустят дух Анна и София. Быть может, когда Каролина писала письмо, у неё имелись основания ожидать смерти первой и тревожиться за жизнь второй. Соответственно она начала расставлять фигуры на шахматной доске и послала за Даниелем. Однако и Анна, и София были, насколько ему известно, ещё живы, так что он не стал пока даже пешкой. Следовательно, не было никакого резона мчать в столицу сломя голову, коли он уже в Англии, и, если что, сумеет быстро доехать до Лондона. Лучше посмотреть на эту самую Англию, чтобы разобраться в положении дел, и, когда придёт время, показать себя более толковой пешкой. За окном кареты лежали края, странные, как Япония, и не только по причине своего беспримерного процветания. Даниель видел места, куда пуритан и учёных не приглашают. Поскольку он никогда такие не посещал, то склонен был забывать об их существовании и недооценивать важность тамошних обитателей. Подобная ошибка, если её не исправить, делала его очень жалкой и бесполезной пешкой, а бесполезную пешку обычно жертвуют в самом начале игры.
День или два погода стояла на удивление солнечная, и Даниель пользовался всяким случаем вылезти из кареты. Устав ходить, он просил вытащить свой енотовый плащ — занимавший целый сундук — и расстелить его на мокрой траве. Трава была всегда, потому что они неизменно останавливались среди лугов, и всегда короткая, потому что на лугах неизменно паслись овцы. На квадрате американского енотового меха Даниель сидел и читал, или ел яблоко, или укладывался подремать на солнце. Эти маленькие пикники позволяли ему наблюдать деловые привычки мистера Тредера. Время от времени в окне усадьбы за ухоженной лужайкой или меж сверкающих струй фонтана Даниель видел, как мистер Тредер вручает джентльмену либо принимает у джентльмена листок бумаги. С виду — самый обычный, не гравированный, как билет Английского банка, и не обвешанный печатями, как юридический документ. Однако из рук в руки его передавали со всей важностью.
Если в доме были дети, они ходили за мистером Тредером по пятам и, едва он останавливался, с надеждой заглядывали ему в глаза. Поначалу гость делал вид, будто ничего не замечает, потом вдруг вытаскивал монетку у какого-нибудь ребёнка из уха. «Ты её, часом, не терял? Бери — она твоя!» — говорил он, протягивая монетку. Но прежде чем ребёнок успевал её схватить, она исчезала, чтобы через мгновение обнаружиться у собаки во рту, или под камнем, и так далее, и тому подобное. Мистер Тредер доводил маленьких зрителей до истерического восторга, прежде чем вручить каждому по серебряному пенни. Даниель ругал себя за то, что как зачарованный смотрит на примитивнейший ярмарочный трюк, однако ничего поделать с собой не мог. Он недоумевал, как богатые родители этих детей доверяют свои деньги (что очевидно имело место) фигляру?!
Как-то, когда Даниель дремал на лужайке, вокруг него сгрудились овцы, и звук их жевания стал лейтмотивом сна. Даниель открыл глаза и увидел в нескольких дюймах от себя жёлтые овечьи зубы, щиплющие траву. Зубы эти и зимняя шерсть, превратившая овцу в грязный неповоротливый тюк, поразили его воображение. Неужели только жуя траву и запивая её водой, животное может создавать материю, вещество, такое как зубы и шерсть?
Сколько в Англии овец? И не просто в январе 1714 г., а за все тысячелетия? Как остров не погрузился в море под грузом овечьих костей и зубов? Возможно, это потому, что шерсть экспортируют — главным образом в Голландию, — которая как раз и погружается! Q.Е.D.
27 января въехали в лес, изумивший Даниеля своей огромностью. Они были где-то неподалёку от Оксфорда — нечего и говорить, что самый город мистер Тредер обогнул стороной. Даниель видел каменные геральдические знаки, так или иначе связанные с английским правящим домом, но старые и завитые плющом. Очевидно, это было то, что в дни его молодости звалось Королевским Вудстокским парком. Десять лет назад королева Анна пожаловала вудстокские земли герцогу Мальборо в награду за спасение мира в битве при Бленхейме. Королева хотела возвести здесь роскошный дворец для Мальборо и его потомков. Происходи дело во Франции и будь Анна Людовиком XIV, дворец бы уже стоял. Однако дело было в Англии, и парламент крепко держал её величество за горло; виги и тори сцепились в драке за право душить свою государыню. В итоге Мальборо, классического тори и сына кавалера, каким-то образом представили вигом. Анна, на склоне лет избравшая своими любимцами тори, отстранила герцога от командования и вообще настолько испортила ему жизнь, что он вместе с Сарой уехал в Северную Европу (где благодарные протестанты чтили его почти наравне с пивом) и осел там в ожидании дня, когда ни одно зеркальце в Кенсингтонском дворце не запотеет от дыхания королевы.
Соединив эти сведения с некоторыми познаниями в строительстве и английском климате, Даниель рассчитывал увидеть безжизненную груду камней и спивающихся от безделья тощих работников. По большей части так оно и было. Однако мистер Тредер с его гениальным умением двигаться по задворкам, избегая центра, выискивал неприметные дороги через луга и лес, распахивал ворота и даже по-хозяйски снимал жердины изгородей. Нюх неизменно выводил его к домикам, в которых ручные джентльмены герцога вели документацию или считали деньги. Между деревьями (где они ещё стояли) и штабелями брёвен (где они были повалены) Даниель различал фундамент дворца и наполовину возведённые стены.
Дорога через Вудсток наконец разбила лёд (очень толстый) между Даниелем и мистером Тредером. Очевидно, что Даниель был для своего спутника такой же загадкой, как тот — для Даниеля. Мистер Тредер не присутствовал на собрании под Крокерн-тором (он поджидал членов Оловянного парламента в «Голове сарацина»), потому не слышал рассказ Уилла Комстока о Чумном годе и знал только, что Даниель состоит в Королевском обществе. Он мог заключить, что тот пробился туда исключительно благодаря мозгам, поскольку не обладал другими пригласительными билетами: деньгами или знатностью.
В начале путешествия, в Девоне, пока расстояния между господскими усадьбами были велики, мистер Тредер то и дело предпринимал осторожные заходы с целью прощупать Даниелеву оборону. Он почему-то вообразил, что Даниель связан с Уиллом Комстоком через жену последнего. В этом был определённый резон. Уилл женился на дочери плимутского купца, разбогатевшего на ввозе португальских вин. Прадед её был бочаром. Уилл, напротив, родовит, но беден. Такие союзы между деньгами и знатностью давно никого не удивляли. Даниель не джентльмен, следовательно, он знакомый со стороны бочаров. Поэтому мистер Тредер время от времени ронял ехидные замечания об Уилле Комстоке, рассчитывая, что Даниель отбросит книгу и разразится гневной тирадой о безумии использования пара в шахтах. Однако сколько ни закидывал он удочку, рыбка не хотела глотать наживку. В следующие дни Даниель читал свои книги, мистер Тредер писал в своей. Оба были в тех летах, когда люди не торопятся заводить новых друзей и раскрывать душу. Завязывать дружбы, как и прокладывать новые торговые пути — безумные авантюры, более свойственные молодости.
Тем не менее мистер Тредер иногда бросал затравку для разговора, и Даниель, чтобы не отставать, тоже. При этом ни один не хотел уронить себя, выказав любопытство. Даниель не спрашивал, чем мистер Тредер зарабатывает на жизнь, поскольку видел, что хозяевам сельских поместий это ясно без объяснения, а следовательно, не знать такое может либо идиот, либо неотёсанный виг. Мистер Тредер, со своей стороны, мучился вопросом, как Даниель связан с графом Лоствителским. У него в голове не укладывалось, что престарелый натурфилософ в енотовом плаще ни с того ни с сего материализовался посреди Дартмура и бросил несколько слов, от которых все джентльмены на двадцать миль вокруг кинулись сбывать старые активы и приобретать паи в коммерческом доме умалишённых, товариществе совладельцев машины для подъёма воды посредством огня.
Даниель разработал две альтернативные гипотезы. 1) Мистер Тредер принимает ставки на пари; 2) Мистер Тредер — переодетый иезуит. Он посещает тайных католиков (тори-якобитов), дабы исповедать их и собрать десятину. В полированных ящиках, согласно второй гипотезе, хранились облатки, чаши для причастия и прочая папистская утварь.
Все эти домыслы рухнули в несколько минут, когда Даниель увидел строящийся Бленхеймский дворец, осознал, в чьём они поместье, и, забывшись от изумления, выпалил:
— Он здесь?
— Кто именно, доктор Уотерхауз? — деликатно переспросил мистер Тредер.
— Черчилль.
— Который? — осведомился мистер Тредер, поскольку новые Черчилли рождались на свет с достаточной регулярностью.
— Герцог Мальборо. — Даниель наконец опомнился. — Нет. Простите. Глупый вопрос. Он в Антверпене.
— Во Франкфурте.
— Он недавно перебрался в Антверпен.
Разговор случился перед тем, как мистер Тредер вошёл в один из флигелей, чтобы заняться… чем уж он занимался. Даниель, оставшись один, размышлял о нелепости своего порыва. Разумеется, хозяин поместья не здесь. Хозяева таких поместий в них не живут, во всяком случае, зимой. Сейчас они все в Лондоне. Главные обитатели сельских угодий — овцы, а главный вид деятельности — превращение травы в шерсть, ибо шерсть, проданная за границей, даёт прибыль, которая позволяет землевладельцам платить за лондонский дом, покупать вино и играть в карты.
В целом всё ясно. Однако с возрастом Даниель научился вниманию к деталям. Он подозревал, что мистер Тредер — одна из таких деталей.
Для купца Англия — ожерелье портов вокруг огромной нищей пустыни. Когда горит полено, свет и жар сосредоточены во внешнем ало-вишнёвом слое. Внутри холод, сырость, мрак и смерть. Море для английском коммерции — всё равно что воздух для горения. Сердцевина, куда нет доступа морю, важна лишь в том низком смысле, что не дает целому рассыпаться на куски.
Однако у Англии есть сердцевина. Даниель начисто об этом забыл и вспомнил лишь недавно, когда, проснувшись, увидел прямо перед собою овечьи зубы. В отличие, скажем, от Новой Испании, богатство которой сконцентрировано в нескольких компактных рудных залежах, богатство английской сельской местности в высшей степени диффузно. Не бывает залежей шерсти. Каждая полоска травы приносит бесконечно малый доход. Чтобы лорд мог ставить на бегах по сотне гиней, должен происходить сложнейший и невероятно скучный процесс сбора денег — происходить по всей Англии, постоянно, без передышки. У Даниеля глаза защипало при мысли о том, сколько нужно мелких сделок и платежей, чтоб выручить один фунт стерлингов чистого дохода для лондонского хлыща.
Однако так или иначе это имеет место. Получатели фунтов стерлингов живут зимой в Лондоне и как-то между собой взаимодействуют. То есть деньги переходят от одного к другому. Некоторая часть этих денег затем отправляется назад на поддержание усадеб и тому подобные надобности.
Самый глупый способ осуществить вышесказанное — сложить все пенни в миллионы телег, отвезти в Лондон, кормить и поить лошадей, пока джентльмены будут взаимодействовать, а затем везти деньги назад в тех же телегах. Может быть, в некоторых странах так и делают. Однако Англия упрямо отказывается чеканить монеты большого достоинства — то есть золотые гинеи — в количествах, в которых они бы и впрямь на что-то годились. Кроме того, гинея — слишком крупная монета для расчётов на фермах. Золото по большей части прибирают к рукам и используют для заморской торговли лондонские купцы. Настоящая английская монета — та, которой расплачивается простой люд — серебряный пенни. Однако низкий номинал, который и делает пенни удобным для расчётов на ярмарках и в деревнях, негоден для городской знати. Ежегодные систола и диастола денег из столицы и в столицу требовали бы целых караванов нагруженных монетами телег.
Однако никто не видит их на английских дорогах. Сама идея отдавала бы чем-то средневеково-робингудовским. А поскольку с глаз долой, из сердца вон, Даниель никогда не задумывался, что подразумевает исчезновение денежных караванов с больших дорог современной Англии.
Предположим, вы завоевали доверие многих лондонских господ. Тогда вы можете стать посредником, улаживать расчёты словом и рукопожатием, чтобы не таскать мешки серебра из одного роскошного особняка в другой.
Предположим дальше, что у вас обширные знакомства — целая сеть доверенных лиц — во всех поместьях и во всех ярмарочных городах. Тогда можно вообще отказаться от перевозки серебряных кружочков из Лондона и в Лондон, заменив её двусторонним током информации.
Крылоногий Меркурий, вестник богов, сейчас должен быть не у дел, поскольку вся Европа вроде бы приняла христианство. Если его изловить и взять на жалованье, чтобы он порхал между сельской местностью и столицей, доставляя информацию, кто кому сколько должен, завести целый штат усердных вычислителей, а то и (почему бы не позволить себе фантастическое допущение!) исполинскую арифметическую машину для подбивания итогов, почти все расчёты можно было бы производить росчерком пера, а движение серебра свести к минимуму, необходимому для поддержания баланса между городом и деревней.
Впрочем, зачем серебро? Перевести его в золото, и число денежных подвод уменьшится в тринадцать раз.
А если у вас есть некий резервуар денег, то и эти перемещения можно практически исключить; достаточно интегрировать кривые взаимных расчётов по времени…
— Вы были правы! — воскликнул мистер Тредер, усаживаясь обратно в карету. — Его светлость и впрямь перебрался в Антверпен.
— Когда у её величества случилось последнее обострение болезни, — рассеянно проговорил Даниель, — Георг-Людвиг в Ганновере наконец уяснил, что им с матушкой не сегодня-завтра предстоит взять на себя попечение о Соединённом Королевстве, для чего потребуется Государственный совет и главнокомандующий.
— И разумеется, его выбор пал на Мальборо, — произнёс мистер Тредер чуточку скандализованно, как будто есть некая явная безнравственность в том, чтобы поставить во главе армии самого прославленного британского полководца.
— Посему герцог отправился в Антверпен, дабы возобновить связь с нашими полками в Нидерландах и быть готовым…
— …к захвату власти, — вставил мистер Тредер.
— Некоторые сказали бы: к службе Отечеству, как только новый монарх вернёт его из изгнания.
— Не будем забывать, добровольного изгнания.
— Герцог не дурак и не трус; если он решил покинуть страну, то не иначе как по веской причине.
— О да, его собирались отдать под суд за дуэль!
— По моим сведениям, за вызов на дуэль, брошенный Своллоу Пулетту после того, как мистер Пулетту в лицо герцогу, в парламенте, заявил, будто герцог отправлял офицеров на верную смерть, дабы нажиться на перепродаже патентов!
— Возмутительно! — заметил мистер Тредер, не уточняя, что имеет в виду. — Однако всё это в прошлом. Измышления герцога о немилости, в которой он якобы пребывает, сколь бы убедительными ни представлялись они некоторым, теперь полностью опровергнуты. Потому что у меня есть новость касательно герцога Мальборо, которую, держу пари, не слышали даже вы, доктор Уотерхауз!
— Я умираю от любопытства, мистер Тредер.
— Граф Оксфордский, — (мистер Тредер имеет в виду Роберта Гарлея, лорда-казначея, главного из министров королевы и предводителя камарильи тори, сбросившей альянс вигов четыре года назад), — выделил герцогу Мальборо десять тысяч фунтов на возобновление строительства дворца!
Даниель взял с сиденья лондонскую газету и зашуршал страницами.
— Очень странный поступок, учитывая, что «Экземинер», ручная газета Гарлея, обливает Мальборо грязью.
Он деликатно намекал, что Гарлей швырнул Мальборо деньги в качестве отвлекающего манёвра, покуда сам вместе со своим приспешником Болингброком готовит какую-нибудь пакость. Мистер Тредер, тем не менее, принял эти слова за чистую монету.
— Мистер Джонатан Свифт из «Экземинера» — бультерьер, — сказал он, удостаивая газету взглядом, в котором читалось что-то вроде теплоты. — Уж коли он вцепился зубами в ногу милорда Мальборо, графу Оксфордскому потребуется несколько лет, чтобы разжать его хватку. Да невелика важность! Дела Гарлея говорят громче слов Свифта. А вот виги, числящие Мальборо в своём лагере, пусть-ка объяснят теперь эти десять тысяч фунтов!
Даниель заметил было, что десять тысяч фунтов — вполне сходная цена за то, чтобы залучить Мальборо на свою сторону (тем более что тори платят не из своего кармана), но вовремя прикусил язык. Они всё равно ни в чём не сойдутся. Да и не было смысла длить спор, поскольку пиетет, с которым мистер Тредер говорил о десяти тысячах фунтов, помог Даниелю наконец-то решить уравнение.
— Мне кажется, мы с вами встречались, — задумчиво проговорил Даниель.
— В таком случае это было очень давно, сэр. Я никогда не забываю…
— Я уже понял, мистер Тредер, вы готовы считать некоторые вопросы делом прошлым (что практично), но ничего не забываете (что разумно). В данном случае вы ничего не забыли; формально мы друг другу не представлены. Летом 1665 года я покинул Лондон, чтобы искать убежища в Эпсоме. Движение по дорогам почти прекратилось из страха перед чумой; от Эпсома до поместья Джона Комстока мне пришлось идти пешком. Прогулка была долгой, однако вполне приятственной. Меня обогнала карета, направлявшаяся в усадьбу. Герб на её дверце был мне незнаком. За время жизни в поместье я видел её ещё несколько раз. Ибо, хотя вся остальная Англия застыла — окоченела, — человек, разъезжавший в этой карете, не мог остановиться. Его приезды и отъезды убеждали, что конец света не наступил, а стук копыт по подъездной аллее стал для меня биением жилки на шее больного, говорящим лекарю, что пациент жив.
«Что за безумец разъезжает в разгар чумы, — спросил Даниель, — и зачем Джон Комсток пускает его в дом? Этот шаромыжник всех нас перезаразит».
«Джону Комстоку так же невозможно обойтись без встреч с этим человеком, как и воздержаться от воздуха, — отвечал Уилкинс. — Это денежный поверенный».
У мистера Тредера слёзы навернулись на глаза, хотя сложно сказать, от душещипательного изложения или от того, что он наконец понял, как Даниель связан с Серебряными Комстоками. Видя это, Даниель положил рассказу быстрый и милосердный конец.
— Если память мне не изменяет, тот же герб нарисован на дверце экипажа, в котором мы сейчас едем.
— Доктор Уотерхауз, я не могу долее молчать, покуда вы клевещете на свою память, ибо, воистину, она феноменальна, и я не удивляюсь, что Королевское общество приняло вас в столь юные лета! Ваш отчёт точен до последней мелочи; мой покойный батюшка, да будет ему земля пухом, имел честь, в точности как вы говорите, служить графу Эпсомскому, а мы с братьями, будучи о ту пору в учениках, и впрямь не раз сопровождали его в Эпсом.
Мистер Тредер обещал, что они будут в Лондоне на следующий день, однако весть о десяти тысячах фунтов сбила все планы. Он оказался в положении паука, которому в сеть залетела очень большая муха. То есть новость была хорошая, но требовала лихорадочных метаний. В итоге они застряли под Оксфордом на два дня. Опять-таки Даниель мог укатить в Лондон, однако не отступил от решения ехать с мистером Тредером до конца. Поэтому он оставил мистера Тредера латать свою местную паутину, рвущуюся от чрезмерной нагрузки, и махнул в Оксфорд — возобновить дружбу или (как уж получится) вражду с университетскими учёными.
30 января, в субботу, выехали поздно. Даниель с утра долго искал наёмный экипаж, чтобы вернуться из Оксфорда в Вудсток, а потом колесил по лесу, разыскивая караван мистера Тредера. Разглядев вереницу повозок у домика на опушке, Даниель понял, что приехал слишком рано (у лошадей ещё были надеты на морды мешки с овсом), поэтому велел кучеру выгрузить сундуки, чтобы люди мистера Тредера поставили их на телегу, а сам вылезать не стал. Он попросил высадить его чуть дальше, намереваясь размять ноги перед долгой поездкой.
В лесу было неплохо. Весна порывалась прийти рано, и, хотя деревья стояли голые, остролист и плющ добавляли немного зелени. Зато развезло — иные лужи преодолел бы не каждый альбатрос. Дорога огибала пригорок, за которым располагался дом, так что Даниель при первой возможности свернул на охотничью тропу и двинулся вверх. Выбравшись на вершину холма, он с некоторым разочарованием обнаружил здание там, где и ожидал. Уже несколько десятилетий ему не случалось испытать то щекочущее волнение, которое чувствуешь, заплутав в незнакомом месте. Даниель начал спускаться. Вот так получилось, что он подошёл к дому сзади и кое-что увидел через окно.
Полированные ящики внесли в дом и открыли. В них оказались весы с чашками из золота, чтобы постоянная чистка не нарушала их точности. Стол застелили вышитым зелёным сукном. Один из помощников мистера Тредера по счёту брал монеты из сундука и передавал товарищам, которые взвешивали их по одной и раскладывали в три столбика, причём у каждого центральный столбик рос быстрее соседних. Когда стопка монет становилась до опасного высокой, её уносили, пересчитывали и складывали в несгораемый ящик. По крайней мере такое впечатление составил Даниель, глядя старческими глазами сквозь древнее пузырчатое стекло.
Тут он вспомнил предупреждение Уилла в «Голове сарацина» и со всей отчётливостью понял: никто не поверит, что он заглянул в окно без всякого умысла. Стало так стыдно, как если бы он и в самом деле подсматривал — верх самобичевания, которому пуритан учат сызмальства, как цыганских детей натаскивают глотать огонь. Даниель крадучись двинулся через лес к дороге, словно браконьер, наткнувшийся на стоянку егерей, и вернулся к повозкам, когда на них уже грузили ящики с деньгами.
Дальнейший путь лежал через оживлённые речные порты на берегу Темзы. Во многих сегодня был ярмарочный день, что сильно замедляло движение. К вечеру добрались только до Виндзора. Мистеру Тредеру было на руку задержаться в этих краях, кишащих графьями и прочей знатью. Даниель выразил намерение дойти пешком до близлежащего города Слау, где было много гостиниц, в том числе одна-две относительно новых, где он надеялся сыскать приличный ночлег. Мистер Тредер счёл такой план безумным и отпустил Даниеля не раньше, чем тот в присутствии нескольких свидетелей снял с него всякую ответственность. Однако не успел Даниель как следует отойти прочь, как его узнал и окликнул местный дворянин, член Королевского общества. Он настоял, чтобы Даниель остановился на ночь в его имении под Итоном. Мистер Тредер, видевший всю сцену, нашёл крайне странным, чтобы не сказать подозрительным, что Даниеля вот так отличают в толпе только из-за особенностей его умственного склада.
На следующий день, в воскресенье 31 января 1714 года, Даниель не позавтракал, потому что еду не готовили. Хозяин дома дал слугам выходной. Вместо завтрака отправились в роскошную церковь между Виндзором и Лондоном. Именно такую церковь непременно поджёг бы Дрейк во время гражданской войны. Хуже того, чем дольше Даниель смотрел, тем больше укреплялся в мысли, что Дрейк её таки поджёг, причём у него, Даниеля, на глазах. Впрочем, пустое; как сказал бы мистер Тредер, дело прошлое. Церковь венчал новый изящный свод. Зад Даниеля, как и зады наиболее знатных прихожан, подпирали великолепнейшие резные скамьи, предоставляемые за годовую плату, размер которой страшно было даже вообразить.
По всему это была такая Развысокая церковь, где священник должен служить в пышном облачении. Может, так оно и было, но только не сегодня. Настоятель вышел в дерюге, склонив голову и стиснув побелевшие пальцы у подбородка, под скорбную музыку органа, играемую на язычковых регистрах и вторящую голодному урчанию в желудках у прихожан.
Вся сцена была исполнена донорманнской мрачности. Даниель почти ждал, что сейчас сквозь витражное окно вломятся викинги и начнут насиловать дам. Он был совершенно убеждён, что у королевы Анны новое обострение болезни или что французы высадили в устье Темзы сотню ирландских полков. Лишь когда первая часть службы закончилась и священник смог излить свою душу в проповеди, стало ясно, что весь этот траур, и вретище, и заламывание рук — из-за события, которое Даниель наблюдал, удобно сидя на отцовских плечах, шесть с половиной десятилетий тому назад.
— Для меня эти люди всё равно что индусы! — воскликнул Даниель, запрыгивая в карету несколькими часами позже — едва отзвучала заключительная молитва.
Отсутствие завтрака привело его в сильнейшее нерасположение духа, и он не сомневался, что изрыгает пламя и мечет искры из глаз. Парик мистера Тредера должен был обратиться в нимб трескучего пламени, а дужки очков расплавленным металлом закапать с ушей. Однако тот лишь изумлённо заморгал. Затем седые брови, даже не опалённые, поползли вверх, что случалось всякий раз, как мистер Тредер испытывал желание улыбнуться.
Он испытывал такое желание, потому что сейчас, на исходе двухнедельного путешествия, голод и проповедь в Высокой церкви достигли того, что не удавалось самому мистеру Тредеру: явили истинное лицо Даниеля Уотерхауза.
— Я не видел индусов, доктор Уотерхауз, только добрых английских прихожан, выходящих не из языческой пагоды, а из церкви — англиканской церкви, на случай, если у вас возникли какие-нибудь сомнения.
— Вы знаете, что они делали?
— Да, сэр. Я тоже был в церкви, хотя, должен признаться, на менее дорогой скамье.
— Обличали злодейское убийство венценосного мученика, растерзанного мятежной толпой!
— Это подтверждает, что мы присутствовали на одной службе.
— Я там был, — заметил Даниель (имея в виду злодейское убийство), — и мне показалось, что всё происходило вполне законным чередом.
К тому времени он немного успокоился и уже не чувствовал, что извергает огонь. Последняя фраза была произнесена самым обычным тоном, однако на мистера Тредера она подействовала сильнее, чем если бы Даниель вопил и топал ногами. Разговор оборвался так же резко, как начался. В следующие два часа не прозвучало почти ни слова. Карета и замыкающие арьергард телеги въехали на Оксфорд-роуд и повернули к Сити мимо лугов и прудов. Мистер Тредер, сидевший лицом по ходу движения, смотрел в окно. Выражение тревоги на его лице сменилось задумчивостью, затем скорбью. Даниель отлично знал эту последовательность: так предписано обращаться с нераскаянным грешником. Скорбь должна была вскоре перейти в решимость, после чего следовало ждать последней попытки обратить его на путь истинный.
Даниель сидел лицом против хода движения и смотрел, как дорога исчезает под колёсами багажной телеги, в которой, он знал, едут денежные ящики мистера Тредера. Это подсказало столь необходимый повод сменить тему.
— Мистер Тредер, как мне вас вознаградить?
— М-мм… доктор Уотерхауз?.. Э?
— Вы не только везли меня в своей карете, но и определяли на ночлег, а также развлекали и просвещали в течение двух недель. Я у вас в долгу.
— Нет, нет, отнюдь. Я крайне щепетилен в делах. Если бы я желал вознаграждения, то предупредил бы вас задолго до отъезда из Тавистока и не преминул бы получить всё сполна. А так я не могу взять с вас ни пенни.
— Я имел в виду более чем пенни…
— Доктор Уотерхауз, вы проделали долгий путь — невообразимо долгий, на мой взгляд, — и вы далеко от дома. Грех взять хотя бы фартинг из вашего кошелька.
— Мне нет надобности открывать кошель, мистер Тредер. Я не пустился бы в такое путешествие без должного финансового обеспечения. Мой банкир в Сити без колебаний вручит вам любую справедливую сумму под гарантии лица, взявшего на себя расходы по моей поездке.
Тут мистер Тредер по крайней мере заинтересовался; он оторвал взгляд от окна и посмотрел на Даниеля.
— Я не возьму ничьих денег — ни ваших, сэр, ни вашего банкира, ни вашего гаранта. Я даже не стану допытываться, кто ваш гарант, ибо постепенно убеждаюсь, что дело ваше темно и таинственно. Однако если вы согласитесь любезно удовлетворить моё профессиональное любопытство, мы будем в расчёте.
— Спрашивайте.
— Кто ваш банкир?
— Живя в Бостоне, я не имею нужды в лондонском банкире. По счастью, у меня есть родственник, к которому я могу обратиться по денежной надобности: мой племянник, мистер Уильям Хам.
— Мистер Уильям Хам! Братья Хамы! Ювелиры, которые прогорели!
— Вы путаете его с отцом. Уильям был тогда ещё ребёнком.
Даниель начал было рассказывать, как Уильям сделал карьеру в Английском банке, но осёкся, видя остекленевшие глаза мистера Тредера.
— Ювелиры! — повторял мистер Тредер. — Золотых дел мастера!
Сейчас он тоном голоса и выражением напоминал мистера Гука, определяющего паразита под микроскопом.
— Теперь вы видите, доктор Уотерхауз, что разговор всё равно бесполезен. Деньги мистера Хама мне без нужды.
Лишь сейчас Даниель понял, что вопрос о банкире был ловко расставленной западнёй. Сказать мистеру Тредеру, денежному поверенному: «Мой банкир — золотых дел мастер», все равно что заявить архиепископу: «Я посещаю молитвенный дом в сарае» — в обоих случаях разоблачаешь свою принадлежность к стану врага. Ловушка захлопнулась; умышленно или нет, но это произошло, когда они проезжали мимо эшафота на Тайберн-кросс, где были выставлены руки и ноги четвертованных преступников, обвешанные бахромой кишок.
Мистер Тредер голосом судьбовершительницы-норны провозгласил:
— Монетчики!
— За это теперь четвертуют?!
— Сэр Исаак намерен их искоренить. Он убедил судебные власти, что подделка денег не мелкое преступление, а государственная измена! Государственная измена, доктор Уотерхауз! И каждый пойманный сэром Исааком монетчик кончает жизнь на Тайберн-кросс, добычей ворон и мух!
Затем, как будто это был самый естественный переход, мистер Тредер, который сильно подался вперёд и вывернул шею, чтобы дольше созерцать гниющие останки последних жертв сэра Исаака, с довольным видом откинулся на спинку сиденья и остановил взгляд на Даниелевой переносице.
— Так вы присутствовали при обезглавливании Карла I?
— Да, о том я и говорю, мистер Тредер. И я был удивлён, чтобы не сказать сильнее, узнав, что высокоцерковники за шестьдесят пять лет так и не оправились от потрясения. Вам известно, мистер Тредер, сколько англичан погибло в гражданскую войну? В соответствии с нашим обычаем я даже не упоминаю ирландцев.
— Я представления…
— Вот именно! И поднимать столько криков из-за одного человека, на мой взгляд, такое же идолопоклонство, как почитание индусами коров!
— Он жил в тех краях, — заметил мистер Тредер, подразумевая Виндзор.
— Этот факт не был упомянут в проповеди — ни в первый, ни во второй, ни даже в третий её час! А то, что произносилось, на мой взгляд, чистейшее политиканство!
— О да. На ваш. В то время как на мой взгляд, доктор Уотерхауз, это была вполне достойная проповедь. А вот если бы мы заглянули туда, — мистер Тредер указал на сарай к северу от дороги, из дверей которого доносился четырёхголосный распев — то есть на молитвенный дом нонконформистов, — мы бы услышали много такого, что вы расценили бы как проповедь, а я — как политиканство!
— Я расценил бы это как здравый смысл, — возразил Даниель, — и, надеюсь, вы со временем пришли бы к тому же взгляду, что было бы совершенно невозможно для меня там…
Они как раз проехали новую улицу, которая в Даниелевы дни не существовала или была коровьей тропой; тем не менее, глядя на север, он увидел Оксфордскую церковь на прежнем месте и смог указать на англиканский шпиль, нужный ему для иллюстрации.
— …где царит бессмысленный ритуал!
— Естественно, что тайны веры не поддаются вульгарному истолкованию.
— Коли вы так думаете, сэр, то вы немногим лучше католика!
— А вы, сэр, немногим лучше атеиста, если, конечно, как многие члены Королевского общества, по пути к атеизму не остановились испить из ключа арианской ереси!
У Даниеля захватило дух.
— Так все знают… или, правильнее сказать, воображают, будто Королевское общество — рассадник арианства?
— Лишь те, кто способен различить очевидное, сэр.
— Те, кто способен различать очевидное, могли бы заключить из той проповеди, что страной правят якобиты — причём начиная с самого верха!
— Вы куда проницательнее меня, доктор Уотерхауз, если знаете мысли королевы на сей счёт. Пусть Претендент католик, пусть он во Франции, но он её брат! Бесчеловечно ждать, что одинокая женщина на склоне лет не обратится к подобным соображениям…
— Куда бесчеловечнее будет то, что случится с её братом, если он вздумает приехать сюда и объявить себя королём! Вспомните пример, о котором столько разглагольствовали сегодня в церкви.
— Ваша прямота очаровательна, доктор Уотерхауз. В моём кругу убийство короля не упоминают с такой лёгкостью.
— Рад, что вы очарованы, мистер Тредер. Я всего лишь голоден.
— А по мне, так вы алчете.
— Крови?
— Королевской.
— Кровь Претендента — не королевская, потому что он не король и никогда им не будет. Я видел, как кровь его отца текла из разбитого носа в ширнесском кабаке, как кровь его дяди била из ярёмной вены в Уайтхолле, как кровь его деда заливала эшафот перед Дворцом для приёмов ровно шестьдесят пять лет назад. Ни в одном случае она не показалась мне отличной от крови казнённых преступников, которую члены Королевского общества собирали в склянки. Если, пролив кровь Претендента, можно остановить новую гражданскую войну, то пусть прольётся!
— Вам следует быть осмотрительнее в речах, сэр. Если Претендент взойдёт на трон, сказанное вами станет государственной изменой. Вас приволокут на место, которое мы только что проехали, повесят не до полного удушения, выпотрошат и четвертуют!
— Я просто не могу вообразить, что этого человека допустят до трона Англии!
— Теперь мы зовём её Соединённым Королевством. Будь вы только что из Новой Англии, этого рассадника диссидентов, или проживи вы слишком долго в Лондоне, где верховодят виги и парламент, я бы понял ваши чувства. Однако в нынешней поездке я показал вам Англию, как она есть, а не как представляют её виги. Неужто человек вашего ума не разглядел богатства нашей страны — мирского богатства коммерции и духовного богатства церкви? Ибо если бы вы его разглядели, то непременно стали бы тори, возможно, даже якобитом.
— Духовную сторону вполне уравновешивают, если не перевешивают те, кто собирается в молитвенных домах, где не надо арендовать скамью. Посему исключим церковные счёты из рассмотрения. Что до денег, сознаюсь, богатство сельской Англии действительно превзошло мои ожидания. Однако оно ничто в сравнении с богатством Сити.
И снова, как по заказу, иллюстрация была сразу за окнами кареты. Слева уходила на север Гринлейн, ныряя в ложбины и взбираясь на пригорки среди парков, садов и ферм. Справа тянулся застроенный участок, возникший двадцать лет назад в воображении Стерлинга[2], — Сохо-сквер. Указав сначала налево, затем направо, Даниель продолжил:
— Ибо деревня черпает богатство из конечного ресурса: овец, едящих траву. Сити богатеет на заморской торговле, которая постоянно растёт. Её ресурсы, можно сказать, неисчерпаемы.
— Ах, доктор Уотерхауз, я рад, что Провидение дало мне случай просветить вас на сей счёт, пока вы не оконфузились прилюдно, высказывая взгляд, утративший справедливость за время вашего отсутствия. Смотрите, мы на Тотнем-корт-роуд, здесь начинается самая оживлённая часть города. — Мистер Тредер постучал в потолок кареты и крикнул через окно кучеру: — На Хай-стрит меняют мостовую, бери левей по Грейт-Рассел-стрит на Хай-Холборн!
— Напротив, мистер Тредер. Мне известно, что тори создали свой банк в противовес Английскому банку вигов. Однако капитал Английского банка — акции Ост-Индской компании. Обеспечение Земельного банка тори — попросту земля. Торговля с Ост-Индией ширится год от года. Земля не увеличится, если только, в подражание голландцам, не создавать её самим.
— Вот тут-то я и должен вас поправить, доктор Уотерхауз. Земельный банк — нелепый пережиток по той самой причине, которую вы назвали. Однако это никоим образом не означает, что Английский банк владеет монополией. Напротив. При всём уважении к ретивым, хоть и заблудшим, членам Альянса, здоровье их Банка столь же шатко, сколь и здоровье королевы. Война, которой мы недавно положили конец, была навязана королеве парламентом, где тогда заправляли виги, опьянённые мечтой о чужих землях. Они получали деньги, увеличивая налоги на жителей сельской Англии (я знаю, что говорю, эти люди — мои друзья!), и финансировали армию герцога Мальборо посредством займов, обслуживаемых в Сити, к большой выгоде банкиров-вигов и золотых дел мастеров. О, это было очень доходное дело, доктор Уотерхауз, и, по словам милорда Равенскара, очень прибыльное для Английского банка, что, если вы ему поверили, отчасти извиняет ваши взгляды. Вот, кстати, его дом, — заметил мистер Тредер, глядя на роскошное барочное строение к северу от Грейт-Рассел-стрит. — Невыразимо вульгарный, квинтэссенция нуворишества…
— Я архитектор, — кротко заметил Даниель.
— Первоначального здания, — сказал мистер Тредер после самой недолгой заминки, — изящного, как игрушка. Жаль, что его так испортили после вашего отъезда. Вы знакомы и с Золотыми и с Серебряными Комстоками! Потрясающе! Милорд Равенскар теперь не может позволить себе лучшее и, как вы видите, восполняет пышностью и объёмом недостаток вкуса и качества. Его сожительнице, кажется, нравится.
— Хм.
— Вы знаете, кто сожительница милорда Равенскара?
— Представления не имею. В пору нашего знакомства он менял потаскух раз в неделю. Кто теперешняя?
— Племянница сэра Исаака.
Даниелю стало так горько, что он сказал первое пришедшее в голову:
— Здесь мы когда-то жили.
Он кивнул в сторону Уотерхауз-сквер и сдвинулся вперёд, чтобы увидеть дом, выстроенный его братом Релеем на месте того, в котором взорвали Дрейка. Таким образом, его колени почти упёрлись в колени мистера Тредера. Тот, судя по всему, знал историю гибели Дрейка, поэтому хранил сочувственное молчание, пока карета не проехала площадь. Глядя снизу вверх на силуэты городских крыш, Даниель был потрясён зрелищем огромного купола — нового собора святого Павла. Тут карета свернула на Холборн, и купол пропал из виду.
— Вы что-то говорили о банках? — спросил Даниель в безнадёжной попытке вычистить из головы образ Роджера Комстока, тычущего свой поганый хер в племянницу Исаака.
— В последние годы всё обернулось очень плохо, очень плохо для вигов! — отвечал мистер Тредер, радуясь случаю поговорить о несчастьях Альянса. — Банкротство вынудило Англию просить мира, не добившись главной цели войны. Немудрено, что Мальборо с позором бежал из страны!
— И всё же мне не верится, что торговля с Ост-Индией может надолго заглохнуть.
Мистер Тредер подался вперёд, готовый ответить, но тут кучер обратился к нему с вопросом:
— Мистер Уотерхауз, если вы любезно назовёте место, куда вас следует доставить, я почту за честь выполнить ваше пожелание. Мы приближаемся к Холборнскому мосту, ворота и стена Сити уже видны, и вам надо решать сейчас, если только вы не хотите ехать со мною на Чендж-элли.
— Очень великодушно с вашей стороны, мистер Тредер. Я остановлюсь в Королевском обществе.
— Хорошо, сударь! — крикнул кучер, отлично слышавший все разговоры в карете, когда это требовалось. Он перенёс внимание на лошадей и тут же обратился к ним на совсем другом языке.
— Жаль, что Королевское общество переехало из Грешем-колледжа, — заметил мистер Тредер.
— Деликатность ваших выражений, сэр, не перестаёт меня изумлять, — вздохнул Даниель. Королевское общество пытались выкинуть из старого здания с тех самых пор, как в 1703 году скончался Роберт Гук, долгие годы отстаивавший право аренды с обычным своим остервенелым упорством. Без Гука можно было только оттягивать неизбежное, и четыре года назад Общество перебралось в окрестности Флит-стрит. — Те из нас, кто имел глупость вложиться в строительство нового здания, употребляют слова покрепче, чем просто «жаль».
— Кстати, раз уж вы заговорили о вложениях. Я как раз хотел сказать, что если бы мы везли вас в Грешем-колледж, то проехали бы мимо здания на Треднидл и Бишопсгейт, которое можно по справедливости назвать новым чудом света.
— Неужто это ваша контора?
Мистер Тредер вежливо хохотнул. Тут карета замедлила ход и накренилась назад, так что Даниель навис над своим спутником. Они ехали в гору. Взгляд мистера Тредера метнулся от левого окна к правому и остановился на кладбище святого Андрея; серые надгробия таяли в ранних сумерках до нелепости короткого зимнего дня. Даниель, который даже при ярком солнечном свете с трудом узнал бы изменившийся Лондон, только сейчас понял, что они по-прежнему едут на восток по Хай-Холборн и миновали уже два поворота к Флит-стрит — Ченсери и Феттер-лейн. За церковью святого Андрея можно было свернуть на Шулейн, но карета проехала и её. Они приближались к тому месту, где Холборн перемахивает Флитскую канаву, словно сельский джентльмен — навозную кучку.
Мистер Тредер постучал в потолок.
— Королевское общество больше не в Грешем-колледже! — крикнул он. — Оно переехало в окрестности Флит-стрит…
— В Крейн-корт, — сказал Даниель. — Возле Феттер-лейн, если меня не обманули.
Кучер что-то пробормотал вполголоса, как будто совестился произнести это вслух.
— Доктор Уотерхауз, будете ли вы оскорблены, испуганы или иным образом смущены, если мы поедем по Флит?
— Отнюдь, если только вы не предлагаете отправиться в лодке.
Мистер Тредер зажал себе рот, как будто его замутило от одной этой мысли, а свободной рукой выстучал по потолку условный сигнал. Кучер тут же свернул на правую сторону улицы.
— Берег нашей Клоаки Максимы заметно укрепили с тех пор, как вы последний раз… э…
— Вносил свой вклад?
— Можно сказать и так. А поскольку вечер ранний, ночное движение, которого хочется избежать, ещё не началось.
Даниель не видел, куда они едут, но мог определить по запаху и чувствовал, как карета сворачивает от моста на юг. Он подался вперёд и поглядел в окно на Флитскую канаву: уходящую к Темзе чёрную и, по виду, бездонную щель в невыразимо заляпанной мостовой. В серых сумерках казалось, что дома брезгливо пятятся от этого самого злосчастного притока Темзы. Вопреки оптимистичному прогнозу мистера Тредера, у края уже стояла запряжённая волами повозка, состоящая из огромной бочки на колёсах. Из отверстия сзади хлестала бурая комковатая жижа; судя по звукам, доносившимся снизу, лилась она тоже не в чистую проточную воду. Оглядев канаву на четверть мили до Флитского моста, Даниель приметил ещё двух золотарей, занятых тем же делом. Помимо обычного сброда: воришек, бродяг, нищих и бессовестных проповедников, готовых на месте обвенчать кого угодно, движения почти не было, только из улочки на противоположном берегу вынырнул одинокий портшез, собираясь повернуть на север, к Холборну. Как раз когда Даниель его приметил, портшез остановился. Лица носильщиков обратились к каравану мистера Тредера, подобно луне сменив фазы с ущербной на полную. Тут карета, в которой сидел Даниель, повернула. Теперь вместо канавы он видел торговые лотки с едой, возле Холборна ещё относительно приличные — дальше они становились всё хуже и хуже. Он выглянул в другое окно, чтобы посмотреть на канаву. На противоположном берегу высилась сплошная стена с редкими зарешёченными окнами — фасад Флитской тюрьмы. Теперь обзор загородили ноздри вола, впряжённого в повозку золотаря. В окно пахнуло таким амбре, что Даниеля временно разбил паралич.
— Сегодня вклады не делаются, золото истощилось, поскольку едва ли не все постятся в память о венценосном мученике, — с кислой миной проговорил он, чувствуя, что мистеру Тредеру хочется продолжить разговор о финансовых учреждениях.
— Если бы я только что прибыл в Лондон и думал, как мне распорядиться средствами, я бы объехал Английский банк за… объехал бы его стороной! Ради вашего блага! И двинулся дальше!
— К Королевской бирже, вы хотите сказать? На противоположной стороне?..
— Нет, нет, нет.
— Так вы о Чендж-элли, где толпятся маклеры?
— Это у Корнхилл. В строго картографическом смысле — холоднее. В другом смысле — уже теплее.
— Вы пытаетесь заинтересовать меня какими-то бумагами, которые продают в Чендж-элли. Однако выпускает эти бумаги восьмое чудо света на Треднидл. Ваша загадка мне не по зубам, мистер Тредер, поскольку я не был в этом оживлённом деловом районе уже двадцать лет.
Даниель склонился на бок, уперся в подлокотник и положил подбородок на ладонь — не потому, что устал и ослабел от голода (хотя было и это), но чтобы смотреть в заднее окошко кареты мимо головы мистера Тредера. Ибо их нагонял странно знакомый призрак. Сельский житель принял бы его за плывущий по воздуху гроб. Учитывая, сколько мертвецов сбросили во Флитскую канаву за время существования Лондона, здесь было самое место для привидений. Однако Даниель знал, что это портшез, вероятно, тот самый, что недавно показался из угла. Глядя в проулок (тот, из которого вынырнули носилки, или похожий), Даниель видел вертикальное подобие Флитской канавы — чёрную щель, вместилище неведомой мерзости. Что делал портшез в таком месте? Наверное, доставлял джентльмена на свидание запредельно извращённого свойства. Во всяком случае, портшез, двигаясь по другому берегу канавы, нагонял их. Он был так близко, что Даниель, выпрямившись, видел его в боковое окно кареты. Окна портшеза — если они вообще имелись — были затянуты чёрной материей, как исповедальня в папистской церкви. Даниель даже не знал, есть ли кто-нибудь внутри, хотя потому, как тяжело качался кузов на шестах и как напрягались двое дюжих носильщиков, кто-то там всё же был.
Однако через несколько минут носильщики, по-видимому, услышали какой-то приказ пассажира, потому что сбавили шаг и дали карете мистера Тредера вырваться вперёд.
Сам мистер Тредер тем временем производил в воздухе некие сложные движения руками, глядя в далёкую точку у Даниеля над головой.
— Доезжайте до развилки, где от Треднидл отходит Пиг-стрит. Свернете ли вы направо, с Бишопсгейт, или налево по Пиг-стрит к Грешем-колледжу, вы через несколько мгновений окажетесь перед зданием Компании Южных морей, которая, хотя ей всего три года, уже заняла всё пространство между этими улицами.
— И что, по-вашему, я должен там сделать?
— Купить пай! Распорядиться своими средствами!
— Это ещё один земельный банк тори?
— Отнюдь! Не вы один осознаете выгоды вложений в грядущий рост заморской торговли!
— Так Компания Южных морей имеет интересы… где? В Южной Америке?
— Изначально, да. Хотя уже несколько месяцев, как главное её богатство сосредоточено в Африке.
— Африка! Как странно! Мне приходит на память Африканская компания герцога Йоркского, существовавшая в Лондоне до пожара.
— Считайте это Королевской Африканской компанией, восставшей из пепла. Что для Английского банка Ост-Индская компания, то для Компании Южных морей — асиенто.
— Даже я знаю, что слово «асиенто» как-то связано с заключённым миром, но мне было настолько не до того…
— Мы не смогли выиграть войну, не смогли свергнуть внука Людовика XIV с испанского трона, однако мы вырвали у него кое-какие концессии. Одна из них — исключительное право на доставку рабов из Африки в Новый Свет. Мистер Гарлей, наш лорд казначейства, сделал асиенто капиталом Компании Южных морей.
— Великолепно.
— С развитием американской коммерции будет расти и потребность в рабах, так что нельзя представить более разумного вложения средств и более прочного фундамента для банка или состояния…
— Или для политической партии, — заметил Даниель.
Мистер Тредер поднял брови. Они миновали ещё одну повозку золотаря, так что вынуждены были некоторое время не дышать и даже зажмуриться. Мистер Тредер первым пришёл в себя и сказал:
— С другой стороны, сэр, пар представляется куда более зыбким основанием, если вы простите мне такой каламбур.
— Как прискорбно поздно в нашем путешествии и в нашем разговоре вы решили открыть мне это!
— Что это, доктор Уотерхауз?
— Что вы находите предприятие графа Лоствителского безумным и почитаете для ваших клиентов более выгодным вкладывать деньги в асиенто.
— Я вложу их деньги, куда они мне укажут. Однако я не могу не заметить, что практически бесконечное побережье Африки кишит чернокожими невольниками, которых более воинственные сородичи пригоняют из глубин материка и продают за бесценок. Если мне требуется откачать воду из шахты, доктор Уотерхауз, я не стану заказывать мистеру Ньюкомену чудовищную машину. Теперь, когда у нас есть асиенто, достаточно послать корабль на юг, и через несколько недель у меня будет столько рабов, сколько надо, чтобы осушить шахту, вращая ворот, или, если мне так больше по душе, высасывая соломинками и выплёвывая в море.
— Англичане не привыкли видеть в своих шахтах и на полях чёрных арапов, стонущих под бичами надсмотрщиков, — заметил Даниель.
— А к паровым машинам они привыкли? — торжествующе вопросил мистер Тредер.
Даниель, полуживой от голода и усталости, со вздохом откинулся на спинку сиденья, чувствуя, что не в человеческих силах вынести этот разговор до конца. Карета как раз подъехала к Флитскому мосту и повернула на запад. Даниелю, смотревшему в заднее окно, открылась поразительная картина: менее чем в полумиле восточнее из земли вставало колоссальное яйцо. Оно царило над низкими лондонскими домами, как восточный султан над миллионами рабов. Ничего сопоставимого Даниель в жизни не видел; и зрелище это вернуло ему силы.
— Ничто в английском пейзаже не остаётся неизменным. Как вы, вероятно, привыкли к вон тому куполу, — Даниель кивнул на собор святого Павла, вынуждая мистера Тредера обернуться, — так и мы можем привыкнуть к толпам чёрных невольников, к паровым машинам или к тому и другому вместе. Я полагаю английский характер более постоянным и льщусь мыслью, что изобретательность свойственна ему более жестокости. Паровые машины, рождённые первой, впишутся в английский ландшафт куда лучше невольников, порабощенных второй. Соответственно, будь у меня деньги, я поставил бы на паровые машины.
— Однако невольники работают, а паровые машины — нет!
— Невольники могут прекратить работу, а паровые машины, как только мистер Ньюкомен их запустит, — нет, ибо в отличие от невольников не обладают свободной волей.
— Но как рядовому вкладчику проникнуться вашей уверенностью?
— Пусть взглянет на это здание, — Даниель вновь кивнул на собор святого Павла, — и отметит, что оно не падает. Рассмотрите вблизи его арки, мистер Тредер, — все они имеют форму параболы. Сэр Кристофер Рен сделал их такими по совету Гука, ибо Гук показал, каким им следует быть.
— Я не поспеваю за вашей мыслью. Собор великолепен. Я не вижу никакой связи с паровыми машинами.
— И купола, и машины подчинены законам физики, которые, в свою очередь, можно рассчитать математически. Законы эти нам известны, — объявил Даниель, — и зиждутся на основаниях не менее прочных, чем ваше ремесло.
Они остановились перед узким проулком, ведущим к Крейн-корту. Кучер направил лошадей туда, крикнув, чтобы багажная телега ехала следом; остальному каравану, включавшему на этом этапе ещё две кареты и вторую подводу с вещами, надлежало поворачивать в сторону Ладгейт.
Втиснуть лошадей, упряжь и карету в арку было всё равно что втолкнуть в бутылку игрушечный кораблик с полным парусным вооружением. В какой-то момент они окончательно застопорились, и Даниель, глядевший в боковое окно, очутился нос к носу с пешеходом — тощим, рябым малым лет тридцати, которому манёвры каравана не давали пройти По Флит-стрит. Малый этот, в облезлом парике из конского волоса, с дымным фонарём в одной руке и палкой в другой, смотрел через окошко с таким искренним любопытством, что мистер Тредер возмущённо закричал:
— Проходи, почтенный, нас проверять нечего!
Карета въехала в узкий каменный мешок Крейн-корта.
— Это кто-то из новых соседей Королевского общества? — спросил Даниель.
— Дозорный? Полагаю, нет!
— Каждый обыватель должен в свой черед обходить улицу дозором, — педантично заметил Даниель, — и посему я заключаю…
— Акт был принят двадцать лет назад, — отвечал мистер Тредер, явно сочувствуя наивности своего спутника. — Домовладельцы взяли обычай вскладчину нанимать вместо себя какого-нибудь бездельника. Раз вы встретили его сегодня вечером, то встретите и завтра, если только он не будет сидеть в кабаке.
Они продолжали осторожно ползти вперёд. За аркой двор расширялся так, что здесь могли бы, хоть и впритирку, разминуться два экипажа.
— Я предпочёл бы оставить вас в доме какого-нибудь уважаемого члена Общества, — заметил мистер Тредер. — Вы ведь, надеюсь, с ними не в ссоре? — пошутил он, желая закончить путешествие на весёлой ноте.
«Скоро буду», — подумал Даниель, а вслух сказал:
— У меня в кармане несколько приглашений, и я намерен расходовать их методично.
— Как скряга — монеты! — воскликнул мистер Тредер, всё ещё пытаясь разогреть Даниеля до того градуса веселья, который, на его взгляд, приличествовал расставанию. Возможно, это означало, что он хотел бы видеться и в дальнейшем.
— Или как солдат — пули, — отвечал Даниель.
— Присовокупите ещё одно!
— Что-что?
— Ещё одно приглашение! Вы должны погостить несколько дней у меня, доктор Уотерхауз; в противном случае я сочту себя оскорблённым!
Прежде чем Даниель придумал вежливую отговорку, карета остановилась. В тот же миг дверцу потянул на себя какой-то человек, которого Даниель счёл привратником, только почему-то одетым в лучший воскресный наряд. Был он не из привратников-верзил, а высокий, обычного сложения, лет сорока пяти, чисто выбритый и отчасти напоминал джентльмена.
— Это я, — сказал Даниель, видя, что привратник не знает, кто из двух пассажиров — почётный гость.
— Милости просим в Крейн-корт, доктор Уотерхауз, — объявил привратник искренне, но без теплоты. Он говорил с французским акцентом. — Анри Арланк, к вашим услугам.
— Гугенот, — пробормотал мистер Тредер, пока Анри Арланк помогал Даниелю выбраться на мостовую.
Даниель взглянул на здание, образующее заднюю стену двора, — оно выглядело в точности как на гравюрах, то есть очень просто и незатейливо. Он обернулся на Флит-стрит. Обзор загораживала телега, которая долго не могла въехать в арку и отстала от кареты футов на пятьдесят.
— Мерси, — поблагодарил мистер Тредер Арланка, помогавшего ему вылезти из экипажа.
Даниель шагнул в сторону, чтобы заглянуть в просвет между телегой и домами, выходящими на Флит-стрит. В темноте он видел много хуже, чем лет тридцать назад, но всё же вроде бы различил в арке, до которой было футов сто, слабый отблеск фонаря. Теперь дозорный пытал кого-то другого — человека в портшезе.
Внезапно телега выросла в размерах, как будто бычий пузырь раздували на весь двор. Даниель едва отметил это впечатление, поскольку она превратилась в источник света. Затем словно бы светящийся жёлтый кулак вынырнул из завесы чёрного дыма и рассыпался облаком пепла, не дойдя до Даниеля. Впрочем, тот ощутил на лице жар, и что-то, выброшенное облаком, ударило его на излёте. По всему двору весело зазвенели эльфийские колокольчики: золотые монеты искали на мостовой местечки поудобнее и кручёными параболами падали на черепицу. Очевидно, некоторые взлетели на значительную высоту, потому что продолжали падать с большой силой и отскакивать ещё несколько секунд после того, как Даниель тоже отыскал себе удобное местечко — задом на мостовой. Стена дыма надвинулась, так что он не видел своих ног, но явственно ощущал запах — сернистый, несомненный продукт сгорания пороха. Была и какая-то химическая примесь, которую Даниель, несомненно, узнал бы в лаборатории; однако сейчас его отвлекали другие мысли.
Кто-то кого-то звал; выкликали и его имя.
— Я цел! — крикнул Даниель.
Слова прозвучали, как сквозь вату. Он с проворством двадцатилетнего вскочил на ноги и двинулся через двор в направлении Флит-стрит. Ближе к земле воздух был чище, поэтому Даниель шёл, согнувшись почти вдвое и отмечая пройдённый путь по рассыпанным монетам и прочему мусору. В дыму кружилось что-то вроде снега: енотовый мех.
— Дозорный! — крикнул Даниель. — Ты меня слышишь?
— Да, сударь! Я послал за караулом!
— Караул опоздал! Беги за портшезом и скажи, куда он направился!
Молчание.
Из дыма, всего в нескольких ярдах, раздался голос мистера Тредера:
— Дозорный! Узнай, куда направился портшез, и получишь гинею!
— Будет сделано! — отозвался дозорный.
— Либо эквивалент гинеи товарами или услугами по моему усмотрению, при условии, что сведения будут полезны, своевременны, недостижимы иными средствами, доставлены мне, и мне одному; учти также, что это предложение не может расцениваться как соглашение о найме и не влечёт наступления уголовной или гражданской ответственности. Вы слышали, доктор Уотерхауз?
— Да, мистер Тредер.
— Засвидетельствовано января тридцать первого дня лета Господня 1714-го, — скороговоркой закончил мистер Тредер.
Переведя дух, он начал отвечать на вопросы помощников, которые прибежали с Флит-стрит и теперь метались в дыму, почти такие же опасные, как перепуганные лошади. Отыскав Даниеля и мистера Тредера (то есть наткнувшись вслепую и едва не сбив их с ног), все четверо принялись раз за разом спрашивать, не пострадали ли те, чем ещё больше разозлили Даниеля, подозревавшего, что единственная цель расспросов — привлечь к себе внимание. Он велел им пойти лучше и поискать кучера телеги, которого последний раз видел летящим по воздуху.
Дым начал редеть; впечатление было такое, что он не столько поднимается, сколько всасывается двором.
Мистер Тредер подошёл к Даниелю.
— Вас что-нибудь задело?
— Не очень сильно. — Ему впервые пришла в голову мысль отряхнуть одежду. В складках застряли щепки и енотовый мех. Палец зацепил край монетки, который от пережитых приключений стал, как пила. Она выскользнула и легонько звякнула о мостовую. Даниель нагнулся поглядеть. Это была вовсе не монета, а шестерёнка. Даниель поднял её. Вокруг помощники мистера Тредера, словно сборщики колосьев, подбирали монеты с мостовой. Кучер багажной телеги лежал ничком и стонал, как пьяный. Его пытались поднять Арланк и какая-то женщина, возможно, жена Арланка. Кто-то догадался перегородить второй подводой вход в Крейн-корт, чтобы караул — когда и если он наконец подоспеет — не присоединился к сбору монет.
— Рискуя показаться педантом, говорящим очевидное, — сказал мистер Тредер, — предположу, что мою багажную телегу взорвали.
Даниель несколько раз подбросил шестерёнку на ладони и убрал в карман.
— Без сомнения, ваша гипотеза выдерживает проверку тем, что мы называем бритвой Оккама.
Мистер Тредер был на удивление весел. К слову, и Даниель, весь день пребывавший в отвратительном расположении духа, ощущал сейчас странную лёгкость в голове. Он обратился к Анри Арланку, который подошёл, весь чёрный и вытирая с рук кровь:
— Мистер Арланк, если вы не ранены, не затруднит ли вас взять метлу и замести мои вещи в дом?
Тут уж мистер Тредер рассмеялся по-настоящему.
— Доктор Уотерхауз! Если позволите мне откровенность, я тревожился, что ваш енотовый мех станет посмешищем лондонских модников. А так упомянутому одеянию не дали даже въехать в ворота Сити.
— Это сделал кто-то очень молодой, — предположил Даниель.
— Почему вы так думаете, сэр?
— Я ни разу не видел вас счастливее, мистер Тредер! Только очень мало живший человек мог вообразить, что взрыв произведёт впечатление на джентльмена ваших лет и опыта.
Мистер Тредер перестал похохатывать и на несколько мгновений умолк. Со временем он снова повеселел, но не прежде, чем на его лице последовательно сменились растерянность, изумление и даже гнев.
— Я собирался сказать то же самое вам!
Его не так потряс взрыв, как предположение, что мишенью мог быть он сам. Новая волна удивления и сдерживаемой досады прокатилась по его лицу. Даниель смотрел как зачарованный: у мистера Тредера всё-таки обнаружились черты лица, причём весьма выразительные.
Под конец он мог только рассмеяться.
— Я собирался выразить своё возмущение, доктор Уотерхауз, тем, что вы вообразили, будто взрыв имеет касательство ко мне. Однако я не могу бросить в вас камень, ибо повинен в том же грехе.
— Вы решили, что это из-за меня?! Но никто не знал, что я приезжаю! — сказал Даниель, правда, не вполне твёрдым голосом, потому что вдруг вспомнил пиратов в заливе Кейп-код, и то, как Эдвард Тич, буквально исходя дымом на юте «Мести королевы Анны», требовал его по имени.
— Никто, за исключением всей команды корабля, высадившего вас в Плимуте, а он уже наверняка в Лондоне.
— Однако никто не знал, как я приеду в Лондон!
— Кроме совета директоров и большинства пайщиков товарищества совладельцев машины по подъему воды посредством огня. Не упоминая уже вашего гаранта. — Мистер Тредер внезапно просветлел лицом и добавил: — Возможно, вас хотели не напугать, а убить!
— Или вас, — возразил Даниель.
— Любите ли вы пари, доктор Уотерхауз?
— Меня учили, что они — мерзость. Однако моё возвращение в Лондон доказывает, что я человек падший.
— Десять гиней.
— Что убить хотели меня?
— Именно так. Ну что, доктор Уотерхауз?
— Поскольку жизнь моя и так на кону, глупо мелочиться из-за десяти гиней. Идёт.
Крейн-корт
начало февраля 1714
Но что за причина, что такой прекрасный человек провёл дни свои во тьме?
Джон Беньян, «Путь паломника»[3]
Первые две недели, проведённые Даниелем в Королевском обществе, не могли сравниться по яркости с грандиозным зрелищем, возвестившим его прибытие. Возбуждение, связанное с пережитым страхом, заставило его помолодеть на пол столетия. Проснувшись на следующее утро в гостевой мансарде, он обнаружил, что возбуждение рассеялось, как дым от взрыва, а страх остался, словно чёрные отметины на мостовой. Болела каждая косточка, каждый сустав, будто все удары и потрясения, с того самого дня, как Енох Роот переступил порог его института, не проявлялись сразу, а записывались в долговую книгу, и теперь предъявлены скопом, с грабительскими процентами.
Хуже всего была меланхолия, лишавшая желания есть, вставать с постели, даже читать. Даниель двигался лишь в те редкие промежутки, когда меланхолия сгущалась в дикий, животный страх, от которого сердце начинало стучать и кровь отливала от головы. Как-то перед рассветом он поймал себя на том, что смотрит в окно на телегу, доставившую уголь в соседний дом, и, стиснув занавеску, гадает, не скрываются ли под личиной угольщика и его мальчишек переодетые убийцы.
Ясное осознание, что он наполовину обезумел, ничуть не уменьшало физическую власть страха, который двигал тело с неодолимой силой, как волны, швыряющие пловца. За две недели Даниель нисколько не отдохнул, хотя всё время лежал в постели, и видел в пережитом одну-единственную положительную сторону: он стал лучше понимать душевное состояние сэра Исаака Ньютона. Сомнительное приобретение. Словно апоплексический удар отнял у него способность думать о будущем. Даниель не сомневался, что его история закончена и долгое путешествие через Атлантический океан оказалось искрой, так и не воспламенившей порох в дуле, осечкой — принцесса Каролина закусит губку, покачает головой и спишет свои затраты как неудачное вложение в плохую затею. Сейчас он чувствовал себя немногим лучше, чем в Бедламе, привязанный к креслу, когда Гук удалял ему камень. Боль была не такая сильная, но душевное состояние то же самое: он, как подопытная собака, стал пленником настоящего, а не действующим лицом осмысленной истории.
Ему стало лучше в Валентинов день. Чудодейственное средство, поборовшее болезнь, было столь же необычно, как и она сама. Изготовили его не аптекари, ибо Даниель употребил все оставшиеся силы на то, чтобы не подпускать к себе врачей с их ланцетами. Оно производилось в той части города, которой в юности Даниеля просто не существовало: на Граб-стрит, сразу за Бедламом.
Другими словами, Даниеля исцелили газеты. Миссис Арланк (жена Анри, английская нонконформистка, экономка в Крейн-корте) заботливо снабжала его едой, питьём и газетами. Посетителям она говорила, что доктор Уотерхауз смертельно болен, врачам — что ему гораздо лучше, и, таким образом, не впускала никого. По просьбе Даниеля она не носила ему почту.
Во многих городах газет не печатали вообще; не носи их миссис Арланк, Даниель не почувствовал бы потери. Однако в Лондоне их было восемнадцать. Казалось, скопление в одном городе чрезмерного количества печатных станков, кровавая атмосфера партийной розни и неограниченный запас кофе, соединясь в некоем алхимическом смысле, породили чудовищную неисцелимую рану, сочащуюся чернильным гноем. Даниель, в чьём детстве печатные станки прятали под сеном, чтобы цензор не приказал расплющить их в лепёшку, сперва не мог в такое поверить; однако газеты исправно приходили каждый день. Миссис Арланк приносила их, как будто любому человеку естественно за утренней овсянкой узнавать обо всех лондонских скандалах, дуэлях, бесчинствах и катастрофах.
Поначалу Даниель едва мог это читать. Казалось, каждый день по полчаса на него выплёскивают Флитскую канаву. Однако, привыкнув к газетам, он начал находить своего рода утешение в самой их гнусности. И впрямь, как надо любить себя, чтобы прятаться под одеялом от невидимых врагов в городе, который может с тем же правом зваться столицей злобы, с какой Париж слывёт законодателем мод? Так перетрусить только из-за того, что его пытались взорвать в Лондоне, всё равно что матросу в разгар сражения дуться на товарища, отдавившего ему ногу.
Итак, поскольку это улучшало его самочувствие, Даниель каждое утро с нетерпением ждал новой порции чернильных нечистот. Искупаешься в желчи, умоешься ядом, окунешься с головой в клевету — и чувствуешь себя новым человеком.
Четырнадцатое февраля пришлось на воскресенье, то есть чета Арланков ещё до рассвета отправилась в гугенотский молельный дом где-то за Рэтклифом. Даниель, проснувшись, обнаружил за дверью поднос с одинокой миской овсянки. Газет не было! Он отважился спуститься из мансарды в поисках старых. Нигде ничего читабельного, за исключением треклятых натурфилософских книг! Однако внизу, в кухоньке, сыскалась кипа старых газет, сложенных на растопку. Даниель торжествующе уволок их к себе и, ковыряя застывшую овсянку, прочёл несколько относительно свежих номеров.
В выпусках за прошлую неделю газетчики достигли единодушия касательно некоего факта. Это случалось примерно так же часто, как полное солнечное затмение, и с той же вероятностью могло вызвать панику на улицах. Борзописцы сошлись, что сегодня королева Анна откроет заседание парламента.
Даниелю королева представлялась карикатурным олицетворением старческой немощи. Весть, что эта полузабальзамированная фикция встанет с постели и совершит нечто значительное, заставила его устыдиться. Когда во второй половине дня вернулись Арланки, и миссис поднялась в мансарду за подносом и миской, Даниель объявил, что завтра прочтёт почту и, может быть, даже встанет и оденется.
Миссис Арланк, особа сообразительная, несмотря на внешность и манеры наседки, улыбнулась, правда, одними губами — как у большинства лондонцев, зубы у неё были чёрные от употребления сахара, и показывать их считалось невежливым.
— Вы хорошо подгадали время, — сказала она на следующий день, протискиваясь спиной в узкую дверь и прижимая к животу корзину с книгами и бумагами. — Сэр Исаак в третий раз о вас спрашивал.
— Он был здесь сегодня утром?
— Он и сейчас здесь. — Миссис Арланк замолчала. По всему дому пробежал как бы лёгкий вздох — закрылась входная дверь. — Если это не он вышел…
Даниель, сидевший на краешке кровати, встал и подошёл к окну. Он не видел отсюда парадную дверь, но вскоре приметил отходящего от дома дюжего молодца, зажавшего в каждой руке по толстой палке. Вслед за ним показался чёрный портшез, а затем и второй носильщик. Перейдя на рысь, молодцы принялись вилять между громогласными разносчиками, точильщиками ножей и тому подобной публикой, выражавшей притворное изумление тем, что жители Крейн-корта не выбегают из домов с намерением что-нибудь купить или поточить.
Даниель провожал взглядом Исааков портшез до самой Флит-стрит — грохочущей стремнины утреннего транспорта. Носильщики замедлили шаг, собираясь с духом, и отважно ринулись в просвет между экипажами. За сто ярдов, через стекло, Даниель слышал, как кучера поминают их родительниц. Однако портшез тем и хорош, что может обогнать кареты, лавируя в промежутках; вскоре носилки исчезли в потоке стремящихся к Вестминстеру людей и лошадей.
— Сэр Исаак едет на открытие парламента, — предположил Даниель.
— Да, сэр. Как и сэр Кристофер Рен, который тоже о вас осведомлялся, — сказала миссис Арланк, не упустившая редкий случай снять с кровати бельё. — И это ещё не всё, сэр. Вам письмо от герцогини. Посыльный доставил его меньше получаса назад. Оно в корзине сверху.
Ганновер, 21 января 1714 г.
Доктор Уотерхауз,
так как Вы должны, с Божьей помощью, скоро прибыть в Лондон, барон фон Лейбниц жаждет с Вами переписываться. Я наладила пересылку писем между Лондоном и Ганновером и, с риском показаться навязчивой, предложила доктору (как дружески его называю, хотя теперь он барон) воспользоваться услугами моих курьеров. Моя печать на этом пакете свидетельствует, что письмо попало из рук доктора в Ваши, никем не тронутое и не прочитанное.
Если Вы извините меня за короткую личную приписку, то знайте, что я приобрела Лестер-хауз, который, как Вам, возможно, известно, принадлежал Елизавете Стюарт до того, как она стала известна под именем Зимней королевы; когда я туда вернусь, что может произойти вскорости, надеюсь, вы уделите немного своего времени, чтобы меня навестить.
Ваша преданная и покорная слугаЭлиза де ля Зёр,герцогиня Аркашон-Йглмская
В письмо были вложены листы, исписанные почерком Лейбница.
Даниель!
Предположение, что Господь внемлет молитвам лютеран, оспаривается многими, в том числе из тех, кто исповедует лютеранство. И впрямь, видя недавнее поражение Швеции в войне с Россией, недолго прийти к выводу, что наивернейший способ призвать какое-либо событие — всем лютеранам встать на колени и молить Бога, чтобы оно не произошло. Невзирая на вышесказанное, я каждодневно молился о благополучии Вашего путешествия с тех самых пор, как узнал, что Вы покинули Бостон, и пишу эти строки в надежде, что Вы счастливо добрались до Лондона.
Было бы неприлично в самом начале письма просить Вас о помощи, посему развлеку (по крайней мере льщу себя надеждой, что сумею развлечь) Вас рассказом о своей последней встрече с моим нанимателем, Петром Романовым, или Петром Великим, как его теперь называют, и не безосновательно. (Я пишу «нанимателем», поскольку он должен — я не говорю «платит» — мне жалованье как советнику по некоторым вопросам; государыней же моей по-прежнему остается София.)
Как Вам, вероятно, известно, последние несколько лет царь занят преимущественно тем, что воюет со шведами и турками. В остальное время он строит свой город, Санкт-Петербург, который обещает стать великолепным, хоть и возводится на болоте. Сие подразумевает, что обычно царю недосуг выслушивать болтовню учёных.
Однако иногда он всё же её выслушивает. Выкинув шведов из Польши, Пётр завёл обыкновение путешествовать через эту страну в Богемию и по нескольку недель каждый год проводить на Карлсбадских водах. Делает он это зимой, когда земля скудна, а море сковано льдом, посему война прекращается до весны. Карлсбад расположен среди лесов в горной долине, недалеко от Ганновера, и туда я езжу отработать (не говорю «получить») жалованье советника при царе всея Руси.
Но если Вы вообразили мирную зимнюю идиллию, то лишь потому, что я не живописал картину во всей её полноте. 1) Весь смысл лечения водами состоит в том, чтобы вызвать сильнейшее несварение желудка на несколько дней или недель. 2) Пётр привозит с собой целую свиту дюжих степняков, не готовых терпеть карлсбадскую скуку. Слова «покой», «тишина», «отдохновение», сколь бы часто ни употребляла их измученная четвертьвековой войной европейская знать, судя по всему, не поддаются переводу ни на один язык, на котором говорят спутники Петра. Они останавливаются в особняке, который предоставляет им владелец, польский герцог. Подозреваю, что он делает это из чувств более низменных, чем гостеприимство, ибо каждый год русские находят дом в отличном состоянии, а оставляют в руинах. Я бы даже не добрался до него, если бы не приехал в собственном экипаже; местные извозчики не соглашаются приближаться к нему ни за какие деньги из страха угодить под пули либо — что ещё опаснее — быть втянутыми в кутёж.
Мне выбора не предложили. Едва я вышел из кареты, меня приметил карлик, который, увидев, как я на лютеранский манер благодарю Бога за счастливое окончание пути и молю Его о скором отбытии, завопил: «Швед! Швед!» Крик был мгновенно подхвачен. Я сказал кучеру уезжать, каковому совету он и последовал со всей возможной поспешностью. Тем временем два казака схватили меня и усадили в другую повозку, вернее, в обычную тачку садовника. Я не сразу понял, что это такое, потому что она была украшена серебряными канделябрами, шёлковыми занавесками и вышитыми коврами. Чтобы освободить для меня место, из тачки выбросили бюст прусского короля, уже изрядно выщербленный пулями — упав на заледенелые камни мостовой, он раскололся пополам. После этого живой Лейбниц занял место мраморного короля. В отличие от своего предшественника я не раскололся пополам, хотя и был усажен так грубо, что лишь чудом не сломал копчик. На мой парик водрузили сломанную дамскую тиару вместо короны и без дальнейших церемоний вкатили меня в большую бальную залу особняка, где было дымно, как на поле сражения. К тому времени меня окружала фаланга карликов, казаков, татар и различных страхолюдных европейцев, которые до моего прибытия толклись во дворе. Я не видел ни одного русского, пока ворвавшийся из раскрытых дверей ветер не рассеял дым в дальнем конце помещения и глазам моим не предстала импровизированная крепость из поставленных на бок столов, связанных шнурами от сонеток и занавесей. Она была снабжена люнетами и равелинами из стульев и секретеров; обороняли её исключительно русские.
Я заключил, что свита Петра разделилась на два войска: московитов и разноплеменников, которые сражаются между собой; вернее будет сказать, разыгрывают сражение, ибо общие очертания редутов и построение разноплеменных войск наводило на мысль о Полтавской битве. Противником Петра в той великой баталии был Карл XII Шведский, чью роль до последних мгновений исполнял мраморный бюст; однако он оказался столь никудышным полководцем, что его войско оттеснили на мороз. Немудрено, что за меня, настоящего живого лютеранина, ухватились с таким пылом. Впрочем, тех, кто ждал от меня большей доблести, нежели от статуи, постигло разочарование, ибо, будучи вкачен на тачке во главе разноплеменного войска, я во всех отношениях повёл себя, как шестидесятисемилетний натурфилософ. Ежели я и обмочился со страха, это не имело значения, поскольку моравская потаскуха, подбежавшая ко мне с исполинской кружкой, наступила на подол и выплеснула пиво мне на колени.
Пропустив по кружечке, разноплеменное войско пошло на штурм редута. Мы успели преодолеть половину зала, когда некий русский во весь опор вылетел из-за перевёрнутого шкафа и взмахом сабли перерубил трос, державший люстру. Подняв глаза, я увидел, что на меня падают полтонны хрусталя и гросс зажжённых свечей. Казаки, катившие мою тачку, рванулись вперёд, и мы проскочили под люстрой так быстро, что я ощутил тепло свечей за миг до того, как меня осыпало бы стеклянным градом. Итак, мы проскочили; однако наше войско было остановлено этим зрелищем, а затем не смогло продолжать путь из-за битого стекла. Продвижение наше замедлилось, а сердце моё остановилось при виде ружейных дул, направляемых на нас из-за редута. Вспыхнул порох на полках, и дула выбросили в нас белое пламя. Однако ничего больше из них не вылетело, если не считать пыжей. Мне тлеющая бутылочная пробка угодила в руку — там и сейчас синяк. Количество дыма не поддаётся описанию. По большей части он образовывал аморфные клубы, однако я видел одно или два кольца размером с мужскую шляпу, которые преодолевали большие расстояния, сохраняя форму и vis viva[4]. Кольца эти отличны от морских волн, состоящих в разное время из разной воды, ибо совершают движение в чистом воздухе, неся свою собственную субстанцию, которая не разбавляется им и не растворяется в окружающей атмосфере. Однако нет ничего особенного в дыме как таковом — он тот же, что висит над полями сражений бесформенными клубами. Мне представляется, что своеобразие дымового кольца заключено не в веществе, его составляющем, ибо оно обычно, но во взаимосвязях, возникающих между его частицами. Именно этот характер связей, удерживаемый в пространстве и сохраняемый во времени, и наделяет дымовое кольцо неповторимостью. Возможно, то же наблюдение справедливо в отношении других сущностей, включая людей. Ведь вещество, из которого мы состоим, есть обычная субстанция этого мира, сиречь грубая материя, посему материалисты могут сказать, что мы не отличаемся от камней; однако наша субстанция пронизана неким организующим принципом, наделяющим нас неповторимостью, и я могу послать письмо Даниелю Уотерхаузу на лондонский адрес в полной уверенности, что как дымное кольцо проплывает над полем сражения, так и он преодолел большое расстояние и просуществовал долгое время, оставшись тем же человеком. Вопрос, как всегда, в том, добавляется ли организующий принцип к материи, одухотворяя её, как брошенные в пиво дрожжи, или заключен во взаимосвязи частей. Как натурфилософ я считаю себя обязанным поддерживать второй взгляд, ибо, если натурфилософия объясняет мир, она должна объяснять его в терминах вещей, этот мир составляющих, без отсылок к потустороннему. Такой взгляд я изложил в своей книге «Монадология», каковую и прилагаю в надежде, что Вы любезно согласитесь её посмотреть, и, правильно или ложно, я толковал кольца, плывущие надо мной в Карлсбаде, как римляне толковали бы воронов, сов и прочая перед битвой.
Русские не стреляли в нас пулями, а если стреляли, то ни одна в меня не попала. Мгновение я льстился мыслию, что нам ничто более не грозит. Однако тут из-за дымовой завесы, в которую меня втолкнули, раздался свист обнажаемых клинков и зычные крики, с которыми русские прыгали через поломанную мебель. Они перешли в контрнаступление! Они возникали, подобно призракам, как если бы самый дым сгущался в плотные формы, и, размахивая саблями, обрушивались на врага К тому времени я убедил себя, что оказался в центре мятежа и приму смерть в тачке. Тут из дыма на меня двинулось нечто огромное; не единичный вихрь, а целое метеорологическое явление, подобное американским смерчам и казавшееся ещё выше из моей позиции, ибо я пригнулся так низко, как только мог.
Сквозь коловращение воздуха сверкала не только сталь, но и осыпанная брильянтами парча; и вот завеса разошлась, как волны перед золочёной носовой фигурой военного корабля. Надо мной стоял Пётр Великий.
Узнав меня, он рассмеялся, и мне осталось лишь принять это унижение.
— Давайте выйдем, — произнёс он по-голландски.
— Я боюсь, что меня убьют! — воскликнул я со всей искренностью.
Царь снова рассмеялся, убрал шпагу в ножны и шагнул впёред, так что ноги его оказались по разные стороны тачки, почти как если бы он хотел на меня помочиться. Потом он нагнулся, упёр плечо мне в живот и поднял меня, словно мешок кофейных зёрен из корабельного трюма. Через мгновение я свисал вниз головою с его плеча и видел, как скользят над мраморным полом его шпоры. Пётр огромными шагами двигался к выходу. Я ожидал увидеть лужи крови и отрубленные руки, однако не заметил ничего хуже блевоты. Вокруг по-прежнему бушевало сражение, но когда удары достигали цели, слышался лишь шлепок — русские били саблями плашмя.
Пётр вынес меня в регулярный сад, с большими затратами вырубленный средь дремучего леса, и, наклонившись, усадил, как мне сперва показалось, на очень высокую скамью. Однако она повернулась подо мною. Оглядевшись, немного придя в себя и поморгав от яркого света на снегу, я понял, что сижу на колесе опрокинутой на бок телеги. Судя по следам, её тащили, пока не уперли в зелёную изгородь, выстриженную в форме боевого корабля, который теперь, будучи протаранен телегой, сильно кренился на правый борт. Изгородь защищала от ветра, а колесо располагалось на той высоте, где у обычного человека находится плечо; таким образом, сидя на нём, я смотрел царю почти прямо в глаза.
Мне ещё не доводилось попадать к нему на приём так быстро. В прежние годы меня со всей поспешностью вызывали в Карлсбад, после чего я дни или недели вымаливал через придворных аудиенцию. Я обрадовался было, что увидел царя так скоро, но тут же сообразил, что причина такой спешки либо в его недовольстве мною, либо в желании что-то от меня получить. Обе догадки оказались верны.
Разговор был кратким, некоторые сказали бы — грубым. Не то что Пётр дик и неотёсан. Да, он подвержен вспышкам страстей, но скорее как римский император, чем как пещерный медведь. Просто он любит созидать, желательно своими руками, и воспринимает слова как досадную помеху. Ему приятнее делать что-нибудь, пусть даже по сути глупое и бессмысленное, чем говорить о прекрасном и возвышенном. Он хочет, чтобы слуги были руками, исполняющими его волю мгновенно и без утомительных разъяснений — настолько, что, если его не поняли с первых слов, впадает в ярость и, оттолкнув собеседника, сам делает то, о чем говорил. Поскольку нет ни одного языка, которым мы оба владели бы свободно, ему следовало позвать переводчика, однако он предпочёл обойтись несколькими фразами на смеси немецкого, русского и голландского.
— В Санкт-Петербурге отведено место под строительство Академии наук, как вы советовали, — начал он.
— Всемилостивейший государь! Я имел честь основать подобную академию в Берлине и отчасти уже убедил императора создать такую же в Вене; моя радость от услышанной вести умеряется страхом, что однажды российская академия затмит немецкие, а возможно, и посрамит Королевское общество!
Вы можете вообразить нетерпение, с которым царь слушал мои слова. Я не добрался и до середины фразы, как он принялся расхаживать взад-вперёд, словно замёрзший часовой. Я взглянул на другой конец сада и приметил несколько портретов в золочёных рамах, которые вынесли из дома, прислонили к ограде и стреляли по ним, как по мишеням. Лица на них зияли рваными дырами, а не столь меткие выстрелы испещрили фон неведомыми науке созвездиями. Я решил скорее перейти к сути:
— Что я могу для этого сделать?
Он резко обернулся.
— Для чего?
— Вы хотите, чтобы российская академия превзошла берлинскую, венскую и лондонскую?
— Да.
— Чем я могу помочь вашему величеству? Прикажете завербовать для вас учёных?
— Россия велика. Я могу делать учёных, как делаю солдат. Однако солдат без ружья — просто нахлебник. Думаю, то же и учёный без инструментов.
Я пожал плечами.
— Математикам инструменты не нужны. Всем другим учёным что-нибудь потребно для работы.
— Добудьте эти вещи, — распорядился он.
— Да, всемилостивейший государь.
— Мы сделаем то, о чём вы говорили, — объявил он. — Думающую библиотеку.
— Машину, которая управляет знаниями при помощи набора логических правил?
— Да. Для моей Академии это будет хорошая вещь. Ни у кого другого такой нет.
— По обоим пунктам я совершенно согласен с вашим императорским величеством.
— Что вам для неё нужно?
— Как Санкт-Петербург нельзя строить без архитектурных планов, а корабль без чертежей…
— Да, да, вам нужны таблицы знаний, написанные двоичными числами, и правила символической логики. Я оплачиваю эту работу много лет!
— Со щедростью, достойной кесаря, государь. И я разработал логическое исчисление, пригодное для такой машины.
— Что с таблицами знаний? Вы говорили, их составляет человек в Бостоне?
К этому времени царь подошёл ко мне вплотную. У него дергалось уже не только лицо, но и рука. Чтобы унять тик, он ухватился за обод колеса, на котором сидел я, и принялся вращать его то вправо, то влево.
Возможно, Даниель, Вы сможете отчасти извинить мои последующие слова, если я скажу, что царь по-прежнему ломает своих людей на колесе и подвергает ещё более страшным истязаниям тех, кто навлёк на себя его неудовольствие; и я, в своём тогдашнем положении, то есть сидя на большом колесе, не мог отогнать от себя подобные мысли. Не придумав ничего лучше, я выпалил:
— О, доктор Уотерхауз в это самое время пересекает Атлантический океан и должен, с Божьей помощью, скоро быть в Лондоне!
— Что?! Он передаст работу, которую я оплатил, Королевскому обществу? Я знал, что надо задушить Ньютона, пока была такая возможность!
(Несколько лет назад Пётр, будучи в Лондоне, посетил сэра Исаака на Монетном дворе.)
— Отнюдь, всемилостивейший государь, ибо Королевское общество не жалует вашего покорного слугу и не приняло бы ничего, связанного с моим именем, даже если бы доктор Уотерхауз опустился до такой низости, о чём и помыслить невозможно!
— Я строю флот, — объявил Пётр.
Это, надо сказать, ничуть меня не удивило, ибо он всегда строит флот.
— Я распорядился соорудить три военных корабля в Лондоне. Они отправятся в Балтийское море весной, как только позволит погода, и примкнут к моем флоту в войне против шведов, ибо я ещё не до конца очистил Финляндию от этой скверны. Я желаю, чтобы, когда мои корабли выйдут из Лондона, на борту их были инструменты для моей Академии наук и труды доктора Уотерхауза.
— Всё будет исполнено, ваше императорское величество, — отвечал я, ибо сказать что-нибудь иное представлялось неблагоразумным.
После этого он поспешил убрать меня с глаз долой. Вашего покорного со свистом доставили на тройке в центр Карлсбада и воссоединили с кучером. Отсюда мы отправились в Ганновер, лишь ненадолго завернув в Лейпциг, где мои дела пребывают в величайшем расстройстве. Издание «Монадологии» потребовало от меня не более чем обычных стычек с печатниками. Теперь, когда война окончена, принц Евгений, доблестный соратник герцога Мальборо, проявил интерес к философии, уж не знаю, искренний или показной. Так или иначе, он попросил меня изложить мои мысли в форме, понятной для людей вроде него, то есть грамотных и умных, но не изучавших глубоко философию. (Не он первый. Занятно было бы полюбопытствовать у кого-нибудь из этих господ, почему они считают такое возможным в случае философии, хотя им и в голову не приходит просить сэра Исаака написать версию «Математических начал», из которых была бы выброшена вся математика.) Я постарался, как мог, угодить желанию принца Евгения. Трактат получил название «Начала природы и благодати», и его издание теперь тоже продвигается, сопровождаемое совершенно новыми препонами и контроверзами. Однако большую часть времени в Лейпциге я потратил не на издание нового труда, а на скучное пережевывание сделанного сорок лет назад. Поскольку Вы сейчас в лоне Королевского общества, Даниель, то прекрасно знаете, о чём я говорю: о споре с сэром Исааком касательно того, кто первым изобрёл дифференциальное исчисление. Письма реяли туда-сюда, как коршуны над двором живодёрни, с тех самых пор, как шесть лет назад спор стал ожесточенным; однако за два последних года он сделался яростным. Сэр Исаак начал собирать в Королевском обществе «комитеты» и, прости Господи, «трибуналы», дабы вынести «беспристрастный» вердикт. Короче, к тому времени, как Вы будете читать это письмо, всё, что я имею сейчас сказать касательно спора о приоритете, устареет, и Вы сможете получить куда более свежие новости, просто выйдя в коридор и остановив первого встречного.
Сейчас, Даниель, Вы наверняка уже испугались, что я прошу у Вас помощи в войне с сэром Исааком. Должен повиниться: я и впрямь пал бы так низко, если бы Пётр не обременил меня более насущной заботой. А так по пути из Лейпцига в Ганновер я думал о сэре Исааке лишь в одном практическом смысле: меня тревожила невозможность написать Вам на адрес Королевского общества без того, чтобы кто-нибудь, возможно даже сам Ньютон, узнав мой почерк, вскрыл бы письмо.
Однако, приехав, я обнаружил, что Провидение обо мне позаботилось. В Ганновер incognito пребыла моя (и Ваша, полагаю) старинная приятельница Элиза, герцогиня Аркашон-Йглмская.
В последние год-два, после того как война застопорилась, словно незаведенные часы, некоторые представители английской знати потянулись в Ганновер. Эти английские придворные (разумеется, сплошь виги), вероятно, заслужили презрение лондонского света тем, что повернулись спиной к царствующей королеве и отправились искать милостей у Софии и её сына. Возможно, в отношении некоторых упреки справедливы. Однако люди эти оказывают неоценимые услуги не только Ганноверу, но и Англии, устанавливая связи, уча будущих правителей начаткам английского языка и понуждая их всерьёз думать о разумных приготовлениях. Если смена династии пройдёт гладко, то лишь благодаря им. А уж они, несомненно, извлекут из этого все возможные выгоды.
Я умолчу, чем занимается Элиза в Ганновере. Довольно будет сказать, что её incognito — не просто дань эксцентричной моде. При дворе она не появляется, и почти никто не знает, что герцогиня здесь. Она часто переписывается с неким высокопоставленным англичанином, который последнее время жил во Франкфурте, а сейчас перебрался в Антверпен. И если она получает письма от двора Претендента в Сен-Жермен, то не потому, что состоит в сговоре с якобитами, а потому, что хочет знать всё об интригах, которые плетут там, дабы посадить на английский трон короля-католика. Так или иначе, её сеть курьеров не имеет равных и вполне способна доставить письмо из моих рук в ваши без того, чтобы оно попало в цепкие пальцы сэра Исаака.
Итак, к насущному: три корабля для Петра строятся на верфи Орни в месте под названием Ротерхит, напротив Лаймхауза, рядом с пристанью таверны «Собака и пастух», неподалёку от Лавендер-стрит. Надеюсь, что Вам перечисленные названия что-нибудь говорят!
Если Вы готовы на маленькое приключение, и если это не отвлечет Вас от неведомого дела, порученного Вам принцессой Каролиной, я бы униженно просил Вас 1) узнать у мистера Орни, когда корабли отбывают в Санкт-Петербург; 2) нагрузить их, елико возможно, термометрами, весами, линзами, жабьими глазами, желчными пузырями единорогов, философскими камнями и тому подобным; 3) Бога ради, найдите, чем отчитаться перед царём за последние пятнадцать лет. Лучше всего будет, если Вы успеете выписать из Бостона Ваши таблицы. Если нет, любое ощутимое свидетельство, что Вы чем-то занимались в Институте технологических искусств Колонии Массачусетского залива, спасёт вашего смиренного и покорного слугу от колесования перед Российской Академией наук в острастку учёным, которые получают деньги и не выдают результатов.
Ваш и прочая, Лейбниц
Даниель оделся. Почти все его вещи погибли при взрыве, однако за последние две недели миссис Арланк нашла портного, и тот сшил ему новое платье. У Даниеля не хватило сил вмешиваться, и в результате он был сейчас куда ближе к щегольству, чем когда-либо в своей жизни.
За последние пятьдесят лет в одежде не произошло ничего похожего на революцию, которую вскоре после Чумы и Пожара произвёл Карл II, законодательно упразднивший дублеты и прочие пережитки средневековья. Предметы туалета, сложенные на столе рядом с Даниелевой кроватью, носили примерно те же названия и закрывали примерно те же части тела, что и вошедшие в моду о ту пору: чулки до колен, панталоны, полотняная рубашка, длиннополый нижний камзол без рукавов с множеством пуговиц и верхний с рукавами, на котором пуговиц было ещё больше. Раздобыли Даниелю и парик. Огромных, а-ля Людовик XIV, никто больше не носил; новые были уже и компактнее. Откуда-то возникла дикая мода посыпать их белой пудрой. Тот, что оставила на болванке миссис Арланк, выглядел донельзя скромно; в нём Даниель смотрелся просто обладателем снежно-белой шевелюры с косицей. Он надел парик хотя бы для того, чтобы не мёрзла лысина. В комнате Даниель спасался от холода только тем, что круглые сутки не снимал ночного колпака.
Одевание заняло много времени — пальцы плохо гнулись от старости и холода, а пуговицам не было конца. Застегивая их, он проглядел содержимое корзины, которую миссис Арланк считала хранилищем писем, а сам Даниель склонен был рассматривать как мусорную. Там оказалось пять отдельных посланий от мистера Тредера, два от Роджера Комстока, одно от графа Лоствителского и многочисленные визитные карточки и записки членов Королевского общества, которых не пустила к нему бдительная миссис Арланк. Написали, в основном из чувства долга, лондонские родственники, о существовании части которых Даниель даже не подозревал (дети покойных Стерлинга и Релея, а также Уильяма Хама). Здесь же лежали обещанная «Монадология» Лейбница и второе издание «Математических начал» Исаака — в переплёте, ещё пахнущем кожевенной мастерской. Завёз книгу, разумеется, не сам Исаак, от которого в корзине ничего не было, а кто-то из его юных помощников, заботливо положивших сверху последний выпуск «Journal literaire»[5], документ Королевского общества от прошлого года под названием «Commercium epistolicum»[6] и стопку брошюр на разных языках, перевязав всё чёрной ленточкой. Даниель узнал следы многочисленных атак и контратак в споре о приоритете. Очевидно, предполагалось, что он это всё прочтёт, а значит, его собирались вызвать свидетелем в трибунал.
На этом заканчивались письма от людей ему знакомых. Даниель засунул руку глубже в корзину — там что-то звякнуло. Было несколько писем от лондонцев, которые вот уже месяц как состояли вместе с ним в совете директоров товарищества совладельцев машины по подъёму воды посредством огня. Ещё два от людей, чьи фамилии Даниель видел впервые, подписанные чётким почерком, свидетельствующим о ясности ума. Только эти два он удосужился вскрыть и прочитать, потому что содержание остальных и так знал заранее. Оба оказались от людей, придумавших способ определять долготу и просивших Даниеля представить их Королевскому обществу. Даниель выбросил и первое, и второе.
Ни от жены, ни от маленького Годфри ничего не пришло, чему, учитывая время года и штормовые ветра, дивиться не приходилось. Шаря на самом дне корзины, Даниель наткнулся на что-то зазубренное и отдёрнул руку — не хватало только в его лета умереть от столбняка. Пальцы оказались не в крови, а в саже. Вытряхнув из корзины письма и развернув её к окну, Даниель увидел на дне несколько покорёженных кусков металла и дерева, в том числе миниатюрный бочонок, не больше галлонного. В таком могли бы хранить спирт. Один торец уцелел, хоть и был сильно помят. Клёпки, сбитые железным обручем, тянулись, как линии долгот, от полюса к экватору, однако в другом полушарии заканчивались довольно быстро: некоторые выгнулись наружу, другие были отломлены совсем, третьи — измочалены в щепки. Половина бочонка, вместе со своим ободом, отсутствовала начисто; впрочем, ей могли принадлежать обломки на дне корзины. Было там и всё остальное: шестерни, пружины, рычажки из кованой меди.
Вместо того чтобы вывернуть корзину на хорошо освещённый стол и собрать механизм, Даниель вновь прикрыл обломки непрочитанной почтой. Две недели он был парализован бессмысленным страхом, теперь его телесные соки наконец пришли в равновесие. Даниель Уотерхауз, одетый и в парике, был совсем не тот человек, что две недели прятался в постели. Однако страх мог вернуться, если слишком долго размышлять о чёрных фрагментах в корзине. Они столько дожидались его внимания — пусть подождут ещё.
Королевское общество занимало два здания и разделявший их дворик. Один из домов составлял северное окончание Крейн-корта. Над его тремя этажами размещалась мансарда, в которой жил Даниель. Оба её слуховых окна выходили во двор. Из них открывался бы вид на Флит-стрит и даже на Темзу, если бы обзор не закрывал низкий парапет, добавленный к фасаду, чтобы тот выглядел на несколько футов выше. Таким образом, с постели Даниель видел лишь обшитый свинцом жёлоб между скатом крыши и основанием парапета; в дождь здесь купались птицы, а крысы и мыши бегали в любую погоду. В оставшемся прямоугольнике неба солнце показывалось на несколько послеполуденных часов (если, конечно, его не скрывали облака). Встав и подойдя к окну, Даниель видел за краем парапета — царством птичьего помёта, копоти и мха — весь Крейн-корт и мог обозреть окрестные крыши. Чтобы найти собор святого Павла, надо было распахнуть раму, высунуть голову и повернуть её влево. Тогда купол казался пугающе близким, однако недостижимым за широкой расселиной Флитской канавы, рассекающей город пополам.
Повернувшись на сто восемьдесят градусов, Даниель упирался взглядом в церковь значительно более старую и расположенную куда ближе: Роллс-чепел, которая то ли оседала, то ли врастала в землю обширного кладбища сразу за Феттер-лейн. Это средневековое сооружение, куда казначейство уже много веков сгружало свои архивы, на Даниелевом веку почернело от угольного дыма. На расстоянии полёта стрелы от Роллс-чепел покрывалось копотью ещё одно творение Рена — церковь святого Дунстана на западе.
Гораздо легче для старика с плохо гнущейся шеей было просто смотреть на юг через Крейн-корт в надежде различить хоть отблеск воды между домами, стоящими почти сплошняком. Зрелище это всякий раз заставляло Даниеля почувствовать себя так, будто он из-за какой-то навигационной ошибки попал в город, чужой, словно Манила или Исфахан. Лондон, в котором он рос, состоял из поместий, парков и усадеб, возведённых на протяжении веков строителями, одинаково представляющими себе идеальный английский пейзаж: открытая зелёная местность с домом посередине. Или, на худой конец, дом и стена вокруг не столь большого участка земли. Так или иначе, в Лондоне Даниелевой юности были небо и вода, парки и огороды — не по королевскому декрету, а просто по всеобщему невысказанном согласию. В частности, отрезок берега, который Даниель видел сейчас из мансарды, занимали поместья, особняки, дворцы, храмы и церкви, сооружённые теми влиятельными рыцарями и церковниками, которые добрались сюда первыми и успешнее других защищали свои наделы. На памяти Даниеля все они за исключением Темпла (сразу напротив Крейн-корта) и Сомерсет-хауз (сильно правее, в ту сторону, где стоял до пожара Уайтхолл) исчезли. Одни уничтожил Пожар, другие пали жертвой не менее разрушительной силы — застройщиков. Так что, если не считать большой луг Темпла, каждый дюйм занимали теперь улица или дом.
Повернувшись спиной к окну и открыв дверь своей комнаты, Даниель попадал прямиком в старый Лондон — не Лондон среднего лондонца, но натурфилософический Лондон Джона Уилкинса и Роберта Гука, датируемый примерно 1660 годом. Ибо практически всё чердачное помещение было до потолка забито тем, что Даниель собирательно охарактеризовал как «научный хлам». Всё это перевезли из колыбели Королевского общества — Грешем-колледжа.
Грешем-колледж был воплощением того, чему не осталось места в современном Лондоне — не домом, а скорее комплексом зданий, окружающих двор, куда, если бы его выровнять и застроить, можно было бы заселить сотни горожан. Тюдоровская фахверковая архитектура позволяла безнаказанно лепить дом прямо по ходу возведения. Чем бы ни представлялся он мысленному взору сэра Томаса Грешема во времена Глорианы, когда тот вернулся из Амстердама, овеянный славой спасителя национальной денежной единицы и разбогатевший на спекуляциях оной, к тому времени, как Даниель туда попал, колледж выглядел созданием ос, а не человека.
Так или иначе, он был огромен: в десять раз больше, чем оба здания в Крейн-корте, вместе взятые. Не все помещения принадлежали Королевскому обществу, но всё же немалая их часть.
И ещё у Королевского общества были Гук и Рен, восстанавливавшие Лондон из пепла. Если где-нибудь в городе пустовали мансарда или чулан, подвал или пристройка, Рену это становилось известно, а Гуку хватало смелости чего-нибудь туда напихать.
Всё сказанное сводилось к следующему: примерно до рубежа веков Королевское общество могло копить научные материалы, нисколько себя не ограничивая. Не было надобности отсеивать, выбрасывать, даже разбирать. В первое десятилетие восемнадцатого века они лишились Грешем-колледжа и лишились Гука. Площади для хранения уменьшились в десять раз, если не больше.
Прекрасный случай разобрать всё и выбросить лишнее, займись этим кто-нибудь, кто был в Обществе с самого начала, хорошо знал коллекцию и мог бы выполнить работу с должной обстоятельностью. Другими словами, Ньютон, Рен или Уотерхауз. Однако сэр Исаак был занят Монетным двором, войной с Флемстидом и выстраиванием противолейбницевой обороны во втором издании «Математических начал». Сэр Кристофер Рен завершал собор святого Павла и строил лондонский особняк герцога Мальборо рядом с Сент-Джеймским дворцом: две очень значительные работы. Даниель в Массачусетсе пытался создать логическую машину.
Кто разбирал коллекцию? Кто-нибудь из учеников Ньютона. И наверняка в спешке. Узнай об этом Даниель четыре года назад, когда начались сборы, он бы места себе не находил от тревоги, теперь же мог лишь созерцать результат в том же состоянии духа, в каком смотрел на остатки отчего дома после Пожара.
Значительная часть научного хлама по-прежнему лежала в ящиках, бочонках и тюках, в которых его сюда доставили. Всё это существенно затрудняло осмотр. Даниель приметил довольно высоко ящик с чуть съехавшей крышкой. Сверху стоял только стеклянный колпак, под которым укрылась иссохшая сова. Даниель переставил сову, вытащил ящик и снял крышку. Ему предстала коллекция жуков архиепископа Йоркского, тщательно упакованная в солому.
Всё было понятно. Как он и боялся: птицы и жуки от пола до потолка. Сохраненные не за свою ценность, а за имена дарителей — так молодая пара не выкидывает уродливый свадебный подарок от богатой тётки.
Сзади кто-то засопел, изо всех сил пытаясь не чихнуть. Выпрямившись осторожно, чтобы не повредить позвоночник, Даниель взглянул на лестницу и встретился глазами с Анри Арланком. Тот выглядел встревоженным и подчёркнуто скорбным, как викарий на похоронах, который не знал покойного, но видит, что родственники понесли тяжёлую утрату и могут быть сильно не в духе.
— Я постарался сохранить всё, привезённое сюда, в том состоянии, в каком оно было доставлено, доктор Уотерхауз.
— Ни один стряпчий не выразился бы осторожнее, — пробормотал Даниель.
— Простите, сэр?
Даниель спустился на лестницу, придерживаясь за стену, чтобы не закружилась голова.
— Вы полностью оправданы, — сказал он. — Сова не запылилась.
— Спасибо, доктор Уотерхауз.
Даниель сел на верхнюю ступеньку. Теперь, глядя между колен, он отчётливо видел лицо Анри Арланка. На чердаке царил полумрак, но стены нижнего этажа были выкрашены белым. Сквозь раскрытые двери наверх проникал свет из окон, освещая Анри безжалостно, словно экспонат на предметном столике микроскопа. Вид у него был определённо встревоженный.
— Давно вы здесь служите, Анри?
— С тех пор, как вы сюда въехали, сэр.
Даниель немного опешил, потом сообразил, что «вы» в данном случае означает «Королевское общество».
— Я хочу сказать, в этом доме я с самого начала, сэр.
— Когда мы переезжали сюда, наверное, было много… мусора? В Грешем-коллежде, я хочу сказать.
На лице Анри отразилось явное облегчение.
— О да, сэр, больше, чем можно вообразить.
— Целые телеги?
— Да, сэр, его вывозили десятками телег, — подтвердил Анри с гордостью человека, выполнившего трудную работу.
— И куда его вывозили?
— Н-не знаю, доктор Уотерхауз. Приходили старьёвщики, выбирали, что получше, и продавали медникам.
— Я понял, Анри. Более того, я согласен, что ни вас, ни кого другого нельзя спрашивать, куда делся мусор после того, как телеги скрылись из виду. Однако у меня есть один вопрос, и я попрошу вас сколь возможно напрячь память.
— Постараюсь, доктор Уотерхауз.
— Когда освобождали Грешем-колледж, выбрасывали мусор, а ценности доставляли сюда, не вывозили ли мусор и ценности из других мест?
— Из других мест, доктор Уотерхауз?
— Гук. Мистер Роберт Гук. Он мог припрятать что-нибудь в Бедламе, или в пристройках к особняку лорда Равенскара, или в Коллегии врачей.
— Почему там, сэр?
— Он их строил. Или в соборе святого Павла, или в Монументе Пожару — к ним он тоже приложил руку. Он мог спрятать там что-нибудь, как белка прячет орехи, и, как беличьи запасы частенько находят другие…
— Я не помню, чтобы вещи привозили из Бедлама или из других мест, кроме Грешем-колледжа, — твёрдо отвечал Анри.
Лицо его горело. Он простодушно угодил в западню, которую Даниель расставил, произнеся слово «мусор», но понял это задним числом и не испугался, а разозлился. Даниель тут же почувствовал, что злить Анри не стоит, поэтому объяснил более мягким тоном:
— Дело в том, что Королевское общество значительно опередило все академии мира, и то, что для нас мусор, почиталось бы ценностью в более отсталой стране; в качестве дружеского жеста по отношению к этим государствам мы могли бы отправить туда то, в чем не нуждаемся сами.
— Я понял вас, сэр. — Лицо Анри начало приобретать свой обычный оттенок.
— Лучше старым Гуковым часам попасть к учёному в Московии, чем к Шадуэллскому меднику, который понаделает из них дешёвых колечек.
— О да, сэр.
— Европейский коллега попросил меня отыскать такие вещи. Десятки телег мы уже не соберём. Однако что-то могло сохраниться в зданиях, от которых у мистера Гука были ключи.
— Сэр Кристофер Рен дружил с мистером Гуком…
— Верно, — сказал Даниель, — хотя странно, что вам это известно, ведь мистер Гук умер за семь лет до вашего здесь появления.
И вновь к щекам Анри прихлынул румянец.
— Это известно каждому. Сэр Кристофер частенько бывает здесь — вот только сегодня утром заезжал — и всегда отзывается о мистере Гуке с некоторой теплотой.
По лицу Анри понятно было, что он не врёт. Господь и Его ангелы, возможно, говорят о Гуке с чистой и неподдельной любовью, однако «некоторая теплота» — большее, на что способен Рен или какой-либо иной смертный.
— Тогда я обращу свои вопросы к сэру Кристоферу.
— Он не раз говорил, что будет счастлив возобновить знакомство, как только…
Анри украдкой взглянул на дверь мансарды, сразу над лестницей.
— Как только я приду в чувство. Считайте, что я выздоровел. И если у вас возникнет порыв что-нибудь выбросить, поставьте меня в известность, чтобы я мог забрать вещи, которые сойдут в Московии за чудеса техники.
Даниель вышел прогуляться — поступок весьма опрометчивый.
Анри Арланк дал понять, что когда у доктора Уотерхауза появятся силы выйти из дома, на день или на час, он, Анри, по первому слову найдёт карету или портшез. И это было бы в высшей степени разумно. Лондонские улицы стали куда опаснее, а Даниель — куда беспомощней, чем двадцать лет назад. Однако в такое утро, когда по городу во множестве фланировали зажиточные обыватели, убийц и разбойников следовало опасаться меньше, чем карманников, а им у пожилого натурфилософа нечем было особо поживиться.
Даниелю пришла в голову чудная мысль: вдруг те, кто подложил в телегу адскую машину, хотели взорвать не его и не мистера Тредера, а вовсе Анри Арланка?
За годы секретарства в Королевском обществе Даниель проникся нелюбовью к чудным мыслям. Имелось множество оснований, чтобы отбросить идею с порога. Главное: он не мог придумать, зачем кому-то взрывать привратника Королевского общества. Более того, туман, окутавший сознание Даниеля после взрыва, породил в нём склонность к гипотезам самого зловещего толка, и эта, по всему, была одна из них.
Однако натурфилософ в нём вынужден был признать, что такое хотя бы теоретически возможно. И пока гипотезу не удалось полностью исключить, Даниель предпочитал сохранять некоторую независимость от Арланка, во всяком случае, не обращаться к нему за помощью всякий раз, как надо будет покинуть Крейн-корт. И вовсе не обязательно гугеноту во всех подробностях знать, где Даниель бывает.
Колени по-прежнему плохо гнулись после долгого лежания в постели, но к тому времени, как Даниель достиг конца Крейн-корта и отдался на милость Флит-стрит, походка его сделалась почти бодрой. Он повернул вправо, в сторону Чаринг-кросс, предусмотрительно шагая навстречу движению и слегка касаясь рукой фасадов домов и лавок на случай, если придётся юркнуть в подворотню. Вскоре церковь святого Дунстана на западе осталась позади. Предстояло миновать Внутренний и Средний Темпл на противоположной стороне улицы, за недавно выстроенными домами. Здесь во множестве располагались кофейни и пабы — мишень игривых, но невразумительных намёков и злой, но не вполне внятной сатиры со стороны газет.
Скоро Даниель прошёл через Темпл-бар. Дорога — теперь называемая Стрэнд — расходилась на широкую (влево) и узкую (вправо), образуя островок с парой церквушек посередине. Даниель выбрал правую — отрезки улиц, кое-как склёпанных вместе — и тут же решил, что заблудился. Дома разделяли просветы, слишком узкие, чтобы заслужить звание проулков; дорожка поворачивала под дикими углами и не шла прямо даже там, где это было возможно. Пожар остановился неподалёку отсюда, возможно, благодаря широким открытым пространствам Роллз-чеппел и Темпла. Гук, в должности городского землемера, не имел власти вытащить эту часть Лондона из средневековья. Древние права прохода были столь же святы, во всяком случае, столь же неколебимы, как уложения англосаксонского законодательства. Где-то в этих краях пряталось старинное, а потому низкое здание, в котором мистер Кристофер Кэт открыл нечто под названием клуб «Кит-Кэт».
«Я поговорил о Вас с мистером Кэтом, — написал Роджер в записке, подсунутой Даниелю под дверь. — Когда начнёте выходить, загляните в наш клуб». Там же имелся схематический план, который Даниель теперь тщетно пытался разобрать. Однако он сумел найти дорогу, просто следуя за каретами высокопоставленных вигов.
Здание явно возвели в то время, когда у англичан было туго с едой и строительными материалами. Даниель, при своём среднем росте, еле-еле мог выпрямиться без риска ушибить голову. Соответственно и картины, которыми мистер Кэт украсил стены, были заметно больше в ширину, чем в высоту. Это исключало портреты, кроме групповых с многочисленными мелкими фигурами. Самый большой, повешенный на самом видном месте, представлял выдающихся членов клуба. На первом плане, посередине, был запечатлен Роджер, чей великолепный парик живописец изобразил жирным подковообразным мазком.
— Давайте что-нибудь сделаем с долготой!
Это был всё тот же Роджер в сильно одряхлевшем теле. Только зубы его выглядели молодо, и немудрено — их изготовили всего несколько месяцев назад. Роджер сдал во всём, за исключением ума и зубов. Изъяны возраста он восполнял пышностью туалета.
Даниель несколько мгновений дул на чашку, пытаясь остудить шоколад, но так, чтобы не появилась морщинистая пенка. За шумными разговорами вигов он не слышал собственного голоса.
— Всего два часа назад, если я правильно понял, королева открыла сессию парламента, — напомнил Даниель, — и начисто забыла упомянуть совершенный пустяк, а именно, кто займёт престол после её смерти. А вам вздумалось болтать о долготе.
Маркиз Равенскар закатил глаза.
— Это решено сто лет назад. Её сменят София или Каролина.
— Вы хотите сказать, София или Георг-Людвиг.
— Не глупите. Европой правят дамы. Войну за Испанское наследство вели женщины. В Версале — мадам де Ментенон. В Мадриде — её лучшая подруга, принцесса дез Урсен, статс-дама испанского Бурбонского двора. Она там всем заправляет. С другой стороны — королева Анна и София.
— Мне казалось, они терпеть друг дружку не могут.
— И какое это имеет значение?
— Я разбит наголову.
— Если вы желаете педантичной точности, да, Георг-Людвиг — следующий в очереди за Софией. Вы знаете, что он сделал со своей женой?
— Что-то ужасное, я слышал.
— Пожизненно заточил её в крепость за супружескую измену.
— Так, значит, он всё же главнее.
— Исключение подтверждает правило. Приняв такие меры, он расписался перед целым светом в своей беспомощности. Она наставила ему рога, а их никуда не спрятать.
— Однако в замке заперта она, а не он.
— Он заперт в замке своего ума, стены которого, по слухам, столь толсты и твердокаменны, что внутри очень мало места. Первой дамой Англии будет принцесса Уэльская, воспитанная Софией и безвременно скончавшейся королевой Пруссии, ученица вашего друга. — Последние слова Роджер произнёс с многозначительным нажимом.
— Возвращаясь к теме разговора, сейчас важнее добиться, чтобы Ганноверы заняли трон. Долгота подождёт.
Роджер взмахнул рукой, будто в который раз пытаясь поймать докучного овода.
— Чёрт возьми, Даниель, вы и впрямь считаете, что мы настолько беспечны и этим не занимаемся?
— Приношу извинения.
— Мы не впустим Претендента! Вы присутствовали при его якобы рождении — вы видели, как его пронесли в грелке! Разумеется, человек вашей проницательности не мог поддаться на обман!
— По моим впечатлениям, головка ребёнка показалась из королевиного влагалища.
— И вы зовёте себя учёным!
— Роджер, если вы отбросите нелепое допущение, будто странами должны править короли, рождённые от других королей, то вам будет не важно, появился Претендент в Сент-Джеймском дворце из грелки или из влагалища — в обоих случаях он может катиться к чёрту!
— Вы предлагаете мне стать республиканцем?
— Я полагаю, что вы уже республиканец.
— Хм… отсюда один шаг до пуританства.
— У пуританства есть свои преимущества — мы не настолько под каблуком у женщин.
— Это потому, что вы самых интересных вешаете!
— Я слышал, что вы близки с дамой из уважаемого семейства.
— Как и вы. Разница в том, что я со своей сплю.
— Говорят, она исключительно умна.
— Моя или ваша?
— Обе, Роджер, но я говорю о вашей.
И тут маркиз Равенскар сделал очень странную вещь — поднял бокал и принялся вертеть, чтобы свет из окна упал нужным образом. На стекле кто-то нацарапал алмазом строчки, которые Роджер и прочитал с жуткими подвываниями, которые были не то дурным пением, не то дурной декламацией:
К тому времени, как он добрался до середины, несколько завсегдатаев за соседними столами подхватили мотив (если это можно назвать мотивом) и принялись подпевать. Закончив, все вознаградили себя употреблением спиртного.
— Роджер! Я и помыслить не мог, что какая-нибудь женщина подвигнет вас писать стихи, пусть даже чудовищные.
— Их чудовищность — доказательство моей искренности, — скромно ответил Роджер. — Будь стихи великолепны, кто-нибудь заподозрил бы, что я написал их из желания похвалиться умом.
— Что ж, вы и впрямь свободны от таких обвинений.
Роджер помолчал несколько мгновений, потом приосанился и оправил парик, как будто собрался произнести речь в парламенте.
— Сейчас, когда внимание всех честных людей приковано к перипетиям престолонаследия, думаю, настал час принять дорогостоящий и заумный законопроект!
— Касательно долготы?
— Можно учредить премию для того, кто придумает способ её измерять. Большую премию. Я поделился своей мыслью с сэром Исааком, сэром Кристофером и Галлеем. Все поддержали. Премия будет очень большой.
— Если они вас поддержали, Роджер, то зачем вам я?
— Пришло время Институту технологических искусств Колонии Массачусетского залива — который я так щедро поддерживал — сделать что-нибудь полезное!
— Например?
— Даниель, эту премию должен получить я!
Лондон
конец февраля 1714
Даниель летучей мышью завис в мансарде, присматривая за тем, как Анри Арланк упаковывает научный хлам в ящики и бочонки. Этажом ниже сэр Исаак Ньютон вышел из комнаты и двинулся по коридору, продолжая разговор с двумя молодыми спутниками. Даниель выглянул на лестницу и едва успел приметить Исаакову ногу, прежде чем та исчезла из виду. Один из говорящих был шотландец, очень темпераментный; он горячо соглашался сделать то, о чём, видимо, просил его перед этим Исаак.
— Я подготовлю замечания по поводу замечаний барона, сэр!
(Своё последнее выступление в «Литературном альманахе» Лейбниц озаглавил «Замечания».)
— Уж я его отделаю!
— Я предоставлю вам мои соображения касательно его «Опытов». Он явно неправильно использует производные второго порядка, — сказал Исаак, ступая по лестнице впереди остальных.
— Точно, сэр! — прогремел шотландец. — Прежде чем выискивать соринку в вашем глазу, пусть вынет бревно из своего!
Это был Джон Кейль, дешифровщик королевы Анны.
Все трое с грохотом спустились по лестнице и вышли на улицу — во всяком случае, так показалось Даниелю, для которого звуки шагов и разговоров слились в один продолжительный громовой раскат.
Он выждал, пока их кареты отъедут от Крейн-корта, и отправился в клуб «Кит-Кэт».
Одним из завсегдатаев клуба был Джон Ванбруг, архитектор, специализирующийся на загородных домах. В частности, он возводил Бленхеймский дворец для герцога Мальборо. Сейчас ему привалило работы, потому что Гарлей отстегнул герцогу десять тысяч фунтов. На данном этапе работа состояла не в том, чтобы чертить планы и присматривать за рабочими; пока архитектор все больше распределял деньги и пытался нанять людей. Он выбрал «Кит-Кэт» своей штаб-квартирой, и Даниель, придя в клуб выпить шоколада и почитать газеты, невольно слышал про половину его дел. Иногда Даниель, подняв глаза, ловил на себе взгляд Ванбруга. Возможно, архитектор знал, что он переписывался с Мальборо. А может, причина была иная.
Так или иначе, когда Даниель вошёл, Ванбруг был в клубе, и через несколько мгновений у него появился куда более серьёзный повод для любопытства. Ибо не успел Даниель сесть, как перед зданием остановился роскошный экипаж, и сэр Кристофер Рен, высунувшись в окошко, спросил доктора Уотерхауза. Даниель тут же вышел и присоединился к сэру Кристоферу. Великолепие кареты и красота четвёрки подобранных в масть лошадей сами по себе могли бы остановить движение на Стрэнде, что сильно облегчило кучеру задачу развернуть её и направить в ту сторону, откуда Даниель пришёл, то есть на восток.
— Я, как вы просили, послал возчика в Крейн-корт, забрать, что вы там приготовили. Он встретит нас у церкви святого Стефана Уолбрукского и дальше в вашем распоряжении на весь день.
— Я ваш должник.
— Ничуть. Можно спросить, что там такое?
— Хлам с чердака. Дар нашим собратьям в Санкт-Петербурге.
— В таком случае я ваш должник. Учитывая род моих занятий, представляете, какой скандал бы приключился, если бы Крейн-корт рухнул под тяжестью жуков?
— Будем считать, что мы квиты.
— Неужто вы перебрали всё?
— На самом деле я искал то, что осталось от Гука.
— О! Там вы ничего не найдёте. Сэр Исаак.
— Гук и Ньютон — два самых трудных человека, с которыми мне когда-либо доводилось иметь дело.
— Флемстид принадлежит к тому же пантеону.
— Гук считал, что Ньютон украл его идеи.
— Да. Он мне об этом говорил.
— Ньютон находил подобные обвинения оскорбительными. Наследие Гука будет свидетельствовать в пользу Гука — значит, на свалку этот хлам! Однако Гук, не менее упрямый, чем Ньютон, наверняка всё предусмотрел и спрятал самое ценное там, куда Ньютону не добраться.
Рен нёс свои восемьдесят и один год, как арка — вес многотонной каменной кладки. С юных лет он обнаружил редкие способности к математике и механике. Ему более других досталось той ртути, что якобы била из земли во времена Кромвеля. Его собратья по первым годам Королевского общества давно одряхлели телом и душой, но только не Рен, который преобразился из юноши-эльфа в ангела, лишь ненадолго побыв плотским существом. Он носил высокий серебристый парик и светлое платье с воздушным кружевом на вороте и манжетах; лицо его сохранилось на удивление хорошо. Возраст проглядывал преимущественно в ямочках на щеках, которые превратились в глубокие складки, и в истончившейся коже век — розовой и одрябшей. Однако даже это придавало ему умиротворённый и чуть насмешливо-удивлённый вид. Теперь Даниель понимал, что мудрость была в числе даров, которыми Господь наделил юного Рена, и именно мудрость понудила его заняться архитектурой, областью, в которой дела говорят сами за себя и в которой необходимо годами поддерживать хорошие отношения с большим количеством людей. Другие не сразу увидели мудрость Рена; тогда, пятьдесят лет назад, многие (в том числе сам Даниель) поговаривали, что чудо-юноша губит свои дарования, подавшись в строительство. Однако время доказало правоту Рена. Даниель, который в эти полстолетия тоже принимал решения — мудрые и не очень, — не чувствовал сейчас ни зависти, ни сожалений, только восхищённое любопытство, когда карета выехала с Ладгейт-стрит, и Рен, раздвинув занавески, взглянул на собор святого Павла, словно пастух, обозревающий своё стадо.
Что испытывает человек, создавший такое? Даниель мог только гадать, вспоминая, что создал сам. Однако его работа ещё не завершена. Он не так стар. Когда сын Рена положил последний камень в лантерну купола святого Павла, сэр Кристофер был на десять лет старше, чем Даниель сейчас.
Миновали собор, въехали на Уолтинг-стрит и почти сразу остановились — впереди был затор. Теперь Рен смотрел на Даниеля заинтригованно.
— Я не собираюсь брать ваше дело на себя, — сказал он, — однако мне легче будет вам помочь, если вы соблаговолите сказать, что именно из Гукова наследия вам надобно. Его рисунки для украшения стен? Навигационные инструменты, чтобы добраться до Бостона? Астрономические наблюдения? Чертежи летательных машин? Гербарии? Часовые механизмы? Оптические приспособления? Химические рецепты? Картографические новшества?
— Простите, сэр Кристофер, заботы мои множатся и усложняются день ото дня. Я вынужден исполнять несколько поручений сразу, и потому ответ мой будет не вполне прост. Для первого дела — отправить что-нибудь в дар будущим русским учёным — сгодится почти всё. Для моих целей нужно то, что имеет отношение к машинам.
— Я слышал, вы вошли в совет директоров товарищества…
— Нет, это другое. Машина мистера Ньюкомена — огромный чугунный агрегат, и там моя помощь не требуется. Я думаю о маленьких, точных, умных машинах.
— Вы хотели сказать маленьких точных машинах, изготовленных с умом.
— Я сказал то, что хотел, сэр Кристофер.
— Значит, снова логическая машина? Мне казалось, Лейбниц забросил эту идею лет… э… сорок тому назад.
— Лейбниц лишь отложил её сорок лет назад, чтобы… — Тут Даниель на несколько мгновений утратил дар речи от ужаса, что чуть было не допустил чудовищную оплошность. Он собирался сказать: «Чтобы создать дифференциальное исчисление».
Лицо сэра Кристофера, наблюдавшего, как его собеседник чудом избежал катастрофы, выглядело посмертной маской человека, умершего во время приятных сновидений.
Наконец Рен, просияв, сказал:
— Помню, как бушевал Ольденбург. Он так и не простил Лейбницу, что тот не довёл дело до конца.
Короткая пауза. Даниель думал нечто непростительное: возможно, Ольденбург был прав. Лейбницу стоило заниматься треклятой машиной и не вступать на священную землю, которую Ньютон обнаружил и застолбил. Он вздохнул.
Сэр Кристофер взирал на него с безграничным терпением, величественный, как коринфская колонна.
— Я служу двум господам и одной госпоже, — начал Даниель. — Сейчас я не знаю, чего хочет от меня госпожа, так что не будем о ней, а поговорим о моих господах. Оба люди влиятельные. Один — восточный деспот, но с новыми идеями. Другой — властитель более современного, парламентского толка. Я могу удовлетворить обоих, если построю логическую машину. Я знаю, как её построить. Я думал о ней и делал опытные образцы в течение двадцати лет. Скоро у меня будет место, где её строить. Есть даже деньги. Нужны инструменты и люди, которые могут с их помощью творить чудеса.
— Гук изобрёл машины для нарезки маленьких шестерён и тому подобного.
— И он знал всех часовщиков. В его бумагах должны быть их имена.
Рен улыбнулся.
— О, после того, как милорд Равенскар проведёт Акт о Долготе, вам несложно будет заручиться помощью часовщиков.
— Если они не станут рассматривать меня в качестве конкурента.
— А вы и впрямь намерены с ними конкурировать?
— Я считаю, что для измерения долготы надо не усовершенствовать часы, а проделать некие астрономические наблюдения…
— Метод лунных расстояний.
— Да.
— Но этот метод требует огромных вычислений.
— Так снабдим каждый корабль арифметической машиной.
Сэр Кристофер Рен порозовел — не от злости, а потому что заинтересовался. Некоторое время он думал, а Даниель ждал. Наконец Рен заметил:
— Лучшими механиками на моей памяти были не часовщики — хотя им тоже в искусности не откажешь, — а те, что строят органы.
— Духовые органы?
— Да. Для церквей.
У Даниеля губы непроизвольно раздвинулись в улыбке.
— Сэр Кристофер, думаю, вы подрядили больше органных мастеров, чем кто-либо ещё в истории.
Рен поднял руку.
— Органных мастеров нанимает церковный совет. Хотя в остальном вы правы — я вижу их постоянно.
— В Лондоне их наверняка великое множество!
— Так было лет десять—двадцать назад. Теперь лондонские церкви восстановлены, и часть мастеров перебралась на континент, где многие органы уничтожены войной. Однако немало осталось здесь. Я поспрашиваю, Даниель.
Они подъехали к церкви святого Стефана на Уолбруке. Во времена римского владычества Уолбрук был рекой; считалось, что теперь это клоака под одноименной улицей, хотя никто не выказывал желания спуститься под землю и проверить. Даниель усмотрел в выборе места добрый знак, потому что нежно любил церковь святого Стефана. 1) Рен возвёл её в самом начале своей карьеры — если вспомнить, примерно в те годы, когда Лейбниц трудился над дифференциальным исчислением. Белая и чистая, как яйцо, она была вся — арки и купола; какие бы возвышенные мысли ни внушал её облик прихожанам, Даниель видел в нём тайный гимн Рена математике. 2) Томас Хам, его дядя-ювелир, жил и работал так близко отсюда, что в доме слышно было церковное пение. Вдова Томаса Мейфлауэр, на склоне лет перешедшая в англиканство, посещала здешние службы вместе с сыном Уильямом. 3) Когда Карл II пожаловал Хаму титул (после того как забрал и не смог возвратить деньги его клиентов), то сделал его виконтом Уолбрукским. Так что для Даниеля это была почти семейная часовня.
Рен строил церкви так быстро, что не успевал снабдить их колокольнями. Изнутри они выглядели великолепно; однако колокольни представлялись ему столь необходимой частью лондонского пейзажа, что теперь, наполовину уйдя от дел, он достраивал их одну за другой. Даниель видел почти завершённую у церкви святого Якова на Чесночном рынке и ещё одну у церкви Михаила-Архангела на Патерностер-лейн. Очевидно, Рен воздвигал колокольни кучно и, покончив с одним районом, перемещался в следующий. Очень здравая мысль. Звонницу у святого Стефана Уолбрукского только начали возводить — людей и материалы перебросили с двух соседних участков.
Строительство велось на огромном пустыре между церковью и местом, где сходились Полтри, Треднидл, Корнхилл и Ломбард-стрит. Раньше здесь торговали ценными бумагами. Такое большое пространство в Лондоне неизбежно становилось рассадником преступности и предпринимательства; Даниель, не успев выйти из кареты, заметил признаки и того, и другого. Ближе к церкви мастеровые Рена сложили и охраняли материалы, с которыми в ближайшие год-два предстояло работать каменщикам и плотникам; здесь же возводились времянки и палатки. Собаки мастеровых бродили вокруг, серьёзные, как врачи, и мочились на всё, что не двигалось достаточно быстро. В этом столпотворении Даниель приметил телегу, нагруженную свёртками, которые он своими руками упаковал на чердаке Королевского общества.
Многие снимали шляпы — не перед Даниелем, конечно, а перед его спутником. Рен явно собирался откланяться.
— У меня лежат планы многих зданий, выстроенных Гуком.
— Это как раз то, что мне нужно.
— Я их вам отправлю. А также фамилии людей, строивших эти здания и могущих знать особенности их конструкции.
— Вы чрезвычайно добры.
— Это наименьшее, что я могу сделать в память о человеке, научившем меня проектировать арки. И ещё я выдвину вас на пост куратора экспериментов Королевского общества.
— Простите, сэр?
— Вы всё поймете по недолгом размышлении. Всего вам доброго, доктор Уотерхауз.
— Вы истинный рыцарь, сэр Кристофер.
Даниель думал, что восточнее Бишопсгейта улицы будут посвободнее, но здесь тоже повсюду шло строительство, к тому же рядом располагалась гавань, так что движение оказалось не менее оживлённым. Ни Даниеля, ни возчика не устраивала перспектива до конца дня браниться с ломовиками. Можно было переехать на другой берег, но в Саутуорке их ждала бы такая же давка, только на более узких и хуже замощённых улицах. Даниель решил поступить иначе. Он велел везти себя и свёртки по Фиш-стрит-хилл к Лондонскому мосту, а дальше на восток по Темз-стрит, как если бы они направлялись к Тауэру. Справа уходили к пристаням древние улочки, и в каждой Даниелю на миг представали сценки из жизни торговцев или мастеровых; что в этих живых картинах отсутствовало, так это сама Темза, хоть и расположенная всего на расстоянии полёта стрелы — в конце улиц взгляд различал лишь мачты и такелаж.
Миновали Биллинсгейтский рынок, раскинувшийся по трём сторонам большого прямоугольного дока, где швартовались небольшие суда из Лондонской гавани. Док был врезан в берег и доходил почти до Темз-стрит, которая здесь расширялась в площадь, как будто желая обменяться с рынком рукопожатиями. Под колёсами хрустели и подпрыгивали чёрные камешки. Лошади замедлили ход. Они пробирались через толпу детей в запачканной одежде, которые выковыривали чёрные камешки из булыжной мостовой.
И мальчишки, подбирающие уголь, и сами угольщики (судя по выговору, сплошь йоркширцы), и чиновники, взвешивающие их товар, что доставлялся на лодках из гавани, — всё было для Даниеля в новинку. Он привык считать Биллинсгейт рыбным рынком. Впрочем, за рыботорговок можно было не тревожиться: они по-прежнему занимали большую часть дока и защищали свою территорию метко брошенными рыбьими потрохами и не менее меткими описаниями внешности и родословной покушавшихся на неё угольщиков.
За рынком ехать стало легче, хотя ненамного, потому что чуть впереди, справа, располагалась таможня. Деловая жизнь здесь кипела почти как в Чендж-элли. Гул голосов сливался в неумолчный рёв прибоя; особенно сильные волны докатывали до повозки, обдавая Даниеля пеной отдельных слов.
— Сюда, — сказал он, и возчик свернул вправо, через улочку со множеством не слишком презентабельных, но явно бойко торгующих контор, к Темзе. Здесь были оборудованы несколько маленьких доков; Даниель и возчик без труда отыскали тот, в котором курили трубки и обменивались глубокомысленными замечаниями лодочники. Не сходя с места и просто раздавая монеты нужным людям в нужное время, Даниель нанял лодочника отвезти его на другой берег и отпустил возчика.
С Темз-стрит река представлялась не столько путём сообщения, сколько преградой: частоколом оструганного дерева, призванным остановить захватчика или беглеца. Однако лодочник в несколько гребков миновал заслон вдоль доков, и они вышли в судоходное русло. Движение здесь тоже было оживлённое, и всё же по сравнению с улицами водное пространство казалось на диво широким и вместительным. У Даниеля полегчало на сердце — без всяких, впрочем, оснований. Лондон быстро превратился в наброшенный на холм для просушки неразглаженный брезент. Выделялись только Монумент, Лондонский мост, Тауэр и собор святого Павла. Мост, как всегда, являл собой полную несуразность: целый город над водой, притом ветхий, покосившийся, пожароопасный город тюдоровских времён. Недалеко от северного его конца высился Монумент, который Даниель впервые сумел рассмотреть как следует. Эту огромную одинокую колонну воздвиг Гук, хотя все приписывали её Рену. В недавних перемещениях по Лондону Даниель не раз вздрагивал, заметив будто смотрящую на него вершину колонны, — так много лет назад ему чудилось, что живой Гук разглядывает его в микроскоп.
Отлив подгонял лодку, и Даниель опомниться не успел, как они поравнялись с Тауэром. Усилием воли он оторвал взгляд от Ворот изменников, а мысли — от воспоминаний и вернулся к насущным заботам. Хотя внутреннюю часть Тауэра скрывали стены и бастионы, можно было видеть дым, поднимающийся из окрестностей Монетного двора, а в общем городском гуле ухо вроде бы различало медленное тяжёлое биение молотов, чеканящих гинеи. У солдат на стенах были красные мундиры с чёрной отделкой; следовательно, Собственный её величества блекторрентский гвардейский полк, исходно размещавшийся в Тауэре, вернули сюда — в который раз, Даниель сосчитать не мог. Местопребывание Блекторрентского полка, как флюгер, точно указывало, куда дует политический ветер. Когда шла война, блекторрентские гвардейцы были на фронте. В мирное время, если монарх благоволил к Мальборо, они охраняли Уайтхолл. Если Мальборо подозревали в том, что он намерен заделаться новым Кромвелем, его любимый полк ссылали в Тауэр и нагружали заботами о Монетном дворе и Арсенале.
Чем ниже по течению, тем беднее становились дома и великолепнее — корабли. Впрочем, поначалу дома выглядели не такими уж бедными. Вдоль обоих берегов были проложены дороги, но их Даниель не видел за складами, по большей части выстроенными из обожжённого кирпича. Стены складов уходили прямо в воду, чтобы лодки можно было загружать и разгружать без помощи кранов, которые торчали над рекой, словно реснички микроскопических анималькулей. Склады изредка перемежались доками, от которых расходились лучи притоптанной земли. На левой, Уоппингской стороне эти улицы вели в город, который вырос здесь за время Даниелева отсутствия. Справа, на Саутуоркском берегу, сразу за выстроившимися вдоль реки лабазами начиналась открытая местность; Даниель различал её лишь в те редкие моменты, когда лодка оказывалась в створе отходящих к югу дорог. Вдоль них примерно на четверть мили тянулись новые строения, придавая им вид вонзённых в город мечей. А дальше расстилались не сельские английские угодья (хотя пастбищ и молочных ферм тоже хватало), но псевдоиндустриальный пейзаж: здесь растягивали на сушильных станках ткань и дубили кожу — оба ремесла требовали больших площадей.
За Уоппингом начинался длинный прямолинейный отрезок реки, а дальше — излучина между Лаймхаузом и Ротерхитом. Даниель изумился, но не слишком, увидев, что новый город на левой стороне захватил почти весь берег. Шадуэлл и Лаймхауз стали частью Лондона. От этой мысли по коже пробежал холодок. Городки в нижнем течении Темзы всегда считались рассадником воришек, речных пиратов, бешеных собак, крыс, разбойников и бродяг, а отделяющая их сельская местность, несмотря на обилие там кирпичных заводов и кабаков, — санитарным кордоном. Даниель подумал, что Лондон, возможно, больше проиграл, чем выиграл, заменив этот кордон сквозными улицами.
Саутуоркская сторона была застроена меньше, так что порой Даниель и пасущиеся коровы могли созерцать друг друга через несколько ярдов воды, грязи и дёрна. Однако как шлюпы и шхуны по мере приближения к гавани уступали место большим трёхмачтовым кораблям, так мелкие пристани и доки городских купцов сменялись участками огромными, словно поля сражений, и почти такими же шумными — верфями. Некий завсегдатай клуба «Кит-Кэт» убеждал Даниеля, что по берегам Лондонской гавани расположилось более двух десятков верфей и столько же сухих доков. Даниель из вежливости сделал вид, будто верит, но по-настоящему поверил только сейчас. Казалось, вдоль всей гавани сидят чудища, которые, поглощая деревья тысячами, извергают корабли десятками. Они выплёвывали столько опилок и стружек, что хватило бы упаковать собор святого Павла, сумей кто-нибудь построить такой большой ящик — задача для здешних верфей, наверное, вполне подъёмная. Многое из того, что Даниель примечал раньше, теперь сложилось в единую картину. Плоты в Бостоне, плывущие по реке Чарльз день за днём, и то, что уголь, угольный дым и копоть теперь в Лондоне повсюду, — всё говорило о спросе на древесину. Леса Старой и Новой Англии равно превращались в корабли — только дурак стал бы жечь дерево.
Лодочник не знал, какая из верфей принадлежит мистеру Орни — так их было много, — но тут Даниель смог ему подсказать. Только на одной разом строились три одинаковых трёхмачтовика. Рабочие, которые сидели на шпангоутах и перекусывали (видимо, пришло время перерыва), были ирландцы и англичане, в шерстяных шапках или с непокрытыми головами, несмотря на холодный ветер. Однако, когда лодка подошла ближе, Даниель разглядел двоих в огромных меховых шапках, присматривающих за работой.
Лодка проскользнула под нависающей кормой каждого из трёх кораблей. Средний был почти закончен, оставалось лишь покрыть его пышной резьбой, краской и позолотой. У двух других ещё обшивали досками корпус.
За кораблями взглядам открылся пирс. В его конце сидел на перевёрнутом бочонке человек в простой чёрной одежде. Он жевал пирог и читал Библию. Завидев лодку, человек аккуратно отложил и то, и другое, встал и протянул руку, чтобы поймать брошенный лодочником конец. В мгновение ока он сотворил великолепный узел, пришвартовав лодку к чугунной тумбе на пирсе. И сам узел, и безупречная сноровка должны были явственно показать всем и каждому, что перед ними избранник Божий. Чёрное платье — грубое, шерстяное, без всяких изысков — было в опилках и пакле. По мозолистым рукам и умению вязать узлы Даниель заключил, что это такелажный мастер.
На берегу колеи и мостки образовывали миниатюрный Лондон из улиц и площадей, только место домов занимали штабеля брёвен, бухты каната, тюки пакли и бочки со смолой. Вдоль склада под открытым небом, очерчивая восточную границу верфи мистера Орни, тянулась общественная дорога, которая переходила в лестницу на Лавендер-лейн, ближайшую к реке улицу в этой части Ротерхита.
— Храни вас Бог, брат, — обратился Даниель к такелажному мастеру.
— И тебя… сэр, — отвечал тот, оглядывая его с ног до головы.
— Я доктор Уотерхауз из Королевского общества, — сознался Даниель, — звание для грешника высокое и громкое, и не много почестей стяжало оно мне средь тех, кого прельстили удовольствия и лживые посулы Ярмарки Суеты. — Он глянул через плечо на Лондон. — Так можете меня именовать, коли желаете, для меня же наибольшая честь — называться братом Даниелем.
— Хорошо, брат Даниель, а ты, коли так, зови меня братом Норманом.
— Брат Норман, я вижу, что ты показуешь пример усердия тем, кого влечёт обманный блеск Праздности. Это я понимаю…
— О, брат Даниель, среди нас много добросовестных тружеников, иначе как бы мы справлялись с работой?
— Воистину, брат Норман, однако ты лишь усилил моё недоумение: никогда не видел я верфи столь большой и в то же время столь малолюдной. Где все остальные?
— Что ж, брат Даниель, должен с прискорбием тебе сообщить, что они в аду. Во всяком случае, в таком месте, которое в нашей юдоли скорбей ближе всего к аду.
Первой мыслью Даниеля было «тюрьма» и «поле боя», но это представлялось малоправдоподобным. Он уже почти остановился на «борделе», когда с другой стороны Лавендер-лейн донеслись громкие возгласы.
— Театр? Нет! Медвежья травля, — догадался он.
Брат Норман молитвенно прикрыл глаза и кивнул.
Заслышав крики, мастеровые, которые перекусывали неподалеку, встали и кучкой двинулись к лестнице. За ними на почтительном отдалении следовали двое русских, примеченные Дэниелем раньше. Теперь, не считая брата Нормана, на всей верфи осталось пять или шесть работников.
— Я поражён! — вскричал Даниель. — Неужто в обычае мистера Орни останавливать работу средь бела дня, чтобы его мастеровые могли поглазеть на кровавое и постыдное зрелище? Удивляюсь, как здесь вообще что-нибудь делается!
— Я — мистер Орни, — любезно отвечал брат Норман.
Сорок лет назад Даниель от стыда бросился бы в реку. Однако события последних месяцев научили его, что даже от такого унижения не умирают, как бы иногда ни хотелось. Надо было стиснуть зубы и продолжать. Он больше опасался за лодочника, который привёз его сюда и внимательно слушал весь разговор; у славного малого был такой вид, будто он сейчас рухнет с пирса.
— Прошу меня извинить, брат Норман, — сказал Даниель.
— Не стоит, брат Даниель; ибо как нам приблизиться к Богу, если не внимая справедливым обличениям добрых собратьев?
— Истинная правда, брат Норман.
— Не ведал бы ты, о сын Дрейка, что смеха достоин в парике и платье блудничем, когда бы я с любовию не раскрыл тебе глаза.
Новый взрыв голосов с Лавендер-лейн напомнил Даниелю, что, как всегда, нераскаянные грешники получают от жизни больше радостей.
— Я ознакомил работников со своим взглядом на подобного рода забавы, — продолжал брат Норман. — Несколько наших собратьев сейчас там, раздают памфлеты. Лишь Господь может их спасти.
— Я думал, вы — такелажный мастер, — сказал Даниель, как болван.
— Дабы служить примером на верфи, надо быть искусным во всех корабельных ремёслах.
— Понятно.
— Медвежий садок — вон там. Два пенса с человека. Прошу.
— О нет, брат Норман, я пришёл не за этим.
— Зачем же ты пришёл, брат Даниель? Затем лишь, чтобы поучить меня, как мне лучше управляться с делами? Желаешь ли проверить мои конторские книги? До вечера времени ещё много.
— Благодарю за любезное предложение, но…
— Боюсь, у меня под ногтями грязь, и тебя это коробит. Если ты согласишься прийти завтра…
— Ничуть, брат Норман. У моего отца, контрабандиста, подряжавшего на работу пиратов и бродяг, часто бывала грязь под ногтями после того, как мы всю ночь грузили неуказанный товар.
— Отлично. В таком случае, чем я могу быть полезен тебе, брат Даниель?
— Надо погрузить эти свёртки на тот из трёх кораблей, который, с Божьей помощью, первым отплывёт в Санкт-Петербург.
— Это не склад. Я не могу принять ответственность за то, что случится с грузом, пока он на моей верфи.
— Не страшно. Вора, его похитившего, будет ждать глубокое разочарование.
— Нужно разрешение господина Кикина.
— Это который?
— Маленького роста. Подходи к господину Кикину спереди, держа руки на виду, не то высокий тебя убьёт.
— Спасибо за совет, брат Норман.
— Пожалуйста. Господин Кикин уверен, что Лондон кишит раскольниками.
— Кто это такие?
— Судя по мерам предосторожности, которые принимает господин Кикин, раскольники — своего рода русские гугеноты, огромные, бородатые и умеющие далеко бросать гарпуны.
— Сомневаюсь, что я подхожу под это описание.
— Бдительность лишней не бывает. Ты можешь оказаться раскольником, вырядившимся в престарелого щеголя.
— Брат Норман, сколь отрадно мне быть вне удушливой атмосферы чопорной лондонской учтивости.
— На здоровье, брат Даниель.
— Скажи, слыхал ли ты о торговом корабле под названием «Минерва»?
— О легендарной «Минерве»? Или о настоящей?
— Я не слышал никаких легенд. Уверяю, интерес мой чисто практический.
— Я видел «Минерву» в сухом доке, сразу за поворотом реки, две недели назад, и могу сказать, что это не та, о которой гласит молва.
— Не понимаю, брат Норман. Мне недостает знаний касательно «Минервы», чтобы разгадать твою загадку.
— Прости, брат Даниель, я думал, ты также сведущ в морских легендах, как и в руководстве верфями. Французские моряки смущают легковерных, утверждая, будто некогда существовал одноименный корабль, обшитый до ватерлинии золотом.
— Золотом?!
— Которое можно было увидеть только при сильном крене, например, когда свежий ветер дует с траверза.
— Какая нелепость!
— Не совсем так, брат Даниель. Ибо враг скорости — ракушки, которыми обрастает корпус. Мысль обшить его металлом великолепна. Вот почему я, как и половина лондонских корабелов, сходил посмотреть на «Минерву», пока она была в сухом доке.
— И не увидел золота.
— Я увидел медь, брат Даниель, которая, в бытность свою новой, наверняка ярко блестела. При определённом освещении французы — католики, падкие до соблазнов мишурной роскоши — могли счесть её золотом.
— Ты думаешь, так и возникла легенда?
— Я уверен. Однако «Минерва» существует на самом деле — я видел её на якоре день или два назад меньше чем в полумиле отсюда. Вот, кажется, она, перед Лаймкилнским доком.
Брат Норман указал на отрезок реки, где покачивались на якорях не меньше сотни судов, из них треть — большие океанские трёхмачтовики. Даниель даже смотреть не стал.
— Она с острыми обводами и сильным завалом бортов — школа покойного Яна Вроома, прекрасно вооружённая, приманка и гроза пиратов, — продолжал брат Норман.
— Я провёл на «Минерве» два месяца и всё равно не отличу её с такого расстояния от других трёхмачтовиков, — сказал Даниель. — Брат Норман, когда корабли отплывут в Санкт-Петербург?
— В июле, если Бог даст и если пушки доставят вовремя.
— Любезный, — обратился Даниель к лодочнику. — Я пойду переговорить с господином Кикиным, а вас тем временем попрошу доставить записку капитану ван Крюйку на «Минерву».
Даниель вытащил карандаш и, примостив клочок бумаги на перевёрнутой бочке, написал:
Капитан ван Крюйк,
если в Ваши намерения входит совершить обратный рейс в Бостон, то я поручил бы Вам забрать оттуда и доставить мне в Лондон, желательно не позднее июля, некоторые вещи. Мой адрес: Королевское общество, Крейн-корт, Флит-стрит, Лондон.
Даниель Уотерхауз
Медвежий садок мистера Уайта
получасом позже
Примерно три четверти круга было отведено под стоячие места, остальную четверть занимали скамьи. Протиснувшись мимо нонконформистов, которые пытались не пропустить входящих или хотя бы сунуть им в руки памфлет, Даниель заплатил целый шиллинг за место на трибуне и мешок с соломой под костлявый старческий зад. Он сел на край скамьи в надежде, что успеет отскочить, если она рухнет — строил её явно не Рен. Отсюда Даниель мог смотреть прямо через арену в лица двум русским, которые пробились вперёд — подвиг нешуточный, учитывая, что расталкивать пришлось саутуоркских корабельных рабочих. Правда, высокий русский был настоящий великан — господин Кикин, стоящий впереди, едва доходил ему до ключицы. Зрителям, оказавшимся сзади, приходилось по очереди сидеть друг у друга на плечах.
За трибуной остановилась запряжённая четвёркой карета, которую оберегали от ротерхитской толпы кучер и лакеи в пудреных париках. Даниель удивился, что обладатель роскошного экипажа поехал смотреть медвежью травлю в такую даль. До театров и медвежьих садков Саутуорка можно было добраться без труда — какие-нибудь десять минут на лодке, — сюда же приходилось долго ехать мимо зловонных дубильных мастерских.
С другой стороны, будь эти люди брезгливы, они бы вообще избегали таких мест. Герб на дверце кареты был Даниелю незнаком, что наводило на мысль о его недавнем происхождении, а глядя в спину хозяину экипажа и двум его спутницам, ничего больше заключить не удавалось.
Кроме этих троих на трибуне сидели ещё несколько хорошо одетых господ, видимо, прибывших по воде, каждый поодиночке. Даниель вынужден был признать, что не особо выделяется на их фоне.
Зрелище строго следовало классическим канонам, то есть пяти минутам собственно потехи предшествовал часовой балаган. Сначала громко и цветисто объявляли, что публике предстоит увидеть (в промежутках, чтобы она не заскучала, провели несколько петушиных боёв), затем вывели на цепях несколько больших псов и прогнали их рысью по арене, чтобы зрители могли сделать ставки. Те, кому бедность или благоразумие не позволяли рисковать деньгами, забавлялись тем, что, протиснувшись вперёд, пытались ещё сильнее разозлись собак, бросая в них камнями, тыча палками и выкрикивая их клички. Звали псов Король Луи, Король Филипп, Маршал Виллар и Король Яков Третий.
Один из зрителей явился с опозданием и сел на край скамьи тремя рядами ниже Даниеля. Это был нонконформист в чёрном платье и широкополой шляпе. Он принёс корзину, которую поставил на скамью перед собой.
Джентльмен, приехавший в карете, встал и, положив изуродованную шрамом руку на эфес шпаги, уставился на пришлеца. Даниель чувствовал, что когда-то видел этого господина, но решительно не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Так или иначе, тот всем своим видом выражал желание вышвырнуть нонконформиста, который здесь выглядел так же уместно, как в Ватикане. Выполнить намерение ему помешали спутницы, сидящие по бокам. Выразительно переглянувшись, дамы разом — как будто одна была зеркальным отражением другой — взяли его под локотки. Джентльмену это явно пришлось не по нраву — он высвободил руки так резко, что едва не заехал спутницам по лицу.
Зарождающийся скандал прервало объявление, что прибыл «герцог Мальборо». Все, кроме джентльмена, Даниеля и нонконформиста, разразились криками. Десятка два стоячих зрителей согнали с дороги, чтобы вкатить ярко раскрашенный фургон, вернее, будку на колёсах — её втащили на арену с нарочитой медлительностью, чтобы подогреть страсти и увеличить ставки.
Джентльмен собрался сесть. Он расправил камзол на заду и обернулся. На лице его проступило некоторое удивление. Даниель проследил его взгляд и заметил, что карета, запряжённая четвёркой, исчезла. Вероятно, кучер решил отъехать в более тихое место, чтобы предстоящая забава и крики не напугали лошадей.
Даниель снова взглянул на джентльмена: тот похлопал себя по животу и, нащупав толстую золотую цепочку, вытащил из кармашка часы. На цепочке болталось что-что бурое и сморщенное — кроличьи лапки? Какие-то другие талисманы на счастье? Джентльмен открыл крышку часов, посмотрел время и, наконец, сел.
Они не пропустили ничего интересного. За это время служители успели только вытащить из-под дверцы будки цепь и закрепить её на вбитом в землю столбе. Всё совершалось с нарочитой торжественностью и потому медленно. Теперь, наконец, дверцу открыли, явив взглядам Герцога Мальборо. И тут господина Кикина со спутником постигло жестокое разочарование. Возможно, для европейского чёрного медведя Герцог был достаточно велик, но наверняка казался недомерком по сравнению с бурыми сибирскими медведями, наводящими страх на жителей Московии. Хуже того, когда отважный укротитель раскрыл Герцогу пасть, стало видно, что клыки его спилены до безобидных пеньков.
— Самые страшные враги Герцога: Гарлей и Болингброк! — объявил распорядитель.
Эффектная пауза. Затем дверцу огромной конуры подняли лебёдкой, как решётку крепостной башни. Ничего не произошло. В конуре взорвали шутиху. Подействовало: на арену выбежали Гарлей и Болингброк, два одинаковых пуделя в белых париках. Полуослепшие и оглушённые, они бросились в разные стороны: Гарлей к краю арены, Болингброк — в центр. Медведь одним ударом сбил его с ног, перевернул на спину и провёл второй лапой по его животу.
Большой кусок собачьей требухи силуэтом взмыл в белое небо, вращаясь, так что капли крови разлетались в стороны по спирали. Он, казалось, завис в воздухе, и Даниель уже думал, что кровавый ошмёток упадёт на него, но тот звонко шмякнул о лиф кобальтово-синего платья одной из спутниц джентльмена и по животу сполз к ней на колени. Даниель определил, что это лёгкое. Даме хватило ума вскочить сначала и завизжать потом.
Всё — от взрыва петарды до аплодисментов, которыми публика отметила роль дамы, — заняло не больше пяти секунд.
Одной даме пришлось отвести другую в сторонку, чтобы та успокоилась. Поскольку экипаж отъехал, всё происходило на трибуне, на глазах у зрителей, составляя забавное дополнение к долгожданной потехе: больших псов наконец-то спустили с цепи. Сперва Короля Луи и Короля Филиппа. Они шли прямиком на медведя, пока тот не заметил их и не встал на задние лапы. Тут они передумали и решили проверить, не лучше ли просто хорошенько его облаять. Тогда спустили Маршала Виллара и Короля Якова Третьего. Вскоре между медведем и псами завязалось некое подобие драки.
Зрители на стоячих местах достигли той же степени остервенения, что и псы, поэтому несколько секунд никто не замечал, что драка прекратилась, а медведь и его противники, не обращая внимания друг на друга, уткнулись мордами в землю.
Собаки виляли хвостами.
Зрители умолкли почти разом.
Что-то красное летело на арену с трибуны и шмякалось на землю, словно мокрое тряпьё.
Все это заметили и проследили траекторию до нонконформиста. Теперь он стоял, пристроив корзину на скамью рядом с собой. Из корзины сочилась кровь. Пуританин вытаскивал из неё куски сырого мяса и бросал на арену.
— Вы, люди, подобно сим зверям несмысленным, дерётесь для забавы и трудитесь для обогащения таких, как этот паскудник — мистер Чарльз Уайт, — единственно лишь потому, что алчете! Алчете помощи, врачевания, духа! Однако процветание земное и небесное легкодостижимо! Оно падает с небес, как манна! Вам надо только его принять! Утолите же свой голод!
До сего момента аттракцион с бросанием мяса был по-своему занимателен; особенно зрителям понравилось, когда джентльмена в лицо назвали паскудником. Однако с каждым мгновением слова пуританина больше смахивали на проповедь, которую публика выслушивать не собиралась. Поднялся общий ропот, как в парламенте. Даниеля впервые посетило сомнение, сумеет ли он сегодня выбраться из Ротерхита с руками, ногами и головой.
Мистер Чарльз Уайт, вероятно, задав себе тот же вопрос, прыгнул через несколько скамей, угрожающе поглядывая на служителей. Из этого и из слов нонконформиста Даниель заключил, что Уайт владеет садком либо, по крайней мере, вложил в него средства.
— Отличное предложение! Думаю, я угощусь вот этим! — Последнее слово было приглушено ухом нонконформиста.
Откусывание уха происходило примерно так же, как двадцать лет назад в кофейне на глазах у Даниеля. Руку, которая держала голову нонконформиста, поворачивая её туда-сюда, по-прежнему уродовал шрам от кинжала Роджера Комстока. Даниель не имел ни малейшего желания снова это наблюдать. Однако публика была в восторге. Другими словами, Чарльз Уайт направил чувства толпы в нужное ему русло, представив ей за потраченные деньги какое-никакое увеселение.
Ухо он в этот раз откусил куда быстрее — сказывалась приобретённая с годами сноровка — и поднял над головой. Толпа зааплодировала; тогда мистер Уайт стал поворачивать ухо, давая ему «послушать» ту сторону, с которой хлопали громче. Поняв шутку, зрители вошли во вкус и принялись шуметь наперегонки. Уайт тем временем кружевным платком утёр с губ кровь.
— Это ухо довольно твёрдое и с душком, — объявил он, когда толпе прискучило хлопать. — Боюсь, оно продубилось от слишком частого выслушивания проповедей. Для моей часовой цепочки оно не годится, только на корм собакам.
Уайт перепрыгнул через барьер на арену — немало изумив всех своей физической силой — и скормил ухо уцелевшему пуделю, Гарлею.
Вид собаки, поглощающей кусок человека, видимо, принёс публике то удовлетворение, за которым она сюда пришла. Никто не выразил особого восторга, но и возмущения не последовало. Начались разговоры и перешучивания. Несколько зрителей двинулись к выходу, чтобы успеть до того, как начнётся давка. Остальные переминались на месте, время от времени поглядывая на пуделя в съехавшем парике, который, скаля клыки, жевал ухо задними зубами.
Даниель вспомнил про одноухого нонконформиста, которого последний раз видел, когда тот спускался с трибуны, издавая ужасные звуки: наполовину стоны боли, наполовину пение гимна. Корзина его перевернулась во время борьбы с Чарльзом Уайтом. Несколько кусков требухи выпали на скамью и теперь лежали в лужицах тёмной крови, от которых ещё поднимался пар. Даниель узнал огромную щитовидную железу, явно извлечённую из лошади или такого же большого животного, убитого не далее как пятнадцать минут назад.
Нонконформист, шатаясь, вышел на открытое пространство за трибунами, где его уже встречали больше десятка собратьев. Все они натянуто улыбались. Карета мистера Уайта так и не вернулась; место её занимала повозка куда более грубая и куда более подходящая для здешних трущоб: фургон живодёра, весь в коросте засохшей крови и блестящих потёках свежей. С трибуны Даниель мог видеть то, что оставалось скрытым от мистера Уайта, стоящего на арене: в фургоне лежала разрубленная лошадь. Не старая кляча, а лоснящееся, ухоженное животное.
Это была одна из упряжных мистера Уайта.
Кучер и лакеи мистера Уайта стояли тесной кучкой в четверти мили по дороге, у неподвижной кареты, в которую теперь были впряжены только три лошади.
Даниель ещё раз взглянул на нонконформистов и заметил у каждого за поясом по меньшей мере один пистолет.
Самое время было уходить. Даниель сошёл вниз, стараясь, чтобы это не выглядело паническим бегством, и не позволил себе оглянуться или замедлить шаг, пока не очутился по другую сторону арены от того, что происходило или должно было начаться позади скамей.
— Господин Кикин, — сказал он, подходя спереди (руки на виду) и отвешивая церемонный поклон. — Я к вам с поручением от барона фон Лейбница, советника его императорского величества царя Петра.
Вступление было несколько торопливое, но Чарльз Уайт, на другой стороне арены, наконец-то осознал, как поступили с ним диссиденты, и постепенно вскипал яростью, которую сдерживало лишь численное превосходство вооруженных противников, готовых без колебаний отдать жизнь за правое дело. В таких условиях был лишь один способ привлечь внимание господина Кикина — упомянуть Петра Великого.
Приём сработал. Кикин не выразил и малейшего сомнения в том, что Даниель говорит правду. Из этого следовал вывод, что Лейбниц не преувеличивал, описывая Петра; тот всё делал по-своему, и его слуги, такие как Кикин, быстро лишились бы головы, если бы не поспевали за неожиданными поворотами царской воли. Итак, Даниелю удалось увлечь господина Кикина и его спутника в сторонку, подальше от безобразного зрелища на трибуне. Мистер Уайт осыпал диссидентов угрозами и проклятиями, те заглушали его пением гимнов, а самые глупые зрители кидали в них камни.
От знающих людей Даниель слышал, что у русских широкие скулы. У Льва Степановича Кикина (как тот представился, когда они оставили позади медвежий садок с начавшейся там дракой и перебрались на верфь мистера Орни) скулы, безусловно, имелись.
Однако пухлое, грубовато слепленное лицо было настолько лишено национальных черт, что никто, живущий, скажем, севернее Парижа, не признал бы по нему выходца из далёкой страны, решительно во всём отличной от остального христианского мира. Даниель чувствовал бы себя спокойнее, окажись у Кикина зелёная кожа и три глаза, напоминающие каждому, что перед ним человек с иной системой взглядов. В отсутствии этого Даниель постарался сосредоточиться на диковинной шапке и великане-телохранителе, который ни на миг не переставал высматривать на горизонте раскольников.
Со своей стороны, Кикин, который был, как-никак, дипломат, слушал с видом насмешливо-снисходительным, что довольно скоро начало Даниеля раздражать. Не важно; он прибыл сюда не для того, чтобы завести дружбу с Кикиным (или с Орни, если на то пошло), а чтобы перегрузить научный хлам на склад для дальнейшей отправки в Санкт-Петербург.
Меньше чем через час с делом было покончено, и Даниель возвращался в лодке на другой берег. Он попросил доставить его на пристань Тауэра.
Лодочник грёб изо всех сил — не для того, чтобы угодить Даниелю, а чтобы скорее оказаться подальше от Ротерхита. Они наискосок пересекли Лондонскую гавань, преодолев примерно милю против течения до Уоппинга. Ещё через милю поравнялись с «Рыжей коровой», где Даниель и Боб Шафто задержали Джеффриса, затем с церковью святой Екатерины и, наконец, с длинной Тауэрской набережной. В ней располагалась арка — Ворота изменников, через которые Даниель однажды сумел проникнуть уговорами, но не видел резона повторять попытку сейчас. Он велел лодочнику грести дальше.
Сразу за углом Тауэра река как будто резко поворачивала вправо; на самом деле там располагался Тауэрский док, пережиток системы рвов. Над стоячей водой высился невероятный комплекс ворот, шлюзов, дамб и подъёмных мостов, более или менее относящийся к Львиной башне и служащий входом в Тауэр. Здесь Даниель расплатился с лодочником и сошёл на пристань.
Внешняя часть комплекса была открыта для всех желающих. Даниель без помех миновал ворота, и лишь в начале Минт-стрит его впервые спросили, чего ему здесь надо. Он ответил, что идёт к сэру Исааку Ньютону. К нему немедленно приставили сопровождающего: ирландца-рядового из Собственного её величества блекторрентского гвардейского полка. Вместе они прошли по Минт-стрит, узкой, шумной и длинной. В начале её стояли дома — здесь жили работники Монетного двора, а дальше, друг напротив друга, располагались привратницкая и парадный вход Монетного двора с лестницей на второй этаж.
Гвардеец отвёл Даниеля в канцелярию. С первого взгляда было видно, что это одно из тех тоскливых мест, где посетители подолгу дожидаются, когда их примут.
Даниель не огорчился — передышка была сейчас даже кстати. На тот маловероятный случай, что он впрямь друг сэра Исаака, сторож из привратницкой принёс ему чашку чаю. Даниель сидел, прихлёбывал чай и, ощущая мерный пульс падающих молотов, смотрел на въезжающие телеги с углем и выезжающие — с навозом. Наконец пришёл человек и сказал, что сэра Исаака нет, но ему можно оставить записку, что Даниель и сделал.
На обратном пути, в воротах, он встретил рядового, провожавшего его в здание канцелярии.
— Вам приходилось воевать? — спросил Даниель, ибо солдат не выглядел совсем уж зелёным новобранцем.
— Я маршировал с капралом Джоном в одиннадцатом, сэр, — последовал ответ. Капралом Джоном называли герцога Мальборо его солдаты.
— А, прорыв линии у Арле и Обиньи! — воскликнул Даниель. — Тридцать миль за день, если я не ошибаюсь?
— Тридцать шесть миль за шестнадцать часов, сэр.
— Славное дело!
Даниель не стал спрашивать про кампанию двенадцатого года, окончившуюся плачевно после того, как первого января королева отправила Мальборо в отставку.
— Был у меня знакомый в вашем полку, сержант — он оказал мне услугу, и я сумел отплатить ему тем же. С тех пор минуло двадцать пять лет войны. Вряд ли он по-прежнему здесь…
— Только один человек прошёл с полком все эти двадцать пять лет, — отвечал рядовой.
— Страшновато звучит. Как его имя?
— Сержант Боб, сэр.
— Боб Шафто?
Рядовой позволил и себе улыбнуться.
— Он самый, сэр.
— Где он сейчас?
— В наряде по Монетному двору.
— Так он там? — Даниель указал на Минт-стрит.
— Нет, сэр, вы найдёте его на Лондонском мосту, сэр. Наряд довольно необычный, сэр.
Даниель не заметил солдат, занятых каким-нибудь делом, обычным или необычным, пока не прошёл почти весь мост. По крайней мере эта часть Лондона на его памяти практически не изменилась. Разумеется, одежда на людях и в лавках по сторонам дороги была иная. Однако солнце клонилось к закату, и между домами царил полумрак, в котором старческие глаза почти ничего не различали. На этих отрезках пути Даниель легко мог вообразить себя десятилетним мальчиком на побегушках в республике Оливера Кромвеля. Грёзы прерывались, стоило ему выйти на открытое место. Разрывы между зданиями были оставлены для предотвращения пожаров и тянулись примерно на вержение камня. Солнце било справа, и, отворачиваясь, Даниель видел Темзу с двумя тысячами кораблей, разрушавшими иллюзию, будто он вернулся в простые старые времена. Даниель пробегал открытые места, как крыса — круг света от фонаря, и спешил укрыться в прохладных узких каньонах между старыми зданиями.
Последний и самый короткий из противопожарных разрывов был уже почти в Саутуорке, на семи восьмых пути. Дальний его конец венчало каменное сооружение, древнее с виду, хотя и насчитывающее всего триста лет. Самое высокое на мосту, оно служило одновременно сторожевой башней и преградой на пути нежеланных гостей. Его возвели в те времена, когда военные действия были незатейливей, и если дозорный на башне видел подступающих с юга французов или сарацин, он опускал решётку и бил тревогу. Называлось это Большие каменные ворота.
Последний из фахверковых домов стоял над одной опорой моста, Большие каменные ворота — над следующей к югу, а противопожарный разрыв между ним совпадал с самым широким из двадцати пролётов Лондонского моста. Назывался он Рок-лок. Пассажирам, рискнувшим преодолеть в лодке стремнину под мостом, иногда предлагали сделать крюк и пройти Рок-локом, как наиболее безопасным; впрочем, у ветеранов это считалось малодушием.
Открытый участок моста загадочным образом притягивал мечтателей и безумцев. Один из таких (трудно сказать, безумец или мечтатель) стоял спиной к проезжей части, лицом к Темзе. Человек этот, одетый в розовый камзол, не любовался видами западного Лондона. Свесив седую, коротко остриженную голову через парапет, он смотрел на водорез под мостом и, взмахивая тростью чёрного дерева, приговаривал: «Полегче, полегче, помни, зачем ты это делаешь — если он треснет и молоко будет вытекать, то вся работа насмарку». Слова звучали бредом умалишённого, однако произносились с усталым спокойствием человека, который командует другими не первый год.
Сбоку от мостовой стоял, задрав голову, солдат в красном мундире. Даниель посторонился, чтобы не мешать прохожим, и проследил взгляд солдата. Тот смотрел на крышу Больших каменных ворот, где трудились двое молодцов в старых грязных рубахах.
Большие каменные ворота, наряду с Ладгейтом, Темпл-баром, Олдгейтом и ещё несколькими, входили в число старейших. В соответствии с древней чтимой традицией, общей для почти всех культурных народов, на таких воротах выставляли останки казненных преступников, чтобы даже неграмотный видел, что вступает на территорию, где блюдётся закон. Для этих целей над Большими каменными воротами были закреплены длинные железные пики, расходящиеся, как лучи тёмного нимба от чела падшего ангела. На концах их всегда красовались десять-двадцать голов в разной стадии разложения. Когда с Тауэрского холма или с многочисленных лондонских виселиц привозили новые головы, место для них освобождали, сбрасывая старые в реку. Здесь, как во всех прочих сферах английской жизни, царила строгая иерархия. Головы знатных изменников, казнённых в Тауэре, оставались на пиках долго по истечении срока годности. Карманников или курокрадов, напротив, сбрасывали в Темзу так быстро, что вороны не успевали толком их обклевать. Такая операция, видимо, происходила сейчас, потому что с башни доносился властный голос, обращённый к молодцам в рваных рубахах: «Не вздумайте трогать этого: барон Гарланд Гарландский, казнокрадство, 1707, казнь через повешение… да, вот эту можете осмотреть».
— Спасибо, сэр. — Один из молодцов ухватился за пику, аккуратно выдернул её из гнезда и развернул голову казнённого лицом к своему напарнику, который принялся ощупывать её, как френолог.
— Должна сгодиться. Вроде крепкая.
— Тащи, — распорядился стоящий внизу солдат в красном мундире.
Малый спустился по винтовой лестнице со скоростью, свидетельствующей о недюжинной силе и удали, и передал голову солдату. Тот кивнул и, сунув её под мышку, подбежал к человеку в розовом, который, взяв голову двумя руками, с криком: «Лови!» подбросил её в воздух. Даниель не видел траекторию, но мог определить её по выражениям лиц солдата и розового: напряжённое ожидание, когда голова устремилась по параболе вниз, досада, когда внизу её чуть не упустили, и шумное облегчение, когда в конце концов всё обошлось благополучно. Солдат развернулся молодцевато, как на параде, и зашагал к Большим каменным воротам с видом человека, увернувшегося от пушечного ядра.
Даниель встал на его место. Перегнувшись через парапет, он мог видеть плоскую поверхность водореза вокруг опоры: островок щебня футах в двух над водой. Двое солдат в красных мундирах руководили двумя несчастными, вокруг которых уже образовалась россыпь полуразложившихся раскуроченных голов. Эти двое работали на холоде, голые по пояс, вероятно, потому что их спины покрывали кровоточащие раны от плетей. При этом оба были молодые и крепкие — Даниель предположил, что это солдаты, наказанные за какую-нибудь провинность. Работа солдат состояла в том, чтобы ловить брошенные сверху черепа и ножовкой спиливать им верхнюю часть.
Пока Даниель смотрел, один из них закончил пилить и половинка черепа упала на камни. Солдат поднял её, осмотрел и подкинул вверх.
Человек в розовом поймал черепушку в полете и внимательно осмотрел. На учёный взгляд Даниеля, образчик был превосходен: сутуры не разошлись, кость плотная и прочная.
— Если вы говорите со мной, Даниель Уотерхауз, то я вас не слышу, — сказал розовый. — Как многие тугоухие, я научился не кричать и не повторять по многу раз одно и то же. А вот вам придётся делать и то, и другое.
Теперь Даниель сообразил, что на Бобе Шафто — армейский мундир, некогда красный, а ныне сильно вылинявший от стирки. По этому, и по тому, как аккуратно всё было заштопано, он заключил, что Боб женат.
— Абигайль здорова, спасибо, — объявил Боб, — простите, что отвечаю, не услышав вопроса — тугоухим приходится читать не только по губам, но и по глазам. А если вы не собирались про неё спрашивать, так сами виноваты.
Даниель кивнул.
— Какого дьявола вы это делаете? — прокричал он, указывая на череп.
Боб вздохнул.
— На Монетном дворе плавят довольно много серебра с захваченных испанских галеонов. При этом образуются испарения — о которых вы наверняка знаете больше моего, — и те, кто ими дышит, болеют. Есть лишь одно средство. Сэр Исаак узнал про него от немецких мастеров, которых нанимал во время Великой Перечеканки: пить молоко из человеческого черепа. Несколько работников слегли, поэтому сэр Исаак затребовал черепа и коров. А вы что здесь делаете, вашблагородие?
— В Лондоне? Я…
— Нет, здесь. — Боб указал на мостовую у Даниеля под ногами. — На меня захотели полюбоваться?
— Я был в Тауэре по другому делу, и мне пришло в голову нанести вам визит.
Боб, судя по всему, не мог решить, можно ли Даниелю верить. Он перевёл взгляд за реку и посмотрел на Уайтхолл, рассеянно отдирая от черепа отставшую на срезе кожу. Покойник был рыжеволос, коротко стрижен, с веснушчатой лысиной.
— Не пойду, — сказал Боб.
— Куда?
— В секретную армию маркиза Равенскара, — отвечал Боб. — Я служу королеве, долгих ей лет царствования, и если Претендент высадится на этом острове, буду ждать указаний от Джона Черчилля. А вот армия вигов Боба Шафто не получит, спасибо за предложение.
Гук, даром что горбатый и кособокий, всюду старался ходить пешком, хотя как городской землемер и успешный архитектор мог бы держать выезд. Даниель только сейчас понял почему. У человека, который хочет что-нибудь успеть в Лондоне, просто нет времени тащиться в экипаже по запруженным улицам. Портшез — не более чем компромиссное решение. Препятствий к пешей ходьбе всего два: грязь на улицах и нежелание ронять собственное достоинство. После увиденного сегодня Даниель не мог всерьёз ругать состояние лондонских улиц; достоинство он и без того растерял, а зрелище отрубленных голов навело его на всегдашние мысли о суете сует. Длинные горькие пассажи из Екклесиаста звучали в голове по пути через мост и до Ист-чипа, где Даниель повернул влево. Небо на западе было малиново-лиловым, купол святого Павла на фоне заката отливал синевой. По улицам прохаживались караульные, и Даниель подумал, что не такое уж сущее самоубийство гулять вечером одному. Он дошёл до собора к началу вечерни и решил зайти, чтобы дать роздых ногам.
Внутри стоял недостроенный орган, и Даниель больше размышлял о нём, чем вникал в смысл богослужения. Рен неодобрительно назвал орган «пучком дудок», и Даниель прекрасно понимал недовольство архитектора. Он сам когда-то проектировал здание и следил за строительством, а потом с тоской наблюдал, как хозяин забивает дом финтифлюшками и мебелью. «Пучок дудок» был не единственной причиной трений между Реном и королевой Анной по поводу декора. Оглядываясь по сторонам, Даниель понимал, что не всё здесь выглядит так, как задумал Рен. И всё же оставалось признать, что собор украшен не так уж безвкусно, по крайней мере если сравнивать с другими барочными постройками. А может, Даниель просто успел привыкнуть к этому стилю.
Ему подумалось, что затейливое убранство барочных храмов — замена сложных вещей, созданных Богом и окружавших людей, когда те жили близко к природе (или того, что видел Гук в капле воды). Входя в церковь, они видят сложные вещи, созданные человеком в подражание Богу, однако идеализированные и застывшие, примерно как математические законы натурфилософии применительно к мироустройству, которое она пытается объяснить.
К тому времени, как закончилась служба, на улицах стемнело. Идти пешком Даниель побоялся и до Крейн-корта доехал в наёмном экипаже.
Прибыла записка от капитана ван Крюйка, однако написана (и, вероятно, составлена) она была Даппой.
Доктор Уотерхауз,
мы рассудили, что везти Ваш груз пусть менее почётно, зато не столь опасно, как Вас лично, и посему соглашаемся. Мы намерены покинуть Лондонскую гавань во второй половине апреля и вернуться в июле. Если этот срок Вас устраивает, просьба любезно сообщить приблизительный вес и объём груза, который Вы хотели бы отправить обратным рейсом.
До отплытия Даппа сойдёт на берег, чтобы навестить своего издателя на Лейстер-сквер, неподалёку от Вашего теперешнего жилья. С Вашего позволения он мог бы встретиться с Вами в тот же день для заключения контракта; ибо перо его столь же разносторонне, сколь и его язык.
ван Крюйк
Верфь Орни, Ротерхит
12 марта 1714
Даниель полагал, что вопрос Орни, Кикина и научного хлама решён раз и навсегда. Однако две недели спустя, утром, миссис Арланк вручила ему письмо, написанное в спешке четверть часа назад (на нём стояло не только число, но и время).
Милостивый государь!
Адское зарево на востоке сегодня, в раннем часу утра, известило всех лондонцев, которым случилось взглянуть в ту сторону, о бедствии в Ротерхите. Вы и сейчас можете наблюдать поднимающийся оттуда столб, состоящий более из пара, нежели из дыма, ибо пожар потушен, — после того, впрочем, как он уничтожил один из кораблей Его Императорского Величества. Меня, естественно, спешно вызвали на место. Моё письмо (за торопливость которого я приношу извинения) доставит Вам наёмный экипаж. Прошу известить кучера, присоединитесь ли Вы ко мне в Ротерхите (в каковом случае он доставит Вас за мой счёт) или нет (в каковом случае соблаговолите любезно его отпустить).
Кикин
Даниель не знал, с какой стати он должен отзываться на завуалированный призыв господина Кикина. На верфи мистера Орни случился пожар — весьма прискорбно. Однако Даниель тут человек практически сторонний. Кикин очень неглуп и прекрасно это понимает. Тем не менее он пошёл на некоторые затраты и пустил в ход свой самый дипломатический английский, чтобы пригласить Даниеля в Ротерхит.
В конце концов Даниель решил ехать не потому, что видел в этом какой-то смысл, а потому, что не видел причин не ехать. Даже такое развлечение казалось предпочтительнее сидения в Крейн-корте. По дороге он совершенно убедил себя, что поступает в корне неверно, однако тогда уже поздно было что-нибудь менять. До места добрались примерно к полудню. Даниель вышел из кареты на Лавендер-стрит и с её олимпийской высоты обозрел всю верфь.
Стояла безветренная тишь, белый дым стлался по земле, превращая штабеля досок в прямоугольные острова. Их пожар не затронул. Даниель отыскал взглядом поддон, на который сложил натурфилософский груз из Крейн-корта. Если не считать подпалин от упавших угольев на брезенте, здесь тоже ничто не пострадало.
Успокоившись, Даниель перевёл взгляд на стапели, где стояли три царских корабля. Пожар начался в среднем из трёх корпусов. Насколько понял Даниель, его даже не пытались спасти. Два других были накрыты мокрой парусиной. Холст теперь явно не годился на паруса, однако видно было, что он почти не горел. По следам на берегу и другим признакам можно было заключить, что рабочие передавали вёдра по цепочке, чтобы смачивать парусину и, возможно, заливать средний корпус. Надо думать, кто-то поднял тревогу, мистер Орни и рабочие прибежали на верфь. Однако центральный корабль они спасти не успели. Видимо, огонь вспыхнул в трюме, и его заметили не сразу. Обшивка обоих бортов прогорела насквозь; не оставалось сомнений, что киль тоже поврежден. Страховщики мистера Орни должны будут констатировать полную гибель объекта.
Воздух над сгоревшим корпусом по-прежнему колыхался от жара. Сквозь него можно было рассмотреть странно искажённые фигуры людей в лодках, которые глазели на сгоревший остов, как другие смотрят медвежью травлю.
Даниель отыскал лестницу и спустился на верфь. Между штабелями пахло, как на обычном пожарище, однако к запаху гари примешивался едкий химический дух, которому здесь неоткуда было взяться. Последний раз Даниель обонял его не так давно в Крейн-корте, сразу после взрыва адской машины, и неоднократно до того, но впервые — сорок лет назад на собрании Королевского общества. Почётный гость: Енох Роот. Тема: новый элемент под названием фосфор. Светоносный. Вещество с двумя примечательными свойствами: оно светится в темноте и склонно к самовозгоранию. У Даниеля сжалось сердце: может быть, это он виноват в несчастье, среди вещей из Крейн-корта случайно оказался образец фосфора, который и стал причиной пожара. Кикин вызвал его, чтобы предъявить иск. Допущение было совершенно фантастическое, из разряда нелепых страхов, мучивших Даниеля в последнее время. Он подошёл к поддону и убедился, что ничего такого не произошло.
Кикин и Орни отыскались на одном из уцелевших кораблей. Оба спасённых корпуса были до сих пор укрыты мокрой парусиной, вероятно, на случай, если огонь разгорится снова. Кикин и Орни расхаживали по продольным мосткам, настеленным для того, чтобы работники могли добраться до верхней части шпангоутов, а теперь служивших командным и наблюдательным пунктом для хозяина и заказчика.
Оба с интересом смотрели, как Даниель карабкается по приставной лестнице, затем, поскольку он не упал и не умер по пути, а вылез наверх, поздоровались. Орни улыбался, как на похоронах, Кикин — какие бы чувства ни испытал он сегодня утром — был собран и точен. «Вы приехали», — повторил он несколько раз, как будто видел в событии нечто знаменательное. Наконец Орни вытер измазанное лицо мокрой парусиной. Тут же подбежал мальчик с ведром пива и подал хозяину полный черпак.
— Да благословит тебя Бог, сынок, — сказал Орни и в несколько впечатляющих глотков перелил пиво в себя.
— Пожар начался рано утром? — предположил Даниель.
— В два часа ночи, брат Даниель.
— Значит, горело долго, прежде чем кто-нибудь заметил.
— О нет, брат Даниель, тут вы попали пальцем в небо. Я держу ночного сторожа, потому что в этих краях полным-полно жохов.
— Сторожам случается заснуть.
— Благодарю, брат Даниель, за столь ценные сведения; вы, как всегда, зорко видите расхлябанность и непорядок. Так знайте: у моего сторожа две собаки. В начале третьего обе подняли лай. Сторож учуял едкую вонь, увидел дым и поднял тревогу. Я был здесь через четверть часа. Пламя распространялось с невероятной скоростью.
— Вы подозреваете поджог? — спросил Даниель. Мысль эта только что пришла ему в голову, и, не успев её высказать, он устыдился собственной глупости. Орни и Кикин вежливо постарались скрыть недоумение. Уж Кикин-то подозревал бы поджог, даже если бы всё свидетельствовало об обратном; как-никак, корабли были военные, а Россия вела войну.
Что теперь Кикин будет думать о Даниеле?
— Видели вы либо сторож кого-нибудь чужого?
— Исключая вас, брат Даниель? Только грабителей, которые подошли позапрошлым вечером на лодке. Собаки залаяли, и грабители поспешили скрыться. Однако они тут ни при чём — корабль загорелся не вчера, а сегодня.
— Не могли ли эти люди подбросить небольшой предмет в такое место — скажем, в льяло, — где он бы пролежал незамеченным двадцать четыре часа?
Орни и Кикин смотрели на него во все глаза.
— Корабль очень… был очень велик, брат Даниель, и в нём много укромных уголков.
— Если в трюме сгоревшего корабля найдут часовой механизм, сделайте милость, поставьте меня в известность.
— Вы сказали «часовой механизм», брат Даниель?
— Он может быть искорёжен до неузнаваемости в результате сгорания фосфора.
— Фосфора?!
— Ваши люди каждое утро должны осматривать трюмы и другие помещения уцелевших кораблей.
— Так и сделаем, брат Даниель!
— У вас есть страховщики в Сити?
— Контора по страхованию от огня «Общее дело» на Сноу-хилл!
— Располагайте мною, брат Норман, если контора по страхованию от огня «Общее дело» заподозрит в поджоге вас.
— У тебя есть скрытые достоинства, брат Даниель. Прошу забыть моё упорное нежелание их видеть.
— Прошу простить, что я прятал свечу свою под сосудом, брат Норман.
— И впрямь, в вас много чего сокрыто, доктор Уотерхауз, — сказал Кикин. — Буду премного обязан, если вы проясните ваши слова.
— Едкий запах, на который жаловался ваш сторож и который по-прежнему здесь ощущается, происходит от горящего фосфора. Последний раз я обонял его тридцать первого января в Крейн-корте. — И Даниель коротко пересказал события того вечера.
— Весьма занимательно, — сказал Кикин. — Однако корабль не взорвался. На нём вспыхнул пожар.
— Те, кто способен создать адскую машину, приводимую в действие часовым механизмом, могут настроить её по-разному, — отвечал Даниель. — Я предполагаю, что в ней используется фосфор, который должен вспыхнуть в определённое время. В одном случае огонь воспламенил бочонок с порохом. Во втором случае он мог просто поджечь большее количество фосфора или иного горючего вещества, например ворвани.
— Коли так, обе машины изготовлены одними людьми! — воскликнул мистер Орни.
— Этим должны заняться ваши констебли! — провозгласил Кикин.
— Поскольку злоумышленники скрылись, констебли тут не помогут, — указал Даниель. — Обращаться следует к судье.
— И что он сделает? — фыркнул Кикин.
— Ничего, — признал Даниель, — пока к нему не приведут обвиняемого.
— И кто его должен привести?
— Обвинитель.
— Так идём к обвинителю!
— В Англии не идут к обвинителю, как к констеблю или сапожнику. Обвинителем становится истец. Мы как потерпевшие от адской машины должны возбудить преследование против злоумышленников.
Кикин по-прежнему недоумевал.
— Вы хотите сказать, что каждый из нас должен возбудить свое преследование, или…
— Это возможно, — отвечал Даниель, — но полагаю, будет больше проку… — последнее слово было выбрано нарочно, чтобы усладить слух мистера Орни, который и впрямь сразу встрепенулся, — если вы, и вы, и я, и представители «Общего дела», коли пожелают, и мистер Тредер, и мистер Арланк объединим усилия.
— Что ещё за Тредер и Арланк? — спросил Кикин. (Даниель, рассказывая о происшествии в Крейн-корте, не упомянул имён.)
— Можно сказать, — объявил Даниель, — что это ещё два члена нашего клуба.
Склеп в Клеркенуэлле
начало апреля 1714
— Река Флит — аллегория человеческого падения! — провозгласил мистер Орни вместо приветствия, спускаясь по лестнице в склеп.
Если бы он сейчас с возмущением повернулся и взбежал обратно по ступеням, никто бы его не осудил.
Мистер Тредер, прибывший четвертью часа ранее, был скандализован ничуть не меньше.
— Это святое место, сэр, — сказал ему Даниель, — а не какой-нибудь языческий могильник. Покойные — уважаемые члены сообщества мёртвых. — С этими словами он запустил руку в сплетение белёсых корней и, сдвинув их, явил взорам древнюю бронзовую табличку в блестящих капельках сконденсированной влаги. Кривые каракули явно были выбиты по образцу средневековым ремесленником, не знавшим, что они означают.
Чтобы преобразовать их в латинские слова и предложения, требовалась кропотливая работа учёных грамотеев. Однако это был Клеркенуэлл, куда представители грамотного церковного сословия ходили за водой по меньшей мере пять сотен лет. Расшифрованная надпись гласила, что под табличкой покоятся бренные останки некоего Теобальда, тамплиера, который отправился в Иерусалим с головой, а вернулся без головы. Рядом такая же табличка сообщала то же самое о другом покойнике.
В отличие от мистера Тредера мистер Орни ничуть не смутился тем, что Даниель расставил свечи и фонари где только мог, то есть в основном на крышках полудюжины саркофагов, занимающих почти всё пространство пола. В тусклом свете угадывался свод — не уходящий в сумеречную высь, а такой, что епископ как раз мог пройти ровно посередине, не замарав митру о склизкий потолок. Однако камни, пригнанные на совесть, пережили века, и помещение устояло — пузырь воздуха в земле, безучастный к тому, что происходит на поверхности.
Мистер Орни помедлил у основания лестницы, давая глазам привыкнуть к темноте (что было очень разумно), затем двинулся к Даниелю и мистеру Тредеру, с изяществом моряка обходя почти невидимые лужи. Он не выказывал ни любопытства, ни трепета, что в другом человеке было бы свидетельством глупости. Поскольку Даниель знал, что мистер Орни не дурак, оставалось предположить, что это поза: для квакера крестоносцы были так же отсталы, а следовательно, не важны, как пикты — создатели языческих могильников в полых холмах.
— Почему, брат Норман? Потому что Флит, как жизнь, краткотечна и дурно пахнет? — вежливо поинтересовался Даниель.
— Зловоние в конце примечательно лишь потому, что Флит так чиста в начале, где рождается от многочисленных ключей, ручьёв и целебных источников. Так и дитя, едва из материнского лона, под воздействием мирских соблазнов…
— Мы поняли, — сказал мистер Тредер.
— И всё же промежуток между началом и концом столь невелик, что крепкий мужчина, — продолжал мистер Орни, явно подразумевая себя, — проходит его за полчаса.
Он сделал вид, будто смотрит на часы в доказательство своих слов. Однако в полутьме циферблат было не разглядеть.
— Держите свои часы подальше, не то доктор Уотерхауз разберёт их прежде, чем вы успеете воскликнуть: «Стойте, они дорогие!», — предупредил мистер Тредер с видом человека, говорящего по собственному опыту.
— Нет надобности, — отвечал Даниель. — Я узнаю работу мистера Кирби, вероятно, той поры, когда он был подмастерьем у мистера Томпиона, девять лет назад.
Воцарилась полная — можно даже сказать, гробовая — тишина.
— Так и есть, брат Даниель, — выдавил наконец мистер Орни.
— После загадочного взрыва, — пояснил мистер Тредер, — доктор Уотерхауз заперся в мансарде, тёмной, как этот склеп, и много недель не отвечал на мои письма. Я полагал, что ему не хватит духа возбудить преследование. И вот — о, диво! — он возвращается в мир людей, зная о часах и часовщиках больше, чем кто-либо из ныне живущих.
— Вы грубо льстите мне, сэр, — запротестовал Даниель. — Однако, чтобы наш клуб достиг своей цели, нам надо выяснить всё, что можно, о конкретных адских машинах. Нет сомнений, что в них использован часовой механизм. Тридцать лет назад я был знаком с Гюйгенсом и Гуком, величайшими часовщиками эпохи. Теперь же технология ушла вперед, и, вернувшись в Лондон, я обнаружил, что не вхожу более в узкий круг посвящённых. В стремлении наверстать упущенное я порой, забывшись, вскрывал часы, дабы осмотреть механизм и прочесть имя мастера, о чём язвительно напомнил сейчас мистер Тредер. Итог: мы собрались в Клеркенуэлле!
— Какова дьявала мы собрались здесь? — произнёс голос с сильным акцентом.
— Храни вас Бог, господин Кикин! — отозвался мистер Орни не слишком содержательно.
— Если бы вы пришли вовремя, — проворчал мистер Тредер, — то услышали бы объяснение доктора Уотерхауза.
— Мой экипаж увяз в болоте, — пожаловался господин Кикин.
— Болото — ценное открытие, — объявил мистер Орни, который сразу веселел, когда Тредер начинал хмуриться. — Обнесите его оградой, назовите целебной купальней, берите по шиллингу за вход и скоро сможете купить фаэтон.
Русский неосторожно спускался по лестнице в собственную тень. Оранжевая трапеция проецировалась на пол сверху, подрагивая, как падающий с дерева лист. Очевидно, телохранитель господина Кикина, которому рост не позволял войти в склеп, водил фонарём, безуспешно пытаясь посветить хозяину под ноги.
— Здешняя сырость нас убьёт! — провозгласил господин Кикин с убеждённостью человека, которого убивают каждый день перед завтраком.
— Раз свечи не гаснут, то и нам здешний воздух не опасен, — сказал Даниель, которому до смерти надоело, что полуобразованные люди валят все свои недомогания на сырость. — Да, из земли сочится влага. Однако мистер Орни только что напомнил об исключительной чистоте здешних вод. Как вы думаете, почему тамплиеры устроили тут храм? Потому что госпитальеры и монахини ордена святой Марии пили из местных источников и не умерли. Чуть дальше по дороге богатая публика платит деньги, чтобы погрузиться в эту самую влагу.
— Так почему было не собраться там?
— Всецело поддерживаю! — воскликнул мистер Тредер.
— Потому что… — начал Даниель, но тут сверху долетел обрывок разговора. Трапеция света стала шире и двинулась вбок. Её рассекла новая тень. По лестнице спускался пятый и последний член клуба. Даниель дал ему время подойти ближе и продолжил громко: — …потому что мы не желаем привлекать к себе внимание! Если наша Немезида прибегла к услугам часовщика или другого изготовителя точных приборов, то мастерская негодяя наверняка не дальше, чем на выстрел от этого храма.
— Одни назовут его храмом, другие — горой мусора посреди свиного закута, — заметил господин Кикин, обращаясь к Тредеру, который ответным взглядом выразил своё полное согласие.
— Гора — слишком величественное слово, сэр. Мы в Англии называем это кочкой.
— Те, кто так скажет, решительно ничего не смыслят в недвижимости! — парировал Даниель. — Ибо из трёх главных достоинств — местоположение, местоположение и местоположение — эти развалины обладают всеми тремя! Лондон, вышедший из берегов, подступил к их основанию!
— Вы землевладелец, доктор Уотерхауз? — сразу оживился мистер Тредер.
— Я действую в интересах весьма состоятельного лица, которое намерено создать здесь крупнейший центр технологических искусств.
— И как же состоятельное лицо проведало о существовании этих развалин?
— Я ему рассказал, сэр, — отвечал Даниель. — И, упреждая ваш следующий вопрос, я узнал о них от знакомого, очень, очень старого человека, которому сообщил о них тамплиер.
— Видать, ваш знакомый и впрямь очень стар, потому что тамплиеров истребили четыреста лет назад, — с лёгким раздражением проговорил мистер Тредер.
— Предполагается строительство? — осведомился мистер Орни, почуяв брата-предпринимателя.
— Оно уже началось, — сообщил Даниель. — Здесь будут торговые ряды, лавки и мастерские, где разместятся часовщики, а также изготовители инструментов — только не музыкальных, а философических.
Он рассчитывал, что все повернутся к нему, ожидая продолжения.
— Планисфер, гелиостатов, теодолитов, буссолей и тому подобного!
Вновь никакого интереса.
— Если задача нахождения долготы будет решена, то её решат в этом здании! — заключил Даниель.
Всё сказанное хорошо слышал Анри Арланк, пришедший последним. Он стоял тихо, особняком от других.
— Отлично! — провозгласил мистер Тредер. — Второе заседание клуба по разысканию лица или лиц, повинных в изготовлении и установке адских машин, взорванных в Крейн-корте, на корабельной верфи мистера Орни и прочая, объявляю открытым.
Слово «клуб» было понятно и Даниелю, и всем остальным членам Королевского общества, помнящим, как они в голодные студенческие времена скидывались на еду или, чаще, на выпивку. На университетском жаргоне это называлось «составить клуб». В конце шестидесятых нередко можно было услышать, как мистер Пепис предлагает Джону Уилкинсу «составить обеденный клуб», что подразумевало ту же складчину, только с большими деньгами и лучшим результатом.
За годы, которые Даниель провёл в Америке, спонтанные пирушки мистера Пеписа растянулись во времени, став регулярными, но сжались в пространстве, получив неизменный адрес. Даниель затруднялся в такое верить, пока Роджер не заманил его в «Кит-Кэт». Войдя туда, Даниель с порога воскликнул: «Так бы и объяснили!», ибо сразу понял, что это усовершенствованный вариант кофеен, в которых все проводили время двадцать лет назад. Главное отличие состояло в том, что сюда пускали не каждого, что почти исключало откусывание ушей и дуэли.
Их новый клуб не походил на «Кит-Кэт». Цель была иная, члены (за исключением Даниеля) весьма разнились с приятелями Роджера, а место для встреч выбрали ещё более тёмное и с ещё более низким потолком.
Однако есть нечто, роднящее все клубы без изъятия.
— Первый пункт повестки дня: уплата взносов, — объявил мистер Тредер, вытаскивая из жилетного кармана заранее припасённую монету и бросая её на каменную крышку двадцатитонного саркофага. Все вытаращили глаза: это был фунт стерлингов, то есть серебряная монета, и к тому же новёхонькая. Заплатить ею взнос было всё равно что с невозмутимым видом прогарцевать по Гайд-парку на единороге.
Даниель положил пиастр. Мистер Кикин — голландскую серебряную монету. Мистер Орни присовокупил золотую гинею. Анри Арланк вывернул кошель и высыпал полпинты медяков[7]. Почти все их заранее дал ему Даниель, о чём прочие члены клуба, вероятно, догадывались.
Даниель настоял, чтобы гугенота-привратника включили в клуб, поскольку теоретически тот мог быть намеченной жертвой взрыва. Мистер Тредер в пику ему предложил установить высокие взносы. Мистер Орни поддержал Тредера из соображений практических: ловить преступников — дело дорогостоящее. Кикин был готов на любые траты, лишь бы доказать царю, что не жалеет сил и средств на поимку злодеев, спаливших его корабль. В итоге Даниелю пришлось платить много и за себя, и за Арланка.
Мистер Тредер открыл деревянную шкатулку, обитую красным бархатом, вынул весы и положил на одну чашку голландскую монету, а на другую — бронзовую гирьку, которая, если верить выгравированной на ней устрашающей надписи, являла собой платоновский идеал того, сколько должен весить фунт стерлингов по сэру Томасу Грешему. Мистер Орни счёл это сигналом, чтобы приступить к чтению протокола предыдущего заседания, которое состоялось в особняке Кикина на Блек-бой-элли две недели назад.
— С разрешения членов клуба я выпущу пустые разглагольствования и кратко суммирую педантические…
— Правильно! — крикнул Даниель, пока мистер Тредер не успел возразить. Напрасное опасение: мистер Тредер, высунув язык, взвешивал испанскую монету, и его глаза только что не вылезли по-рачьи на стебельках.
— Таким образом остались лишь два пункта, достойные упоминания: беседа с дозорным и рассуждения доктора Уотерхауза о механизме адской машины. Итак, по порядку: мы опросили мистера Пайнвуда, дозорного, ставшего свидетелем взрыва в Крейн-корте. Упомянутый мистер Пайнвуд был нанят либо как-то иначе убеждён устным высказыванием мистера Тредера, заключавшим в себе чрезвычайно двусмысленный и до сих пор остающийся предметом горячих споров посул…
— В протоколе действительно так записано? — Мистер Тредер в притворном изумлении поднял взгляд от весов.
— Полагая, что будет вознаграждён, мистер Пайнвуд устремился за портшезом, преследовавшим мистера Тредера и доктора Уотерхауза непосредственно перед взрывом, — продолжал мистер Орни, довольный, что сумел задеть мистера Тредера за живое. — Мистер Пайнвуд сообщил нам, что бежал за портшезом до Флитского моста. Там носильщики остановились, поставили портшез, схватили мистера Пайнвуда…
— Можно не продолжать, мы все слышали, — буркнул мистер Тредер.
— И бросили его во Флитскую канаву.
Каждый из присутствующих нервно сглотнул.
— Были собраны средства для лечения чирьев мистера Пайнвуда и вознесены молитвы по поводу других его симптомов, в том числе ранее медициной не описанных. Некоторые внесли большее и молились горячее, нежели другие.
Куда портшез отправился дальше, можно только гадать. Доктор Уотерхауз немедленно предположил, что портшез свернул в проулок, из которого появился на его глазах чуть ранее. «Я убежден, — сказал доктор Уотерхауз, — что злоумышленники узнали о нашем приезде загодя и намеревались следовать за экипажем мистера Тредера через Ньюгейт в Сити; то, что мы свернули от Флитской канавы в Крейн-корт, стало для них неожиданностью». Члены клуба заспорили, связан ли вообще портшез с адской машиной; я заметил, что глупо следовать в такой близости от повозки, которая вот-вот взорвётся, и что в портшезе ехала предприимчивая куртизанка. Мистер Тредер обиделся на предположение, что потаскуха (как он выразился) усмотрела в нём потенциального клиента; лица остальных членов клуба выразили насмешливое удивление таким ханжеством…
— Предлагаю выбрать нового секретаря для чтения протоколов, — перебил мистер Тредер. — Мсье Арланк, что бы я ни говорил о нём прежде, немногословен, исполнителен, грамотен. Если он возьмёт на себя эту обязанность, я готов платить за него взносы.
Последние слова прозвучали невнятно, поскольку, говоря их, мистер Тредер коренными зубами закусил английскую гинею.
— Мистер Тредер, — изрек мистер Орни, — если вы проголодались, то по дороге к Яме Чёрной Мэри, а также в Хокли, есть трактиры, куда мы можем переместиться. Моей гинеей вы не насытитесь.
— Она не ваша, а клуба, — ответил мистер Тредер, разглядывая отметины от зубов, — и не гинея, пока я этого не скажу.
— Вы её уже взвесили, зачем ещё и надкусывать? — Мистер Орни, несмотря на свою досаду, был явно заинтригован.
— Гинея настоящая, — объявил мистер Тредер. — Продолжайте свой вздорный рассказ.
— Короче, моя гипотеза, что портшез ни при чём, невольно спровоцировала маловразумительный экскурс в область часовых механизмов; по крайней мере таким он предстаёт в моих записях.
— Здесь ваши записи, в виде исключения, точны, — заметил мистер Тредер.
— Протестую! — воскликнул Даниель. — Речь была вот о чём. Мистер Орни сказал, что подложить адскую машину в повозку, а затем следовать за ней, зная, что взрыв произойдёт с минуты на минуту, — безумие. На это я возразил, что нам неведомо, насколько злоумышленник разбирается в часовых механизмах. Умелый часовщик настроил бы машину правильно, более того, знал бы, насколько часы будут спешить или отставать в тряской повозке холодным днём.
— Значит, в портшезе был не часовщик! — заключил господин Кикин.
Мистер Тредер хихикнул, полагая, что русский сострил, однако Даниель видел, что Кикин на его стороне и говорит серьёзно.
— Да, сэр. Адскую машину, я полагаю, установили люди, плохо знакомые с её устройством. Они планировали, что она сработает много позже, спустя часы или даже дни, и взрыв в Крейн-корте стал для человека в портшезе почти такой же неожиданностью, как для нас с мистером Тредером.
— Всем понятно, что взрыв произошёл несвоевременно, — сказал мистер Тредер, — так что ваша гипотеза имеет хотя бы налёт правдоподобности.
— Но проку от неё никакого, — отрезал мистер Орни, — поскольку мистер Пайнвуд оказался с головой в дерьме, и мы ничего больше о портшезе не знаем.
— Не согласен! Это указывает направление поисков. У вас на верфи адская машина взорвалась согласно планам злоумышленников — среди ночи. В повозке мистера Тредера — преждевременно. Я полагаю, что часы ушли вперёд от тряски холодным днём, но сохранили точность в неподвижном корабельном трюме. Отсюда можно вывести, какого рода механизм использовался, и, таким образом, вычислить изготовителя.
— Поэтому мы в Клеркенуэлле, — кивнул господин Кикин.
— И каков результат ваших изысканий? — спросил мистер Орни.
— Спросите у фермера в апреле, какой урожай принесли семена, посеянные неделю назад. Я надеялся, что отыщу в Крейн-корте заметки и опытные образцы мистера Роберта Гука. Он одним из первых взялся за определение долготы при помощи часов и лучше других знал, как влияет на них тряска и смена температуры. Увы, наследие мистера Гука выброшено на свалку. Я обратился в Королевскую коллегию врачей и к милорду Равенскару.
— Почему к ним, скажите на милость? — удивился мистер Тредер.
— Гук строил Коллегию врачей на Уорвик-лейн и расширял особняк милорда Равенскара. Он мог разместить там что-то из своих вещей. Мои запросы остались без ответа. Я удвою усилия.
— Поскольку мы, как вижу, перешли к следующему пункту, — сказал мистер Тредер, — прошу вас, мистер Орни, поведать нам о ваших изысканиях в области упаривания мочи.
— Доктор Уотерхауз уверил нас, что для получения фосфора, использованного в адских машинах, требовалось упаривать мочу в огромных количествах, — напомнил мистер Орни.
— Описание было более чем красноречиво, — заметил мистер Тредер.
— Делать это в Лондоне затруднительно…
— Почему? Лондон бы не провонял мочой сильнее, нежели сейчас, — съязвил господин Кикин.
— Внимание привлекла бы не вонь, а необычность такого занятия. Итак, мочу скорее всего упаривали в деревне. Следовательно, кто-то возил мочу оттуда, где её много, то есть из города, например, из Лондона, туда, где её можно упаривать незаметно.
— Надо расспросить золотарей!
— Превосходная мысль, господин Кикин, и мне она пришла много раньше, — отвечал мистер Орни. — Однако я живу далеко от нижнего течения Флит, куда золотари слетаются каждый вечер, как мухи, дабы опорожнить свои бочки. Поскольку мсье Арланк обитает в двух шагах от упомянутой канавы, я перепоручил дело ему. Мсье Арланк?
— У меня не было времени… — начал Анри Арланк, но его тут же заглушил возмущённый ропот других членов клуба. Гугенот мужественно демонстрировал галльское самообладание, пока этот парламентский базар не смолк. — Однако мировой судья Саутуорка преуспел в том, что не удалось мне. Вуаля!
Арланк небрежным движением выложил на крышку гроба памфлет. Обложка была напечатана таким крупным шрифтом, что Даниель, не доставая очков, разобрал в свете свечи: «ПРОТОКОЛЫ СЛУШАНИЙ И РЕШЕНИЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ СУДА ПО ГРАФСТВУ СУРРЕЙ».
Дальше шли буквы помельче, но господин Кикин наклонился и прочитал вслух:
— «Полный и правдивый отчёт о самых удивительных, зверских и чудовищных преступлениях, по справедливости наказанных мировым судом с пятницы 1 января по субботу 27 февраля лета Господня 1713—1714».
Господин Кикин весело подмигнул Арланку. Памфлеты продавались на каждом углу, следовательно, некоторые — и даже многие! — их покупали. Однако ни один грамотный человек не признался бы, что читает подобного рода литературу. Приличные люди делали вид, что её просто нет. Арланку не следовало такое приносить, а Кикину — веселиться. Ох уж эти иностранцы!..
— Простите, мсье Арланк, я не имел… э… удовольствия ознакомиться с данным опусом, — сказал мистер Тредер. — Что там написано?
— Здесь излагается дело мистера Марша, который, проезжая декабрьской ночью по Ламберт-роуд, был остановлен тремя молодыми джентльменами, вышедшими из непотребного дома на Сент-Джордж-филдс. Молодые люди были так возмущены вонью, исходящей от повозки мистера Марша, что, выхватив шпаги, вонзили их в лошадь мистера Марша, и та околела на месте. Мистер Марш принялся звать караул. На его крики из ближайшей таверны выскочили посетители; они и схватили негодяев.
— Какие отважные пьянчуги!
— Тамошние дороги кишат разбойниками, — пояснил мистер Тредер. — Люди, вероятно, решили, что лучше схватить злодея всей компанией, чем быть ограбленными по пути домой.
— Воображаю их изумление, когда они поняли, что схватили не разбойников, а джентльменов! — рассмеялся господин Кикин.
— Джентльменов и разбойников, — ответил Анри Арланк.
— Что?!
— Многие разбойники — джентльмены, — с видом знатока объявил мистер Тредер. — Человеку из общества неприлично зарабатывать на жизнь ремеслом; промотав состояние в игорных и публичных домах, он вынужден идти в грабители. Всё остальное ниже его достоинства.
— Откуда такая осведомленность? Наверное, вы регулярно читаете эти памфлеты, сэр! — воскликнул мистер Орни, только что не потирая руки от удовольствия.
— Я провожу в дороге немалую часть года, сэр, и знаю о разбойниках больше, чем вы о последних достижениях в области конопаченья.
— И что было дальше, мсье Арланк? — спросил Даниель.
— У задержанных нашли ценности, похищенные несколькими часами ранее из кареты, направлявшейся в Дувр. Пассажиры кареты возбудили судебное преследование. Все трое грабителей оказались грамотные и были отпущены как клирики, не подлежащие светскому суду. Мистер Марш фигурировал в деле лишь как свидетель.
— Итак, мы знаем только, что мистер Марш ехал по Ламбет-роуд с чем-то столь дурно пахнущим, что три разбойника, не убоявшись виселицы, выместили досаду на его кляче! — воскликнул мистер Орни.
— Я знаю чуть больше, сэр, — отвечал Арланк. — Я навел справки на набережной Флит после наступления темноты. Мистер Марш и впрямь был лондонским золотарём. Его собратья по ремеслу нашли очень странным, что он среди ночи пересёк реку со своим грузом.
— Вы сказали, был золотарём, — вмешался Даниель. — Что с ним теперь? Умер?
— Оставшись без лошади, он вынужден был отойти от дел и переселился к сестре в Плимут.
— Возможно, нам следует отрядить кого-нибудь в Плимут, — полушутливо заметил Даниель.
— Исключено! Состояние наших финансов весьма плачевно! — объявил мистер Тредер.
Клац! — щёлкнули челюсти, и все взгляды обратились к Даниелю. Он знал мистера Тредера дольше остальных, а следовательно, по этикету имел право первым откусить тому голову.
— Мы удвоили наш бюджет, сэр. Как понимать ваши слова?
— Не совсем удвоили, сэр, потому что вашему пиастру не хватает нескольких пенни до фунта стерлингов.
— А моя гинея, как всем известно, на несколько пенни дороже, — сказал мистер Орни, — так что можете восполнить недостачу брата Даниеля за мой счёт, а сдачу оставить себе.
— Ваша щедрость — пример для нас, погрязших в грехе англикан, — с кривой улыбкой проговорил мистер Тредер. — Однако она не меняет состояние общих финансов клуба. Да, сегодня у нас на счету вдвое больше, чем было вчера, но нельзя забывать и про обязательства.
— Я и не знал, что они у нас есть, — заметил господин Кикин, которого весь разговор по-прежнему забавлял неимоверно, — если только вы не отнесли наши деньги на Чендж-элли и не вложили их в какие-нибудь несусветные бумаги.
— Я смотрю в будущее, господин Кикин. Каждый получает то, за что заплатил! Таков непреложный закон рыбных рынков, борделей и парламента. И особенно неукоснительно он действует в мире поимщиков.
Мистер Тредер явно наслаждался наступившим молчанием. Наконец мистер Орни, которому невыносимо было видеть чужое довольство, а особенно довольство мистера Тредера, сказал:
— Если вы, сэр, хотите на наши деньги нанять поимщика, вам следовало бы сперва внести такое предложение, дабы мы его обсудили.
— Прежде чем обсуждать поимщиков, может быть, кто-нибудь объяснит мне, кто это такие? — потребовал господин Кикин.
— Ловля преступников — занятие часто трудное, а порой и смертельно опасное, — отвечал мистер Тредер. — Потому люди нанимают поимщиков.
— Вы хотите сказать… чтобы выследить кого-то и буквально схватить?
— Да, — терпеливо подтвердил мистер Тредер. — А как бы иначе, по-вашему, осуществлялось правосудие?
— Полиция… констебли… муниципальное ополчение… кто-нибудь! — задохнулся господин Кикин. — Немыслимо, чтобы в приличной стране люди бегали и хватали друг друга!
— Благодарю, сударь, за совет, как управлять приличной страной! — взвился мистер Тредер. — Уж конечно, куда Англии до Московии!
— Господа, господа… — начал Даниель, но у Кикина любопытство взяло верх над возмущением, и он, не споря больше, спросил: — И как это происходит?
— Как правило, объявляют награду и предоставляют дело естественным механизмам рынка, — ответил мистер Тредер.
— И как велика должна быть награда?
— Вы смотрите прямо в корень, сэр, — сказал мистер Тредер. — Со времён Вильгельма и Марии награда за обычного грабителя или взломщика составляет десять фунтов.
— По обычаю или…
— По королевскому установлению, сэр!
Лицо господина Кикина омрачилось.
— Хм, нам предстоит тягаться с правительством её величества и…
— Дальше хуже. Сорок фунтов за разбойника, от двадцати до двадцати пяти за конокрада, за убийцу ещё больше. У клуба, напомню, десять фунтов плюс-минус несколько осьмушек и фартингов.
— И всякий, в ком есть хоть капля разумения, видит, что рассчитывать в таком случае на поимщика — только попусту тратить время, — объявил мистер Орни.
Прежде чем мистер Тредер успел сказать, что думает о некоторых разумниках, господин Кикин воскликнул:
— Что же вы до сих пор молчали? На безумные прожекты я бы поскупился. Но если речь о том, чтобы объявить награду… схватить государева врага… то завтра же все лондонские поимщики будут работать на нас!
Мистер Тредер залоснился от удовольствия.
— Только нужно ли это? — возразил Даниель. — Поимщики слывут самой отпетой публикой — хуже воров.
— Что с того? Мы же не в няньки его будем нанимать. Чем отпетей, тем лучше!
Даниель видел в приведённых рассуждениях изъян-другой, однако по лицам мистера Орни и мсье Арланка понял, что остался в меньшинстве. Им явно нравилось, как господин Кикин намерен распорядиться царскими деньгами.
— И всё же, — сказал Даниель, — я предложил бы обойти часовые мастерские Клеркенуэлла.
— Преступника, доктор Уотерхауз, надо искать среди преступников, а не среди часовщиков, и пусть лучше этим займётся поимщик, нанятый на деньги русского царя, — отрезал мистер Тредер, и впервые со времени создания клуба все участники (за исключением Даниеля) выказали полное единодушие. — Собрание объявляю закрытым.
Как по половику, когда его встряхивают, проходит волна, гоня перед собой песок, блох, яблочные косточки, табачный пепел, лобковые волосы, сковырянные болячки и тому подобное, так наступление Лондона на беззащитный пригород гнало перед собой тех, кого выбили с места перемены, или кто с самого начала не успел как следует зацепиться. Фермер, живущий среди зелёных лугов к северу от Лондона, мог видеть, как здания год за годом подступают всё ближе, и не понять, что его выпас стал частью столицы, пока пьянчуги, воришки и шлюхи обоего пола не начнут собираться под окнами.
В детстве Даниель открывал окно на верхнем этаже в доме Дрейка на Холборне и видел за буграми и буераками Клеркенуэллский луг — кусок общественной земли между церквями святого Иакова и святого Иоанна. Обе в старину принадлежали монашеским орденам и были окружены братскими корпусами, а также прочими жилыми и хозяйственными постройками. Как все римско-католические церкви страны, при Генрихе VIII они были превращены в англиканские и, возможно, слегка разграблены. При Кромвеле, когда на смену англиканству пришла более нетерпимая вера, их разграбили уже основательнее. То, что осталось, теперь поглотил Лондон.
Однако это было всё же лучше, чем остаться на краю, потому что в городе поддерживался какой-никакой порядок. Какие бы преступления ни происходили в окрестностях Клеркенуэллского луга, пока там шло строительство, теперь они сместились к северу, уступив место гнусностям более упорядоченного рода.
В полумиле к северу от Клеркенуэллского луга находилось место, где Флит на коротком отрезке течет параллельно Хэмстедской дороге. В низине между рекой и дорогой вечно стояла вода, а вот на противоположном берегу, более высоком, можно было сажать растения и возводить дома без страха, что их засосёт болото. Здесь выросла деревушка под названием Яма Чёрной Мэри.
Всякого, кто желал попасть от городских зданий Клеркенуэлла через поля к Яме Чёрной Мэри, ждало несколько препятствий: прямо на его пути стояла древняя церковь святого Иакова, затем — недавно возведенная тюрьма, а за нею — устроенный квакерами работный дом. Люди, которым случается посещать Яму Чёрной Мэри, инстинктивно обходят подобные заведения стороной, поэтому они сразу сворачивали на запад и через проулок выходили с Клеркенуэллского луга на Тернмилл-стрит. Налево, то есть в сторону Лондона, она вела к скотным рынкам Смитфилда мимо боен и мастерских, где делали сальные свечи, и мало располагала к прогулкам; справа раздваивалась на Рэг-стрит и Хокли-в-яме — развлекательное продолжение скотных рынков. Если на бойнях Смитфилда животных резали ради выгоды, то в Хокли их стравливали для потехи.
Рэг-стрит была немногим приятнее, зато по крайней мере она вела из города. Шагов через сто здания по правую руку сменялись чайными садами. По левую руку они шли чуть дольше, но были поприличнее: несколько булочных, затем — купальня, в которой знать принимала целебные ванны. Ещё через несколько сотен шагов за последним домом открывался вид на Яму Чёрной Мэри. Другими словами, только здесь лондонец, одуревший от давки и угольного дыма, вырывался наконец на простор. Такое стремление возникало у многих, поэтому часть территории от Ислингтон-роуд на востоке до Тотнем-корт-роуд на западе превратилась в своего рода неухоженный парк с Ямой Чёрной Мэри посередине. Здесь гуляющие предавались беззаконным любовным утехам, преступники охотились за гуляющими, а поимщики выслеживали преступников и натравливали одних на других ради наградных денег.
Купальни и чайные сады были ещё одним поводом отправиться в эти места или по крайней мере удобным предлогом для тех, кого влекли не чай и не целебные воды. И — в довершение сумятицы — многие шли сюда с самыми что ни на есть невинными целями. Любителей позавтракать на траве тут было не меньше, чем головорезов. В один из первых визитов на Рэг-стрит Даниель услышал, что за ним кто-то крадётся; обернувшись в уверенности, что это грабитель с увесистой дубинкой, он увидел члена Королевского общества с сачком для бабочек.
Ровно там, где заканчивался Лондон, по дороге в Яму Чёрной Мэри лежало то, что один из членов клуба очень точно назвал свиным закутом с горой мусора посередине. Мальчиком из окна отцовского дома Даниель наверняка сотни раз скользил по нему взглядом и не видел ничего примечательного. Однако недавно он получил стопку писем из Массачусетса. Одно было от Еноха Роота, проведавшего, что Даниель намерен устроить филиал Института технологических искусств где-нибудь в пригороде Лондона.
Долгое время я мечтал, что найду владельца разрушенного храма в Клеркенуэлле и что-нибудь там выстрою.
Даниель, читая, только закатил глаза. Если Енох Роот — застройщик, то он, Даниель, — турецкая наложница. Вечно Енох сует нос в чужие дела: узнал, что тамплиерская крипта под разрушенным зданием вот-вот окажется в черте Лондона, и не хочет, чтобы её засыпали или превратили в погреб питейного заведения. Теперь он намерен позаботиться о ней чужими руками. Даниеля раздражало, что им управляют из-за океана. С другой стороны, у Еноха и впрямь талант манипулировать людьми ко взаимной выгоде. Даниелю нужен был участок под застройку. Клеркенуэлл — грязный, воняющий живодёрней и оглашаемый звуками медвежьей травли, опасный в глазах знати, — подходил как нельзя лучше. Несколько шагов — и ты в городе или за городом, смотря что нужно; и никто из соседей не станет жаловаться на странные занятия или обращать внимание на полуночных гостей.
Участок представлял собой неправильный пятиугольник примерно в сто шагов шириной. Просевшие развалины стояли не точно посередине, а дальше от дороги к Яме Чёрной Мэри и ближе к вершине, обращённой в сторону Клеркенуэлла. Одной стороной участок примыкал к саду, окружающему одну из купален, отчего выглядел больше, нежели на самом деле. Это был один из множества клочков земли, оторванных во времена Тюдоров от немеренных церковных владений. Раскопать, как дальше он переходил из рук в руки, оказалось дельцем как раз для безработного учёного, хорошо знающего латынь — Даниелю пришлось даже пару раз съездить в Оксфорд. Выяснилось, что семья, владеющая участком, бежала при Кромвеле во Францию и после череды женитьб, замужеств, рождения внебрачных отпрысков, подозрительных смертей и конфессионального ренегатства полностью офранцузилась. Никто из этих людей не собирался возвращаться в Англию и представления не имел, насколько подорожала земля в лондонских предместьях. Всё это Даниель изложил Роджеру в клубе «Кит-Кэт». Роджер написал в Париж и месяца через полтора выдал Даниелю карт-бланш на строительство с единственным условием: чтобы участок потом можно было выгодно перепродать. Даниель нанял средней руки архитектора и поручил тому спроектировать дома с лавками на первом этаже, которые стояли бы по трём сторонам двора, в котором располагалась крипта.
Выйдя из разрушенного храма (остальные члены клуба ушли раньше), Даниель практически ослеп, таким пронзительно-белым показалось ему затянутое облаками небо. Прикрыв ладонью глаза, он посмотрел на сияющую траву. Рядом блеснуло что-то маленькое, круглое, похожее на оброненный феей кошелечек. Даниель тронул его башмаком и понял, что это кондом из обрезка завязанной бараньей кишки.
Глаза уже настолько привыкли к свету, что он мог почти без мучений смотреть на ближайшую лужу, где ещё недавно валялись свиньи. Теперь она почти пересохла, а свиней хозяин переселил куда-то подальше за город. Даниель убрал ладонь и оглядел линии землемерных вешек по контурам будущих домов. Как только начнут расти стены, они закроют двор от дороги, и увидеть, что тут творится, смогут лишь посетители купальни и (при наличии очень острого зрения или подзорной трубы) арестанты новой тюрьмы на Клеркенуэлл-клоз. Впрочем (если такое можно счесть утешением), это будут арестанты высшего разряда, способные заплатить тюремщикам за камеры в верхнем этаже.
Даниель, привыкший к неторопливости Тринити-колледжа и Королевского общества, полагал, что клуб будет заседать долго. Однако Тредера, Орни и Кикина, при всём несходстве характеров, роднила одна черта: решимость и умение настоять на своём. Часы говорили, что на встречу с сэром Исааком Ньютоном он придёт сильно загодя. Другой бы обрадовался: кому охота прослыть невеждой, заставившим ждать самого сэра Исаака, — но Даниель, хотевший этой встречи примерно как новой операции на мочевом пузыре, чувствовал только раздражение. Чтобы развеяться, он решил заглянуть к маркизу Равенскару.
Любой путь отсюда к дому Роджера был либо неприятным, либо опасным, либо опасным и неприятным одновременно. Даниель выбрал неприятный, то есть решил пройти через Хокли-в-яме, начинавшийся сразу за домами. Неприятным было субботнее скопление кокни, пришедших посмотреть бои между животными и подраться между собой, но оно же обеспечивало некоторую степень безопасности. Карманники, конечно, орудовали повсюду, а вот грабителям, чей метод требовал оглушить жертву дубинкой, работать тут было не с руки.
В начале Сефрен-хилл-роуд два человека, голые по пояс, топтались друг перед другом, выставив кулаки. У одного на лице уже краснел след от удара, другой, судя по измазанной куртке, успел разок упасть. Оба были здоровенные малые, вероятно, смитфилдские рубщики мяса; не менее сотни людей окружили их и уже делали ставки. Пешеходам оставалось втискиваться в узкий промежуток между локтями зрителей и фасадами зданий: кабаков и каких-то обшарпанных заведений, явно стремящихся привлекать к себе как можно меньше внимания.
Под стеной одного дома лежал, растянувшись во весь рост, человек, то ли спящий, то ли мёртвый; он создавал дополнительные завихрения в обтекающей его толпе — пророчество о том, что станет с Даниелем, если тот не удержится на ногах.
Не заботясь о сохранении достоинства, Даниель взял как можно правее, почти прижавшись к бурой кирпичной стене, переложил трость в правую руку, чтобы её не выбили, продел запястье в петлю (на случай, если всё-таки выбьют) и предоставил людскому потоку нести себя вперёд.
Он преодолел большую часть пути и уже различал впереди проблески света, когда толпа заволновалась. Подняв голову, Даниель увидел огромную лошадь в чёрной, отделанной серебром сбруе. Лошадь везла небольшой, странного вида экипаж — вытянутый и изогнутый, словно гепард в прыжке. Даниель сообразил, что это модная новинка под названием «фаэтон», ещё до того, как осознал опасность своего положения. Кучер пытался протиснуться сквозь толпу. Вернее, он просто гнал рысью, ожидая, что толпа расступится сама.
Никто не верил своим глазам. Такого не может быть! Однако экипаж, двадцати футов в длину и восьми футов в высоту, влекомый тонной подкованного железом конского мяса, не замедлил ход. Оглобли торчали, как боевые копья. Каждая могла пробить голову, как тыкву, и даже увернувшись, вы рисковали угодить ногой под колесо с последующим выбором между ампутацией и гангреной. Сто человек приняли единственно разумное решение. Сумма ста разумных решений зовётся паникой. Даниель внёс в неё следующий вклад: увидев футах в восьми перед собой дверную нишу, решил, что, пока все пялятся на фаэтон, успеет проскочить к ней вдоль окна лавки, и, поднырнув под плечо рослого соседа, ринулся к убежищу.
В следующий миг небо слева от него заслонила лавина стремительно несущихся тел.
Даниель отчётливо видел свою смерть: сейчас его размажут по стене лавки. Окно не поддавалось: оно состояло из маленьких квадратных стёклышек в толстом деревянном переплёте. Понятно было, что в конце концов раму высадят, но рёбра Даниеля сломаются много раньше. Он попытался сделать ещё шаг, крайне неудачно — вместо земли под ногой оказалось что-то мягкое. Наступив на бесчувственного человека, которого видел раньше, Даниель потерял равновесие, зато выиграл несколько дюймов высоты, отчего включилось инстинктивное стремление карабкаться ещё выше. Если оконный переплёт достаточно прочен, чтобы сломать ему рёбра, пусть уж заодно подержит его вес. Вскинув руки, словно охваченный религиозным экстазом баптист, Даниель вцепился в горизонтальную перекладину и что есть силы оттолкнулся ногами от мёртвого или спящего человека. В тот же миг толпа подхватила его, как волна — былинку, и бросила о стену. Ноги потеряли опору. Силу тяжести нейтрализовала стремительная череда толчков коленями, плечами и головами. Если бы они были направлены вниз, всё бы кончилось плачевно, но они были направлены вверх. Даниель впечатался в окно, наполовину высадив щекой одно из стёклышек, которое теперь угрожающе потрескивало в непосредственной близости от его глаза.
Больше не было нужды поддерживать свой вес, поэтому он разжал левую руку и, втиснув пальцы между скулой и окном, ухватился за переплёт под наполовину выдавленным стеклом, чтобы, когда толпа схлынет, не упасть затылком и не разбить голову о мостовую.
Из лавки тянуло холодом и табачным дымом. Секунд пять Даниель вынужденно смотрел в окно. Архитектору, проектировавшему дом, вероятно, виделась здесь нарядная витрина с дамскими туалетами. Возможно, этому ещё суждено осуществиться, если Хокли-в-яме когда-нибудь станет фешенебельным районом. Однако сейчас окно было до середины забито доской, расположенной примерно на локоть от стекла и предназначенной то ли для защиты от воров, то ли для задника витрины. Доску затянули зеленной тканью — так давно, что она выцвела до белизны везде, где её не закрывал вывешенный товар. Самого товара не было, но на выбеленной солнцем ткани остались тени чего-то круглого на тонких бечёвках. Даниель сперва подумал, что это маятники, однако никто не покупает маятников, кроме натурфилософов и магнетизеров. Следовательно, это были часы на цепочках.
Фаэтон прогрохотал мимо, напор толпы ослаб, открыв перед Даниелем целую бездну новых опасностей. Люди, которых притиснули к тем, которых, в свою очередь, притиснули к нему, решили разом оттолкнуться и выпрямиться. Вновь и вновь Даниеля вжимали в окно, да так, что рама начала трещать. Медная пуговица его камзола продавила стекло, осыпав тени часов мелкими стеклянными треугольничками. В следующий миг исчезло внешнее давление, и Даниель провалился вниз, удержавшись, как и планировал, на одной руке. Ещё одно стёклышко треснуло, задетое его боком.
Стекло, которое он больше не придавливал щекой, пружинило назад и прищемило ему пальцы. Даниель остался на цыпочках, растянутый, как узник на крестовине для битья. Однако правая рука была свободна, и трость по-прежнему болталась на петле; в результате череды комических движений Даниелю удалось перехватить её посередине и выбить набалдашником защёлкнувшее пальцы стекло. Человек, лежавший под стеной, перекатился на спину, судорожно сел и выпустил из ноздрей кровавое облачко. Даниель заспешил прочь; как раз когда он проходил мимо двери, та открылась. Через три шага он услышал: «Эй», но счёл, что может не обращать внимания на окрик. У него просто не было сил вступать в разговор с субъектом, который обитает в таком месте.
Даниель шагал быстро. Вонь, сочащаяся из канав и щелей в мостовой, подсказывала, что он идёт над замурованной под улицей Флит. Он свернул на Мельничный холм, где давно не было не то что мельницы, но и холма, и прошёл ещё шагов сто, не позволяя себе оглядываться. Здесь заканчивался Хокли и начиналось самое большое открытое место в этой части города, где сходились Ледер-лейн, Ликёрпонд-стрит и ещё несколько улиц. Тут, наконец, Даниель обернулся.
— Ваши часы, сэр, если не ошибаюсь, — сказал субъект.
Из Даниеля резко вышел весь воздух. Целых десять минут он чувствовал себя молодцом, теперь, опустив взгляд, увидел жалкое зрелище. На то, чтобы составить опись ущерба, причинённого его туалету, потребовалось бы чересчур много времени, но одно было несомненно: часы пропали. Даниель сделал шаг к незнакомцу, потом второй, поменьше, однако преследователь явно решил, что не станет больше сбивать ноги. Он стоял и ждал, и чем дольше он ждал, тем мрачнее выглядел. Это был ражий детина — ему бы с утра до ночи дрова колоть. Таких густых бакенбард Даниель не видел лет десять; создавалось впечатление, что примерно за неделю субъект может отрастить на лице смоляно-чёрный бобровый мех. Последний раз он брился дня два назад и не имел стимулов делать это чаще, поскольку его щёки и подбородок были изуродованы оспой. Щербина лезла на щербину; в целом голова походила на чугунный котёл, выкованный на слабом огне молотком с круглым бойком. Линия волос напомнила Даниелю молодого Роберта Гука, но если Гук пугал своей тщедушностью, то этот малый был сбит, как ломовая телега. Однако часы он держал на изумление деликатным способом: круглый корпус покоился на полуакре розовой ладони, цепочка обвивала корявые пальцы второй ручищи. Он не протягивал часы, а демонстрировал.
Даниель сделал ещё шаг. У него было странное чувство, что, если потянуться к часам, субъект отпрыгнет назад; рефлекс, выработанный детской игрой в «ну-ка, отними», не исчез с возрастом.
И всё же что-то не складывалось. Даниель взглянул в серые глаза незнакомца и приметил морщинки в углах. Человек был явно старше, чем на первый взгляд, скорее на четвёртом десятке. Картина начала вырисовываться.
— Вы правильно угадали, — дружелюбно сказал субъект. — Я — опустившийся часовой мастер.
— Вы торгуете крадеными часами?
— Разве не все мы так, сэр? Часами, днями, минутами?
— Я имел в виду приборы для измерения времени. Вы извратили мою мысль.
— Людям моей профессии это свойственно, доктор Уотерхауз.
— Вы знаете моё имя? А как ваше?
— Моя фамилия Хокстон. Отец крестил меня Питером. Здесь меня называют Сатурн.
— Римский бог времени.
— И скверного нрава, доктор.
— Я рассмотрел вашу лавку куда внимательнее, чем мне хотелось бы, мистер Хокстон.
— Да. Я сидел у окна и, в свою очередь, рассматривал вас.
— Вы сами только что назвали себя опустившимся человеком. Ваше прозвание — синоним скверного нрава. И тем не менее вы пытаетесь меня уверить, будто вернёте мне часы без всяких… дополнительных условий… и ждёте, что я подойду к вам на расстояние вытянутой руки… — В продолжение своей речи Даниель не сводил глаз с часов, стараясь в то же время не показать, как сильно хочет заполучить их обратно.
— Значит, вы из тех, кто во всём ищет логику? Тогда мы товарищи по несчастью.
— Вы говорите так, потому что вы часовщик?
— Механик с младых ногтей, часовщик — сколько себя помню, — сказал Сатурн. — Ответ на ваш вопрос таков. Вот Гуковы часы с пружинным балансиром. Когда Мастер их сделал, это был лучший прибор для измерения времени, созданный человеческими руками. Теперь два десятка часовщиков в Клеркенуэлле делают часы поточнее. Эра технологии, а?
Даниель прикусил губу, чтоб не рассмеяться, уж больно неожиданно прозвучало новёхонькое словцо «технология» из уст такого детины.
— Значит, это ваша история, Сатурн? Вы не смогли угнаться за временем и потому опустились на самое дно?
— Мне надоело догонять, доктор. Вот моя история, если вам интересно. Я устал от суетного знания и решил искать знание вечное.
— И утверждаете, что нашли?
— Нет.
— И на том спасибо, а то я боялся, что дело идёт к проповеди.
Даниель рискнул приблизиться ещё на два шага. Тут его остановила одна мысль.
— Откуда вы знаете моё имя?
— Оно выгравировано на задней стороне часов.
— Неправда.
— Очень умно, — отвечал Сатурн; Даниель не понял, над кем из них он иронизирует. Сатурн продолжал: — Один мой знакомец, ширмач по стукалкам, которого нахлопнули на Флит-стрит и угостили в казённом доме ременной кашей, пришёл ко мне просить непыльную работёнку, пока шкурьё заживёт. Приняв разумные меры предосторожности, то есть убедившись, что он не намерен меня попалить, я сказал ему, что дела мои в упадке, ибо я не могу вести их без суетного знания. Однако я сыт им по горло и хочу только сидеть в лавке и читать книги, дабы обрести знание вечное, что служит мне во благо неосязаемо, но отнюдь не помогает добывать и продавать краденые часы, каковая продажа и есть raison d’etre[8] моей лавки. Иди в «Румбо», сказал я, к Старушке Несс, к Пряхам, в питейные заведения Хокли-в-яме, в «Козу» на Лонг-лейн, в «Собаку» на Флит-стрит, в «Арапа» на Ньютенхауз-лейн, пей (но умеренно), угощай (но не слишком щедро) всех, кого там встретишь, добудь знание суетное и возвращайся ко мне с тем, что нанюхаешь. Через неделю приходит он и сообщает, что некий сыч ходит и ищет пропавшее хахорье. «Что он потерял?» — спрашиваю. «Ничего, — говорит, — а ищет пропавшее хахорье сыча, который сыграл в ящик десять годков назад». «Поди и узнай погоняло жмура, — говорю, — и живчика тоже». Ответ был: Роберт Гук и Даниель Уотерхауз соответственно. Он даже как-то показал мне вас, когда вы шли в свой свиной закут мимо моей лавки. Отсюда-то я вас и знаю.
Питер Хокстон выставил вперёд обе руки. Левой он держал за цепочку Гуковы часы, покачивая их, словно маятник, правую протягивал для знакомства. Даниель часы схватил жадно, руку пожал неохотно.
— У меня к вам вопрос, доктор, — сказал Сатурн, стискивая его ладонь.
— Да?
— Я наводил справки и знаю, что вы натурфилософ. Хочу пригласить вас на огонёк.
— Должен ли я понимать, сэр, что вы поручили кому-то украсть мои часы?! — Даниель хотел попятиться, но рука Сатурна стиснула его ладонь, как удав, заглатывающий мышь.
— Должен ли я понимать, доктор, что вы умышленно прилипли к окну моей лавки?! — воскликнул Сатурн, в точности передразнивая интонацию Даниеля.
У того от возмущения отнялся язык. Сатурн невозмутимо продолжил:
— Философия есть стремление к мудрости, к вечным истинам. Однако вы отправились за океан, дабы основать Институт технологических искусств. А теперь чем-то похожим вы занимаетесь в Лондоне. Зачем, доктор? Вы могли бы жить так, как я мечтаю: сидеть сиднем и читать про вечные истины. И всё же я не могу прочесть главу из Платона без того, чтобы увидеть вас на моём окне, словно исполинский потёк птичьего дерьма. Зачем вы отвращаетесь от вечных истин ради суетного знания?
К собственному изумлению, Даниель знал ответ и выпалил его раньше, чем успел обдумать:
— Зачем пастор говорит в проповеди о вещах обыденных? Почему не зачитывает отрывки из великих богословов?
— Примеры из жизни иллюстрируют мысли, к которым он подводит, — сказал Сатурн. — А если б эти мысли не имели отношения к вещам обыденным, то никому бы не были нужны.
— В таком случае Ньютон и Лейбниц — великие богословы, а я — скромный приходский пастор. Технология для меня — служение, способ подобраться к высокому через низкое. Ответил ли я на ваш вопрос и не отпустите ли вы теперь мою руку?
— Да, — отвечал Сатурн. — Располагайте своими часами, своей рукой и своим новым прихожанином.
— Я не нуждаюсь в прихожанах. — Даниель повернулся на каблуках и зашагал по Ликёрпонд-стрит.
— Тогда вам следует отказаться от проповедей и того пастырского служения, о котором вы говорили, — сказал Питер Хокстон, нагоняя его и пристраиваясь рядом. — Вы ведь из Кембриджа?
— Да.
— Разве Кембридж создавался не для того, чтобы готовить клириков, которые станут просвещать английскую чернь?
— Вы прекрасно знаете ответ! Но я не буду проповедовать ни вам, ни кому другому; если я и был клириком, то теперь отвержен и недостоин проповедовать даже псам. Я давно сбился с пути и далеко забрёл. Для меня единственный способ приблизиться к Богу — то странное служение, о котором я говорил; пророки его — Спиноза и Гук. Тропку свою никому не присоветую, ибо я так же далёк от торной дороги, как аскет на столпе посреди пустыни.
— Я забрёл куда дальше, чем вы, док. Я бродил по той же пустыне, не имея даже столпа, чтоб на него взлезть. Вы, стоящий на каменной тумбе, для меня — Фаросский маяк.
— Не тратьте понапрасну время…
— Вот опять это слово! Время. Дозвольте мне поговорить о времени, док, и я скажу вот что: если вы намерены и дальше ходить через Хокли-в-яме и гулять по городу в одиночку, то время ваше сочтено. Вы не слишком осмотрительны. Этот факт приметили некие субъекты, которые охотятся за неосмотрительными сычами. Каждый закоулыцик в верхнем течении Флит навостряет уши, когда вы бредёте в свой свиной закут и пропадаете в дыре. В самом скором времени вы будете голым, изувеченным трупом, плывущим по Флитской канаве в Брайдуэлл, если не обзаведётесь друзьями крепкого сложения.
— Вы назначили себя моим телохранителем, Сатурн?
— Я назначил себя вашим прихожанином, док. А поскольку у вас нет церкви, мы будем совершать служение на ходу, как перипатетики; Хокли-в-яме станет нашей агорой. Я вдвое моложе вас и вдвое крупнее; бездельники, не ведающие истинной природы наших отношений, могут по невежеству счесть меня вашим телохранителем и, основываясь на этой ложной посылке, не зарежут вас и не забьют до смерти.
Они дошли до Грейс-Инн-лейн. По обе стороны дороги лежали кишащие законниками сады Грейс-Инн, а дальше начинались плотно застроенные Ред-лайон-сквер, Уотерхауз-сквер, Блумсбери. Дом Роджера стоял на дальнем краю Блумсбери, там, где кончался Лондон и начинался загород. Даниель не хотел показывать Сатурну, куда идёт. Он остановился.
— Я куда безумнее, чем вы думаете.
— Это невозможно!
— Вам известно, что есть такой пират Эдвард Тич?
— Чёрная Борода? Разумеется!
— Так вот, не очень давно я слышал, как Чёрная Борода, стоя на юте «Мести королевы Анны», выкликал моё имя.
Впервые за все это время Питер Хокстон опешил.
— Как видите, я безумец. Со мной лучше не связываться. — Даниель снова повернулся к Сатурну спиной и стал высматривать просвет между экипажами, катящими по Грейс-Инн-лейн.
— Касательно мистера Тича я наведу справки в подполье, — сказал Питер Хокстон.
Когда Даниель следующий раз посмотрел через плечо, Сатурна уже нигде не было видно.
Блумсбери
получасом позже
— Римский храм на окраине города. Скромный и незатейливый, — такие требования изложил ему Роджер двадцать пять лет назад.
— Полагаю, это исключает храм Юпитера или Аполлона, — отвечал Даниель.
Роджер посмотрел в окно кофейни, притворяясь глухим, как всегда, когда подозревал, что Даниель над ним смеётся.
Даниель отхлебнул кофе и задумался.
— Из скромных и незатейливых можно вспомнить… ну, например, Весту, чьи храмы, как и ваш дом, располагались за чертой старого города.
— Отлично. Замечательный бог, Веста, — рассеянно обронил Роджер.
— Вообще-то богиня.
— Ладно, кто она, чёрт возьми?!
— Богиня домашнего очага, целомудреннейшая из всех…
— Тьфу, пропасть!
— Которой служили девственные весталки…
— Вот от них я бы не отказался, если, конечно, они не были чересчур щепетильны касательно своей девственности…
— Отнюдь. Саму Весту едва не совратил Приап, итифаллический бог…
Роджер поёжился.
— Умираю от желания узнать, что это такое. Может, стоит сделать мой особняк храмом Приапа.
— Любой дом, в который вы входите, становится храмом Приапа. Нет нужды тратиться на архитектора.
— Кто сказал, что я собираюсь вам платить?
— Я сказал, Роджер.
— Хорошо, хорошо.
— Я не хочу строить вам храм Приапа. Сомневаюсь, что в таком случае королева Англии когда-либо вас посетит.
— Так придумайте мне другого непритязательного бога! — потребовал Роджер, щёлкая пальцами. — Ну же! Я не для того вам плачу, чтобы вы тут кофеи распивали!
— Всегда остаётся Вулкан.
— Хромоват!
— Да, он страдал подагрой, как многие джентльмены, — терпеливо отвечал Даниель, — тем не менее все великие богини были его, даже Венера.
— Ха! Вот шельмец!
— Он повелевал металлами; увечный и презираемый, он заключил богов и титанов в оковы собственного изобретения…
— Металлами… включая…
— Золото и серебро.
— Превосходно!
— И разумеется, он был богом огня и повелителем вулканов.
— Вулканы! Древние символы мужской силы! Извергающие высоко в небо струи огненной лавы! — задумчиво проговорил Роджер; что-то в его тоне заставило Даниеля вместе со стулом отодвинуться на несколько дюймов. — Да! Вот оно! Постройте мне храм Вулкана, со вкусом и недорогой, сразу за Блумсбери. И сделайте там вулкан!
Это «сделайте там вулкан» было первым и последним указанием Роджера касательно внутреннего убранства. Всё связанное с устройством вулкана Даниель перепоручил серебряных дел мастеру — не ростовщику, а ремесленнику, который по старинке жил обработкой металла. Таким образом, самому Даниелю осталось спроектировать храм, что не составило большого труда. Греки две тысячи лет назад придумали, как возводить здания такого типа, а римляне изобрели приёмчики, позволяющие ляпать их на скорую руку — приёмчики, вошедшие в плоть и кровь каждого лондонского архитектора.
Не слишком веря, что дело и впрямь дойдёт до строительства, Даниель расстелил большой лист бумаги и принялся громоздить одно архитектурное излишество на другое: изрядное количество пилястров, архитравов, урн, архивольтов и флеронов спустя получилось то, от чего Юлий Цезарь, вероятно, схватился бы за увенчанную лаврами голову и приказал распять зодчего на кресте. Однако после короткого сеанса запудривания мозгов, проведенного Даниелем в кофейне («Обратите внимание на чувственные завершения колонн… Древние символы плодородия сливаются с целомудренными округлостями свода… Я взял на себя смелость изобразить амазонку с двумя грудями, вопреки историческим свидетельствам…»), Роджер уверился, что именно так должен выглядеть античный храм. А когда он и впрямь воплотил Даниелев замысел в жизнь — рассказывая направо и налево, что это точная копия подлинного храма на горе Везувий, — девять из десяти лондонцев приняли его слова за чистую монету. Даниель утешался тем, что из-за наглой лжи про Везувий никто не узнает, что он (или вообще кто-либо из ныне живущих) спроектировал это страшилище. Лишь боги ведают всё. Если он будет держаться подальше от тех частей света, где есть вулканы, то, возможно, сумеет избежать кары.
Порою, в периоды душевного упадка, Даниель ночами лежал без сна, воображая, что из сделанного им за целую жизнь дом окажется самым долговечным и его увидит больше всего людей. Но за единственным исключением — операции по удалению камня — все ночные кошмары Даниеля при свете дня представали не такими и страшными. Идя на запад по Грейт-Рассел-стрит к перекрёстку с Тотнем-корт-роуд, мимо Блумсбери-сквер, он не столько увидел, сколько почувствовал сбоку нечто бело-огромное и усилием воли не разрешил себе покоситься в ту сторону. Однако в какой-то момент это стало нелепым; он расправил плечи, повернулся с солдатской чёткостью и взглянул своему позору в глаза.
О чудо! Всё было совсем не так ужасно! Двадцать лет назад, на свином пустыре, наискосок от дровяного склада, дом каждой деталью вопиял о своей несуразности. Теперь городской ландшафт несколько скрадывал впечатление, да и Гук, расширяя ансамбль, заметно сгладил его уродство. Теперь это был не одиноко торчащий храм, а пряжка в поясе коринфской сводчатой колоннады. Флигеля добавили ему пропорций, так что уже не казалось, будто здание сейчас завалится набок. Покуда Даниель был в Бостоне, фронтоны украсили скульптурными фризами; сплетение тог и трезубцев отвлекало внимание от конструктивного безобразия (по крайней мере, так представлялось Даниелю). Здесь Гук вновь оказал ему услугу, распространив горизонтальные элементы отделки на флигеля и придав фантазиям архитектора не вполне заслуженную значимость. Другими словами, Даниель мог смотреть на своё творение минут пять-десять и не умереть от стыда; в Лондоне имелись здания много хуже.
Он в тридцатый раз после Грейс-Инн-роуд удостоверился, что Сатурн за ним не идёт, пересёк Грейт-Рассел-стрит и поднялся по ступеням, чувствуя себя пририсованной для масштаба фигуркой. Пройдя между канеллированными колоннами, миновал портик и занёс трость, чтобы постучать в массивную двустворчатую дверь (позолота с инкрустацией медью и серебром, развитие металлургической темы), когда та стремительно растворилась. По странной причуде зрения ему показалось, будто дверь стоит на месте, а сам он отъехал назад. Даниель шагнул вперёд, дабы исправить дело, и, пройдя между створками, едва не угодил в ложбинку меж женских грудей. Потребовалось усилие, чтобы остановиться, поднять голову и посмотреть даме в глаза. Они сверкнули напускной строгостью, однако ямочки на щеках говорили: «Я не в претензии, пяльтесь, сколько душе угодно».
— Доктор Уотерхауз! Как вы могли столько меня томить? Вам нет оправданий!
Это было явное приглашение ответить чем-нибудь остроумным, но слова просвистели мимо Даниеля, как картечь.
— Э… неужто?.
Ах, но дама привыкла иметь дело с натурфилософами, не умеющими связать двух слов в светской беседе.
— Мне надо было слушать дядю Исаака, когда он говорил о невероятной силе вашего характера.
— Я… простите? — Ему подумалось, не ударить ли себя тростью по башке. Может быть, это восстановит мозговое кровообращение.
— Человек более слабый встал бы здесь, где вы сейчас стоите, в первый же день по приезде в Лондон и говорил бы каждому проходящему: «Смотрите! Видите этот дом? Я его выстроил. Он мой!» А вы! — Она, дурачась, упёрла руки в боки, как будто и впрямь ему выговаривает — это было забавно, но ни в коей степени не наигранно. — Вы, доктор Уотерхауз, с вашей пуританской твердостью — в точности как у дяди Исаака — преодолевали искушение более двух месяцев! Для меня загадка, как вы и дядя Исаак можете столько оттягивать удовольствие, когда я бы просто изнывала от нетерпения! — Почувствовав, что получилось уж слишком рискованно, она добавила: — Спасибо, что так любезно отвечали на мои письма.
— Не стоит благодарности; напротив, это вы меня весьма обязали, — машинально проговорил Даниель и только через мгновение вспомнил, о чём речь.
Катерина Бартон приехала в Лондон на рубеже веков. Ей было тогда около двадцати. Её отец — муж Исааковой сестры — скончался несколькими годами ранее. Исаак взвалил на себя попечение о сиротках. Вскоре после приезда мисс Бартон заболела оспой и вернулась в деревню, чтобы выздороветь или умереть. Тогда-то Даниель и получил от неё письмо, очарование которого нисколько не портил ум, читавшийся в каждой строчке.
Это напомнило Даниелю о необходимости что-нибудь сказать.
— Я счастлив, что переписка доставила мне случай познакомиться с вашим умом до того, как меня ослепили… э… остальные ваши достоинства.
Она пыталась выяснить, почему её дядя таков, как он есть — не из корыстного интереса, а из искреннего желания стать опорой чудному старику, заменившему ей отца. Даниель написал восемь черновиков ответа, зная, что Исаак рано или поздно найдёт и прочитает его письмо с тем же пристрастием, с каким изучает печатные высказывания Лейбница.
Все знают, что Исаак гениален, и обходятся с ним соответственно, однако тут заключена ошибка, ибо он столь же набожен, сколь гениален, и набожность для него важнее. Я говорю не о внешней набожности, но о внутреннем огне, свече, поставленной под сосуд, стремлении приблизиться к Богу через осуществление богоданных способностей.
— Ваш совет очень мне помог, после того, как я — благодарение Богу — выздоровела и вернулась в Лондон. И в той мере, в какой мне удалось быть полезной дяде Исааку, он тоже ваш должник.
— Я не буду с замиранием сердца ждать выражений благодарности от него, — сказал Даниель в надежде, что это сойдёт за иронию.
Его собеседнице хватило такта рассмеяться. Судя по всему, она привыкла, что мужчины в её присутствии становятся чересчур откровенны, и не имела ничего против.
— Полноте! Вы понимаете его лучше, чем кто-либо на свете, и он это очень хорошо знает.
Последняя фраза, хоть и сопровождалась игрой ямочек на щеках, прозвучала не столько комплиментом, сколько предостережением. Более того, Даниель чувствовал, что собеседница предостерегает его вполне осознанно.
Он решил больше не ждать официального знакомства — всё равно бы не дождался. Мисс Катерина Бартон перескочила этот барьер играючи и звала его за собой. «Наверное, вам интересно будет осмотреть дом», — сказала она, картинно выгибая брови. Вторая часть фразы: «Когда вы наконец перестанете пялиться на меня» — подразумевалась. На самом деле мисс Бартон была скорее миловидна, чем ослепительна, хотя многие её черты тешили взор, и одевалась она прекрасно. Не в том смысле, чтобы показать, сколько денег она может потратить и как следит за модой, а в том, что её туалет являл миру исчерпывающий и правдивый отчёт о красоте её тела. Когда она повернулась, чтобы идти в дом, юбка в движении обвила бёдра, полностью явив их очертания. Или так Даниелю почудилось, что, в сущности, равнозначно. С самого приезда в Лондон он гадал, что в племяннице Исаака заставляет могущественных людей декламировать скверные стишки, и почему, стоит в разговоре возникнуть её имени, глаза у всех стекленеют. Ему следовало догадаться. Лицо может обманывать, очаровывать, кокетничать. Однако эта женщина вызывала у всех встречных мужчин тяжёлый паралич, а только тело обладает такой властью. Отсюда преизбыток классических аллюзий в стихах о Катерине Бартон; жрецы её культа искали чего-то дохристианского в попытке передать чувства, которые испытывали, созерцая греческие статуи обнажённых богинь.
А статуй тут было предостаточно. Овальную прихожую обрамляли мраморные ниши, которые Даниель последний раз видел пустыми. За двадцать лет Роджер успел снарядить грабительские экспедиции в греческие развалины или заказать новые работы. Проходя вслед за мисс Катериной Бартон в следующее помещение, Даниель обернулся, чтобы ещё раз оглядеть прихожую. Два лакея — оба молодые, — распахнувшие дверь по жесту хозяйки, теперь таращились на её зад. Оба резко отвернулись и покраснели. Даниель подмигнул им и прошёл в дверь.
— Я сотни раз показывала дом гостям, — говорила мисс Бартон, — и могу болтать о нём, сколько угодно, но вам-то, доктор, его представлять не надо. Вы знаете, что мы идём через центральный холл, все важные помещения слева… — (она имела в виду обеденный зал и библиотеку) — …служебные справа… — (лакейская, кухня, чёрная лестница, клозет) — …гостиная впереди. Что вам угодно? Удалиться в ту сторону? — Взгляд вправо — хозяйка спрашивала, не надо ли ему опорожнить мочевой пузырь или кишечник. — Или желаете чего-нибудь там? — Взгляд влево, подразумевающий, что он, возможно, захочет перекусить. Она сцепила руки перед грудью и указывала вправо и влево движениями глаз, вынуждая Даниеля пристально в них вглядываться. — Этикет требует пригласить вас в гостиную, где мы будем долго препираться, кому куда сесть. Однако после войны французские манеры не в чести — особенно у нас, вигов. И я не могу себя заставить быть церемонной с вами — моим почти что вторым дядюшкой!
— Я бы только выставил себя болваном — после того, как прожил двадцать лет в лесу! — отвечал Даниель. — Только скажите, если мы войдём в гостиную, увижу ли я…
— Вулкан перенесли, — проговорила она скорбно, как будто боялась, что Даниель впадёт в ярость.
— Из дома?
— Нет, боже упаси! Это по-прежнему главная достопримечательность! Просто некоторые комнаты в той части дома, которую проектировали вы, стали, на взгляд Роджера, несколько маловаты.
— Поэтому мистера Гука и пригласили достроить флигеля.
— Вам известна история дома, доктор Уотерхауз, так что не буду вас утомлять, просто скажу, что, в частности, добавили бальную залу, достаточно большую, чтобы наконец представить вулкан в подобающей ему обстановке.
Она толкнула двустворчатую дверь в дальнем конце холла. Оттуда хлынул солнечный свет. Даниель вошёл и замер от изумления.
Когда дом строился, окна гостиной выходили на луг, которому предстояло вскорости превратиться в регулярный сад. Вид этот был Даниелю по сердцу, поскольку почти такой же открывался из дома Дрейка. Теперь сад сменился двором с фонтаном посередине, а прямо напротив высился барочный дворец. Комната, которую Даниель задумывал как место отдохновения, откуда можно любоваться зеленью и цветами, превратилась в галерею для созерцания настоящего особняка.
— Ванбруг, — пояснила мисс Бартон. Тот самый архитектор, что строил сейчас Бленхеймский дворец для герцога Мальборо.
— Гук…
— Мистер Гук добавил флигеля, которые, как вы видите, охватывают двор и соединяют ваш храм с Ванбруговым… э…
«Домом разврата» — вертелось у Даниеля на языке, но не ему, начавшему это всё, было бросать в Ванбруга камнями. Он с трудом подобрал уместные слова:
— Незаслуженная честь для меня, что Ванбруг закончил так великолепно начатое мною столь скромно.
Стулья в гостиной стояли полукругом, обращённым к окну. Мисс Бартон, пройдя между ними, распахнула стеклянные двери, которые по исходному плану должны были открываться на центральный променад сада. Теперь вместо посыпанной гравием дорожки здесь начинались мраморные плиты, ведущие к восьмиугольному водоёму с бронзовым фонтаном посередине. Это была классическая многофигурная композиция: жилистый Вулкан на мощных, хоть и кривых ногах, пытался обнять шлемоносную Минерву, а та отталкивала его рукой. Вокруг валялись мечи, кинжалы, кирасы и несколько недокованных молний. Узловатыми пальцами Вулкан срывал с Минервы нагрудный доспех, обнажая тело, которое явно лепили с Катерины Бартон. Даниель узнал сюжет: Минерва пришла в кузницу Вулкана за оружием, тот, воспылав любострастием, попытался ею овладеть, однако Минерва сумела себя отстоять, и он излил семя на её ногу. Минерва вытерлась тряпкой и отбросила её, оплодотворив, таким образом, Матерь-Землю, которая позже родила Эрихтония, одного из первых афинских царей, введшего в обращение серебряные монеты.
Композиция изобиловала намёками и символами: свободной рукой Минерва уже тянулась за тряпкой, а Вулкан был пугающе близок к соприкосновению с её лилейным бедром. По углам водоёма располагались статуи поменьше: ближе к дому, выстроенному Даниелем, плодоносная богиня (много рогов изобилия) кормила виноградом младенца. Напротив, ближе к дворцу Ванбруга, царь в короне восседал на груде монет. Даниелю мучительно хотелось вывернуть голову и разглядеть, как скульптор решил некоторые частности. Особенно его интересовало, откуда бьёт вода, и одновременно самая мысль об этом была почему-то нестерпима. Катерина Бартон упорно не замечала фонтан — не говорила о нём, не смотрела в его сторону, неприступная, как Минерва. Даниелю, едва поспевавшему за ней, оставалось довольствоваться ролью Вулкана, хоть и без надежды даже на такое удовлетворение.
За всеми этими впечатлениями он не успел разглядеть дом снаружи, как оказался внутри. Возможно, так было и лучше: ему смутно запомнилось множество статуй, скачущих по крышам и балюстрадам.
— Это называется рококо, — объяснила Катерина Бартон, вводя Даниеля в помещение, которое, вероятно, и было тем самым залом. — Все от него без ума.
Даниелю вспомнился отцовский дом: голые стены, добротная неподъёмная мебель — один-два предмета на комнату.
— Здесь я чувствую себя стариком, — брякнул он некстати.
Катерина Бартон одарила его чарующей улыбкой.
— Некоторые говорят, что этот стиль проистекает от избытка декораторов при недостатке домов.
«И отсутствия вкуса», — хотелось добавить Даниелю.
— Поскольку вы — хозяйка дома, мадемуазель, я не стану развивать мысль, высказываемую некоторыми.
Наградой ему стали игра ямочек. Сам того не желая, он нечаянно затронул её отношения с Роджером.
В такие мгновения Даниелю становилось не по себе. По большей части она нисколько не походила на Исаака — даже на того хрупкого, почти женоподобного юношу, с которым Даниель учился в Тринити-колледже полвека назад. Не знай Даниель заранее, он в жизни бы не догадался об их родстве. Однако в те секунды, когда она забывала спрятать свой ум, семейное сходство проступало, и Даниель видел Исааково лицо, как если бы шёл с автором «Математических начал» через тёмную комнату, и того на миг озарила блеснувшая за окном молния.
— Я бы хотела показать вам кое-что достойное вашего внимания, доктор. Сюда, пожалуйста.
Вулкан стоял в дальнем конце зала. В отличие от природных, грубых и ничем не украшенных, он являл собой идеальный конус с углом при вершине осевого сечения ровно девяносто градусов. Жерло или сосок венчали развалины античного храма с дорическими колоннами красного мрамора и полуобвалившимся золотым куполом. Гору из чёрного мрамора с красными прожилками украшали вездесущие золотые сатиры, нимфы, кентавры и прочий мифологический зверинец. Вулкан имел в высоту не более четырёх футов, но казался выше благодаря постаменту в половину человеческого роста, поддерживаемому кариатидами в образе Тифона и прочих земнородных чудищ.
— Если вы подойдёте ко мне, доктор, я покажу вам удивительный винт.
— Простите?
Мисс Бартон открыла неприметный люк с задней стороны постамента и теперь манила Даниеля рукой. Тот обошёл вулкан, осторожно присел на корточки и заглянул внутрь. Теперь он увидел цилиндр, идущий под наклоном от установленного на полу чана к жерлу.
— Роджер очень хотел, чтобы вулкан извергал потоки расплавленного серебра. Это было бы так эффектно! Однако мистер Макдугалл побоялся, что могут загореться гости.
— Что тоже было бы по-своему эффектно, — пробормотал Даниель.
— Мистер Макдугалл уговорил Роджера остановиться на фосфорном масле. Его изготавливают в другом месте, привозят сюда в бочке и выливают в ёмкость. Архимедов винт поднимает его вверх, так что оно изливается из кратера и бежит по склонам, обращая в бегство кентавров и прочих созданий.
— В бегство?!
— О да, ибо фосфор изображает потоки жидкого огня.
— Это я понимаю. Но как они бегут?
— Они заводные.
— И все сделаны Макдугаллом?
— О да.
— Я помню, что приглашал ювелира по фамилии Милхауз, но не припоминаю механика по фамилии Макдугалл…
— Мистер Милхауз подрядил мистера Макдугалла сделать хитроумные части механизма. Когда мистер Милхауз умер от оспы…
— Мистер Макдугалл сменил его, — догадался Даниель, — и не мог остановиться, придумывая одни хитроумные части задругами.
— Пока Роджер не сказал ему: «Хватит», боюсь, несколько категорично. — Катерина Бартон поморщилась, так что Даниелю захотелось погладить её по голове.
— Он ещё жив?
— Да. Работает в театрах, делает призраков, взрывы и ураганы.
— Ну, разумеется.
— При одном из поставленных им морских сражений сгорел занавес.
— Охотно верю. И как часто вулкан извергается?
— Раз или два в год, во время больших приёмов.
— И в таком случае мистера Макдугалла возвращают из ссылки?
— Да. У Роджера с ним договорённость.
— Откуда берётся фосфор?
— Его привозят, — сказала Катерина Бартон так, словно эти слова заключали в себе ответ.
— И как мне отыскать мистера Макдугалла?
— В Королевском театре, в Ковент-Гарден, собираются ставить новую пьесу под названием «Сожжение Персеполя».
— Благодарю вас, мисс Бартон, я всё понял.
Дом Исаака Ньютона на Сент-Мартинс-стрит в Лондоне
тот же день, позже
— У меня для вас есть загадка, связанная с гинеями, — такими словами Даниель нарушил двадцатилетнее молчание между собой и сэром Исааком Ньютоном.
Разговор этот Даниель продумывал с того самого дня, как Енох Роот возник на пороге его дома: в каких выражениях передать значимость происходящего, сколько времени уделить воспоминаниям о годах в Кембридже, касаться ли их последней встречи, памятуя, что она закончилась наихудшим возможным образом (исключая смертоубийство). Словно драматург, комкающий черновик за черновиком, он вновь и вновь набрасывал в голове сценарий встречи, и всякий раз действие устремлялось к кровавой развязке, наподобие последнего акта «Гамлета». В конце концов Даниель рассудил, что, по словам Сатурна, ему остались дни или часы, а значит, жалко тратить их на формальности.
Когда дверь открылась, и он через комнату взглянул Исааку в лицо, то не увидел следов ярости или (что было бы куда опаснее) страха, только обречённость. Исаак сидел с видом герцога, которому неожиданно свалился на голову умственно неполноценный братец. Тут-то экспромтом и возникла фраза про гинеи. Слуга, открывавший дверь, глянул на Даниеля, как на труп висельника в жаркий день, и затворил тяжёлые створки.
Исаак и Даниель остались с глазу на глаз в кабинете. По крайней мере Даниель решил, что это кабинет. Он не мог представить, чтобы у Исаака имелись гостиная или спальня, — любая его комната была по определению рабочей. После дома Роджера тёмная обшивка стен казалась почти деревенской. Дверь тоже была дубовой; когда она закрылась, то словно исчезла, породив впечатление, будто Исаак и Даниель — два высушенных экспоната в деревянном ящике. Окна кабинета выходили на Лестер-филдс, резные ставни были открыты, но полузадёрнутые алые занавеси впускали лишь скудный свет. Исаак сидел за большим столом, какой мог бы принадлежать Дрейку, в длинном алом шлафроке поверх тонкой полотняной рубашки. Лицо его изменилось мало, хотя и отяжелело, белые волосы по-прежнему доходили до плеч, однако спереди появилась высокая залысина, словно мозг распирал череп изнутри. Привычная бледность за то время, пока Даниель пересёк комнату и протянул руку, сменилась сердитым румянцем, как будто Исаак позаимствовал краски у шлафрока.
— Ничто меня так не раздражает, как пустые головоломки, призванные испытать мой ум, — сказал он. — Бернулли — клеврет Лейбница — прислал мне…
— Задачу о брахистохроне, помню, — вставил Даниель. — Вы решили её за несколько часов. Мне потребовалось значительно больше времени.
— Но вы её решили! — прогремел Исаак. — Поскольку это задача на анализ бесконечно малых, имевшая целью проверить, насколько я в нём смыслю! Невероятная дерзость! Я был первым, кто мог бы её решить, а вы — вторым, потому что узнали о методе флюксий непосредственно от меня! И пешки барона смеют, через тридцать лет после того, как я…
— Вообще-то моя задача совершенно иного рода, — произнес Даниель. — Искренне сожалею, что невольно вас огорошил.
Исаак сморгнул. На лице его проступило невероятное облегчение. Возможно, он боялся, что Даниель оспорит слова: «Узнали о методе флюксий непосредственно от меня». Картина разом прояснилась. Исаак видел в Даниеле свидетеля, который подтвердит его приоритет, и любые досадные свойства гостя отступали перед этим соображением.
Даниель вздохнул свободнее, чувствуя, как расслабляются мышцы шеи и затылка. Всё будет хорошо. Он выйдет отсюда живым, даже если сболтнёт что-нибудь неподходящее. Для Исаака он не пешка, а ладья, придерживаемая на краю доски до конца игры, чтобы последним неумолимым ходом поставить сопернику мат. От ладьи Исаак готов стерпеть многое.
На миг промелькнула мысль: уж не Исаак ли — не иначе как в соответствии с принципом дальнодействия — повлиял на принцессу Каролину в Ганновере и подстроил его возвращение в Лондон?
— Так в чём ваша загадка, Даниель?
— Сегодня я встречался с человеком, который знает о деньгах много больше моего. Он пытался оценить гинею.
— Или монету, выдаваемую за гинею, — поправил Исаак.
— Согласен. Я сказал «гинея», потому что в конце концов она оказалась гинеей.
— Он должен был её взвесить.
— Так он и сделал. И вес монеты не вызвал у него нареканий. Казалось бы, вопрос решён. Однако дальше он сделал очень странную, на мой взгляд, вещь: положил монету в рот и надкусил.
Исаак не ответил, но, кажется, вновь слегка порозовел: по всей видимости, история его заинтересовала. Он сцепил руки на столе, подобравшись, как кошка.
— Даже я, — продолжил Даниель, — знаю, что монетчики частенько изготавливают фальшивки из золотой фольги, заполняя середину сплавом, который и легче, и мягче золота. Соответственно, чтобы проверить монету, её надо либо взвесить, либо попробовать на зуб. Годятся оба способа. Если монета прошла проверку взвешиванием, то её подлинность доказана! Нет ничего тяжелее золота. Подделка выявляется по недостатку веса. И всё же этот человек — исключительно сведущий во всем, что касается денег — счёл нужным надкусить монету. Есть ли тут какой-то резон? Или мой знакомец просто глуп?
— Он не глуп, — сказал Исаак, устремляя на Даниеля ледяные кометы глаз.
— Вы подразумеваете, что глуп я?
— Связавшись с таким человеком? Глупы или наивны, — отвечал Исаак. — Поскольку вы двадцать лет прожили в глуши, я готов допустить второе.
— Так развейте мою наивность, скажите, что это за человек.
— Весовщик.
— Безусловно, поскольку он взвешивает, но вы вкладываете в это слово некий смысл, который мне, пришельцу из глуши, совершенно непонятен.
— Несмотря на все мои старания улучшить работу Монетного двора и сделать все гинеи полностью одинаковыми, разница в весе сохраняется. Некоторые гинеи чуть тяжелее остальных. Эту погрешность можно уменьшить, но нельзя устранить совсем. Я уменьшил её настолько, что для честного человека разницы нет. То есть большинство лондонцев — включая искушённых коммерсантов — без колебаний обменяют одну гинею на другую, иногда даже не утрудившись её взвешиванием.
— Я прекрасно помню времена, когда всё было иначе, — заметил Даниель.
— Вы говорите о нашем визите на Сторбриджскую ярмарку перед началом Чумы, — тут же ответил Исаак.
— Да, — подтвердил Даниель после мгновенного замешательства.
Они как-то пошли на ярмарку покупать призмы, и по дороге Исаак отпустил несколько замечаний касательно флюксий — начало анализа бесконечно малых. Во время долгого плавания через Атлантический океан Даниель выудил из глубин памяти тот разговор, припомнив некоторые частности, вроде формы водорослей в реке Кем, изгибаемых её течением. Теперь стало понятно, что Исаак в последнее время напряжённо думал о том же самом.
Продолжать болтовню о монетах, когда истинная тема беседы уже практически всплыла на поверхность, было слегка нелепо. Однако англичанин всегда предпочтет лёгкую нелепость мучительной прямоте. Итак, дальше о нумизматике.
— Затем она — денежная система — пришла в ещё больший упадок, — сказал Исаак.
— Позвольте напомнить, что я уехал лишь в середине тысяча шестьсот девяностых, когда в стране практически не осталось денег, и наша экономика превратилась в конфетти расписок.
— Теперь Англия купается в золоте. Наша денежная единица тверда, как адамант. Успехам нашей коммерции завидует весь мир, и даже Амстердам уступил нам первенство. Тщеславием с моей стороны было бы приписывать это только своим заслугам. Однако простая честность требует сказать, что такое не стало бы возможным, не знай каждый англичанин, что одну гинею можно смело обменять на другую. Что все гинеи одинаковы.
Внезапно всё, что Даниель знал о мистере Тредере, выстроилось в новую, неожиданную, но чрезвычайно связную картину: как будто груда щебня у него на глазах сложилась в мраморную статую.
— Позвольте догадку. Весовщик, — (Даниель едва не сказал: «мистер Тредер»), — это человек, который делает вид, будто, как всякий честный англичанин, верит в одинаковость гиней, однако тайно взвешивает каждую попавшую ему в руки монету на очень точных весах. Лёгкие и средние он возвращает в оборот. Тяжёлые — откладывает. Накопив, предположим, сотню таких, он получает достаточно металла, чтобы отчеканить сто и одну гинею. Он создал новую гинею из ничего.
Исаак сказал «да» медленным движением век.
— Конечно, то, что вы описали, лишь самая простая из их уловок. Те, кто её освоил, быстро переходят к более преступным махинациям.
Однако Даниеля, всё ещё переваривавшего новость, заклинило на самом простом.
— Такое возможно, — предположил он, — только если через руки этого человека, по роду его деятельности, проходит большое количество монет.
— Разумеется! Вот почему практика взвешивания столь распространена среди денежных поверенных. Я чеканю гинеи и отправляю их в оборот; эти люди распускают ткань, с таким трудом мною сотканную — возвращают самые тяжёлые монеты в Лондон, где те неизменно оказываются в сундуках у самых гнусных изменников королевства!
Даниель вспомнил, как они проезжали мимо казнённых на Тайберне.
— То есть весовщики связаны с монетчиками.
— Как пряхи с ткачами, Даниель.
Мгновение Даниель молчал, припоминая всё, что знал о мистере Тредере.
— Вот почему я был потрясён — до глубины души, если желаете знать, — увидев, что вы путешествуете в обществе такого человека! — проговорил Исаак, и впрямь слегка дрожа от переизбытка чувств.
Даниель так привык к загадочному всеведению Исаака, что почти не удивился.
— На сей счёт, — сказал он, — у меня есть объяснения, которые, знай вы их, показались бы вам неимоверно скучными.
— Я озаботился навести справки и соглашусь, что в вашем временном знакомстве с упомянутым господином нет ничего недолжного, — отвечал Исаак. — Будь я склонен к мнительности, как Флемстид, я бы истолковал ваше продолжающееся с ним общение наихудшим возможным образом! Однако я вижу, что вы, не ведая истинной сущности этого человека, подпали под его обаяние, потому и предостерегаю вас сейчас в надежде, что вы сделаете самые серьёзные выводы.
Даниель чуть не расхохотался. Он не знал, какое утверждение смешнее: что Исаак не мнителен или что мистер Тредер наделён обаянием. Лучше сменить тему!
— Вы так и не ответили на мой вопрос, зачем он надкусил монету, если уже её взвесил.
— Есть способ обмануть проверку взвешиванием, — сказал Исаак.
— Невозможно! Нет ничего тяжелее золота!
— Я открыл, что есть золото тяжелее двадцатичетырёхкаратного.
Даниель на мгновение задумался.
— Абсурд.
— Ваш мозг как логический орган отвергает подобную мысль, — сказал Исаак, — поскольку чистое золото, по определению, соответствует двадцати четырём каратам. Чистое золото не может стать чище, а следовательно, не может быть тяжелее. Разумеется, мне это известно. Однако, говорю вам, я собственными руками взвешивал золото, более тяжёлое, чем достоверно чистое.
В устах любого другого человека на земле — включая натурфилософов — фраза означала бы: «я напортачил со взвешиванием и получил неверный результат». В устах сэра Исаака Ньютона это была истина евклидовой непреложности.
— Мне вспомнилось открытие фосфора, — проговорил Даниель после некоторого раздумья. — Нового природного элемента с невиданными прежде свойствами. Может быть, есть и другие. Может быть, существует вещество, во многом сходное с золотом, однако обладающее большим удельным весом, и золото, о котором вы говорите, имело примесь этого вещества.
— Отдаю должное вашей изобретательности, — с лёгкой иронией проговорил Исаак, — но есть более простое объяснение. Да, золото, о котором я говорю, содержит примесь: флюидную субстанцию, заполняющую промежутки между его атомами и придающую металлу больший удельный вес. Я полагаю, что субстанция эта — не что иное, как…
— Философская ртуть! — Слова сорвались с языка под влиянием искреннего чувства, отразились от тёмных дубовых стен и, вернувшись через уши, заставили Даниеля вздрогнуть от собственного идиотизма. — Вы считаете, что это философская ртуть, — поправился он.
— Тонкая материя, — проговорил Исаак без тени волнения, но с суровой торжественностью Радаманта. — Цель алхимиков с тех самых пор, как тысячи лет назад царь Соломон увёз знание на Восток.
— Вы искали следы философской ртути, сколько я вас знаю, — напомнил Даниель, — и ещё каких-то двадцать лет назад все ваши поиски были безуспешны. Что изменилось?
— По вашему совету я принял руководство Монетным двором. Я начал Великую Перечеканку, которая извлекла на свет Божий огромное количество золота.
— И установили такое соотношение золота к серебру, при котором цена первого оказалась сильно завышена, — подхватил Даниель, — чем, как все знают, практически изгнали из Англии серебро и привлекли в неё золото из всех уголков мира, куда протянула свои щупальца коммерция.
Исаак не снизошёл до ответа.
— До того, как двадцать лет назад вы… — тут Даниель чуть не сказал: «впали в помрачение рассудка», но вовремя поправился: — …сменили род занятий, вы работали с небольшими образцами золота, приобретёнными в Англии. Назначение на пост директора Монетного двора вкупе с вашей политикой в этой должности сделало Тауэр узким горлышком, через которое течёт всё золото мира. Вы можете сколько душе угодно запускать руку в этот поток, исследовать золото из самых разных стран. Я угадал?
Исаак кивнул, и в облике его проступила какая-то плутоватость, словно у шкодливого старика.
— Все алхимики со времён Гермеса Трисмегиста считали, что золото Соломона утрачено навсегда, и пытались заново открыть утерянное искусство путём кропотливых опытов и эзотерических изысканий. На этой стезе я потерпел неудачу перед тем, что вы стыдливо назвали «сменой рода занятий». Однако, выздоравливая, я посетил Монетный двор, побеседовал с моими предшественниками и понял, что старые убеждения эзотерического братства больше не верны. Даже если Соломон отправился на самые далёкие острова Востока, что ж, коммерция проникла и туда, и в области ещё более отдалённые. Испанцы и португальцы в поисках золота и серебра не обошли вниманием ни один, самый затерянный уголок мира. Соломон, где бы он ни обосновался, должен был оставить следы в виде Соломонова золота, то есть золота, полученного алхимически и содержащего философскую ртуть. За тысячелетия, прошедшие с исчезновения его царства, золото несомненно много раз переходило от одного невежды к другому. Его возили по морю, перековывали на погребальные маски, прятали в потайных сокровищницах, находили, похищали, использовали в украшениях, перечеканивали на монету разных государств. И всё это время оно сохраняло следы философской ртути — печать своего рождения. И я понял, как его найти. Не выискивать в древних трактатах крупицы алхимических знаний, не снаряжать экспедиции на край света. Достаточно усесться, словно пауку, в центре мировой коммерческой паутины и сделать так, чтобы золото текло ко мне, как всякая материальная точка в Солнечной системе естественно падает на Солнце. Если проверять весь металл, поступающий на Монетный двор для перечеканки на гинеи, то со временем я, возможно, отыщу следы Соломонова золота.
— И теперь вы говорите, что сумели его найти, — сказал Даниель, не желая пока вступать в спор. — Когда это случилось?
— За первые несколько лет я не обнаружил ничего. Ни намёка. Я отчаялся когда-нибудь его отыскать, — признался Исаак. — Потом, во время передышки в войне, году в тысяча семьсот первом, я нашёл золото, более тяжёлое, чем двадцатичетырёхкаратное. Не могу описать словами свои тогдашние чувства! Это был всего лишь кусочек золотой фольги, изъятый в мастерской монетчика при обыске, совершённом по моему приказу курьерами королевы. Самого монетчика убили при задержании — вообразите мою досаду! Ещё через несколько лет мне попалась поддельная гинея, более тяжёлая, чем положено. Со временем я выследил изготовившего её монетчика. На допросе он показал, что по большей части приобретал золото из обычных источников, но не так давно купил, через посредника, некоторое количество металла в кованых листах, толщиною примерно в восьмую часть дюйма. Шесть месяцев спустя я говорил с другим монетчиком, и тот вспомнил, что видел крупный кусок такого золота. Он сказал, что металл был с одной стороны расчерчен царапинами, с другой — испачкан смолой.
— Смолой!
— Да. Однако сам я не видел ни одного образца и нахожу лишь свидетельства в монетах — поддельных гинеях такого качества, что сам иногда принимаю их за подлинные!
— Получается, что хозяин золота где-то хранит его в виде золотых листов, испачканных смолой, и время от времени продаёт монетчику…
— Не просто монетчику, а Монетчику с большой буквы. Джеку-Монетчику. Моей Немезиде и человеку, на которого я охочусь последние двадцать лет.
— Занятный, должно быть, малый этот Джек, — проговорил Даниель, — и я надеюсь, что вы расскажете о нём больше. А пока, правильно ли я понял, что он держит золотые листы в запасе и время от времени чеканит из них монеты?
— Будь у него запас, он перечеканил бы всё до последней унции так быстро, как только могут работать его подручные. Нет, я полагаю, что Джек знаком с хозяином золота, который, по мере надобности в деньгах, передаёт ему отдельные листы.
— Есть ли у вас догадки касательно того, кто хозяин?
— Ответ подсказывают царапины и смола. Это золото с корабля.
— Корабли и впрямь смолят, но в остальном я бессилен проследить ход вашей мысли.
— Вам недостает следующего звена: у матросов и офицеров французского военного флота есть легенда…
— Ах, вообще-то я её слышал! — воскликнул Даниель. — Просто не увидел связь. Вы о легендарном корабле, корпус которого обшит золотом.
— Да.
— И, как я понимаю, не считаете это легендой.
— Я изучил вопрос, — торжественно проговорил Исаак, — и теперь могу проследить историю Соломонова золота от страниц Библии, через века, до корпуса этого корабля и образцов, которые анализировал в лаборатории Лондонского Тауэра.
— Расскажите же мне её!
— Рассказывать, собственно, не о чем. Острова царя Соломона расположены в Тихом океане. Здесь золото и лежало, не потревоженное человеческой рукой, примерно до той поры, когда затикали Гюйгенсовы часы, а мы с вами вступили в пору отрочества. Испанский флот, унесённый тайфуном далеко от торгового пути из Акапулько в Манилу, бросил якоря у Соломоновых островов. Моряки запаслись водой, провизией, а также песком, чтобы обложить печи на камбузах для защиты от пожара. По пути в Новую Испанию жар печей выплавил золото — либо что-то на него похожее — из песка; при разгрузке в Акапулько обнаружили небольшие слитки удивительной чистоты. Вице-король Новой Испании, тогда как раз начинавший своё двадцатипятилетнее правление, немедленно отрядил на Соломоновы острова корабли, чтобы добыть ещё такого золота. Все эти годы оно лежало в его сокровищнице в Мехико. Перед возвращением на родину вице-король велел погрузить Соломоново золото на свой личный бриг, который отплыл вместе с испанским флотом и благополучно добрался до Кадиса. Однако затем маленький бриг был по недомыслию отправлен без сопровождения в Бонанцу, к вилле, где вице-король намеревался безбедно жить до конца дней. До того, как золото успели разгрузить, на бриг напали пираты, переодетые турками, под предводительством гнусного злодея, известного как Джек Куцый Хер, Король бродяг или, у французов, Эммердёр. Золото было похищено; долгим путём разбойники добрались вместе с ним до Индии, где почти всё оно попало в руки языческой царицы пиратов, чёрной, как сажа, и не имеющей понятия об истинной ценности своей добычи. На тамошних берегах Джек и его сообщники выстроили пиратский корабль. У неких голландских корабелов они позаимствовали мысль — отнюдь не ложную, ибо даже стоящие часы дважды в день показывают правильное время, — что, если корпус до ватерлинии обшить гладкими металлическими листами, он не будет обрастать ракушками и разрушаться древоточцами.
— Мысль вполне разумная, — заметил Даниель.
— Разумная, но самым чудным образом воплощённая! Ибо в своём расточительном тщеславии Джек велел обшить корабль золотом!
— Итак, рассказ французских моряков не фантастичен, — подытожил Даниель.
— Я бы сказал иначе: правдив при всей своей фантастичности! — отвечал Исаак.
— Знаете ли вы, где сейчас этот корабль? — спросил Даниель, пытаясь не выдать нервозности; он-то знал.
— Считается, что его назвали «Минервой». Неизвестно, правдивы ли эти сведения, и даже если правдивы, проку от них мало: сотни кораблей носят такое имя. Однако я подозреваю, что он по-прежнему бороздит моря и время от времени заходит в Лондон, где между Джеком-Монетчиком и владельцами корабля происходит некий обмен. Золотые листы извлекают из трюма — поскольку, без всяких сомнений, их сняли и заменили медными много лет назад, наверное, где-нибудь в Карибской бухте — и передают Джеку, а тот чеканит из них превосходнейшие гинеи, которыми отравляет денежную систему её величества. Вот и весь рассказ о золоте Соломона, Даниель. Я надеялся, что вы найдёте его занятным. Почему у вас такой рассеянный вид?
— Меня удивило, что цель всей вашей жизни в руках у человека, которого вы назвали своей Немезидой.
— Моей Немезидой в том, что касается Монетного двора. В прочих областях у меня иные недруги, — напомнил Исаак.
— Это несущественно. Почему золото царя Соломона хранится не в Севилье, не в Ватикане, не в Запретном Городе Пекина? Почему оно во власти Джека-Монетчика — того самого, которого вы более всего хотели бы видеть на Тайбернском эшафоте?
— Потому что оно тяжелее обычного и тем ценно для фальшивомонетчика.
— Оно куда ценней для алхимика. Как по-вашему, известно ли это Джеку, и знает ли он, что вы, Исаак, алхимик?
— Он обычный проходимец.
— Скорее весьма необычный, судя по тому, что вы рассказали.
— Уверяю вас, что он ничего не смыслит в алхимии.
— Я тоже. Тем не менее я понимаю, что вы хотите получить это золото!
— Какая разница? Ему известно, что я стремлюсь найти его и покарать — довольно и того.
— Исаак, у вас есть обыкновение недооценивать ум всех тех, кто не вы. Возможно, Джек рассчитывает с помощью Соломонова золота заманить вас.
— Если мышь хочет заманить льва — что с того?
— Смотря куда она хочет его заманить. Что, если в ловчую яму с острыми кольями на дне?
— Не думаю, что ваша аналогия применима, хоть и благодарен вам за заботу. Давайте мы покончим со скучными разговорами о Джеке, покончив с Джеком!
— Вы сказали, «мы»?
— Да! Поскольку здесь всего два человека, разумеется, я имею в виду вас и меня. Как мы делили комнату и трудились вместе на заре жизни, так будем действовать и сейчас, на её закате.
— Чем я могу помочь в задержании Джека-Монетчика?
— Вы прибыли из Америки с таинственной целью, проехали через Англию в обществе известного весовщика и, по слухам, предаётесь неким оккультным занятиям в Клеркенуэллском склепе.
— Отнюдь, разве что считать застройку областью чёрной магии.
— Если теперь вы представитесь лондонскому преступному миру в качестве весовщика, владеющего золотом из Америки…
— Я не имею желания представляться лондонскому преступному миру ни в каком качестве!
— Но если бы представились, вы могли бы установить связь с осведомителями Джека и воровским подпольем…
— Второй раз за сегодня я слышу слово «подполье» в таком смысле. Мне всегда казалось, что это род погреба.
— Оно и больше, и куда опаснее, — заметил Исаак.
— Я не намерен иметь с ним ничего общего.
— Если вы сегодня слышали это слово, то, надо понимать, уже сошлись с его представителями, — проговорил Исаак насмешливо, — что ничуть меня не удивляет, учитывая ваши последние знакомства.
Даниель молчал. Он не мог сказать Исааку, что беседует с людьми, упоминающими воровское подполье — такими, как Питер Хокстон, — единственно из желания разыскать пропавшее наследие Гука.
Исаак решил, что ему просто нечем крыть. Будь у Даниеля время, он бы как-нибудь вышел из положения. Однако в дверь постучали. Чуть раньше хлопнула входная дверь: видимо, принесли записку, и слуга пришёл её передать, оборвав разговор в самый неудачный для Даниеля момент. А может, слуга караулил под дверью, чтобы постучать по некоему тайному сигналу Исаака: «Ловушка сработала, скорее прерви нас, иначе он вывернется!»
— Войдите! — сказал Исаак.
Вошёл слуга, тот самый, что провожал Даниеля в кабинет. В руках у него был лист дорогой бумаги с несколькими строками, написанными небрежной рукой знатной особы. Пока Исаак их расшифровывал и обменивался со слугой тихими невразумительными замечаниями, Даниель смог наконец мысленно подытожить разговор начиная со своих слов про гинею.
Чего он ждал? В лучшем случае холодности. Худший вариант рисовался так: Исаак, прознав, что он разыскивает наследие Гука и выполняет поручения Лейбница, вырвет ему сердце из груди, словно ацтекский жрец. Долгую дружескую беседу — если бы некий оракул предрёк её заранее — Даниель бы расценил как триумф. Что ж, возможно, это и впрямь триумф — только не его, а Ньютона. Вне зависимости от того, знает ли сэр Исаак о верности доктора Уотерхауза Гуку и Лейбницу, он решил держать бывшего приятеля под рукой и по мере надобности употреблять в дело.
— Мы так и не коснулись притязаний барона фон Лейбница на создание анализа бесконечно малых, — проговорил Исаак свойским тоном, плохо вязавшимся с его образом, — а мне уже пора уходить.
— Я безмерно признателен, что вы уделили мне столько своего времени, — ответил Даниель, стараясь, чтобы фраза не прозвучала иронически.
— Это мне следует вас благодарить, и, уверяю, предстоящая встреча не будет и вполовину столь приятной! Будь Монетный двор исключительно храмом натурфилософии, заведовать им было бы чистое наслаждение. Увы, мне приходится тратить много часов на дела политического свойства, — последние слова Исаак произнёс, поднимаясь из-за стола.
— Так сегодня виги или тори? — Даниель тоже встал. Всё, сказанное дальше, не имело никакого значения: с тем же успехом они могли обмениваться светскими любезностями на ирокезском.
— Немцы, — отвечал Исаак, пропуская гостя вперёд; видимо, Катерина Бартон или кто-то ещё научили его манерам.
— Немцы и так скоро будут тут заправлять, зачем они докучают вам сейчас?
За дверью кабинета они помедлили, чтобы Исаак сменил шлафрок на поданный слугою камзол.
— Они докучают не мне, а другим людям, более высокопоставленным, со всеми вытекающими последствиям. Я бы предложил вас куда-нибудь подвезти, но вы со мной не поместитесь. Приказать, чтобы вам вызвали экипаж?
— Благодарю, я прогуляюсь пешком, — ответил Даниель.
Они вышли в переднюю, где оказалось очень тесно. Между двумя дюжими молодцами, от которых разило улицей, стоял чёрный вертикальный ящик; за открытой дверцей виднелось алое кожаное сиденье. Исаак залез внутрь и уселся, расправив полы камзола. Слуга застыл рядом, ожидая знака, чтобы захлопнуть дверцу.
— Вы сообщите о своём ответе на мои предложения, — предрёк Исаак. — И не забудьте, что нам надо как-нибудь побеседовать об анализе бесконечно малых.
— Не было дня, чтобы я о нём не думал, — отвечал Даниель.
Дверца захлопнулась. Из ящика чётко донёсся голос Исаака: «Боже, храни королеву», напомнив Даниелю, что их разделяет лишь чёрная материя, через которую Ньютон всё видит и слышит, оставаясь незримым для внешнего мира.
— Боже, храни королеву, — отозвался Даниель и вслед за портшезом вышел на Сент-Мартинс-стрит. Исаака быстро понесли на юг, в сторону Сент-Джеймского дворца, Вестминстера и всего государственно значимого. Даниелю неловко было идти рядом с портшезом, поэтому он двинулся в противоположную сторону.
Пройдя через ворота в начале улицы, он оказался на широком открытом пространстве, называемом Лестер-филдс. С трёх сторон квадрат окаймляли новые дома, какие начали строить после Пожара, но в северной части, то есть прямо перед Даниелем на расстоянии полёта стрелы, высился уцелевший тюдоровский ансамбль: краснокирпичные и фахверковые здания, вместе называемые Лестер-хауз. Прежде, когда в Лондоне было не так много мест, достойных особ королевской крови, здесь проживали различные Тюдоры и Стюарты. Елизавета Стюарт занимала этот дворец до того, как отправиться в Европу, стать Зимней королевой и дать жизнь множеству детей, в том числе Софии. Нынешние монархи не питали к дому сентиментальных чувств, а новое строительство изменило представления о роскоши и великолепии; на фоне современных зданий Лестер-хауз представлялся обычной деревенской усадьбой.
Выйдя на Лестер-сквер, Даниель взглянул в ту сторону, пытаясь сориентироваться, словно моряк, высматривающий на небосводе старые знакомые звёзды. Перед дворцом стояло множество лошадей и телег. У Даниеля ёкнуло сердце: ему подумалось, что Лестер-хауз собрались сносить. Он зашагал по траве, распугивая овец и кур, и вскорости понял, что телеги не такие, на которых вывозят битый кирпич, а куда более приличные, для дорожной клади. Здесь же был и экипаж, запряжённый четвёркой вороных. Из него как раз вылезла дама и пошла в сторону Лестер-хауз, а слуги, выстроившись в два ряда, её приветствовали. Даниель видел только, что дама миниатюрная и хорошо сложена. Голову скрывал огромный шёлковый шарф поверх шляпы или парика. При своём слабом зрении Даниель не мог с такого расстояния различить губы, глаза, носы слуг, однако по тому, как слуги поворачивались к идущей даме, чувствовал, что все улыбаются, и понимал: хозяйку в доме любят.
Там, где два ряда слуг сходились перед парадным входом особняка, стоял человек, явно не принадлежащий к челяди; он был одет как джентльмен. Однако в его облике сквозило нечто необычное; Даниель не мог понять что, пока человек не склонился в низком поклоне, чтобы приложиться даме к руке. Он был совершено чёрный. Дама взяла чернокожего под руку, и тот повёл её в Лестер-хауз, а слуги бросились разгружать багаж или занялись какими-то другим делами.
Поскольку смотреть больше было не на что, Даниель повернулся на каблуках и побрёл к краю сквера. И, как оказалось, не он один. Бродяги, мелочные торговцы, гуляющие джентльмены и мальчишки-чистильщики расходились по окрестным улицам, а в новых домах по периметру Лестер-сквер на окнах задергивали занавеси.
Лестер-хауз
десять секунд спустя
Она взлетела по крутой деревянной лестнице чуть ли не бегом, не переставая говорить, так что ему, чтобы расслышать, пришлось поспевать следом, и лишь на мгновение замедлила шаг перед рассохшейся деревянной дверью. Прежде чем Даппа успел выговорить: «Позвольте мне», она толкнула створку плечом и скрылась в гулком пространстве по другую сторону, оставив дверь содрогаться на петлях.
Последние несколько ступеней Даппа преодолевал с опаской. Его ноги отвыкли от опоры, которая не кренится поминутно с боку на бок и с носа на корму. Избежав стольких смертей, обидно было бы сломать шею на старой лестнице в английском особняке.
Теперь они были в равнобедренном треугольнике, образованном скатами крыши и шатким дощатым полом. В доме обычных размеров, но тех же пропорций места на таком чердаке хватило бы разве что голубям, здесь же можно было отплясывать контрданс.
Даппа пожалел, что с ним нет моряков — вот бы они посмеялись! У людей, которые долго живут на суше, развиваются нелепейшие привычки. Они забывают, что всё в Божьем мире движется, и думают, будто можно притащить вещь, например, шкаф, в некое помещение, например, в эту комнату, накрыть холстиной и оставить, не принайтовив, а через двадцать лет обнаружить на прежнем месте.
Дальше некоторые совершенно распоясываются. Такие комнаты — памятники, которые они воздвигли себе. Накрытая холстом мебель, упакованные картины, стопки книг наползали друг на друга, как ледяные торосы в бухте. Пауки потрудились: целая команда усердных маленьких такелажников день и ночь скрепляла и обвязывала это непотребство. Элиза разрушала их работу, уверено лавируя к дальнему концу комнаты. За платьем тянулся прозрачный паутинный шлейф, кильватер отмечали пыльные завихрения. Она так напряженно просчитывала путь, что даже забыла говорить.
Через каждые несколько ярдов были прорублены небольшие мансардные окна, и в льющемся из них свете Даппа отлично видел, сколькими способами может замарать камзол, если последует за хозяйкой. Забыв, что дом точно не накренится под ногами, он рассеянно ухватился за поперечную балку между стропилами. Небольшая лавина светло-серого помёта летучих мышей скатилась по рукаву и обрела единение с дорогим чёрным сукном.
— Хорошо, что моя голова и раньше была седа. — Даппа сам изумился, как громко прозвучал в полной тишине его голос.
— Простите?
— Не обращайте внимания, я просто ворчу себе под нос.
— Ничего страшного, — отозвалась Элиза. — Только не забывайте, что в присутствии посторонних — особенно родовитых особ…
— Вы — моя знатная патронесса, — подхватил Даппа, — а я писака, измазанный в чернилах с головы до ног и потому чёрный везде, за исключением ступней, которые я стаптываю, собирая невольничьи рассказы.
— И ладони руки, которой сжимаете перо. Я узнаю фразы из вашей апологии к новой книге, — ответила она, удостаивая его лёгкой улыбки.
— Так вы её прочли!
— Ну разумеется! Как же иначе?
— Я боялся, что вас утомили невольничьи рассказы с их пугающим однообразием. «Меня захватили воины из соседней деревни… продали племени, живущему за рекой… пригнали к большой воде, заклеймили, погрузили на корабль, вытащили с него полумертвым, и теперь я рублю сахарный тростник».
— Все человеческие истории в какой-то мере одинаковы, если сжать их до такой степени. И всё же люди влюбляются.
— Что?!
— Влюбляются, Даппа. В конкретного мужчину или конкретную женщину и ни в кого иного. Либо: женщина любит своего ребёнка, как бы ни походил он на других детей.
— Вы говорите, что возникает связь между людскими душами, несмотря на одинаковость…
— Нет никакой одинаковости. Если бы вы смотрели на мир с высоты, как альбатрос, люди внизу казались бы вам одинаковыми. Мы — не альбатросы, мы видим мир с уровня земли, своими собственными глазами, каждый — в своей собственной системе координат, которая меняется в зависимости от нашего положения. Пресловутая одинаковость — химера, призрак, который мучает вас, когда вы ночами ворочаетесь в гамаке.
— По правде сказать, у меня своя каюта, и теперь я ворочаюсь в койке.
Элиза не ответила. Некоторое время назад она достигла дальней стены и теперь, говоря, смотрела на Лестер-филдс через круглое окошко в фасаде. На корабле это означало бы, что она следит за погодой. Но что можно высматривать здесь?
— Нужно, чтобы читатель нашёл родственную душу в одном из ваших повествований, — рассеянно продолжала Элиза, — и тогда он поймёт, как отвратительно рабство.
— Что, если печатать их по отдельности, в виде памфлетов?
— Листки дешевле, их можно расклеивать на стенах и тому подобное.
— Ах, как вы меня опережаете.
— Распространение — моя забота, ваша — сбор.
— Почему вы смотрите в окно? Боитесь любопытства соглядатаев?
— Когда герцогиня сходит с корабля в Лондонской гавани и едет через город в сопровождении целого поезда карет, она, естественно, возбуждает любопытство, — спокойно ответила Элиза. — Я составляю реестр тех, кто на меня заглядывается.
— Увидели кого-нибудь знакомого?
— Вот старый пуританин, которого я вроде бы знаю… несколько гадких тори… и чересчур много соседей, теребящих занавески. — Она отвернулась от окна и совершенно другим тоном спросила: — Что-нибудь стоящее из Бостона?
— Там всё больше ангольцы, а я несколько подзабыл их язык. Гавкеры в Массачусетсе действуют в последнее время более решительно — раздают памфлеты на улицах…
Как раз когда Даппа думал, будто сообщает ценные сведения, Элиза нетерпеливо отвернулась к окну. Ну разумеется, ей прекрасно известно, что делают гавкеры в Массачусетсе.
— Соответственно и рабовладельцы там бдительнее, чем, например, в Бразилии. Увидев, что их невольники разговаривают с подозрительно хорошо одетым арапом…
— Вы не собрали в Бостоне ничего полезного, — оборвала она.
— Я слишком пространен, ваша милость?
— Я слишком много сокращаю? — Элиза отвернулась от окна и снова смотрела на собеседника.
— Это помещение — опрокинутый трюм, — понял вдруг Даппа. — Если перевернуть «Минерву» так, чтобы мачты указывали к центру Земли, то её киль смотрел бы в небо, как коньковый брус у нас надо головой, а доски корпуса образовали бы крышу.
— И там по-прежнему бы много всего хранилось, как и в мансарде.
— Это так называется?
— В них живут голодные литераторы.
— Вы предлагаете мне жильё или грозите уморить меня голодом?
— Смотря что вы привезёте из следующего рейса.
Она подошла и с улыбкой взяла его под руку.
— Куда теперь?
— Снова в Бостон.
Отсюда им была видна лестница. Слуги, столпившиеся внизу, могли слышать их разговор.
— А ваша милость? — громко спросил Даппа.
— Вы спрашиваете, куда собираюсь я?
— Да, миледи. Вы ведь только что из Ганновера?
— Из Антверпена, — прошептала она. — Теперь я здесь… как бы вы сказали, в долгом плавании.
Они спустились по лестнице, что было бы куда проще, если бы домашние и слуги герцогини не ринулись предлагать помощь. Чуткое к языкам ухо Даппы уловило немецкую речь: две молодые дамы говорили между собой. Они были одеты, как простые дворянки, но держались, на взгляд Даппы, как титулованные особы.
Даппа впервые встретился с Элизой двадцать лет назад. У него были все основания её ненавидеть. Они с Джеком, ван Крюйком и Врежем Исфахняном отплыли из Вера-Круса на корабле, нагруженном золотом, направляясь в Лондон или Амстердам, а к Йглму свернули только из-за Джековой страсти к этой женщине. Письмо, которым их туда заманили, оказалось подложным — его изготовил иезуит отец Эдуард де Жекс. «Минерва» попала в ловушку, расставленную французами. Джека постигло своего рода возмездие. Даппу, ван Крюйка и команду отпустили вместе с кораблем, но лишь после того, как французы забрали из трюма «Минервы» всё золото. У них остались лишь золотые листы, которыми при постройке обшили корпус ниже ватерлинии. И ещё сама «Минерва» — их дом и хлеб. Другими словами, они были обречены провести остаток дней в опасных трудах и скитаниях. Ван Крюйка это устраивало в полной мере. Даппу — куда меньше.
«Минерва» принадлежала — в порядке значимости — малабарской королеве Коттаккал, курфюрстине Софии Ганноверской, ван Крюйку, Даппе, Джеку Шафто и нескольким их старым товарищам, которых последний раз видели на острове Квиинакуута недалеко от Борнео. По большей степени совладельцы были далеко и понятия не имели, как связаться с командой, то есть представляли собою идеальных партнёров. Даже София правила курфюршеством, не имеющим выходов к морю. Но в один прекрасный день ван Крюйк получил письмо, написанное её рукой и скреплённое её печатью, извещавшее, что она назначила Элизу, герцогиню Аркашонскую и Йглмскую, своим доверенным лицом, перед которым они должны будут отчитываться всякий раз, как бросят якорь в Лондонской гавани. Ей же надлежало отдавать причитающуюся Софии часть прибыли.
Даппа отправился на первую встречу с самыми мрачными предчувствиями. И он, и все остальные столько слышали от Джека об Элизиной красоте и настолько разуверились в здравости Джековых суждений, что он готовился увидеть беззубую рябую каргу.
Ничего подобного. Во-первых, ей оказалось лет тридцать шесть. Все её зубы были на месте, а лицо лишь немного пострадало от оспы. Так что выглядела она, во всяком случае, не отталкивающе. Голубые глаза и белокурые волосы, конечно, показались Даппе чудными, однако привык же он к рыжине ван Крюйка, а значит, мог приспособиться к чему угодно. Маленькие рот и нос считались бы красивыми в Китае, и Даппа со временем узнал, что многим европейцам они тоже нравятся. Если бы не веснушки, он, возможно, убедил бы себя, что герцогиню можно назвать привлекательной. Однако она была тощая, с узкой талией — полная антитеза пышнотелой красавице. Даппа любил пышнотелых, и, судя по настенной росписи и скульптурам, которые он видел в Лондоне и Амстердаме, многие европейцы разделяли его предпочтения.
Первая их встреча была посвящена бухгалтерии, так что если в начале дня Даппа и чувствовал к этой женщине какое-нибудь влечение, оно полностью улетучилось к тому времени, когда он, двенадцатью часами позже, вышел, пошатываясь, на улицу. Элиза оказалась въедлива до чрезвычайности и всенепременно желала знать, на что пошёл каждый фартинг с начала строительства «Минервы». Учитывая, что им за это время пришлось пережить, многие вопросы были попросту неприличны. Многие на месте Даппы залепили бы ей пощёчину или хотя бы с возмущением выбежали за дверь. Однако Элиза представляла одну из самых могущественных особ христианского мира, которая могла уничтожить «Минерву» множеством способов — затруднение было бы только в выборе оружия. Даппа сдерживался отчасти поэтому, отчасти потому, что в душе понимал: бухгалтерию «Минервы» надо вести тщательнее. Они потеряли обоих своих счетоводов: Мойше де ла Крус отправился осваивать земли к северу от Рио-Гранде, Вреж Исфахнян пожертвовал собой, чтобы отомстить людям, расставившим им ловушку. С тех пор записи велись как попало. Даппа давно знал, что рано или поздно придёт расплата. Дело могло вылиться в кое-что похуже сидения за столом с этой чудной герцогиней.
В следующие годы они несколько раз встречались, чтобы подбить итоги. Элиза узнала о странной привычке Даппы записывать невольничьи рассказы («Почему вы тратите столько наших денег на бумагу и чернила? Вы что их, за борт бросаете?») и стала его издательницей («Пусть ваша причуда хотя бы окупается»). Шло время. Даппа гадал, как оно скажется на Элизе. Неспособный видеть в ней женщину (женщиной для Даппы была королева Коттаккал, шесть футов роста, триста фунтов веса), он, посмотрев в Лондоне «Сон в летнюю ночь», остановился на выводе, что Элиза — фея. Как выглядит старая или хотя бы стареющая королева фей?
Сейчас они пили чай на верхнем этаже Лестер-хауз, в маленькой комнате, не столь официальной, как парадная гостиная. Элиза бесстрашно села напротив окна — более того, напротив западного окна, из которого струился алый закатный свет. Даппа разглядывал её.
— И что вы видите? — спросила она, в свою очередь, разглядывая Даппу.
— Я уже не могу смотреть на вас иначе как на друга и покровительницу, Элиза, — отвечал он. — Черты возраста, опыта и характера, которые вообразил бы на вашем лице посторонний, для меня незримы.
— Так что вы видите на самом деле?
— Я не столько смотрел на худых белых женщин, чтобы считаться судьёй. Однако я вижу, что хорошая кость — дело стоящее, и у вас она есть. Творец ладно скроил вас и славно сшил.
Ответ странным образом её позабавил.
— Вы когда-нибудь видели представителя семьи д’Аркашон или честный его портрет?
— Только вас, миледи.
— Я имела в виду наследственного д’Аркашона. Довольно сказать, что они худо скроены и дурно сшиты, о чём знают и сами. И своим нынешним положением в мире я обязана не уму, отваге или доброте, а хорошей кости и способности воспроизводить её в потомстве. Что вы скажете теперь, Даппа?
— Если она дала вам опору на том отвесном обрыве, какой представляет собой наш мир, и если благодаря этой опоре вы можете сполна использовать свой ум, отвагу и доброту, то что ж — за хорошую кость!
Она улыбкой признала своё поражение. В уголках губ и глаз собрались морщинки, которые вовсе её не портили: они выглядели честно заработанными и справедливо добытыми. Элиза подняла чашку и чокнулась с Даппой.
— Вот теперь ваши слова и впрямь похожи на авторскую апологию к книге, — сказала она и отпила чай.
— Так мы вернулись к беседе об издании, сударыня?
— Да.
— А я-то ещё надеялся спросить вас о ганноверских графинях, которые, как я понимаю, приехали с вами из Антверпена.
— С чего вы взяли, что они всего лишь графини?
Даппа взглянул пристально, но по огоньку в Элизиных глазах понял, что его дразнят.
— Просто догадка, — сказал он.
— Ну так гадайте дальше. Я не добавлю ничего сверх того, что вы сами поняли.
— А почему Антверпен? Чтобы встретиться с герцогом Мальборо?
— Чем меньше я вам скажу, тем меньше выспросят у вас люди из разряда тех, что пялятся на мой дом в подзорные трубы.
— Что ж… коли так… давайте лучше говорить о моей книге! — поспешно отвечал Даппа.
Элиза довольно улыбнулась, словно говоря, что это куда боле приятная тема, и на миг замолчала. Даппа понял, что сейчас она произнесёт приготовленную заранее речь.
— Не забывайте, что я не стала бы противницей рабства, если бы не побыла рабыней! Большинству англичан оно представляется вполне разумным установлением. Рабовладельцы утверждают, будто никаких особых жесткостей нет, и невольникам живётся хорошо. Большинство европейцев охотно верят в эту ложь, какой бы нелепой ни казалась она нам с вами. Люди верят, что рабство не так уж дурно, поскольку не испытали его на себе. Африка и Америка далеко; англичане любят пить чай с сахаром и не желают знать, откуда он взялся.
— Я заметил, что вы не положили себе сахара.
— А по тому, что кроме хорошей кости у меня есть ещё и зубы, вы можете заключить, что я вообще не употребляю сахара. Наше единственное оружие против нежелания знать — истории. Истории, которые собираете и записываете вы один. В ящике под лестницей у меня хранится стопка писем примерно такого содержания: «Я не видел в системе рабства ничего дурного, однако ваша книга раскрыла мне глаза. Хотя почти все рассказы в ней слезливы и однообразны, один растрогал меня до глубины души; я перечитываю его вновь и вновь и понимаю всю гнусность, всю бесчеловечность рабства…»
— Какой? Какой из рассказов так тронул читателей? — завороженно спросил Даппа.
— То-то и оно, Даппа: они пишут о разных рассказах, каждый о своём. Такое впечатление, что если представить публике достаточно много историй, почти любой найдёт ту единственную, которая говорит его сердцу. Однако нельзя предсказать, какая это будет.
— Значит, то, что мы делаем, подобно стрельбе картечью, — произнёс Даппа. — Некоторые пули поразят цель, но неизвестно какие — так что выпустим их побольше.
— Картечь имеет свои достоинства, — кивнула Элиза, — но ведь корабль ею не потопишь?
— Да, миледи.
— Так вот, мы выпустили достаточно картечи. Большего мы ей не добьёмся. Теперь, Даппа, нам нужно ядро.
— Один невольничий рассказ, который тронет всех?
— Да. Вот почему меня не огорчает, что вы не собрали в Бостоне ещё картечи. Разумеется, обработайте то, что у вас уже есть, и пришлите мне. Я напечатаю. Но потом — никакого рассеянного огня. Примените свои критические способности, Даппа. Найдите тот невольничий рассказ, который будет больше, чем просто душещипательным. Тот, что станет нашим пушечным ядром. Пора топить невольничьи корабли.
Клуб «Кит-Кэт»
вечер того же дня
— Я уверен, что за нами наблюдают, — сказал Даниель.
Даппа рассмеялся.
— Вот почему вы так старались сесть лицом к окну? Думаю, за всю историю клуба никому ещё не приходило желание смотреть на этот проулок.
— Можете обойти стол и сесть рядом со мной.
— Я знаю, что увижу: множество вигов пялятся на дрессированного негра. Почему бы вам не обойти стол и не сесть рядом со мной, чтобы вместе полюбоваться голой дамой на этой удивительно большой в длину и маленькой в высоту картине?
— Она не голая, — резко отвечал Даниель.
— Напротив, доктор Уотерхауз, я различаю в ней неопровержимые признаки наготы.
— Однако назвать её голой — неприлично. Она — одалиска, и это её профессиональный наряд.
— Может быть, все взгляды, которые, по вашему мнению, устремлены на нас, в действительности прикованы к ней. Картина новая, от неё ещё пахнет лаком. Пожалуй, нам лучше было сесть под тем пыльным морским пейзажем. — Даппа указал на другое длинное и узкое полотно, изображавшее голландцев за сбором съедобных моллюсков на очень холодном и неуютном берегу.
— Мне случилось видеть вашу встречу с герцогиней Аркашон-Йглмской, — признался Даниель.
— «Де ля Зёр» — менее официально, — перебил Даппа.
Даниель на мгновение опешил, потом скроил кислую мину и покачал головой:
— Мне непонятно ваше веселье. Напрасно я заказал вам асквибо.
— Я слишком долго на суше — видимо, меня слегка укачало.
— Когда вы отплываете в Бостон?
— Значит, переходим к делу? Мы намеревались отплыть во второй половине апреля. Теперь думаем в начале мая. Что вам нужно оттуда забрать?
— Работу двадцати лет. Надеюсь, вы обойдётесь с ней бережно.
— Что это? Рукописи?
— Да. И машинерия.
— Странное слово. Что оно означает?
— Простите. Это театральный жаргон. Когда ангел спускается на землю, душа воспаряет на небеса, извергается вулкан или что-нибудь ещё невероятное происходит на подмостках, люди за сценой называют машинерией различные пружины, рычаги, тросы и прочее оборудование, посредством которого создаётся иллюзия.
— Я не знал, что у вас в Бостоне был театр.
— Вы ошибаетесь, сэр, бостонцы бы такого не допустили — меня бы выслали в Провиденс.
— Так как же у вас в Бостоне оказалась машинерия?
— Я употребил слово иронически. Я построил там машину — вернее, за рекой, в домишке между Чарлзтауном и Гарвардом. Машина не имеет ничего общего с театральной машинерией. Её-то я и прошу забрать.
— Тогда мне нужно знать, по порядку: опасная ли она? громоздкая? хрупкая?
— Отвечаю по порядку: да, нет, да.
— В каком смысле опасная?
— Понятия не имею. Однако она станет опасной, только если повернуть заводной рычаг и дать ей пищу для размышлений.
— В таком случае я буду держать заводной рычаг у себя в каюте и по мере надобности бить им пиратов по голове. И я запрещу команде вести с вашей машинерией разговоры, кроме самых безыскусных: «Доброе утро, машинерия, как здоровье? Не ноет ли в сырую погоду коленный вал?»
— Я бы посоветовал упаковать детали в бочки, переложив соломой. Ещё вы найдёте тысячи прямоугольных карточек, на которых написаны слова и числа. Их тоже надо упаковать в водонепроницаемые бочонки. К тому времени, как вы доберётесь до Чарлзтауна, Енох Роот это уже сделает.
При упоминании Еноха Даппа отвёл глаза, как будто его собеседник брякнул что-то неосторожное, и поднёс к губам стаканчик. Этой паузы маркизу Равенскару хватило, чтобы ворваться в их разговор. Он возник так внезапно, так ловко, как если бы некая машинерия втолкнула его в клуб «Кит-Кэт» через люк.
— От одной одалиски к другой, мистер Даппа! Гм! Я ведь не ошибся? Вы — наш литератор?
— Я не знал, что я ваш литератор, милорд, — вежливо отвечал Даппа.
— Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что не читал ваших книг.
— Отнюдь, милорд. Наивысший успех — когда тебя узнают в общественных местах как автора книг, которых никто не читал.
— Если бы мой добрый друг доктор Уотерхауз соблаговолил нас отрекомендовать, мне бы не пришлось пускаться в догадки; однако он получил пуританское воспитание и не признаёт учтивости.
— Теперь уж не до церемоний, — сказал Даниель. — Когда новоприбывший начинает разговор с загадочного возгласа про одалисок, что диктуют правила учтивости остальным?
— И нисколечки не загадочного! Ни на понюх! — возмутился милорд Равенскар. — Сейчас, в… — (глядя на часы), — девять часов, весь Лондон уже знает, что в… — (снова глядя на циферблат), — четыре часа мистер Даппа приветствовал герцогиню Аркашонскую и Йглмскую!
— Я вам говорил! — сказал Даниель Даппе и коснулся пальцами глаз, а затем указал через комнату на предполагаемых соглядатаев и любопытствующих.
— Что вы ему говорили?! — вопросил Роджер.
— Что за нами наблюдают.
— Наблюдают не за вами, — объявил Роджер с преувеличенной весёлостью, от которой за милю разило фальшью. — Кому вы интересны? Наблюдают за Даппой, совершающим обход одалисок.
— Вот снова… соблаговолите объяснить, что вы имеете в виду?
Объяснил Даппа:
— Подразумевается своего рода легенда, которую благовоспитанные лондонцы передают шёпотом, а подвыпившие лорды — во весь голос, будто герцогиня некогда была одалиской.
— Фигурально?..
— Буквально наложницей турецкого султана в Константинополе.
— Бред! Роджер, что вы себе позволяете?
Маркиз, слегка уязвлённый словами Даппы, поднял брови и пожал плечами.
Даппа продолжил:
— Англия, страна рудокопов и стригалей, всегда будет крупнейшим импортёром фантастических бредней. Шёлк, апельсины, благовония и диковинные рассказы — всё это заморский товар.
— Вы глубоко заблуждаетесь, — отвечал Даниель.
— Я согласен с мистером Даппой! — натужно выдавил Роджер. — История о его свидании с герцогиней распространяется по Граб-стрит, как холера, и будет в газетах с первым криком петуха!
И тут же исчез, как будто провалился в люк.
— Вот видите! Будь вы осмотрительнее…
— Газетчики с Граб-стрит остались бы в неведении. Ничего бы не написали, ничего бы не напечатали ни обо мне, ни о герцогине. Никто бы не узнал о нас и не купил мою новую книгу.
— А-а.
— На вашем лице, доктор, брезжит понимание.
— Это новая диковинная форма коммерции, о которой я до сегодняшнего дня ничего не слышал.
— Немудрено — она существует лишь в Лондоне, — вежливо заметил Даппа.
— Однако в этом городе процветают и более диковинные, — многозначительно произнёс Даниель.
Даппа сделал преувеличенно наивное лицо.
— У вас есть фантастический рассказ в пару к тому, что распространяет маркиз Равенскар?
— В высшей степени фантастический. И, заметьте, отечественного производства. Даппа, помните, как у мыса Кейп-Код нас атаковала пиратская флотилия мистера Эдварда Тича и вы отправили меня работать в самую нижнюю часть трюма?
— Это была средняя часть. Мы не отправляем престарелых учёных в самый низ трюма.
— Хорошо, хорошо.
— Я отлично помню, что вы любезно расколотили несколько старых тарелок, чтобы подготовить заряды для мушкетонов, — сказал Даппа.
— А я отлично помню, что местоположение ящика с тарелками было весьма точно отмечено на плане, прибитом рядом с трапом. Там же было указано, что хранится в разных частях трюма, включая самую нижнюю.
— Вы снова путаете! Самая нижняя часть трюма заполнена тем, что эвфемистично называют трюмной водой. В ней ничего не может храниться, только портиться. Если вы сомневаетесь, мы можем погрузить туда вашу машинерию, а вы по нашем возвращении её осмотрите. Знали бы вы, какое неописуемое зловоние…
Даниель поднял ладони.
— Нет надобности, любезнейший. Однако, если меня не подводит память, на схеме укладки груза была и самая нижняя часть трюма, и то, что хранится в неописуемом зловонии.
— Вы про балласт?
— Наверное, да.
— Размещение балласта отмечено на схеме, поскольку от него зависит остойчивость и дифферент корабля, — сказал Даппа. — Время от времени нам приходится перекладывать несколько тонн балласта, чтобы скомпенсировать неравномерность загрузки, и потому мы, разумеется, должны знать, где что лежит.
— Если я правильно помню схему, сразу на обшивке, как половицы, уложены чугунные чушки.
— Да. А также треснувшие пушки и негодные ядра.
— Сверху вы насыпали несколько тонн округлых камней.
— Галька с малабарского побережья. Некоторые насыпают песок, но мы предпочли гальку, поскольку она не засоряет помпы.
— На гальку вы ставите бочки с пулями, солью, водой и прочий тяжёлый груз.
— Это распространённая — нет, универсальная практика на всех кораблях, которые не опрокидывает первой же волной.
— Однако мне помнится, что на схеме был указан ещё один слой. Под бочками, под галькой, даже под металлическим балластом. Тончайший слой, почти плёнка — на схеме он выглядел, как луковая кожура, прижатая к осмолённым доскам днища, и проходил под названием «листы обшивки от обрастания ракушками».
— Что с того?
— Зачем защищать корпус от ракушек изнутри?
— Это запасные. Вы должны были заметить, что у нас всё в двойном количестве, доктор Уотерхауз. «Минерва» снаружи обшита металлом — чем и славится среди моряков. Когда мы последний раз обращались к меднику, то заказали вдвое больше листов, чем нужно, чтобы сговориться на более выгодную цену и получить запас.
— Вы не путаете их с теми запасными медными листами, что сложены в ящике у степса фок-мачты? Помнится, я как-то на нём сидел.
— Одна часть хранится там. Другая — под металлическим балластом, как вы описали.
— Странное место для хранения чего бы то ни было. Чтобы до них добраться, надо разгрузить корабль, выкачать неописуемо зловонную трюмную воду, перекидать лопатами тонны гальки и лебёдкой поднять одну за другой многочисленные чугунные чушки.
Даппа не ответил, только принялся нервно барабанить пальцами по столу.
— Наводит на мысль скорее о спрятанном сокровище, нежели о балласте.
— Вы сможете проверить свою гипотезу, доктор, когда мы следующий раз будем в сухом доке. Не забудьте принести лопату.
— Так вы отвечаете дотошным таможенникам?
— С ними мы обычно вежливее — как и они с нами.
— Но если отбросить вежливость, ситуация не изменится. Когда некое облечённое властью лицо потребует освободить трюм, это придётся сделать. «Минерва» будет прыгать на воде, как пробка, но не перевернётся благодаря балласту. Однако, чтобы осмотреть запасную обшивку, надо поднять весь балласт, что возможно только в сухом доке — где «Минерва» была всего неделю назад. Ни один таможенный инспектор такого не требует, верно?
— Очень странный разговор, — заметил Даппа.
— По десятибалльной шкале странности разговоров, где десять — самый странный разговор, какой я когда-либо слышал, а семь — самый странный разговор, какой мне обычно случается вести за день, этот потянет не больше чем на пятёрку, — отвечал Даниель. — Однако, чтобы уменьшить для вас его странность, буду говорить прямо. Я знаю, из чего эти листы. Я знаю, что, заходя в Лондон, вы иногда достаёте часть металла, и он со временем становится монетами. Меня не интересует, как это происходит и зачем. Однако я хочу предупредить, что вы подвергаете себя опасности всякий раз, как тратите своё сокровище. Вы думаете, что в тигле монетчика оно смешивается с металлом из других источников и уходит в мир, лишённое всяких признаков, указующих на связь с вами. Однако по меньшей мере одного человека не обмануло это смешение, и сейчас он очень близок к тому, чтобы разгадать вашу тайну. Вы можете найти его в Лондонском Тауэре.
В начале этой речи Даппа встревожился, теперь выражение его стало рассеянным, как будто он просчитывает в уме, как быстро «Минерва» сможет поднять якорь и выйти из Лондонской гавани.
— Зачем вы мне это рассказали? По доброте душевной?
— Вы были добры ко мне, Даппа, когда не выдали меня Чёрной Бороде.
— Мы поступили так из упрямства, а не по доброте.
— Тогда считайте моё предупреждение актом христианского милосердия.
— Благослови вас Бог, доктор! — сказал Даппа, однако лицо его оставалось настороженным.
— До тех пор, пока мы не придём к пониманию касательно дальнейшей судьбы золота, — добавил Даниель.
— Слово «судьба» внушает мне опасения. Что вы подразумеваете?
— Вам надо избавиться от золота, пока о нём не проведал упомянутый джентльмен. Однако перечеканить его на монеты — всё равно что пройти на «Минерве» под пушками Тауэра, неся эти листы на реях.
— Что от него проку, если оно не в монетах?
— Золото годится и для других целей, — сказал Даниель, — о которых я вам когда-нибудь расскажу. Но не сейчас. Сюда идёт Титул, и нам надо свести странность разговора к одному-двум баллам по той шкале, о которой я говорил.
— Титул? Кто это такой?
— Для человека, только что внушавшего мне, как важна печать, вы не слишком внимательно читаете газеты.
— Я знаю, что она существует, как она действует и почему это важно, однако…
— Я читаю газеты каждый день. Позвольте объяснить вкратце: есть газета под названием «Окуляр», которую учредили виги, когда были у власти. В неё пишут несколько умных людей; Титул к ним не относится.
— Вы хотите сказать, он не пишет для «Окуляра»?
— Нет, я хочу сказать, что он не умён.
— Почему же его пригласили писать в газету?
— Потому что он в палате лордов и всегда на стороне вигов.
— Так он — титулованная особа?
— Титулованная особа со страстью к бумагомарательству. А поскольку «титул» ещё и заглавие, то есть имеет какое-то отношение к литературной деятельности, он взял себе такой псевдоним.
— Это самое длинное предисловие к знакомству, какое я когда-либо слышал, — заметил Даппа. — Когда же он наконец подойдет?
— Боюсь, что он… вернее, они ждут, чтобы вы их заметили, — сказал Даниель. — Держитесь.
Даппа сузил глаза и раздул ноздри. Затем он повернулся на стуле и, буквально следуя совету Даниеля «держаться», упёрся локтем в стол.
Лицом к ним, на расстоянии примерно десяти футов стоял, плотно уперев ноги в грязные половицы, маркиз Равенскар; другой господин, ещё более роскошно одетый, висел рядом, уцепившись обеими руками за низкую потолочную балку; его щегольские башмаки раскачивались всего в нескольких дюймах от пола.
Поймав взгляд Даппы, господин разжал руки и с гортанным: «Хух!» спружинил на ноги. Он опустился почти в полуприсед, так что панталоны в паху угрожающе затрещали, и, пригнувшись, свесил руки с подогнутыми пальцами к самому полу. Ещё раз убедившись, что завладел вниманием Даппы, он заковылял к маркизу Равенскару, который стоял неподвижно, словно звезда на небосводе, скривив лицо в вымученной улыбке.
Титул покусал губы, вытянул их вперёд, насколько мог, и, поминутно оглядываясь на Даппу, с негромкими возгласами: «Хух! Хух!» двинулся в обход Равенскара. Сделав полный круг, он пошаркал ближе, так что почти упёрся физиономией маркизу в плечо, и принялся тянуть носом воздух, поводя головою из стороны в сторону. Видимо, он приметил что-то в Роджеровом парике, потому что поднял правую руку от пола, запустил её в густые фальшивые локоны, вытащил что-то маленькое, осмотрел, хорошенько обнюхал, сунул себе в рот и громко зачавкал. Потом, на случай, если Даппа отвлёкся и не всё разглядел, Титул повторил представление ещё раз пять, пока Роджер, потеряв терпение, не бросил: «Да хватит уж!», сопроводив свои слова раздражённым взмахом руки.
Титул отскочил подальше, упёрся костяшками пальцев в пол и принялся жалобно верещать (насколько для члена палаты лордов возможно изобразить такой звук), затем подпрыгнул и снова уцепился за балку. Пыль посыпалась на белый парик, превратив его в серый. Лорд чихнул — весьма неудачно, поскольку в носу у него была понюшка. Красновато-бурая сопля вылетела из ноздри и повисла на подбородке.
В клубе «Кит-Кэт» воцарилась монастырская тишина. Присутствовали человек тридцать, если не сорок, при обычных обстоятельствах склонные видеть смешное почти во всём. Редкая минута в клубе проходила без того, чтобы разговоры утонули в гомерическом хохоте из-за ближнего или дальнего стола. Однако кривляния Титула настолько не лезли ни в какие ворота, что никто даже не прыснул. Даниель, воображавший, что многолюдство и гомон создают для них с Даппой хоть некое подобие приватности, окончательно почувствовал себя выставленным на всеобщее обозрение.
Лорд Равенскар вразвалку двинулся к Даппе. Титул спрыгнул с балки и принялся утираться вышитым кружевным платком. После того, как Роджер сделал несколько шагов, Титул, втянув голову в плечи, двинулся следом.
— Доктор Уотерхауз, мистер Даппа, — важно проговорил Роджер. — Я чрезвычайно счастлив снова вас лицезреть.
— Взаимно, — коротко отвечал Даниель, поскольку Даппа временно утратил дар речи.
Остальные члены клуба неуверенно возвращались к прерванным разговорам.
— Надеюсь, вы не сочтёте неучтивостью, если я не стану искать у вас в голове, как милорд Регби сейчас искал в моих волосах.
— Это даже не мои волосы, Роджер.
— Позвольте представить вам, Даппа, и заново представить вам, Даниель, милорда Уолтера Релея Уотерхауза Уйма, виконта Регби, ректора Сканка, члена парламента и Королевского общества.
— Здравствуйте, дядя Даниель! — воскликнул Титул, внезапно выпрямляясь. — Как остроумно было нарядить его в костюм! Это вы придумали?
Даппа покосился на Даниеля.
— Я забыл упомянуть, что он мой двоюродный внучатый племянник, или что-то в таком роде, — пояснил Даниель, прикрывая рот рукой.
— С кем вы говорите, дядя? — полюбопытствовал Титул, глядя сквозь Даппу, затем, пожав плечами, задал свой следующий вопрос: — Как вы думаете, моё представление подействовало? Я столько всего прочёл, пока к нему готовился.
— Не знаю, Уолли. — Даниель взглянул на Даппу, который так и застыл со скошенными глазами. — Даппа, поняли ли вы из увиденного, что милорд Регби — обезьяна из стаи маркиза Равенскара и полностью признаёт его доминирующую роль?
— С кем вы говорите? — повторил Титул и продолжил озабоченно: — Я всё ещё волнуюсь. Может быть, мне надо было шкуру одеть?
— Надеть! — поправил Даппа.
Титул несколько мгновений молчал, раскрыв рот. Роджер и Даниель безмолвно умирали со смеху. Затем Титул поднял руку, наставил палец на Даппу, словно пистолетное дуло, и повернулся к Даниелю. Рот он так и не закрыл.
— Чего вы не знаете, дорогой племянник, — сказал Даниель, — так это что Даппу в очень юном возрасте взяли себе пираты вместо обезьянки. Будучи представителями самых разных народов, они для забавы научили его бегло говорить на двадцати пяти языках.
— На двадцати пяти! — воскликнул Титул.
— Да. Включая лучший английский, чем у вас, как вы только что слышали.
— Но… на самом деле он ни одного из них не понимает, — проговорил Титул.
— Разумеется. Как попугай, который выкрикивает человеческие слова, чтобы заслужить печенье, — подтвердил Даниель и тут же выкрикнул не вполне человеческое слово, поскольку Даппа под столом пнул его ногой в щиколотку.
— Поразительно! Вам надо показывать его публике!
— А что я, по-вашему, сейчас делаю?
— Какая вчера была погода? — спросил Титул у Даппы по-французски.
— Утро выдалось сырым и пасмурным, — отвечал Даппа. — К полудню немного прояснилось, но, увы, к вечеру небо снова затянули тучи. Только укладываясь спать, я заметил в просветах между облаков первые звёздочки. Не угостите ли печеньем?
— Ну надо же! Пират-француз, научивший его этому трюку, наверняка был человек образованный! — восхитился Титул. Лицо у него стало такое, будто он задумался. Даниель за свои почти семьдесят лет научился не ждать много от людей, делающих такое лицо, поскольку мышление — процесс, который должен происходить непрерывно. — Казалось бы, нет смысла вести разговор с человеком, не понимающим собственных слов. Однако он описал вчерашнюю погоду лучше, чем это удалось бы мне! Наверное, я даже использую его слова в завтрашней статье! — Снова задумчивый вид. — Если он способен описать другие свои впечатления — например, тет-а-тет с герцогиней — так же чётко, моё интервью заметно упростится! Я-то думал, что мы будем говорить на языке жестов и фырканья! — И Титул похлопал по записной книжке в заднем кармане панталон.
— Полагаю, когда кто-либо говорит абстрактно — то есть в большинстве случаев, — он на самом деле осуществляет взаимодействие с неким образом, существующим у него в голове, — сказал Даппа. — Например, вчерашней погоды сейчас с нами нет. Я не ощущаю кожей вчерашний дождь, не вижу глазами вчерашних звёзд. Когда я описываю их вам (на французском или на каком-либо другом языке), я на самом деле вступаю во внутренний диалог с образом, хранящимся у меня в мозгу. Образ этот я могу затребовать, как герцог может приказать, чтобы ему принесли из мансарды ту или иную картину, и, созерцая мысленным взором, описать в любых подробностях.
— Прекрасно, что ты можешь вытащить и описать всё, что хранится в твоей мансарде, — сказал Титул. — Поэтому я могу спросить, как выглядела сегодня герцогиня Йглмская и доверять твоему ответу. Однако, поскольку ты не понимал разговора, который вёл с ней, как не понимаешь сейчас нашего, любые твои суждения о том, что произошло в Лестер-хауз, будут далеки от истины. — Он говорил сбивчиво, не зная, как общаться с человеком, не разумеющим собственных слов.
Воспользовавшись короткой паузой, Даниель спросил:
— Как может он судить о том, чего не понимает?
Титул снова растерялся. Повисло неловкое молчание.
— Я сошлюсь на труды Спинозы, — сказал Даппа, — написавшего в своей «Этике» (хотя для меня, конечно, это всё — пустой набор звуков): «Порядок и связь идей таковы же, как порядок и связь вещей». Это означает, что если две вещи — назовём их А и Б — неким образом соотносятся, как, например, парик милорда Регби и голова милорда Регби, и в мозгу у меня существует идея парика милорда Регби, назовём её альфа, и головы милорда Регби, назовём её бета, то соотношение между альфой и бетой такое же, как между А и Б. И благодаря этому свойству разума я могу выстроить в мозгу вселенную идей, которые будут соотноситься между собой так же, как и вещи, им соответствующие; и вот я создаю целый микрокосм, ни бельмеса в нём не понимая. Некоторые идеи — впечатления, доставляемые органами чувств, как вчерашняя погода. Другие могут быть абстрактными понятиями религии, математики, философии или чего угодно — мне это, разумеется, невдомёк, поскольку для меня они — бессвязный набор галлюцинаций. Однако все они — идеи, а следовательно, обладают единой природой, все смешаны и переплавлены в одном тигле, и я могу рассуждать о теореме Пифагора или об Утрехтском мире не хуже, чем о вчерашней погоде. Для меня они ничто — как и вы, милорд Регби.
— Ясно, — неуверенно проговорил Титул, у которого глаза начали стекленеть примерно тогда, когда Даппа прибег к греческому алфавиту. — Скажи, Даппа, были на твоём корабле пираты-немцы?
— Носители верхненемецкого или Hochdeutch? Увы, среди пиратов они редки, ибо немцы боятся воды и любят порядок. На корабле преобладали голландцы, однако у них был пленник, которого держали скованным в самой нижней части трюма, баварский дипломат. Он-то и научил меня этому языку.
— Превосходно! — Титул достал записную книжку и принялся листать изрисованные странички. — Вот, Даппа, ты, наверное, не знаешь, что мы, англичане, живём на чём-то вроде песчаной отмели. Ты видел такие на своих африканских реках, только наша гораздо больше и на ней нет крокодилов… — Он продемонстрировал набросок.
— Мы называем это островом, — подсказал маркиз Равенскар.
— Есть большая-большая холодная солёная река. — Титул развёл руки. — Гораздо шире, чем от моей записной книжки до карандаша, и она отделяет нас от места, называемого Европой, где живут плохие-плохие обезьяны. В своей системе умственных идей ты можешь воображать их множеством обезьяньих стай, которые вечно швыряют друг в друга камни.
— Иногда мы пересекаем солёную реку на таких штуках, вроде выдолбленных брёвен, только гораздо больше, — вставил маркиз Равенскар, входя во вкус. — И тоже швыряем несколько камней, чтобы не разучиться.
Он подмигнул Даппе, который только яростно зыркнул в ответ.
— За большой-большой рекой живёт очень рослая и сильная горилла, белоспинный вожак, которого мы боимся.
Даппа вздохнул, чувствуя, что испытание не кончится никогда.
— Кажется, я видел его изображение на французских монетах. Его зовут Людовик.
— Да! У него больше всех бананов, больше обезьян в стаде, и он очень долго бросал в нас камни.
— Наверное, это было весьма неприятно, — проговорил Даппа без особого сочувствия.
— О да, — ответил Титул. — Но у нас есть свой вожак, огромный белоспинный самец, который очень метко бросает камни, и он несколько лун назад загнал Людовика на дерево! И теперь наша стая, здесь, на песчаной отмели, никак не решит, почитать нам нашего белоспинного самца, как бога, или бояться, как чёрта. Так вот, у нас есть большая поляна в джунглях, не очень далеко отсюда. Мы ходим туда, чтобы выразить почтение некой белоспинной самке, довольно хилой. Там мы бьём себя в грудь и швыряем друг в друга какашки!
— Фу! А я только хотел сказать, что не прочь посмотреть на вашу поляну.
— Да, зрелище неприглядное, — вставил Роджер, которому сравнение явно пришлось не по вкусу. — Но мы считаем, что лучше бросаться какашками, чем камнями.
— Вы швыряете какашки, милорд Регби? — спросил Даппа.
— Это мой хлеб! — Титул помахал записной книжкой. — А вот орудие, которым я соскребаю их с земли.
— Позвольте узнать, чем так замечательна ваша белоспинная самка, что ради её внимания вы готовы угодить под шквал экскрементов?
— У неё наша Главная палка, — объявил Титул, считая, что пояснений не требуется. — Итак, к делу. За милости старой белоспинной самки борются два стада. Вожак одного сейчас перед тобой. — Он указал на Роджера, который учтиво поклонился. — Увы, нас отогнали к краю поляны самым долгим и неослабным градом какашек за всю историю джунглей, и сильного-сильного белоспинного вожака, о котором я говорил раньше, едва не похоронили под ними. Ему пришлось бежать за холодную солёную реку в место под названием Антверпен, где он может хоть иногда спокойно посидеть и скушать банан, не рискуя получить в физиономию горсть дерьма. И мы, стадо Роджера, ужасно хотим знать, вернётся ли из-за реки наш белоспинный вожак, и если да, то когда, и не захочется ли ему в таком случае запустить в нас камнем-другим, и не точит ли он зубы на нашу Главную палку.
— А что Людовик? По-прежнему на дереве?
— Людовик наполовину спустился! А с такого расстояния, старческими глазами, он не видит, чем швыряются обезьяны: камнями или просто какашками. Так или иначе, если он решит, что мы отвлеклись, он, наглая обезьяна, быстренько слезет на землю, а мы этого не хотим.
— Позвольте спросить: зачем вы рассказываете это всё мне, милорд?
— Пленительная особь, у которой ты был сегодня, — отвечал Титул, — обворожительнейшая белокурая шимпанзиха, только что приплыла к нам из-за холодной солёной реки, а до того много лун прожила в джунглях, лежащих в той стороне, где каждое утро восходит солнце. Тысячи немецкоговорящих обезьяньих стад сражаются там за отдельные деревья и даже за отдельные ветки. Она приплыла на огромном выдолбленном бревне в обществе нескольких немецкоговорящих особей, примерно из тех краёв, где кушает бананы наш белоспинный вожак. К какому стаду она принадлежит? В стране, где она перед тем жила, заправляет ещё одна белоспинная вожачиха, хозяйка нескольких больших деревьев, которая давно зарится на нашу Главную палку. Принадлежит ли твоя знакомая к её стаду? Или она с тем, кто сидит в Антверпене? Или с обоими? Или ни с кем из них?
Теперь глаза начали стекленеть у Даппы. Обмозговав услышанное, он высказал догадку:
— Вы хотите выяснить, не надо ли вам швырнуть несколько какашек в Элизу?
— В точку! — обрадовался Титул. — Этот твой Заноза и впрямь головастый малый!
Перед тем как заговорить, Роджер Комсток принимал такую особенную позу, что все вокруг замолкали и благоговейно к нему поворачивались. Так произошло и сейчас. Выдержав паузу, маркиз поднял руку с прижатым большим пальцем и снова подмигнул Даппе.
— Четыре доминантных особи. — Вверх пошла другая рука, с двумя выставленными пальцами. — Две палки. Одну мёртвой хваткой держит Людовик. Вторая, по общему мнению, плохо лежит. Итак, рассмотрим четырёх вожаков. — Теперь он держал перед собой обе руки, выставив на каждой по два пальца. — Две самки, два самца, все очень старые, хотя, надо сказать, тот, что в Антверпене, в свои шестьдесят четыре многим даст фору. У немецкой обезьяны есть сынок, неотёсанный гориллище, который, если я что-нибудь в этом смыслю, скоро заграбастает нашу Главную палку. Вожачиха, сейчас заправляющая на нашей песчаной отмели, терпеть не может его мамашу; она начинает визжать и размахивать Главной палкой, как только почует немецкий дух. Соответственно, немецкий самец здесь persona non grata. Однако у него тоже есть сын, и нам бы очень хотелось, чтобы он качался на английских деревьях и рвал английские бананы. И…
— Тогда не швыряйте какашки в Элизу, — сказал Даппа.
— Спасибо.
— Может, швырнуть хоть несколько, чтоб не подумали, будто мы в сговоре? — предложил Титул, явно разочарованный таким исходом.
— Думаю, вам стоит поискать у неё в волосах, — отвечал Даппа.
— Спасибо, Даппа, — твёрдо повторил Роджер и, взяв Титула за локоть, повёл его прочь.
— Предвосхищая ваш вопрос, — сказал Даниель, — это был десятибалльный.
Почти всю поездку до Крейн-корта Даппа был мрачен и молчал.
— Надеюсь, я не обидел вас, когда так обошёлся с Титулом? — сказал наконец Даниель. — Я не видел никакой другой линии поведения.
— Для вас он просто отдельно взятый идиот, — отвечал Даппа. — Для меня — типичный образчик той категории людей, до которой я должен достучаться своей книгой. И если я выгляжу отрешённым, то не потому, что злюсь на вас — хотя и не без того. Я спрашиваю себя: есть ли смысл обращаться к таким людям? Или я попусту трачу время?
— Мой племянник просто верит в то, что говорят его знакомые, — заметил Даниель. — Если бы все в клубе «Кит-Кэт» объявили вас королём Англии, он бы встал на колени и облобызал вам руку.
— Может, и так, но ни мне, ни моему издателю от этого не легче.
— Кстати о вашей издательнице. Ведь вы с герцогиней беседовали только о книготорговле?
— Конечно.
— Она не говорила вам о том, что так заботит вигов?
— Разумеется, не говорила. Не собираетесь ли и вы учинить мне допрос?
— Сознаюсь, меня и впрямь разбирает некоторое любопытство касательно герцогини и её лондонских дел, — сказал Даниель. — Мы с ней общались много лет назад. Недавно она написала, что хотела бы возобновить знакомство. Не думаю, что обязан этим моей внешности или обаянию.
Даппа не ответил. Некоторое время они ехали в молчании. Даниель чувствовал, что его слова ещё больше встревожили собеседника.
— Очень ли большие затруднения возникнут для вас, если вы последуете моему совету и не станете разгружать запасные листы обшивки?
— Нам потребуется заём — с оплатой золотом по возвращении.
— Я что-нибудь устрою, — отвечал Даниель.
В тусклом свете, проникающем в карету с улицы, он видел, как взгляд Даппы метнулся к окну. Несложно было прочитать его мысль: до чего мы докатились, если вынуждены обращаться за деньгами к престарелому учёному?
Даниель решил напоследок размять ноги, поэтому велел кучеру остановиться у въезда в Крейн-корт, а не втискиваться в арку и не везти его до самой двери. Он распрощался с Даппой и на плохо гнущихся ногах заковылял к сводчатому проходу. Кучер подождал немного, глядя ему вслед. Однако в Крейн-корте вряд ли могли засесть грабители — из такого каменного мешка не убежишь, если жертва успеет поднять крик. Кучер тронул поводья, и экипаж загрохотал прочь, увозя Даппу к пристани Белых братьев, где тому предстояло нанять лодочника, чтобы добраться до «Минервы».
Даниель остался один в привычном пространстве Крейн-корта, и тут его настигла ужасная мысль.
Позади был воистину долгий день: поездка в Клеркенуэлл, собрание в склепе храмовников, затем — Хокли-в-яме и знакомство с Питером Хокстоном (он же Сатурн), короткое отдохновение в обществе Катерины Бартон и давно висевшая над ним дамокловым мечом встреча с её дядюшкой, а напоследок — клуб «Кит-Кэт». Слишком много нитей, слишком много информации для неповоротливых старческих мозгов. По дороге от Флит-стрит до здания Королевского общества можно было обдумывать любое из событий прошедшего дня, но мыслями Даниеля полностью завладел Исааков портшез.
За мгновения до взрыва на том самом месте, где Даниель только что вышел из наёмного экипажа — перед аркой, ведущей из Крейн-корта на Флит-стрит, — остановился чёрный портшез.
Сегодня путь Даниелю почти загородила повозка золотаря, которого позвали вычерпать нужник в одном из домов. Даниель хотел обойти её как можно дальше, чтобы его случайно не забрызгало нечистотами, но в последний миг обернулся и посмотрел на арку. Наполненные ворванью уличные фонари на Флит-стрит струили золотистый свет, как и тогда.
В тот воскресный вечер таинственный портшез замер точно в середине проёма, словно чёрная дверь в арке света. Он следовал за ними до въезда в Крейн-корт, здесь помедлил, дожидаясь взрыва (во всяком случае, так это выглядело), после чего скрылся в направлении, оставшемся неизвестным из-за прискорбного эпизода с дозорным.
Сегодня Исаак высказался в том смысле, что был потрясен, увидев Даниеля путешествующим в обществе мистера Тредера. Трактовать его слова можно было по-разному, в том числе и буквально: Исаак видел их обоих в карете мистера Тредера.
Коли так, это могло случиться только у Флитской канавы за минуты до взрыва. Допустим, в портшезе был Исаак. Допустим, встреча произошла по чистому совпадению. Допустим, Исаак возвращался к себе домой после какого-то дела — и впрямь очень странного и подозрительного — на правом берегу Флитской канавы. Тогда зачем он остановился у въезда в Крейн-корт?
Даниель вновь поглядел на арку, пытаясь вернуть ускользающее воспоминание.
Однако увидел он не запечатленный в памяти портшез, а тень; она отделилась от арки и метнулась через открытое пространство. Кто-то прятался там и теперь выскользнул на Флит-стрит. Через мгновение по мостовой зацокали подковы. Значит, кто-то, спешившись, тихо подвёл коня к арке, чтобы оттуда следить за Даниелем. Вероятно, он потерял Даниеля в тени от повозки золотаря и решил, что на сегодня достаточно.
Даниель упустил нить рассуждений касательно портшеза. Он повернулся и быстро зашагал прочь, торопясь оставить позади аммиачное облако, окружавшее бочку золотаря. Его ничуть не удивил звук шагов за спиной.
— Вы тот сыч, которого Сатурн зовёт доком? — спросил подросток. — Не давайте стрекача, я не борзый.
Даниель подумал было сбавить шаг, но решил, что мальчишка вполне может идти с ним в одном темпе.
— Ты из подполья? — устало спросил он.
— Нет, док, но всё равно рою землю.
— Отлично.
— Тогда это вам. — Мальчишка сунул Даниелю свёрнутый в полоску листок бумаги, очень белый по сравнению с его грязной рукой, отбежал назад и запрыгнул на бочку золотаря, на которой приехал.
— Часики у вас хороши, приглядывайте за ними в оба! — крикнул он напоследок.
Анри Арланк, отворивший дверь на стук, принял у Даниеля шляпу и трость.
— Для меня большая честь — стать секретарём вашего клуба, сэр, — проговорил он. — Я как раз переписываю набело сегодняшний протокол.
— У вас отлично получится, — заверил Даниель. — Если бы ещё наш клуб собирался в уютном месте, с едой и выпивкой.
— Для этого у меня есть Королевское общество, доктор.
— Но вы не его секретарь.
— А что, я бы справился. Если дело секретаря — записывать, кто пришёл, кто ушёл, что делали и что говорили, то это всё здесь. — Арланк, странно разговорчивый сегодня вечером, указал на свою голову. — Что вы на меня так смотрите, доктор?
— Мне пришла мысль.
— Велите принести перо и бумагу?
— Нет, спасибо, я сохраню её здесь. — Даниель, повторяя жест Арланка, поднёс палец к голове. — Не случалось ли сэру Исааку приезжать сюда воскресным вечером в портшезе?
— Да сколько раз! Здесь у него всегда много срочных дел. В будни он занят на Монетном дворе, а когда заглядывает сюда, все лезут с разговорами. Вот он придумал приезжать поздно вечером в воскресенье, когда тут только я и мадам, а мы-то понимаем, что его нельзя беспокоить. Он обычно работает допоздна, иногда до самого утра понедельника.
— И никто к нему сюда не заглядывает?
— Нет, конечно. Никто не знает, что он здесь.
— Кроме вас, мадам Арланк и его слуг.
— Я хотел сказать: никто из тех, кто осмелится ему докучать.
— Разумеется.
— А почему вы спросили, доктор? — Вопрос из уст привратника дерзкий и неожиданный.
— Я вроде бы видел следы его пребывания здесь воскресными вечерами и хотел знать, не померещилось ли мне.
— Нет, вам не померещилось, доктор. Помочь вам подняться по лестнице?
Док,
если Вы читаете это послание, значит, мальчишка Вас нашёл. На всякий случай советую проверить карманы и прочая.
Сообщаю, что мой представитель в следующий четверг встретится на официальном чаепитии со знакомым знакомого мистера Тича и наведёт справки.
Я посетил Вашу дыру в земле и спугнул двух молодчиков, которые забрались туда не ради обычной цели, сиречь мужеложства. Полагаю, они приняли меня за призрак рыцаря-тамплиера, из чего могу сделать вывод, что они люди образованные.
Сатурн
Сатурн,
благодарю за усердие, ничего другого я от часовщика не ждал.
Допустим, что я наскрёб небольшое количество жёлтого металла; нашлись бы среди Ваших знакомых люди из числа тех, кого может заинтересовать такая покупка? Особо Вам неприятные. Я спрашиваю из чисто научного интереса по просьбе видного натурфилософа.
Др. Уотерхауз
Исаак,
я не вижу лучшего способа отблагодарить Вас за сегодняшнее гостеприимство, чем почтительно довести до Вашего сведения, что, возможно, некто пытается Вас взорвать. Кто бы это ни был, он очень хорошо знает Ваши привычки. Подумайте над возможностью их разнообразить.
Ваш преданный и покорный слуга,Даниель
P. S. Касательно другой темы нашего разговора, я навожу справки.
Крейн-корт, Лондон
22 апреля 1714
…тогда как здесь и бренди, и вино, и прочие наши напитки: эль, пиво тёмное и светлое, пунш и прочая — пьются чрез меру и до такой степени, что становятся ядом и для нашего здоровья, и для нашей морали, губительным для тела, для нравственных устоев и даже для разумения; мы каждодневно видим, как люди, крепкие телесно, пьянством загоняют себя в гроб, и, что ещё хуже, люди, крепкие разумом, доводят себя до отупения и потери рассудка.
Даниель Дефо, «План английской торговли»
Точно посередине Крейн-корта текла сточная канава: робкая попытка извлечь из силы тяжести хоть какой-нибудь прок. Уклон был так мал, что на выходе к Флит-стрит Даниель нагнал огрызок от яблока, которое съел четверть часа назад, дожидаясь Сатурна у дверей Королевского общества.
Питер Хокстон едва не заполнил собой арку. Руки он засунул в карманы, локти расставил, став похож на планету Сатурн, как видят её астрономы, и курил глиняную трубку с отбитым чубуком не длиннее дюйма. Когда Даниель подошёл ближе, Сатурн вынул её изо рта и вытряс в канаву; потом застыл, склонив голову, как будто ему ни с того ни сего взбрело на ум помолиться.
— Смотрите! — были его первые слова Даниелю. — Смотрите, что течёт в вашей сточной канаве!
Даниель встал рядом с ним и посмотрел вниз. Там, где Крейн-кортская канава проходила между ногами Сатурна, земля когда-то просела, образовав ямку. На самом дне сетка трещин между камнями была прорисована блестящими линиями жидкого серебра.
— Ртуть, — сказал Даниель. — Из лаборатории Королевского общества, наверное.
— Укажите на него! — попросил Сатурн, по-прежнему разглядывая рисунок трещин.
— Прошу прощения?
— Укажите на Королевское общество и сделайте вид, будто отпустили какое-то замечание по его поводу.
Даниель неуверенно повернулся и указал в центр Крейн-корта, хотя никакого замечания так и не отпустил. Сатурн несколько мгновений смотрел, потом быстрым шагом вышел на Флит-стрит.
Даниель еле догнал его в толпе. Церковные колокола несколько минут назад пробили шесть. На Флит-стрит было очень людно.
— Я думал, вы возьмёте экипаж, — сказал Даниель в надежде, что разговор заставит Хокстона сбавить шаг. — Я написал, что возмещу все расходы…
— Нет надобности, — бросил Сатурн через плечо. — Это в двух сотнях шагов отсюда.
Он шёл на восток по Флит, высматривая просветы между всадниками, каретами и телегами справа, а то и ныряя в них, видимо, с конечной целью оказаться на южной стороне.
— Вы сказали, что это рядом, — заметил Даниель. — Трудно поверить, что заведение такого рода может располагаться так близко от… от…
— От заведения вроде Королевского общества? Ничего странного, док. Улицы Лондона подобны книжным полкам, на которых авантюрный роман соседствует с Библией.
— А зачем вы просили, чтобы я указал на Королевское общество?
— Чтобы я мог на него посмотреть.
— Вот уж не думал, что на это надобно дозволение.
— Вы вращаетесь среди натурфилософов, которые привыкли на всё смотреть без спроса. Здесь есть некая дерзость, которую вы не осознаете. В иной среде дозволение необходимо. И хорошо, что мы завели этот разговор по пути к закоулку Висящего меча. Ибо там, куда мы идём, определённо ни на что без спроса глазеть нельзя.
— Тогда я буду смотреть только вам в рот, мистер Хокстон.
Они дошли уже почти до Уотер-лейн. Сатурн свернул в неё, как если бы направлялся к доку Белых братьев на Темзе. Широкая и прямая Уотер-лейн разделяла два района запутанных кривых улочек. Справа — окрестности Темпла. Типичный обитатель — стряпчий. Слева — приход святой Бригитты, Сент-Брайдс. Типичный обитатель — женщина, которую задержали за проституцию, воровство или бродяжничество и отправили трепать пеньку. В минуты особой ненависти к человечеству Даниель говорил себе, что устроить свальный грех прямо посреди Уотер-лейн жителям правой и левой стороны мешает лишь непрерывный поток золотарей, тянущихся к набережной, запах которой ощущался уже здесь.
После пожара Уотер-лейн застроили домами, дававшими случайному пешеходу полное и правдивое представление о том, что за ними. Всякий раз, идя этим путём к реке, Даниель держался правой стороны, той, что ближе к Темплу. Слегка осмелев в окружении хорошо одетых клерков и честного вида здоровяков-торговцев, он позволял себе осуждающе взглянуть на другую сторону улицы.
Здесь, между неким ломбардом и неким трактиром, дырой от гнилого зуба чернел прогал. Даниелю всегда думалось, что Роберт Гук, который в приличных районах выполнял обязанности городского землемера безупречно, тут обсчитался, увлекшись какой-нибудь брайдуэллской красоткой. Разглядывая людей, выходивших из прогала или нырявших в него, Даниель иногда пытался вообразить, что будет, если туда войти, — так семилетний мальчик гадает, что будет, если провалишься в дыру нужника.
Сатурн, выйдя на Уотер-лейн, сразу взял влево, и Даниель, никогда не видевший улицу под этим углом, потерял ориентацию. Гуляющие, нюхающие табак стряпчие по другую сторону выглядели глуповатыми.
Через несколько шагов Сатурн свернул в узкий тёмный проулок, и Даниель, больше всего боясь отстать, поспешил за ним. Только углубившись туда шагов на десять, он посмел обернуться на далёкие яркие фасады по другую сторону Уотер-лейн и понял, что они вступили в тот самый прогал.
Движения его правильнее всего будет назвать суетливыми. Он старался идти рядом с Сатурном и, подражая своему провожатому, ни на что не смотреть прямо. Если лабиринт улочек был и впрямь так ужасен, как всегда чудилось Даниелю, то ужасы эти ускользнули от его взгляда, а при той скорости, с какой шагал Сатурн, любой преследователь должен был остаться позади. Даниелю виделась длинная череда душителей и убийц, которые бегут за ними, отдуваясь и согнувшись от колотья в боку.
— Полагаю, это какие-то сети? — спросил Питер Хокстон.
— В смысле козни… ловушка… западня… — ахнул Даниель. — Я в таком же неведении, как и вы.
— Говорили ли вы кому-нибудь, когда и куда мы идём?
— Я сообщил место и время встречи, — отвечал Даниель.
— Тогда это сети. — Сатурн шагнул вбок и, не постучав, протиснулся в дверь. Даниель, на какой-то лихорадочный миг оставшись один в закоулке Висящего меча, припустил за ним и не останавливался, пока не оказался рядом с Питером Хокстоном перед камином заведения.
Питер Хокстон совком подбросил угля туда, где некоторое время назад, судя по некоторым признакам, теплился огонь. В комнате и без того было душно, так что на место у очага никто не претендовал.
— А здесь совсем не так ужасно, — осмелился выговорить Даниель.
Сатурн отыскал мехи, взял их за ручки и осмотрел придирчивым взглядом механика. Потом надавил: струя воздуха отбросила длинные чёрные пряди с его лица. Он нацелился на кучку угля и начал двигать ручки вверх-вниз, словно мехи — летательный аппарат, посредством которого Питер Хокстон хочет оторваться от земли.
Памятуя его наставления, Даниель педантично избегал на что-либо смотреть. Однако душный, а теперь и дымный воздух заведения был обильно сдобрен женскими голосами. Даниель невольно обернулся на взрыв женского смеха из дальнего угла комнаты. Он успел заметить много старой разномастной мебели, не расставленной по определённой системе, а размётанной туда-сюда движением входящих и выходящих. Десятка два посетителей (мужчин и женщин примерно поровну) сидели парами или небольшими компаниями. Большое окно в дальнем конце выходило на какое-то открытое пространство, вероятно, на Солсбери-сквер в центре Сент-Брайдса. Точно сказать было нельзя, поскольку его скрывали занавески, довольно хорошего кружева, но чересчур большие и побуревшие от табачного дыма до цвета корабельной пеньки. Даниель с замиранием сердца осознал, что они скорее всего украдены средь бела дня с чьего-то открытого окна. На этом светло-буром фоне вырисовывались три женщины: две худые и молоденькие, третья — постарше и попышнее. Она курила трубку.
Даниель заставил себя вновь перевести взгляд на Сатурна. Однако он успел краем глаза заметить, что публика в трактире самая разная. Джентльмен за одним из столов ничуть не выделялся бы среди гуляющих на Сент-Джеймс-сквер, кое-кто больше походил на завсегдатаев Хокли-в-яме.
Своими усилиями Сатурн сумел выжать из кучи угля и золы свет, но не жар. Впрочем, жар и не требовался. Судя по всему, Сатурн просто искал, чем занять руки.
— Сколько дам! — заметил Даниель.
— Мы зовём их бабёнками, — бросил Сатурн. — Надеюсь, вы не таращились на них, как какой-нибудь клятый натурфилософ на коллекцию букашек.
— Мы зовём их насекомыми, — парировал Даниель. Сатурн чинно кивнул.
— Даже не таращась, — продолжал Даниель, — я вижу, что здесь хоть и не совсем чисто, но и не гадко.
— В некотором смысле преступники любят порядок даже больше, чем судьи, — отвечал Сатурн.
Тут в комнату вбежал запыхавшийся мальчишка и принялся оглядывать сидящих. Он сразу приметил Сатурна и весело двинулся к нему, готовясь вытащить что-то из кармана, однако Питер Хокстон, видимо, подал какой-то знак взглядом или жестом, потому что мальчишка круто повернул в другую сторону.
— Малый, укравший ваши часы и убежавший с ними, действовал не из желания вас огорчить. Им двигало разумное ожидание прибыли. Когда вы видите, как стригут овец, вы можете догадаться, что где-то неподалёку есть пряльня; когда вам обчищают карманы, вы знаете, что на расстоянии короткой пробежки есть такой вот шалман.
— Однако обстановка здесь почти как в кофейне.
— Да. Те, кто склонен порицать такого рода заведения, усмотрели бы предосудительность в самом этом сходстве.
— Впрочем, должен признать, что пахнет здесь не столько кофе, сколько дешёвой можжевеловой настойкой.
— Мы в таких местах называем её джином. Джин-то меня и губит, — лаконично пояснил Сатурн, глядя через плечо на мальчишку, который теперь вёл переговоры с толстым субъектом за угловым столом. Хокстон продолжил внимательно оглядывать помещение.
— Вы нарушаете собственные правила! На что вы смотрите?
— Припоминаю, где тут выходы. Если это и впрямь окажутся сети, я уйду, не откланявшись.
— Нашего покупателя, случаем, не видите? — спросил Даниель.
— Кроме моего коллеги-часовщика в углу и сыча рядом с нами, который пытается выгнать дурную болезнь джином и ртутью, все пришли с компанией, — отвечал Сатурн, — а покупателю я сказал, что он должен быть один.
— Сычом вы называете старика?
— Да.
Даниель отважился взглянуть на упомянутого сыча. Тот лежал в углу рядом с камином, не дальше, чем на длину шпаги от Даниеля с Сатурном — помещение было маленькое, столы стояли тесно, и дистанция между компаниями сохранялась лишь благодаря своего рода этикету. Старик казался свёртком одеял и ветхой одежды, из которого с одной стороны торчали бледные руки и лицо. На приступку камина перед собой он примостил глиняную бутыль голландской можжевеловой водки и крошечную фляжку ртути — первый знак, что он сифилитик, поскольку ртуть считалась единственным средством от этой болезни. Догадку подтверждали уродливые изъязвленные вздутия, называемые гуммами, вокруг его рта и глаз.
— Любой разговор, который вы тут услышите, будет пересыпан такими словами, как «сыч», «сети» и прочей музыкой, ибо здесь, как у адвокатов или врачей, чем мудрёнее человек говорит, тем больше его уважают. Ничто так не уронит нас в глазах местной публики, как удобопонятная речь. И всё же, возможно, нам придётся ждать долго. А я боюсь, что начну пить джин и окажусь рядом с тем сычом. Так что давайте поговорим неудобопонятно о нашей религии.
— Простите?
— Вспомните, док, что вы — мой духовный пастырь, а я — ваш прихожанин. Ваше дело — помочь мне приблизиться к вечной истине через таинство технологии. Вот на такое… — он быстро обвёл глазами комнату, ни на чём не задерживая взгляд, — я не подряжался. Мы должны быть в Клеркенуэлле, мастерить приборы.
— И будем, — заверил Даниель, — как только каменщики, плотники и штукатуры закончат работы вокруг.
— Ждать недолго. Я никогда не видел, чтобы дома возводили в такой спешке, — сказал Сатурн. — Что вы там намерены устроить?
— Читайте газеты, — отвечал Даниель.
— Как прикажете вас понимать?
— Вы сами предложили говорить шифром.
— Я читаю газеты! — обиделся Сатурн.
— Следите ли вы за тем, что происходит в парламенте?
— Много визга и воя по поводу того, чествовать ли сына нашего будущего короля[9] в палате лордов или запретить ему въезд в страну.
Даниель хохотнул.
— Уж, наверное, вы — виг, коли так уверено называете Георга-Людвига нашим будущим королём!
— А кто я, по-вашему? — спросил Сатурн, внезапно понижая голос и беспокойно оглядываясь.
— Тори и якобит до мозга костей!
Какое-то время в наступившей тишине слышался лишь смех Даниеля над собственной шуткой. Затем голос:
— Я не потерплю здесь таких разговоров!
Говорил низенький коренастый валлиец с бульдожьей челюстью. Судя по объёмистому чёрному плащу, он только что вошёл с улицы и сейчас направлялся в кухню. Правой рукой он нёс за горлышки несколько пустых бутылок из-под джина, левой сжимал полную. Даниель решил, что малый шутит, поэтому хохотнул ещё разок, однако валлиец наградил его таким взглядом, что Даниель поперхнулся смехом.
Почти все посетители смотрели сейчас на них.
— Тебе как всегда, Сатурн? — спросил валлиец, по-прежнему пристально глядя на Даниеля.
— Лучше скажи ей, Энгус, чтобы сварила нам кофе. Я что-то последнее время плохо переношу джин, а мой друг и так выпил на бутылку больше, чем следовало.
Энгус повернулся и вышел из комнаты.
— Простите! — воскликнул Даниель. Минуту назад он чувствовал себя на удивление уютно, теперь его охватила такая же паника, как в проулке, даже сильнее.
Старик на полу затрясся в ознобе и попытался улечься поудобнее, однако руки и ноги плохо его слушались.
— Я полагал… — начал Даниель.
— Что слова, которые вы употребили, так же чужды этому месту, как анализ бесконечно малых.
— Какое дело хозяину — ведь это был он? — до моей шутки?
— Если пройдёт слух, что к Энгусу заглядывают такие люди…
— Какие?
— Такие, которые поклялись, что нашим следующим королём будет не Ганновер, — просипел Сатурн так тихо, что Даниелю пришлось читать по губам, — а подменыш[10], то никто сюда ходить не будет. Тогда эти люди — которым вечно не хватает места, чтобы собираться и плести заговоры — повалят сюда толпами.
— И что?! — яростно прошептал Даниель. — Здесь и так полно преступников!
— А то, что Энгусу это нравится, он непревзойдённый мастер среди поимщиков, — отвечал Сатурн, быстро теряя терпение. — Он умеет ладить и с дозором, и с констеблями, и магистратами. А вот если сюда повадятся сторонники подменыша, то здесь будет притон не только воров, но и государственных изменников. Тогда Энгусу придётся иметь дело с курьерами королевы.
— Поверить не могу, что курьеры королевы сунутся в такое место! — Даже Даниелю хватило ума скорее изобразить название полка движением губ, чем произнести вслух.
— Сунутся, будьте покойны, если тут начнут плести заговоры. И Энгуса повесят не до полного удушения, выпотрошат и четвертуют рядом с какими-нибудь паршивыми виконтами-якобитами. Неправильная смерть для простого поимщика.
— Вы уже его так называли.
— Как?
— Поимщиком.
— Естественно.
— Мне казалось, что поимщик — тот, кто ловит воров и получает награду от королевы. Не… — Тут Даниель осёкся, потому что лицо у Питера Хокстона перекосилось, а голова судорожно задёргалась.
— Вижу я, ты пускаешь мой уголь в трубу! — объявил Энгус, который, избавившись от плаща и бутылок, снова направлялся к Сатурну и Даниелю. За ним на почтительном расстоянии следовала брайдуэллского вида девица с двумя кружками кофе в руках.
— Напротив, помогаю тебе поддерживать огонь, — спокойно отвечал Сатурн, — без всякой, заметь, платы.
— А нечего его было вообще разводить! — возразил Энгус. — Сперва вон тот забулдыга хныкал, чтобы ему позволили согреться, теперь ты снова! Вот ты и плати!
— Заплачу, — сказал Сатурн.
Кофе подали, деньги — несколько медяков, которые Энгус тщательно осмотрел — перешли из рук в руки.
— Теперь объясните, зачем мне следить за событиями в парламенте? — спросил Сатурн после того, как оба пригубили кофе. — Какую связь я должен усмотреть между положением герцога Кембриджского[11] и вашей Клеркенуэллской дырой?
— Решительно никакой. Кроме того, что самая громкая и очевидная деятельность парламента может служить ширмой для более тонких махинаций, достойных вашего внимания.
— Это хуже, чем не сказать ничего, — проворчал Сатурн.
Вошёл одинокий гость и сразу начал озираться. Даниель мгновенно понял, что это их покупатель, но не вскочил и не замахал рукой, а, наоборот, вжался в стул, чтобы выгадать время и разглядеть пришельца.
Против света, на фоне занавесок, его вполне можно было принять за джентльмена, ибо он был при шпаге и в парике под шляпой с модно загнутыми полями. Однако, стоя, новый посетитель сутулился, идя — семенил, а приметив что-нибудь — вздрагивал. А когда он подошёл к камину и опустился на стул, с нехарактерным радушием придвинутый Питером Хокстоном, Даниель заметил, что от парика разит конским волосом, шляпа чересчур мала, а шпага опаснее для своего хозяина, чем для гипотетического врага — цепляясь за столы и стулья, она всякий раз отскакивала, норовя подставить ему подножку. Дважды он чуть не споткнулся, напомнив Даниелю клоуна на Варфоломеевской ярмарке, вот так же изображавшего потешного джентльмена. Однако самое стремление выглядеть солидно придавало новому гостю некое подобие достоинства и, возможно, котировалось в заведениях подобного рода.
— Мистер Бейнс, доктор Болторот, — произнёс Сатурн. — Доктор, поздоровайтесь с тем, кого мы зовём мистером Бейнсом.
— Доктор Болторот, для меня в равной мере приятно и лестно с вами познакомиться, — сказал новоприбывший.
— Здравствуйте, мистер Бейнс, — отвечал Даниель.
— Вы не из тех Болторотов, что владеют Болторотским замком?
Даниель понятия не имел, как на это отвечать.
— Док из очень старой семьи гербоносных йоменов Болторотского края, — с лёгким раздражением объявил Сатурн.
— Ах, возможно, наши предки были знакомы! — воскликнул мистер Бейнс, похлопывая по эфесу шпаги. — Ибо я почти уверен, что Болторотское аббатство граничит с приходом, откуда…
— Имя вымышленное, — рявкнул Сатурн.
— Ну конечно, это очевидно, я же не ребёнок! Я просто хотел немножко его взбодрить.
— Не вышло. Давайте перейдём к рыжью, а взбодримся на воздухе, как покончим.
Сказанные настоящему джентльмену, эти слова спровоцировали бы дуэль. Даниель не на шутку опешил, однако мистер Бейнс мгновенно оправился и продолжил уже совершенно другим тоном:
— Отлично.
— Вы понимаете, что речь о крупной ставке?
— Упоминался большой вес, но это ничего не говорит мне об истинном содержании рыжья, пока не взята проба.
— И какого же размера пробу вы намерены взять? — с иронией осведомился Сатурн.
— Достаточную, чтобы оправдать мои хлопоты.
— Какое бы количество вы ни проверили — допуская, что вы и впрямь станете это делать, — вы убедитесь, что док не финтит. Содержание такое, какое только можно получить в тигле. И что тогда?
— Сделка, — осторожно отвечал Бейнс.
— Когда я последний раз вёл с вами дела, мистер Бейнс, вы были не в состоянии приобрести такую партию рыжья, какой располагает доктор Болторот. Судя по парику, ваше благосостояние с тех пор не изменилось.
— Питер Хокстон! Я знаю вашу историю лучше, чем вы — мою! Кто вы такой, чтобы меня порочить?!
Даниель почти не следил за разговором, так ошеломила его мимика мистера Бейнса. Однако примерно к этому времени он подобрал объяснение наблюдаемому феномену: у мистера Бейнса были деревянные вставные зубы, вырезанные под куда больший рот. Они постоянно норовили выскочить, и когда это происходило, у мистера Бейнса становился странно-лошадиный вид. Ему приходилось одновременно произносить слова и удерживать во рту искусственные зубы. Говорил он медленно, рублеными фразами, поскольку в конце каждой должен был поймать цепкими губами ускользающую челюсть и вернуть беглянку на место.
Усилие, затраченное на то, чтобы бросить упрёк Сатурну (не говоря уже о сопутствующем риске), само по себе придало сказанному вес. Питер Хокстон резко выпрямился на стуле и запустил пальцы в чёрную шевелюру.
Разделавшись с возражениями, мистер Бейнс продолжал:
— Допустим, у кого-то и впрямь есть ресурсы… — (очень сложное для… произнесения… слово, требующее хватательных усилий губ и языка), — для сделки в масштабах, предлагаемых доктором Болторотом — пришёл бы он сюда встречаться с незнакомцем? Думаю, нет! Он бы передал дело подручному, который, в свою очередь, обратился бы к доверенному посреднику.
Сатурн ухмыльнулся, отчего его небритое лицо стало ещё мрачнее, и покачал головой.
— Все мы знаем, что в стране есть только один монетчик, способный действовать в таких масштабах. Не вздрагивайте, я не собираюсь называть его вслух. Вы хотите нас уверить, будто представляете кого-то из его окружения?
— Большого однорукого иностранца, — отвечал мистер Бейнс.
Непростительная ошибка. До сих пор мистер Бейнс держался относительно прилично, однако сболтнуть такое было моветоном, и он это знал.
— Как видите, я не боюсь сообщать подобные сведения, поскольку уверен, что он будет действовать только через меня.
Док и Сатурн важно кивнули, но мистер Бейнс понимал, что сел в лужу, хоть и не желал этого признавать.
Старик-сифилитик, который долгое время казался мёртвым, с самого появления мистера Бейнса ворочался в своём углу. Даниель объяснял это тем, что они передвинули стулья, загородив несчастному камин, откуда шло хоть какое-то тепло. Теперь, судя по звукам, старик пытался сесть. Даниелю не было нужды смотреть через плечо — увидев перекошенное лицо Сатурна, он понял, что надо встать и посторониться.
Как большинство членов Королевского общества, Даниель знал, что сифилис и проказа — разные болезни, передаваемые разными путями. Почти все остальные считали их за одну болезнь и шарахались от сифилитиков, как от прокажённых. Это объясняло поведение Сатурна. Однако и Даниель, даром что член К.О., повёл себя, как последний невежественный обыватель: отпрыгнул от старика, который пробирался к камину, таща за собой ворох грязных одеял. Он двигался судорожно, будто его жалили осы, приволакивая одну ногу; левая рука висела как плеть. Достигнув цели, старик съёжился, полностью заслонив свет горящих углей, подался вперёд и начал растирать парализованную руку здоровой. Седые лохмы упали бы в огонь, если бы он, или кто-то другой, не обвязал их подобием тюрбана.
— Вопросы, которые задаст мне иностранный джентльмен, несложно предугадать, — заметил мистер Бейнс.
— Конечно, — отвечал Сатурн. — Рыжьё из Америки.
— Поскольку доктор Болторот недавно прибыл из Бостона, никто и не предполагал, что оно из Гвинеи, — ядовито проговорил мистер Бейнс. — Иностранный джентльмен захочет знать, объявились ли на берегах реки Чарльз богатые золотые жилы? Поскольку, ежели так…
— Если иностранный джентльмен и впрямь представляет того монетчика, о котором мы с вами думаем, то он человек занятой, не склонный выслушивать длинные повести о пиратских приключениях в Испанской Америке, — объявил Сатурн. — Разве не довольно ему знать, что это и впрямь рыжьё? Ибо тем оно и хорошо, что смешается в тигле с другим рыжьём, а где его добыли — не суть важно.
— Иностранный джентльмен считает, что важно, более того, он весьма чуток к любым неувязкам в изложении. В его мире, где коммерция, по необходимости, неофициальна и малоупорядоченна, единственный способ завоевать доверие контрагента — это рассказать связную повесть.
— Здесь мистер Бейнс прав, — заметил Сатурн Даниелю. — Люди такого сорта — самые взыскательные литературные критики.
— Не будет убедительной истории — не будет доверия, а значит, и сделки. Я здесь, чтобы апробировать не ваше рыжьё, а ваш рассказ; если я не принесу сегодня захватывающую пиратскую повесть, то разговор окончен.
Со стороны камина раздался странный звук, как будто на уголья бросили пригоршню пыли. Даниель обернулся и увидел, что старик яростно трёт глаза и рот. Может быть, от дыма у него защипало в носу и зачесались болячки. Огонь разгорелся, но сильно чадил; по счастью, дым, очень густой и какой-то красноватый, быстро уходил в трубу.
Даниель перенёс внимание с непонятного старика на более насущное: мистера Бейнса (который по-прежнему что-то вещал про иностранного джентльмена) и пустой стул.
Даниель мотнул головой и посмотрел снова: стул и впрямь был пуст.
Мистер Бейнс только сейчас понял, что Сатурн исчез. Они с Даниелем принялись оглядывать комнату, полагая, что их собеседник встал размять ноги или отнести пустую кружку.
За окном смеркалось, но даже в полутьме было видно, что Питера Хокстона здесь нет.
Что-то заслонило сумеречный свет с улицы. Женщины, сидевшие перед кружевной занавеской, вскочили. Одна левой рукой подхватила юбки, а правой принялась расчищать себе дорогу к ближайшему выходу. Судя по лицу, она хотела бы завизжать, но была занята более неотложным делом, поэтому с губ её сорвалось лишь какое-то бессвязное уханье.
На мгновение стало совсем темно, затем Даниель печёнкой почувствовал, как что-то тяжёлое ударило по окну. Сломанные доски зашагали по комнате, кувыркаясь и подпрыгивая в потоке битого стекла.
Он вскочил. На него бежали люди, много людей, потому что полкомнаты заняло что-то тёмное, вдвинувшееся в пролом на месте окна. Даниель метнулся было в угол, зная, что в давке первым окажется под ногами, но тут рядом что-то зашипело и комнату выбелило адским светом. Из мрака вырвались лица, хор белых овалов, ртов, разверстых не в пении, а в крике. Потом разом взметнулись руки и локти, заслоняя глаза. Каждый теперь норовил пробиться к стене, налетая на мебель и друг на друга; сбившись по краям комнаты, все остановились.
Теперь середина помещения была пуста, если не считать опрокинутых стульев, и Даниель наконец увидел, что въехало в окно.
То был фургон вроде тех, в каких перевозят золотые и серебряные слитки, только превращённый в таран и выкрашенный в непроницаемый чёрный цвет. Лишь одна часть вырисовывалась чётко: серебристая эмблема на лбу стенобитного Овна, вырезанный из стали силуэт бегущей борзой.
С обеих сторон фургона распахнулись дверцы, в пол со стуком ударили добротные сапоги. Даниель видел мало, но слышал бряцание шпор и звон вынимаемых из ножен стальных клинков: свидетельство, что шалман Энгуса удостоен визита знатных особ.
Даниель полуобернулся к источнику света, прикрывая глаза ладонью, и взглянул на мистера Бейнса. Тот потерял вставные зубы, от чего сразу стал очень старым и беззащитным. Из всех удивительных впечатлений, обрушившихся на мистера Бейнса в последние десять секунд, вниманием его полностью завладело одно: эмблема с бегущей борзой. И не только на фургоне: у людей, которые высыпали из него и теперь обнажёнными шпагами загоняли посетителей Энгуса в углы, были такие же на груди.
Пустой фургон оттащили в сторону. Трактир внезапно стал придатком Солсбери-сквер. Высокий человек в чёрном плаще ехал к ним на чёрном жеребце, держа в руке обнажённую саблю.
Он выехал на середину комнаты, натянул поводья и привстал в стременах, явив взглядам серебристую борзую на груди мундира.
— Государственная измена! — объявил он голосом таким зычным, что его должны были услышать на другом конце площади. — На колени, все!
И люди, и животные, когда они напуганы — буквально до помрачения рассудка, — либо цепенеют, либо бросаются наутёк. До сей минуты мистер Бейнс пребывал в оцепенении. Теперь инстинкт приказывал ему бежать. Он подскочил и кинулся прочь от своры серебристых борзых. При этом он повернулся лицом к камину, и свет, словно пылающее вулканическое облако, бросил его сперва на колени, потом на четвереньки.
То ли у Даниеля привыкли глаза, то ли свечение постепенно слабело. Теперь он видел, что старик-сифилитик исчез. Одеяла упали, как сброшенная змеиная кожа.
Того, кто стоял на месте старика, девяносто девять из ста обитателей христианского мира приняли бы за ангела с развевающимися белыми волосами и огненным мечом. Даже Даниель чуть не поддался такой мысли, однако в следующее мгновение рассудил, что это сэр Исаак Ньютон со скипетром горящего фосфора.
За час, прошедший с появления курьеров королевы в питейном заведении Энгуса, органам чувств Даниеля предстало множество ярких и необычных сцен. Однако когда ему наконец представился случай посидеть и подумать (а именно в гальюне небольшого трёхмачтового судна, стоящего на якоре недалеко от Блэкфрайерс, где он выпустил в Темзу превосходную какашку), всё удалось свести к следующим основным фактам.
Исаак бросил в камин пригоршню какого-то химического порошка; поваливший из трубы густой дым стал для курьеров королевы сигналом к атаке.
Питер Хокстон и Энгус сбежали через потайной лаз, ведущий из кухни в подвал соседнего дома, оттуда через чёрную дверь во двор курятника, дальше через стену в бордель, из борделя в трактир и оттуда вновь запасным ходом в проулок. (Всё это курьеры королевы узнали, повторив их путь и опросив свидетелей.)
Восточным концом проулок упирался в кладбище за Брайдуэллом. Здесь, между могилами безвестных шлюх, Энгус и Питер Хокстон разошлись, и каждый скрылся своим путём.
Болячки у глаз и рта Исаака были фальшивые, слепленные из загустевшего сока бразильской гевеи.
Капитан курьеров — тот самый, что въехал в трактир верхом на коне, — оказался мистером Чарльзом Уайтом, любителем травить медведей и откусывать уши.
Посетителей трактира курьеры, хорошенько пугнув, отпустили восвояси, а сами, захватив Даниеля, Исаака и мистера Бейнса, пронеслись по тупику так же резво, как до того Энгус и Сатурн. Перед ними, сразу за кладбищем, высился Брайдуэлл — бывший королевский дворец, давным-давно отданный беднякам, наполовину сгоревший во время пожара, наполовину отстроенный заново. Даниель никогда толком его не разглядывал, да и зачем? Однако именно так, наверное, Брайдуэлл выглядел лучше всего: в синих сумерках, отмежёванный сырым погостом от жительниц прихода святой Бригитты. Пока отряд нёсся по тупику, Даниелю мнилось, что сейчас они лобовой атакой возьмут Брайдуэллский дворец: промчатся галопом по кочковатому гласису некрополя, вышибут двери и сгонят в кучу шлюх. Однако в последний миг они свернули на Дорсет-стрит и поскакали прямо к открытому дровяному складу на берегу Темзы.
К пристани были пришвартованы две портовые шаланды, скрытые штабелями брёвен от возможных наблюдателей за высокими окнами Брайдуэлла. В обеих сидели гребцы, готовые отдать швартовы и отойти от пристани.
В сумерках они доставили курьеров (общим числом шесть), Даниеля, сэра Исаака и пленника на шлюп «Аталанта». Судно было с голыми флагштоками, инкогнито, но на одном из свёрнутых флагов Даниель увидел герб Чарльза Уайта. Когда королеве доложат, что он предоставил для служебного дела личную яхту, она, безусловно, оценит такое рвение.
Всю недолгую дорогу до шлюпа Чарльз Уайт сидел напротив мистера Бейнса, колени в колени, рассеянно перебирал коллекцию вяленых ушей на часовой цепочке и вслух прикидывал, как быстро «Аталанта» доберётся до Тауэра, где есть полный ассортимент первоклассных пыточных орудий. Он даже обсудил с курьерами, не проще ли для скорости протащить мистера Бейнса под килем, и если да, то стоит ли сделать это там (в ста ярдах ниже по течению), где в Темзу впадает Флитская канава; другими словами, лучше или хуже мистер Бейнс заговорит, когда наглотается нечистот; или, может быть, протащить его под килем сейчас, а богатый инструментарий Тауэра применить позже. Потому как государственные изменники, зная, что их в любом случае повесят не до полного удушения, оскопят, выпотрошат и четвертуют, часто не видят стимула разговаривать.
Тут один из лейтенантов Уайта — молодой человек, вероятно, выбранный на эту роль за белокурые волосы и нежное девичье лицо — выдвинул контрдовод: а что, если мистера Бейнса не будут расчленять на Тайберне, поскольку ещё не доказано, что он государственный изменник? Лейтенанта тут же ошикали. Однако через минуту он вновь поднял ту же тему и, наконец, получил разрешение объясниться.
Хитроумный адвокат, сказал он, сможет возразить, что мистер Бейнс на самом деле — верный подданный королевы.
Погодите, погодите, вовсе не абсурд! Вот доктор Уотерхауз — честный подданный, с целью раздобыть нужные сведения притворявшийся, будто хочет выйти на связь с монетчиками. Не сможет ли адвокат мистера Бейнса заявить о нём то же самое?
Это смехотворно, возразил Чарльз Уайт к отчаянию мистера Бейнса, которому уже чудился проблеск надежды.
Ибо (продолжал Уайт) мистер Бейнс не представил никаких сведений и скорее всего просто ими не располагает. Так что его точно выпотрошат и четвертуют, вопрос лишь в том, сколько сил потребуется затратить на этого субъекта в застенках Тауэра.
Даниель имел несчастье во время всей приведённой беседы сидеть на носу шаланды, лицом к корме. Он отчётливо видел широкую спину Чарльза Уайта и лысого, беззубого мистера Бейнса, который постоянно тянул шею вверх или вбок, силясь отыскать хоть одно сочувственное лицо.
Даниель, может быть, и понимал, что всё это фарс, призванный сыграть на страхах мистера Бейнса и сломить его без всяких пыточных тисков. Однако мистер Бейнс — единственный зритель спектакля — верил каждому слову. Сценическое действие проняло его до глубины души. Не было сомнений, что он сломлен, волновало другое: осталась ли в нём хоть толика разума?
Сумел бы Даниель в его ситуации так легко разгадать уловку? Вряд ли.
Хотя, возможно, он в той же ситуации, и спектакль адресован ему не меньше, чем мистеру Бейнсу.
Кал, вышедший из него в гальюне «Аталанты», был шедевром: ровно две образцовой формы колбаски, которые погрузились под воду без всплеска, словно свинцовый лот — свидетельство, что кишечник будет исправно работать даже тогда, когда в остальном возраст возьмёт своё. Хотелось посидеть несколько минут голым задом на прекрасно отполированном деревянном круге, растягивая миг торжества, как учил его делать после мочеиспускания покойный Самюэль Пепис, однако звуки из-под палубы напомнили, что есть ещё и долг: не только перед королевой, но и перед мистером Бейнсом.
Произошло то самое, чего опасался Даниель. Курьеры королевы отлично умели хватать изменников, но в сценическом деле были сущими дилетантами и совсем не чувствовали публику. Они затянули спектакль и превратили мистера Бейнса в хнычущего идиота, от которого теперь никто не смог бы добиться толка.
Даниель натянул штаны и двинулся к корме. У трапа, ведущего вниз, он едва не налетел на человека, который поднимался из каюты подышать воздухом. Не столкнулись они лишь потому, что у человека были белые волосы, и Даниель успел приметить их сияние в лунном свете.
Он отступил на шаг, пропуская Исаака на палубу.
— Мистер Хокстон полностью себя разоблачил, — заметил Исаак.
— Чем? Тем что сбежал?
— Разумеется.
— Если бы он остался, чтоб его протащили под килем, вздёрнули на дыбу, выпотрошили и четвертовали, мы бы знали, что он — честный малый, да?
Лицо Исаака выразило лёгкое недовольство.
— Ничего такого с ним бы не случилось, если бы он выказал готовность служить королеве.
— Единственное, что может Питер Хокстон делать для королевы — и для вас, — доставлять мне сведения из воровского подполья. Если бы он не сбежал, то провозгласил бы себя предателем воровского мира и утратил всякую для нас ценность. Скрывшись вместе с Энгусом, он значительно упрочил свою репутацию.
— Не имеет значения. Ваша роль сыграна. И сыграна неплохо. Благодарю.
— Зачем вы послали дымовой сигнал, не дожидаясь, что выболтает Бейнс?
— Он и так сказал больше, чем следовало, — ответил Исаак, — и, поняв свою ошибку, перевёл разговор на вашу историю. Я знал, что истории у вас нет, во всяком случае такой, в какую поверит однорукий иностранец или хотя бы мистер Бейнс. И принял решение: наступаем!
— Что вам нужно от мистера Бейнса, дабы продолжить наступление?
По настоянию Даниеля Чарльз Уайт и его молодчики на несколько минут оставили мистера Бейнса в каюте, правда, сковав его по рукам и ногам, чтобы он не избежал правосудия, покончив с собой.
Даниель выждал под дверью каюты, когда мистер Бейнс перестанет рыдать и всхлипывать, медленно сосчитал до ста (поскольку ему самому надо было успокоиться), отодвинул засов и вошёл, неся зажжённую свечу.
Мистер Бейнс сидел на скамье, уронив голову на стол; руки его были скованы за спиной. В первый миг Даниель подумал, что он скончался от удара, потом заметил, что плечи арестанта медленно вздымаются и опускаются, как мехи ирландской волынки.
Даниель почти позавидовал спящему. Он сел за стол и несколько минут сонно клевал носом в неярком свете свечи. Однако стук сапог и звяканье шпор над головой напоминали, что они не в какой-нибудь тихой бухте, а всего в нескольких ярдах от Блэкфрайерс, бывшего монастыря Чёрных братьев в Лондоне.
— Проснитесь.
— Э?.. — Мистер Бейнс дёрнул скованными руками, но тут же об этом пожалел. Он выпрямился, и спина его захрустела, как старая мачта под порывом шквального ветра. Рот был сухой дырой, разверстой, как рана. В глаза Даниелю мистер Бейнс старался не смотреть.
— Вы согласны поговорить со мной?
Мистер Бейнс промолчал. Даниель поднялся из-за стола. Мистер Бейнс искоса наблюдал за ним. Даниель сунул руку в карман. Бейнс съёжился, готовый к страданиям. Даниель вытащил кулак, разжал и протянул на открытой ладони деревянные зубы мистера Бейнса.
У того расширились глаза. Он метнулся вперёд, как кобра, разинув рот. Даниель скормил ему зубы, и Бейнс всосал их дёснами и губами. Даниель отступил на шаг, вытирая руки о штаны. Мистер Бейнс сел прямее, преображённый.
— Вы добрый джентльмен, сэр, добрый джентльмен, я сразу это понял, как вас увидел.
— На самом деле я не джентльмен, хоть и могу быть добрым. Мистер Чарльз Уайт — вот кто джентльмен. Он уже объяснил, как намерен с вами поступить. Таких слов на ветер не бросают — я удивлен, что у вас по-прежнему оба уха. Спасите свои уши и себя — расскажите мне, где и когда должны встретиться с одноруким иностранцем.
— Конечно, вы понимаете, что меня убьют.
— Не убьют, если вы исполните свой долг перед королевой.
— Тогда меня убьёт Джек-Монетчик.
— А если не Джек, то старость, — отвечал Даниель, — а может быть, тиф или апоплексия. Если бы я знал способ избежать смерти, я бы поделился им с вами и со всем миром.
— Говорят, сэр Исаак знает.
— Нести алхимическую дребедень — не лучший способ подольститься ко мне. Скажите, где найти однорукого иностранца.
— Вы правильно напомнили, что все мы смертны. Я боюсь не за себя.
— А за кого же?
— За дочь.
— Где она?
— В Брайдуэлле.
— Вы боитесь, что месть падёт на неё?
— Да. Подполье про неё знает.
— Уж, наверное, мистер Чарльз Уайт в силах вытащить одну девушку из Старой Несс, — задумчиво проговорил Даниель и осёкся, поймав себя на том, что говорит, как преступник.
— Да, прямиком оттуда в свою спальню, дабы затем, пресытившись, достойно похоронить её во Флитской канаве!
Вообразив эти ужасы, мистер Бейнс пришёл в такое состояние, как будто наблюдал их воочию. Его била дрожь, деревянные зубы стучали, из одной ноздри текло.
— А в мою порядочность вы, значит, верите?
— Я уже сказал, сэр, вы человек добрый.
— Если я дам слово, что пойду к Пряхам и позабочусь о вашей дочери…
— Умоляю, не так громко! Если мистер Уайт узнает о её существовании…
— Я опасаюсь его не меньше вашего, мистер Бейнс.
— Тогда… вы даёте слово, доктор Болторот?
— Да.
— Её зовут Ханна Спейтс, она треплет пеньку у мистера Уилсона, ибо она девушка сильная.
— Договорились.
— Зовите курьеров королевы.
За импровизированный акт милосердия Даниель был вознагражден бесплатным катанием по залитой луной Темзе. Прогулка получилась на удивление идилличной. Больше всего радовало отсутствие Чарльза Уайта и его присных. Коротко переговорив с мистером Бейнсом, курьеры высыпали на палубу, как стая ворон, погрузились обратно в шлюпки и отбыли к пристани Чёрных братьев.
Даже проход под Лондонским мостом, приключение в лодке почти смертельное — из тех событий, которые джентльмен, пережив, описывает на бумаге в уверенности, что других заинтересует его рассказ, — не принёс с собой ничего волнующего. Дали выстрел из фальконета, чтобы разбудить смотрителя, и подняли флаг с серебристой борзой. Смотритель остановил движение по мосту, развёл пролёт, и шкипер позволил течению вынести «Аталанту» в Лондонскую гавань.
Через полчаса они уже в свете факелов перебирались на мокрые ступени Тауэрской пристани. Как только голова Даниеля оказалась на уровне набережной, весь Тауэр предстал перед ним огромною книгой, написанной на чёрных листах дымом и пламенем.
Почти сразу над пристанью начиналась беспорядочная россыпь мелких строений, обнесённая частоколом. Часовой отпер калитку. Даниель вместе со всеми вошёл в здание, смущаясь чувством, что вторгся в чьё-то жильё. И впрямь, здесь жили (по меньшей мере) привратник, маркитант, трактирщик и различные члены их семей. Однако уже через несколько шагов под ногами запружинили доски: деревянный настил над коротким отрезком стоячей воды. Надо думать, подъёмный мост и Тауэрский ров соответственно.
Настил вывел их к отверстию во внешней стене Тауэра. Справа из той же стены клином выдавался бастион, но в нём не было ни единой двери, только амбразуры, из которых защитники Тауэра могли оказать губительные знаки внимания тем, кто пытается пройти по мосту. Сейчас мост был опущен, решётка поднята, из бойниц не сыпалось ничего смертоносного. Таким образом, прибывшие, растянувшись в цепочку, медленно вошли через что-то вроде потерны в основание башни Байворд.
Слева в неё вели ворота побольше — основной вход в Тауэр с суши; теперь они стояли на запоре. Потерну за вошедшими запер пожилой господин в ночном колпаке и домашних туфлях. Даниель, много знавший о Тауэре, сообразил, что это должен быть главный хранитель врат. Итак, крепость заперли на ночь.
При закрытых воротах нижний этаж Байвордской башни походил на гробницу. Исаак и Даниель поспешили выйти оттуда на угол Минт-стрит и Уотер-лейн. Здесь они постояли немного, глядя, как мистера Бейнса тащат в какой-то каземат.
Человек, который вошёл бы в Тауэр вслед за ними, ожидая увидеть просторный двор, обманулся бы в своих ожиданиях. Байворд был краеугольным камнем внешней части оборонительных сооружений. Дальше за узкой полоской земли вставала внутренняя стена, куда более высокая и древняя.
Однако даже специалиста по средневековой фортификации сбило бы с толку то, что предстало сейчас Исааку и Даниелю. Менее всего это напоминало крепость. Легче было поверить, что они стоят на углу двух улиц допожарного Лондона. Где-то за фахверковыми фасадами домов и таверн прятались каменные стены, до изобретения пороха практически неприступные. Однако, чтобы увидеть средневековые бастионы, амбразуры и прочая, пришлось бы соскоблить всё, построенное на них и перед ними, — задача, сравнимая с разграблением небольшого английского городка.
Башня Байворд, соединяющая двое главных ворот Тауэра с самой тесно застроенной его частью, сама по себе казалась настоящим гордиевым узлом. И это только первый её этаж — выше торчали две круглые башни, соединённые мостом-галереей, излюбленное место заточения знатных узников. Сейчас Байворд был по одну сторону от Исаака и Даниеля; по другую высилась громада Колокольной башни, юго-западного бастиона внутренней стены. О её существовании Даниель знал по старым гравюрам, видел же он более поздние постройки: две таверны справа от основания башни и прилепленные где только можно дома.
Всякий, оказавшийся в таком плотно застроенном месте, тут же принялся бы озираться в поисках выхода. Первой ему, как и всякому вошедшему через башню Байворд, предстала бы Уотер-лейн: мощёная полоса между внешней и внутренней стеной. Её частично перегораживали Колокольная башня и поздние злокачественные разрастания, однако она была по крайней мере широкой, а поскольку днём бывала открыта для публики, то и не особо загромождённой.
Можно было поступить иначе: свернуть налево и углубиться в то, что на первый взгляд напоминало стихийное поселение перед замком крестоносцев, наскоро выстроенное голытьбой, которую не пустили внутрь к рыцарям и оруженосцам. Осью этих трущоб служила одна узкая улица. Слева от неё тянулся ряд старых казематов, как на языке военных называются укреплённые галереи. Смысл их состоял в том, что противника, прорвавшегося за внешнюю стену, расстреливали в спину якобы запертые позади защитники. В новых крепостях казематы помещали внутри земляных валов, защищающих от артиллерии, в старых — с внутренней стороны куртин. Казематы с левой стороны Минт-стрит были как раз такие: они доходили почти до верха внешней стены, полностью её закрывая; глядя на них, легко было забыть, что всё это выстроено intra muros[12]. С изобретением пороха они утратили оборонительное значение и теперь служили мастерскими и казармами Монетного двора.
Справа, так тесно, как только можно, но никогда не поднимаясь выше определённого уровня — словно мидии на камне, — тянулись дома, пристроенные к внутреннему поясу крепостных стен.
От башни Байворд это выглядело так, будто руины сгоревшего города сгребли в каменный жёлоб и оставили дожидаться ливня, который потушит пламя, прибьёт дым и унесёт мусор прочь. Только мерный стук, гулко отдававшийся по всей длине улицы, и подсказывал, что здесь происходит нечто осмысленное. Это, впрочем, не добавляло желания вступить на Минт-стрит, даже если знать (как знал Даниель), что стучат молоты, чеканящие монеты.
Напрашивалось забавное сравнение с Флитской канавой.
Поскольку Флит состояла из стихий Земли и Воды, а Минт-стрит — из Воздуха и Огня, Даниелю не пришло бы в голову их сопоставить, если бы он не смотрел недавно на одну, а теперь — на другую.
Подумав ещё, он рассудил, что роднит их самая малость: обе ведут к реке, обе замусорены и смрадны.
Даниель знал Исаака пятьдесят лет и нимало не сомневался, что тот свернёт от чистой, просторной Уотер-лейн в металлическое бурление Минт-стрит. Так Исаак и поступил к удовольствию Даниеля, никогда не бывавшего на улице Монетного двора дальше канцелярии при входе, на левой стороне Уотер-лейн. Разумеется, Исаак миновал её и пошёл дальше.
Лондонский Тауэр в плане имеет форму квадрата, хотя, если говорить совсем строго, излом северной стены превращает его в пятиугольник. Полоса между внешним и внутренним поясом укреплений тянется по всему периметру. Южная её часть, параллельная реке, зовётся Уотер-лейн; всё остальное — Минт-стрит, которая, таким образом, охватывает Тауэр с трёх сторон (точнее, с чётырех, если считать северный перегиб).
Как ни странно это может показаться в отношении города с одной улицей, здесь ничего не стоило заблудиться. Обзор заслоняли десять разных бастионов внутренней стены. Даниель, разумеется, знал, что находится в подковообразном континууме, но поскольку он сразу потерял счёт башням, проку от этого знания было мало. Честно идя вперёд или назад, он рано или поздно вышел бы к тому или иному краю подковы, в тот или другой конец Уотер-лейн. Однако длина Минт-стрит составляла четверть мили, что для лондонца было равнозначно дистанции от Осло до Рима. Столько же отделяло Флитскую канаву от здания Королевского общества или парламент от живодёрен Саутуорка. Пройдя вслед за Исааком мимо двух бастионов и повернув раз-другой, Даниель попал в город, диковинный, словно Алжир или Нагасаки.
Через двести футов проход частично перегораживал изящный полукруг башни Бошема. Прямо напротив к внутренней стене прижимались длинные казематы, где в огромных печах плавили золото и серебро. Дальше к северу начинались казематы чеканщиков. Здесь они с Исааком обогнули первый угол, сужение между башней Деверо и фортом на выступе внутренней стены, называемом горкой Легга. И башня, и форт были надёжно укреплены и снабжены гарнизоном (в них квартировался Блекторрентский гвардейский полк) для защиты от вечной угрозы — Лондона, подступавшего тут к Тауэру совсем близко.
Исаак замедлил шаг и посмотрел на Даниеля, как будто собирался что-то сказать.
Даниель с любопытством оглядел открывшийся впереди отрезок Минт-стрит. Его огорчило, что всё так тихо, почти покойно. Он надеялся, что улица Монетного двора будет чем дальше, тем жутче, подобно Дантову Аду, а в самом последнем тайном кругу сыщется огнедышащий горн, в котором Исаак творит из свинца золото. Однако теперь стало ясно, что пекло уже пройдено: всё большое, шумное и жаркое располагалось ближе к входу (что, если подумать, вполне объяснимо в рассуждении подвоза материалов), а северная часть вполне могла сойти за обычный жилой квартал. Инфернального здесь было не больше, чем в Блумсбери-сквер. Это лишь доказывало, что англичане могут жить где угодно. Отправь англичанина в ад, он разобьёт клумбу с петуньями и устроит лужайку для игры в шары на горящей сере.
Исаак что-то говорил. Точные слова не суть важны, общий же смысл сводился к тому, что дальнейшее присутствие Даниеля помешает Исааку в его тайных ночных занятиях, и не соизволит ли он валить на все четыре стороны. Даниель ответил какой-то любезностью. Исаак поспешил прочь, оставив Даниеля в одиночестве бродить по четверти мили Минт-стрит.
Он окинул её взглядом, просто чтобы перебороть ощущение покинутости. Северный отрезок начинался с двух домов, вероятно, служащих резиденциями главным чиновникам Монетного двора. Дальше слева тянулись казармы для рабочих, справа — какие-то машины, возможно, те самые, что наносят надписи по ободу монет, чтобы предотвратить подпиливание.
Даниель забрёл туда, где было много солдат, и думал уже, что заплутал, но сразу за поворотом вновь начались дома для рабочих слева и мастерские справа. Судя по всему, превращение военных казематов в монетный завод ещё не завершилось.
Следующий крутой поворот был зажат между Башней сокровищ и ещё одной оборонительной насыпью у внутренней стены. Дальше начинался восточный отрезок Минт-стрит, ведущий прямо на юг до Уотер-лейн. За уютными домиками вновь потянулись дымные, жаркие и зловонные мастерские. Судя по всему, это был Ирландский монетный двор.
Даниель должен был устать, однако неумолчный шум Монетного двора бодрил кровь, так что он прошёл всю улицу несколько раз, прежде чем почувствовал тяжесть долгого дня.
Он третий раз огибал северо-западный угол у горки Легга, когда во Внутреннем дворе колокол пробил полночь. Даниель счёл это знаком и юркнул во дворик у внешней стены. Какой-то чиновник Монетного двора придал своему каземату и дворику под окнами такой уютный и обжитой вид, какой только возможен на последнем оборонительном рубеже. Во всяком случае, тут была скамья. Даниель сел на неё и внезапно уснул.
Если верить его часам, было два, когда всех на Минт-стрит разбудило своего рода римское триумфальное шествие со стороны башни Байворд. Во всяком случае, звуки были такие же громкие и победные. Однако, когда Даниель наконец встал со скамьи, задеревенелый, как труп, и выглянул из дворика посмотреть, то увидел скорее похоронный кортеж.
Чарльз Уайт ехал на крыше чёрного фургона, который сопровождали всадники в плащах — курьеры королевы и пехотинцы: два взвода Собственных её величества блекторрентских гвардейцев, составляющих гарнизон Тауэра и обязанных (как заключил Даниель) являться к Чарльзу Уайту по первому зову. Чёрный фургон был теперь заперт снаружи.
Странный то получился парад, однако куда более подходящий этому подковообразному городу, чем любой праздничный марш в солнечный день, с музыкой и цветами. Даниель, не утерпев, пошёл рядом с фургоном.
— Итак! По всему сдаётся, что наш гость сказал правду! — воскликнул он и тут же почувствовал взгляд Уайта на лице, как солнечный ожог.
— Ясно только, что наша курочка прокудахтала и снесла яйцо, неизвестно пока, какое на вкус. Мы ждём ещё яиц, и если они не окажутся лакомыми, Джек Кетч разберёт курочку по косточкам!
Шутка была встречена с одобрением.
— Как велите подать вам свеженькое яичко, сэр? — спросил один из пехотинцев.
— Надо его прежде расколоть, — отвечал Уайт, — а там решим, зажарить его с салом, сварить вкрутую… или съесть живьём!
Новый взрыв смеха. Даниель пожалел, что не остался во дворике. Впрочем, они были уже на перегибе улицы, впереди показались новые здания и бастионы, а Чарльз Уайт утратил интерес к разговору.
— Мы его взяли! — прокричал Уайт, обращаясь, по всей видимости, к луне. Однако, проследив его взгляд, Даниель различил в узкой арке справа тёмный силуэт Исаака на фоне горящих факелов — или то был отблеск плавильной печи?
Фургон приближался к самой фешенебельной части Монетного двора — здесь по левую сторону улицы располагались дома директора и смотрителя. Исаак стоял на правой стороне, в арке прохода, ведущего во внутреннюю часть Тауэра.
— Он сражался, как Геркулес! — продолжал Уайт. — Даром что однорукий! И по той же причине мы не смогли надеть на него ручные кандалы!
Все рассмеялись.
— Однако отсюда не сбежишь! — Уайт хлопнул по крыше фургона.
Процессия остановилась под амбразурами Кирпичной башни. Теперь Даниель видел, зачем она выстроена: здесь сходились перед вылазкой самые отважные, самые пьяные или самые глупые рыцари Лондонского Тауэра. Приготовившись, они сбегали по каменной лестнице, круто поворачивали влево, преодолевали второй пролёт и через арку, в которой стоял сейчас Исаак, выскакивали на врага, пробившегося за внешнюю стену и не скошенного огнём из казематов. Что происходило дальше, покрыто мраком.
Всё это теперь представляло чисто исторический интерес, за одним исключением: под лестницей расположился большой каменный склад, а рядом с ним — конюшня, принадлежащая Монетному двору. Строения закрывали нижнюю половину Кирпичной башни и, насколько Даниелю удалось разглядеть, соединялись с нею сквозным проходом; впрочем, чего только не вообразишь, щурясь в два часа ночи на старые закопчённые здания.
Так или иначе, лошади, запряжённые в чёрный фургон, явно считали, что вернулись домой и труды их на сегодня окончены. Фургон вкатили в тёмное здание. Курьеры последовали за ним. Стражники разбрелись по казармам.
Даниель остался один на улице. По крайней мере, так он думал, пока не разглядел на другой стороне Минт-стрит прыгающий алый огонёк. Кто-то наблюдал за ним из тени под стеной, покуривая трубочку.
— Вы участвовали в аресте, сержант Шафто?
Он не ошибся в догадке: огонёк отделился от стены, и луна осветила сержанта Боба.
— Должен признать, что я уклонился, вашблагородь.
— Такие поручения вам не по душе?
— Надо дать молодым случай отличиться. Они не так часты теперь, когда война поутихла.
— В другой части города, — сказал Даниель, — говорят не «поутихла», а «закончилась».
— В какой такой части? — переспросил Боб, разыгрывая старческую непонятливость. — В Вестминстере? — произнёс он с безукоризненным выговором, но тут же вновь перешёл на жоховский кокни: — Вы ведь не о клубе «Кит-Кэт»?
— Нет, но в клубе говорят так же.
— Учёным, может, говорят так. Солдатам — иначе. Язык вигов раздвоен, как у змея-искусителя.
Какая-то нехорошая возня происходила в конюшне у основания Кирпичной башни, где, покуда доктор Уотерхауз и сержант Шафто разговаривали, успели зажечь факелы. Грохнули снимаемые замки, и тут же раздались крики, каких Даниель не слышал с медвежьей травли в Ротерхите. Здесь, на удалении, они звучали не слишком громко, но самая их пронзительность заставила Боба и Даниеля умолкнуть. Внезапно голоса стали выше и громче. Даниель втянул голову в плечи: ему подумалось, что узник вырвался. Застучали сапоги, раздался возглас-другой, и наступила короткая тишина, которую сменили вопли на языке из чудных гласных и непривычных слогов.
— Я слышал брань на многих языках, но этот для меня внове, — заметил Боб. — Откуда арестант?
— Из Московии, — заключил Даниель, послушав ещё немного. — И он не ругается, а молится.
— Если так московиты говорят с Богом, не хотел бы я услышать, как они чертыхаются.
После этого все движения в конюшне сопровождались звоном железа.
— На него надели ошейник, — с видом знатока объяснил Боб. Звуки стали тише, потом смолкли. — Теперь он в Тауэре. Да смилуется над ним Бог.
Боб вздохнул и посмотрел вдоль улицы в направлении полной луны, висевшей низко над Лондоном.
— Пойду-ка я отдохну, — сказал он. — И вам советую, если вы собираетесь туда.
— Куда?
— Туда, куда направит нас русский.
Даниель не сразу сообразил, что это подразумевает.
— Вы имеете в виду, его будут пытать… он сломается… и сообщит, где…
— Теперь, когда он у Чарльза Уайта в Тауэре, это вопрос времени. Идёмте, я найду вам место подальше от шума.
— От какого шума? — удивился Даниель, поскольку Минт-стрит в последние несколько минут была на удивление тиха. Однако, пока он шёл вслед за Бобом Шафто, из амбразуры Кирпичной башни начали доноситься крики.
Река Темза
на следующее утро (23 апреля 1714)
— В конце концов московит добровольно сообщил нужные сведения, — сказал Исаак.
Они с Даниелем стояли на юте «Аталанты». С того времени, как русского привезли в Тауэр, прошло двенадцать часов.
В первый из них Даниель тщетно пытался уснуть в офицерском помещении Собственного её величества блекторрентского гвардейского полка. Затем весь Тауэр подняли по тревоге. Во всяком случае, так показалось донельзя раздражённому старику, который мучительно хотел спать. На самом деле подняли только Первую роту. Для остальных обитателей Тауэра это была приятнейшая разновидность ночной тревоги — такая, что позволяет перевернуться на другой бок и вновь уйти в сон.
После недолгой суматохи, которую он почти не запомнил, потому что засыпал на ногах, Даниеля выпроводили из Тауэра тем же путём, каким сюда провели, и погрузили на «Аталанту». Отыскав каюту, он рухнул на первый же предмет, видом напоминавший койку. Некоторое время спустя его разбудило солнце; выглянув в окно, Даниель увидел, что они всё ещё в четверти мили от Тауэрской пристани. Обычное дело: их сперва торопили, теперь заставляют ждать. На пути к неведомой цели произошла какая-то заминка. Он натянул одеяло на лицо и снова уснул.
Когда он проснулся окончательно, разбитый, грязный и с дурной головой, и вышел на палубу помочиться за борт, то с удивлением увидел вокруг открытую местность. Судя по тому, что ширина реки здесь составляла не меньше мили, они приближались к концу отрезка между Иритом и Гринхайтом, то есть одолели почти половину расстояния от Лондона до моря.
Чтобы добраться до борта, ему пришлось с извинениями протискиваться через целую толпу драгун. На «Аталанту» погрузили всю Первую роту — более ста человек. Даже если половину затолкали в кубрик, на верхней палубе осталось столько, что солдаты не могли даже сесть. Матросы, чем пробивать себе дорогу, бегали, как пауки, по снастям над головой. По счастью, как на всех приличных кораблях, ют был отведён офицерам; этот высокий статус распространялся и на членов Королевского общества. Вскарабкавшись по трапу на ют, Даниель обрёл и свободу движений, и местечко у борта, чтобы подышать свежим воздухом, помочиться и сплюнуть липкую гадость, скопившуюся во рту за время сна. Юнга, возможно, встревоженный количеством жидкости, которую отправил за борт и без того иссохший старик, принёс ему черпак воды.
В довершение счастья вскоре подошёл Исаак.
— Добровольно… — повторил Даниель, старясь не выказать брезгливости.
— Ему предложили выбор: терпеть заточение и допросы в Тауэре до конца дней или сказать, что знает, и вернуться в Россию. Он выбрал Россию.
— Коли так рассуждать, то каждый, говорящий под пыткой, делает это добровольно, — заметил Даниель. В обычных обстоятельствах он поостерёгся бы колоть Исаака, но сейчас был совершенно разбит, а главное, лишь вчера оказал тому значительную услугу.
Исаак ответил:
— Я видел, как московит вернулся в камеру своими ногами. То, что с ним сделали, не страшнее — хотя, возможно, мучительнее — порки, которой вон тех солдат подвергают за малейшую провинность. Мистер Уайт умеет разговорить узников, не причиняя им непоправимых увечий.
— Так он вернётся в Московию с обоими ушами?
— С ушами, глазами, бородой и прочими частями тела, с которыми вошёл в Тауэр.
Даниель всё ещё не повернулся, чтобы взглянуть Исааку в лицо. Вместо этого он смотрел за корму, на два плоскодонных реечных судёнышка, следующих в кильватере шлюпа. По большей части они были нагружены лошадьми и всем, что к лошадям прилагается: сёдлами, сбруей и конюхами. Немудрено, что отплытие так задержалось.
Покуда Даниель разговаривал с Исааком, шлюп обогнул болотистый выступ южного берега, заметно оторвавшись от барж.
Взглядам открылось место, где, милями двумя ниже по течению, на правом берегу, зелёные и белые меловые холмы сменялись поселением. Даниель знал, что это Грейвзенд. Матросы на вантах — крайне малочисленные по сравнению с солдатами — стали бегать быстрее, короткие, непонятные команды шкипера раздавались чаще. Значит, их высадят здесь. Да и как иначе, за Грейвзендом до самого моря один сплошной ил: нет смысла везти лошадей так далеко, чтобы утопить.
— Что, по-вашему, делает в Лондоне русский, и как он оказался связан с Джеком-Монетчиком? — спросил Даниель.
— Джека щедро поддерживает некий иностранный правитель, скорее всего король Франции, — отвечал Исаак. — Нельзя забывать, что английской коммерции завидует весь мир. Монархи, неспособные поднять свои страны до наших высот, думают, будто низведут нас до себя, сгубив нашу денежную систему. Если такие надежды лелеет король Франции, почему бы и русскому царю их не вынашивать.
— Вы считаете, что московит — царский агент?
— Это представляется самым правдоподобным.
— Вы сказали, у него борода?
— Очень густая и длинная.
— Как долго, по-вашему, он её отращивал?
— Если её намочить и растянуть, она бы дошла ему до пупа.
— Тогда он скорее раскольник, — сказал Даниель.
— Кто такие раскольники?
— Представления не имею. Но они ненавидят царя, в частности, за то, что он приказал им сбрить их густые длинные бороды.
Исаак ненадолго замолчал, переваривая услышанное. Даниель воспользовался его молчанием, чтобы добавить:
— Не так давно корабль, строящийся для царя в Ротерхите, сожгли при помощи адской машины, подброшенной ночью в трюм. Часовой механизм разбил склянку белого фосфора, который воспламенился при соприкосновении с воздухом. По крайней мере к такому выводу я пришёл, понюхав дым и порывшись в том, что осталось после пожара.
Исаак был так заворожён, что даже не спросил, какое отношение имеет Даниель к царскому кораблю.
— Тот же механизм, что взорвали в Крейн-корте!
— Вы поинтересовались этим событием?
— Я не оставил без внимания ваше предупреждение.
— Однорукий московит — не иностранный агент, — объявил Даниель, — а фанатик, покинувший Россию по той же причине, по какой мой прадед, Джон Уотерхауз, бежал в Женеву при Марии Кровавой. Оказавшись без средств в Лондоне, он каким-то образом примкнул к Джеку. Я уверен, что у него нет ни малейшего желания возвращаться в Россию.
— Вашу гипотезу опровергают свидетельства ваших собственных уст. — Теперь Исаак говорил тем высокопарным слогом, к какому прибегал в научных беседах. — Вы убедили меня, что шайка, подстроившая взрыв в Крейн-корте, сожгла царский корабль. Однако простые воры не участвуют в международных делах!
— Может быть, их наняли шведы, чтобы уничтожить строящийся корабль — это легче, чем топить его, спущенный на воду и вооружённый. А может, фанатик-московит устроил пожар по собственному почину — как пуритане стремились всячески навредить королю.
Исаак ненадолго задумался.
— Пустое занятие — предаваться спекуляциям о Джековой шайке.
— Почему?
— Через несколько часов он будет у нас в руках — тогда мы его и спросим.
— А! — сказал Даниель. — Я не знал, каков наш сегодняшний план: схватить Джека-Монетчика или высадиться во Франции.
Исаак издал звук, похожий на короткий смешок.
— Мы возьмём в осаду замок.
— Вы шутите!
— Оплот якобитов, — чуть насмешливо пояснил Исаак.
— То есть в каком-то смысле действительно вторгнемся во Францию, — пробормотал Даниель.
— Можно считать этот замок осколком Франции на берегу Темзы, — подхватил Исаак, демонстрируя вкус к шутке, который, мягко говоря, не шёл к его образу. Однако (судя по смешку и capказму) за два десятилетия в Лондоне он освоил несколько приёмов светской беседы.
Например, болтать о генеалогии знатных особ.
— Вы наверняка помните Англси.
— Как я мог их забыть? — отвечал Даниель.
И впрямь, при одном звуке этого имени он проснулся окончательно, как если бы услышал, что на горизонте замечен флот Чёрной Бороды.
Впервые с начала разговора Даниель посмотрел Исааку прямо в лицо.
В юности он знал Англси как опасных придворных криптокатоликов. Патриарх, Томас Мор Англси, герцог Ганфлитский, смертельно враждовал с Джоном Комстоком, графом Эпсомским, первым из знатных покровителей Королевского общества. Комсток был «К», Англси — первой «А» в «КАБАЛе», пятёрке вельмож, составлявших правительство Карла II.
В те дни Даниель по наивности не подозревал, как прочны связи Англси с королём. Позже он узнал, что оба сына Томаса Мора Англси, Луи (граф Апнорский) и Филип (граф Ширнесский) на самом деле — незаконные дети Карла II, прижитые им с французской графиней во время Междуцарствия во Франции. Томаса Мора Англси каким-то образом убедили на ней жениться и воспитать мальчиков. Воспитателем он оказался никудышным — возможно, потому, что был занят бесконечными интригами против Джона Комстока.
Младший из двух бастардов, Луи, великолепно фехтовал и в бытность студентом Тринити-колледжа оттачивал своё умение на пуританах. Он учился там одновременно с Даниелем, Исааком и другими занятными образчиками человеческого рода, включая Роджера Комстока и покойного герцога Монмутского. Позже Луи заинтересовался алхимией. Даниель и сейчас считал, что именно он вовлёк Исаака в эзотерическое братство. Впрочем, винить его было поздно: граф Апнорский пал четверть века назад в битве при Огриме, отбиваясь рапирой от натиска сотни пуритан, датчан, немцев и прочих, пока его не уложили выстрелом в спину.
К тому времени его якобы отец, герцог Ганфлитский, давно отошёл в мир иной. Под конец жизни герцога преследовали неудачи. Разделавшись наконец с Серебряными Комстоками — вынудив Джона уехать в поместье, а остальных ещё дальше, в Коннектикут — и заняв их дом на Сент-Джеймс-сквер, он вскорости разорился по причине собственных неудачных финансовых афер, карточных долгов, наделанных сыновьями (тем более обидных, что они были даже не его сыновья), а главное, из-за Папистского заговора — своего рода эпидемии политико-религиозного бешенства, прокатившейся по Лондону в 1678 году. Ему пришлось уехать со всем семейством во Францию, а лондонский дворец продать Роджеру Комстоку, который тут же снёс всё до основания и затеял на этом месте новое строительство. Во Франции герцог и умер — когда, Даниель не знал, но, видимо, порядочное время назад. Остался только Филип, граф Ширнесский, старший из двух бастардов.
Граф Ширнесский. Титулы Ганфлит, Апнор, Ширнесс относились к землям в устье Темзы, пожалованным Англси Карлом II за какие-то заслуги во времена Реставрации. Даниель с трудом припомнил некоторые подробности. Томас Мор Англси участвовал в незначительной стычке у Ширнесской отмели, потопил десятка два несгибаемых пуритан (или что-то в таком же роде), провёл свой корабль к Норскому бую и собрал там роялистский флот.
Норская отмель расположена на слиянии Темзы и Медуэя, перед самым выходом в море. Буй в нескольких милях от форта Ширнесс служит предупреждением входящим судам. Здесь шкипер должен решить: поворачивать ему влево, чтобы, если будет на то милость Божья и приливов, подняться по Медуэю, под пушками форта Ширнесс и замка Апнор, к Рочестеру и Четему, или направо, по Темзе к Лондону. Англси не первым и не последним из захватчиков избрал Норский буй точкой рандеву. Через несколько лет то же проделали голландцы. Сторожевым кораблям на этом отрезке реки даже вменялось в обязанность при первых признаках опасности уничтожить буй, чтобы противник не мог его отыскать.
Во времена Реставрации голландская война была ещё впереди, а названия «Ширнесс» и «Апнор» звучали гордо. Однако для всякого англичанина, который к её началу уже родился и ещё не впал в детство (в том числе, безусловно, для Исаака и Даниеля), слова «Ширнесс» и «Норский буй» стали синонимами постыдного поражения, неспособности Англии защититься от вторжения с моря.
Упоминание Исааком герцога Ширнесского было типографской краской, вся предыдущая история — бумагой, на которой она оттиснута.
Двигаясь в том же направлении, они через несколько часов увидели бы Норский буй.
— Вы шутите! — выпалил Даниель.
— Если бы я наблюдал не звёзды, а людей, и философствовал не о тяготении, а о мыслях, я бы написал трактат о том, что видел на вашем лице в последние тридцать секунд, — сказал Исаак.
— Не знаю, не слишком ли большая дерзость с моей стороны вообразить, будто Уотерхаузы такие же участники истории, как Англси или Комстоки. Стоило мне подумать, что всё наконец в прошлом…
— Как вы оказались на корабле, следующем в Ширнесс, — закончил Исаак.
— Просветите меня, что сталось с Англси, — попросил Даниель.
— Теперь это французский род, с французскими титулами, унаследованными от матери Филипа и Луи. Они живут в Версале и иногда ездят в Сен-Жермен на поклон к Претенденту. Только Филип успел оставить потомство: он родил двоих сыновей, прежде чем в 1700 году жена его отравила. Сыновьям теперь за двадцать; оба ни разу не ступали на нашу землю и не знают ни слова по-английски. Однако старший по-прежнему владеет несколькими клочками земли в окрестностях Ширнесса, на обоих берегах Медуэя.
— И он, разумеется, якобит.
— Расположение его поместий идеально для контрабанды — и для высадки французских агентов. В частности, ему принадлежит замок на острове Грейн, куда можно попасть прямиком из Франции, минуя таможни её величества.
— Это всё сообщил русский? Я не стал бы ему доверять.
— О том, что Англси во Франции, знают все. Про Шайвский утёс рассказал московит.
— Минуту назад вы утверждали, что Джек-Монетчик — агент французского короля и получает щедрую финансовую поддержку. Теперь вы хотите сказать, что Шайвский утёс…
— Предоставлен Джеку, — закончил Исаак. — Там его ставка, центр его преступной империи, сокровищница и потайной ход во Францию.
«И оправдание тому, что Джек так долго не даётся вам в руки», — подумал Даниель. Однако он знал, что, если сказать это вслух, Исаак вышвырнет его за борт.
— Вы думаете, он там?
Исаак долго смотрел ему в лицо, не мигая. В конце концов Даниелю стало не по себе.
— Если Соломоново золото доставляют на корабле, как полагаете вы, — начал он, чувствуя, что Исаак ждёт каких-то слов, — то его и впрямь разумнее всего разгружать и хранить в уединённой сторожевой башне, вдали от таможен и фортов её величества.
— Надеюсь, вы будете об этом молчать. Надо быть крайне осторожными, пока золото не окажется в Тауэре.
— И что тогда?
— Простите?
— Положим, вы найдёте Соломоново золото, доставите в свою лабораторию, извлечёте философскую ртуть — тогда всё и случится, верно?
— Что «всё»?
— Конец света. Апокалипсис. Вы разрешите загадку, обнаружите присутствие Божие на земле, обретёте вечную жизнь… в таком случае весь наш разговор пустой, не так ли?
— Трудно сказать, — проговорил Исаак тем голосом, каким успокаивают безумцев. — Мои расчёты, сделанные по Книге Откровения, показывают, что конец света наступит лишь в 1876 году.
— Неужто?! — зачарованно переспросил Даниель. — Так не скоро? Через сто шестьдесят два года! Быть может, чудесные свойства Соломонова золота сильно преувеличены.
— Соломон им владел, — заметил Исаак, — и мир не кончился. Сам Господь Иисус Христос — Слово, ставшее плотью, — ступал по земле на протяжении тридцати трёх лет, и даже сейчас, семнадцать веков спустя, она по-прежнему прозябает в мерзости и язычестве. Я никогда не думал, что Соломоново золото станет для мира панацеей.
— Тогда кой чёрт вы его ищете?
— Хотя бы для того, — отвечал Исаак, — чтобы достойно встретить немца, когда он сюда заявится.
С этими словами он повернулся к Даниелю спиной и ушёл в каюту.
Дом наместника, Лондонский Тауэр
день
Генерал-лейтенант Юэлл Троули, наместник Тауэра, изрёк:
— Нижайше прошу прощения, милорд, но я просто не понимаю.
Его гость и узник, Руфус Макиен, лорд Жи, уставил единственный глаз на багровую физиономию Троули. Лорду Жи было всего тридцать, однако выглядел он устрашающе из-за огромного роста, щетины и множества боевых шрамов. Очень чётко и раздельно он повторил свои последние слова, которые, если перевести их на общепонятный язык, звучали бы так: «Славно сработан этот ваш стол! Нонешнему столяру таких тесин уже не добыть — он шлёт работников в деревню выкапывать из мусора щепки и пускает в ход обрезки, которые выбросил бы его дед».
Юэлл Троули вынужден был оборвать речь гостя и сделать новый заход.
— Милорд, мы оба с вами люди военные и многому научились в походах. И пусть превратности судьбы сделали вас узником, а меня — начальником Тауэра; за годы службы я узнал, и вы, вероятно, тоже, что бывает время, когда надо отбросить любезности и говорить начистоту, как мужчина с мужчиной. В этом нет ни позора, ни унижения. Могу ли я так говорить с вами?
Лорд Жи пожал плечами и кивнул.
Жи — река под Аррасом. В те дни, когда он ещё звался просто Руфусом Макиеном, будущий лорд как-то под влиянием порыва переплыл на другой её берег и зарубил французского джентльмена (а может, двух) пятифутовым клеймором, или, как сказали бы англичане, двуручным шотландским палашом. Француз оказался графом и полковником, плохо ориентирующимся на местности. Удар клеймора определил исход битвы. Макиен стал пэром Англии и лордом Жи.
— Я знал, что могу положиться на вас, милорд, как на своего брата-служивого, — продолжал генерал-лейтенант Юэлл Троули. — Прекрасно. Есть некоторые всем известные вещи, о которых в приличном обществе не говорят. Если мы закроем на них глаза — сделаем вид, будто их нет, — вместо приятной встречи нас ждёт сплошное мучение. Вы понимаете, о чём я, милорд?
Лорд Жи произнёс три короткие фразы. Судя по тону, первая выражала сильные чувства, третья — неприкрытый сарказм. О содержании второй Троули мог только гадать, означала же она (для тех, кто владеет шотландским): «Где здесь сортир?»
— Классический образец! — вскричал Троули. — К тому я и вёл, милорд: вы не говорите по-английски.
Наступила неловкая пауза. Руфус Макиен набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, но Троули его опередил:
— О, вы превосходно понимаете английский язык. Но говорите вы не на нём. Можно вежливо сказать, что у лорда Жи горский акцент, шотландский говорок и тому подобное. Однако вежливые слова бессильны изменить правду: вы не говорите по-английски. Хотя при желании можете. Умоляю вас, милорд Жи, говорите по-английски, и я буду счастлив принять вас за своим столом.
— О столе-то я и говорил, — произнёс лорд Жи на языке, значительно больше напоминавшем английский, чем всё сказанное им ранее, — пока вы не придрались к моему акценту.
— Это не акцент, милорд. К чему я и клоню.
— Шестнадцать месяцев я в Тауэре, — продолжал лорд Жи очень медленно, вставляя шотландские словечки не чаще, чем через два на третье, — и впервые здесь. Я всего лишь хотел похвалить мебель.
Шотландец двумя руками ухватил столешницу и на полдюйма оторвал стол от пола, пробуя его вес.
— Таким впору от пушечных ядер загораживаться.
— Весьма польщён, — отвечал Троули, — и нижайше умоляю простить за то, что пригласил к себе только сейчас. Как вам известно, по древнему обычаю наместник Тауэра угощает у себя знатных лиц, находящихся в этих стенах. Как собрат по оружию я с нетерпением ждал нашей совместной трапезы. Никто лучше вашего, милорд, не знает, что первый год заточения вас пришлось держать в кандалах, прикованным к полу в башне Бошема. Об этом я искренне скорблю. Однако с тех пор мы не слышали обещаний всех здесь убить и перекалечить, а может быть, слышали, но не поняли. Вас перевели в дом стражника, как остальных гостей. Полагаю, вы с мистером Даунсом прекрасно ладите?
И Руфус Макиен, и Юэлл Троули разом посмотрели на дородного бородатого стражника, который препроводил арестанта в наместничий дом. Стражник излучал довольство — собственно, излучал его с той самой минуты, как четверть часа назад распахнул дверь своего домишки и повёл гостя через луг в сопровождении боевого клина вооружённых солдат.
— Так ладим, — серьёзно отвечал лорд Жи, — словно нас чёрт верёвочкой связал.
Наместнику Тауэра и стражнику одинаково не понравилось сравнение. Вновь наступила неловкая тишина. Лорд Жи заполнил её, мурлыча себе под нос что-то удручающе бессмысленное — какой-то древний гэльский распев.
Дом наместника на юго-западном углу внутреннего двора был тюдоровский и отличался от других допожарных лондонских построек преимущественно тем, что не сгорел. Даунс, Троули и Макиен стояли в видавшей виды гостиной. Лакей и горничная Троули заглядывали из коридора, ожидая указаний. Ещё одна девица — служанка лорда Жи, пришедшая с ним и с Даунсом, — осталась в прихожей с накрытой платком корзиной. Несколько вооружённых гвардейцев дежурили перед входом. Впереди, на лугу, было тихо, только с Тауэрского холма доносились крики сержантов и барабанный бой — там шла муштра. Порою до слуха долетал перестук молотков — плотники сколачивали помост, на котором через семь дней голове Руфуса Макиена предстояло отделиться от тела.
— Прекрасно, — слабым голосом проговорил Троули. — Так и докладывал мне мистер Даунс. Я счастлив, что могу предложить вам своё гостеприимство перед… э… нашим расставанием.
— Минуту назад вы упомянули о древнем обычае. — Лорд Жи выразительно посмотрел на Даунса. Тот, в свою очередь, поглядел на девушку в прихожей, и та стремительно вошла. Юэлл Троули поднял бровь и заморгал: девица была рослая, жилистая, а её копны рыжих волос хватило бы на три обычных головы. Она, почти не замедляя шага, сделала реверанс и метнула в Троули улыбку.
— На Раннохской пустоши хилые не живут, — объяснил Макиен.
— Так вы, значит, выписали… э… с родины… женщину из своего клана, чтобы о вас заботилась?
— Чтобы я о ней заботился, сэр. Сиротка она у нас. Трагедь, если хотите знать.
Макиен прочистил горло. Рыжая девица вытащила из корзины бутыль, вручила её Даунсу и попятилась к двери. Жи сказал ей что-то ласковое и двумя руками нежно принял у Даунса бутыль.
— Я приготовил спич! — объявил он почти на таком же английском, на каком изъяснялся Троули. Все от изумления замолчали. — Сэр, вы обходитесь с нами, осуждёнными изменниками, по-доброму. В Тауэре не держат на хлебе и воде — по крайней мере тех, кто не буянит. Здесь отличный кошт, и многие лэрды, осуждённые на казнь, едят в Тауэре сытнее, чем ели свободными людьми в Лондоне. Мне объяснили, что по древнему обычаю узники делят со стражами и высшим начальством Тауэра те блага, которыми вы щедро нас осыпаете. Я уже угостил обоих ваших помощников, но только не вас, поскольку лишь сегодня удостоился чести свести знакомство.
Он поднял бутыль.
— Вы говорили о моём неподобающем поведении в первый год. Каюсь, я был упрям и несговорчив. Доставил вам хлопоты. Вёл себя не так, как пристало горскому джентльмену. Однако горскому джентльмену туго обходиться без того, что мы называем водою жизни, или асквибо. Когда мне стали его давать, я сразу подобрел и сделался учтивее. Но сегодня у меня осталось больше воды, чем жизни, ибо в моём светском календаре значится свидание с неким Джеком Кетчем на Тауэрском холме через семь дней. Я хочу вручить эту бутыль вам, генерал-лейтенант Троули. Мне привёз её товарищ только вчера. Как видите, она ещё не откупорена.
Троули поклонился, хотя бутыль не взял, потому что Руфус Макиен ещё не вручил её официально. Он удовольствовался тем, что прочёл этикетку:
— Гленко, двадцать два года выдержки! Ба, да этой воде столько же, сколько девице, которая её принесла!
Даунс подхихикнул начальственной шутке. Лорд Жи отнёсся к сказанному серьёзно.
— Вы очень проницательны, сэр. Ими впрямь поровну годков.
— Милорд, некоторые лондонские джентльмены разбираются в асквибо, как французы — в бургундском. Сознаюсь, я не отличу «Глен то» от «Глен сё», но способен понять, что напиток двадцатидвухлетней выдержки должен быть исключительно хорош.
— О, это редкость. Его осталось мало, очень мало. Сам Бог велел вам стать ценителем асквибо, сэр. Тауэру предстоит принять ещё много якобитов, среди которых будет немало горцев. Вы станете настоящим знатоком и коллекционером.
— Так положим начало моему обучению и коллекции! Дэвид! — крикнул Троули лакею, поджидавшему в коридоре, затем вновь обратился к Макиену: — Что вы расскажете об этой бутылке? Чем она примечательна?
— О, сэр, вам следует обратить внимание не только на возраст, но и на место изготовления. Шотландия велика и разнообразна, земля её изрезана, как моё лицо. Ни одна долина не похожа на другую. В каждой свой климат, своя почва, своя вода. Мы зовём воду вином Адама. Я знавал горцев, которые, заплутав в тумане, узнавали место по глотку воды из ручья или из озера.
— Или по рюмашке асквибо из ближайшей винокурни! — вставил генерал-лейтенант Троули, изрядно повеселив Даунса.
Руфус Макиен выслушал шутку хладнокровно, однако под спокойным взглядом его единственного глаза, очень голубого и ясного, смешки англичан оборвались сами собой.
— Так и есть! Асквибо — дочь холодной чистой воды, что плещет в горных ручьях.
— Милорд, вы по своей чрезвычайной скромности не отдаёте должного людям, живущим в этих долинах. Ведь наверняка есть секреты мастерства — мало просто смешать несколько природных ингредиентов.
Руфус Макиен выгнул брови и поднял указательный палец.
— Ваша правда, сэр, и спасибо, что дали мне случай пропеть дифирамб.
Даунс и Троули рассмеялись. Дэвид поставил на стол серебряный поднос с крохотными — на восьмую часть унции — рюмочками для асквибо.
— Прошу садиться, милорд.
— Спасибо, я постою, как пристало учителю перед учениками.
Оба англичанина несколько смутились, но шотландец жестами показал, что они должны сесть, и даже придвинул Даунсу стул. Он объяснил:
— В небольшом дельце при Мальплаке, о котором вы, может быть, слыхали, меня маленько двинули прикладом, я упал с лошади и сломал копчик. — Он упёрся руками в почки и выгнулся вперёд. Было слышно, как хрустит его позвоночник.
— Верно, его милость никогда не сидит, а сводит меня с ума своими хождениями, — вставил Даунс.
В конце концов Троули и Даунс уступили настояниям Макиена: сели и приготовились слушать.
— Как земля Шотландии состоит из гор и лощин, так и мой народ делится на множество кланов, а кланы — на семьи. Секреты изготовления асквибо хранят наши старики. И как кланы и семьи различны между собой, так различны винокурни, тайны мастерства, а, значит, и сам напиток.
— Так поведайте нам о клане и семье, обитающих там, откуда эта бутыль! — попросил Троули. — Почему-то слово «Гленко» кажется мне знакомым. Впрочем, за годы войны у меня в голове скопилось столько чудных названий, что и не разобрать.
— Удивительно, что вы спросили, сэр, ведь это мой клан и моя семья!
Даунс и Троули от души рассмеялись такому трюку — явно просчитанному заранее. Теперь они во все глаза смотрели на лорда Жи, видя его в совершенно другом свете, как славного малого и доброго собутыльника.
Шотландец легчайшим намёком на поклон отметил, что ценит их восхищение, и продолжил:
— Вот почему я вручаю вам этот дар, генерал-лейтенант Троули. Для горца живая вода из родной лощины — всё равно что кровь собственных жил. Я дарю её вам, чтоб она жила и после того, как топор опустится на мою шею.
Он наконец протянул бутыль Троули. Тот, как всякий англичанин, чтил церемониальный жест, потому молодцевато вскочил и с поклоном принял бутылку. Когда наместник опустился на стул, сел наконец и Макиен.
— Однако, милорд, ваша скромность вновь мешает вашим обязанностям наставника. Мы должны узнать что-нибудь о людях Гленко, прежде чем пить… э…
— Воду их жизни, сэр.
— О да.
— Мало что можно рассказать о Макиенах из клана Макдональдов, — молвил лорд Жи. — Мы немногочисленны, особенно в последнее время. Гленко лежит к северу от Аргайла, неподалёку от Форт-Вильяма. Это холодная и бесприютная долина на склоне Грампианских гор, у залива Лох-Линне, что омывает брега острова Малл. К нам редко кто забредает, и то больше по ошибке, заплутав на пути в Крианларих. И все равно мы стараемся принять путников, как дорогих гостей. Увы, гостеприимство — опасная вещь. Никогда не знаешь, как за него отплатят.
— Много ли виски производят в Гленко?
— Насколько мне известно — ни унции, вот уже много лет. Если в вашей коллекции будет Гленко, то лишь очень старое.
— Как так?
— Винокурня бездействует. Никто не гонит там воду жизни.
— Коли так, сдаётся, что Макиенам Макдональдам выпали трудные времена, — серьёзно проговорил Троули.
— Воистину. Когда все мы, сидящие здесь, были ещё детьми, вышел указ короля Вильгельма, что вожди горских кланов должны подписать присягу, отречься от верности Стюарту, которого вы называете Претендентом. Алистер Макиен Макдональд, мой вождь, подписал, что от него требовали. Однако, добираясь из нашей отдаленной долины в лютые зимние холода, он опоздал к некоему сроку. Вскоре после этого Гленко завалило снегом по самые крыши. И тут к нам забрела рота солдат из Форт-Вильяма, заплутавших в снежную бурю, полумёртвых от голода и холода, синих, чисто покойники на кладбище. Нас не пришлось упрашивать. Мы жалостливы и мягкосердечны, всегда готовы приветить путника. Мы поселили их у себя, и не в хлевах со скотиной, а в собственных, пусть и скромных домах. Ибо для нас то были не чужаки, а братья-шотландцы, пусть из другого клана. Мы устроили пир. Вот куда ушло всё наше асквибо! В глотки этих ракалий! Но нам было не жалко.
И тут случилось чудо: снаружи донеслись звуки волынки.
Дом наместника располагался в углу Внутреннего двора, так что фасад у него был фахверковый, а заднюю стену составляла куртина Тауэра. Из окон в верхней её части наместник мог смотреть на Уотер-лейн, внешний пояс укреплений, пристань и реку. И пристань, и Уотер-лейн в дневные часы были открыты для всех. Видимо, экономка Троули, проветривая спальни, распахнула окна верхнего этажа. По совпадению бродячий волынщик на улице как раз заиграл горский мотив в надежде получить монетку от прохожих или солдат. Тот же самый мотив напевал себе под нос лорд Жи несколькими минутами раньше.
Сильные чувства проступили на лице Макиена, покуда он рассказывал о заблудившихся солдатах и пире, который закатили пришельцам его родичи в сугробах Гленко. При звуках волынки в глазу шотландца блеснули слезы, и он принялся тереть повязку, скрывавшую другой.
— Мне надо промочить горло. Вам трудно её откупорить, сэр?
— Признаюсь, милорд, столько слоев воска, свинца и проволоки хранят содержимое этой бутыли надёжно, как стены Тауэра.
— Тут я с вами поспорю: куда надёжнее! — воскликнул лорд Жи. — Дайте-ка её мне, я знаю трюк.
Троули протянул ему бутыль.
Последние несколько минут Даунс сидел с кислой миной.
— Не могу смолчать, милорд. Ваш рассказ затронул печальную струну в моей памяти. Я не помню подробностей, но уверен, это не конец.
— Тогда я быстро доскажу до конца. Две недели солдаты жили в Гленко, как самые близкие люди, уничтожали наш скудный зимний запас, жгли наш торф, отплясывали рилу с нашими девушками, а потом, встав в пять утра, предали Макиенов Макдональдов огню и мечу. Наша деревня превратилась в бойню. Немногие успели скрыться в горах, стеная и плача, унося в сердцах ужас и боль. Там мы поддерживали себя снегом и жаждой мести, пока злодеи не ушли прочь. Лишь тогда мы спустились на пепелище — вырыть братские могилы в промёрзлой земле Гленко.
Стражник Даунс и генерал-лейтенант Троули, потрясённые до глубины души, застыли, как в столбняке. Одно резкое слово или движение Руфуса Макиена — и они бы с воплями выбежали на улицу.
Но нет — он лишь на мгновение закрыл единственный глаз, затем открыл его и выдавил кривую улыбку.
Для англичан тут была заключена мораль: несмотря на пережитую в детстве трагедию, Руфус Макиен вырос джентльменом и нашёл опору в умении себя держать, к которому это звание обязывает.
— Ну что, — сказал он, — по глоточку?
— Милорд, — хрипло проговорил Троули, — отказаться было бы неучтиво.
— Тогда давайте я открою её, чёрт возьми, — сказал Руфус Макиен из клана Макдональдов. Он рукавом вытер глаз и туда же, в рукав, высморкался, пока из носа не потекло. — Мистер Даунс, как я уже говорил, тут есть один фокус. Может полететь стекло. Я прошу вас отвернуться — чтобы мне не пришлось в завещании отписать вам свою повязку!
Мистер Даунс позволил себе сдержанно улыбнуться шутке и отвёл взгляд.
Лорд Жи схватил бутылку за горлышко и с размаху разбил её Даунсу о затылок.
Теперь в руке у него было одно горлышко, однако оттуда торчал мокрый стальной кинжал девяти дюймов в длину. Прежде чем генерал-лейтенант Троули сумел оторваться от стула, шотландец уже запрыгнул на стол.
Было слышно, как в прихожей рыжая девица запирает дверь на щеколды.
Руфус Макиен из клана Макдональдов сидел на корточках посреди стола; Троули видел, отчётливо и близко, что у того под килтом. Зрелище, по всему, совершенно парализовало наместника, облегчив гостю следующий шаг. «Вот это ты понимаешь?» — спросил Макиен, всаживая кинжал Троули в глаз, так что остриё, пройдя через мозг, упёрлось в заднюю стенку черепа.
Шлюп «Атланта», Грейвзенд
день
Они стояли у пристани в Грейвзенде, неподалёку от того места, где останавливается паром из Лондона, так что довольно заметная толпа любопытных глазела на них, выкрикивая вопросы. Может, Исаак счёл свои слова про «немца» точкой в разговоре, а может, просто не захотел, чтоб на него таращились.
Даниель чувствовал на себе ещё один любопытный взгляд. Некий джентльмен маячил на краю его зрения уже по меньшей мере четверть часа. Судя по платью, это был офицер Собственного её величества блекторрентского гвардейского полка.
— Полковник Барнс, — сказал джентльмен в ответ на холодный недружественный взгляд Даниеля.
— Я доктор Даниель Уотерхауз, и, должен заметить, иные преступники, желая отрекомендоваться, обращались ко мне учтивее.
— Знаю. Именно так отрекомендовался мне один из них, несколько часов назад, на Тауэрской пристани.
— Полковник Барнс, как я понимаю, у вас дела на берегу. Не смею задерживать.
Барнс взглянул на палубу шлюпа: оттуда на пристань в двух местах перекинули сходни. Драгуны двумя струйками перетекали по ним, подгоняемые бранью сержантов на палубе и увещаниями лейтенантов на пристани; сойдя на берег, они выстраивались повзводно.
— Напротив, доктор Уотерхауз, мне следует оставаться на корабле. Здесь от меня больше проку. — Он громко постучал по палубе. Даниель, опустив взгляд, увидел, что одна нога у полковника — из чёрного дерева со стальным наконечником.
— Так вы блекторрентец до мозга костей, — заметил Даниель. Полки отличались не только мундирами, но и сортом дерева для офицерских тростей и тому подобного. У Блекторрентского полка дерево было чёрное.
— Да, я в полку с Революции.
— Наверняка вам необходимо следить за разгрузкой…
— Доктор Уотерхауз, вы не знаете, что такое делегирование полномочий, — отвечал Барнс. — Объясняю: я говорю подчиненным свести на причал все взводы, кроме двух, и они это делают.
— Кто делегировал вам полномочие докучать мне на юте?
— Вышеупомянутый учтивый преступник.
— Полковник командует полком, не так ли?
— Совершенно верно.
— Вы хотите сказать, что полковником, в свою очередь, командует преступник?
Барнс и бровью не повёл.
— Таков порядок почти всех армий. Верно, при милорде Мальборо было немного иначе, но с тех пор, как его отстранили от командования, остались только преступники снизу доверху.
Даниель рассмеялся бы от души, если б разум не подсказывал ему держаться с Барнсом осторожнее. Шутка полковника была остроумна, но неосмотрительна.
Почти все гвардейцы сошли с корабля, остались лишь два взвода человек по четырнадцать. Один взвод собрался в носовой части палубы, другой — ближе к корме, прямо под ютом, на котором расположились Барнс с Даниелем. В середине свободного пространства стоял сержант Боб. Он смотрел на пристань, так что Даниель видел его в профиль; сейчас сержант чуть повернулся к ним и коротко взглянул на Барнса.
Тот дал приказ отчаливать.
По команде шкипера убрали сходни и отдали концы.
— Вы с сержантом Бобом воевали двадцать пять лет, — сказал Даниель.
— Вы правы, труд нашей жизни пошёл насмарку! — с притворной обидой воскликнул Барнс. — Я предпочел бы сказать, что мы насаждали мир и преуспели.
— Говорите как угодно. Так или иначе, вы четверть века жили бок о бок и слышали каждую его шутку, каждый примечательный случай из его жизни, тысячу раз.
— У нас, военных, это дело обычное, — признал Барнс.
— Лет десять или двадцать назад, в палатке на Рейне или в ирландской лачуге, сержант Боб рассказал вам о нашем знакомстве, и теперь вы убеждены, что знаете обо мне всё. Вы полагаете, что можно подойти ко мне дружески, сболтнуть что-нибудь этакое, и мы с вами повязаны, как мальчишки, которые надрезали пальцы, смешали кровь и зовут себя побратимами. Прошу вас, не обижайтесь, что я держу дистанцию. У стариков есть свои причины для замкнутости, никак не связанные с высокомерием.
— Вам следовало бы возобновить знакомство с Мальборо, — сказал Барнс, делая вид, что услышанное произвело на него сильное впечатление. — Вы бы славно поладили.
— Вы неудачно выбрали наречие.
Барнс на время замолчал. К Грейвзендской пристани подошли баржи с лошадьми, началась выгрузка. Блекторрентцы были драгунами, то есть сражались пешими, используя оружие и тактику пехоты, а перемещались на лошадях. Другими словами, это была ударная часть. Очевидно, высадившиеся взводы получили приказ скакать по дороге на восток, вдоль реки, параллельно шлюпу.
— Сейчас все до смерти перепуганы, — заметил Барнс, подходя ближе и протягивая Даниелю половину небольшого хлебца, на которую тот набросился почти как волк. — Послушать вигов, так якобиты уже на горизонте, подгоняемые католическим ветром. А сэр Исаак боится немца! Не могут якобиты и Ганноверы разом занимать одно и то же пространство. Однако страхи вигов и сэра Исаака равно реальны.
Упомянув о невозможности двум предметам находиться в одном объёме, Барнс обнаружил род словесного тика, восходящего к Декарту. Другими словами, он выпускник Кембриджа или Оксфорда и должен сейчас быть приходским священником, а то и настоятелем. Как его сюда занесло?
— Когда сэр Исаак с таким трепетом говорит о немце, он имеет в виду не Георга-Людвига.
В глазах Барнса мелькнуло недоумение, затем — восхищенный интерес.
— Лейбниц?..
— Да. — На сей раз Даниель не смог подавить улыбку.
— Так сэр Исаак не якобит?
— Ни в коей мере. В пришествии Ганноверов его страшит лишь то, что Лейбниц — доверенное лицо Софии и принцессы Каролины. — Даниель не знал, стоит ли говорить Барнсу так много. С другой стороны, лучше Барнсу знать правду, чем подозревать Исаака в тайной приверженности подменышу.
— Вы пропустили поколение, — заметил Барнс с озорством — во всяком случае, с той долей озорства, которая возможна в одноногом драгунском полковнике.
— Если Георг-Людвиг питает интерес к философии — или вообще к чему бы то ни было, — то ему хорошо удаётся это скрывать, — отвечал Даниель.
— Должен ли я заключить, что нынешняя экспедиция берёт исток в философском споре? — Барнс огляделся, словно увидел шлюп в новом свете.
«Аталанта» уже вышла в фарватер и, не сдерживаемая более медлительными баржами, подняла больше парусов, чем на первом отрезке пути. На правом берегу меловые холмы отступали от реки, расширяя полосу болот у своего подножия. Слева лежал Тилбери — последний порт на том берегу; дальше до самого моря тянулись илистые отмели. Даже с прибавленными парусами до цели был не один час; Исаак не появлялся. Даниель рассудил, что не беда, если он побеседует с любителем философии.
Он поднял глаза, выискивая подходящее небесное тело, однако погода хмурилась. Впрочем, под рукой был другой пример: волны, расходящиеся от корпуса, и отмели за Тилбери.
— Я не вижу солнца. А вы, полковник Барнс?
— Мы в Англии. Слухи о нём до меня доходили. Во Франции я как-то его видел. Сегодня — нет.
— А луну?
— Сейчас она полная и зашла за Вестминстер, когда мы грузились на Тауэрской пристани.
— Луна с другой стороны планеты, солнце за облаками. И всё же вода, которая нас несёт, подчиняется им обоим, не правда ли?
— Согласно надёжным источникам, отлив на сегодня не отменён. — Барнс взглянул на часы. — В Ширнессе он ожидается в семь утра.
— Сизигийный отлив?
— Исключительно низкий. Посмотрите сами, какое течение.
— Почему в отлив вода устремляется к морю?
— Под влиянием Солнца и Луны.
— Однако мы с вами их не видим. Вода не обладает зрением и волей, чтобы за ними следовать. Каким образом Солнце и Луна, столь далёкие, приказывают воде?
— Тяготение. — Полковник Барнс понизил голос, словно священник, произносящий имя Господне, и огляделся — не слышит ли их сэр Исаак Ньютон.
— Теперь все так говорят. В моём детстве не говорили. Мы бездумно повторяли за Аристотелем, что в природе воды тянутся за Луной. Теперь, благодаря нашему спутнику, мы говорим «тяготение». Нам кажется, что мы стали умнее. Так ли это? Поняли вы приливы и отливы, полковник Барнс, оттого, что сказали «тяготение»?
— Я и не утверждал, что понимаю.
— Весьма мудро.
— Довольно, что понимает он, — продолжал Барнс, глядя вниз, как будто мог видеть сквозь палубу.
— Понимает ли?
— Так вы все утверждаете.
— Мы — то есть Королевское общество?
Барнс кивнул. Он смотрел на Даниеля с некоторой тревогой. Даниель молчал, мучая его неопределённостью, так что Барнс наконец не выдержал:
— Сэр Исаак работает над третьим томом, в котором разрешит все вопросы, связанные с Луной. Объединит всё.
— Сэр Исаак выводит уравнения, которые согласовывались бы с наблюдениями Флемстида.
— Таким образом, вопрос будет решён окончательно; и если теория предсказывает орбиту Луны, то она применима и к плесканиям морской воды.
— Но разве описать значит объяснить?
— По мне так это неплохой первый шаг.
— Да. И его сделал сэр Исаак. Вопрос, кто сделает второй.
— Он или Лейбниц?
— Да.
— Лейбниц ведь не занимался тяготением?
— Вам кажется, что сэру Исааку, сделавшему первый шаг, легче сделать второй?
— Да.
— Мысль естественная, — признал Даниель. — Впрочем, иногда тот, кто вышел раньше, забредает в тупик и остаётся позади.
— Как может быть тупиком теория, которая безукоризненно всё описывает?
— Вы сами слышали недавно, как сэр Исаак выказал опасения насчёт Лейбница.
— Потому что Лейбниц близок к Софии! Не потому, что он более великий учёный!
— Простите, мистер Барнс, но я Исаака знаю со студенческой скамьи. Поверьте мне, он не оцеживает комаров. Если он так тщательно готовится к битве, значит, ему предстоит схватка с титаном.
— Чем Лейбниц опасен сэру Исааку?
— Хотя бы тем, что не ослеплён восхищением и в отличие от англичан готов задавать трудные вопросы.
— Какие именно?
— Например, тот, что задал сейчас я: как вода узнаёт, где Луна? Как она чувствует Луну сквозь Землю?
— Тяготение проходит сквозь Землю, как свет — сквозь стекло.
— И какое же оно, это тяготение, если может проходить сквозь плотное вещество?
— Понятия не имею.
— Сэр Исаак тоже.
Барнс на мгновение замер.
— А Лейбниц?
— У Лейбница совершенно иной подход, настолько иной, что многим кажется диким. Преимущество его философии в том, что она не требует говорить глупости о тяготении, струящемся сквозь Землю, как свет сквозь стекло.
— Тогда у неё должен быть не менее серьёзный изъян, иначе величайшим учёным мира был бы не сэр Исаак, а он.
— Быть может, он и есть величайший, но никто об этом не знает, — сказал Даниель. — Впрочем, вы правы. Изъян Лейбницевой философии в том, что пока никто не может выразить её математически. И потому он бессилен предсказывать затмения и приливы, как сэр Исаак.
— Тогда что хорошего в философии Лейбница?
— Возможно, она правильная, — отвечал Даниель.
Холодная гавань
тот же день
Тауэр мог бы стоять вечно, почти не требуя ухода, если бы не род человеческий. Опасность этой конкретной заразы заключена не столько в разрушительной, сколько в неукротимой созидательной деятельности. Люди постоянно тащат всё новые строительные материалы через многочисленные ворота и возводят себе жильё. С веками эти жалкие сооружения рассыпались бы в прах, оставив Тауэр таким, каким замыслили его Бог и норманны, если б не ещё одна дурная особенность людей: найдя убежище, они его заселяют, а заселив, тут же принимаются чинить и достраивать. С точки зрения смотрителей, Тауэр страдал не от нашествия термитов, а от засилья ос-гончаров.
Всякий раз, как констебль Тауэра приглашал землемера и сравнивал новый план с тем, что оставил ему предшественник, он обнаруживал новые осиные гнёзда, нараставшие, как пыльные комки под кроватью. Если бы он попытался вышвырнуть тамошних обитателей и сровнять незаконные постройки с землей, ему бы представили документы, согласно которым самовольные жильцы вовсе не самовольные, а честно снимают свои углы у других жильцов, которые, в свою очередь, вносят арендную плату или служат некоему учреждению либо ведомству, чьё существование освящено временем или королевским указом.
Уничтожить эти постройки могла бы лишь хорошо согласованная политика поджогов, а так их рост сдерживала только нехватка места. Короче, вопрос сводился к тому, какую скученность люди способны вынести. Ответ: не такую, как осы, но всё же весьма значительную. Более того, существует тип людей, которым скученность нравится, и во все времена их естественно притягивал Лондон.
Дарт-цирюльник жил в мансарде над складом в Холодной гавани. Большую часть года там и впрямь было холодно. Дарт и его сожители — Пит-маркитант и Том-чистильщик — обрели здесь своего рода метафорическую житейскую гавань. Однако в остальном название только сбивало с толку: место располагалось далеко от воды и гаванью служить не могло. Так звался клочок земли и несколько складов посреди Тауэрского луга, возле юго-западного угла Белой башни — донжона, выстроенного Вильгельмом Завоевателем.
Под самой крышей в глинобитной стене фронтона была проделана отдушина такого размера, что из неё мог вылететь голубь или выглянуть человек. Через эту отдушину, с высоты, так сказать, голубиного полёта, Дарт и смотрел сейчас на плац — самое большое открытое пространство в Тауэре. Образцово ухоженный участок английской земли — любо-дорого поглядеть. Однако рядом с Холодной гаванью его уродовали рубцы изъеденного дождями камня: остатки стен, снесённых эпохи назад давно умершими констеблями. Ибо если что и могло подвигнуть констебля на борьбу с египетской язвой лачуг, клетушек и закутов, то лишь мысль о собственной смертности, подкреплённая осознанием, что в Тауэре не осталось места вырыть ему могилу. Так или иначе, разрушенные фундаменты свидетельствовали, что некогда Холодная гавань была больше. С земли руины представлялись запутанным лабиринтом, где ничего не стоит сломать ногу. С высоты, откуда смотрел Дарт, их можно было прочесть как древние письмена, начертанные на зелёном сукне серой и жёлтой краской.
Если бы минувшие столетия волновали Дарта так же, как предстоящие часы, он мог бы расшифровать каменный палимпсест и прочесть историю этого места: застава против неукротимых англов — внутренний вал в системе концентрических укреплений — сторожевой пост на въезде в королевский замок — трущобы — ноголомный лабиринт. Часть, в которой обитал Дарт, сохранили только потому, что её легко было приспособить под склад.
Будь Дарт склонен к глубоким интроспекциям, он бы задумался о странности своего положения: неграмотный цирюльник, маркитант и чистильщик башмаков живут в двадцати шагах от главной твердыни Вильгельма Завоевателя.
Однако ни тени подобных мыслей не мелькнуло у Дарта, когда он смотрел через отдушину, откашливая кровь в заскорузлую бурую тряпицу. Дарт жил настоящим мгновением.
Плац тянулся на сотню шагов с востока (от казарм у основания Белой башни) на запад (к улочке у западной стены, где лепились домишки стражников). Сто пятьдесят шагов отделяли его северную границу (церковь) от южной (дом наместника). Холодная гавань — приют Дарта-цирюльника, Пита-маркитанта и Тома-чистильщика — находилась примерно на середине восточного края. Таким образом, Дарт хорошо видел почти всю северную часть плаца, а всё, что справа, заслоняла от него Белая башня — приземистый каменный куб в самой середине Тауэра. Её величественные очертания портили, с западной и южной сторон, одинаковые низкие казармы, поставленные вплотную, так что их острые крыши сливались в одну зубчатую линию. Здесь и в таких же казармах по соседству размещались две роты гвардейцев. Десяток рот распихали по периферии Внутреннего двора, на Минт-стрит и где там ещё сыскалось для них место. Всего гвардейцев было около тысячи.
Тысяча человек не может прожить без еды — вот почему маркитантам охотно разрешали селиться в щелях Тауэра и пристани. Пит был одним из них; он снимал мансарду и сдавал в ней место под гамак Дарту, а теперь и Тому.
Собственным её величества блекторрентским гвардейцам часто приходилось выполнять обязанности церемониального рода, например, встречать иностранных послов на Тауэрской пристани, так что их сильнее обычного заботило поддержание амуниции. Соответственно Тому и другим чистильщикам работы всегда хватало. А любому человеческому сообществу нужны цирюльники, чтобы перевязывать раны, удалять лишние волосы, телесные соки и гангренозные конечности. Поэтому Дарту позволили намотать кровавую марлю на пику и поставить её перед некой дверью в Холодной гавани как понятный всем знак своего ремесла.
Сейчас он никого не брил и не перевязывал, а снова и снова нервно правил бритву, поглядывая на Тома, совершавшего обход казарм. Почти весь гарнизон находился на Тауэрском холме; у каждой двери Том останавливался, чтобы начистить оставленные солдатами башмаки. Выглядел Том лет на двенадцать, однако голос и вкусы имел вполне взрослые, и Дарт подозревал, что он просто таким уродился.
Том работал уже часа два и вошёл в размеренный ритм. Он садился на корточки, чистил пару башмаков, затем вставал, расправляя спину, скучающим взглядом обводил плац и поднимал глаза к небу, словно хотел узнать, не портится ли погода. Затем он принимался за новую пару башмаков.
Скучнее его работы могло быть лишь наблюдение за ней. Хотя Дарту велели не спускать с Тома глаз, веки его то и дело закрывались. Солнце светило сквозь белую дымку, окутавшую чердак дремотным теплом. Время от времени прохладный ветерок напоминал Дарту, что надо открыть глаза. Как положено цирюльнику, он был выбрит хуже всех в Тауэре. Щетина будила его всякий раз, как он, засыпая, упирался подбородком в закаканный голубями подоконник. Чтобы скоротать время, Дарт мог лишь точить и без того острые бритвы, но тогда они стали бы совсем прозрачными.
У Тома на плече лежала жёлтая тряпка.
Минуту назад её там не было. Дарт, охваченный страхом и стыдом, тут же принялся оправдываться: я не сводил с него глаз больше, чем на миг.
Он посмотрел снова. Том взялся за следующую пару башмаков. Жёлтая тряпка горела на фоне старых чёрных, как молния.
Дарт закрыл глаза, сосчитал до пяти, открыл их снова и посмотрел в третий раз, чтобы убедиться окончательно. Тряпка была на месте.
Дарт-цирюльник отошёл от окна (впервые за два часа), собрал инструмент в сумку и двинулся к лестнице.
Мансарду загромождали мешки с мукой и бочки с солониной, с потолка свисали окорока, потрошёные кролики и гамаки, в которых спали Дарт, Том и Пит. Однако Дарт уверенно лавировал между препятствиями. Также уверенно он спустился по опасной для жизни лестнице и через вонючий ход не шире его плеч выбрался на чуть более просторную L-образную улочку, ведущую к воротам Кровавой башни. Миновав поворот, он вышел на траву перед юго-западным углом Белой башни, а оттуда, свернув влево, попал на плац.
Его предупредили, что озираться нельзя, и он всё-таки не утерпел и взглянул на Тома, прилежно чистившего башмаки. Том сидел лицом к Дарту, нагнувшись, но глаза закатил так, что Дарт видел только их белки.
Соответственно заметить Дарта Том не мог — он смотрел куда-то вверх. Дарт попытался проследить его взгляд, поскольку последние два часа Том явно что-то высматривал в небе. Над западной стеной различался только Монумент, примерно в полумиле от Тауэра, и купол святого Павла. Дарт повернул голову вправо и посмотрел на север. Здесь, за складами и казармами внутреннего двора, в небо поднимались клочки дыма. Горело где-то неподалёку, но не на Монетном дворе, а дальше. Дарт заключил, что дым идёт с Тауэрского холма и скорее всего не пороховой — он не слышал выстрелов. Наверное, в Тауэр-хамлетс жгут мусор. А может, горит что-нибудь посерьёзнее.
Дарт миновал уже половину плаца, когда дверь дома номер шесть внезапно распахнулась. Вместо одного часового перед домом стояли целых три. Значит, шотландца выводят на прогулку. Вышел стражник. Это был Даунс. Сегодня утром он вызвал Дарта побрить его, а сейчас ещё и надел свой лучший наряд. За Даунсом шёл лорд Жи, огромного роста и в килте. За лордом Жи — его служанка, гренадёрского вида рыжеволосая девица с корзиной в руке. Даунс зашагал к дому наместника под парапетом Колокольной башни. Три гвардейца образовали треугольник вокруг него и узника, рыжая служанка замыкала шествие. Дарт остановился их пропустить и приподнял шляпу. Шотландец не удостоил его вниманием; Даунс подмигнул. Дарт забыл обо всей компании, как только она прошла. Трудно представить событие более заурядное, чем визит знатного узника к наместнику Тауэра.
Одинокий часовой — блекторрентец — стоял перед дверью дома номер четыре, типично тюдоровского, как и дом номер шесть. Перенеси его на зелёный Эссекский луг, убери часового и замени странных обитателей на мелкого торговца с женой, никто не увидел бы в нём ничего примечательного. Когда стало понятно, что Дарт направляется к дому номер четыре, часовой обернулся и постучал в дверь. Через мгновение из окошка высунулась голова стражника.
— Посетитель к милорду?
— Цирюльник, — отвечал часовой.
— Ему назначено?
Клуни всегда задавал этот вопрос, тем не менее Дарт с трудом подавил желание броситься наутёк — или, хуже, во всём сознаться. Однако он чувствовал взгляд чистильщика, направленный ему в спину, как пистолетное дуло.
— Сэр… — Дарту пришлось отхаркнуть и проглотить кровавую мокроту, прежде чем он собрался с духом и продолжил: — Я обещал милорду прийти на этой неделе.
Клуни исчез в доме. Через открытое окно можно было слышать, как он говорит с узником. Потом скрипнули половицы и загремели замки. Стражник Клуни открыл дверь и кивнул часовому.
— Его сиятельство вас примет! — провозгласил он трубным голосом, напомнившим Дарту, какая непомерная честь для простолюдина — скрести бритвой графскую макушку. Дарт втянул голову в плечи и торопливо вошёл в дом, не забыв приподнять шляпу перед часовым и кивнуть Клуни.
Гостиная домика выходила на плац тем самым окном, через которое Клуни сейчас разговаривал с часовым. Она была самой светлой. В ней Дарт и расстелил на полу простыню, а сверху поставил стул.
Граф Холсли доживал остаток дней в Тауэре, потому что во время войны за Испанское наследство получил от правительства некие деньги, которые потратил не на закупку селитры в Голландии, а на новую крышу для своей загородной усадьбы. Сейчас ему было почти шестьдесят, и, насколько знал Дарт, вся его жизнь состояла из бритья головы. Другие узники прогуливались, кончали с собой, затевали немыслимые побеги; граф Холсли безвылазно сидел в доме номер четыре. Посетители, если не считать Дарта, бывали у него редко, да и то всё больше попы — граф на старости лет перешёл в католичество.
Когда Клуни под руку ввёл его сиятельство в комнату, Дарт сказал: «Милорд» — больше ему говорить не полагалось.
Стражнику Клуни досталась лёгкая, невыносимо скучная работа — следить за графом двадцать четыре часа в сутки. Он уселся в угол и стал смотреть, как Дарт усаживает и обвязывает узника простынёй.
— Сэр, — театральным шёпотом обратился Дарт к стражнику. — Я позволю себе закрыть окно. Сегодня ветерок, и я бы не хотел, чтобы волосы разлетелись по вашему чистому дому.
Клуни сделал вид, будто обдумывает услышанное, затем прикрыл глаза. Дарт подошёл к окну и увидел, что Том-чистильщик внимательно на него смотрит. Прежде чем закрыть раму, Дарт вытащил из кармана платок, громко харкнул и сплюнул на землю.
Само собой разумеется, граф Холсли носил парик. Тем не менее он нуждался в услугах цирюльника. Граф предпочитал бриться наголо — так не заводятся вши.
К тому времени, как Дарт разложил помазки и бритвы, Том прошёл уже половину плаца. Он по-прежнему смотрел в сторону цирюльника, что было к лучшему — иначе тот не решился бы даже в мыслях, не то что на самом деле. Граф и даже стражник были так велики, так страшны для букашки вроде Дарта. Однако за Томом стояла сила ещё более могущественная. Можно скрыться от мирового судьи, но от таких, как Том, не скроешься и на Барбадосе. Если Дарт не сделает, что велено, то на всю жизнь останется кроликом в лабиринте нор, преследуемым армией хорьков. Только это и дало ему храбрость (если здесь уместно слово «храбрость») объявить:
— Стражник Клуни, я держу бритву у горла милорда Холсли.
— А… что? — отозвался Клуни из полудрёмы.
— Бритву у его горла.
Граф читал «Экземинер». Его сиятельство был туг на ухо.
— Так вы ему не только голову будете брить, но и лицо?
Такого план не предусматривал. Все думали, Клуни поймёт, что такое бритва у горла.
— Я не собираюсь ничего ему брить. Я угрожаю перерезать его сиятельству глотку.
Граф напрягся и затряс газетой.
— Виги погубят эту страну! — провозгласил он.
— Чего ради вам совершать столь безумный поступок? — удивился Клуни.
— Альянс! — негодовал граф. — Почему не назвать себя честно кликой заговорщиков?! Они хотят свести её величество в могилу! Это чистое убийство!
— Чего ради — спросите Тома. Он за дверью. А я ничего не знаю, — отвечал Дарт.
— Всё, всё здесь! — Граф так резко подался вперёд, что сам перерезал бы себе глотку, если бы Дарт не отдёрнул бритву. — «Герцог Кембриджский»! Чем ему свой немецкий титул нехорош? Можно подумать, он англичанин до мозга костей!
В дверь постучали.
— Чистильщик, — объявил часовой.
— Впустите его, — сказал Дарт, — и не вздумайте подать знак часовому: Том будет за вами следить. Он всё объяснит.
— Немудрено, что её величество разгневалась! Это преднамеренный афронт. Происки Равенскара. Годы и болезни не сгубили нашу королеву, так он хочет уморить её оскорблениями!
Клуни вышел из комнаты. Дарт трясущейся рукой сжимал бритву, ожидая, что сейчас вбежит часовой и выстрелом разнесёт ему голову. Однако дверь открылась и закрылась тихо. Теперь Дарт различал в прихожей голос Тома-чистильщика.
— Ганноверское воронье! — гремел лорд Холсли. — София не хочет ждать, когда корона перейдёт ей естественным чередом — нет, она шлёт своего внука, как коршуна, клевать увядшие щёки нашей государыни!
Дарт силился разобрать, о чём говорят чистильщик и стражник, но за гневными возгласами графа и шуршанием газеты уловил лишь отдельные слова: «Московит… Архивная башня… позвонки… якобиты…»
Внезапно Том просунул голову в комнату и оглядел Дарта без всякого выражения, как судебный следователь — труп.
— Оставайся здесь, пока всё не случится, — приказал он.
— Что всё? — спросил Дарт, но Том уже выходил в дверь, а стражник Клуни — за ним.
Дарт стоял, уперев занемевшую руку с бритвой в ключицу графа, и смотрел, как они шагают к Архивной башне, куда, по слухам, бросили вчера однорукого московита.
Делать было нечего, и Дарт принялся намыливать графу голову. В северной части Тауэрского холма зазвонили колокола. Где-то горит. В любое другое время Дарт побежал бы смотреть — он любил пожары. Однако долг удерживал его здесь.
Шлюп «Аталанта», Темза ниже Грейвзенда
конец дня
Сподобившись просвещения, за которое ему в Оксфорде или Кембридже пришлось бы немало заплатить, полковник Барнс не мог отказать Даниелю в желании взглянуть на карту. Они спустились с юта и разложили её на бочке, чтобы сержант Боб тоже мог посмотреть. Это была не роскошная карта, вручную нарисованная на золочёном пергаменте, а самая простая, оттиснутая с доски на бумаге тринадцать на семнадцать дюймов.
Картограф явно стремился показать, что эта часть мира не заслуживает изображения на картах, поскольку здесь нет ничего, кроме ила, очертания которого меняются с каждым днём. Даже названия были какие-то односложные. Казалось, Англия, затерев до негодности слова, выбрасывает их в канаву, как сломанную курительную трубку, а Темза несёт их вместе с сором, фекалиями и дохлыми кошками в своё устье.
Сразу впереди река поворачивала влево. Судя по карте, через милю-две лежал ещё один поворот, а дальше — море. Этот отрезок реки назывался Хоуп — «надежда». Удачное предзнаменование для сэра Исаака Ньютона.
«Надежда» огибала молоткообразный выступ Кента. Не чёткая граница между рекой и болотом, а скорее приливно-отливная полоса в милю шириной: в отлив река становилась вдвое уже. Со стороны моря молоток оканчивался полукруглым бойком — островом Грейн. К северу от него текла Темза, к югу — Медуэй; как два грузчика, столкнувшись на улице, бросают ношу, чтобы на кулачках выяснить, кто должен уступить дорогу, так и две реки, сойдясь вместе, сбрасывали весь сор, который несли в море. Так образовался мыс на восточном берегу острова Грейн. Продолжаясь в море, он миля за милей истончался, превращаясь в узкую косу. На её продолжении и находился Норский буй. Устье разевалось, как гадючья пасть, и Норская коса торчала оттуда раздвоенным языком. На корабле там было не пройти — слишком мелко, на лошади не проехать — слишком глубоко.
Однако задолго до буя, у самого острова Грейн, было место, куда можно попасть и по воде, и верхом — в зависимости от времени суток. Крохотный островок — на карте не больше мошки. Даниелю не требовалось наклоняться и разбирать мелкие буковки, он и так знал, что это Шайвский утёс.
Подняв взгляд от карты к невразумительной береговой линии, он видел несколько мест, где кости земли проступали сквозь мясо, наращенное рекой. Шайвский утёс, примерно в миле по высокой воде от острова Грейн, был одним из них. У него имелись даже свои заводи и отмели, повторяющие в миниатюре ту систему, к которой принадлежал он сам.
Какой-то умник давным-давно догадался сложить здесь курган, чтобы высматривать викингов или зажигать сигнальный костер, а следующие поколения умников возвели на этом фундаменте сторожевую башню.
Даниель повернулся к полковнику Барнсу и увидел, что тот ушёл — его вызвали на шканцы. Зато сержант Боб стоял рядом и смотрел на Даниеля почти враждебно.
— Вы меня за что-то осуждаете, сержант?
— Когда вы последний раз ночевали в Тауэре, — (Боб имел в виду некие события накануне Славной революции), — вы рассказали мне следующее: якобы вы своими глазами видели, как некий младенец вышел из влагалища английской королевы в Уайтхоллском дворце. Вы и ещё целая толпа важных особ.
— Да?
— Ребёночек вырос, живёт в Сен-Жермене и воображает себя нашим будущим королём. Верно?
— Об этом постоянно твердят.
— Однако виги называют его подменышем, говорят, что это неведомо чей ублюдок, принесённый в Уайтхолл в грелке, и ни у какой королевы во влагалище не бывал, по крайней мере, пока не вырос настолько, чтобы залезать женщинам в такие места.
— Я слышал такое неоднократно.
— И где вы после этого?
— Где и был. Сто лет назад мой отец бегал по Лондону, провозглашая, что все короли и королевы — ублюдки, и лучшие из них недостойны править копной сена. Меня воспитали в таких убеждениях.
— Вам это не важно.
— Родословная — не важна. Иное дело — политика и поведение.
— Потому вы и с вигами, — сказал Боб уже более спокойным тоном, — что политика Софии вам больше по душе.
— Вы же не думали, что я — якобит?!
— Я должен был спросить. — Боб Шафто наконец оторвал взгляд от Даниеля и огляделся. Шлюп двигался на север вдоль Хоуп, но они уже могли заглянуть за последний изгиб реки и увидеть поразительное зрелище: сплошную воду до самого горизонта.
— Болингброк — вот кто якобит, — заметил Боб. С тем же успехом он мог бы сказать, что Флитская канава приванивает.
— Вы часто его видите? — спросил Даниель.
— Я часто вижу его. — Боб повернулся к бизань-мачте и взглядом указал на штандарт с гербом Чарльза Уайта. — А вы наверняка знаете, что он — плеть в руке Болингброка.
— Не знал, но охотно верю.
— Болингброк — любимец королевы с тех самых пор, как он выжил из страны Мальборо, — продолжал Боб.
— Об этом слышали даже в Бостоне.
— А виги — ваш друг в частности — собирают свою армию.
— Когда мы с месяц назад встретились на Лондонском мосту, вы бросили какой-то странный намёк, — сказал Даниель. Он впервые с пробуждения ощутил страх: не тот бодрящий, который испытываешь, проносясь в лодке под Лондонским мостом, а липкий, давящий, из-за которого первые недели в Лондоне не смел вылезти из постели. Чувство было настолько знакомое, что странным образом успокаивало.
— Виги многим шепчут на ухо. — Боб посмотрел туда, где чуть раньше стоял полковник Барнс. — «Вы с нами или против нас? Готовы ли вы включиться в перекличку? Узнают ли Ганноверы, придя к власти, что вы были им верны?»
— Ясно. Трудно устоять перед таким убеждением.
— Не так трудно, когда есть Мальборо, вон там. — Кивок в сторону восточного горизонта. — Но есть и другое давление, ещё более сильное, со стороны Болингброка.
— Что сделал милорд Болингброк?
— Пока ничего. Хотя к чему-то готовится.
— К чему?
— Он составляет список всех капитанов, полковников и генералов. И по словам Уайта, который проговаривается, якобы спьяну, Болингброк скоро предложит им выбор: продать офицерские патенты или подписать документ, по которому они обязуются служить королеве безусловно.
— Продать якобитам, надо думать.
— Надо думать, — с ехидцей повторил Боб.
— И когда королева на смертном одре решит, что корона должна перейти её брату (я не стану кривить душой, называя его подменышем), армия поддержит этот декрет и впустит Претендента в Англию.
— Сдаётся, что к этому идёт. И таким, как полковник Барнс, сейчас нелегко. Маркизу Равенскару можно вежливо отказать. Однако слова Болингброка — как Норский буй: надо выбирать, и потом уже не свернёшь.
— Да, — отвечал Даниель. Он не стал говорить очевидное: что Барнс, верный Мальборо, не пойдёт за Болингброком. Однако Боб прав: ему придётся выбирать. Нельзя сказать «нет» Болингброку, не сказав «да» Равенскару.
Некоторое время Даниель стоял и злился на Болингброка: какая глупость толкать людей вроде Барнса в объятия противоположного лагеря! Он паникует — других объяснений нет. А паника, как известно, заразительна: судя по вопросам, которые Барнс и Шафто задают Даниелю, она уже начала распространяться.
Да, но почему они обратились к нему? Барнс, шутка ли, командует драгунским полком и, если хоть десятая часть его и Шафто намёков хоть на чем-то основана, поддерживает связь с Мальборо.
Как там Барнс сказал несколько минут назад? «Все перепуганы до смерти». Внешне это относилось к Исааку и его страхам касательно Лейбница. Однако, возможно, Барнс имел в виду себя.
Или действительно всех. Роджер Комсток, маркиз Равенскар, так демонстративно весел, что не кажется напуганным. Однако, по словам Боба, он вербует армию, а это не похоже на поведение человека, спокойно спящего по ночам.
Кто не напуган? Даниелю пришёл на ум только Кристофер Рен.
Если герцогиня Аркашон-Йглмская и напугана, она этого не показывает.
Может быть, не напуган Мальборо. Трудно сказать, пока он в Антверпене.
Вот и все, кого он сумел вспомнить.
И тут Даниель пережил одно из тех странных мгновений, когда он словно отделился от тела и увидел себя с высоты чаячьего полёта. И задумался: для чего ему, на исходе дней, составлять скучные перечни, кто напуган, а кто нет? Неужто члену Королевского общества нечем больше занять время?
Ответ был вокруг, он нёс их, спасая от смерти в речных волнах: Надежда. Согласно мифу, последнее, что вышло из ящика Пандоры. Почувствовав на горле липкие пальцы страха, Даниель почти физически возжаждал надежды. И, может быть, надежда не менее прилипчива, чем страх. Он хочет заразиться надеждой и пытается вспомнить людей, вроде Рена и Мальборо, от которых её можно перенять.
По крайней мере в качестве гипотезы сойдёт. И описывает не только его поступки, но и чужие. Почему принцесса Каролина вызвала Даниеля из Бостона? Почему мистер Тредер хотел объединиться с ним в клуб? Почему Роджер рассчитывает на него в задаче о нахождении долготы, а Лейбниц — в создании думающей машины? Почему такие, как Сатурн, таскаются за ним по Хокли-в-яме, прося духовных наставлений? Почему Исаак хочет заручиться его помощью? Почему мистер Бейнс просил, чтобы Даниель позаботился о его дочери в Брайдуэлле? Почему полковник Барнс и сержант Шафто осаждают его вопросами?
Потому что все они напуганы, все, как Даниель, жаждут надежды, а потому ищут человека, который её им даст. Мысленно перебирая, кто напуган, а кто нет, они по какому-то чудовищному недоразумению заносят Даниеля в колонку «не напуган».
Поняв это, Даниель расхохотался. Боб мог бы оторопеть. Но поскольку Боб привык считать, что Даниель не напуган, он расценил его смех как очередной признак редкостного присутствия духа.
Как тут быть? Даниель подумал, не нанять ли гравера, чтобы напечатать листки, в которых он, Даниель Уотерхауз, провозгласит миру, что едва ли не поминутно обмирает со страха. В других обстоятельствах это был бы самый разумный выход — позорный, разумеется, зато честный. И самый быстрый способ избавиться от страждущих, которые мечтают припасть к его якобы неиссякаемому источнику надежды.
Но это если относиться к мифу о ящике Пандоры по-детски, то есть считать надежду ангелом. Может быть, Пандора на самом деле чёртик из табакерки, а надежда — заводная фигурка, deux ex machina.
Бог из машины. Даниель много занимался театральной машинерией, холодным взглядом наблюдал её действие на зрителей.
Он даже пережил долгую фазу презрения к театру и к людям, которые платят деньги за то, что их дурят.
Однако вернувшись в Лондон (где есть театры) из Бостона (где их нет), Даниель убедился, что был неправ в своей строгости. Лондон лучше Бостона. Англия — более развитая страна, в том числе из-за театров. Нет ничего плохого в том, что людей дурят актёры или машинерия.
Даже если надежда — механическая игрушка, выскакивающая из ящика Пандоры при помощи рычагов и пружин, — в ней нет ничего дурного. Если куча людей почему-то вообразила, будто Даниель не напуган, и теперь черпает из этого надежду для себя и для других, то можно лишь радоваться. Даниель должен оставаться на сцене, должен играть свою роль, пусть сто раз искусственную. Поскольку таким образом он побеждает заразу паники, заставляющую таких, как Болингброк, затевать беспредельно глупые игры. Искусственная, механическая надежда может порождать надежду подлинную — вот где истинная алхимия, превращение свинца в золото.
— Чарльз Уайт очень похож на милорда Джеффриса, вы согласны?
— Во многих отношениях, да.
— Помните ночь, когда мы ловили Джеффриса, как бешеного пса, нашли и передали правосудию?
— Ещё бы! Двадцать лет эта история кормит и поит меня в кабаках.
Что ж, теперь многое становится на места. В пересказах история могла обрасти подробностями и выставить Даниеля большим героем, чем в жизни.
— Когда мы с вами в тот вечер выходили из Тауэра, мы встретили Джона Черчилля — я называю его так, потому что тогда он ещё не звался Мальборо.
— Помню. Вы с ним отошли на середину дамбы, чтобы поговорить вдали от чужих ушей.
— Да. И тема разговора должна, как и тогда, оставаться тайной. Но вы помните, чем всё закончилось?
— Вы пожали друг другу руки, очень торжественно, как если бы заключили сделку.
— Ваше умение видеть суть порою меня пугает. Итак, зная Мальборо и зная меня, готовы ли вы предположить, что я или он нарушим сделку, заключённую вот так: пред вратами Тауэра, накануне Славной революции, когда и его, и моя жизнь висела на волоске?
— Разумеется, нет, сэр. У меня и в мыслях…
— Знаю, не продолжайте. Позвольте лишь сказать вам, сержант, что сделка по-прежнему в силе, что наша нынешняя экспедиция — её часть, что всё хорошо, а революция становится славнее день ото дня.
— Вот это я и хотел услышать, — с лёгким поклоном сказал Боб.
Даниель еле сдержался, чтоб не ответить: «Знаю».
Монумент
конец дня
На середине подъёма они остановились перевести дух. Два молодых паломника сели на каменную приступку под крохотным оконцем; строители не пожалели труда, чтобы заключить капелюшку блёклого неба в массивную сводчатую кладку.
Один из паломников первым делом припал к окну. Несколько мгновений его лёгкие работали, как кузнечные мехи.
— Жалко, что день сегодня какой-то смурной, — заметил он, немного отдышавшись.
— Придётся нам самим его озарить, — отвечал второй. Он втиснул плечо в щель света между каменной кладкой и рёбрами своего спутника, подвинул его и тоже урвал порцию воздуха. Воздух был лондонский, то есть свежим зваться не мог, но после спертых миазмов в стофутовом колодце казался почти живительным.
Паломник постарше, несколькими витками лестницы ниже, споткнулся. Ему не хватило дыхания на крепкое словцо; пришлось ограничиться чередою гневных вдохов и выдохов.
— Свет… не… за… сти… те! — выговорил он наконец по слогу на ступеньку.
Младшие — которые были не так и молоды, обоим хорошо за тридцать — двинулись вверх. Тут они поняли, что сейчас придётся пропустить трёх спускающихся молодых джентльменов. Все трое предусмотрительно отцепили ножны от перевязей и теперь шли, неся шпаги перед собой, будто святые с распятиями в руках.
Младшие паломники были во всём чёрном, если не считать белых воротничков. Строгое платье дополняли чёрные же плащи ниже колен. Наряд выдавал в них нонконформистов — квакеров или даже гавкеров. Навстречу им спускались люди прямо противоположного толка — щёголи с Пиккадилли, пропахшие джином и табаком.
— Мы побывали на небесах, — сладким голосом пропел один. — Там такая скучища, что теперь мы спешим в ад. Не соблаговолите ли уступить дорогу?
Его спутники рассмеялись.
Они не видели, как лица паломников, скрытые полутьмой, отразили отнюдь не набожное веселье.
— Пропусти этих господ, брат! — крикнул первый диссентер тому, что поднимался следом. — Небеса потерпят, а их заждались в аду!
Он приник к холодной стене, а вот его брату, чью спину уродовал огромный горб, пришлось сойти на несколько ступеней вниз и втиснуться в оконную нишу.
— Вы свет мне застите, черти! — напомнил старший, теперь уже различимый как бестелесный белый воротничок в полутьме лестничного колодца.
— Мы пропускаем нераскаянных грешников, отец, — объявил горбун. — Держи себя, как пристало доброму христианину.
— Почему вы не взяли их в плен? Нам нужны заложники!
Необычная фраза прозвучала в тот самый миг, когда первый из щёголей протискивался мимо паломника, вжавшегося в стену. Они были так близко, что щёголь слышал бурчание в животе у диссентера, а диссентер — запах устриц изо рта щёголя. Мгновение оба взвешивали ситуацию: у одного — шпага в руке и стофутовая пропасть за спиной, другой прижат к стене, зато держит тяжёлый посох.
Восходящий на небо отвёл взгляд — не без труда, поскольку не привык уступать — и крикнул вниз:
— Отец, я поговорил с ними и выяснил, что все они — англичане, а не французские драгуны, как мы думали вначале!
Он подмигнул щёголю. Тот, сообразив, что к чему, отвечал: «А!», затем: «Вот и хорошо, а то место для стычки неудачное» — и двинулся в обход горбуна. Через несколько мгновений трое сходящих во ад уже приветствовали старого паломника тем глумливо-вежливым тоном, каким обычно адресуются к сумасшедшим.
— Пора меняться, — сказал горбун. Он выдвинулся из ниши, впустив на лестницу немного серого света, и сбросил накидку, под которой оказался привязанный к спине длинный шлемовидный предмет. На то, чтобы снять конструкцию с одного брата и закрепить её за плечами у другого, ушли несколько минут лихорадочной работы. К концу их оба были взвинчены не меньше, чем отец. Тот догнал сыновей и привалился к окну, тяжело дыша. Свет упал на лицо, способное поведать больше сверхъестественных и безобразных историй, чем целый склад Библий.
— Смурной день, — насмешливо повторил он. — Что за чушь! Солнце не делает погоды — её делаем мы. Сегодня мне охота сгубить денежную систему этой страны, значит, погода для нас славная.
— На этой поганой лестнице народ так и шлындает вверх-вниз. Неужто ты не можешь придержать язык? — спросил один из братьев — тот, которого опутывала теперь паутина верёвок, держащих шлемовидный предмет.
— Покуда это на виду, смешно разводить тайны, Джимми, — ответил отец.
Оценив его правоту, другой брат — который стоял теперь с прямой спиной, держа в руке посох — набросил на Джимми плащ, превратив его в горбуна.
— Неужто нет иного способа попасть в Тауэр, отец? — спросил он.
— Ты о чём?
— Людные таверны под самой стеной. Забросить оттуда крюк…
— Служанки узников каждый день ходят за покупками. Можно было бы поменяться с кем-нибудь из них платьем, — подхватил Джимми.
— Спрятаться в телеге с сеном…
— Или с корнуоллским оловом…
— Прикинуться цирюльником, который бреет какого-нибудь знатного узника…
— Я сам раз пробрался туда с похоронной процессией, просто чтобы посмотреть…
— Можно дать взятку сторожу, чтобы тебя не выгнали, когда будут запирать на ночь.
Старший паломник сказал:
— Если бы ты, Дэнни, не провёл последний месяц на Шайвском утёсе, готовясь к встрече гостей, а ты, Джимми, не чеканил всё это время монеты, вы бы знали, что сделали остальные. Но мне для моих целей проникать туда тайком не след, верно? И нечего таращиться на отца, пошевеливайтесь, пока вся затея не кончилась пшиком! А если вылезете наверх раньше меня и увидите там приличных лондонцев, не зевайте, берите их в заложники! Вас не надо учить, как это делается!
Через несколько мгновений они вышли на свет и очутились на квадратной площадке с четырьмя евреями, двумя филиппинцами и одним негром.
— Похоже на зачин бесконечного анекдота из тех, что рассказывают в трактирах безмозглые идиоты, — пробормотал старший паломник, но никто его не услышал.
Джимми и Дэнни стояли, потрясённые зрелищем: с одной стороны, примерно на расстоянии мили, новый купол святого Павла. Напротив, вдвое ближе, Тауэр. Сразу под ними — так близко, что ухо различало скрежет голландских водяных машин, приводимых в движение начавшимся отливом, — Лондонский мост.
— Томба! Кой чёрт здесь делают эти сыны Израилевы? — обратился старик к негру.
Томба сидел по-турецки на юго-восточном краю площадки. На коленях у него покоился шкив размером с бычью голову. Негр вынул изо рта свайку — острый кусок китового уса — и сказал:
— Пришли посмотреть на город. Они нам не помешают.
— Я спрашивал в более общем смысле: почему я вижу их везде, куда попадаю, — произнёс старый паломник. Впрочем, теперь он снял воротничок и плащ, оставшись в приличных панталонах, долгополом камзоле и сногсшибательном жилете из золотой парчи с серебряными пуговицами. Говорил он нарочито громко, чтобы слышали евреи: — В Амстердаме, Алжире, Каире, Маниле, теперь здесь.
Томба пожал плечами.
— Они пришли туда раньше нас, так что нечего удивляться.
Он делал сплесень — сращивал два троса. Площадка, на которой они находились, была насажена на ствол Монумента — огромной ребристой колонны, одиноко стоящей на Фиш-стрит-хилл, якобы на том месте, где в 1666 году начался Пожар. Во всяком случае, так гласила латинская табличка на цоколе, согласно которой поджог совершили паписты по наущению Ватикана. Таким образом, середину смотровой площадки занимал полый цилиндр — завершение лестницы и подставка для различных барочных украшений, приделанных сверху, чтобы добавить Монументу высоты. Филиппинцы, составившие обувь аккуратным рядком, чтобы работать босыми, по-матросски, обнесли центральный цилиндр несколькими кругами троса. Та же верёвка проходила через блок у Томбы на коленях. Человек сухопутный вообразил бы, что блок уже закреплён на верхушке Монумента, но филиппинцы были такелажные мастера и продолжали сплеснить, найтовить, стропить и клетневать. Они и без того работали споро, а при появлении человека в парчовом жилете заторопились ещё сильнее, так что евреи даже отступили на край площадки, боясь, как бы их не закололи свайкой, не пришибли драйком и не вплели их пейсы в турецкую оплётку.
Отец Джимми и Дэнни подошёл к восточному краю площадки, вытащил из кармана подзорную трубу, раздвинул её и осмотрел четверть мили Лондона от подножия Монумента до Тауэрского холма. Пятьдесят лет назад здесь были только тлеющие уголья и лужи расплавленного кровельного свинца. Соответственно всё теперешнее было возведено при Стюартах из кирпича, за исключением нескольких Реновых церквей, преимущественно каменных. Одна из них — святого Георгия — стояла так близко, что старший паломник мог бы спрыгнуть и расшибиться о её крышу. Однако церковь святого Георгия интересовала его лишь как ориентир. Подняв трубу, он увидел прямо перед собой церковь святой Марии на холме, в пяти с чем-то сотнях футов от цоколя Монумента. На её куполе сидел малый с подзорной трубой; он оторвал трубу от глаза и помахал рукой. Жест выглядел приветствием, не предупреждением, так что сектант в парчовом жилете, удостоверившись, что на крыше этой церкви, рядом с медной бадейкой, лицом к улице (Сент-Мэри-хилл) стоит арбалетчик, перевёл взгляд на несколько градусов правее. Там, за зданиями на Сент-Мэри-хилл, высилась церковь Дунстана на востоке, и на её крыше тоже находились посторонние. Две церкви разделяла всего сотня ярдов, а ещё сотней ярдов восточнее стояло другое массивное здание, на крышу которого сходным образом проникли арбалетчики и прочие незваные гости. Это был Тринити-хауз, гильдия или клуб лондонских лоцманов. Надо думать, сейчас на нижних этажах пьяные отставные кормщики, прихлёбывая херес, гадали, кой чёрт кто-то топочет у них на крыше.
Левее, футах в пятистах ближе, он видел церковь Всех Душ с прилегающим к ней кладбищем. Церковь выглядела донельзя мирно, если не считать одинокого часового на колокольне. К кладбищу по Тауэр-стрит двигалась похоронная процессия.
Дальше начинался Тауэрский холм, открытый гласис между Лондоном и рвом Тауэра: место публичных казней, плац для муштры и лужайка для пикников, если можно назвать лужайкой бурую утоптанную землю. Сейчас на ней различались алые полоски — Собственный её величества блекторрентский полк отрабатывал манёвры. Солдаты были выстроены поротно, что позволяло сосчитать их даже без подзорной трубы: ровные ряды казались красными метками на глиняном черепке.
— Я насчитал двенадцать! Всего рот четырнадцать, первая на реке, двенадцать на холме, одна, как всегда, охраняет Тауэр. Сколько из этой роты на пристани, сосчитаете? Ладно, не отвлекайтесь, собирайте механизм… Где, чёрт возьми, мой волынщик? А, вижу, идёт по Уотер-лейн. Надо же… я, кажется, слышу дикие завывания волынки. Не повезло наместнику! А где мой пожар? — Подзорная труба двинулась влево, через весь Тауэр. Мелькнули северная стена и ров, затем — часть Тауэрского холма к северу от укреплений. Здесь город вытягивался языком, разрезая холм почти пополам. Крайние здания на Постерн-роу отстояли от рва не больше чем на вержение камня. Кварталы эти юридически подчинялись не Лондону, а Тауэру; здесь было своё ополчение, свои мировые судьи и даже своя пожарная команда. Про пожарную команду ему подумалось неспроста. Один из домов в Тауэр-хамлетс горел — судя по длинному шлейфу дыма, уже давно, но только сейчас огонь вспыхнул в полную силу, так что из окон вырвались оранжевые клубы. Немедленно вызвали пожарных, которые сутками просиживали в тавернах, якобы на посту. Однако их превосходили численно и даже частично опережали зеваки, желавшие просто поглазеть на горящий дом — вездесущая толпа.
— Мои люди! — умильно воскликнул человек в парчовом жилете. Он опустил подзорную трубу, несколько раз моргнул и впервые за несколько минут перевёл взгляд на то, что творилось у него под носом. На площадку с лестницы выбрался почти ослепший от пота великан-индеец, таща бадейку с шёлковым шнуром. Один из филиппинцев влез на самую верхушку Монумента, двадцатью футами выше, и привязал себя к основанию фонаря. Он поймал бухту троса, брошенную ему снизу товарищем. Томба сплесневал, орудуя свайкой, как писарь — пером, и время от времени поглядывал вверх. Евреи на юго-восточном краю площадки образовали кагал и темпераментно гадали, что происходит. Бездействовали только Джимми и Дэнни: они по-прежнему в полном ошеломлении таращились на Тауэр.
— Проснитесь, черти полосатые, — крикнул старик в золотом жилете, — пока я не подошёл и не выбил вам пыль из черепушек!
Он не успел добавить ещё нежностей, потому что внимание его привлекло нечто на Темзе.
Ниже моста, у водореза четвёртой опоры была пришвартована развалюха-баржа. Чуть ближе к Гавани снимался с якоря шлюп (в чём не было ничего примечательного) и одновременно выдвигал орудия, что выглядело уже страннее; более того, матросы на корме готовились поднять синий флаг с золотыми королевскими лилиями.
Однако старик в парчовом жилете смотрел не столько на шлюп, сколько на запряжённый восьмёркой воз, въехавший на мост со стороны Саутуорка: в таком могли бы доставлять плиты из каменоломни. Груз был накрыт старым холстом; спереди и сзади шагали лихие молодцы — если они оставались верны духу своей профессии, то попутно обчищали витрины лавок, карманы и кошельки, словно саранча, движущаяся через поле спелой пшеницы. Когда весёлая процессия достигла противопожарного разрыва на середине моста, какой-то малый спрыгнул с воза, подбежал к парапету и, нагнувшись вниз, несколько раз взмахнул жёлтой тряпицей. Взгляд его был устремлён на четвёртый водорез. Там блеснула сабля, разрубая швартов. Баржа начала медленно дрейфовать с отливом.
— Детки мои. Голубчики, — сказал человек в парчовом жилете, затем вновь повернулся к сыновьям: — Каждый мошенник в радиусе мили делает мне одолжение, кроме вас, обалдуев. Знаете, сколько времени я копил те одолжения, что трачу сейчас? Благодарность труднее добыть, чем деньги. Считайте, что я швыряю гинеи в море. Зачем, спросите? Ради вас исключительно, хочу раздобыть вам маменьку. — Голос его стал сиплым; лицо обмякло и на нём не осталось следов гнева. — Вылупились на Тауэр, будто не видали минаретов Шахджаханабада! Напомнили мне меня самого, когда мы с Бобом мальцами впервые сунулись в город. Вам, может, и есть на что подивиться, вы ведь занимались другими делами и, надо сказать, поработали на славу. А у меня это место в печёнках сидит. Да, ваш отец основательно изучил Тауэр, хоть никогда там не был. Собаку на нём съел, как мог бы выразиться наш друг лорд Жи. Шутка ли, для человека, так мало склонного к учению! Много часов поил я ирландскую шваль из здешнего гарнизона, знающую все ходы и выходы. Засылал художников рисовать ту или иную башню. Стоял здесь на ледяном ветру с подзорной трубой. Обхаживал служанок, поил и шантажировал стражников. Теперь я знаю Тауэр, как старый викарий — свой приход. Я знаю, каких узников держат под замком, а каких — выпускают на прогулки. Знаю, сколько получает констебль Тауэра на содержание состоятельного члена палаты общин и на члена палаты общин без средств. Знаю, какие пушки на пристани исправны, а какие не стреляют из-за плесени в лафетах. Сколько в Тауэре собак, сколько при хозяевах и сколько бездомных, и сколько из бездомных — бешеные. Какой узник у какого стражника живёт и в каком доме. Когда главный смотритель врат уезжает лечиться на воды, кто вместо него запирает Тауэр на ночь? Я знаю. А известно ли вам, что аптекарь должен получить патент от констебля, а цирюльник — должность неофициальная? Мне известно, потому что цирюльник тоже работает на нас. Всё это и бесчисленное множество другого я выяснил. И пришёл к выводу, что Тауэр — заурядный английский городишко с ветхой тюрьмой и церковью, а примечателен лишь тем, что здесь делают деньги, а самые заметные обитатели — сплошь лорды, осуждённые за государственную измену. Говорю вам сейчас, чтобы вы не впали в столбняк потом, увидев это воочию. И ещё, чтобы вы перестали пялить глаза, сочли, наконец, солдат на пристани и собрали ракету, чёрт подери!
Джимми и Дэнни начали выходить из прострации при упоминании бешеных псов — даже люди, живущие в постоянной опасности, склонны внимать определённого рода предупреждениям. Слово «ракета» встряхнуло их, как верёвка палача. Джимми сбросил плащ на каменную площадку. Несколько мгновений казалось, что Дэнни совершает братоубийство, хотя он всего лишь перерезал верёвки.
— Дьявол! Надо было мне меньше болтать, больше смотреть, — сказал их отец, обозревая в подзорную трубу крыши домов. — Покуда я трепал языком, ребята протянули тросы.
Паучья нить соединяла теперь церковь Марии на холме с церковью Дунстана на полях, а ту — с Гильдией лоцманов. Старик удачно навёл трубу на Тауэр-стрит, как раз когда над ней пролетала арбалетная стрела. Она вонзилась в медную крышу церкви Всех Душ. В следующий миг босой темнокожий человек подобрался к ней и начал странную пантомиму. Он тянул шёлковую бечёвку, такую тонкую, что в подзорную трубу её было не различить. Она шла от крыши Гильдии лоцманов и постепенно утолщалась; если бы старик в парчовом жилете набрался терпения, то вскоре смог бы её увидеть.
Он повернул трубу к прилегающему кладбищу, где похороны приняли зловещий оборот: крышку гроба откинули, под ней оказался шлемоподобный предмет с торчащей из основания длинной палкой. В ногах гроба стоял бочонок с шёлковым шнуром.
Ещё чуть-чуть левее: Тауэрский холм. Алые шеренги исчезли! Солдаты ушли. Старик обвёл трубой холм и нашёл их там, где рассчитывал: они маршировали в сторону дыма и огня. А как же иначе: горело неподалёку от полковых конюшен. Протокол лондонских пожаров был так же чёток и неизменен, как протокол коронаций: сперва прибывает пожарная команда, потом толпа и, наконец, солдаты, чтобы её разгонять. Всё по традиции.
Он опустил трубу и взглянул на сыновей — выполняют ли те свою часть плана. И впрямь, они уже закрепили посох в основании механизма и прислонили его к парапету, направив в сторону церкви святой Марии на холме. От основания палки тянулись несколько ярдов стальной цепи, привязанной к свободному концу троса, проходящего над бадейкой, которую принёс индеец. Всё как задумано. Старик взглянул вниз и увидел, что воз подъехал к основанию Монумента. Повернулся к реке, проверяя, что там, но обзор ему загородил худой человек в длинной одежде, который вышел с лестницы, даже не запыхавшись.
— Тысяча чертей, ребята, к нам большое начальство!
В ответ — презрительное фырканье Джимми и Дэнни.
Человек в длинной одежде откинул капюшон, явив взглядам чёрные с проседью волосы и немодную, но безусловно красивую эспаньолку.
— Добрый день, Джек.
— Скажите лучше: «Бонжур, Жак», отец Эд, чтобы заложники увидели вашу французистость. И заодно перекреститесь несколько раз, чтобы подчеркнуть свою католичность.
Отец Эдуард де Жекс с удовольствием перешёл на французский и повысил голос:
— До конца дела у меня будет ещё не один повод перекреститься. Мон Дьё, это все заложники, каких вы сумели взять? Они же евреи.
— Знаю. Как свидетели они тем более ценны, что не питают пристрастия ни к одной из сторон.
Нос отца Эдуарда де Жекса являл собой великолепную несущую конструкцию для ноздрей, которыми можно было втягивать пробки. Сейчас он пустил их в ход, засопев на евреев, потом сбросил плащ, так что те увидели иезуитскую рясу с распятием на груди, чётками и прочими католическими регалиями. Евреи, пребывавшие до сих пор в блаженной уверенности, что возня с тросами — часть работ по рутинному поддержанию Монумента, теперь не могли решить, изумляться им или трепетать. «Мы пришли полюбоваться видами, — словно говорили они, — и не ждали инквизиторов».
— Где монеты? — спросил де Жекс.
— Когда вы поднимались, вас едва не сбил с ног индеец, спешащий вниз?
— Oui.
— Когда вы следующий раз его увидите, он будет с монетами. А теперь, если позволите, я хотел бы взглянуть на реку.
Джек обошёл де Жекса и поднял подзорную трубу, но тут же вновь опустил её за ненадобностью. Баржа дрейфовала с отливом и преодолела примерно треть расстояния до Тауэрской пристани. На палубе шли уже знакомые манипуляции с верёвками и ракетами. Что до шлюпа, он двигался к Тауэрской пристани, неся французский флаг на виду у всего Лондона. Если бы Джек удосужился глянуть в подзорную трубу, он увидел бы тросы, кошки, мушкетоны и прочий абордажный инвентарь.
Оставался вопрос: видят ли это из Тауэра? Что, если Джек закатил банкет, на который никто не явится?
За его спиной де Жекс, как всякое надзирающее лицо, задавал дурацкие вопросы:
— Джимми, что ты думаешь?
— Думаю, слишком много зависит от того, как всё повернётся в Тауэре, — буркнул Джимми.
Де Жекс обрадовался случаю поддержать маловеров пастырским словом:
— Да, с виду Тауэр неприступен. Однако тебе, как человеку неграмотному, недостаёт исторической перспективы. Знаешь ли ты, Джимми, кто был первым узником Тауэра?
Джимми подумал, не столкнуть ли де Жекса с площадки, но рассудил, что ответить, пожалуй, проще.
— Нет, — буркнул он.
— Его святейшество Ранульф Фламбард, епископ Даремский. А знаешь ли ты, Джимми, кто первый бежал из Тауэра?
— Понятия не имею.
— Ранульф Фламбард. То было в лето Господне тысяча сто первое. С тех пор мало что изменилось. Из Тауэра не бегут не потому, что он так надёжно охраняется, а потому, что узники, английские джентльмены, считают неприличным его покидать. Если бы Тауэр охраняли французы, наша затея была бы обречена на провал.
— Смотрите, всё-таки они не спят, — вставил Джек. — Вон, алые мундиры на пристани. Тревогу подняли.
— Отлично, — промурлыкал де Жекс. — Значит, русский и шотландец могут осуществить то, о чём англичане не смели и помыслить.
Шлюп «Аталанта», у берегов острова Грейн
конец дня
К тому времени, как они в следующий раз увидели Барнса, «Надежда» осталась далеко позади. Отлив продолжался: вода убегала с такой скоростью, что грозила схлынуть совсем, оставив шлюп на обнажившемся дне Темзы. Река сужалась на глазах, оголяя серо-бурые отмели. В нескольких милях по левому борту был виден Саутенд, увязший в илистой плоскотине. Однако главенствовал в этой картине океан, занимавший теперь примерно четверть обзора.
Справа в Кентских болотах петляла широкая река, почти безуспешно силясь пробиться к стремительно отступающей Темзе.
— Это Янлет, — объявил полковник Барнс. — Всё, что за ним — уже остров Грейн.
— Как может река отделять остров? — спросил Даниель.
— Такие вопросы — наказание нам за то, что мы взяли с собой натурфилософов, — вздохнул Барнс.
— Сэр Исаак тоже спросил?
— Да, и я отвечу вам так же. — Барнс, развернув карту, провёл пальцем по S-образному изгибу Янлета до верховий, где с ним соединялся отросток другой реки, текущей в противоположную сторону и впадающей в Медуэй на другом берегу острова.
— Здесь тяготение словно смеётся над нами — кто объяснит направление этих рек? — задумчиво пробормотал Даниель.
— Может, Лейбниц? — тихо отвечал Барнс.
— Значит, и впрямь остров. Тогда возникает следующий вопрос: как ваши люди на него переправятся? Насколько я понимаю, такова их задача.
Барнс грязным ногтем провёл по дороге, идущей от Грейвзендской пристани на восток к основанию меловых холмов. Там, где Темза делала петлю, огибая головку молотка, дорога сворачивала на юг, чтобы напрямик пересечь его узкую рукоять по более высокому и сухому месту.
— Вот здесь они должны были нас обогнать, — сказал Барнс. — А вот мост — единственный — через Янлет на остров Грейн.
— Как человек военный, вы с особым нажимом отмечаете, что мост один.
— Как человек военный, я на сегодня им завладел, — сообщил Барнс. — Мои люди перешли его и поставили пикет со стороны острова. — Он взглянул на часы, убеждаясь, что не поторопился с этим утверждением. — Теперь Джек и его люди не смогут уйти сушей. А если они попытаются уйти морем — там будем мы.
Из карты ничего больше узнать было нельзя, и Даниель поднял голову. Он увидел прямоугольную башню на чём-то вроде сложенного из камней кургана, примерно в миле впереди.
В прилив Шайвский утёс, одиноко встающий из вод над морскими вратами Англии, вероятно, производил впечатление если не чарующее, то угрюмо-величественное. Однако сейчас он просто торчал посреди обнажившейся илистой равнины размером с Лондон.
— Если Джек достоин своей славы, у него наверняка есть корабль — возможно, побольше и получше нашего, — сказал Даниель не столько из искренних опасений, сколько из желания подначить Барнса.
— А вы посмотрите, что там вдали! — воскликнул Барнс.
Даниель посмотрел за островок и увидел, что в миле-двух дальше снова начинается вода. Ему потребовались секунды две, чтобы догадаться: это устье Медуэя. На дальнем берегу стояла система укреплений с рыбачьей деревушкой у подножия — Ширнесс.
— Если Джек попытается бежать во Францию, нам довольно будет дать сигнал Ширнесскому форту. Остальное — забота Адмиралтейства, — рассеянно проговорил Барнс, наводя бронзовую подзорную трубу на Шайвский утёс. — Впрочем, до этого не дойдёт. Видите, там есть фарватер для доставки припасов и воды, и Джек его углубил, чтобы можно было подходить на всё больших и больших кораблях. Но в сизигийный отлив там не пройдёшь даже на шлюпке. Джек остался на мели.
Примерно тогда же, когда Шайвский утёс показался из-за острова Грейн, ветер задул с правой скулы. Последние несколько минут матросы разворачивали паруса. Это маскировало действия сигнальщиков, которые (насколько мог судить Даниель) флажками передавали какие-то указание драгунам. Короче, наступило затишье — вряд ли надолго. Следующая возможность поговорить с Барнсом могла представиться не скоро.
— Насчёт Роджера не беспокойтесь, — сказал Даниель.
— Простите, сэр?
— Насчёт маркиза Равенскара. Не беспокойтесь. Я отправлю ему записку.
— Какую именно?
— Ну, не знаю. «Дорогой Роджер, страшно рад был услышать, что вы собираете армию. Какое совпадение! Я тоже и уже пригласил полковника Барнса главнокомандующим. Надеюсь, мы будем союзниками. Ваш собрат по оружию, Даниель».
Барнс рассмеялся было, но настолько не верил своим ушам, что сдержал смех и покраснел до ушей.
— Буду премного обязан, — сказал он.
— Пустяки.
— Если мои люди пострадают из-за политических…
— Исключено. Болингброк будет доживать свои дни во Франции. Придут Ганноверы, и тогда я распишу принцессе Каролине вас и ваших людей в самых лестных выражениях.
Барнс поклонился, потом сказал:
— Или наоборот, в зависимости от того, что будет в следующий час.
— Всё будет превосходно, полковник Барнс. Последний вопрос, пока мы не вступили в бой…
— Да, доктор?
— Ваш начальник просил мне что-нибудь передать?
— Простите?
— Преступный тип, который подошёл к вам сегодня на Тауэрской пристани?
— Ах да, — улыбнулся Барнс. — Рослый, темноволосый и угрюмый — отличный бы вышел драгун. Сказал что-то, что я не совсем понял. Видимо, так и задумывалось. Просил передать вам, что это сети.
На десять секунд Даниель окаменел.
— Вам нехорошо, доктор?
— Ветер с моря холодноват.
— Я принесу одеяло.
— Нет, стойте… Так… он и сказал? «Это сети»?
— Слово в слово. Можно полюбопытствовать, что это значит?
— Что нам надо возвращаться в Лондон.
Барнс рассмеялся.
— С какой стати, доктор?
— Потому что это ловушка. Разве вы не видите? Они откуда-то… Джек откуда-то знает.
— Что знает, доктор?
— Всё. Он заманил нас сюда.
Барнс на мгновение задумался.
— Вы хотите сказать, что русского заслали?
— Вот именно! Иначе с чего бы он рассказал так много и так быстро?
— Потому что Чарльз Уайт зажал ему яйца в тиски?
— Нет, нет, нет. Уверяю вас, полковник Барнс…
— Чересчур сложно, — был вердикт Барнса. — Скорее преступный тип на жалованье у Джека и рассчитывал, таким образом, нас остановить.
Барнса было не переубедить. Даниель совершил ошибку, сначала внушив ему надежду, а затем попытавшись возбудить страх. Если отсутствие надежды толкает людей на отчаянные поступки, то её преизбыток заставляет их делать глупости противоположного толка. Хитрая штука, надежда, и управляться с нею следовало бы кому-нибудь поопытнее Даниеля.
С берега их приветствовали ружейным выстрелом. Шкипер велел убавить паруса, и шлюп сразу замедлился. От острова Грейн отвалил ял. Новость мгновенно достигла шканцев. Через несколько секунд на юте появились Чарльз Уайт и сэр Исаак Ньютон.
Ял доставил лейтенанта Собственного её величества блекторрентского гвардейского полка. Гребли рыбак — хозяин реквизированного ялика — и его сын. Оба выглядели не столько удрученными таким поворотом событий, сколько ошарашенными.
Лейтенант привёз груз слов, который с немалой гордостью предъявил на юте. Слова эти были приняты как ценные сведения всеми, кроме Даниеля, который видел за ними лишь очередной трюк Джека-Монетчика.
Суть сводилась к тому, что достигнут блистательный успех. Драгуны во весь опор пронеслись через мост на полчаса раньше намеченного времени и оставили там взвод. Остальные заняли позиции на берегу, обращённом к Шайвскому утёсу. Дозорных разместили на колокольне церкви святого Иакова. Она стояла на единственном бугорке острова Грейн, который по такому случаю мог считаться холмом. Там же устроили штаб. Большая часть драгун ждала у церкви, готовая либо остановить побег из башни, либо скакать туда верхами и штурмом брать Джеков оплот. Всё это видели обитатели башни, которые сожгли какие-то документы (по крайней мере, так можно было истолковать идущий оттуда дым) и попытались скрыться по воде.
Со стороны островка, обращённой к морю (там, где фарватер был углублён), стояло судёнышко футов шестидесяти в длину, выстроенное по образцу голландского рыболовецкого гукера. Даниель, сын контрабандиста, знал, что это идеальное судно для доставки незаконных грузов через Северное море. Дрейк предпочитал более плоскодонные, поскольку обычно разгружался в мелких прибрежных речушках, но раз у Джека был собственный фарватер, то ему годились и суда с большей осадкой, как этот гукер. Обитатели башни что-то поспешно туда перегрузили, подняли паруса и попытались выйти по фарватеру в открытое море. Однако гукер немедленно сел на мель — на расстоянии полёта стрелы от башни. Тогда они выбросили за борт часть груза, судно снялось с мели, и тут же ветер, дующий с траверза, снёс его к краю фарватера, где оно село на мель снова, уже намертво. Таким образом, фарватер освободился: беглецы спустили вельбот, немногим больше баркаса, зато с мачтой и парусом. Вельбот на вёслах вывели в открытое море и подняли парус. Всё это наблюдали с церкви святого Иакова. Впрочем, наблюдать осталось недолго: через час наступала темнота.
Окончив рассказ, лейтенант замолчал в ожидании приказа. Мистеру Чарльзу Уайту, который, очевидно, командовал экспедицией, достало вежливости взглянуть на Барнса — мол, распорядитесь сами.
Барнс надолго задумался, к изумлению, а затем и досаде Чарльза Уайта и сэра Исаака Ньютона. Наконец он пожал плечами и отдал приказ. Лейтенанту было предписано возвращаться на берег и вести солдат на Шайвский утёс, «Аталанте» — поднять паруса и преследовать вельбот, по пути спустив шлюпку, чтобы арестовать тех, кто остался на гукере, и спасти судёнышко до того, как его унесёт приливом.
Тут же засуетились все, кроме Чарльза Уайта, который с ироничным вздохом облегчения закатил глаза: о чём полковник Барнс столько размышлял? Бесценные секунды потрачены на обдумывание очевидного.
Отдав приказ, Барнс немедленно повернулся спиной к Уайту и подошёл к Даниелю.
— Вы были правы, — сказал он. — Это… как там выражается ваш приятель? Сети.
— Что заставило вас переменить взгляд, полковник Барнс?
— То, что мне не пришлось принимать решение. Приказ мог бы отдать идиот. — Он покосился на Уайта. — И чуть было не отдал.
— Вы намерены оставаться на шлюпе или отправитесь в баркасе?
— На деревянной ноге по грязи недалеко уйдёшь, — сказал Барнс.
— Даниель, ваше присутствие на Шайвском утёсе было бы мне полезно, — объявил сэр Исаак Ньютон, вступая в их разговор из-за спины Барнса. Он натягивал плащ. Рядом стоял на палубе сундучок, и по взглядам, которым Исаак награждал каждого, кто к нему приближался, Даниель заключил, что в сундучке какие-нибудь натурфилософские или алхимические орудия.
Барнс на мгновение задумался.
— С другой стороны, — сказал он, — я могу прыгать на одной ноге.
Дом наместника, Лондонский Тауэр
конец дня
К тому времени, как он добрался до спальни покойного наместника, пять крюков, заброшенных на верёвках, уже цеплялись за подоконники открытых окон. Ещё один крюк влетел через стекло, и осколок едва не лишил Макиена последнего глаза. Он повернулся, попятился к окну, высунул руку на ветерок и махнул несколько раз, пока не услышал снизу ликующие крики.
Полтора года назад Макиена взяли под стражу за убийство. Убитый был англичанин: виг, который посмеялся над Макиеном в кофейне, делая вид, будто не понимает его слов. Истицей выступила вдова: противница куда более грозная. Путём различных интриг она сумела превратить удар кинжалом в акт государственной измены. Напирая на то, что её покойный супруг был членом парламента, она убедила магистрата, что шотландский якобит-тори убил видного государственного деятеля по наущению врагов Англии. Таким образом, Макиен попал в Тауэр, а не в Ньюгейт. С тех пор он ни разу не ступил за Внутреннюю стену, зато теперь одним махом осуществил половину побега, высунувшись по пояс в окно.
Там был совершенно другой мир. Первым делом Макиен посмотрел на реку — страницу, которую одноглазому не так-то легко было прочесть, столько судов теснилось в Лондонской гавани. В детстве любой корабль казался Макиену чудом. Теперь, повоевав, он видел в каждом сгусток устремления, застывшее действие.
Скоро он различил треугольные паруса шлюпа и синий французский военно-морской флаг, а ниже, на палубе, солдат в синих мундирах. Для самых непонятливых шлюп теперь ещё и дал беспорядочный залп из всех своих фальконетов. Выстрелы, как знал Макиен, преследовали две цели. Во-первых, убедить гвардейцев на пристани, что противник — не мираж. Во-вторых, сообщить остальным участникам спектакля, что Макиен сорвал победу и выглянул в некое окно.
В Тауэре и на пристани должны были сейчас находиться семьдесят два рядовых, четыре капрала, четыре сержанта, два барабанщика и один лейтенант, то есть целая рота — минимальный гарнизон, необходимый, по мнению высших лиц, для охраны крепости.
Четверть этого количества — один взвод — обычно находилась на пристани, с наиболее уязвимой стороны Тауэра, куда любой мог попасть на лодке. Остальные три четверти были распределены по различным постам и караульным будкам у ворот, дамб и подъёмных мостов, у домов стражников, перед Башней сокровищ и тому подобных местах.
Стражников было около сорока. Они представляли собой рудимент преторианской гвардии, созданной Генрихом VII после победы на Босвортском поле, и формально считались солдатами — «копьями королевы». Однако Макиена они заботили куда меньше гвардейцев, поскольку находились каждый в своем доме, с узниками, к тому же были плохо вооружены и вообще не организованны как военная часть.
Обычно здесь же ошивались Чарльз Уайт и королевские курьеры — довольно опасные ребята, — однако сегодня они все отправились на увеселительную прогулку по реке.
В теории существовало ещё и ополчение Тауэр-хамлетс, но ему на сборы потребовались бы дни, а на то, чтобы привести в порядок затворы кремнёвых ружей — ещё больше. К тому же ополченцы жили в основном по другую сторону рва.
Был ещё старший канонир с четвёркой подчинённых; к такому часу он всегда до бесчувствия напивался. Один или два канонира сейчас при исполнении — то есть в подземелье (пересчитывают ядра), а не на бастионе с горящими пальниками в руках. Чтобы зарядить пушки и мортиры на пристани и произвести выстрел, требовалось куда больше людей. Обязанность эта лежала на гвардейцах. Когда давали салют в день рождения королевы или при встрече посла, к пушкам ставили чуть ли не весь полк.
Таким образом, оставалось выяснить, где оставшиеся пятьдесят с небольшим гвардейцев, и вывести их из строя.
Что Руфус Макиен хотел услышать, он услышал теперь: барабанную дробь с пристани, означавшую «Тревога! Тревога!» Впрочем, важно было другое: слышат ли её гвардейцы на Минт-стрит и во Внутреннем дворе за звоном колоколов, сзывающих на пожар?
Проверить это легче всего было из дома наместника. Макиен вышел в коридор. Почти сразу впереди была лестница. Энгусина (рыжеволосая девица) поднималась по ступеням, одной рукой придерживая подол, а другой сжимая пистолет. Её веснушчатое лицо раскраснелось, как будто с ней кто-нибудь заигрывал.
— Часовые испужались! — объявила она. — Припустили, чисто куропатки при звуке выстрела.
— Выстрел, да, а вот слышат ли они барабан?
Макиен нырнул в мезонинчик и в один прыжок оказался у окна, выходящего на плац. То, что он увидел, его порадовало.
— Всё красно, — объявил он. — Началось.
Как знал Макиен, наблюдавший бесконечные учения через окно тюрьмы, по тревоге дежурная рота должна выстроиться на плацу. Примерно это он сейчас видел, хоть и из другого окна. Один взвод был почти в полном составе, из разрозненных солдат поспешно собирались ещё два отделения.
То, что Руфус Макиен только что заколол наместника в его собственной гостиной, ничего не изменило и не могло изменить, даже если б стало известно. Солдаты действовали по регламенту, как и требовалось на данном этапе плана. Наместник (Троули), полковник (Барнс) или первый сержант (Шафто) могли бы отдать разумный приказ и погубить затею, но все трое, в силу различных обстоятельств, такой возможности не имели. Кроме них высшими полномочиями обладали констебль Тауэра (начальник покойного Юэлла Троули) и ещё два должностных лица (его заместители). Констебль лечился на водах — выводил из организма три дюжины несвежих устриц, съеденных вчера за обедом. Обоих заместителей Троули под тем или иным предлогом выманили в Лондон. Поэтому охрана Тауэра металась, как обезглавленная курица, чье тело силится выполнить указания головы, уже брошенной псам.
Старший сержант стоял посреди плаца, благодушно костеря каждого подбегавшего солдата. Они появлялись с разных сторон и выстраивались, как рыба в косяк, алые на зелёном. У Руфуса Макиена встала перед глазами война: славная рубка при Бленхейме, прорыв французских линий в Брабанте, переправа через болото в Рамийе, разгром французской кавалерии при Уденарде. Тысячи историй о подвигах, похороненные в головах ветеранов. Часть его существа рвалась выйти на зелёный плац, возглавить войско — превосходное войско! — и повести на пристань. Однако мешал статус государственного изменника и заклятого врага Англии. Прогнать наваждение оказалось совсем легко — довольно было повернуться к рыжеволосой девице и вспомнить, как он отнял её от холодной материнской груди, завернул в кровавое одеяло и унёс, заходящуюся от крика, в ущелье над Гленко.
Сержант обратил багровую физиономию к югу. Макиен на миг подумал, что его увидели. Однако сержант смотрел не на дом наместника, а в сторону Холодной гавани — нет, скорее в сторону Кровавой башни, ближайшего входа с Уотер-лейн. Макиен не видел, на что глядит сержант; судя по молчанию и стойке, тот выслушивал приказ — надо думать, от офицера, командующего ротой. Отлично. Лейтенант, услышав пушечные выстрелы и тревогу, кинулся смотреть, что происходит на пристани. Увидев невероятное, немыслимое зрелище, которое, тем не менее, бесполезно было отрицать — французских моряков, палящих из фальконетов, — он вбежал на плац самым коротким путём, через арку Кровавой башни, и скомандовал всему наличному войску: «За мной!»
Сержант на плацу исполнил приказ единственным известным ему способом: методично. С медлительностью, которая бесила Руфуса Макиена не меньше, чем растерянного лейтенанта в арке Кровавой башни, он вытащил и поднял шпагу, прокричал катехизис команд, по которому взвод и три отделения вытянулись во фрунт, взяли ружья на плечо и повернулись кругом, затем, наконец, опустил шпагу — шагом марш. И лишь когда они набрали скорость, скомандовал: «Бегом!»
Макиен вернулся в спальню на южной стороне. Энгусина уже втянула в дом крюки и закрепила верёвки за массивное наместничье ложе. Её основательная филейная часть торчала из оконной рамы, как яйцо из табакерки: Энгусина, перегнувшись вниз, втягивала что-то на верёвке. Руфус Макиен выглянул в соседнее окно. Колонна солдат как раз показалась из основания Кровавой башни. Короткий бросок влево, через улицу — и они уже у Башни святого Фомы, через которую шёл прямой ход на пристань.
Что-то зазвенело. Опустив взгляд, Макиен увидел бьющийся о стену клеймор. Энгусина тащила его на верёвке. Клинок защищали только ремни, на которых его закидывают за плечо. Ножен для клейморов не делают — их не носят, ими рубятся. Этот конкретный клеймор пережил и худшие испытания; Макиена ничуть не огорчило, что он бьётся о стену, высекая искры.
Людей под стеной была ровно дюжина, с виду — обычные забулдыги. Точнее, обычные послевоенные забулдыги, ибо лондонская толпа заметно помолодела и погрубела с тех пор, как распустили армию. Часть ветеранов подалась в солдаты удачи или морские разбойники, а эти двенадцать счастливчиков прочно обосновались в питейных заведениях у основания Колокольной башни и прилегающей куртины — прямо под окнами, из которых выглядывали сейчас Руфус и Энгусина.
— Подарочек на радость тебе, дядюшка! — крикнула Энгусина, втаскивая клеймор в спальню. Затем о подоконник звякнуло железо: меч был привязан к лестнице из верёвок и металлических перекладин. Энгусина повернула его так, чтобы Макиен окровавленным кинжалом рассёк шпагат. Покончив с этим, шотландец бросил клеймор на кровать — здесь, в комнате с низким потолком, им нельзя было размахнуться даже на пробу — и помог закрепить лестницу за тюдоровский платяной шкаф размером с ящик, в каком на корабле держат пушечные ядра. Дальше начиналась самая рискованная часть плана.
Окна располагались на виду у всей пристани. То, что делалось до сих пор — забрасывание крюков и втягивание лестницы, — прошло незамеченным за переполохом. Солдаты, чье внимание приковал вооружённый шлюп, могли обернуться и увидеть — а могли не увидеть. Но то, что предстояло сейчас, никто пропустить не мог.
Макиен втянул на верёвке связку ружей и принялся заряжать одно порохом и пулями, которые Энгусина втащила раньше. Небольшое огневое прикрытие не повредит. Однако по-настоящему выручит только кавалерия.
— Ах, что за храбрецы! — ворковала Энгусина. — Где же набрали столько бравых французских солдатиков?
— Погорелый театр, — отвечал Макиен. — Эти французские солдаты — не бравые, не французские, не солдаты и не храбрецы. Они актёры и думают, что их наняли представить спектакль для развлечения голландского посла.
— Не может быть!
— Так и есть.
— Матерь Божья! Ну и огорошат же их сейчас! — воскликнула Энгусина.
— Пли! — донеслось с пристани. Крик немедленно утонул в резких хлопках: десятка два солдат выстрелили одновременно. Наступила тишина, которую нарушали лишь отчаянные вопли актёров.
— Сейчас они повернут, — сказал Руфус Макиен. — Дьявол! Где моя конница?
Он уже зарядил ружьё и теперь шагал к окну. Больше всего ему хотелось посмотреть вправо, на башню Байворд и дамбу, однако осмотрительность требовала прежде взглянуть на пристань. Солдаты по-прежнему стояли к нему спиной, сержант, наблюдавший, как они перезаряжают, — боком. А вот барабанщик — тысяча чертей, барабанщик смотрел прямо на Макиена. Тот крепче стиснул приклад, но стрелять не стал; барабанщика он с такого расстояния, разумеется, уложил бы, но и внимание к себе привлёк тоже наверняка.
Хорошо уже то, что никто в него не целится. Макиен повернул голову вправо. Ярдах в полутора под соседним окном карабкался по лестнице один из завсегдатаев кабака на Уотер-лейн с мушкетоном за спиной; второй лез сразу за ним. Дальше вид загораживала Колокольная башня, которая, как и пристало бастиону, выдавалась вперёд, чтобы при штурме стен защитники могли обстреливать врага из бойниц. Макиен приметил движение за окошком не более чем в двадцати футах от себя. Однако то были длинные двадцать футов, в том смысле, что Колокольная башня представляла собой отдельное строение, не соединённое переходами с наместничьим домом. Руфус Макиен это знал. Узкое окошко принадлежало тюремной камере, отведённой для знатного узника; кто там сейчас, Макиен не помнил. Но при важном узнике должен состоять стражник, а какой стражник не выглянет в окно, услышав перестрелку на пристани? Руки его ходили вверх-вниз, что и приметил намётанный солдатский глаз Макиена. Иной человек в иных обстоятельства счёл бы, что стражник взбивает масло, онанирует или встряхивает игорные кости. Для Макиена это могло быть только одним — движением шомпола, забивающего пулю в дуло.
Из ружья через маленькое окно вбок целиться несподручно.
— Эй! — сказал Макиен нижнему из двоих на лестнице. — Кинь-ка мне пистолет и держись крепче.
Просьба была неординарная, однако Макиен умел говорить с таким выражением, что ему подчинялись беспрекословно. Через мгновение он уже поймал за рукоять летящий пистолет — в то самый миг, когда стражник распахивал раму. Макиен взвёл затвор, когда стражник выставлял свой пистолет в окно, и спустил курок мгновением раньше стражника. Прицелиться он, понятно, не успел: пуля задела оконную раму и унеслась, жужжа, как пьяная оса. Однако цель была достигнута: у стражника дрогнула рука, и пуля ударила в стену, не долетев до лестницы. Пока он перезаряжал, малый, бросивший пистолет, успел преодолеть последние ярды и юркнуть в комнату. В тот же миг что-то белое прочертило траекторию от Уотер-лейн до окна в Колокольной башне.
— Чёрт! — крикнул стражник.
Руфус Макиен поглядел вниз и увидел в дверях таверны лучника, который спокойно прилаживал на тетиву вторую стрелу. Он посмотрел на Макиена, словно ждал одобрения, но услышал только: «Дамбу видишь? Если моя конница, чёрт возьми, не…» — и треск крошащегося камня — пуля с пристани попала в стену рядом с головой Макиена. Тот рухнул на пол и на миг закрыл голову рукавом; судя по ощущениям, её с одной стороны исполосовали осколки камня.
Зато ответ на свой вопрос он получил: во внезапно наступившей тишине можно было различить грохот подков и железных ободьев по мощёной дамбе. Разумеется, то могли быть любые всадники и фургон. Однако волынщик под окнами, молчавший последние несколько минут, вложил всё сдерживаемое дыхание в басовую трубку и заиграл боевую песнь Макдональдов. Макиен не слышал её с кануна резни в Гленко, когда под эти звуки отплясывали завтрашние убийцы. Музыка входила не сквозь уши, а сквозь кожу, которая сразу пошла пупырышками, словно кровь — масло, вспыхнувшее огнём, и зубчатое пламя бежит от сердца по телу, пробивается через тёмные и неведомые закоулки мозгов. Так он понял, что скачут не просто всадники, а его родичи, братья, скачут, чтоб утолить жажду мести, бурлившую в них двадцать с лишним лет.
Энгусина и те двое, что взобрались по лестнице, дали по выстрелу. Когда шум в ушах рассеялся, Макиен услышал стук подков по дереву: его конница, следуя на звуки волынки, преодолевала подъёмный мост перед башней Байворд. Всадники неслись во весь опор, а значит, не видели причин натянуть поводья; следовательно, кабацкая публика выполнила свою роль — не дала опустить решётку.
Послышался как бы перестук молотков, комната наполнилась пылью. С пристани дали залп по окнам. Воспользовавшись тем, что стрелки сейчас перезаряжают, Макиен поднял голову над подоконником. Ещё двое шустро взбирались по лестнице. Взвод солдат, выстроенный теперь в шеренгу спиной к реке, перезаряжал; один рядовой, подстреленный, лежал на боку. Больше людей в красных мундирах на пристани не было; поскольку вражеский шлюп повернул прочь, надобность в них отпала. Лейтенант, вероятно, скомандовал возвращаться через башню святого Фомы. Сейчас солдаты должны выбегать на Уотер-лейн…
Стук копыт на улице. Макиен глянул отвесно вниз и увидел десяток всадников в килтах, рысью выезжающих из ворот, и, что ещё слаще, услышал, как за ними опускается решётка Байвордской башни, отрезая Тауэр от Лондона.
— Сзади чисто, — крикнул он им. — Впереди англичане — перебейте мерзавцев!
Не удосужившись взглянуть, как будет выполняться его приказ, он шагнул к кровати, схватил клеймор и, неся его перед собой, вышел из комнаты к лестнице.
В детстве он тысячи раз воображал своё мщение. Всякий раз оно представлялось делом простым и ясным: он клеймором выпускает Кемпбеллам и англичанам кишки. По счастью, между мальчишескими грёзами и сегодняшним их воплощением пролегли десять лет войны, научившие Макиена, что действовать надо постепенно.
Поэтому он не выбежал на плац в поисках англичан, которых надо рубить, а помедлил в дверях и, закидывая клеймор на спину, огляделся.
Плац был пуст, только один солдат бежал от казарм к воротам Кровавой башни.
Уже не бежит. Его уложили выстрелом — скорее всего из Холодной гавани. По плану человек десять должны были проникнуть во Внутренний двор и занять позиции, с которых простреливался бы плац и узкие проходы. Стражники, глядящие из окон своих домов, наверняка видели, как упал солдат, и поняли, что наружу соваться нельзя. Однако это не значило, что Руфус Макиен может выйти на плац. Любой стражник или случайный гвардеец точно так же подстрелил бы его из окна или из-за парапета. Плац оставался пока ничейной территорией.
— Мне надо знать, опущена ли решётка Кровавой башни, — проговорил он, по-прежнему думая вслух.
Сзади кто-то кашлянул. Макиен оглянулся и увидел полдюжины молодцов, раскрасневшихся и запыхавшихся (они только что вскарабкались по верёвочной лестнице и бегом спустились по каменной), тем не менее отменно крепких и готовых хоть сейчас в бой. Каждый держал заряженное ружьё.
— Простите, милорд, у нас для этого есть сигнал.
— А ты кто?
— Артиллерии сержант в отставке. Дик Мильтон, милорд.
— Тогда к окну, Мильтон, и скажи, как там с твоим сигналом.
— Вот, — отвечал Мильтон, взглянув через плац. — Видите, из церкви святого Петра видна Кровавая башня, а от нас видна церковь. Там девушка. Пришла вчера на похороны, осталась на ночь помолиться и на день — чтобы приглядывать за Кровавой башней. Видите жёлтую тряпицу в среднем окне? Значит, решётка опущена.
— Выходит, чистильщик освободил русского, — сказал Макиен, — а русский справился со своим делом. Вот человечище!
— Простите, милорд?
— Услышал бы — не поверил, что однорукий способен уложить столько врагов. Впрочем, с правого фланга его поддержала внезапность, с левого — паника, а они и сами по себе будут посильней Геркулеса. Ну что, ребята, готовы вспомнить своё ремесло?
Артиллеристы дружно грянули: «Да!»
— Тогда сосчитайте до пяти и за мной. — Макиен распахнул входную дверь и вышел на плац так спокойно, словно был наместником Тауэра и направлялся в церковь.
— Раз! — произнёс голос у него за спиной.
В окне одного из домиков показался дымок.
— Два!
Пуля просвистела, как тяжёлый шмель, взъерошила Макиену бакенбарду и разбила окно, через которое он только что смотрел.
— Три! — выкрикнули молодцы за исключением одного, вопившего от боли.
Дымки показались сразу в десятке неожиданных мест: стреляли из голубятен, из-за бочек в Холодной гавани, даже из казарм.
— Четыре!
Ещё одна пуля сделала выбоину на фасаде наместничьего дома, много выше человеческого роста.
— Гиль, — припечатал Руфус Макиен, но голос его утонул в эхе очередных выстрелов; спрятанные сообщники палили по стражникам, целившим в Макиена.
— Пять!
Трое выбежали из двери и, упав на колено, навели ружья на окна, за которыми засели стражники. В заклубившемся дыму было не видно, как появилась вторая тройка.
Руфус Макиен бежал на восток вдоль фасадов зданий, выходящих на плац. На полпути к Кровавой башне он хладнокровно повернулся спиной к плацу и посмотрел в окна: не торчит ли оттуда ружейное дуло, но увидел только лицо служанки в окне верхнего этажа. Здесь всё безопасно; тем не менее он взял ружьё на изготовку, поскольку гвардейцы или стражники могли затаиться где-то ещё. Вторая тройка залегла ярдах в двух позади него, чтобы стрелять через плац. Тем временем Энгусина и остальные молодцы прикрывали их огнём из верхних окон наместничьего дома. Первая тройка, бросив разряженные и ещё дымящиеся ружья, пробежала к Кровавой башне, миновав Макиена и вторую тройку артиллеристов, как раз когда те выпалили в неопределённом направлении.
В окне дома слева от Макиена мелькнул алый мундир. Шотландец развернул дуло в ту сторону, но гвардеец увидел его и упал на пол раньше, чем Макиен успел нажать на спуск.
Вторая тройка, точно так же бросив ружья, вскочила и вслед за товарищами припустила к Кровавой башне. Макиен двинулся за ними, но не бегом, а шагом, отчасти потому, что ждал ещё подкрепление из наместничьего дома. Артиллеристы не подвели: двое, а затем ещё двое перебежали к нему под выстрелами. Однако у Макиена была и другая цель: следить за домом, в котором укрылся гвардеец (или гвардейцы).
Из фахверковых домов, протянувшихся по южному краю плаца, наместничий был самым западным. Руфуса Макиена больше всего тревожил противоположный, восточный край, ближе к Кровавой башне. Он выдавался на луг в такой мере, что, на взгляд военного, представлял собой бастион. Между его восточной стеной и Кровавой башней располагался открытый пятачок футов пятнадцать шириной, то есть достаточно узкий, чтобы вести прицельный огонь. Гвардейцы, засевшие в этом доме, могли сорвать весь план касательно Кровавой башни.
За окном — ниже — снова мелькнул красный мундир. Гвардеец сбегал по лестнице!
Дверная ручка двигалась! Макиен смотрел, зачарованно, не больше чем с десяти футов. Дверь приоткрылась на полдюйма. Всё понятно: солдат видел двух пробежавших к Кровавой башне молодцов, но не видел Макиена. Тот внезапно представил события следующей минуты так ясно, как если бы они уже были в прошлом. Он положил ружьё и шагнул к двери, двумя руками нащупывая за спиной рукоять. Клеймор взмыл над головою в тот самый миг, когда дверь распахнулась и в неё выглянуло сжимаемое белыми руками ружьё.
Макиен опустил рукоять так быстро, как только мог, однако куда быстрее двигалось остриё. Четырёхфутовый клинок со свистом, как бич, рассёк воздух. Произошло нечто нехорошее, и ружьё упало на землю. Лезвие, перерубив гвардейцу руку, вонзилось в край двери, отщепило аккуратный клинышек и застряло, наткнувшись на гвоздь. Гвардеец исчез внутри — Макиен даже не видел его лица. Тут же рукоять меча едва не вырвалась из рук, поскольку дверь потянули на себя. Лезвие ударилось о косяк и выскочило из древесины так резко, что клеймор, содрогнувшись от острия до рукояти, спружинил вверх. Макиен поймал его за крестовину и услышал, как задвигаются щеколды — из чего заключил, что за дверью есть ещё гвардеец.
Макиен прижался к стене дома. Несколько мгновений ушло на то, чтобы убрать клеймор за спину и оценить расстояние до ружья. Стражники стреляли по нему через плац — однако пуля при такой дистанции учитывает пожелания, а не выполняет приказ. Пули били по окнам у Макиена над головой, вероятно, доставляя больше хлопот гвардейцам, чем ему.
Макиен подбежал, схватил ружьё и бросился за угол дома, на открытое пространство перед Белой башней. Теперь, чтобы стрелять по нему, гвардейцы должны были перебежать к другим окнам и, возможно, даже в другие комнаты.
Тактика сработала, как нередко срабатывает самая простая и дешёвая тактика. В окне первого этажа появился гвардеец и тут же замер, поняв, что подставился врагу. Это дало Макиену время навести ружьё ему в грудь. Но тут распахнулось окно верхнего этажа, и там тоже мелькнул алый мундир.
Очень быстрый расчёт: солдат в окне первого этажа — верная цель, осталось только спустить курок. Солдат наверху всё равно выстрелит, что бы Макиен ни делал, а вскидывать ружьё и стрелять в него значит почти наверняка промахнуться. Он нажал на спуск.
Что произошло дальше, можно только гадать, потому что видел он только пороховой дым. Через мгновение наверху грянул выстрел, и земля под ногами вздрогнула. Макиен решил, что это удар пули в его тело передался через ноги земле; постояв ещё миг, он почувствует первые жаркие клочья боли, а кровь, разливаясь по лёгким, вызовет непреодолимое желание прочистить горло.
Однако ничего этого не произошло. Дым рассеивался. Макиен поднял глаз к окну из чисто профессионального интереса: ему хотелось взглянуть в лицо солдату, промазавшему с такого расстояния, насладиться позором англичанина, когда тот поймёт, что попал в землю.
Увидел же он чудище, подобное кошмарам Мальплаке, которые теснились в его мозгу, как головы медведей и кабанов в мансарде охотника, мёртвые днём, но оживающие каждую ночь, чтоб терзать своего убийцу. Чудище вывалилось из окна и упало на голову. Даже здесь оно не приняло приличествующую смерти позу: тело было насажено на короткую пику, которая выпирала из грудной клетки, словно приживлённая человеку чужая кость.
Макиен поглядел в окно, но никого там не заметил: очевидно, пика влетела снаружи. Кроме него во дворе никого не было, а сам он никаких пик вроде бы не кидал. Значит, сверху. Он повернулся к Кровавой башне и скользнул взглядом по отвесной сорокафутовой стене к парапету.
Здесь, в просвете между двумя зубцами, силуэтом на фоне неба, стоял огромный человек с развевающейся бородой. Люди поменьше суетились среди пушек, стоящих на крыше башни: разворачивали их к реке, вталкивали под казённые части орудий толстые подъёмные клинья, чтобы стрелять не по кораблям, а по солдатам на пристани.
Одной рукой бородач держал такую же пику, а вторую поднял в приветствии. Это была не рука, а зазубренный крюк в клочьях чего-то мокрого, наверное, одежды или волос. Им бородач указывал в сторону от реки, от артиллеристов, на сердце Лондонского Тауэра, Белую башню, встающую над крепостью, над рекой и над Сити.
Он трижды ткнул в её сторону крюком.
Герой Жи не нуждался в уговорах. Бросив разряженное ружьё, он выхватил из-за спины клеймор и под свист пуль устремился к воротам Холодной гавани.
Как всякий уважающий себя осуждённый на казнь изменник, Макиен немало времени провёл, придумывая эффектный побег из Тауэра. Он знал все выходы из крепости. Сегодня ему предстояло думать о них как о входах.
Во Внутренний двор вели пять ворот. Одни — в юго-восточном углу, возле Кирпичной башни, где Монетный двор, сейчас были не в счёт. Оставались четыре входа с Уотер-лейн. Два из них приходились на Кровавую и Архивную башни, которые стояли так близко, что составляли практически одно бесформенное здание. Человек, идущий на восток по Уотер-лейн, увидел бы сперва ворота Кровавой башни, и только обогнув Архивную башню — соседние. Однако два входа, расположенные на столь небольшом расстоянии, отличались решительно во всём. Первый представлял собой широкую, красивую готическую арку, ведущую прямо на плац через двор, где стоял Макиен. Благодаря русскому, её теперь перекрывала массивная чугунная решётка. За ней неподвижно лежали несколько гвардейцев. Они двинулись с пристани, намереваясь пройти через арку, но тут впереди опустилась древняя решётка, и в тот же миг на них налетели верховые шотландцы с обнажёнными саблями. Когда конница атакует пехоту, исход предрешен, если только пехотинцы не вооружены пиками. В экипировку тауэрской гвардии пики не входили.
Второй вход являл собой узкую потерну в полукруглом первом этаже Архивной башни. Отсюда можно было попасть в L-образную галерею, идущую через Холодную гавань почти к самой Белой башне. Через неё коннице не проехать. Если всё идет по плану, Том-чистильщик засел за окном на переломе L с большим количеством заряженных ружей и пистолетов. Никто из защитников Тауэра этим ходом не пройдёт. Однако кое-кто из атакующих должен был им пробежать.
Макиен припустил на север по краю плаца: склады Холодной гавани были от него слева. Чёртовы стражники всё ещё палили из окон, но не по нему. Когда Макиен обогнул последний склад и, оказавшись в безопасности, смог наконец оглядеться, то стала ясна и причина. Как только несколько человек, пробившись на Кровавую башню и прилегающую куртину, навели пушки её величества на пристань, тамошней охране осталось только побросать ружья в реку и сдаться. Никто больше не стрелял в людей, лезущих по верёвочной лестнице в наместничий дом. Поэтому всё новые и новые артиллеристы бежали оттуда к Кровавой башне, чтобы взобраться на укрепления и встать к пушкам. По ним-то и стреляли стражники, которым, впрочем, не давали высовываться стрелки, разместившиеся по южному краю плаца.
Макиен услышал позади скрип петель и повернулся спиною к плацу, который всё равно был уже прочитанной главой.
Последние несколько минут он посвятил тому, чтобы обогнуть северный край Холодной гавани и попасть из Внутреннего двора (плаца для гвардейцев и деревенского луга для стражников) в ещё более внутренний двор. Пространство в десять или пятнадцать шагов, отделяющее Холодную гавань от угла Белой башни, было обнесено стеной. Однако в стене имелись ворота; их предупредительно распахнул перед Макиеном молодой человек в килте.
— Наконец-то мне есть с кем поговорить, — сказал Макиен. — Приветствую тебя в Тауэре, малыш.
— А я тебя, дядя, — отвечал юнец, пропуская его вперёд.
Двор был не в пример меньше плаца. С севера его ограничивала Белая башня, с юга — Архивная (сама по себе целый замок), а также канцелярия и склады оружейных палат. Где-то среди них пряталась ещё одна потерна (третий проход с Уотер-лейн), связанная с домом констебля и сейчас не представляющая интереса. Куда важнее были четвёртые ворота, большие, способные впустить конницу. Через улочку от них располагались ворота, парные к тем, в которых Макиен сейчас стоял… да где же они? Единственный глаз не позволял оценить расстояния и сориентироваться в незнакомом месте. Однако волынщик был уже в улочке и звал конницу за собой. Отзвуки музыки в каменном мешке позволили Макиену разобраться в геометрии двора. Он нашёл ворота. Они были открыты. В них въезжали всадники. Некоторые поникли в сёдлах, зажимая раны, полученные на Уотер-лейн или раньше, когда горцы во весь опор неслись к Львиным воротам, чтобы смести часовых. Однако больше было тех, кто сидел прямо и гордо, а один — благослови его Бог! — держал в руке развёрнутое знамя Макиенов Макдональдов.
— И это хвалёная Белая башня? — спросил юнец, открывший ему ворота. — Тьфу! Она даже не белая.
— У англичан нет гордости. Почитай их историю и увидишь, что они всего лишь пьяницы и шаромыжники. Ну подумай: во что бы стали английской королеве несколько галлонов краски?
— Помилуй Бог, я бы сам её покрасил, лишь бы не видеть. Куда ни пойдёшь в этом треклятом городе, всюду она торчит, как бельмо в глазу.
— Могу предложить более простое решение, — отвечал Макиен. — Я знаю одно место, неподалёку, откуда её не видно.
— Где же это, дядя?
— В самой башне! — Макиен жестом подозвал знаменосца.
— А как в неё попасть?
— Через дверь. Она высоко над землёй, чтобы легче было оборонять, но англичане, по лености, пристроили отличную деревянную лестницу, так что лезть нам не придётся.
— Я её не вижу.
— Её закрывают казармы. За мной! — И он шагнул в подворотню между двумя казармами.
— Позволь мне идти впереди, дядя! — крикнул юнец; такие же возгласы раздались со стороны других воинов, которые торопливо спешивались и бежали к ним, обвешанные саблями, клейморами, мушкетонами и гранатами.
Однако Руфус Макиен прошёл подворотню и начал подниматься по грубой деревянной лестнице к простой арке в южной стене башни.
— Вы не поняли! — крикнул он через плечо. — Вы ждёте отчаянной схватки за Белую башню, как в авантюрном романе. Однако схватка позади, и она выиграна.
В арке возник стражник. Он вытащил из ножен старенькую рапиру и, подняв её над головой, с криком ринулся по ступеням. Руфус Макиен даже не потрудился вынуть из-за спины клеймор: стражника прошили несколько десятков пуль. Он содрогался при каждом попадании, теряя цельность на глазах, потом рухнул и покатился по лестнице, оставляя на ступенях части себя.
— Тоже начитался авантюрных романов… — заметил Руфус Макиен. — Смотрите под ноги, ребята, здесь скользко.
Он перепрыгнул последние две ступени и шагнул через порог Белой башни со словами: «За Гленко!»
Сити
конец дня
Он выглядел солидно и располагающе. Его научили по команде выводить в нужном месте свою фамилию (если «Джонс» и вправду была его фамилия). В остальном он не умел ни читать, ни писать. Отсюда следовало, что матросу Джонсу с «Минервы» никогда не стать офицером или торговцем.
Джонс не терзался из-за своей ущербности — если вообще её сознавал. Его подобрали на Ямайке. На тот момент он мог рассказать о себе следующее: его, честного сельского паренька из Северного Девона, похитили (то есть насильно завербовали) моряки с бристольского невольничьего корабля. После рейса в Гвинею за рабами он дезертировал на Ямайке. Все были уверены, что он при первой возможности сбежит снова и постарается добраться дородной эксмурской деревушки. С тех пор прошло много лет. «Минерва» частенько заходила в Плимут, Дартмут и другие подходящие порты; Джонс ни разу не выказал желания с нею расстаться. Поначалу ему случалось проявлять буйный нрав, что наводило на мысль об истинных причинах его бегства, однако с годами он остепенился, став надёжным, хоть и туповатым матросом.
Итак, в минус Джонсу можно было поставить безграмотность, преступное прошлое — вероятно — и отсутствие жизненных устремлений. Зато он обладал достоинством, которое отсутствовало у офицера, идущего рядом с ним по Ломбард-стрит, — был белокожим англичанином. Время от времени от Джонса требовалось усилить это достоинство — надеть панталоны, чулки, жилет, длинный, флотского покроя камзол и очень простой парик из конского волоса — всё то, что корабельный офицер складывает в сундук перед дальним рейсом и вынимает по другую сторону океана, чтобы выглядеть мало-мальски пристойно в глазах поставщиков провианта, денежных поверенных и страховщиков.
Если бы они сейчас взяли извозчика и проехали две мили к западу до новых улиц в окрестностях Пиккадилли и Сент-Джеймс, их роли, в глазах случайного прохожего, поменялись бы. Люди, внимательные к одежде, не упустили бы, что платье Даппы лучше пригнано, новее и тщательней выбрано. Кружева на его манжетах никогда не соприкасались с пивной пеной, гусиным жиром и чернилами, башмаки были начищены до блеска. Утончённые вест-эндские франты приметили бы, что Даппа старше, зорче смотрит вокруг и на перёкрестках сворачивает, куда хочет, а Джонс за ним следует. Джонс озирался скорее с бесцельным любопытством. Житель Вест-энда, глядя на них, заключил бы, что Даппа — мавр-дипломат из Алжира или Рабата, а Джонс — его местный сопровождающий.
Однако здесь был не Вест-энд. В Сити, на вержение камня от Чендж-элли, никто не обращал внимания на одежду, если она не кричала, нагло и вульгарно, о богатстве своего хозяина. По этим меркам Джонс и Даппа были равно невидимы. Даппу, идущего впереди через толпу дельцов, принимали за слугу, привезённого в качестве диковинки из дальнего плавания, пробивающего господину дорогу в джунглях и зорко высматривающего опасность. Глуповато-отсутствующий вид Джонса мог сойти за рассеянность финансиста, который настолько погружён в раздумья о курсе акций, что ему недосуг заботиться об одежде или самому отыскивать дорогу в городе. Некоторая осоловелость могла свидетельствовать, что ум его настроен в резонанс с рынком и улавливает малейшие колебания биржевых струн.
По крайней мере, так уверял себя Даппа, перебарывая собственное беспокойство, когда Джонс останавливался поболтать с продавщицей апельсинов или тянулся взять печатный листок у грязного горластого распространителя. Когда они подошли к дверям кофейни Уорта на Бирчин-лейн, прямо напротив Гераклитова хаоса Чендж-элли, Даппа переместился в арьергард. Джонс вошёл первым. Через мгновение Даппа уже подвигал ему стул и бежал за служанкой, чтобы заказать кофе мистеру Джонсу.
— Мы рано пришли, — сказал Даппа, возвращаясь с кофе, — а мистер Сойер, как всегда, опаздывает. Так что располагайся поудобнее, раз уж я не могу. Дальше до самого Массачусетса отдыхать не придётся.
И он, стоя за стулом у Джонса, принял позу слуги, готового бежать, куда требуется, по первому слову хозяина.
Все вокруг либо беседовали, либо читали. Кофейню Уорта облюбовали мелкие дельцы, предоставляющие промежуточные суды и другие ещё менее понятные финансовые инструменты морской торговли. Среди одиночек за столиками были моряки, изучавшие таблицы приливов или астрономический календарь. Другие больше походили на денежных поверенных или ювелиров-ростовщиков — эти отдавали предпочтение лондонским газетам. Джонс, в отличие от них, читать не умел, однако на углу Грейсчёрч и Лом-бард-стрит взял листовку у неприятного типа, который пах и выглядел так, будто намазал рожу прогорклым салом. Вручая Джонсу листовку, тип нехорошо поглядел на Даппу. Джонс свернул её в трубочку и нёс с собой — ни дать ни взять делец, идущий предъявить к оплате вексель. Сейчас, тщась слиться с посетителями кофейни, он развернул листовку на столе и нагнулся над ней, подражая позам сидящих вокруг.
Он держал её вверх ногами!.. Даппа шагнул вперёд, чтобы незаметно пнуть Джонса коленом в зад. Однако тот оказался сообразительней, чем полагал Даппа: не зная букв, сам догадался перевернуть листок. Ибо текст был иллюстрирован: наверху располагалось чёрное пятно размером примерно с кулак, отвратительного качества оттиск, изображавший дикаря с копной африканских косичек. Горло негра сжимал белый кружевной галстук, плечи облагородил добротный английский крой. Под портретом дюймовыми буквами стояло:
ДАППА
и ниже
РАБ, собственность М-РА ЧАРЛЬЗА УАЙТА, ЭСКВАЙРА, пропал либо украден. НАГРАДА В ДЕСЯТЬ ГИНЕЙ тому, кто приведёт его в дом м-ра Уайта на Сент-Джеймс-сквер.
Дальше шёл мелкий шрифт, который Даппа не разбирал без очков. Однако он не мог вынуть очки из нагрудного кармана, потому что ни одна мышца его не слушалась.
Шлюп «Аталанта», у Шайвского утёса
закат
Он пожалел, что рядом нет Гука. Любого натурфилософа заворожило бы то, что открылось взглядам в столь сильный отлив. Солнце садилось; за дымным куполом Лондона оно горело цветом подковы, которую кузнец плющит на наковальне. Предзакатные лучи косо падали на обнажившуюся илистую гладь, представляя её не такой и гладкой. Поверхность была ребристой, как будто озеро наморщил ветер и тут же сковал мороз. Однако Даниеля особенно поразила Фоулнесская отмель, в нескольких милях севернее, на другой стороне устья. Этот илистый край, размером побольше иных немецких княжеств, почти всё время оставался под водой. Там не было ни камней, ни растительности. Но вода из ложбинок застывшей ряби не уходила сплошной плёнкой и не впитывалась в землю, а устремлялась туда, где ниже. Одна лужица размером с ладонь переливалась в соседнюю; объединив силы, они принимались искать место, может быть, на волосок ниже, и каждая капля воды на мили вокруг преследовала ту же цель. Интегральный (следуя терминологии Лейбница) итог состоял в том, что на Фоулнесской отмели возникла целая система рек и притоков. Иные реки казались ровесницами Темзы, на их берегах впору было возводить города; однако через несколько часов им предстояло исчезнуть. Не смягченные ивами и тростником, не обросшие человеческими постройками, они были чистой геометрией, но неправильной, живой геометрией, противной Евклиду и, как подозревал Даниель, седовласому рыцарю Британии рядом с ним. А вот Гук увидел бы здесь красоту и сумел бы её изобразить, как изображал мушек и блох.
— Интересно, те же реки возникают всякий раз или новые рождаются в другом месте с каждым отливом? — задумчиво пробормотал Даниель.
— Некоторые существуют годами, возможно, раз от раза немного меняя русло, — ответил Исаак.
— Вопрос был риторический, — пробормотал Даниель.
— Потом однажды, возможно, после сильного шторма или в особенно высокий прилив они исчезают навсегда. В подводном царстве многое так же сокрыто от разума, как и от очей.
Исаак перешёл к другому борту, чтобы посмотреть на Шайвский утёс. Даниель счёл своим долгом последовать за ним.
Слева серость уходила в бесконечную даль, впереди — мили на две, до острова Грейн. Большая часть острова едва возвышалась над горизонтом, но был один холм, пятьдесят-сто футов над уровнем моря, заросший травой, с несколькими кривыми деревьями, тянущими назад руки ветвей. На холме стояла древняя каменная церковка, развёрнутая длинной стороной к морю, как будто каменщики начали возводить защиту от ветра, чтобы их не сдуло, а затем приделали сверху скат крыши. С запада к ней примыкала квадратная колокольня с плоским зубчатым верхом, которую блекторрентцы временно реквизировали в качестве сторожевой вышки.
Между «Аталантой» и подножием холма серое пространство делилось белой прибойной полосой на нижнюю и верхнюю часть. В нижней к серому примешивались синь и аквамарин, в верхней, бугорчатой, — охра, зелень и терракота. Птицы скользили совсем низко, по две, по три, словно держались вместе для безопасности. Иногда они приземлялись на лапки-палочки и что-то выклёвывали из ила; некоторые делали это у самого основания Шайвской башни, встававшей на полпути между «Аталантой» и подножием холма.
Фарватер указывал в сторону моря, так что «Аталанте» надо было миновать островок и повернуть назад. Матросы готовились к манёвру и спуску баркаса. Работали споро — вельбот мог вот-вот скрыться во тьме. Откуда-то притащили флаг с серой борзой и прицепили его на корме баркаса для устрашения неизвестно кого. Двух драгун поставили бросать лот, одного с правой стороны носа, другого — с левой.
Барнс спорил со шкипером, кому из них нужно больше солдат. Шкипер просил не забывать, что это личная яхта мистера Чарльза Уайта, а не военный корабль, поэтому своих солдат у него на борту нет, а поскольку в вельботе спасаются ближайшие сообщники Джека, может быть, даже сам Джек, то есть в любом случае опаснейшие преступники королевства, большая часть драгун должна остаться на корабле.
— Вы догоняете одну шлюпку, — говорил Барнс, — а мы будем штурмовать крепость. Неизвестно, что там окажется…
Бесполезно. Чарльз Уайт, который оставался на шлюпе, чтобы лично схватить Джека-Монетчика, принял сторону капитана. Он напомнил, что к Барнсу через несколько минут присоединится почти целая рота драгун, скачущая по острову Грейн. В баркас, кроме полковника Барнса и сержанта Шафто, погрузятся восемь солдат. Если их окажется мало, всегда можно отступить и ждать подкрепления.
— Похоже на фарс под названием: «Как погубить всё дело», — услышал Даниель тихое ворчание Барнса.
— Если б Джек понимал истинную природу Соломонова золота, он бы не чеканил из него фальшивые деньги, — сказал Даниелю Исаак, явно чувствуя потребность обосновать свою тактику. — Для него это всего лишь золото. Чуть более ценное, чем обычное, но всё равно просто металл. Он наверняка погрузил его на гукер, а когда гукер сел на мель — бросил, считая не последним.
— Думаете, они выбросили золото за борт?
— Банда перепуганных преступников может швырнуть за борт что угодно. Возможно, мы найдём золото на берегах фарватера. А может, оно по-прежнему на гукере. Вперёд! Цель близка!
Он короткими быстрыми шагами засеменил к трапу на опер-дек. Ящик с инструментами, переброшенный через плечо на ремне, бил его по бедру, угрожая равновесию. Даниель, нагнав Исаака, положил руку на ящик, чтобы не качался; таким манером два старых натурфилософа спустились по трапу и подошли туда, где висел на шлюпбалках баркас. Вскоре они, Барнс, Шафто, восемь драгун и матрос погрузились туда, хотя Даниель чуть не упал в воду и потерял парик. Потравили канаты, и шлюпка ухнула в тень за кормой. Без парика Даниелю сразу стало холодно, и он крикнул, чтобы ему кинули одеяло. Скоро с борта бросили серый шерстяной свёрток и вязаную шапочку вахтенного, которую Даниель с благодарностью натянул на голую лысину. Когда большое судно двинулось прочь, он увидел свой парик в водовороте; длинная белая косица вращалась, как стрелка обезумевшего компаса.
Шлюп, который до сей минуты плыл вроде бы медленно, удалялся с поразительной быстротой — а может, так всегда кажется тем, кого высадили на необитаемом острове. Через минуту до «Аталанты» было не докричаться; теперь, если бы они хотели дать сигнал, пришлось бы стрелять в воздух.
Солдаты на острове Грейн не проявляли такой прыти. Поначалу Даниель думал, что «Аталанта» и драгуны прибудут к цели одновременно. Но вот теперь они в баркасе на расстоянии выстрела от башни, а рота ещё не сдвинулась с места. Возможно, солдаты у подножия холма, под колокольней, однако их скрывают тень и густая трава. То, что они существуют, оставалось приятным допущением, вроде веры в благого Бога.
На всех в шлюпке, за исключением разве что Исаака, накатило чувство, что они совершают чудовищную ошибку.
Тут до них донеслось конское фырканье, затем — мерные щелчки. Остров окаймляла полоса выброшенных на отмель ракушек, и кто-то на них наступал.
— Давайте грести, — сказал Барнс. — Бьюсь об заклад, Джек оставил в башне запас кларета.
Слова эти были обращены к Бобу Шафто. Тот что-то крикнул драгунам на вёслах. Они были не гребцы, но за дело взялись с огоньком и тут же столкнулись вёслами.
— Вы не на палках дерётесь! — заорал Боб. — Я вам что, Робин Гуд, так вас и разэдак! Хватит уже стукаться, гребите!
И далее в том же духе. Шлюпка начала разворачиваться; по странному обману зрения казалось, будто пена на гребнях волн — выше них. Даниелю в лодке и то сделалось не по себе; драгунам в камышах, наверное, было ещё страшнее.
Наконец прозвучал горн, грянуло «ура!», и край острова запестрел алым: первая рота Собственного её величества блекторрентского гвардейского полка рассеянной цепью вылетела из камышей и на рысях устремилась по обнажившейся отмели.
Даниель взглянул на башню. В плане она представляла собой квадрат со стороной ярдов десять. Примерно двадцать ярдов отделяло щербатый парапет от бурых глыб, уложенных на вылизанную морем чёрную каменную подушку. «Шайв» на староанглийском означает коленную чашечку, и Даниель, препарировавший в своё время немало трупов, нашёл сравнение удачным. Основание башни облепили ракушки и зеленоватая слизь, так что трудно было понять, где кончается природный цоколь и начинается рукотворный. Глыбы, вероятно, добыли в карьере выше по реке и доставили баржей в сильный прилив. Их скреплял белый раствор. Единственная дверь выходила на илистую заводь в конце фарватера, по которому они сейчас ползли; порог располагался на два локтя выше верхней кромки ракушек и водорослей. Судя по расположению окон (если узкие отверстия в стене заслуживали такого названия), внутри имелся деревянный настил, образующий второй этаж, и крыша, с которой дозорные и канониры могли смотреть через полуразрушенный парапет.
— Останется ли тут место для стольких лошадей, когда начнётся прилив? — спросил Даниель.
— Сперва вы тревожились, что они не прискачут, теперь — что прискачут, — сказал Барнс. — Тем не менее вопрос заслуживает ответа. Мы — драгуны, лошади для нас всего лишь средство передвижения. Как только солдаты спешатся, лошадей уведут. Через полчаса их там не будет.
— Простите, полковник. Как сказал недавно один умный человек, мы все напуганы.
Барнс галантно кивнул. Однако он чувствовал на виске сверлящий взгляд Ньютона, поэтому тут же велел сержанту:
— Вперёд, и посмотрим, обстреляют ли нас с башни.
— Не знал, что назначение сэра Исаака — вызывать на себя огонь, — проворчал Даниель и тут же прикусил язык, потому что даже Исаак улыбнулся шутке. Досадуя на всех, включая себя, Даниель схватил одеяло — девять фунтов грязной йглмской шерсти — и набросил на плечи. Оно кололо через одежду, как репьи, зато обещало тепло.
Через каждые десять ярдов баркас принимался скрести килем о песчаное дно. Сержант Боб крыл последними словами уже не только солдат, но и Бога, к явному недовольству сэра Исаака Ньютона. Четверо драгун, сняв гранаты и пороховницы, спрыгнули в воду, доходившую им здесь до пояса, и принялись толкать полегчавший баркас, как увязший во фландрских болотах пушечный лафет.
— Молодцы, — сказал полковник Барнс, — надо торопиться, пока вода низкая.
Он смотрел всё больше на парапет, явно опасаясь стрелков. Исаак не отрывал глаз от гукера, который теперь свободно покачивался на воде — начался прилив! Сержант следил за солдатами.
Только Даниель заметил, что атака первой роты захлебнулась, не успев начаться. В нескольких ярдах от полосы ракушек несколько лошадей рухнули. Остальные встали; затем цепь драгун разделилась на две, пытаясь объехать какое-то препятствие. Пистолетный выстрел грянул похоронным звоном по сломавшей ногу лошади. Все в баркасе повернулись в ту сторону. Тут же до слуха донесся глухой стук топора о древесину.
— Люди Джека вбили в ил сваи, — догадался Боб, — и натянули между ними цепи, чтобы остановить лошадей. Очевидно, они сделали это в самых высоких и сухих местах — значит, с флангов не проехать. Кто-то из наших рубит сваю.
— В ней гвозди, и топор уже затупился, — рассеянно проговорил Исаак, не сводя глаз с гукера.
— У сэра Исаака очень хороший слух, — пояснил Даниель обескураженному Бобу.
— Тогда советую ему заткнуть уши. — Боб взял ружьё. Через мгновение баркас содрогнулся от отдачи: Боб выстрелил в воздух, после чего протянул ружьё драгуну, который тут же принялся его перезаряжать.
— Уж если тратите порох и пули, тратьте их на парапет, — сказал полковник.
В следующие мгновения с баркаса дали несколько выстрелов по верхушке башни; в вечернем воздухе повисло густое дымное облако. С Шайвского утёса не отвечали. Однако цель Боба была достигнута: драгуны спешились и, отправив лошадей назад, продолжили наступление. Ещё несколько минут назад их мундиры гордо алели; теперь Даниель видел движение тёмных пятнышек на сером песке. Дело было не в том, что их облепила грязь (хотя без этого, наверное, не обошлось); просто сумерки скрадывали цвета. Рядом с башней выглянула вечерняя звезда.
Далеко на западе громыхнуло с такой силой, что даже Исаак оторвал взгляд от гукера.
— Что это? — раздался в наступившей тишине его голос.
— Много пороха взорвалось разом, — ответил полковник Барнс. — На поле боя это означало бы роковую случайность. Здесь, полагаю, взорвался мост через Янлет-крик.
— Зачем вы приказали заминировать мост, полковник?
— Я не приказывал.
Исаак остолбенел.
— Так кто приказал?!
— Вы просите меня пуститься в догадки, сэр Исаак, — холодно отвечал Барнс.
— Но мост охраняют ваши люди!
— Или охраняли, сэр.
— Как можно было его заминировать, если там стояли солдаты?
— Снова догадки: его заминировали раньше, — сказал Барнс.
— Кто же тогда поджёг запал?
— Представления не имею.
— Человек для этого не нужен, — вставил Даниель.
— Так как же подожгли порох? — спросил Барнс.
— Так же, как там. — Даниель, высвободив руку из-под одеяла, указал на Шайвскую башню.
Мгновение назад он увидел краем глаза искорку и ошибочно принял её за вечернюю звезду. Однако теперь она стала ярче любого небесного тела за исключением Солнца, ярче любой кометы. И горела она не в небе, а в узком окошке башни.
Все смотрели туда, хотя пламя стало таким ярким, что слепило глаза. Только Исаак и Даниель знали, что это такое.
— В башне горит фосфор, — проговорил Исаак скорее завороженно, чем встревоженно.
— Значит, кто-то там есть, — сказал Боб, хватая ружьё.
— Нет, — отвечал Даниель. — Фосфор зажгла адская машина.
Дверь открылась внутрь под напором тяги, из проёма хлынул оранжево-жёлтый свет. На полу грудой лежали наколотые дрова, сейчас они занялись. Через отверстия, прорубленные в крыше и перекрытии этажа, полетели искры.
— Превосходный расчёт, — заметил сэр Исаак Ньютон спокойно, без тени гнева. — Прилив заставляет драгун бежать к башне. Наполненная отменным топливом, она скоро обратится в печь, и все вокруг изжарятся, как молочные поросята. Воистину они между молотом и наковальней.
Барнс встал. Упираясь деревяшкой в банку, он сложил ладони рупором и заорал: «Назад! Отступайте! Вы там не поместитесь!» Лодку качнуло, и Барнс плюхнулся на зад.
— Не хочу слышать, как тонет моя первая рота, — простонал он.
— Полковник, велите грести к острову Грейн — так вы сможете предупредить всех и спасти многих.
— Оставьте меня там, — потребовал Исаак, указывая на гукер, который прилив уже снял с мели.
— Я не могу бросить сэра Исаака Ньютона на ветхом рыбачьем судёнышке! — крикнул Барнс.
— Тогда оставайтесь с ним, полковник, — предложил Боб, — и возьмите с собой несколько солдат. А я предупрежу наших и вытащу тех, кто увяз.
Грохот и треск со стороны башни — рухнуло перекрытие. Миллионы оранжевых искр взмыли в чёрное небо.
— Я тоже останусь с сэром Исааком, — сказал Даниель, голосом человека, лежащего при смерти и слышащего собственный панегирик. — Мы уведём гукер от огня и будем править по звездам. Мы с сэром Исааком немного знаем астрономию.
Монумент
закат
— Поджигай, — негромко сказал Джек, стоя на одном колене и утвердив подзорную трубу на парапете.
Ожидаемых адских звуков и клубов дыма не последовало. Джек оторвался от окуляра и внезапно почувствовал под собой двухсотфутовую высоту. Только головокружения ему не хватало! Он хлопнул по парапету, крепко зажмурился и объявил: «Шотландец в Белой башне! Я сказал: «Поджигай!» Потом открыл глаза, выпрямился и отступил за каменную сердцевину Монумента, поскольку ракета могла с равной вероятностью взорваться и полететь. До него донеслись голоса Джимми и Дэнни, треск вспыхнувшего запала и топот бегущих ног. Парни забежали за колонну. Тут же раздался глас василиска: наполовину шипение, наполовину визг — стремительно затихающий вдали.
Джек бегом вернулся на прежнее место и увидел луч чёрного дыма, протянувшийся над городом от парапета. Вблизи Монумента клубы были зловеще подсвечены, словно штормовой фронт на закате, дальше бледнели и растворялись. Единственными свидетельствами этого гнусного преступления против всех законов безопасной ракетной техники были дыра в крыше дома на ближней стороне Минсинг-лейн и паутинка, соединившая упомянутый дом с большим блоком, закреплённым на лантерне Монумента у Джека над головой. Оттуда она тянулась к блестящей медной бадейке в трёх шагах от Джека, между ног у великана-индейца. Индеец схватил шнур, чтобы он своим весом не вытянул из бадьи весь оставшийся.
Джек взглянул через парапет; нить уходила вниз и на восток, теряясь в тени Монумента. А вот на крыше церкви святой Марии шла какая-то мальчишеская потеха с прискоками и забрасыванием вверх камней на верёвке. Те, кто в отличие от Джека не знал, что несколькими ярдами выше протянулся шёлковый шнур, могли бы подумать, что видят пляску людей, обезумевших от сифилиса или колдовского наваждения, своего рода Бедлам под открытым небом.
Со стороны одной из башен Тауэра донёсся визг второй ракеты. Скорость её была такова, что когда звук достиг Монумента, заставив Джека повернуться в ту сторону, сама ракета уже скрылась из глаз. Он увидел лишь чёрную радугу, перекинувшуюся через Тауэрский холм и ров, от кладбища за церковью Всех Душ до Белой башни.
— Не горшок с золотом, но вроде того, — заметил Джек. Сейчас он удачно смотрел в нужную сторону, так что различил стрелу белого пламени, которая взмыла с Темзы, оставляя за собой рваный дымовой шлейф. Она достигла апогея примерно над Тауэрской пристанью, погасла и, перелетев по инерции через Внешнюю стену, рухнула на Тауэр-лейн.
— Чёрт, недолёт! — воскликнул Джек, когда до его ушей донёсся звук запуска.
— На барже есть запасные, — сказал Дэнни.
Джек взглянул на церковь святой Марии. Пляска одержимых прекратилась, а её недавние участники улепётывали, движимые понятным желанием поскорее скрыться с места преступления. Остались только двое. Один, сидя, что-то делал руками, другой стоял на стрёме. Он мог не тревожиться: ракета, просвистевшая у них над головой, подожгла чердак дома на Минсинг-лейн — туда-то, а не на крышу церкви, было направлено внимание представителей власти (по большей части самозваных) и (куда более многочисленной и деятельной) толпы.
Тот, что сидел, внезапно вскочил и задрал голову, как будто выпустил голубя и теперь следил за его полётом. Индеец, стоявший рядом с Джеком, принялся быстро-быстро тянуть шнур.
— Полундра! — крикнул Джимми, хватая бадейку и бросая её через парапет.
Дэнни чертыхнулся.
— Теперь в Фонарную башню!
От реки снова донёсся свистящий визг, и Джек увидел ещё один дымовой хвост.
Бадейка, ударясь о мостовую, издала странный звук: нечто среднее между шмяк и дзынь. Томба смотрел в подзорную трубу и ухмылялся.
— Люди в килтах на Белой башне, — объявил он.
— И что они делают? — спросил Джек. Его внимание было приковано к крыше церкви святого Дунстана на востоке — там сейчас повторялось то, что мгновениями раньше происходило на крыше церкви святой Марии.
— Похоже, пьют асквибо и пляшут, — отвечал Томба.
— Когда-нибудь ты дошутишься до того, что я задушу тебя своими собственными руками, — спокойно заметил Джек.
— Одни тянут верёвку с кладбища, другие поднимают флаг, — сказал Томба.
— Флаг?! Я ничего насчёт флага не приказывал, — возмутился Джек.
— Крест святого Андрея и…
— Дьявол! Кто-нибудь из этих горцев соблаговолил заняться блоком?
— Блок крепят на… секундочку… о Господи! — воскликнул Томба и со смехом отодвинулся от подзорной трубы.
— Что там?
— Ракета. Чуть не сбила одного из них, — объяснил Томба. С реки вновь раздался глас василиска.
— Так последняя попала в цель?
— Скользнула по крыше Белой башни, как камешек по воде, — подтвердил Дэнни, смотревший невооружённым глазом. — Прошла у одного шотландца между ног и врезалась в северный парапет.
— Надеюсь, шотландец догадался наступить на верёвку.
— Вроде они её тянут… перекинули через блок…
— Крыша Тринити-хауз — готово! — вставил Томба, глядя в подзорную трубу на здание между Монументом и Белой башней.
— Выбирай слабину! — крикнул Джек, перегнувшись вниз. Здесь, наверху, его багрил ярый закатный свет. У подножия колонны уже пролегли синие сумерки. Там помощники Джека тянули шнур, быстро-быстро перебирая руками. Они работали на открытом пространстве внутри своего рода оборонительного периметра. За его пределами быстро скапливались чёрные пушинки толпы. Напор зевак сдерживали громилы с плётками и лучники, которые залезли на цоколь и заняли позиции под крыльями драконов.
— Что за слух вы пустили? — спросил Джек у Джимми. Прямо под ними свежеотчеканенной гинеей сверкала расплющенная бадейка.
— Что Джек-Монетчик будет на закате кидать с Монумента золотые, — отвечал Джимми.
— Кладбище готово! — объявил Дэнни. Слова его означали, что (хотя никто из них не мог этого видеть) шёлковая нить теперь шла напрямую от большого блока над их головами к такому же устройству на юго-западном углу Белой башни. Оттуда она тянулась через Внутреннюю и Внешнюю стены, над пристанью, к стоящей на якоре барже, которая полчаса назад отвалила от моста. С реки было не видно, а вот они с Монумента видели хорошо, что на палубе баржи установлено большое — несколько ярдов в поперечнике — колесо, насаженное на вертикальный вал. Оно было не такое мощное, как кабестан, и скорее напоминало уложенную на бок самопрялку. Стоящие вокруг матросы, видимо, по сигналу с Белой башни, принялись вращать колесо, наматывая на него тот самый шнур, который минуту назад при помощи ракеты перекинули через крепостную стену. Через несколько мгновений результат их трудов стал виден с Монумента: изменившийся угол наклона верёвки показывал, что она натягивается.
— Давай! — крикнул Джек вниз. Его помощники уже собрались вокруг воза, поставленного у основания колонны. До сего момента его накрывали куски парусины — сейчас их сдёрнули, и взглядам предстала огромная цилиндрическая бочка с умело уложенными в бухты милями троса. Однако то был не обычный трос одинаковой толщины. Через блок на вершине Монумента сейчас скользил шёлковый шнур, дальше он утолщался и ближе ко дну бочки был уже с руку.
— Отлично, — сказал Джек индейцу. — Значит, скоро я велю подать себе колесницу Фаэтона. И его преподобию тоже.
Его преподобие дал понять, что нашёл слова Джека забавными. Индеец подавил вздох и побрёл к лестнице, чтобы начать долгий спуск.
— Чего это вы хмыкаете? — спросил Джек, обходя колонну и обнаруживая за ней отца Эдуарда де Жекса. Тот оттеснил четырёх туристов-иудеев в юго-восточный угол площадки. У его ног стоял чёрный окованный сундук с распахнутой крышкой, кругом валялись хитроумные замки и ключи. Сундук уже почти опустел, но на дне его ещё оставались несколько кожаных мешочков с чем-то очень тяжёлым, звякавшим, когда де Жекс один за другим перекладывал их в прочную кожаную суму. Вторая сумка, уже полная, лежала рядом с той, которую набивал иезуит.
— Ты, сам того не понимая, себя проклял, — отвечал де Жекс. — Ты должен был сказать «колесница Аполлона».
— Аполлон — прозвище Луя. Я так высоко не мечу.
— Хорошо, тогда Гелиоса. Но не Фаэтона.
— Половина городских хлыщей разъезжает в фаэтонах, — сказал Джек, — почему я не могу пролететь в нём над Лондоном?
— Фаэтон был пащенок Гелиоса. Он взял папину сияющую колесницу и отправился на небо покататься. Однако, узрев высь, в которую воспарил, испугавшись героев и титанов, коих боги поместили на небосвод в качестве созвездий, Фаэтон потерял разум, кони понесли, колесница стала жечь землю, Зевс поразил его молнией, и он рухнул в реку. Называя наше приспособление колесницей Фаэтона…
— Мораль вашей сказочки мне понятна, — сообщил Джек, глядя, как де Жекс перекладывает в сумку последние звенящие мешочки. Потом, другим тоном, добавил: — Занятно. Я всегда воображал, что обряды язычников, с их голыми девками, пирами и оргиями, были поживее нестерпимо нудных христианских служб; однако драматическая история Фаэтона в изложении вашего преподобия вышла сухой и назидательной, как молитвословия баптистов.
— Я говорю тебе, Джек, о твоей гордыне, о твоём невежестве и о твоей участи. Сожалею, что не смог сделать рассказ более весёлым.
— Кто разъезжает в лунной колеснице по ночам?
— Селена. Но её металл — серебро.
— Если эти лодыри на барже не будут крутить быстрее, то мы уподобимся ей.
— Время до темноты ещё есть, — объявил де Жекс.
Джек подошёл взглянуть на верёвку, тянущуюся снизу к блоку и дальше над Лондоном к упомянутой барже, и с изумлением увидел, что она стала уже в палец толщиной. С изумлением и досадой, поскольку надеялся, что она зацепит за какой-нибудь флюгер и порвётся, пока тонкая. Такая уже не лопнет. Придётся делать, что задумано.
Прошло несколько секунд. Лондонская жизнь, как всегда, била ключом: толпа под Монументом, уже перевалившая за тысячу человек, требовала обещанных гиней, то расступаясь, чтобы пропустить бешеного пса, то сбиваясь плотнее, чтобы поколотить карманника. Пожарные в Тауэр-хамлетс, а теперь и на Минсинг-стрит, заливали огонь, солдаты теснили зевак. Горцы на Белой башне упивались победой, чувствуя, правда, лёгкую растерянность от того, что никто её не заметил. Люди на барже вращали огромное колесо, словно главную шестерню исполинских часов. Корабли в Гавани бросали якоря и снимались с якорей, словно ничего рядом не происходит.
Сам Фаэтон уже падал в верхнем течении Темзы, несколькими лигами западнее города, и при определённом везении мог бы поджечь Виндзор. Его предсмертные лучи захлестнули Лондон, представив весь город зубчатым и золотым. Джек глядел на Лондон, вбирая каждую мелочь, как когда-то глядел на Каир; и впрямь это место вдруг показалось ему чужим и диковинным. Другими словами, он смотрел свежим взглядом путешественника и видел мелочи, ускользающие от прожжённого кокни. Он должен был так смотреть ради Джимми, Дэнни и всех своих будущих потомков. Ибо если де Жекс прав, то Джек и впрямь пащенок, который залетел в эмпиреи, увидел то, что таким видеть не следовало, и был запанибрата с героями и титанами. Наверное, ещё много поколений Шафто не смогут взирать с такой высоты и видеть так чётко. Но что же он видел?
— Отец, — позвал Джимми. — Пора, отец.
Джек посмотрел вниз. Верёвка была уже толщиною с его запястье и больше не двигалась: её привязали к основанию Монумента, превращённого для такого случая в швартовую тумбу. На барже перерубили якорный канат и спустили в реку огромные мешки из плотной материи — плавучие якоря. Течение наполнило их и теперь тащило баржу вниз, натягивая верёвку по всей длине, что ощущалось и здесь: снасть, удерживающая блок, застонала, как на корабле под ударом шквального ветра. На этом туго натянутом канате висел талевый блок, то есть шкив, надетый на хорошо смазанную ось и заключённый в чугунный кожух. Под ним на двух цепях болталась доска. Джимми держал одну цепь, Дэнни — другую. Колесницу Фаэтона подали для посадки. Все — даже евреи, которые уже перебоялись и теперь чувствовали только любопытство, — выразительно поглядели на устройство, затем на Джека.
— Ладно, ладно, — сказал он и шагнул к доске. Де Жекс протянул одну из сумок, и Джек перекинул её через плечо. — До скорой встречи, падре, — небрежно бросил он, и даже де Жекс почувствовал, что надо отойти.
Джек сел на доску, висевшую вровень с парапетом, пристроил тяжёлую сумку на колени и упёрся в парапет, словно боялся, что сыновья оттолкнут его раньше времени: опасение вполне обоснованное, поскольку он намеревался дать им отцовский совет.
— Итак, ребята, — сказал Джек, — либо это дело сработает, либо нет. Если всё пойдёт наперекосяк, не забывайте, что есть другие места, кроме Англии. Уж вы их навидались, вам я могу не объяснять. Великий Могол всегда возьмёт на службу бравых вояк. Королева Коттаккал будет рада принять вас в своём дворце и тем более в своей постели. Наши партнеры на Квиинакууте устроят вам торжественную встречу у подножия пика Элиза. Манила тоже славное местечко. Японию не советую. И помните, что если вы отправитесь в противоположную сторону, к берегам Америки, и будете долго ехать на запад, то рано или поздно найдёте старину Мойше, если команчи ещё не понаделали из него мокасин. В общем, если я окажусь на Тайберне, сваливайте отсюда поскорее. Только окажите мне прежде одну услугу.
— Хорошо, — нехотя отозвался Джимми.
В продолжение всей речи Джек избегал смотреть на сыновей, полагая, что те стыдятся слёз, ручьями бегущих по щекам. Теперь, взглянув на Джимми, он увидел сухие глаза и нетерпеливое недоумение. Обернулся к Дэнни — тот рассеянно глядел на Белую башню.
— Вы хоть что-нибудь слышали, черти?
— Ты просил об услуге, — отвечал Дэнни.
— Прежде чем начать новую жизнь за океаном, если до этого дойдёт, найдите Элизу и скажите, что я её люблю.
С этими словами он вырвал цепь сперва у Джимми, потом у Дэнни, наклонился вперёд, оттолкнулся обеими ногами и полетел над Лондоном. Плащ его распластался по ветру, словно орлиные крыла, явив всякому, кто смотрел в это время вверх, парчовый подбой, блеснувший в лучах заходящего солнца, как экипаж Аполлона. Начался его спуск.
Кофейня Уорта на Бирчин-лейн в Лондоне
закат
Десять секунд Даппа простоял, не шелохнувшись, как будто неподвижность могла сделать его белым.
— Сэр! — хохотнул Джонс. — Как на вас похоже! Что здесь написано?
Благодарение Богу, что Джонс оказался таким непроходимым тупицей! Многие корабельные офицеры, поддавшись естественной склонности замирать от страха в шторм или в разгар боя, выходили из оцепенения, видя беспомощность команды.
Тело Даппы плоховато слушалось приказов со шканцев, поэтому, шагнув вперёд, он задел и едва не опрокинул стол. Однако листок он всё же схватил, затем обвёл взглядом кофейню. На него смотрели, но с обычным любопытством: что это эфиоп так дергается? Листка никто не видел.
— Что здесь написано? — повторил Джонс.
Даппа сунул листок в карман с чувством, что убирает туда какашку. По крайней мере там никто не мог его прочесть.
— Здесь написана неправда про меня. Гнусная, возмутительная ложь.
И тут же пожалел, что не выдержал ровный тон — от сильных чувств голос у него стал, как у придушенной курицы. Пришлось на мгновение закрыть глаза, чтобы взять себя в руки и подумать.
— Это нападение. Нападение на меня со стороны Чарльза Уайта. Тори. Почему на меня? Без всякой причины. Он нападает не на меня, а на «Минерву».
Даппа открыл глаза.
— Твой корабль подвергся нападению, Джонс.
— Мне не привыкать, сэр.
— Оружие нападающих — не ядра, а бумага. По тебе стреляет береговая артиллерия. Как ты поступишь?
— Вы хотите сказать, стреляет по нам, сэр, — поправил Джонс. — А поскольку с береговой артиллерией не поспоришь, надо выйти из-под обстрела.
— Верно. Однако договор, который мы пришли подписать, должен быть подписан — иначе мы сорвём обязательство перед поставщиком провианта. Мы должны выполнить свои обязательства, Джонс, иначе нам не будут верить впредь, понимаешь? Мистер Сойер честен, насколько бывают честны дельцы: когда он придёт, сделай вид, будто читаешь то, что он перед тобой положил, и подпиши. Затем беги на «Минерву» и скажи капитану, чтобы сейчас же начал выбирать якорь.
— Вы оставите меня одного, сэр? — испугался Джонс.
— Да. Я постараюсь вернуться на корабль до прилива. Если нет — отплывайте без меня.
Даппа взглянул в окно и увидел худшее, что могло быть: оборванец, раздававший листовки, выследил их в толпе и теперь прижимался к стеклу сальной физиономией. Взгляды их встретились. Такое же чувство Даппа испытал в Африке, когда мальчишкой играл на берегу реки и увидел направленный на себя полосатый глаз крокодила. Казалось, тысячи предков встали вокруг невидимым хором и кричат: «Беги! Беги!» Даппа и побежал бы, если бы не сознание, что на милю вокруг нет другого чёрного, а значит, далеко он не убежит.
Тень легла на кофейню, как будто туча закрыла солнце. Однако то была не туча, а огромная чёрная карета, запряжённая четверкой вороных. Она остановилась перед входом.
Оборванец не смотрел на карету. Физиономия его изображала дикий восторг — единственное, что могло сделать её ещё гаже. Не сводя глаз с окна, малый боком двинулся к двери.
— Повтори указания, — потребовал Даппа.
— Дождаться мистера Сойера. Посмотреть на договор, как будто его читаю. Подписать. Бечь на корабль. Уходить по высокой воде, с вами или без вас.
— А когда вернётесь из Бостона, Бог даст, разберёмся, — сказал Даппа и, обогнув стол, двинулся к выходу.
Он не успел дойти до двери, как она распахнулась. Улицу заслонял блестящий чёрный бок экипажа. Даппа отвёл руку назад, приподнял полу камзола и потянулся к спрятанному на спине кинжалу. Он нащупал рукоять, но вытаскивать пока не стал. Оборванец стоял в дверях, загораживая выход, вне себя от счастья, и прыгал с ноги на ногу, как ребёнок, которому приспичило в туалет. Смотрел оборванец вбок, видимо, на человека, открывшего дверь, всем своим видом призывая того в свидетели и помощники. Наконец малый вновь повернулся и навёл на Даппу палец, как пистолет. Листовки он бросил, и они кружились у его ног, залетая в кофейню.
За спиной оборванца возник другой человек, выше его на голову, белокурый, голубоглазый и молодой. Он был гораздо лучше одет и держал в руке трость. Сейчас он высоко подбросил её вверх, перехватил за середину и, не сбавляя темпа, опустил. Медный шарик набалдашника припечатал оборванца по темени. В том произошла метаморфоза: сперва лицо, а затем и тело утратили тонус, как будто все двести шесть костей разом превратились в желе.
Прежде чем оборванец упал, загородив вход, молодой человек шагнул вперёд и сдвинул его с дороги. Оборванец исчез из виду, остались только его ноги. Высокий молодой человек позволил трости скользнуть вниз, чтобы набалдашник вновь оказался в руке, затем учтивейшим образом поклонился Даппе и свободной рукой указал на карету, предлагая его подвезти. Только тут Даппа узнал Иоганна фон Хакльгебера, ганноверца, прибывшего в Лондон вместе с герцогиней Аркашон-Йглмской.
Даппа сидел в деревянном чреве кареты. Там пахло Элизиной туалетной водой. Иоганн, не залезая внутрь, захлопнул дверцу и принялся на верхненемецком отдавать приказания кучеру и двум лакеям. Лакеи спрыгнули с запяток и начали выбирать из уличного мусора разлетевшиеся листовки. Даппа смотрел на них через окно кареты, а когда она дёрнулась вперёд, опустил шторку и зарылся лицом в ладони.
Ему хотелось плакать от ярости, но слёзы почему-то не шли. Быть может, если бы всё завершилось быстро и благополучно, он бы успокоился, а успокоившись, разрыдался. Однако они были на одной из самых запруженных лондонских улиц, и Даппа не спешил давать указания кучеру. До ближайшего поворота — перекрёстка с Корнхилл — оставалось футов сто, то есть по меньшей мере четверть часа.
Даппа сунул руку в карман и достал листок. Расправил его на коленях и поднял шторку, впуская свет. Каждое движение требовало сознательного усилия и выдержки, потому что сильнее всего ему хотелось откинуться на сиденье и сделать вид, будто всей этой низкой, подлой, вопиющей, отвратительной гнусности не произошло.
Даппа не знал, сколько ему лет — вероятно, около шестидесяти. Его косички были черные на концах и седые у корней. Он обогнул земной шар и знал больше языков, чем средний англичанин — застольных песен. Он — первый помощник на торговом корабле и одет лучше, чем любой завсегдатай клуба «Кит-Кэт». И тут какая-то бумажонка! Листок отпечатал Чарльз Уайт, но мог — кто угодно. Эта конкретная конфигурация типографской краски на бумаге превратила свободного человека в затравленного зверя, отдала на милость гнусного раздатчика уличных листков, заставила бежать из кофейни. И загнала ему в живот пушечное ядро. Так ли чувствовал себя Даниель Уотерхауз, когда носил в мочевом пузыре камень размером с теннисный мяч? Быть может; но несколько минут работы скальпелем, и камень вынут. Ядро из живота Даппы так просто не извлечёшь. Более того, оно будет появляться снова всякий раз, как он вспомнит события прошедших минут — и так до конца дней. Возможно, он доберётся до «Минервы» и выйдет из-под обстрела, но даже в Японском море ядро, выпущенное Чарльзом Уайтом, будет ударять его в живот всякий раз, как он мысленно вернётся в сегодняшний день. А возвращаться он будет, как пёс на свою блевотину.
Вот для того-то и нужны дуэли. Ничем иным такое бесчестие не смыть. Даппа за свою жизнь убил несколько человек, в основном пиратов и по большей части из пистолета. В честном поединке его шансы убить Чарльза Уайта были бы довольно высоки. Однако поединки — для джентльменов; раб не может вызвать хозяина.
И вообще, глупая мысль. Надо добираться до «Минервы». Карета сворачивала на Корнхилл, вправо, то есть к Гавани, а не к Лестер-хауз, где живёт Элиза со своим выводком ганноверцев. Да, лучше бежать из города.
И всё же идея вызвать Чарльза Уайта на дуэль, всадить в него пулю, была чрезвычайно соблазнительной. Первой приятной мыслью с тех пор, как Даппа увидел своё лицо в объявлении о розыске.
Он ещё приподнял шторки и выглянул сперва в боковое, затеем в заднее окно. Иоганн смотрел прямо на него с расстояния не больше двенадцати футов. Он шёл за каретой там, где толпа ещё не успела сомкнуться. Резким движением головы Иоганн велел Даппе опустить шторки и обернулся. Теперь Даппа увидел, что их неспешным шагом преследуют два субъекта. Каждый держал в руке по листовке. Дальше на Корнхилл раздавали такие же. Даппа подумал, что крикнуть: «Лови!» субъектам мешает только нежелание делиться наградой. Так что пока их было только двое, и они, видя шпагу Иоганна, боялись подойти ближе. Однако Чарльз Уайт будет плодить новых преследователей со скоростью типографского станка.
Удивительно! Как бы он объяснил это своим африканским односельчанам? Металлическая пластина, вставленная в раму, вымазанная чёрным и прижатая к белому листу, колдовским образом превращает одного человека в загнанную жертву, а всех остальных, увидевших заклинание, в безжалостных охотников. Однако та же пластина, в той же раме, при чуть другом узоре краски не подействует. А и вправду, что, если отпечатать листовку, в которой он, Даппа, объявит Чарльза Уайта своим сбежавшим рабом и объявит награду за его голову?
Это было бы даже лучше, чем всадить в Уайта свинцовую пулю. Однако что проку мечтать? На спасение можно надеяться. На месть — нет.
Карета достигла пересечения с улицей, которая меняла название от перекрёстка к перекрёстку. Если бы они свернули налево, то поехали бы на север по Бишопсгейт к Компании Южных морей, Грэшем-колледжу и Бедламу. Впрочем, вероятнее, они свернут вправо, на Грейсчёрч-стрит, которая дальше превращается в Фиш-стрит и ведёт мимо Монумента к Лондонскому мосту.
Карета остановилась на перекрёстке из-за необычайного скопления народа. В правое окно Даппа видел всё больше затылки, в левое — всё больше лица. То есть люди смотрели в основном на юг, на что — непонятно. Даппа снова выглянул в левое окно, пытаясь прочесть ответ на их лицах, и понял только, что все они смотрят куда-то ввысь. Однако он вновь увидел Компанию Южных морей: от ближайших ворот, на левой стороне Бишопсгейт, его отделяло футов двести. Здание было больше и новей, чем Английский банк. В каком-то смысле компания представляла собой антибанк — её обеспечением было асиенто, вырванный в прошлом году у Испании работорговый промысел.
Внезапно у толпы разом вырвалось восклицание. Даппа глянул вправо и увидел хвост дыма, уходящий в воздух примерно от вершины Монумента. И тут же глянул снова, потому что лантерну на самом верху исполинской колонны уродовали самодельные тали. Какая-то глупая потеха для толпы, заключил Даппа.
Однако Компания Южных морей не шла у него из головы. Она вздымалась на левом траверзе, словно пиратский корабль, средоточие мерзости, и, пока Даппа смотрел, некоторые понятия соединились у него в голове. План — не набросок, а законченный план во всей свой полноте — сложился в мозгу и был так очевидно верен, что Даппа без колебаний начал воплощать его в жизнь. Ибо план этот чудесным образом устранил из живота свинцовое ядро.
Он плюхнулся на колени перед скамьёй и швырнул на неё листок. Вытащив из кармана карандаш и лизнув грифель, словно таким образом мог добавить ему красноречия, Даппа вывел:
Ваше сиятельство, миледи!
Иоганн отважно исполнил данное ему поручение. Прошу Вас, не браните его, когда найдёте карету пустой.
В последнем нашем разговоре мы говорили о моей карьере литератора и рассказчика невольничьих историй. Возникло сравнение моих трудов с картечью, которая досаждает врагу, но бессильна отправить невольничьи корабли на дно морское, где им самое место. Вы убеждали меня прекратить сбор картечи и направить усилия на поиски единственного пушечного ядра.
До нынешнего дня я полагал, что ядро, сиречь история, которая раз и навсегда убедит англичан в чудовищности рабства, сыщется на невольничьем рынке где-нибудь в Сан-Пауло, Кингстоне или Каролине. Однако, к собственному изумлению, сегодня я обнаружил его у себя в животе.
«Минерва» отплывёт завтра утром, но меня Вы сможете найти в какой-нибудь лондонской тюрьме. Я буду просить бумаги, чернил и Ваших молитв.
Ваш преданный и покорный слуга,Даппа.
Оставив листок на скамье, он распахнул левую дверцу. За ней было свободное место: никто не хотел вставать там, где вид на юг загораживал экипаж. Иоганн, как и прочие, смотрел на Монумент. Даппа зашагал по Бишопсгейт — быстро, но не бегом. Преследователи, кажется, свернули за ним. Он не обращал внимания: отстанут эти, появятся другие.
Через несколько мгновений он уже сидел в кофейне буквально под сенью Компании Южных морей, пил шоколад и листал «Экземинер». Как будто имеет полное право здесь находиться.
Рядом дельцы разворачивали на столах документы: лоции заливов Бенин и Биафра, схемы загрузки невольничьих кораблей, амбарные книги, разбухшие от живого товара. В воздухе порхали родные слова: Аккра, Эльмина, Иджебу и Бонни. Даппа почувствовал себя на удивление хорошо и вольготно. Перевернув газету, он снова облизал карандаш и начал писать.
Шайвский утёс
сумерки
Через несколько мгновений сэр Исаак был уже на гукере; его седые волосы кометным хвостом сияли в зареве пылающей башни. Даниель стоял рядом, придавленный весом одеяла, мятая шапка сползала ему на глаза. Четверо драгун, перегнувшись через борт, пытались втащить полковника Барнса на палубу, не сломав ему последнюю ногу.
Вскоре баркас уже быстро удалялся от них — вода поднялась настолько, что шлюпке не было надобности держаться фарватера. Гукер, сидевший ниже, был более стеснён в маневрах. Даниель снял шапку и, подставив лысину ветру, укрепился в своих подозрениях: горящая башня с силой втягивала в себя воздух, и создавшийся ток подталкивал корпус и голые мачты гукера. Их влекло к столпу ревущего огня, словно мотылька — в горнило Вулкана.
Барнс тоже это заметил. Драгуны осматривали судно, ища якорь или какую-нибудь ему замену, но ничего не находили: фальшивомонетчики в спешке обрубили якорные канаты.
— Есть там что-нибудь тяжёлое? — крикнул Барнс драгуну, шарившему под палубой.
Исаак навострил уши: его тоже живо интересовало, есть ли в трюме что-нибудь тяжелое.
— Только сундук, — отвечал драгун. — Большой и тяжёлый, как собака — хрен поднимешь.
— Вы заглянули внутрь? — вопросил Исаак, подбираясь всем телом, как голодный кот.
— Нет, сэр, но я знаю, что там.
— Откуда вы знаете, если не смотрели внутрь?
— По слуху сэр. Он тикает ровно-ровно. Там внутри большие часы.
Исаак и Даниель повернулись друг к другу, словно их носы связаны верёвочкой, и её резко потянули.
Даниель, не сводя глаз с Исаака, обратился к драгуну:
— Настолько ли он тяжёл, чтобы его нельзя было подтащить к борту и сбросить в море?
— Я толкал, но не сдвинул его ни на волос, сэр.
Даниель спрашивал себя, надо ли сообщить драгуну то, что очевидно ему с Исааком: в трюме ветхого судёнышка тикает адская машина. Однако Исаак принял решение быстрее и сказал:
— Простите любопытство доктора Уотерхауза по столь пустячному поводу. Мы с ним оба — часовщики-любители. А поскольку делать нам пока нечего, думаю, мы спустимся в трюм и скоротаем время беседою о часах.
— Я с вами, — вмешался Барнс, который всё понял. — Если, конечно, позволите.
— Милости просим, полковник, — отвечал Даниель и первым двинулся к открытому люку, чёрным прямоугольником зиявшему на залитой огнём палубе.
Белая башня
сумерки
Отец Эдуард де Жекс, член Общества Иисуса, стоял на одной ноге (он повредил щиколотку) и оглядывал след, оставленный им на крыше Белой башни. Интересовало отца Эдуарда главным образом, где содержимое сумки, которая в последние несколько мгновений значительно полегчала.
Под натянутым тросом, вперемешку с упавшими шотландцами и разлетевшимися в стороны кинжалами, пледами и беретами, пролёг Млечный путь монет и кожаных мешочков. Де Жекс заковылял назад, складывая их в сумку. Устыдясь, что святой отец сгибается в три погибели, ошалелые горцы вскочили, потирая синяки, отряхнули килты и принялись собирать с крыши сверкающие монетки.
Однако де Жекс не перестал поднимать и считать гинеи, пока не упёрся в западный парапет. Здесь он увидел человека, которого сбил первым: здоровенного малого с чёрной повязкой на глазу. Малый заговорил на неплохом французском:
— Во имя древнего союза (подразумевались исключительно редкие, но уходящие корнями в глубь веков дипломатические переговоры между Францией и Шотландией) я приветствую вас в Лондонском Тауэре. Прошу считать его владением Франции…
— Pourquoi non, если его и строили для нас?
— …и распоряжаться здесь, как пожелаете!
— Отлично. Моё первое распоряжение: снять знамя Макиенов Макдональдов! — отвечал де Жекс.
То, что слова иезуита лорду Жи не по вкусу, отразилось на лице шотландца ясно, как след от клинка. Тем не менее ответил он с дерзким спокойствием, давая понять, что слышал и не такое, однако до сих пор жив.
— Прошу прощения, — сказал он. — Ребята у меня горячие, только что с вересковых пустошей. Куда им до осторожных парижан!
И Макиен повернулся в сторону знамени. Де Жекс тоже.
К своему изумлению, знамени они не увидели, только флагшток, перерубленный на высоте человеческого пояса очень острым клинком. Знаменосец — мальчонка лет четырнадцати, состоящий исключительно из веснушек — сидел рядом в амбразуре, зажимая разбитый нос.
Руфус Макиен отправился разбираться. Эдуард де Жекс закатил глаза (как же без этого), затем обвёл взглядом крышу Белой башни и только сейчас заметил, что Джека нет. Видимо, в суматохе, вызванной приземлением де Жекса, тот сам убрал знамя, а потом спустился по лестнице. Ближайший путь вниз лежал через круглую башенку в юго-западном углу здания, рядом с тем местом, где Макиен допрашивал сейчас веснушчатого паренька. Ясно было, что туда Макиен и отправится.
Де Жекс велел горцам оставаться на местах и зашагал к башенке. Трое или четверо, якобы не поняв приказа, двинулись за ним, но Макиен, направлявшийся к той же двери, обернулся — лицо его горело — и остановил их несколькими словами на родном языке. Он вошёл в круглую башенку, лишь на два шага опередив де Жекса.
— Жаль, — сказал иезуит, оглядывая совершенно пустую комнату. — Все астрономические инструменты вывезли.
Лорд Жи уже спускался по лестнице.
— Э?
— Разве вы не знаете? Здесь работал Флемстид до того, как обсерваторию перенесли в Гринвич. Некогда через это помещение проходил нулевой английский меридиан…
Сказанное никак не относилось к делу; де Жекс всего лишь хотел убрать с лица лорда Жи выражение мрачной сосредоточенности. Однако то, что подействовало бы на французского дворянина, чьи социальные рефлексы отточены Версалем до полного автоматизма, не сработало с лордом Жи, который заслужил дворянство, разрубив француза пополам, и сейчас выказывал явную готовность повторить свой подвиг.
Внутри круглой башенки проходила винтовая лестница. Чтобы найти Джека, надо было просто заглядывать во все двери подряд. Вскорости он сыскался на среднем из трёх этажей. Помещение это, бывшее некогда тронным залом, давно превратили в хранилище документов. Джек сидел на корточках перед огромным камином и сыпал порох из пороховницы на сложенное в несколько раз шотландское знамя. По пути через тронный зал он прихватил с пыльных полок охапку свитков в качестве растопки.
— Жак… — начал де Жекс.
— Потерпите, ваше целомудрие, пока я уничтожу улику.
— Мерзавец! — вскричал лорд Жи.
Джек обернулся и увидел Макиена.
— Я сказал «уничтожу улику»? Я имел в виду, что священное знамя порвалось и испачкалось в потасовке. Единственный способ достойно проводить его в последний путь — предать очистительному огню.
Он поднёс пистолет — как выяснилось, незаряженный — и нажал на спуск. Искры от кремня упали на посыпанную порохом ткань и стали больше чем искрами. Огонь побежал по знамени, как по стерне, только быстрее. Джек отпрыгнул от дыма, который из-за отсутствия тяги устремился за ним, как хвост за ракетой.
— Давайте выбираться отсюда в такое место, где есть чем дышать. — С этими словами Джек зашагал мимо де Жекса и Макиена к лестнице.
Де Жексу случалось видеть дуэли. Они были столь же регламентированы и обстоятельно продуманы, как бракосочетания. Однако он наблюдал и довольно потасовок, чтобы понимать: даже они происходят не так спонтанно, как может показаться на первый взгляд.
Гуляя по Версальскому парку, вы могли услышать внезапный шум и, обернувшись, увидеть, что некий дворянин (назовём его Арнольд) бросается с обнажённой шпагой на другого (назовём его Блез). Сторонний наблюдатель подумал бы, что Арнольд обрушился на Блеза ни с того ни с сего, как снежный ком с ветки. Однако на самом деле арнольды мира сего редко бывают столь безрассудны. Внимательный человек, наблюдавший Арнольда за две-три минуты до вспышки, заметил бы, как между ним и Блезом что-то произошло: некий сознательный афронт со стороны Блеза, отказ пропустить Арнольда в дверь или острота по поводу его парика, очень модного в прошлом сезоне. Если Блез был законченный фат, то он проходил дальше, насвистывая как ни в чём не бывало.
Однако Арнольд превращался в Живой Пример, достойный анналов Королевского общества. Целый синклит английских ученных с лупами и записными книжками мог бы, обступив Арнольда, ловить на карандаш выражения его лица, а потом отпечатать серию гравюр, снабженных подходящими латинскими подписями. Симптомы в большинстве своём были связаны с гумором страсти. Несколько мгновений Арнольд стоял, осознавая услышанное. Лицо его багровело по мере того, как стенки сосудов раздувались от крови, которую гнало по ним сердце, стучащее, как турецкий барабан перед началом битвы. Однако он ещё не бросался на обидчика, потому что на этом этапе физически не мог двинуться. Всё происходило в голове. Оправившись от первого шока, Арнольд убеждал себя, что справился с чувствами, взял себя в руки и готов хладнокровно обдумать дело. Следующие несколько минут он заново переживал эпизод с Блезом. Считая, что рассуждает бесстрастно и методически, Арнольд находил неопровержимые свидетельства, что Блез — мерзавец, и выносил тому смертный приговор. Засим вскорости следовало нападение. Однако тому, кто не наблюдал все предварительные стадии вместе с членами Королевского общества, атака представлялась самопроизвольной, как взрыв адской машины.
Де Жекс стоял за спиной Макиена и видел сожжение знамении из-за его плеча. Уши Макиена стали пунцовыми. Он не шелохнулся, когда Джек прошёл мимо него по лестнице. Де Жекс знал, что будет дальше. Он не мог остановить процесс, идущий у Макиена в голове: выстраивание аргументов, скорый и неотвратимый суд. Однако кое-какие действия де Жекс предпринять мог. Он поставил сумку и тихо сунул руку в прорезь сутаны.
Хотя отец Эдуард принадлежал к Обществу Иисуса, он оставался членом человеческого общества и сейчас жил в Лондоне, самом жестком городе из всех, что повидал, обогнув земной шар. Пальцы его нащупали за поясом рукоять дамасского кинжала, купленного у баньяна в Батавии. Де Жекс бесшумно вытащил клинок из кожаных ножен. Макиен по-прежнему стоял неподвижно. В комнате слышался лишь треск пламени, пожирающего груду древних документов, которую Джек сложил рядом со знаменем. Де Жекс нарушил тишину, сделав шаг вперёд.
Однако этот едва различимый звук вызвал к жизни другой, куда более громкий, позади де Жекса. Не успел иезуит обернуться и понять, что происходит, как его правую руку завернули за спину. Пальцы разжались, но кинжал не упал: его подхватила чья-то чужая рука. Через мгновение она появилась перед де Жексом и приставила кинжал к его горлу. Иезуита обхватил сзади человек, от которого пахло пропотелой шерстью, лошадьми и порохом. Кто-то из горцев бесшумно спустился за ними по лестнице.
— Как ты будешь духовного звания, я тебя пощажу, — прошипел горец ему в ухо. — Но если ты скажешь хоть слово, то следующую проповедь будешь читать святому Петру.
Руфус Макиен обернулся. Уши его больше не горели. Едва удостоив де Жекса взглядом, он начал спускаться по винтовой лестнице вслед за Джеком.
Весь первый этаж был доверху забит бочонками с порохом. Не желая отправить к праотцам остатки своего клана, Макиен вынул из-за пояса пистолет и, убедившись, что затвор не взведён, положил его на подоконник.
— О чём ты думал? — спросил Джек.
Джек-Монетчик стоял в проходе между штабелями пороховых бочек. Клинок он не обнажил, только выдвинул на несколько дюймов и стоял боком, что в обществе, где люди часто протыкают друг друга холодным оружием, считается угрожающим.
Макиен сохранял дистанцию.
— Я не рассчитывал прожить так долго, — признался он, — и не задумывался, что будет дальше.
— Тогда я подкину тебе пищу для размышлений, — сказал Джек. — Мы здесь закончили.
— Закончили?!
— Мы сделали всё, что требовалось, — отвечал Джек. — Остались кое-какие мелочи на Монетном дворе. К ним мы с отцом Эдуардом приступим, когда вас… не будет.
— Не будет?! И как вы намерены удерживать Тауэр без нас?
— В мои планы не входит его удерживать, — сказал Джек. — Бегите. Бегите в горы. Прямо сейчас. Упивайтесь своей местью. Если только…
— Если что?
— Если ты не хочешь сойти в могилу героем Британии, защищая дом королевы из рода Стюартов.
— Это слишком, — сказал Макиен. — Я не могу такое стерпеть.
Он свёл руки перед собой, словно желая соединить их в молитвенном жесте, но не остановился, а продолжил движение, пока пальцы не сомкнулись на выступающей из-за плеча рукояти клеймора. Миг — и клинок перед ним. Джек так же стремительно обнажил свой — булатной стали, изогнутый, как у сабли, и на турецкий манер расширяющийся к концу. Странная получалась дуэль: средневековый меч против не пойми чего.
— Отлично, — сказал Джек. — Значит, герой Британии.
Джеков клинок был быстрее и легче. Макиен не успел бы парировать удар, поэтому первым ринулся вперёд, как бык из загона, и, обманув Джека серией ложных выпадов, со всей силы рубанул сверху. Лёгким клинком такой удар было не отбить, и Джеку пришлось отпрыгнуть назад, в проход между бочками с порохом. Здесь у Макиена не было настоящего простора для размаха, однако, поскольку Джек удар не отбил, клеймор продолжал двигаться по инерции; Макиен послал его на второй круг и обрушил на голову Джека новый удар. Джек еле успел закрыться. Если бы он развернул саблю горизонтально, пытаясь остановить клеймор, его бы это не спасло. Однако ему достало ума или везения вывести рукоять вверх. Клеймор скользнул по наклонному клинку вбок, почти не потеряв скорость, и, ударив в пол, выбил искры из камня у основания бочки с порохом.
В Руфусе Макиене сосуществовали два человека. Одного — толкового рассудительного офицера — на время вытеснил иступленный кельтский воитель. При виде искр, упавших на бочку с порохом, воитель исчез, как блуждающий болотный огонь. Остался офицер. Мгновение Руфус Макиен ждал, взлетят ли они вместе с Белой башней на воздух. Однако искры погасли, и ничего не случилось.
— Повезло, — заметил Макиен и прочистил горло, потому что в лёгких что-то скопилось. Он заметил, что Джек стоит близко — слишком близко, чтоб ударить его длинным клеймором. Более того, конец меча был прижат Джековым башмаком. Руфус Макиен кашлянул и почувствовал на бороде что-то горячее и мокрое. Опустив глаза, он увидел рукоять Джековой сабли, всю в басурманских узорах, прижатую к своей груди.
— Это потому, что мне вообще везёт, милорд, — сказал Джек, хотя Макиен ощущал странную рассеянность — он слышал слова, но не воспринимал смысл. — Во всём, кроме самого главного.
— Теперь на Монетный двор, — сказал Джек, отступая на шаг и вскидывая саблю. Кровь брызнула с острия на стену, оставив на сухих камнях длинный алый потёк.
Секунды три де Жекс стоял без движения. Он скосил глаза вниз и убедился, что кинжал валяется на полу, то есть не приставлен больше к его горлу. Вес, давление и запах шотландца исчезли. Иезуит нагнулся, поднял кинжал и круто повернулся к Джеку. Нога его скользнула в горячей лужице. Шотландец лежал на боку, поджав к животу ноги — глаза полузакрыты, лицо серое.
— Это было очень рискованно, — заметил де Жекс.
— О, простите, теперь мы будем оглядываться на риск?! — изумлённо отвечал Джек. — Да знаете ли вы, что сейчас чуть не…
— Ладно, ладно, — оборвал его де Жекс, зная, что уж если Джек пошёл иронизировать, это неостановимо, как икота.
Они спустились на первый этаж. Древняя дверь в Белую башню располагалась с другой стороны, но в основании винтовой лестницы имелась более новая. Она выходила на полоску травы между северной стеной башни и складами, примыкающими к куртине. Здесь Джек ненадолго замедлил шаг, потому что склады были одинаковые, как стога сена, и он не мог сообразить, куда поворачивать. Однако, подняв голову, он увидел над зубчатой линией крыш парапеты трёх бастионов. На удачу, пожар в Тауэр-хамлетс к северу от рва ещё не потушили; даже в наступивших сумерках бастионы чётко вырисовывались на фоне алого зарева. Джек, съевший собаку на всём, что касается Тауэра, узнал башни Лучную, Кирпичную и Сокровищ.
Кто-то окликал его сверху. Джек не мог разобрать ни слова. Он повернулся, запрокинул голову и, сложив ладони рупором, крикнул шотландцам на крыше Белой башни: «Бегите!» Затем они с де Жексом зашагали на север. Джек высматривал, где можно пройти через склады в основание Кирпичной башни — среднего из трёх бастионов. Наконец его глаза привыкли к сумеречному свету, и он нашёл, что искал: ворота в сплошной череде фахверковых фасадов, такие большие, что в них мог проехать воз.
В воротах стояли два человека: один великан, другой — ростом с мальчишку, Евгений и Том-чистильщик.
— Я нашёл, где ход, — объявил Евгений.
— Стражник с тобой?
Евгений указал на бифитера, который стоял внутри склада. Руки его были связаны за спиной.
— Хорошо, что ты наконец здесь, брат, — сказал Том Джеку. — Я никак не могу втолковать московиту, что нам не сюда! — Он указал большим пальцем через плечо. — Там — Кирпичная башня. А Башня сокровищ — следующая!
Том вышел на траву и указал на бастион в юго-восточном углу Внутреннего двора. Перед бастионом толклись человек десять молодцов. Выглядели они так, будто пятнадцать минут назад сошли с флагмана Чёрной Бороды, и все пристально смотрели на Джека.
— И что с того? — спросил Джек.
Неловкая пауза.
Лицо Тома приобрело бледноватый оттенок.
Де Жекс подошёл и зашептал Джеку на ухо.
— Ах да, конечно, Башня сокровищ, — протянул Джек. — Там хранятся эти, как их…
— Сокровища короны, сэр, — подсказал совершенно обескураженный Том.
— Я понял… да… разумеется! Сокровища короны. Отлично. — Джек надолго задумался. — Хочешь стащить сокровища короны, раз мы всё равно здесь?
— Я думал, для того всё и затевалось, сэр, — отвечал Том, сейчас и впрямь похожий на мальчишку.
— О да! Конечно! — воскликнул Джек. — Разумеется, я всю жизнь мечтал носить на голове тяжеленную золотую нахлобучку, утыканную драгоценными камнями! Алмазы, рубины — я без них жить не могу. Вперёд! Бегом!
— А вы не хотите…
— Ты отлично справлялся до сих пор, Том, да и твои ребята выглядят надёжными. Поройтесь пока в Башне сокровищ. Там и встретимся.
Евгений прочистил горло.
— Поправочка. Встретимся… э… у Чёрного Джека в Хокли завтра вечером после медвежьей травли.
Джек сопровождал свою импровизацию кивками, жестами и подталкиваниями. Все они адресовались Тому и все имели целью направить его к прославленной сокровищнице. Наконец Том двинулся — пятясь спиной вперёд и не сводя глаз с Джека.
— Вы уверены, что удобно пилить державу монарха в шалмане Чёрного Джека?
— Распили её где хочешь, а мне принеси в мешке, сколько сочтёшь нужным. Давай-давай, двигай!
Пока Джек говорил эти слова, Том, прошедший уже половину пути до преступных личностей, оглядывал крыши, полагая, что Джек испытывает его верность: один неправильный шаг, и стрела из арбалета пронзит ему сердце. Однако вокруг никого не было, за исключением нескольких разъярённых горцев, которые начали высыпать из дверей Белой башни. Так или иначе, его это подхлестнуло.
— Ладно! — воскликнул Том, развернулся и припустил к сокровищам короны. Джек этого уже не видел, потому что вместе с де Жексом бежал туда, где их дожидался Евгений. Тот затворил за ними тяжёлые ворота.
— Как тебя звать? — спросил Джек стражника.
— Клуни! И вы ничего от меня…
— Послушай, Клуни, ты говоришь так, будто я какой-нибудь подлый негодяй. А я всего-то хочу, чтобы ты составил мне компанию на ближайшие несколько минут и благополучно пережил эту ночь.
— Я не желаю составлять вам компанию ни на сколько.
— Тогда придётся напомнить, что я и впрямь подлый негодяй. Можешь идти сам, а нет — русский накинет тебе на шею верёвку, и поедешь по ступеням на своём набитом говядиной брюхе!
— Я пойду, — отвечал Клуни, глядя на Евгения. Надо думать, он уже насмотрелся на то, что может сделать московит, и боялся его больше, чем Джека.
Последовала короткая пробежка через тёмные недра Тауэра. После третьего поворота Джек совершенно потерял направление. Он догадывался, что они прошли через куртину и попали в Кирпичную башню.
Впереди открылась каменная лестница. Она вела вниз, во мрак, который не рассеивали их фонари. Кто-нибудь посуеверней Джека отпрянул бы, увидев в ней прообраз тюрьмы, смерти и спуска в иной мир. Однако в каталоге жутких мест, куда Джек совался за свою жизнь, это ничем особым не выделялось. Он начал спуск, повернул налево на лестничной площадке, потом снова налево у основания следующего пролёта. Они будто угодили в какое-то норманнское подземелье, но, пройдя в дверь, Джек оказался, кто бы мог подумать, на улице — Минт-стрит. Прямо перед ним стоял дом, чёрная от копоти развалюха. Дверь её была распахнута, внутри горел огонёк. Дверь и улицу стерегли трое — все прекрасно знакомые Джеку — с ne plus ultra[13] оружием сдерживания толпы, мушкетонами. И стерегли успешно: толпа (несколько рабочих Монетного двора) посматривала издали, готовая, если потребуется, отбежать за Лучную башню.
Не потребовалось. Джек замедлил шаг, опустил тяжёлую сумку, давая роздых руке, и обернулся посмотреть, где остальные. От этого движения плащ распахнулся, явив притихшим зрителям роскошную золотую подкладку. Увидев де Жекса сразу за собой, Джек подхватил сумку и внёс её в дом смотрителя Монетного двора.
Дом был пуст. На должность смотрителя — выгодную синекуру — обычно назначали людей, ничего не смыслящих в чеканке монет и не особо желающих в неё вникать, зато со связями. Такой человек не станет жить в таком доме, пусть даже предоставленном ему государством. Он скорее поселится в живодёрне на окраине Дублина, чем на дымной улице среди солдатни. Поэтому дом по большей части не использовался, за исключением одной комнаты. Идя на свет, Джек спустился по лестнице к распахнутой двери.
Хранилище было в ширину не больше размаха рук и такое низкое, что Джек едва не упёрся головой в сводчатый потолок. Оно располагалось ниже уровня рва — отсюда сырость, — но выстроено было на славу. На столе у дальней стены стоял чёрный ящик с тремя запорами. Два открытых замка болтались на петлях, как свежеубитая дичь. Третий, размером с мужской кулак, ждал своей очереди. Перед ящиком на перевёрнутой корзине сидел рослый детина, чьё лицо скрывали упавшие на лицо чёрные пряди. Он всматривался в замок с расстояния в несколько дюймов, ковыряясь в его внутренностях стальной зубочисткой. Зрелище не удивило Джека, который ожидал, что так всё и будет, за одним-единственным исключением.
— И это он?! — воскликнул Джек.
— Это ковчег, то есть ящик для пробной монеты, — отвечал черноволосый голосом вошедшего в транс индусского мистика.
— В любой другой стране уж расстарались бы, чтобы он выглядел впечатляюще. А тут — ящик и ящик.
— Всякая вещь, исполняющая роль ящика, неизбежно выглядит ящиком, — сказал черноволосый. — Если тебя это утешит, замки превосходные.
— Как-то не похоже, что эти два превосходны, — заметил Джек.
— Зато третий! Полагаю, первые два принадлежат лорду-казначею и смотрителю. А это — замок директора.
— Ньютона.
— Да. Какой-то европейский почитатель — не иначе как герцог или князь — сделал ему такой презент.
Джек услышал за спиной дыхание де Жекса и сказал:
— Уж кто-кто, а ты мог бы помнить про время.
— Сатурн был повелитель времени, а не его раб.
— А ты?
— Когда как. Большую часть дня я у времени в рабстве, и лишь когда копаюсь в часах — или в замке, — оно останавливается.
— Ты хочешь сказать, часы останавливаются?
— Нет. Останавливается время, или так мне кажется. Я не чувствую его хода. Когда меня отвлекают, я замечаю, что мочевой пузырь переполнен, во рту пересохло, в животе бурчит, камин погас, а солнце село. Но тогда передо мною на столе собранные часы… — в механизме что-то хмыкнуло, — или открытый замок. — Сатурн не мог встать в полный рост, поэтому просто выпрямился, глубоко вздохнул и осторожно, чтобы не ударить о стенку ящика, снял замок.
— Ты только что говорил, будто Ньютонов замок какой-то охрененный.
Сатурн поднёс замок к свече, чтобы все могли полюбоваться его барочностью. Замок изображал портик античного храма, вполне классический, однако вместо греческих богов его украшали серафимы и херувимы, а по фризу шла надпись на древнееврейском.
— Храм Соломона, — объяснил Сатурн.
— Замочной скважины нет! — изумился Джек.
Между колоннами располагалась крохотная дверца тоже с древнееврейской надписью. Сатурн открыл её чёрным ногтем. За дверью на алтаре горело пламя — видимо, из чистого золота. В нём-то и располагалась неимоверно сложная замочная скважина, вырезанная в форме лабиринта.
— Ты был прав, — сказал Джек. — И впрямь охренеть можно.
— Красиво и умно. Однако замок — он замок и есть.
Сатурн откинул третий запор, взялся за ручку на крышке и потянул.
Ковчег со скрипом открылся. Джек шагнул вперёд. Де Жекс торопливо встал рядом с ним.
Шайвский утёс
сумерки
На палубе, в свете горящей башни, драгуны шестами толкали гукер, мучительно, ярд за ярдом уводя его от пламени; под палубой в свете фонаря, который Барнс предусмотрительно захватил с «Аталанты», сэр Исаак Ньютон и Даниель Уотерхауз смотрели на огромный запертый сундук и слушали его тиканье.
Барнс подсунул штык под окованный железом сундук и попытался его поднять, затем объявил:
— Дело даже не в весе. Он привинчен к корпусу корабля, и головки болтов — внутри сундука.
Исаак не ответил. Он вообще молчал с тех пор, как спустился в трюм и не увидел там ничего, кроме тикающего сундука.
В кои-то веки у Даниеля было интеллектуальное преимущество. Исаак поднялся на гукер в полной уверенности, что расставил капкан Джеку-Монетчику и скоро завладеет золотом Соломона. Мысль, что это Джек расставил ему капкан, только сейчас проникла в его сознание, и ей требовалось время, чтобы пустить корни.
Инстинкт гнал Даниеля на нос или на корму, как можно дальше от адского механизма. При большом везении он мог бы пережить взрыв. Однако сейчас стало ясно, что гукер переломится, как сухая ветка, и мгновенно утонет в холодной тёмной воде.
Поднимаясь на палубу, Даниель забрал фонарь, чтобы буквально оставить Исаака во тьме неведения. Он боялся, что при свете Исаак попытается что-нибудь сделать с механизмом. Барнс вышел вслед за Даниелем.
Шайвская башня раскалённым докрасна обелиском вставала прямо из моря.
Беглецы подрубили мачты и выбросили за борт румпель, так что гукер мог только дрейфовать по воле ветра и волн. Куда она приведёт, оставалось лишь гадать, поскольку Темза и Медуэй вступили в войну с начавшимся приливом и по всей линии фронта закручивались лихие водовороты. Но в целом судёнышко несло к середине устья, откуда объединенное течение рек должно было вытолкнуть его в море. До острова Грейн было пока не так далеко; возможно, ещё оставалось время призвать сержанта Боба, который где-то во тьме спасал солдат Первой роты от наступающего прилива. Боб видел, что башня горит; однако ему неоткуда узнать, что к дну гукера привинчена адская машина.
Драгуны отрубили от сломанных мачт реи и теперь отталкивались ими, как шестами, от илистого дна, стоя у борта и прижимая реи к груди (они были очень тяжёлые). Когда несколько минут назад Даниель с Исааком спускались в трюм, задачей драгун было удержать гукер, чтобы его не засосало пламя. Это не составляло большого труда, поскольку вода еле-еле поддерживала судёнышко, и шесты легко находили дно. Теперь всё изменилось. Они отошли на безопасное расстояние от вишнёво-красного столпа.
Стало гораздо темнее. Контраст между тем, на что падали отблески, и всем остальным, был так велик, что Даниелю приходилось воссоздавать картину событий по редким пятнам и полосам света, по лицам, возникавшим урывками, словно во сне. Однако он видел, что драгуны опасно перегнулись через борт, с трудом удерживая шесты, почти на всю длину ушедшие в воду. То ли прилив так быстро поднимал судёнышко, то ли они вытолкнули его на глубину. Так или иначе, они теряли возможность управлять гукером.
Башня — единственное, что было видно за пределами судна — долгое время оставалась в одной и той же точке по левому борту. Сейчас она резко сдвинулась, уменьшаясь в размерах. Течение гнало их в море.
— Что будет, если выстрелить из ружья, когда в дуле шомпол? — спросил Даниель из темноты.
— Сержант Шафто изобьёт вас до полусмерти! — отвечал драгун.
— А что будет с шомполом?
— Наверное, вылетит, как копьё, — сказал драгун, — если не застрянет в дуле и всё это дело не взорвётся у вас в руках.
— Я хотел бы проделать дыру в запертом сундуке, — объяснил Даниель.
— У нас есть топор, — предложил драгун.
— Сундук окован железом, — ответил Даниель.
Но он уже отказался от идеи стрелять шомполом или вообще чем бы то ни было по тикающему сундуку, понимая, что адскую машину можно с тем же успехом не повредить, а взорвать.
Как только Даниель понял, что они совершенно точно обречены, на него снизошло странное умиротворение.
Он спустился в трюм, чтобы сказать это всё Исааку, которого они бросили в темноте. Даниель ожидал упрёков, но, посветив фонарём, увидел, что Исаак лежит, прижав ухо к сундуку, словно врач королевы Анны, проверяющий, бьётся ли ещё её сердце.
— Это Томпионов механизм с балансиром, — объявил Исаак, — очень массивный. Как будто часы сделаны для великана. Но сделаны очень хорошо. Ничто не скрежещет, шестерёнки крутятся легко.
— Попытаемся его взломать?
— Встраивать смертельные ловушки в замки научились задолго до первых адских машин, — заметил Исаак.
— Понимаю, — сказал Даниель. — Однако альтернатива — ничего не делать и ждать, пока нас разнесёт в клочья…
Он не договорил, потому что Исаак зажмурился и, приоткрыв рот, сильнее припал ухом к железной оковке сундука.
— Что-то происходит, — провозгласил Исаак. — Есть закреплённый стержень. Вращается кулачок… — Он открыл глаза и отпрянул, словно только сейчас осознал грозящую опасность. Даниель поддержал его за руку, помогая встать, и тут же поймал в объятия, потому что гукер сильно накренился на морской волне.
— Ну, — спросил Даниель, — готовы ли вы узнать, что будет потом?
— Я уже сказал, там какой-то механизм.
— Я имел в виду, после смерти, — сказал Даниель.
— К этому я готов давно, — отвечал Исаак. Даниель вспомнил Троицын день 1662 года, когда Исаак покаялся во всех прежде совершённых грехах и приготовил место для записи новых. Появилось ли что-нибудь на той странице? Или она по-прежнему чиста?
— А вы, Даниель? — спросил Исаак.
— Я приготовился двадцать пять лет назад, когда умирал от камня, и с тех пор часто раздумывал, когда же Смерть удосужится за мной зайти.
— Тогда нам обоим нечего страшиться, — сказал Исаак.
На чисто интеллектуальном уровне Даниель был с ним согласен, но всё равно подпрыгнул, когда в сундуке что-то механически лязгнуло и крышка откинулась на двух мощных пружинах. Что произошло дальше, Даниель не видел, поскольку (как позже со стыдом осознал) спрятался за Исаака. Теперь он шагнул вперёд. Фонарь был больше не нужен: сундук излучал собственный свет. Снопы разноцветных искр сыпались из трубок, торчащих как стальные пики на Старых каменных воротах Лондонского моста. На какое-то время Даниель ослеп, когда же глаза привыкли, увидел резную раскрашенную фигурку, подрыгивающую на пружине. Фигурка была в дурацком колпаке с колокольчиками, деревянная физиономия кривилась в глупой ухмылке. То был чёртик из табакерки, или, как его ещё называют, Джек из коробка. Подсвеченный снизу бенгальскими огнями, он выглядел мерзко и жутковато.
Исаак подошёл к сундуку. Игрушка покачивалась над грудой золотых монет — они хлынули через край, когда сундук открылся, и продолжали скатываться на палубу. Одна замерла в нескольких дюймах от Исааковой ноги. Тот нагнулся её поднять. Даниель, вечный лаборант, поднёс фонарь. Исаак смотрел на неё четверть минуты. У Даниеля затекла рука, но он не смел шелохнуться.
Наконец Исаак вспомнил, что пора бы уже и задышать. Он тихо причмокнул губами, восстанавливая речевые способности.
— Мы должны немедля возвращаться в Тауэр.
— Я всецело за, — отвечал Даниель. — Боюсь только, что течение Темзы и Медуэя — против.