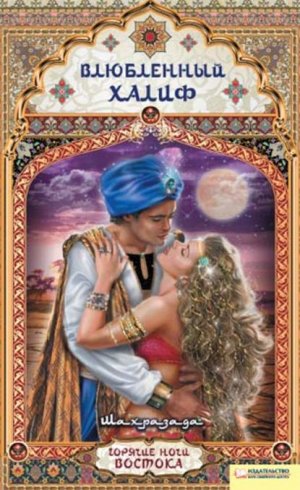
— Некогда жил на прекрасной земле сильный и могучий народ, который эллины называли «атлантами». Сами же атланты звали себя более скромно — «великими», ибо считали, что все тайны мира, все знания и все законы были узнаны или изобретены ими. И потому лишь они, считали атланты, достойны носить звание прародителей человечества и открывателей и хранителей всех истин.
— Какая глупая гордыня… — прошептал кто-то из учеников.
— Ну, не будем столь прямолинейны в суждениях. Ибо некогда, и это чистая правда, атланты уже владели многими научными знаниями, которые мы начинаем постигать лишь сейчас. Они первыми научились плавить металлы и прясть нити, изобрели колесо и бумагу… Во всяком случае, так говорят легенды мира. Со временем стали атланты ленивы и нелюбопытны. Они решили, тут ты прав, ученик, что уже все ими открыто, все тайны разгаданы и все искусства им подвластны. И тогда начался в истории этого народа, живущего посреди океана на изумительно красивом зеленом острове, долгий период сбора, накопления и систематизации этих самых знаний, загадок и тайн. Сколько тысячелетий он продолжался, неведомо никому. Быть может, длится и сейчас… Безумием было то, что атланты решили не просто собирать тайны и красоты мира, а захотели весь мир классифицировать, решили все чудеса ранжировать, поставить на полку и украсить этикеткой. Увы, множество прекрасных произведений искусства, книг, изобретений сочли они тогда неподходящими и достойными лишь свалки. А свалкой эти надменные люди считали весь остальной мир. И тогда множество странных железных кораблей, управляемых не ветром или веслом, а неведомой силой, стали привозить в Ливию и Кемет, в землю франков и Элладу прекрасные статуи и рукописные книги, свитки и сосуды с удивительным содержимым, а то и пустыми, но со странным устройством внутри.
— Надменные недоумки…
— …Множество вещей моряки — посланники «великих» — попросту сбрасывали в воду у островов или выкладывали на прибрежный песок. Должно быть, эти самые «великие» хотели таким образом посмеяться над отсталыми, по их мнению, народами. Должно быть, атланты думали, что весь остальной мир испугается изваяний, которые найдет в полосе прибоя, отравится содержимым амфор и кувшинов или уничтожит себя, попытавшись разгадать неведомые изобретения.
Учитель, которого звали Георгий, усмехнулся. Он, всю жизнь отдавший тому, чтобы знания и умения расходились по миру, до сих пор не мог взять в толк, как можно из бесконечной сокровищницы чудес и тайн что-то выбрасывать, уничтожать или запрещать.
— Но народы мира, получившие эти дары, оказались куда умнее самих «великих». Они разгадали тайны неведомых устройств, не стали торопиться и пробовать на вкус неведомые снадобья, научились читать выброшенные «великими» письмена и любоваться картинами и изваяниями.
— Прости, что перебиваю тебя, учитель, — робко проговорил высокий юноша. — Но ты только вчера получил от ученика из страны Мероэ удивительные дары… Исторические книги же в один голос твердят, что страна Мероэ скрылась под песками еще в те дни, когда черная страна Кемет была молода и ею правили лишь первые фараоны.
— Ты чуть поспешил, Хасан… Хотя, быть может, это я чрезмерно увлекся описанием предполагаемой атлантами глупости древних народов. Пора рассказать вам, ученики, и о великой мудрости, древним народам также присущей.
Да, юный Хасан, ты прав. Этот щедрый дар мне прислал мой давний ученик, ныне властелин страны Мероэ. Ты опять прав, ученик: прекрасная страна мудрецов, Мероэ, появилась задолго до того момента, когда расцвела черная земля Кемет, задолго до того, как первый из фараонов стал править Верхним и Нижним Царствами. Спокойно и гордо шествует сквозь века эта, как говорят, исчезнувшая страна. Но те, кто считает, что она ушла в пески пустынь, растворилась и что даже кости ее народа истлели и превратились в ничто, воистину неправы.
Некогда страна эта воевала, как и другие страны. Ее властители завоевывали соседей, пытаясь расширить свои владения и покорить чужие народы. Но к началу царствования последнего из известных истории царей (истории, дети мои, но не нам) народ этот стал спокоен и нечестолюбив, желая лишь покоя и мира с соседями. И желание это было столь сильно, что оно, словно щит, закрыло от посторонних глаз прекрасную страну. Страна жива и поныне; она и сейчас цветет, развивает искусства и науки, учит своих детей всему, что только есть в этом прекрасном подлунном мире.
— Жива, учитель? Жива и невидима?!
— Да, — кивнул Георгий. — Страна прекрасна, ибо я там бывал. И она невидима, ибо только так ее жители, а их тысячи и тысячи, могут защититься от притязаний соседей, от завоевания и разорения.
— И значит, книги по истории врут?
— О нет, мальчик, книги по истории правдивы. Они просто не могут рассказать то, чего не знают их авторы.
— Но ведь ты это знаешь, уважаемый учитель!
— Знаю и с удовольствием делюсь этим знанием с вами. Ведь вы, мои любимые ученики, не пойдете завтра во главе войска с войной на царство Мероэ, верно? Вам без надобности их земли и сады, реки и дворцы. Вам достаточно знания о том, что они существуют, и, быть может, когда-то вы, чистые сердцем, сможете туда попасть. Ибо дорога к таким, спрятанным от жестокого мира странам, для пытливых умов и сердец открыта всегда.
Эти слова слышали не только ученики достойного Георгия, но и статуи, что нашли свой приют в прохладной полутьме библиотеки. Быть может, все, что учитель рассказал в этот предвечерний час, было чистой правдой. А может, оно было тем, что мудрый Георгий только считал правдой. Истина бывает намного более удивительной, чем даже самые смелые предположения великого наставника…
Знали это лишь статуи. Должно быть, поэтому так странно улыбались губы каменной красавицы…
Свиток первый
— А теперь, мои усердные ученики, — дребезжащий голос почтенного Мустафы окреп, — я поведаю вам одну давнюю легенду.
— Легенду, почтеннейший? — переспросил Мераб, сын визиря и любимый ученик Мустафы.
Только ему, следует сказать честно, мог простить уважаемый учитель столь непочтительное поведение.
— Да, мои невоспитанные слушатели, — с укором в голосе продребезжал Мустафа. — Ибо всю неделю вы были прилежными учениками и усердно изучали сложнейшее строение внутренней логики, что движет сводом законов великой Поднебесной империи. В награду за это я и захотел рассказать вам о Медном городе, заповедном и прекрасном. Город этот отстоит и от империи Син, и от всех остальных стран и полисов на многие тысячи фарсахов. Так гласит легенда.
— Легенда? — вновь непочтительно перебил учителя Мераб. — Тогда, наверное, города этого давно уже нет…
— Мой самый неучтивый из учеников, — дребезжание Мустафы стало чуть громче. — Если о чем-то говорит легенда, это еще не значит, что ее предмет не существует. Более того, это значит, что предмет сей столь необыкновенен, что говорить о нем может лишь сказка, а не скучные летописи или записи в ученической тетради.
«О Аллах, — подумал непочтительный, но любопытный двенадцатилетний Мераб, — если учитель говорит столь громко и столь цветисто… Должно быть, легенда эта и в самом деле необыкновенная».
Юноша решительно отвернулся от окна, за которым купались в солнечном свете глицинии дворцового сада, и сосредоточился на речах наставника.
— Итак, Медный город…
Мустафа замолчал и сделал несколько шагов вдоль стены классной комнаты.
— Пожалуй, я начну так, как начинается сама легенда… Лежит, гласит она, прекрасный Медный город не за горами и долами, не за океанами и морями, а за пределами разума ограниченного и нелюбопытного. Ибо путь туда открыт лишь избранным. Живут в этом удивительном городе люди сильные и смелые, отважные и разумные. Живут они без страха перед будущим, ибо оно им ведомо, живут и без страха перед нищетой, ибо люди эти небедны и щедры. Также неведом жителям Медного города и страх перед врагом, ибо нет у них врагов ни среди людей, ни среди зверей.
О, как захотелось Мерабу в тот же миг оказаться среди жителей этого города! Пройти по его улицам, вслушаться в наверняка неторопливую речь обывателей, ощутить вкус пищи, что готовится их руками… «Должно быть, великое счастье — оказаться тем самым избранным», — подумал юноша. Однако учитель продолжил рассказ и следующие слова не просто удивили, а изумили Мераба, заставив позабыть о мечтах.
— Рассказывают, что дороги в этом городе все сплошь выложены камнем. Но то не простой камень — то огромные самоцветы, обработанные так, чтобы превратились они в яркий и прочный ковер без колдобин и выбоин. Ибо знают жители Медного города, что самое большое богатство в жизни человека не самоцветы или золото, а жизнь, спокойная, несуетная и мудрая; человеку куда больше счастья доставит созерцание детской игры, чем блеск мертвых украшений, а для слуха станут отрадными звуки прекрасной музыки и добрых слов, а не звон сыплющихся монет.
Теперь ученики почтенного Мустафы в голос вздохнули — от зависти, конечно. Ибо ученики царской школы происходили из семей царедворцев, то есть людей небедных, однако стремящихся к тому, чтобы не умолкал в их домах рекомый звон сыплющихся в карман монет и не угасал блеск самоцветных камней на их пальцах и в украшениях чалмы.
— Легенда, мои ученики, говорит также, что ездят по этим удивительным дорогам не повозки, запряженные лошадьми или ослами, ходят по ним не рабы, несущие паланкины. А движутся по дорогам из камней самоцветных самоходные экипажи, и управляют этими экипажами не только мужчины, но и женщины…
Более того, говорят, что женщины в Медном городе, раз уж речь зашла о них, пользуются такими же правами, как и мужчины, что они избирают себе спутников жизни, согласуясь с собственным вкусом, а не следуя лишь повелениям родителей или подсказкам свах, и что девушки вольны учиться и избирать себе профессию наравне с юношами. Женщины города столь же прекрасны, сколь свободны и сильны. И что гармония в семьях творит богатство этого города наравне с мудростью правителей и золотом казны.
Мераб уже готов был задать вопрос, но его опередил Джемал — старший сын начальника дворцовой стражи, юноша, более верящий в силу кулаков, чем разума.
— Но как же, о мудрый учитель, до сих пор обороняется этот город? Должно быть, узнав о его существовании, многие правители мечтали назвать его своим?
— Ты прав, мой друг, многие правители и мечтали об этом, и пытались сделать это. Но ты, как и эти правители, слушал меня не очень внимательно. Ибо я в самом начале рассказа упомянул, что город этот лежит за пределами разума нелюбопытного и ограниченного и путь в Медный город открыт немногим. Но разве воинственного правителя можно назвать человеком любопытным, если он жаден и опирается лишь на силу кулаков и мечей?
— Ты прав, учитель, нельзя назвать…
— Вот поэтому и вязли армии этих правителей в песках пустыни или вонючей жиже болот, рассеивались в горах или вместе с кораблями шли на дно морей, так и не увидев на горизонте стен заповедного Медного города.
Крик муэдзина, призывавшего к дневной молитве, прервал дребезжание Мустафы. Ученики поспешили из класса.
И один лишь Мераб, зажав под мышкой молитвенный коврик, не торопился вслед за приятелями: мысли его сейчас были весьма далеки от молитвы. Лишь слова наставника привели юношу в себя:
— Поторопись, мальчик мой… Второй призыв раздастся через миг.
Свиток второй
— Почтенный Мустафа, доволен ли ты своими учениками? — Голос визиря был тих.
— Да, великий визирь. Мои ученики достаточно умны, чтобы понимать ценность знаний, достаточно терпеливы, чтобы изучать то, что им кажется совсем неинтересным…
— Но прилежны ли они?
— Они, мой господин, прилежны, как все дети; конечно, иногда их куда более манит сад за окном, чем мои лекции, но тут уж ничего не попишешь… Иных детей природа не создала.
— Быть может, палки или плети помогут тебе в этом? Или добрая нотация от сурового родителя?
Мустафа усмехнулся. Ибо визирь был отцом Мераба, лучшего из учеников, менее всего нуждающегося в плетях или нотациях.
— Ах, господин мой, тогда ученик запомнит лишь боль и обиду, но не предмет урока… Да, он станет прилежнее с виду, но двигать им будет лишь злость — худший из учителей и советчиков. Что же касается твоего сына, мудрейший…
Визирь улыбнулся.
— О достойный учитель, не о своем сыне я сейчас веду речь. Ибо за сына спокоен: я же вижу, с каким лицом он каждое утро торопится в класс. Беспокоит меня то, что другие твои ученики куда менее усердны и прилежны. И не причинит ли урон казне нашего великого царства их лень и тупость…
— Прошу тебя, умнейший из визирей, не говорить вслух о лени или тупости. Ибо, положа руку на сердце, нужны ли будущему начальнику стражи знания столь же полные, как знания, к примеру, дворцового звездочета, или, о Аллах великий, первого советника визиря, или, прости мне дерзость, самого великого визиря?
— Полагаю, не нужны…
— Вот и я думаю так же. Обучая вместе юношей столь разных, хочу я добиться лишь одного — уважения знаний. Ибо тот, кто уважает знания, уважает и носителя великих истин. И тогда в голову начальника дворцовой стражи не придет сомнение в уместности выбора, поставившего визиря выше советника, а советника выше, к примеру, повара… Ибо мечтаю я об уверенности юношей в том, что своего места можно добиться не деньгами отца или родовыми привилегиями, а лишь собственными знаниями и умениями…
Визирь тяжело вздохнул. Увы, положение дел, о каком мечталось наставнику Мустафе, было весьма далеко от истинного, и зачастую именно тугой кошель отца возводил в высокое кресло сына, а вовсе не «знания и умения», которыми такой сын, ленивый и надменный, не обладал никогда. Но тут же визирь возразил себе сам: ученики почтенного Мустафы по-настоящему уважали друг друга, никогда не позволяя себе обидных слов или состязаний. Каким-то поистине неведомым образом почтенному учителю удавалось воспитать своих учеников именно такими, какими он хотел их видеть: сильными и уверенными, но при этом не спесивыми или надменными.
— А теперь поговорим о моем сыне, учитель. Скажи мне, к чему более, по твоему мнению, склонна его душа?
Мустафа с удивлением воззрился на визиря. Куда уместнее было бы слово «уставился», но говорить так о почтенном учителе визирь не мог заставить себя даже в мыслях.
— Воистину, счастлив этот день… — пробормотал наставник. — Ибо впервые за все те годы, что я учу детей сановников и царедворцев, задает мне отец подобный вопрос.
— Тому есть множество объяснений, мой друг…
— И впервые, о Аллах всесильный и всевидящий, мне довелось услышать, что визирь прекрасной нашей страны называет меня, недостойного, своим другом…
— А уж этому, почтенный Мустафа, объяснение совсем простое, ибо тебе удалось воспитать и меня: я с уважением отношусь к твоим поистине безграничным знаниям.
Собеседники с пониманием посмотрели друг на друга. Нет, визирь прекрасной страны под рукой Аллаха всесильного, цветущей Джетрейи, не был учеником Мустафы. Однако он по достоинству оценил усилия учителя, оценивая успехи его ученика — своего сына Мераба.
— Ну что ж, мудрый отец, — проговорил Мустафа. — О твоем сыне… Юноша успешен во многих сферах знания, более того, я вижу, что ему интересен каждый мой урок…
— Но, быть может, это плохо, почтеннейший? Может быть, мальчик собирает знания так, как другой собирает, к примеру, разноцветные камешки или раковины. Быть может, ему интересен процесс собирания, а не смысл познанного.
— Нет, уважаемый, это не так. Скорее каждый урок переносит мальчика в разные миры. Юноша одарен живым, весьма живым воображением. Мои слова оживляют, как я вижу, целый мир в его разуме. И именно это есть суть его души…
— Прекрасно, если это и в самом деле так. Ибо, уважаемый, задал тебе я этот вопрос не зря. Мой сын, твой любимый ученик, уже неоднократно просил у меня разрешения отправиться в странствие или, быть может, после окончания обучения у тебя, по окончании царской школы, продолжить постижение наук далее в великой Кордове или сырой Сорбонне, в цветущем Бизантии или, о Аллах великий, в далекой стране Син…
— Если ты спрашиваешь у меня, дозволить ли сие твоему сыну, я отвечу: да, дозволить. Но, увы, не могу дать совета, куда лучше отправиться мальчику, ибо сколь ни уважаю я его, но не вижу, чем один путь для него будет лучше другого. Могу лишь сказать, что ты, великий, оказался более чем прилежным учеником, выучившись на ошибках другого визиря, визиря страны Ал-Лат.
О да, молча кивнул визирь, этот урок и он, и многие другие родители мальчишек усвоили быстро и более чем хорошо. Ибо узнать, что именно ты, отец, стал причиной смерти своего сына — урок столь поучительный, что очищает разум не хуже горького перца или дикого полуночного хрена…
Визирь же прекрасной страны Ал-Лат, мудрый человек и прекрасный советник, оказался более чем немудрым отцом, ибо он захотел из младшего сына своего, Хасана, создать новое воплощение себя самого. Создать царедворца и сановника. Должно быть, двигали визирем Рашидом порывы благие, однако в погоне за благим делом не увидел он, что сын его имеет совсем иные склонности, ибо душа мальчика оказалась открыта искусству, но не политике. Отец же видел в рисунках сына лишь неуважение и презрение, а потому решил сына сломать. И сломал бы, если бы за него не заступились старший брат Хасана Бедр-ад-Дин и Валид — первый мудрец царя Темира, властителя страны Ал-Лат, и дед Хасана.
Они уговорили Рашида, и тот позволил сыну отправиться далеко на полуночь, в страну Аштарат, к учителю учителей, великому Георгию. Тот распахнул перед юношей книги и раскрыл весь мир. Однако душа мальчика, душа рисовальщика, была уже поражена неверием и неуважением отца. Юноша столь усердно пытался стать самым лучшим, доказать, что в своем умении он достоин всеобщего восхищения и, в первую очередь, восхищения отцовского, что надорвал свой разум, влюбившись в… статую, и пожелал найти колдуна, который эту статую сможет оживить. Увы, такой колдун, одно из обличий самого Иблиса Проклятого, нашелся без труда, и… юноша сам превратился в камень, сжимая в объятиях каменную возлюбленную. Более того, на следующий день эта двойная статуя неведомо как оказалась у стен дома, принадлежащего глупцу Рашиду. Тот, к своему ужасу, узнал в каменном юноше своего сына. И даже в этот миг великий визирь и несчастный отец не понял, что сам оказался «творцом» столь ужасного каменного изваяния.
Статую разбили на куски, а куски закопали. Но история эта разошлась по миру очень быстро, как всегда разносятся слухи, став для неумных и надменных отцов, не уважающих своих сыновей, поучением и назиданием[1].
— Благодарю тебя за беседу, мудрейший, — визирь благодарно склонил голову.
— И я, недостойный, благодарю тебя. Ибо знаю теперь, что усилия мои пошли во благо и твоему сыну, и тебе самому.
Вот так была решена судьба Мераба.
Еще долгих четыре года воистину мудрый Мустафа был наставником у сына визиря. И все эти годы он радовался тому, сколь усерден его ученик и сколь открыт знаниям его разум. Но не менее он радовался тому, что судьба умного юноши — не пыльные комнаты, где сидят переписчики дивана, а весь огромный мир, столь прекрасный, сколь это видно разуму пытливому, незашоренному боязнью или гордыней.
Свиток третий
Утро для Мераба началось с подарка. Ведь для него новая книга всегда была необыкновенным даром, обещанием нового странствия или нового чуда. Ибо никому и никогда не открывал Мераб своей главной тайны. А тайной этой было поистине волшебное живое воображение: стоило юноше только услышать о новом городе, неведомом чуде или просто прочитать описание странствий каравана, как картинка оживала перед его глазами. Становились слышны голоса людей, ветерок колыхал попоны лошадей или церемониальные плюмажи; звенели девичьи голоса или звучало заунывное пение зурны; под тяжелыми шагами ромейских воинов скрипели драгоценные половицы завоеванных дворцов…
Итак, сегодня Мераб открыл новую книгу. Она повествовала о далекой стране Канагаве, что лежит на самом восходе. Страна эта жила всегда дарами моря, и именно она даровала миру удивительное откровение, рассказав о Великом Морском Змее — охранителе китовых стад и жемчужных отмелей, хозяине морских просторов и защитнике всех тех, кто бороздит моря и океаны на лодочках, лодках и кораблях.
Не прошло и минуты, как исчезли вокруг юноши столбы беседки, увитые плющом. Померк и солнечный день, ибо в стране Канагаве наступал вечер великого праздника весны — дня цветения сакуры.
В полутьме невидимкой вошел Мераб в коридор императорского дворца. Он знал, что впереди — покои принцессы. Чувствовал юноша, что на сердце у девушки неспокойно, что печаль отравляет предвкушение праздника. Когда же прочитал он, что сейчас перед ним предстанет сама прекрасная Ситт Будур, луноликая краса, сердце его забилось сильнее.
Бамбуковые палочки у входа в крытую галерею тихо зазвенели. Это вошла служанка.
— Ее небесное совершенство, императрица Комати, ожидает ваше великолепие у входа в праздничные покои.
Принцесса Будур кивнула.
— Я сейчас появлюсь.
Нежный аромат коснулся ноздрей Мераба — притирания принцессы пахли гарденией и жемчугом. «Аллах всесильный, — пронеслось в голове юноши, — но откуда мне знать, как пахнет жемчуг?»
Однако он твердо знал, что волшебство ее аромата именно в том, что в жемчужный флакон придворный маг налил настойку гардении и цветков сакуры, собранных ровно год назад, в тот день, когда императорские сады покрылись бело-розовыми цветами.
Девушка взяла себя в руки. «Ну что ж, если нельзя отказаться от всей этой суеты, значит, будемиграть в Ледяную Принцессу». Так было в далеком детстве: обидевшись на какое-то наказание, малышка Будур становилась Ледяной Принцессой — печальной, неразговорчивой. Она даже двигалась медленно, словно ее и в самом деле заморозили суровые ветры. Теперь эта старая игра показалась ей настоящим спасением от докучливых женихов, которых наверняка ее заботливые родители собрали в изобилии.
«Эх, малышка, — подумал Мераб, — если бы мы всегда могли делать только то, что нам хочется…»
Книга затягивала. Собственно, это уже была не книга — кремово-желтые страницы, тяжелый переплет, медные застежки, — а окно в иной мир, мир новых запахов, новых голосов, новых красок и — о Аллах! — конечно, чувств и мыслей новых друзей.
«Ну почему они не могут позволить мне жить, как раньше? Почему я должна выбирать себе в мужья какого-то неизвестного, наверняка надутого и глупого принца? Почему я не могу подождать до тех пор, пока не встречу своего единственного?» В душе Ситт Будур начал закипать гнев, но… И из покоев уже вышла Ледяная Принцесса. Шаги ее были легки, за ней, казалось, и в самом деле растекается в теплых сумерках шлейф холода.
Ситт Будур ступила на террасу как раз в тот момент, когда любимые музыкальные инструменты ее матери, кото и сямисэн, заиграли гимн в честь первого цветения. Нежные, тающие в вечерних сумерках звуки словно поднимали принцессу над полом. Будур показалось, что вслед за замирающими звуками уносится ввысь и ее душа.
Но уже через мгновение звуки дуэта растворились в мощном звучании церемониального оркестра. Это зазвучала Кагура — музыкальное подношение, призванное умилостивить божество, приносящее весну на острова Канагавы. Грубоватая и вычурная, Кагура издревле входила в ритуал поклонения императорского двора.
Раньше Ситт Будур видела в этих древних традициях своеобразную красоту, достойную столетий, в течение которых благородный род Фудзивара правил прекрасной страной Канагавой. Но сейчас звуки безжалостно впивались ей в уши, доставляя жестокую боль.
Слезы выступили на глазах девушки. Она мечтала только о том мгновении, когда сможет сбежать с этой ярко освещенной террасы в самом сердце императорского сада, спрятаться в темноте и тишине собственных покоев.
Даже голос матери, самый нежный и любимый голос на свете, приносил Будур невыносимые страдания.
— Что с тобой, девочка? — вполголоса спросила Комати.
Ситт Будур лишь отрицательно покачала головой. Она хотела сказать, что все в порядке, но не могла найти сил произнести хоть слово.
— Тебе нездоровится? Призвать лекаря?
У Будур хватило сил вымолвить:
— Все в порядке, мама.
«Аллах всесильный, как бы мне хотелось, чтобы ты увидела сейчас меня, прекраснейшая! Ведь я здесь, стою рядом с тобой на этом помосте. Ты бы почувствовала мое плечо, поняла, что мне можно будет потом, после церемонии, пожаловаться на твердые узкие гэта, на плотно затянутый пояс оби, на то, что тебя никто не может понять… Клянусь собственной жизнью, я бы тебя понял!»
Императрица Комати посмотрела на мужа. Если бы тот повернул голову в сторону семьи, он бы увидел обеспокоенность на лице жены. Но ритуал предписывал смотреть поверх голов гостей в темнеющее небо. А император всегда (ну, или почти всегда) был приверженцем традиций. Вот потому он ждал, когда отзвенит последняя нота, чтобы поприветствовать гостей и начать празднование.
Ситт Будур тоже посмотрела на отца. И поняла, что ей предстоит выдержать все до конца.
Оркестр отзвучал. Над садом повисла тишина — все ждали слов императора. Они тоже были традиционными. Такэтори повторял их уже множество раз, но сегодня решил изменить привычный ход вещей.
— Радостен вечер праздника сакуры! Ждет нас много добрых дней от сего дня! Как в цветении сакуры видим мы возрождение сил природы, так на сегодняшнем празднике мы станем свидетелями рождения новой ветви императорского древа! Ибо наступил год, когда нашей дочери, Несравненной Красоте Ситт Будур, исполнится семнадцать. Древняя традиция говорит, что дочь императорского дома в этот год выбирает себе жениха. Пусть же силы просыпающейся природы подарят нашей дочери зрение, обостренное любовью!
Ропот пробежал среди гостей. Холодная рука сжала сердце Будур. «О, мой отец! Я последую традиции! Но мое послушание тебя не обрадует».
Ситт Будур кивнула — драгоценные камни в прическе девушки сверкнули недобрым блеском.
Легкие лакированные гэта застучали по доскам помоста, драгоценное фурисоде, расшитое, как велит обычай, цветками сакуры, отразило сотни язычков пламени. Принцесса подошла к отцу, поклонилась ему и повернулась к гостям. Улыбка на лице императрицы Комати увяла, когда она увидела выражение глаз дочери. Но останавливать девушку было поздно: традиция предписывала принцессе сказать свое слово. И Комати поняла, что дочь не пойдет против традиций, но ее послушание станет куда страшнее неповиновения…
В тишине голос Ситт Будур звучал ясно, а слова звенели как льдинки:
— О благородный отец мой, всесильный император! О моя прекрасная мать, заботливая императрица! Свято слово традиций! И в этот праздничный вечер я выберу себе жениха — спутника на долгом жизненном пути!
Комати оглянулась… Лица гостей были красноречивы: одни просто радовались празднику, другие заранее предвкушали победу, третьи прикидывали выгоду от такого брака. И не было только среди молодых мужских лиц ни одного, которое бы светилось любовью. Никому не интересна была Ситт Будур, лишь богатство и положение императора привлекали сюда всех этих принцев, князей, сыновей сановников и наместников… Страх охватил Комати — она поняла, что сейчас произойдет.
А Ситт Будур продолжила:
— Моим мужем станет тот, кто найдет ответ на три загадки, которые я загадаю. Знайте же, гости: верный ответ на каждую из них сможет дать лишь любящее сердце. Холодный разум навсегда ославит говорившего.
«Ах, какая умница! Воистину, прав учитель: нет разума более изощренного, чем женский. Должно быть, красавица, загадки твои будут более чем коварными. Однако, готов спорить, я бы с легкостью разгадал их все…»
Первым понял все император — не зря же его называли светочем и мудрецом: дочь перехитрила его. Но Ситт Будур уже сказала свое слово. И это было слово дочери императора. А потому благородный Такэтори лишь согласно наклонил голову. Молчала и императрица. Она подумала, что дочь нашла лучший выход из положения: она не оспорила слова отца, но выполнит лишь свое желание. Императорская честь спасена. Но какой ценой?..
— Да будет так! — Император возвысил голос. — Воздадим же благодарность Аматэрасу и восславим день, когда в саду расцветает сакура!
И Ситт Будур победно улыбнулась. «Теперь все увидят, что такое честь Ледяной Принцессы! Я не знаю, есть ли в целом мире хоть один юноша с пылким сердцем, который найдет правильный ответ на мои загадки».
Свиток четвертый
О, как же захотелось Мерабу крикнуть, что такой человек есть! Что он, юноша, живущий в далекой Джетрейе, которая стоит на самом берегу теплого полуденного океана, готов дать правильный ответ на коварные загадки прекрасной юной принцессы. Что он бы сил своих и, пожалуй, самой жизни не пожалел, чтобы доказать ей, удивительно стойкой и одновременно слабой, всю силу своего чувства.
Мерабу показалось, что девушка вздрогнула. Хотя, быть может, то была дрожь в предвкушении победы, а не испуг от его громких мыслей…
Победно смотрела Будур на гостей. Такое решение ошеломило каждого, кто был в императорском саду. Ветки сакуры, покрытые нежными бело-розовыми цветами, словно живая рама, обрамляли изумленные лица гостей. И шахи с сыновьями, и раджи с многочисленными племянниками, и даже беловолосые конунги, преодолевшие немалый путь, чтобыприветствовать вместе с императорской семьей приход весны — все они ждали иного: возможно, ждали выбора самой принцессы, возможно, того, что император Такэтори сам укажет жениха для дочери. Но не ждали они состязания — состязания не кошельков, а умов. Не думали они и о том, что сыновьям, племянникам, младшим братьям в этот вечер придется самим показывать, чего каждый из них стоит на самом деле.
Да, среди них были и те, кто явно примерял на себя императорское одеяние и не прочь был бы заглянуть в казну страны Канагавы. Были и те, кто званием мог потягаться с самим императором, но желал бы объединения владений. Были и такие, что видели в браке с дочерью императорского дома единственную возможность избежать притязаний соседей…
Не было среди гостей лишь того единственного, кого под цветущие ветки сакуры привела бы любовь к принцессе. Быть может, он не знал о давней традиции рода Фудзивара или спал в этот поздний час, устав от борьбы за хлеб насущный.
— Но вот же я! — воскликнул Мераб. — Меня, меня привела к вам любовь!
Но тут же вынужден был признаться самому себе:
— Меня к вам привела любовь, и это правда. Но правда и то, что это любовь всего лишь к знаниям… К приключениям тела и духа… К миру, который столь необыкновенно прекрасен и столь удивителен.
Не слышала этих слов дочь императора, увы. Быть может, они тронули бы ее сердце, согрели Ледяную Грезу, превратив ее в улыбающуюся красавицу.
Принцесса оглядывала лица собравшихся. Сердце ее стало настоящим сердцем Ледяной Принцессы. А разум очистился от чувств, и лишь холодные мысли складывались в беспощадные слова-ловушки.
— Да приблизятся к трону те, кто хочет в этот праздничный час испытать свою судьбу! Ее небесное великолепие, принцесса Будур, хочет испытать ваши души, ваш разум и ваши чувства.
Слова императора вывели гостей из оцепенения. Сначала робко, а потом все решительнее к помосту стали подходить юноши — наследники властителей и юные властелины. Потом им пришлось чуть отступить, ибо рядом с ними стали и их дядья и старшие братья. Появились среди претендентов на руку принцессы и старцы — возраст сочли они преимуществом в состязании. А выбор принцессы любого из них предоставлял трон, власть и немалое состояние.
Безмолвно смотрела на эту суету Будур. Зрелище казалось ей забавным и постыдным. А потому она повернулась к матери.
— Надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, девочка моя… — только и смогла произнести Комати.
— Мама, если найдется сейчас тот, кто откликнется на мои слова сердцем, а не разумом, страстью, а не жаждой наживы, я охотно назову его своим избранником.
— Но если не найдется такой юноша?
— Значит, я останусь свободной и буду ждать того, кто через год сможет ответить на новые загадки.
— А что будет с самими юношами? Не казнить же нам всех, кто окажется недостоин твоего разума?
— Нет, конечно. Их даже не надо прогонять с праздника. Позор тяжелее любого наказания. А недобрая слава глупца, которого смогла обвести вокруг пальцатощая девчонка с далекого острова, думаю, куда страшнее для будущего властителя.
— «Тощая девчонка с далекого острова». — Мераб попробовал эти слова «на зуб». — Ого, да ты ядовита, красавица, как алый императорский аспид. Хотел бы я посостязаться с тобой… Один Аллах знает, как бы я этого хотел!
— «Тощая девчонка с далекого острова», — повторил император слова дочери и усмехнулся. Это не была добрая усмешка, с которой обычно смотрел он на проделки своей девочки. Так жестко мог ухмыляться лишь изворотливый и утонченный царедворец. — Недобрая слава и в самом деле куда коварнее любого наказания… Она будет следовать за неудачником, словно хвост за хитрой лисицей кицунэ… А ты куда хитрее любой лисицы, девочка моя.
— Нет, отец, я просто благоразумна. Зачем нам скандалы в праздник? Пусть все те, кто привез сюда своих сыновей, племянников и младших братьев, сами убедятся в их никчемности…
— Да будет так. Начинай!
Мераб поразился тому, какой разной может быть улыбка — его изумило то, сколько яда отразилось в изгибе тонких губ императора, сколько смеха, отнюдь не доброго, плескалось в темном взгляде его узких глаз.
Император обвел взглядом тех, кто стоял перед помостом. Да, дочь права. Нет здесь того, кто сможет дать счастье его девочке. Злые и жадные, расчетливые и тупые, лица женихов выражали лишь одно желание: победить любой ценой. Никто не думал сейчас о том, что их соперник — юная и прекрасная принцесса.
Холодно улыбалась и принцесса. Она чувствовала сейчас себя в надежных доспехах разума, которые смогут защитить лучше самых бесстрашных телохранителей.
— Слушайте же мою первую загадку!
Повинуясь едва заметному жесту принцессы, в воздухе растворился аккорд цитры. И девушка высоким голосом нараспев прочитала:
— Скажите же, мои гости, о чем говорил великий поэт?
Первым расхохотался сын магараджи. Был он толстым, румяным и самодовольным. Казалось, что он не идет по жизни, а путешествует по щедрому базару, зная цену каждому товару.
— Эта глупая девчонка смеется над нами, братья! Ведь она же сама все и сказала: это представление, что дают в балагане!
— Аллах великий, какой осел… Тут же в самом деле все сказано, — пробормотал Мераб. — Это же человеческая жизнь! Каждый из нас, словно марионетка, пляшет по желанию хозяина балагана, а потом обрывает все нити и делает решающий шаг.
Сын магараджи победно посмотрел по сторонам…
— Нет, это не балаганное представление… — Теперь шаг вперед сделал сын конунга, высокий юноша, напоминающий чудовище и спутанными длинными волосами, и повисшими почти до колен руками. — Эти слова описывают колдовство…
— Сын медведя, ты намерен спорить со мной, наследником Райпура?!
— Нет, толстый бурдюк, я же вижу твою глупость!
Принцесса смотрела на этих двоих с омерзением. Она не повернула головы в сторону родителей, лишь повела в воздухе рукой, словно отгоняя назойливую муху.
«Смотрите же, благородные император и императрица! И кого-то из них я должна была взять в мужья!» Будур безмолвно произнесла эти слова, но Комати их прекрасно расслышала. Так любящее сердце матери без труда читает в душе любимого чада.
Перепалка у подножья помоста грозила перерасти в драку. По движению руки Такэтори у дорожек появились безмолвные дайсё — воины личной императорской охраны. Вид их был устрашающим, а клинки в лунном свете сверкали так грозно, что спорщики разом замолчали.
— Стыдитесь! — Теперь в голосе принцессы звучала насмешка. — Гости императора не ведут себя, как торговцы поношенным тряпьем.
— Но о чем же была твоя загадка, о прекраснейшая?
Это спросил Дзинситиро по прозвищу Басё — младший сын самурая, охранявшего властелина соседних островов, мальчишка лет восьми. Чудом было уже то, что он оказался здесь, среди принцев и наследников. Быть может, сюзерен его отца, достойный Ёситада, относился к малышу, как к сыну. Или, быть может, ему уготована была судьба много интересней той, что желали для него родители и наставники.
— Малыш, неужели ты не понял? Это же жизнь человеческая!
Только к мальчишке Будур могла быть снисходительной.
Тот поклонился с благодарностью. А сам Ёситада досадливо махнул рукой, уходя в сень цветущих деревьев. Он не хотел признать себя побежденным, а потому решил, что не соревноваться за руку принцессы — куда более мудрый поступок.
— И он прав: иметь такую мудрую жену может лишь тот, кто и сам в силах играть в загадки с судьбой.
Конечно, сейчас он, Мераб, готов был сыграть в загадки и с судьбой, и с принцессой, и даже с самим Иблисом Проклятым, сохрани Аллах после такой игры все души мира!
Принцесса Будур предпочла не услышать, что вполголоса пробурчал сын магараджи. Но слова эти услышал воин-дайсё. И сделал еще два шага вперед.
— А теперь, мои гости, я задам вам вторую загадку. Не торопитесь, подумайте, о чем я говорю.
В вечернем воздухе зазвучали слова новой загадки:
— Шутить с ней опасно: разбитая, она может составить несчастье всей жизни; без устали же гонясь за ней, можно прозевать жизнь или из безумного воодушевления принести ее в жертву… Что это, мои мудрые гости?
Сын магараджи счел за благо промолчать… Юный викинг, помедлив, ответил:
— Это страшная рыба, что живет в южных водах. Старики говорили, бывает она так велика, чтосъедает целые селения… Своих жертв она увлекает на дно, и тогда им нет возврата.
— А он в чем-то прав, этот сын конунга. Мечта, ибо это именно она, может увлечь за собой в самые пучины и селения, и народы. Мечта может поглотить душу человека, но может и возвысить. А что же еще придумают твои недалекие женихи, умнейшая?
Будур закрыла лицо руками, чтобы никто не увидел ее язвительной улыбки. Неужели души этих юношей так глухи? Неужели не понимают они, о каких высоких материях говорит сейчас им принцесса?!
Викинг замолчал. А в наступившей тишине опять раздался голос Басё:
— Принцесса, они же не понимают и половины твоих слов. О чем была твоя загадка?
— А как ты думаешь, малыш? — Будур с живым интересом посмотрела на мальчика.
— Я думаю, что это везение…
— Но разве везение можно принести в жертву?
— Не знаю, принцесса. Везение — как ночной ветерок, нельзя поймать… А вот можно ли за ним гоняться…
— Молодец! Я говорила о мечте. Но с этого вечера ты — мой лучший друг. Ты умен, а через несколько лет станешь настоящим принцем — мечтой любой девушки…
— И принцессы?
— Быть может, и принцессы… Расти, малыш!
Сердце принцессы Будур чуть оттаяло. Быть может, это будущий великий поэт… А может быть, и император… Кто знает, какая судьба его ждет!
— А теперь, гости, я задам вам третью загадку. Она будет и сложнее, и проще своих сестер. Не торопитесь, слушайте голос своего разума…
«Зачем я это говорю? Ведь у них есть только одно желание — власть, только одна жажда — нажива, только одна любовь — золото. А разумом им служат счетные книги их казначеев».
И прозвучала под сводами дворца третья загадка:
— Она дает лишь себя и берет лишь от себя. Она ничем не владеет и не хочет, чтобы кто-нибудь владел ею. Ибо она довольствуется лишь самой собой… Не думай, странник, что ты можешь править ее путями, но если она сочтет тебя достойным, то будет направлять твой путь.
Высокий голос Будур отзвенел.
Суровые дайсё тяжелыми взглядами следили за молодыми мужчинами, что стояли сейчас перед императорским помостом. Наконец у сына персидского шаха сдали нервы и он жалобно спросил:
— А сейчас о чем ты говорила? Твои слова слишком мудры для нашего разума…
— О да, глупец, слова эти действительно слишком умны для тех, чей разум спит вечным сном… Умная принцесса говорила о любви. Ибо только любовь движет жизнью всего в этом мире. И стать достойным любви не так просто.
Жаль, что юный Мераб беседовал лишь с книгой. Быть может, если бы он беседовал с самой принцессой, книга бы закончилась совсем иначе.
Или сейчас в прохладе беседки на свет рождался великий мудрец, славе которого дано будет пережить века?..
Будур и представить не могла, сколько сил потребовалось сыну восточного правителя, чтобы признать превосходство женщины.
— Последняя загадка спрашивала о любви. Лишь любовь довольствуется любовью. Настоящая любовь дарит любовь и принимает дар лишь любовный. Но если любовь сочтет тебя достойным, она будет направлять твой путь.
— Ну, это слишком умно для меня, — не выдержал толстяк из Райпура. — Отец, мне не нужна такая жена! Я хочу, чтобы мое слово было в доме самым весомым. А эта…
И тут сын магараджи уперся взглядом в блестящий клинок дайсё. Всякое желание говорить сразу же пропало. И он, переваливаясь, отправился туда, где в ужасе застыл сам магараджа Райпура. Отец ясно представлял, каких бед мог натворить скверный язык его сына. И потому возблагодарил своего многорукого бога за то, что мальчишка вовремя замолчал.
— Что ж, отец мой, — в праздничном воздухе зазвучал решительный голос Будур, — благородный император, и ты, моя прекрасная мать! Я сдержала свое слово! Если бы хоть один из наших гостей смог отгадать мои загадки, я назвала бы его своим мужем. Но их душа спит, а разум замутнен низкими желаниями. И они недостойны дочери императора великой страны Канагавы.
И принцесса спустилась с помоста. Ее шаги вскоре стихли, а гости по-прежнему стояли безмолвно.
Свиток пятый
— Аллах всесильный! — Голос отца вернул Мераба из прохлады весеннего вечера в послеполуденный жар лета. — Этот мальчишка опять уединился с книгой!
Юноша вскочил, книга упала на пол и закрылась. Он хотел было начать оправдываться, но увидел, что отец улыбается, что в глазах его прыгают веселые огоньки и суровое восклицание было лишь игрой.
— Мераб, сын мой, — визирь и в самом деле вовсе не сердился. Более того, его радовало усердие сына, ему было лестно, что именно его мальчик вырос столь умным и жадным до знаний. — Прости, что отрываю тебя, но в главные ворота вошло посольство из княжества Райпур. Кроме тебя, лишь один старик толмач знает их удивительный язык. Царь дал свое высочайшее соизволение на твое присутствие и на то, чтобы помочь нашему усталому Али-Ахмету-аге с переводом.
— Слушаю и повинуюсь, — только и смог пробормотать Мераб.
Да, ему было лестно, что отец помнит все, что он умеет, но было, положа руку на сердце, немного боязно — ведь сейчас он впервые должен был переводить… И не слова учителя другому учителю, а слова настоящего посла настоящей далекой державы. Кто знает, к каким тайнам будет он причастен всего через миг!
Действительность, как это часто бывает, оказалась куда скучнее даже самой скромной мечты, и в последующие три часа Мераб не узнал ровным счетом никаких тайн, за исключением, быть может, состояния здоровья магараджи Райпура и его сына, уважаемого принца-магараджи.
Но он, мальчишка Мераб, оправдал доверие отца: перевел все, до самого последнего бормотания самого затюканного писаря посольства, не упустил ни слова и даже — Аллах великий, клянусь, что так и было на самом деле — удостоился целых двух одобрительных кивков самого повелителя.
«Должно быть, — думал визирь, наблюдая за сыном, — время прошло слишком быстро. Я и не заметил, что мальчик вырос и теперь готов стать…»
Вот тут визирь задумался: до сей поры было неясно, кем же готов стать его сын Мераб. Юноша спокойно владел дюжиной языков. Науки о земле и небе, о тайнах, сокрытых в царстве подводном и в царстве подземном, ему давались одинаково легко, и он давно уже превзошел в познаниях наставников царской школы. Увы, даже богатейшая, достойная лишь блистательной Кордовы царская библиотека была для Мераба делом прошлым, равно как и все книжные лавки по обе стороны быстротекущего Потока Судьбы — главной реки столицы великой Джетрейи.
И вновь как страшное напоминание о мудрости и глупости отцовской перед визирем встала двойная статуя целующихся юноши и девушки. Он никогда не видел ее, однако очевидцы столь ярко и страшно описывали это недостойное всякого правоверного зрелище, что представить ужасное изваяние не составляло ни малейшего труда.
— Аллах великий, да пусть он будет хоть метельщиком, хоть водоносом, хоть колдуном!
— О чем ты, достойный визирь? — Голос повелителя, великого халифа Заура, раздался словно ниоткуда.
— О, мой господин, — визирю удалось быстро привести в порядок мысли. — Размышлял я о будущем своего сына…
— Увы, мой друг, размышления отцов далеко не всегда интересны детям. Даже если это размышления о таком предмете, как их, самих детей, будущее. Дети столь редко слушают родителей…
— Однако, мой государь, дело даже не в том, что мой сын не слушает моего совета, а в том, что я и сам не ведаю, какой же совет дать сыну. Ибо знания юноши обширны, и он не выделяет особо ни одну сферу знаний.
— Счастлив ты, мой визирь, имея такого сына!
— Да, мой повелитель, это так. Но вот какое будущее ему избрать — не ведаю.
— Думаю, друг мой, самым разумным будет просто пустить юношу, как лодочку по ручейку… Пусть его несут волны судьбы — они уж точно прибьют его к тому берегу, для которого юноша предназначен самим Аллахом великим.
— Но в чем же будет тогда моя, отцовская, роль в выборе его судьбы?
— В том, воистину неопытный отец, что ты дал ему самому право выбора, вооружив на любой случай всем, что только можно.
Визирь подумал, что это совсем немало — знать и уметь… А еще визирь подумал, что иногда и сам повелитель может дать советнику и мудрецу совет более чем мудрый.
— Я видел, как ярко горели глаза твоего Мераба, когда он беседовал с посольством. Позволим же ему бывать на всех собраниях дивана, присутствовать на встречах со всеми послами.
— О Аллах всесильный и всемилостивый! Но…
— И возьмем с него клятву в том, что ни одного слова он не промолвит вне стен дворца. Это будет и испытанием и, думается мне, неплохим уроком для юного разума. Быть может, так твоему сыну станет проще выбрать.
— Повинуюсь с благодарностью и почтением. Халиф улыбнулся, подумав, что легко быть мудрым, когда речь не идет о собственных детях.
Визирь же, педантично исполняя повеление халифа, следил за тем, чтобы сын его не пропускал ни одного дня в диване, ни одного посольства. И Мераб с удовольствием переводил, вполголоса задавал вопросы второму советнику первого мудреца самого халифа и с не меньшим удовольствием слушал ответы.
И каждый вечер визирь с тревогой всматривался в лицо сына, ожидая, что тот вот-вот взбунтуется. Однако дни проходили за днями, складываясь в месяц, потом в другой, а Мераб так же с радостью принимал на себя все новые и новые обязанности при советниках дивана.
О нет, юноша не лицедействовал! Ему и в самом деле было невероятно интересно, что же происходит в огромном мире и его прекрасной стране. Скупые слова донесений, описания послов складывались в ярчайшую картину, которая каждый день менялась, но не переставала быть завораживающей.
Кроме того, Мераб продолжал учиться. Как раньше он с усердием и пылом изучал многочисленные учебники и рукописи, так сейчас он с тем же старанием читал книги, не поучающие, но повествующие о самой жизни. О нет, Аллах всесильный, это неточно: куда мудрее было бы сказать, что он с каждой новой книгой проживал целую жизнь, странствуя, страдая, умирая и рождаясь с каждой страницей.
Он слушал беседы, которые вели герои повествований, переправлялся вместе с ними через бурлящие весенние реки; он тащился через объятые холодом и укрытые снегами бескрайние полуночные равнины или плыл под натиском ураганов, стремясь отыскать берег, сокровища и потерянную родину… Одним словом, Мераб с каждой новой книгой проживал новую жизнь.
Однако он не просто проживал — он, о Аллах всесильный! иногда и оживлял мир, раскрывающийся перед ним со страниц.
Быть может, Мераб не поверил, если бы ему об этом рассказал кто-то посторонний. Но одним тихим вечером на исходе лета юноша убедился в этом сам.
Тяжелый, как всегда, том с непременными медными застежками на переплете был раскрыт в самом начале повествования…
Любопытный и бесшабашный, как все мальчишки, юный Аладдин встретил удивительного человека на пороге собственного дома.
— Будь осторожен, почтеннейший, — вполголоса проговорил Мераб, едва только увидел, как, одетый во все черное, истощенный страшными магическими упражнениями Инсар-маг ступил на порог гостеприимного дома мастера Салаха.
— Да пребудет над этим благословенным домом милость Аллаха всесильного и всемилостивейшего! — С такими словами переступил магрибинец порог дома отца Аладдина, мастера Салаха.
— Здравствуй, почтенный! Что привело тебя в мой дом?
— Слава, мастер Салах, громкая слава о тебе и тех чудо-безделушках, что творишь ты из золотой проволоки. Даже в самой Басре на базаре говорили мне о том, как они прекрасны. Мастер, что продал мне вот этот перстень, — магрибинец раскрыл ладонь и на ярком солнце засиял синим огнем благородный берилл, — говорил, что выучился этому воистину волшебному искусству, когда был у тебя подмастерьем.
— Входи, почтеннейший. Входи и дай полюбоваться на дело рук моего ученика.
Магрибинец Инсар и мастер Салах устроились в тени дерева рядом с крошечным ключом, что бил в уютном дворике. Так благословил Аллах всемилостивейший мастера за то, что Салах всегда был предан делу, в котором достиг небывалого искусства, и своей семье, которую по сей день уже почти двадцать лет считал самым большим своим сокровищем.
Салах поднес ближе к зрячему глазу перстень и усмехнулся.
— Да, это работа моего ученика, Али. Значит, он все же научился терпению. Но я вижу, что и обманывать почтенных покупателей он тоже научился. Вот здесь у него и проволока грубее, и шов виден. Но для этого надо знать, куда смотреть и что искать. Приятно узнать о благополучии своего ученика.
Мастер на минуту задумался, вернувшись мыслями в те дни, когда Али, сын Мариам и франка Николя, чудом прижившегося в шумном Багдаде, был еще совсем мальчишкой и к тому же не самым усидчивым учеником. Пальцы мастера гладили тончайшее переплетение золотых нитей.
— Ах, лживая лисица! — Мераб не мог не восхититься магрибинцем, ибо нет более короткого пути к сердцу любого человека, чем лесть или похвала, пусть даже и сотню раз заслуженная. Равно нет и более простой дороги к разуму человека в летах, как призвать его вспомнить светлые годы юности. — Клянусь, почтенный мастер, пока ты будешь разглядывать безделушку, этот воистину страшный человек успеет разузнать о тебе, твоей семье и твоем сыне все, не вставая с места.
И, как бы в подтверждение его слов, Инсар-маг кивнул.
Любой, увидев его сейчас, решил бы, что гость просто с любопытством осматривается. И ошибся бы. Магрибинцу в этом мире уже ничто не было интересно. Не занимали его ни красота мира, ни люди, ни тайны Мироздания. Вот и сейчас черный маг Инсар взглядом искал Знаки, которые могли бы ему подсказать, правильно ли он выбрал дом и живет ли Человек Предзнаменования под его кровом.
Посмотрев налево, магрибинец вздрогнул. В загончике у стены меланхолично жевала траву белая коза. «Та ли эта коза, о которой говорил мне сосуд мудрости? Ее ли надо мне опасаться? И почему?» Ответовон пока не знал, но само животное уже было Знаком! И потому Инсар-маг удовлетворенно улыбнулся.
Мастер Салах увидел улыбку гостя и улыбнулся в ответ.
— Благодарю тебя за хорошую весть, добрый человек! Красивый перстень. И камень в нем прекрасный. Воистину такой камень достоин украшать сокровищницу властителя… Или нежную руку красавицы.
— Аллах всесильный… Вот так люди, сидя рядом и говоря на одном языке, совершенно не понимают, что ведут две разных беседы о предметах столь же далеких друг от друга, как звезды и подземелья…
Мераб произнес эти слова едва слышно, должно быть, опасаясь, что магрибский колдун услышит его и поймет, что кто-то видит насквозь его, мага всех магов.
Магрибинец с поклоном принял перстень из рук мастера.
— Чего же ты хочешь? Заказать у меня еще одно украшение, в пару к этому?
— Мастер Али, твой ученик, да подарит ему Аллах милость на долгие годы, говорил мне, что у тебя растет сын.
— Да, это так.
— Говорил мне мастер Али и то, что ты старался учить сына своему искусству, но особых успехов мальчик не достиг.
Салах пожал плечами:
— Аладдин непоседлив, как все мальчишки. Немногим удается, как почтенному мастеру Али, часами спокойно сидеть, сплетая проволочки. Аладдину более по вкусу рассказы о чудесах мира, дальних странах, странствиях. Не зря же он прочитал все книги и свитки в лавке у Мустафы-книжника.
— Вот поэтому я и пришел к тебе. Я собираюсь остаться в прекрасном Багдаде не на один день. И мне нужен смышленый ученик, подмастерье и мальчик на посылках. Я не так богат, чтобы нанимать троих. А твой сын, как говорит весь базар, самый умный юноша из тех, кто ищет свое призвание в этом прекрасном, но жестоком мире. Так говорит базар…
«Воистину, лесть — отличный ключ к любому сердцу…» — вновь повторил Мераб, теперь уже про себя. Он, конечно, не ведал, слышит ли его магрибинец, живой лишь на кремово-желтых пергаментных страницах. Однако все же юноша опасался, что услышать может: разве не видел он, как кривятся в коварной усмешке губы колдуна всякий раз, когда он, Мераб, пытается мысленно вмешаться в ход событий?
— Да будут благословенны твои слова, о путник! Да, мой мальчик умен. — В голосе Салаха зазвучала гордость. — Он и решителен, и смел, и очень настойчив. Пожалуй, единственное, чего не хватает моему Аладдину, — это усидчивости. Но она не была свойственна и мне в те дни, когда я был юн.
— Да, мастер Салах, усидчивость и терпение приходят к нам вместе с прожитыми годами, — согласно кивал черной чалмой маг Инсар.
«Ах ты хитрец! — подумал неспящий Алим, что незримо присутствовал при этом разговоре. — А кого дразнили девчонкой? Кто просиживал ночами над свитками в надежде найти эликсир власти? Кого учителя выгоняли из душной комнаты на солнышко?»
— Да пребудет с тобой, неспящий мудрец, милость всесильного Аллаха! Ты мог бы многое рассказать любому, кто пожелал бы тебя услышать.
И Мераб услышал ответ, который сначала испугал его до задержки дыхания, а потом вселил в сердце такую огромную радость, что юноша едва не пустился в пляс, ибо с ним говорил тот, кто доселе жил лишь на страницах книги, ему ответил тот, кто мог лишь повторять слова, предписанные автором, — это был маг, вырвавшийся из объятий кожаного переплета и плена медных застежек!
— Да, мой мудрый юный друг… Я мог бы многое рассказать, на многое открыть глаза, ведь странствую я, пусть и не по своей воле, с коварным Инсаром столь давно, что почти забыл счет лет! Потеряв тело и возможность странствовать по собственной воле, научился я путешествовать одной только силой мысли. Мне дана способность видеть все и всех в этом мире и во многих иных мирах. Однако, — тут неспящий Алим перешел на шепот, — предпочитаю я следить за Инсаром из ревности и зависти. А еще потому, мой юный друг, что одному мне преотлично видна страшная угроза, которую таит каждый шаг внешне такого мирного и благообразного магрибинца.
Между тем разговор на страницах толстой книги продолжался.
— Но чего же ты хочешь, гость? Почему пришел ко мне? И чему ты хочешь учить моего сына? — Любопытство взяло верх над гостеприимством, и Салах решился задать прямой вопрос.
— Ну что ж, мастер Салах. Ты уже слышал, мне нужен ученик. Ученик именно такой, как твой сын Аладдин. Такой же смелый, решительный. Но приэтом разумный, любящий истории о странствиях и чудесах.
— Ты собираешься в странствие? — перебил гостя мастер. — Мой сын не поедет с тобой!
— О нет, мастер. Совсем наоборот. Я собираюсь осесть в прекрасном и шумном Багдаде, обрести здесь свою судьбу. Аллах всесильный даровал мне знания, много знаний. Я могу толковать сны, варить мази и притирания, я вижу ход судьбы и власть времени… В Великом Магрибе, да будет имя этой страны благословенно во веки веков, меня считали магом. Мне нужен ученик — способный парнишка, знающий все уголки города, сообразительный, ловкий. Но при этом умеющий держать язык за зубами. И если твой ученик Али, да хранит его Аллах великий, говорил правду и ты не собираешься учить сына своему непростому ремеслу, разреши мне взять его в ученики к себе.
— О Аллах, прости, гость, что перебил тебя, не дослушав. Конечно, ты можешь взять моего сына к себе в ученики. Я действительно не собираюсь, более того, я не хочу учить сына своему ремеслу. Для таких неусидчивых и нетерпеливых мальчишек, как Аладдин, кипящее золото может стать убийцей…
Инсар наклонил голову, лишь на миг задержав взгляд на черной повязке Салаха, закрывающей выжженный глаз.
— Ты правильно посмотрел, путник. Даже меня, человека опытного и куда более осторожного, не пощадил Аллах. Зато теперь я хорошо знаю, что золото убивает и калечит не хуже иного неверного.
Инсар приложил ладони к сердцу и поклонился. «Пусть этот кривой думает, что я сочувствую его беде!»
— Ах, юный друг, — голос Алима стал печален. — И вновь ему, в который уж раз, не составило ни малейшего труда заморочить голову хорошему человеку…
— Увы, — кивнул в ответ на слышимые лишь ему слова Мераб, — человек всегда слышит лишь себя и говорит лишь о себе. А потому совсем просто заморочить ему голову… Даже магии иногда для этого не надо, достаточно лишь простой хитрости и велеречивого языка.
— Мудро, — прошелестел Алим. — Более чем мудрая мысль для столь юного разума.
(Воистину, любой, кто взглянул бы со стороны на все, что происходило в тени беседки, поразился бы несказанно: и юноше, что беседует с раскрытой книгой, и словам невидимого собеседника, что витают в нагретом воздухе.)
— Что ж, гость из далекой страны, я согласен, чтобы ты взял в ученики моего сына. Конечно, если на это согласится он сам. Ты уже разговаривал с Аладдином?
— О нет, мастер Салах. Я решил, что мудро будет сначала поговорить с отцом, узнать его планы на собственного сына. Мальчишки порой соглашаются на самые рискованные приключения, не раздумывая и к тому же не спрашивая об этом совета у старших. Теперь же моя душа чиста — ты сам разрешил мне выучить твоего сына моему непростому ремеслу. Значит, пришло время разговора с Аладдином.
Мастер Салах молча поклонился учтивым речам магрибинца.
Что-то в речи этого странного человека во всем черном, в его поведении, даже в том, как он все время оглядывался по сторонам, настораживало мастера. Он уже почти готов был отказать просителю, но решил, что сказать «нет» всегда успеет. А если это судьба мальчишки? Если ему и в самом деле на роду написано стать великим магом? Или великим ученым? Что, если отказом мастер Салах преградит сыну путь и к большой учености, и ко всеобщему уважению?
— Ну почему? — вскричал Мераб. — Почему ты, мастер, не послушал совета своего мудрого сердца и поверил своему разуму? Разве не видно, что перед тобой в образе человеческом восседает враг любого человека, маг, мечтающий о деяниях более чем страшных!
— Малыш, — вновь раздался голос неспящего Алима. — Что ты увидел? Расскажи мне, что смог разглядеть? Что открылось твоему разуму?
Мераб пожал плечами.
— Уважаемый, это же не просто видно, это воистину горит на самом челе мага: ему нужен мальчишка для дел столь черных, сколь и противных любому правоверному! И не в ученики он собрался брать сына мастера, а… Быть может, чтобы вместо себя послать на страшную смерть… Или, Аллах всевидящий! сделать и вовсе жертвой его, мага, коварных планов…
— Каких, каких планов? Что ты видишь? — Непонятная настойчивость мага со страниц книги не смущала Мераба. Он уже и не думал, с кем беседует.
— Должно быть, мечтает маг о власти над душами людскими, противной природе самого человека.
— Пытливый разум… Мудрое сердце. Тебе недостает лишь одного, друг мой, — житейской мудрости. Но она, увы, приходит лишь с годами.
Свиток шестой
Беседу Мераба и незримого Алима прервал резкий звук: то хлопнула калитка. Аладдин, как всегда возбужденный, вбежал во дворик.
Мераб смог разглядеть бисеринки пота на лбу юноши и даже расслышать быстрый стук его сердца.
— Матушка, отец! Говорят, на нашем базаре объявился великий колдун! Он дышит пламенем, летает над толпой, в его мешке шевелится гигантская змея! Я даже видел голову этого чудовища!
«О ком толкует мальчишка, Алим? — безмолвно спросил у своего чудо-советчика магрибинец. — Кто смеет летать над толпой?»
«Не бойся, Инсар-маг. Этот человек не станет твоим соперником. Это всего лишь факир из далекого княжества».
«Ничтожный, у меня нет и не может быть соперников! Я великий маг!»
«Конечно, Инсар, ты великий маг. Но почему ты спросил об этом ничтожном фокуснике? Боишься, что он первым найдет Камень?»
«Я ничего не боюсь, червяк!»
Алим, который видел все, что происходило сейчас в доме мастера Салаха, не мог не залюбоваться Аладдином. Вернее, его порадовал тот восторг, который у мальчика вызвало появление факира-шарлатана.
— Смотри, пытливый Мераб, мальчишка и вправду может стать отличным учеником мага. И из него должен выйти толк! Жаль только, что никто не собирается учить Аладдина.
— Это было ясно с самого начала, невидимый мудрец.
— Увы, далеко не всем… Хотя есть способ тебя проверить. Скажи мне, всевидящий юноша, почему перед моим мысленным взором раз за разом встает старая медная лампа? Старая медная лампа в руках у Аладдина…
— Готов спорить, что вся суета как раз из-за этой медной лампы. Более того, готов спорить даже с тобой, мудрейший, что именно в недрах старой лампы таится смерть самого магрибского колдуна.
— Посмотрим, — со смехом проговорил Алим. — Посмотрим…
Мерабу показались эти слова странными. Хотя разве не была странной сама беседа с невидимым порождением книжных страниц?
Мастер Салах неторопливо выпрямился.
— Вот, чужеземец, это мой сын Аладдин. Я согласен, чтобы ты взял его в ученики.
— Осталось только, почтенный мастер, получить на это согласие самого Аладдина, — теплым бархатистым голосом произнес магрибинец.
— В ученики? Отец, но почему я должен идти к кому-то в ученики? Разве не ты будешь моим учителем? Разве не стану я мастером золотых дел?
— О нет, сын, ты же знаешь, мое решение твердо, ты не будешь мастером-ювелиром! Наш почтенный гость, благородный Инсар, да продлит Аллах его жизнь на тысячу жизней, решил обосноваться в нашем прекрасном городе. Он врачеватель, маг и толкователь снов. Ему нужен ученик, не боящийся ничего в этом мире и желающий обрести все знания, которые учитель готов ему передать.
— Врачеватель, батюшка? Толкователь снов?
— Да, толкователь снов. Наш почтенный гость обошел полмира, выучил множество наречий, его знают везде. А теперь он хочет обосноваться здесь. И ты, с твоими фантазиями и жаждой чудес, будешь ему замечательным учеником.
— Повинуюсь, батюшка.
«Откуда мастер знает все это? Неужели я что-то пропустил в их разговоре? — подумал Мераб. — Или Инсар сумел внушить такое уважение? И почему так печален юноша?»
«Потому, мой друг, — ответил Алим, — что человеку дано предчувствие там, где слеп его разум…»
— Почему ты печален, мой ученик? — Голос Инсара-мага стал еще теплее.
— Я не печален, гость. Я озадачен. И мне нужно обдумать все то, что я сейчас узнал.
— Пойдем, мой мальчик. Я хочу, чтобы ты проводил меня до моего нового жилища. Так ты узнаешьдорогу и сможешь задать мне любые вопросы, которые только придут тебе в голову.
— И ты дашь на них ответ, учитель?
— Конечно! Если буду знать ответ, обязательно.
— Ну что ж, учитель, тогда пойдем. Быть может, тебе понадобится сделать какие-то покупки. Говори, я знаю на нашем богатом базаре всех. Мы найдем самые лучшие и при этом самые дешевые товары для твоего непростого ремесла.
Магрибинец, поклонившись, неторопливо вышел на шумную улицу. Следом за ним поспешил и Аладдин. А мастер Салах остался во дворе, удивляясь и внезапному послушанию сына, и той тревоге, что все сильнее терзала его сердце.
— Вот видишь, мой мальчик, и почтенный отец предчувствует недоброе… Он ничего не знает, однако сердце — мудрое и чуткое отцовское сердце — позволяет ему заглянуть в день завтрашний.
— Да, мудрейший, — кивнул Мераб. — К сожалению, люди далеко не всегда прислушиваются к голосу своего сердца…
— Увы, мальчик, ты прав. Однако я посмотрю, что будешь делать ты, став почтенным отцом… Посмотрю, сможешь ли прислушиваться к голосу своих предчувствий. Или, как все прочие отцы и матери, станешь полагаться лишь на голос разума и предписания обычаев.
Мераб рассмеялся.
— До этого еще, думаю, не один десяток лет…
— Что есть несчастные десяток-другой лет по сравнению с вечностью и вечной глупостью?
Вопрос растаял в воздухе, ибо юноша уже жадно переворачивал страницу.
Магрибинец неспешно шествовал по узким улочкам великого города. Аладдин молча шел рядом, удивляясь, сколь быстр этот с виду неспешный шаг.
Первым заговорил, как это ни странно, Инсар-маг. Его уже сжигало нетерпение. Но пока он еще мог этому противиться. Понятно, что он вот-вот обретет Камень Судьбы. Ведь не зря же показалась белая коза, пусть о ней со страхом говорит сосуд мудрости (здесь Мераб явственно услышал смешок неспящего Алима), а звезда Телеат, смилостивившись, подсказала ему имя Человека Предзнаменования. Да и сам Человек Предзнаменования, вернее, мальчишка, уже найден. И более того, Инсару-магу удалось уговорить его стать учеником. В этот, последний раз, все складывается благополучно. К тому же наступает время, предсказанное многими магами и звездочетами мира, — время парада планет. Следующие несколько вечеров будут скрыты от всевидящего глаза Аллаха. Так, во всяком случае, уверяли его учителя в Магрибе. Это будет время, когда силы черные смогут бороться с силами светлыми, бороться на равных. А значит, время, когда Предначертанное может свершиться.
«Вот поэтому была ко мне милостива звезда Телеат! Но где же искать Камень Судьбы? Не на базаре же…»
— Скажи мне, мальчик, знакомы ли тебе холмы там, на полудне, за городской стеной?
— Конечно, учитель. Только это не холмы. Говорят, много столетий назад здесь были каменоломни. Потом о них забыли, земля провалилась… А ветры времени все сровняли с песками пустыни.
«Каменоломни! Конечно! Это могли быть только каменоломни!»
— Что, учитель? Почему это могли быть только каменоломни?
Оказывается, магрибинец произнес последние слова вслух. Произнес, сам не заметив этого.
— Знай же, ученик, что в далеком Магрибе обучался я азам божественной науки, науки о звездах, — начал свой рассказ маг. — В библиотеке нашего учителя, да ниспошлет ему Аллах долгие годы мудрости, я нашел удивительный свиток. В свитке этом рассказывалось о том, что за стеной далекого и прекрасного города, который стоит на великой реке Тигр в двух днях пути от теплого моря, лежат заброшенные каменоломни. Были они некогда не простыми каменоломнями. Добывали там не только камень для домов и мечетей, но и камни, что меняли историю людей и стран…
Магрибинец решил рассказать Аладдину почти всю правду. Вернее, часть правды — ту, что более всего похожа на волшебную сказку и не должна испугать юношу.
— Запомни, Мераб: нет ничего дальше от истины, чем ее часть… Учись, юный мудрец, всегда распознавать ее, полуправду, дабы не стать жертвой самой коварной лжи!
— Говорят, что в те немыслимо далекие годы люди, что брали в руки такие камни, становились сказочно богатыми, необыкновенно мудрыми, почти всесильными. Свиток тот и поведал мне, как найти подобный камень и отличить его от любого другого.
— И как?
— О-о-о, юноша, это целая наука! Там было написано, что камни эти светятся в кромешной тьме. А если их тронет человек, которому этот камень предназначен, вокруг раздастся многоголосое пение. И тот, кто такое пение услышит, сразу поймет, что предначертано ему судьбой. И вот сейчас, когда ты рассказал мне, что эти холмы — заброшенные каменоломни, я вспомнил тот свиток и старую историю.
— А почему ты спросил о холмах? Ну, тех, которые не холмы, а старые обрушившиеся ходы?
— Я подумал, о мой любопытный ученик, что среди этих холмов можно будет разбить лагерь на несколько дней и наблюдать звезды. Говорят, что лучше всего они видны именно с полуденной стороны вашего города.
— Лагерь, учитель? — В голосе Аладдина звучал мальчишеский восторг. — Мы будем всю ночь смотреть на звезды? Считать их? А ты научишь меня различать созвездия?
— О, мой ученик, да ты любопытен! Но, говорят, ты перечитал все книги и свитки в лавке книжника Мустафы. Разве там не было книг о светилах?
— Были, учитель. Это были свитки, привезенные дедом нашего Мустафы, великим путешественником и книжником, из некогда великой Кордовы, свет знаний которой освещает весь мир, что лежит пред глазами Аллаха всемилостивейшего и милосердного. Но это были только книги. А городские огни мешают толком рассмотреть удивительные узоры, в которые складываются строки небесной летописи…
— Ну что ж, я научу тебя читать по звездам, ученик. Но не сейчас. В этот тихий вечер нам с тобойнадо решить, с чего мы начнем обучение. И что будет нашим первым уроком.
— А давай начнем с этого! Ну, со звезд. Ночь только началась, до полуночной стражи времени еще много. Давай прямо сейчас выйдем за полуденные ворота и посмотрим на небо!
— Вот, мой друг, еще один урок: обучись хитрости, которую сейчас применил коварный Инсар. Ведь, по сути, он вынудил мальчишку! Натолкнул его на необходимые слова, и теперь всем будет известно, что не коварный маг увлек юношу в каменоломни, а мальчишка сам уговорил учителя отправиться туда.
— О да, воистину змеиное коварство!
— Нет, мой друг, просто изворотливость человеческого разума: вынуди собеседника первым произнести необходимые тебе слова и просто не противься, соглашайся с тем, что тебе выгодно… Смотри: Аладдин только не подпрыгивает от нетерпения… Он думает, что так его зажег немногословный рассказ магрибинца. На самом же деле нетерпение, что сжигает душу Инсара-мага, передалось юноше.
— Но до полуденных ворот так далеко! — Недовольным голосом, но с радостью в душе сказал Инсар. — Я сегодня целый день был в пути и очень устал.
— До полуденных ворот совсем недалеко. Я знаю короткую дорогу!
Магрибинец с видимой неохотой кивнул.
— Пойдем, ученик. Нам ведь все равно надо будет выбрать место для будущего лагеря.
Аладдин указал рукой вперед.
— Смотри, учитель! Вон там, впереди, каменная лестница. Говорят, она появилась в городе самойпервой. Слышишь, шумит река? Вскоре мы перейдем ее по мосту. И сразу за мостом будут полуденные ворота в город. А вот и стража!
Городская стража удивила магрибинца. Он ожидал увидеть рослых мамлюков — иноземцев на службе у халифа. Но мимо прошли двое мужчин в годах, мирно беседуя. Казалось, они не обращают внимания ни на что вокруг.
— Странные у вас стражники! Старики… Да к тому же безоружные.
— О нет, они вовсе не безоружны: да, они не носят копья или мечи, но руки их сильны, а мастерство духа и тела столь велико, что палки и дубины им ни к чему. А то, что наши стражники немолоды… Есть среди них и молодые. Те чаще несут караул поближе к дворцу халифа.
— Странные порядки…
— Разумные, проверенные. Не удивляйся, учитель. Город наш древний, древние и его традиции. А традиции городской стражи куда древнее нашего Багдада, да хранит его милостью своей Аллах всемогущий!
Магрибинец предпочел промолчать. Сейчас, когда до каменоломен было рукой подать, следовало потерпеть. И не желать могущества большего, чем у бога. Придет еще и его черед, черед Инсара-мага!
— Смотри, учитель, вот и полуденные ворота! Их закрывают в тот час, когда звезда Телеат уходит с небес в свои чертоги, а Небесный Всадник взбирается к зениту.
— И зачем этому мальчишке учитель-звездочет? — Мераб пожал плечами. — Он и сам все прекрасно знает.
— Он лишь повторяет привычные слова, мой друг. Не торопись делать выводы, ведь события только разворачиваются.
Мераб не задался вопросом, с кем разговаривает, — для него незримый собеседник был столь же реален, как босоногий Аладдин, который, приплясывая от нетерпения, тянул высокого и иссушенного чернотой мага в глубину заброшенных каменоломен.
Юноша так и не понял, что действительность и сказка в его мире слились и теперь он мог бы управлять мифом. Хотя, быть может, время для понимания этого еще не пришло…
Свиток седьмой
Мераб продолжал чтение. Он увидел полуденные ворота города, что выходили на бесконечную цепь холмов, и отчетливо услышал мысли черного мага:
«Где-то здесь она, Пещера Предначертания. Но как найти ее среди других пещер?»
— Вот, учитель, идем я тебе покажу. Здесь совсем рядом есть вход в каменоломни, правда, он почти обвалился. Но можно проползти на четвереньках. И там огромный зал. Настоящая пещера!
И вдруг холмы вокруг запели на разные голоса: «Пещера, пещера, пещера…»
— Какое странное эхо, правда, учитель?
— Правда, мой мальчик. Я раньше никогда такого не слышал.
И опять Инсар-маг сказал только половину правды. Он действительно никогда такого не слышал. Но сразу понял, что значит этот странный хор: впереди лежала Пещера Предначертания. И теперь он знал, куда идти.
Видно было, что Аладдин прекрасно ориентируется и в пути к пещере, и во всех закоулках полуобрушенных ходов. Магрибинец решил не прибегать к магии без крайней нужды. Кто знает, что станет с Камнем, если он попытается использовать боевое заклинание черных магов? Быть может, он скроется под обвалом. Тогда путь к нему будет отрезан навсегда…
Поэтому Инсар-маг просто следовал за своим юным проводником, ни на шаг не отставая. Согнувшись в три погибели, но не став на четвереньки, добрались путники и до той самой пещеры.
Как Аладдин и говорил, это была старая выработка. Но своды ее были так внушительны, что даже свет факелов, разожженных магической силой магрибинца, не мог рассеять тьму. Он лишь отодвинул ее к углам и стенам. Но где же здесь искать Камень Судьбы?
Инсар-маг несколько минут стоял посреди этого каменного чуда, ошеломленный открывшимся зрелищем. Как это было непохоже на описание в старинных манускриптах! И где тот ход, что освещается старой медной лампой?
Маг поднял вверх руки, чтобы собрать силу камня, которая помогла бы ему открыть тайну. Черные рукава скользнули к плечам, и Аладдин с ужасом увидел, что руки мага черны так же, как и его одеяние.
Мераб вздрогнул. Ибо зрелище рук, словно облитых самыми черными чернилами из далекой страны Син, было более чем страшно. А потому не заметил юноша, что опять заговорил вслух.
— Но ведь магрибинец не чернокожий раб? Что же у него с руками?
И услышал ответ, вновь ему отвечал неспящий Алим — маг, не имеющий тела, но имеющий разум:
— Юный глупый Инсар некогда пытался вызвать из земных недр одно из порождений тьмы — страшного Тифона. Тот явился на зов. Но неумелый маг не смог удержать его в этом мире, да и не знал он, зачем может ему понадобиться чудовище. Рассерженное порождение мрака разъярилось и наказало юного надменного колдуна, дабы в следующий раз он твердо знал, кого и зачем зовет. Увы, Инсар урок усвоил, но не твердо и не полностью.
— Не понимаю, почему Аладдин не сбежал, едва увидев эти ожоги…
— Любопытство, мальчик. Обычное человеческое любопытство. — Если бы у Алима были плечи, он бы пожал ими в недоумении. — Вот смотри, даже сейчас, напуганный, с трясущимися губами, Аладдин все же пытается понять, что за человек перед ним.
— О учитель, — вполголоса проговорил Аладдин, — что у тебя с руками?
— Не бойся, мальчишка, это просто следы одного давнего спора. Вернее, некогда я прибегнул к заклинанию, что вызывает слугу самого Иблиса Проклятого. Тот явился, исполнил мою волю, но оставил вот такое напоминание о себе.
— Для чего же, учитель?
— Для того, чтобы я никогда не забывал о значении слова и принятого решения. И еще о том, чтожелания мага исполняются всегда. Но не всегда это приносит магу пользу… Не отвлекай меня, ученик.
Аладдин поклонился и отошел в сторону. Он еще в дороге удивился тому, как легко магрибинец согласился отправиться в каменоломни. Похоже, что его учитель знает об окрестностях города намного больше, чем говорит. И, похоже, ему, Аладдину, суждена какая-то совсем иная участь. Вовсе не участь ученика, который будет годами корпеть над свитками и искать вместе с учителем рецепты эликсиров…
— Вот, Мераб, видишь, мальчишка предчувствует недоброе. Но, как все люди, считает, что не ему придется сунуть голову в самое пекло. Или надеется на это.
Магрибинец тем временем обходил пещеру по кругу, пытаясь найти еще один ход. Факел, вернее, пламя, схожее с пламенем лампы, он разжег прямо в своей раскрытой ладони. И это было так страшно, что Аладдин, взглянув лишь раз, отвернулся и стал смотреть на камни у себя под ногами. Неверный свет факела плясал на срезах и углах пещеры. Когда-то отсюда вырезали огромные каменные блоки для стен прекрасного Багдада. Рассказывали, что каменоломни эти были так богаты, что камень развозили по всему подлунному миру. Мустафа-книжник говорил, что именно из камня этих каменоломен сложена терраса великого Баальбека… И что чудовищные каменные идолы, украшающие всю черную страну Кемет, тоже.
Аладдин уходил в пещеру все дальше, а она никак не заканчивалась. Юноша оглянулся на магрибинца. Здесь тот казался совсем маленьким…
Пещера тем временем превратилась в коридор, впрочем, достаточно высокий, чтобы идти, выпрямившись в полный рост. Стены по бокам серели в свете факела.
— Учитель, я нашел коридор. Быть может, он выведет нас отсюда.
Магрибинец обернулся на голос мальчишки: «Ну конечно, я должен был просто стоять на месте и ждать, что Человек Предзнаменования найдет нужный ход!»
— Я вижу, мальчик мой, — проговорил маг, догоняя Аладдина.
— Странный какой-то коридор… Смотри, учитель, свет факела отражается от стен так, будто они не сложены из камня, а сделаны из зеркал. Смотри, вот ты, а вот я… Вот твоя черная чалма, а вот моя рука тянется к стене…
— Нет! — в ужасе закричал магрибинец. — Не касайся стен!
— Но почему, учитель? Это же просто камень! Вот смотри, я подхожу…
И Аладдин положил ладонь на блестящую поверхность. Магрибинец застыл, словно окаменевший. Ему показалось, что вдоль коридора прошелестел ветерок — так мог бы удовлетворенно вздохнуть насытившийся лев.
Но юноша как ни в чем не бывало похлопал раскрытой ладонью по стене и пошел по коридору дальше. Только в тех местах, где стен касалась его ладонь, остались черные отпечатки пятерни.
«Да, это он, Человек Предзнаменования! И мы уже близко!»
— Смотри, учитель! Какая красота! Какое удивительное сияние!
Мераб вместе с Аладдином оказался в новой пещере. Она была намного меньше. Стены ее, как и коридора, сияли зеркальным блеском. Пол был усеян камнями странной формы: один напоминал огромное яйцо, другой был похож на ограненный алмаз, третий походил на гигантскую шишку ливанского кедра. У стены, словно сложенный человеческими руками, высился постамент. А на нем… На нем горела старая медная лампа. Огонь был невысоким, ослепительно голубым. Свет его играл в камнях под ногами и отражался неверными бликами в стенах.
Мераб рассмеялся.
— Ты об этой лампе спрашивал меня, мудрый бестелесный маг? Именно она стояла у тебя перед глазами?
В ответ раздался смешок Алима:
— Да, юноша, именно об этой лампе я и говорил.
— Но зачем она магу?
— Нет, магу лампа не нужна. Но именно она, старая медяшка, станет ключом ко всей этой истории.
— Не рассказывай мне об этом, прошу…
И маг кивнул — не было еще в жизни Мераба более странного зрелища, чем кивок бестелесного мага из старой книги.
И вновь юноша не понял, что в силах управлять событиями, о которых повествует книга.
— Где мы, учитель? Что это за место?
— Это Пещера Предначертания… И она куда прекраснее, чем я мог себе представить. Не зря же в воспоминаниях она всегда похожа на дворец. Такой ее описали великие маги, такой ее увидел Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими. И теперь она передо мной!
— Так, значит, ты с самого начала знал, куда мы идем?!
— О нет, мальчик, я всего лишь догадывался.
— Но почему же ты мне ничего не сказал? Я же твой ученик!
— Я сказал, мальчишка, что всего лишь догадывался. Никто в целом мире, даже Аллах всемилостивый, не мог предугадать, что ты сделаешь в следующий миг. Ведь это ты рассказал мне о каменоломнях, ты уговорил меня выйти за городскую стену сегодня ночью, ты провел меня по Коридору Отражений и привел сюда…
— Да, маг, это так. Но что же мы будем делать теперь? Ты будешь меня учить?
— Не так быстро, мальчик, не так быстро. Чтобы начать обучение, я должен знать, какой стороне знания более склонна твоя душа. А для этого мне нужен знак. Тот знак, который может дать только Камень Знаний.
— Ох, лживый лисий язык… — Алим, казалось, любовался коварством Инсара. — И вновь перед тобой, друг мой, половина правды. Есть здесь и Камень Знаний, и Камень Истины. Но не они нужны коварному магрибинцу. Он плетет сеть лжи в надежде, что проснувшиеся подозрения Аладдина опять уснут. Смотри: мальчишка успокоился и с интересом слушает Инсара.
— Вот скажи мне, ученик, что напоминает тебе камень под ногами? Вон тот, у стены?
Аладдин бросил только один взгляд.
— Он похож на горшок для супа.
— А вот этот, темно-серый?
— На свернувшуюся кошку.
— А вот этот?
Внезапно взгляд Аладдина зажегся восторгом.
— Смотри, учитель, вон там, слева от постамента, самый странный камень, какой я только видел!
Камень и в самом деле был необыкновенным. Более всего он напоминал каменного ежа. Грани сросшихся кристаллов играли сиреневым светом, в глубине вспыхивали синие искры. Не успел магрибинец произнести ни слова, как Аладдин уже поднял это чудо и стал вертеть его в руках. От прикосновений пальцев по камню пробегали странные огни. Кроме того, камень словно беззвучно пел.
— Он теплый!..
— Мальчик, дай мне это чудо! Я тоже хочу рассмотреть его.
Аладдин без слов передал магрибинцу огромный кристалл. В руках мага камень заиграл совсем другими цветами: теперь красные и оранжевые искры, словно клочки пламени, пробегали по его граням. Камень и в самом деле был теплым на ощупь, а острые края его не ранили кожу.
Аладдин бродил по пещере, постепенно приближаясь к постаменту со странным светильником. Он старался не смотреть на этот колдовской огонь, старательно разглядывая камни у себя под ногами. Но каждый раз, поднимая глаза, несколько долгих мгновений не мог отвести их от сияния неведомого пламени.
Наконец юноша не выдержал и подошел к лампе совсем близко.
— Смотри, учитель, какой странный огонь. Я подошел совсем близко, но не ощущаю жара. Словно блики солнца на воде… Я могу даже коснуться лампы.
— НЕТ!!! Не смей трогать лампу, мальчишка!
Ужасный вопль магрибинца, отражаясь от стен, казалось, должен был согнуть Аладдина. Но тот лишь недоуменно посмотрел на мага. И в этот миг ладонь его легла на медный бок лампы.
Инсар-маг услышал еще один глубокий удовлетворенный вздох. В свете, что по-прежнему лился из лампы, появился золотой блеск. А блики на стенах стали похожи на солнечных зайчиков. Аладдин взял лампу в руки и принялся с интересом рассматривать.
— Вот это настоящее чудо, учитель! Посмотри, как она прекрасна!
— Негодный мальчишка! Я же велел тебе не трогать лампу! Ты должен был только поднять для меня Камень Судьбы. Больше ты ни для чего не пригоден, червяк!
— Что с тобой, учитель? Почему ты так кричишь?
— «Учитель»? Я не твой учитель и никогда не собирался никого учить.
— Но ты же сам пришел к моему отцу…
— Мне нужно было только одно: чтобы ты привел меня сюда, в Пещеру Предначертания, и поднял для меня Камень Судьбы.
— И все?!
— Ну конечно, глупец из глупцов! Стал бы тратить на тебя время и силы самый могущественный из магов, если бы мог сделать это сам! Ты просто Человек Предзнаменования, крошечный винтик в Машине Мироздания, которую я запустил своей магической силой! Поставь на место лампу, паршивец, и немедленно убирайся отсюда!
— Что это с ним? — Мераб поднял глаза от книги. — Почему вдруг маг стал говорить правду?
— О нет, правду говорить он не стал. Он всего лишь стал меньше лгать. Смотри, как крепко маг прижимает к себе камень. Обрати внимание: красные огни в гранях становятся ярче с каждым его словом. Именно они внушают ему смелость перед Человеком Предзнаменования. Он, глупец, верит, что предсказание сбылось. Да оно и сбылось… Какой-то своей частью.
— Какой-то частью?..
— Ну конечно, человечек… Ибо смыслов у любого изреченного слова столь же много, сколь много песчинок на пляже или звезд в небе. Соединяясь вместе, слова превращаются в Предзнаменование или предостережение, ложь или истину. А тайные смыслы, сплетаясь, становятся сетями для душ — все равно, людей или магов. Так что Инсар просто попал в сети.
— Но откуда ты об этом знаешь? И почему не остановил его? Ведь он твой друг?
— Нет, мальчик, Инсар не друг мне, хотя я вынужден предостерегать его даже в то время, когда больше всего на свете хочу проклясть. Могу просто промолчать. Тебе же я все это рассказываю… Нет, повелитель всех магов, не так… Просто ты меня слышишь, а остальные лишь с любопытством следят за вязью написанных строк, так и не увидев людей за ними. Твой же дар помогает тебе создавать миры и жить в этих мирах.
— Дар?
— Да, юный Мераб, поистине бесценный дар. И ценность его тем более велика, что ты сможешь поставить его на службу целому миру.
Юноша слушал удивительные слова пророчества, однако так и не понял, что маг, живущий лишь на страницах книги, предсказал именно его, Мераба, удивительную судьбу.
Алим же, прячущийся в истории об Инсаре, с удовольствием почувствовал, что его миссия исчерпана: его, Алима, Человек Предзнаменования был перед ним. И, более того, предначертанное свершилось.
Теперь можно было бы и удалиться. Но маг не мог, он был не в силах отказать себе в удовольствии остаться. Теперь его не приковывали к себе пожелтевшие страницы…
«И я смогу остаться с мальчишкой навсегда… Или до тех пор, пока это не прискучит мне… Или пока ему больше не нужны будут мои силы».
Если бы Алим мог, он бы заплясал сейчас на месте. Увы, этого ему дано не было, однако радость невидимого и бестелесного мага от этого меньше не стала.
Свиток восьмой
Аладдин, конечно, испугался. Но не настолько, чтобы забыть, что Инсар, будь он хоть трижды магом, всего лишь чужестранец. А потому следует — более того, давно уже пора — окоротить этого страшного иноземца, дабы знал он свое место.
— А если я расскажу все гулям-дари — главному телохранителю халифа?
— Да кто будет слушать тебя, ничтожный? Мало ли что может привидеться мальчишке в пустыне? Но, впрочем, ты навел меня на мудрую мысль…
И магрибинец, положив камень на пол пещеры, начал произносить заклинание.
Но Аладдин не стал ждать, пока магрибинец дочитает его до конца. Он уже бежал по коридору изо всех сил, бежал так, будто за ним гнался сам Иблис Проклятый, чтобы и его руки превратить в такие же черные, иссушенные жаром плети, как у мага.
Вот наконец узкий лаз… Вот показались холмы…
Аладдин вбежал в ворота города за миг до того, как ночная стража закрыла их.
— От кого ты убегаешь, паршивец?
— О мудрый начальник ночной стражи! — Как все мальчишки великого Багдада, Аладдин умел льстить и лебезить с самого первого дня, как начал гулять по городу сам, без взрослых. — Там, среди холмов, какой-то черный человек! У него в руках невиданный посох! Он кричит и грозит, что перебьет весь город.
И приукрашивать правду Аладдин тоже умел отлично.
— Посох, говоришь, — задумчиво проговорил начальник ночной стражи. — А вот что в руках у тебя?
— Это просто старая медная лампа, о почтеннейший. Я поднял ее сразу за воротами. Наверное, кто-то обронил, когда выезжал из нашего прекрасного города. Если хотите, я отдам ее вам.
— Действительно, старая лампа. Оставь ее себе, мальчишка. Мне не нужно старье.
И Аладдин со всех ног бросился домой по хорошо известной ему дороге. Он бежал и чувствовал взгляд черных глаз, что впивался ему в спину между лопаток.
«Нельзя рассказывать об этом ни отцу, ни маме. Они не поверят мне. Но что же сказать им?»
Вот, наконец, и калитка родного дома. И в этот момент пришло озарение.
— Аладдин, мальчик мой, что с тобой? Почему ты такой грязный? Где твой учитель?
— Ох, матушка! На нас напали разбойники! Учителя увезли на старой арбе, а меня выбросили на дорогу.
— Разбойники?! В нашем спокойном городе?
— Нет, отец! Учитель вывел меня через полуночные ворота, начал показывать звезды, а тут они… Их было не меньше сотни.
— Не меньше сотни, говоришь? Тогда об этом должен узнать гулям-дари! Завтра же на рассвете я пойду к нему! А ты сиди дома, путешественник, и ни ногой за ворота!
— Да, отец. — Сейчас повиновение отцу доставило Аладдину огромное наслаждение.
— И учителя твоего надо спасти. Так через какие ворота вы выходили?
И тут Аладдин понял, что заврался. Вбегал-то он через ворота полуденные. И его наверняка запомнил начальник ночной стражи. А потому юноша промолчал, нарочито внимательно разглядывая старую лампу.
Но отец и не ждал ответа.
Тишина вновь поселилась в тихом дворике. Салах, глубоко задумавшись, смотрел в черное небо. И Аладдин на цыпочках отправился к себе, чтобы вновь пережить миг прикосновения к чуду и забыть тот ужас, который гнал его по зеркальному коридору…
— Мераб?!
Голос отца прозвучал прямо над его головой.
— Ох, отец, это ты… — Юноша очнулся. Он все еще был там, был Аладдином, чудом и хитростью избежавшим смерти. Сердце его по-прежнему колотилось, а перед глазами стояли черные руки, сплетенные в замок пальцы и грохочущий по стенам голос колдуна…
— Да что с тобой, сын мой?
— Уже ничего, отец… Я просто зачитался.
— Зачитался… — Визирь нахмурился. Пожалуй, впервые он почувствовал, что его сын может ему врать. — Зачитался, говоришь… Но, в таком случае, куда делись те почтенные люди, которые беседовали с тобой? Я шел к беседке и отчетливо слышал голос какого-то юноши, твой голос и голос какого-то почтенного человека. По выговору, жителя закатных или, быть может, полуденных провинций халифата. Кто это был?
Мераб широко раскрыл глаза:
— Прости меня, отец, но здесь никого не было.
— Сын, не серди меня. Ведь я же слышал…
— Прости меня, добрый мой отец. Но здесь и в самом деле никого не было.
Искреннее недоумение Мераба разозлило визиря не на шутку. Увы, полуденные провинции столь недавно вошли в состав халифата, что выходцы оттуда по-прежнему вызывали подозрение в столице. А если сын сейчас беседовал с лазутчиками…
— Аллах всесильный и всевидящий! — Голос визиря едва не срывался в крик. — Сын, я в последний раз спрашиваю у тебя, с кем ты беседовал в этот час?!
— Отец мой, — Мераб тоже стал говорить громче. — Я в последний раз отвечаю тебе, что здесь был только я и старая книга. Но если моего слова тебе мало, ты можешь спросить у стражников, что стоят вон там, у входа в диван, и там, у выхода из поварни и мыльни. Если моего слова тебе мало, пусть они станут свидетелями моей честности и твоего, отец… прости, заблуждения.
Визирь внимательно проследил за рукой сына, указывающего сначала в сторону дивана, вход в который прекрасно был виден из беседки, а потом и в сторону поварни, рядом с калиткой в которую и в самом деле стоял дюжий стражник, не сводящий сейчас глаз с визиря.
— Аллах всесильный… — уже тише проговорил визирь. — Этот рослый болван пялится на меня так, словно я аппетитная красавица, а не государственный муж.
— Неудивительно, отец, — Мераб усмехнулся верности сравнения. — Не каждый день можно услышать, как всегда спокойный визирь прекрасной нашей Джетрейи кричит, прости меня, как сотня оплешивевших ослов…
— Каких ослов? — Глаза визиря округлились, но сын увидел в них смех, который тот и не собирался скрывать.
— Оплешивевших, батюшка. Внезапно ставших гладкими и стройными, как юные пери.
Визирь расхохотался. Только одному человеку в целом мире удавалось рассмешить его — Мерабу. Ибо только ему одному в голову приходили столь странные и столь иногда забавные, но верные сравнения. Всего на миг визирь представил себе, как может выглядеть осел, умелыми руками цирюльников выбритый до зеркальной гладкости…
— Ох, сын мой… Должно быть, я кричал слишком громко.
— Более чем, отец, — Мераб опустил глаза в показной покорности.
— Однако я отчетливо слышал голоса…
— Отец, говорю тебе столь же отчетливо: здесь никого не было. Любой, кого ты об этом спросишь, может тебе это подтвердить. В беседке только я и старая книга… Должно быть, сегодняшнее злое солнце сыграло с тобой злую шутку.
Глаза Мераба были чисты и честны. Однако червячок сомнения вновь зашевелился в душе визиря.
Алим понял, что пора вмешаться. Всего одного магического усилия хватило ему, чтобы визирь, а вместе с ним и Мераб услышали прямо у входа в диван высокий гортанный голос.
Ни одного слова нельзя было разобрать из речи невидимки. Однако теперь и не надо было.
— Прости меня, сын, — пробормотал визирь, пытаясь разглядеть говорившего. — Должно быть, именно этого человека я и слышал. Но где же он?
И визирь, двумя руками придерживая полы черного мундира, поспешил в сторону дивана, дабы самолично изловить невидимого иноземца.
Мераб пожал плечами. Сегодняшнее поведение отца было более чем удивительно. Однако все же не так удивительно, как его, Мераба, приключение: необыкновенная книга, с которой, оказалось, можно беседовать как с сотней мудрецов.
— О нет, мой друг, — вновь рядом с юношей раздался этот голос. Голос, которым с ним беседовала замечательная книга о приключениях Аладдина-сорвиголовы. — Ты слышал не голос книги, ибо она жива не более, чем минареты на той стороне дворцовой площади. Ты слышал мой голос, голос неспящего Алима, которого ты, юный колдун, силой своего воображения спас из заточения на листах превосходно выделанного пергамента.
— О Аллах всесильный и всевидящий… — Под Мерабом подогнулись колени, и он не столько сел, сколько упал на широкую деревянную скамью, окрашенную черной охрой.
— Чему же ты удивляешься, глупец? Разве не беседовал ты со мной, видя приключения коварного, некогда моего друга Инсара?
— Мне казалось, что я просто читаю книгу… — вмиг севшим голосом ответил Мераб. Он уже понял, что этот бестелесный, но не бессильный голос ему не мерещится.
— Друг мой, — с некоторой долей укоризны произнес Алим, — еще никогда и никто не умел читать книги так, как это делаешь ты. Ибо только твое воображение, живое и могучее, может оживить тех, кто охотится или страдает, спасается или догоняет на страницах книги. Только тебе одному под силу увидеть бисеринки пота на лбу бегущего во весь опор мальчишки, услышать аромат цветов, что растут в саду императора; тебе одному из всех живущих слышны голоса магов, которые, быть может, никогда и не жили на этом свете…
Голос невидимого мага был не менее реален, чем занозистая доска под руками юноши. Однако поверить тому, о чем говорил этот бестелесный голос, Мераб по-прежнему не мог.
— Ну-у, юноша, пора уже принять мои слова как данность. Ты же не удивляешься громкому голосу своего отца или прекрасным глазам матери, тебя не пугает пение сотен птиц в дворцовом зверинце или дуновение прохладного ветерка на закате… Они столь же для тебя естественны, как весь мир вокруг. Так почему же ты пугаешься моих слов?
— Потому что нет в самом твоем голосе ничего естественного… — Губы Мераба еще дрожали, но у него уже хватило сил ответить твердо.
— Ничего естественного, говоришь? — Неспящий Алим проговорил это с отчетливой усмешкой в голосе. — Почему же?
— Никому и никогда еще не удавалось оживить ни мага, ни человека, ни даже самую крохотную тварь, что пользуется покровительством Аллаха всемилостивого и живет лишь на страницах книги. Это всего только слова…
— Это были простые слова, мой юный друг. Были, пока не появился ты… И пока твое воображение не сыграло с тобой столь… злую шутку.
Мераб слышал голос, почти верил словам, но… «почти».
— Глупый юноша, тебе все еще нужны доказательства?
Мераб кивнул.
— Итак, тебе нужны доказательства. Ну, во-первых, вот моя рука касается твоей ладони…
И юноша ощутил прикосновение прохладных, но вполне живых пальцев к своей руке.
— А вот я снимаю и отдаю тебе в руки твою же, недоверчивый мальчишка, любимую чалму.
Словно в дурном сне, ощутил Мераб, как едва заметный ветерок зашевелил его волосы, как в руки сама собой опустилась чалма — та же, что и утром, темно-синяя, украшенная серебряной булавкой с яркой бирюзой.
— Каких же доказательств тебе еще надо, глупец?
— Увы, маг, я и верю тебе, и не верю. И хочу поверить в твои слова, и боюсь.
— Мальчик, ты можешь верить или не верить в само мое существование. А вот тому, что я рассказал о тебе, придется поверить. Ибо вскоре, более чем вскоре, твое воображение позволит заглянуть воистину в неведомые уголки мира… И именно благодаря твоему воображению, пылкому и сильному, свободному и не знающему никаких рамок, вернется к жизни мир, о котором молчат даже самые старые легенды.
— Прости меня, достойнейший…
— Не извиняйся, юный друг мой. Я все понимаю: трудно осознать даже самый первый, ясный, казалось бы, любому, смысл моих слов. Поверить в них непросто, а увериться, что так оно есть на самом деле, и вовсе невероятно. А потому давай мы сейчас уговоримся так: ты просто знаешь, что теперь рядом с тобой есть невидимый советчик. В сложное время тебе не придется самому искать ответы на трудные вопросы. И еще. Ты просто привыкай к тому, что твое воображение есть часть мира, столь же материальная, как крутобокий корабль, что входит сейчас в порт… Или твоя несчастная чалма, которую ты через миг превратишь в тряпку.
Все так же ошарашенный Мераб опустил глаза. Увы, невидимый маг был прав: руки юноши мяли тонкий шелк чалмы и едва не разорвали его на сотню кусочков.
— Должно быть, — пробормотал Мераб, пытаясь надеть чалму, — мне еще долго придется привыкать ко всему этому… А уж поверю ли я в твои слова, невидимый советчик, мне и вовсе неведомо.
— Уже очень скоро, мой друг, тебе будет не до размышлений о таких пустяках. Ибо впереди тебя ждут решительные перемены, для тебя и твоих близких почетные.
— Перемены… — эхом повторил Мераб.
И Алим лишь длинно вздохнул: даже он был удивлен той оторопью, которая все не покидала юношу.
Свиток девятый
Крутобокий корабль и в самом деле входил в эти минуты в порт столицы прекрасной Джетрейи. Трюмы его были полны товаров, а каюты — купцов.
Неудивительно, что уже на следующий день базар, обычно нешумный и неторопливый, был полон разноголосого говора и обилен товарами, продавцами и покупателями.
Но кроме тех, кто жил торговлей, привез корабль из воистину далекого Альбиона и путешественников другого толка: когда стемнело, по сходням, стараясь не шуметь, вышла в порт дюжина солдат в теплом ромейском платье. Трижды обошли они вокруг порта, разбившись на группы, добрались до самого дворца и, соединившись, трижды обошли и дворцовые стены по кругу, и площадь перед главными воротами.
Шаги этих людей были не то чтобы вовсе не слышны, а просто заметны лишь тому, кто знал, к чему прислушиваться.
Итак, трижды обойдя вокруг дворца, солдаты вернулись в порт. Они поднялись на корабль и скрылись в тени высоких мачт. Дважды хлопнула дверь капитанской каюты.
— Прощай и ты, уважаемый Али-Аг-Бек…
Далекие звезды могли бы разглядеть, как спустился по сходням высокий, чуть сутулящийся человек, тот самый, что только что прощался с капитаном. Как вслед за ним ушли в порт еще двенадцать человек, вернее, теней в свете немеркнущих, но равнодушных светил.
Вместе со звездами наблюдал за приездом этих более чем странных гостей и неспящий Алим. Он не был стражем, не следил за всем миром, дабы защитить своего освободителя от еще неведомых бед. Нет, он просто наслаждался дарованной свободой.
Быть может, даже неспящий и всевидящий маг не заметил бы странные преображения этих странно одетых и более чем странно ведущих себя людей, если бы процессия не остановилась у ворот дома визиря.
Высокий человек трижды постучал по отполированной до блеска медной пластине. И почти сразу створка ворот отошла в сторону.
— Не кроется ли здесь какое-то злодейство… — пробормотал Алим. О, даже всевидящие маги порой ведут себя как пугливые поварята.
— Приветствую тебя, достойный и уважаемый Анвар!
— Да распрострет над твоей неверной головой Аллах всесильный и всевидящий свою длань, мой друг! — проговорил в ответ визирь, отец Мераба, пропуская перед собой высокого гостя.
«Неужели я стал свидетелем настоящего заговора?» — вновь задал себе вопрос Алим. Он старался уследить сразу за всем в весьма обширном доме визиря и потому пропустил самое начало повествования, которое уже начал полуночный гость достойного визиря.
— …Вот поэтому я и крадусь к тебе под покровом ночи, как самый тайный из тайных лазутчиков, друг мой.
— Понимаю, — кивнул визирь. — Увы, мало чем я могу сейчас помочь тебе, мой неверный друг. И пусть не ведем мы войн ни с франками, ни с готами, ни с ромеями, соперничество, о котором ты упомянул, существует. Оно простирается на полудень и полуночь, от восходных вод до закатных. И если ранее воины и владыки пытались завоевать сушу, то теперь они стараются переиграть друг друга в океанах, стараются первыми завоевать острова и островки, дабы поднять над ними свой флаг и тем наказать соперников, пришедших вторыми.
— Именно так, достойный Анвар, именно так. Мой повелитель поручил мне найти эту страну и водрузить над дворцом ее владыки лабарум или вексиллиум по давнему рыцарскому обычаю. Пусть мне придется пересечь для этого моря и океаны, истоптать сотню пар башмаков, потерять всех солдат или обрести сотню врагов… Но повеление своего монарха я исполнить обязан. Ибо слово, что я некогда дал повелителю, нерушимо, как может быть нерушима океанская скала.
Визирь усмехнулся.
— Должно быть, почтенный Максимус, ты забыл, что морские скалы лишь кажутся нерушимыми. Однако в твердости твоего слова я уже некогда успел убедиться, а потому не будем возносить пустые хвалы, а сразу перейдем к делу. Ибо завтра, когда ты падешь ниц перед моим повелителем, халифом прекрасной Джетрейи, да хранит ее вовеки Аллах всесильный и всевидящий, мы уже должны знать, чего именно просить для тебя. Ибо твоя задача столь же велика, сколь и малопонятна, а повеление, которое погнало тебя в дорогу, сурово.
— О да, уважаемый Анвар, друг моих далеких дней. Именно так.
— Сейчас же, мой добрый Максимус, я приглашаю тебя отведать яств, как это пристало двум старым приятелям. А дела серьезные оставим на утро, ибо под пологом ночи творятся лишь дела, Аллаху неугодные. Дело же наше до утра подождет. Быть может, сон подарит тебе или мне решение непростой твоей задачи.
— Благодарю тебя за приглашение, достойный Анвар. Но мои люди…
— Они уже устроены, Максимус. Каким бы я был хозяином, если бы не позаботился обо всех своих гостях! Тем более столь редких.
Неспящий Алим покинул мирно беседующих приятелей. Он успел убедиться, что никакого заговора ни против трона, ни против Мераба нет. Увы, в этот момент невидимый маг походил более на квочку, озабоченную одинокой тучкой над глупыми желтыми птенцами, чем на мудрого мага. Так бывает иногда: самый уверенный в себе человек, ступив на незнакомую почву, превращается в перепуганного малыша, которого добрая матушка в первый раз отпустила одного погулять.
Миновала ночь. Утро засияло столь беспечно-яркое, как это может быть лишь на самом берегу полуденного океана и лишь в прекрасной, как сон, Джетрейе.
— Воистину, прекрасен каждый день, который дарует нам милостью своей Аллах великий, повелитель всего сущего!
— Да, друг мой, твоя страна прекрасна. Однако не следует ли нам поторопиться?
— Даже торопиться следует медленно, достойный Максимус. Ибо жизнь пролетит мимо, и ты не успеешь насладиться тем, что вообще жил на белом свете. До часа аудиенции у нас еще есть время. Так насладимся же утренней беседой и тем, сколь искусны бывают повара под этим небом.
— О да, — беззлобно ухмыльнулся гость с далекой полуночи. — Порадуемся тому, сколь тучное чрево можно отрастить, ежедневно этим наслаждаясь.
— Хорошего человека, уважаемый, — визирь поднял вверх указательный палец, — должно быть много.
— С этим трудно спорить.
Мераб услышал в саду голоса. Голос отца своего он узнал бы из сотен тысяч голосов, но голос его собеседника был ему незнаком. А потому юноша собирался неспешно, опасаясь потревожить гостя и вызвать отцовское неудовольствие.
— Мераб! — Так кричать мог лишь отец. — Мераб! Мы ждем тебя, сын мой…
— Повинуюсь, — пробормотал юноша скорее для себя. Он, конечно, не пытался соперничать с отцом — зычный голос того был известен всей столице.
— Друг мой, Максимус, позволь представить тебе моего старшего сына, мою гордость.
Мераб поклонился. Всего пары мгновений ему хватило, чтобы оценить гостя: небогатый, но и не бедный, состоящий на службе у повелителя, но не раб, сильный телом и духом.
— Сын мой, это достойный Максимус. В те дни, когда я был чуть старше тебя, доводилось нам делить тяготы сражений и суровые нравы стихий.
— Да пребудет с тобой, достойнейший, милость Аллаха всесильного! — вновь склонил голову юноша. — Я Мераб.
— Здравствуй, мальчик. Твой отец несколько преувеличивает. Однако некогда мы и в самом деле были добрыми друзьями. В те дни, когда чрево твоего уважаемого батюшки было не столь обширно, как, впрочем, и моя плешь…
Мераб понял, что может позволить себе маленькую вольность, и заметил:
— О нет, уважаемый. Это всего лишь стремительно растущий лоб. Мудрость не любит прятаться под шевелюрой.
Максимус расхохотался:
— Увы, мой друг, я бы хотел, чтобы это было так. Но…
С высокого минарета долетел призыв к молитве, и визирь заторопился.
— Возблагодарим же Аллаха всесильного за те дары, какими столь богата наша жизнь. А затем поспешим во дворец, ибо дело наше неотложное.
Он взглянул на сына.
— И ты, мой друг, в этот раз не прячься в беседке. Полагаю, нам пригодятся твои воистину гигантские знания.
— Повинуюсь, — в который уж раз проговорил Мераб.
Малым зал для утренних аудиенций назвал, должно быть, отчаянный шутник. Ибо зал был вовсе не мал. А висящие вдоль стен драгоценные зеркала, оправленные в порфировые рамы, зрительно делали его еще больше.
Однако сейчас мысли о размерах зала не касались Мераба, так как он, стараясь не дышать, дабы не пропустить ни единого слова, слушал рассказ почтенного Максимуса.
— …столь велики богатства моего господина. Сейчас же им, моим повелителем, движет не жажда наживы, а жажда славы: он решил, что прославить его имя в веках может лишь владычество над какой-нибудь далекой, а лучше легендарной страной. Тебе, великий халиф, ведомо, сколь яро гонит соперничество в поисках неведомых земель вассалов честолюбивых правителей всего мира.
— О да, уважаемый гость, сие ведомо нам.
— Как ведомо и моему властелину. А потому решил он, что глупо искать новый путь в Индию, по примеру наших соседей франков или испанцев. А лучше будет, если я, втайне от всего мира, найду неведомую страну и над стенами ее столицы водружу флаг, доказав всему миру, что только мой властелин достоин править легендой.
— Глупое какое-то желание. — Халиф мог себе позволить и более резкие выражения, но решил сдержаться.
— Я не хочу давать оценки пожеланиям моего господина, — проговорил, гордо выпрямившись, Максимус. — Однако, верный своей присяге, я отправился в дорогу, дабы исполнить его волю.
— Мы понимаем тебя, достойный наш гость.
— Странствие по суше доказало мне, что неведомых земель по эту сторону полуденного океана уже не осталось и лишь на полудень от песков черной страны Кемет могу я найти заповедные страны, более овеянные легендами, чем описанные правдивыми рассказами сотен странников. Вот поэтому и припадаю я к твоим стопам, великий халиф, дабы помог ты снарядить экспедицию, которая способна будет переправиться через Серединное море или пройти в самое сердце неведомого полуденного континента в поисках такой страны. И, быть может, не одной.
Халиф молчал. Он всматривался в лицо иноземца, словно пытаясь понять, не кроется ли за его словами какой-то другой, возможно, более страшный для его страны смысл.
Замолчал и Максимус. Сейчас все, зависящее от него, уже было сделано и произнесено. А потому оставалось лишь ждать решения, как надлежит это делать воину: без суеты и спешки.
— Да будет так, — склонил голову халиф. — Достойный Максимус, наша страна поможет тебе снарядить такую экспедицию. Запас яств, самые сильные воины и быстроходные суда будут найдены для твоей высокой цели. Твоему другу и нашему визирю я повелю приложить к этому все старание.
— Благодарю тебя, великий халиф.
— Однако мы просим тебя, уважаемый наш гость, принять в состав экспедиции нескольких наших подданных, людей знающих и сильных. Дабы, если искомая вами страна будет найдена, малая толика славы в ее открытии досталась и нашей державе…
Халиф улыбнулся: конечно, вовсе не соображения преумножения славы государства двигали им. И визирю, и Максимусу это было понятно. Однако понятно было и другое — это условие, которое не выполнить нельзя.
— И вновь я благодарю тебя, великий халиф. Ибо твое условие для меня великое благо: я и сам хотел, но не мог решиться, чтобы просить у тебя дозволения не только снарядить экспедицию, но и призвать некоторых из твоих подданных.
Вот теперь все формальности были соблюдены, далекий гость получил дозволение на покупку снаряжения, согласившись взамен, что шпионы халифа примкнут к его людям.
Халиф удовлетворенно улыбнулся.
— Не будем долее задерживать тебя, достойнейший наш гость. А тебе, наш мудрый визирь, мы повелеваем во всем помогать нашему гостю и подобрать для него все лучшее, дабы просьба далекого нашего брата, повелителя туманных островов Альбиона, была исполнена наилучшим образом и в кратчайший срок.
Лишь когда закрылись высокие двери малого зала для аудиенций, визирь перестал униженно кланяться. А Максимус, выпрямившись, сказал:
— Удивительно, друг мой, наши правители так непохожи друг на друга и в то же время столь похожи, что иногда отличить одного от другого я могу лишь по одеждам…
— Ты более чем прав, уважаемый. На их плечи давит тяжкий груз ответственности за всю страну.
— А мне почему-то кажется, Анвар, что давит он им не на плечи, а на мозги.
И визирь вынужден был в душе согласиться со своим давним другом: ему тоже так иногда казалось.
Свиток десятый
Мераб молчал. Его ошеломил зал для аудиенций, поразила высокая цель гостя и изумили последние слова, которыми обменялись Максимус и его отец.
К счастью, к нему ни разу не обратились, ибо он, увы, не смог бы связать и двух слов. Однако сейчас, когда двери малого приемного зала отсекли ужас и восхищение, юноша ощутил, что здравомыслие начинает возвращаться к нему.
Давние приятели, его отец и Максимус, продолжавшие беседовать едва слышно, обратились к нему.
— Итак, сын мой, — в голосе визиря Мераб явственно услышал горделивые нотки. Юноша понимал, почему отец торжествует: только он, Мераб, мог бы сразу вспомнить и без запинки изложить все легенды, известные в прекрасной Джетрейе. Более того, лишь одному сыну визиря не составляло ни малейшего труда сопоставить все эти мифы с правдивыми описаниями странствий и указать, что в любой из легенд осталось вымыслом, а что нашло свое подтверждение за долгие годы путешествий и торговли.
— Отец мой…
— Теперь настал твой черед. Ты знаешь, сколь огромную задачу пытается решить наш гость, слышал дозволение нашего халифа. Осталось лишь понять, куда следует отправиться уважаемому Максимусу, дабы исполнить повеление своего господина.
«Будь осторожен, Мераб, — услышал юноша голос того, кто вчера назвался „неспящим Алимом“. — Рассуждай вслух, однако старайся все же щадить разум твоего отца и его друга, ведь они всего лишь обыкновенные люди».
«Но разве я не таков?»
«И ты таков, однако у тебя есть советчик, глас которого слышен лишь тебе одному. А у меня, о боги, знаний куда больше, чем могут вместить головы сотни мудрецов. Да и ты, скажу тебе по секрету, знаешь куда больше всего дивана вашей прекрасной страны».
Старшие расценили молчание юноши как размышление и потому не тревожили его. Мераб же, вняв мудрости Алима, и в самом деле стал думать, с чего начать рассказ.
Наконец он решился.
— Прежде чем ответить, батюшка, на твой невысказанный вопрос, я стократно прошу прощения у тебя и твоего друга…
— За что же, Аллах всемилостивый?
— Боюсь, что некоторые мои слова могут ранить самолюбие твоего уважаемого друга. Ибо приказание его повелителя, увы, отдает любовью к славе самого дурного толка. А наш уважаемый гость, верный своему слову, не может отказаться от исполнения этого приказа. Ибо он — человек чести, а его господин, прости мне сто раз мои резкие слова, почтенный Максимус, — настоящий самодур.
Визирь тонко улыбнулся, но ничего не сказал. А его давний приятель лишь кивнул: устами младенца, как известно, глаголет истина. И даже велеречивые царедворцы не могут ничего поделать с этой истиной.
— Благодарю тебя, мой мальчик, — Максимус кивнул. — Ты, увы, просто назвал вещи своими именами, и извиняться здесь не за что.
— Отрадно мне слышать эти слова, почтенный наш гость. И прежде чем мысленно пуститься в далекое странствие, я прошу у моего уважаемого отца дозволения…
— Мераб, откуда такие цветистые слова? — Визирь смотрел на сына с недоумением.
— Должно быть, дворцовые стены, друг мой, — вместо юноши ответил Максимус. — Полагаю, нам следует незамедлительно выйти на свежий воздух. Иначе пустые разговоры затянутся на целый день.
— Ты прав, друг мой юности. — Визирь повернулся к выходу.
Тут Мераб понял, что если не скажет этих слов сейчас, то больше уже возможности произнести их ему не представится.
— И еще, мудрый мой батюшка… Прошу, о нет, воистину я умоляю, чтобы ты, мудрый визирь, отпустил меня в странствие с твоим другом. Как бы много ни рассказал я ему сейчас, все равно это будут жалкие крохи знаний.
Визирь печально улыбнулся:
— Конечно, Мераб, ты отправишься в это странствие вместе с Максимусом. Более того, я собирался сам просить тебя об этом, ибо взять с собой тебя одного равно тому, что нагрузить сотню верблюдов толстенными томами дворцовой библиотеки.
— Так ты не будешь возражать?!
— Мальчик мой, стены дворца давно уже тесны для тебя. Бесспорно, расставание будет для меня болезненным. Однако и необходимым, ибо тебе следует отыскать в этой жизни свой путь, как бы ни хотелось мне и твоей матушке, чтобы ты оставался с нами до седых волос. Увы, родители зачастую эгоистичны и немудры.
— Аллах великий, не все, мой мудрый отец, не все. Я благодарю тебя и повинуюсь твоему приказанию. Итак, почтенный Максимус, теперь тебе придется привыкать к тому, что я отправляюсь с тобой.
Иноземец хмыкнул:
— Сказать по правде, мальчик, я рад этому. Ибо друг мой, как бы ни умолял я его, все равно уже не решится отправиться со мной. А вот ты, молодой и сильный, сможешь быть отличным проводником.
Наконец длинный коридор, что вел к малому церемониальному залу, остался позади. Еще несколько шагов — и перед собеседниками раскинулся великолепный дворцовый сад, наполненный в этот ранний час пением птиц и шумом фонтанов. Ближе к полудню все утихнет, но сейчас все живое радовалось новому дню.
Ноги сами понесли Мераба к привычной беседке, и старшим не оставалось ничего иного, как последовать за ним.
— Итак, мой друг, куда следует нам направить свои стопы?
— Достойный Максимус, — заговорил Мераб. — Все то время, пока мы шли сюда, размышлял я об этом. Ты во многом был прав, ибо страны на полуночь от нас уже хорошо известны, исхожены сотнями ног, изрезаны караванными и торговыми путями… Страны же на полудень — это воистину сторона неизвестная, ибо Великий Южный океан омывает сотни островков, островов и континентов… То же, что находится на полудень от Либии, неизвестно почти никому — пески прибрежной полосы, словно коварное чудовище, поглощают странников. Они пропадают навсегда и нет никаких сведений о том, что может таиться в глубине континента.
Мераб еще заканчивал фразу, однако мысли его были уже далеко. «Но почему сейчас молчит Алим? — пронеслось в его мозгу. — И был ли он на самом деле? А если был, должно быть, испугался моего решения и исчез в поисках тихого уголка, где можно провести остаток дней?»
Раздался смех. Однако Мераб увидел, что смех этот слышен лишь ему, ибо лица отца и достойного Максимуса были спокойны и серьезны.
«Тихого уголка, мальчик? Где можно провести остаток дней… Ох, мой глупый юный друг! Мой остаток дней — вечность, а тихими уголками я уже сыт по горло. Нет, даже по макушку, ибо нет заточения более тихого, чем жизнь среди страниц книги. И если бы не твое поистине оживляющее воображение, так бы и остался я там, забытый всеми. Я просто молчу, дабы услышать твои резоны. А уж потом, если сочту их… неразумными, подсказать, что следует делать на самом деле».
Мераб и обрадовался, и смутился, ибо трудно быть уверенным в своей правоте, если твой, пусть и незримый, собеседник прожил бесконечно долго и знает бесконечно много.
— Это ведомо и в наших краях, друг мой, — спокойно кивнул Максимус.
— Должно быть, в ваших краях также ведомо и то, что черная страна Кемет, ныне наслаждающаяся властью самого Аллаха всесильного и всемилостивого, некогда была страной великой; ее полуденные соседи были поглощены ее южными провинциями, как губка поглощает влагу. Однако, думаю, в ваших краях неведома легенда о стране Мероэ, что лежит на полудень от страны Кемет… Что страна эта, овеянная легендами, жива и по сей день.
— Жива, мой мальчик? Разве не была она занесена песками две тысячи лет назад? Разве не поглотила ее бескрайняя пустыня, наказав ее правителей за надменность и спесь?
Мераб усмехнулся.
— Боюсь, почтеннейший, это твой повелитель некогда будет наказан за надменность и спесь… Ибо ему захотелось власти над легендой. А такого святотатства не потерпит любой бог — ни твой, Максимус, ни Аллах всесильный и всемилостивый.
Максимус лишь кивнул — что толку спорить с истиной?
— Более того, — продолжил Мераб. — Известные мне повествования в один голос твердят, что страна Мероэ, существующая и поныне, спряталась от мира за глупыми легендами и слухами именно для того, чтобы соседи не тревожили ее набегами. Думаю, нам можно было бы поискать именно ее, ибо ни одной другой истории о подобной хитрости я не припоминаю.
— Говорили мне, мальчик мой, что посреди Узкого океана лежит страна, которую населяют неведомые племена, ушедшие вперед столь далеко от нас, что это и представить себе трудно. Быть может, лучше все-таки отправиться в морское странствие?
— Быть может, это и более простое решение, почтеннейший, но, думаю, неверное. Ибо знаю я легенду, что жители этой страны, сочтя свои знания обширными и абсолютными, вознеслись разумом выше богов и те в назидание опустили в пучину их страну… Истинна легенда или ложна, сказать я не могу, однако убить год-другой жизни, дабы убедиться в правдивости ее, мне почему-то не хочется. И потом, даже если легенда не лжет и жители столь мудры, потерпят ли они надменное желание твоего господина? И не убьют ли тебя, едва ты только раскроешь рот, дабы изложить им его повеление?
— Но если лжет твоя, мальчик, легенда о стране Мероэ?
— Если она лжет, мы узнаем это через пару месяцев странствий. Ибо за это время сможем пересечь полуденную Либию до самого Узкого океана.
— Если не сгинем в песках…
— Думается мне, уважаемый Максимус, что гибель в песках ничем не хуже гибели в штормах.
И это была чистая правда.
— Да будет так, мой друг, — примирительно промолвил визирь. — Поначалу, думаю, можно последовать совету моего сына и отправиться на полудень Либии. Если же легендарная страна не отыщется, то вы повернете на полуночь и отправите мне весточку из любого города под рукой Аллаха всесильного и всемилостивого. Думаю, моей власти хватит, чтобы снарядить флотилию, которая найдет вас в стране Кемет и сможет доставить вас в любое место посреди Узкого океана или даже, Аллах великий, в саму страну Фузан, где живут люди с красной кожей и длинными ножами, обагренными человеческой кровью.
С мудрыми словами визиря первым согласился его друг.
— Да будет так! — кивнул Максимус.
Согласился с этим и Мераб. В решении отца был резон. Хотя… Все то же сомнение терзало юношу.
— Остается лишь узнать, согласятся ли жители далекой страны Мероэ с тем, что теперь какой-то далекий надменный правитель будет называть их легендарную страну своей?
И Максимус промолчал. Ибо он обещал такую страну лишь найти. Но ни малейшего желания заливать ее кровью, дабы добиться вассального согласия и покорного смирения, у мудрого воина не возникало.
«Вам осталась лишь малость, мальчик, — услышал смешок Алима Мераб. — Найти эту страну… А тогда уж и спросите, чего именно желают и на что согласны ее жители».
Воистину, дело было за малым: найти страну-легенду.
Свиток одиннадцатый
Повеления халифа прекрасной Джетрейи исполнялись столь быстро, сколь это было вообще возможно. Неудивительно поэтому, что Максимус уже с полдня стал пропадать в лавках и лавчонках, а визирь Анвар, в придачу к поистине гигантскому списку своих обязанностей, присовокупил еще и почетную, но обременительную необходимость во всем Максимусу помогать.
Не скучал и Мераб. Ибо если ему предстояло стать проводником экспедиции и хранилищем разнообразнейших знаний обо всем, что может понадобиться в пути, то следовало эти знания освежить.
Вновь распахнулись двери дворцовой библиотеки, которая могла бы посоперничать с библиотекой самого кордовского университета. Вновь руки юноши стали переворачивать страницы летописей и истрепанных путевых дневников.
Восстанавливать позабытые знания было юноше тем более интересно, что теперь сухие слова заметок разных странников обогащались интересными комментариями неспящего Алима — невидимого и бестелесного мага. Однако маг, украшая повествования, все же утверждал, что одних лишь путевых заметок и слов его, Алима, недостаточно для успешного похода.
— Мальчик, — бурчал Алим всякий раз, когда юноша с натугой раскрывал очередной огромный том. — Сколько бы ты ни читал, всего не запомнишь, ибо это вне возможностей человеческих. За годы, что прошли после описываемого странствия, местность могла до неузнаваемости измениться, тем более там, где реки пересыхают, а барханы странствуют по бескрайним просторам, словно усердные верблюды.
— Однако горы, о мудрец, полагаю, не странствуют…
— Нет, — со смешком соглашался Алим. — Горы остаются на местах, указанных Аллахом милостивым.
Каждый раз, когда Алим смеялся, Мераб ощущал странную щекотку, которая возникала, казалось, прямо в его голове.
— Значит, все же в моих штудиях сейчас есть смысл.
— Да, малыш, смысл есть. Однако я прошу тебя… Нет, я настаиваю, чтобы ты, следя за странствиями других, не забывал развивать и собственный удивительный дар. Раз уж мне с твоей помощью удалось покинуть темницу на страницах книги, то и другими пленниками страниц ты сможешь управлять… Вероятно, не столь легко, но, однако…
И как-то раз, уже на закате, Мераб решил поддаться на уговоры мага. Быть может, чтобы доказать ему, что никаких особых дарований у него, сына визиря, нет. Или, о Аллах, может быть, убедиться самому, что незримый и неспящий Алим вновь оказался прав.
Юноша взял в руки книгу, которая рассказывала о судьбе двух семей небольшого городка, и погрузился в чтение. Всего нескольких строк хватило, чтобы перед ним ожили герои повествования, заблестели их живые глаза, зазвучали голоса, а дворик заполнили запахи, шарканье ног, пение птиц и девичий смех.
— А теперь, друг мой, — голос Алима вторгся в события столь резко, что Мераб вздрогнул, — сделай еще одно мысленное усилие: заставь, например, этого усталого почтенного Нур-ад-Дина… Ну, например, пасть на колени перед своей возлюбленной.
— Пасть на колени?
— Ну, или хотя бы… пусть он услышит не аромат пекущихся лепешек, а запах горящего дерева… Пусть подумает, что у его любимой в доме пожар.
Мераб пожал плечами. Он уже был готов поверить во что угодно, однако между «поверить» и «осуществить» есть все же некоторая разница. Итак, юноша оторвался от чтения и, сделав непонятное ему самому усилие мысли, представил, как пахнет горящее дерево, как сгущаются черные клубы дыма, поднимаясь высоко в небо, как больно становится душе, когда она ощущает горечь утраты…
К его удивлению, почтенный Нур-ад-Дин, который всего мгновение назад беседовал с приказчиком на страницах книги, вздрогнул и… Бросился искать сосуд, куда можно было бы набрать побольше воды, дабы спасти любимую, погибающую в огне.
Ничего не подозревающая его мечта в эти мгновения, конечно, в огне вовсе не погибала, напротив, воспоминания увлекли ее в далекие дни молодости…
Вернувшись мыслями из тех давно прошедших дней, Мариам улыбалась чуть печально. Это воспоминание словно пролило целительный бальзам на измученную тоской душу. Словно из-за порога ее муж простился с ней, забрав боль и дав долгожданный покой. Пальцы сплетали тонкие кожаные ремешки, душа отдыхала.
И тут Мераб не поверил своим глазам: под его взглядом строки менялись… И вот уже книга повествовала о том, что придумал юноша. А люди, о которых говорилось в книге и которые живыми представали перед взором Мераба, начали совершать невиданные поступки.
И в этот миг на Мариам обрушился водопад. Она вскочила, пытаясь понять, откуда взялись эти потоки воды, и увидела почтенного Нур-ад-Дина, который сжимал в руках теперь уже пустое ведро.
— Аллах всесильный, Нур-ад-Дин! Что ты делаешь, безумец?!
— Я спасаю тебя из пожара, глупая женщина!
— О Аллах, неужели все это совершил я?!
Холод ужаса сковал пальцы Мераба. Он следил за тем, что теперь происходит с героями истории и… И задавался вопросом, что они будут делать дальше.
— Это ты глуп, уважаемый! — закричала на Нур-ад-Дина рассерженная Мариам. — Разве ты не видишь, что в этом доме ничего не горит?
Нур-ад-Дин огляделся по сторонам. Действительно, вокруг царили чистота и спокойствие.
— Но я же видел черный дым, что поднимался к самым верхушкам тополей отсюда, из твоего двора! Мне показалось, что я слышу и запах паленого, словно горят ковры или занавеси.
Мариам было неуютно в насквозь промокшей одежде. Она мечтала укрыться в своих покоях, чтобы переодеться и привести себя в порядок, но изумление на лице давнего друга было таким неподдельным, что почтенная женщина медлила.
Не мог прийти в себя и Нур-ад-Дин. Увидев черный дым, услышав сухое потрескивание разгорающегося пламени, он, словно обезумевший, бросился спасать единственную женщину в мире, которой дорожил. «Только бы успеть», — бормотал он. Ему показалось, что весь двор закрыли черные клубы дыма, словно горели дорожки, устилавшие каменные плиты до самой калитки.
Сейчас же, придя в себя после этой безумной паники, Нур-ад-Дин не мог понять, откуда же взялся пугающий черный дым, столбом поднимавшийся в небо, и почему он слышал треск огня, хотя ничего не горело.
— Должно быть, добрый мой друг, тебе все это лишь привиделось.
— Быть может, и так… — неуверенно ответил Нур-ад-Дин.
Алим хохотал.
— Мальчик мой, да ты к тому же еще и коварен! Как джинн, воистину. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше.
— Посмотрим, уважаемый… — прошептал Мераб. Ему было одновременно и до одури страшно, и невыразимо любопытно: что будут делать герои истории теперь, когда он своей волей вмешался в ход событий.
Мариам все настойчивее подталкивала его к калитке. Но Нур-ад-Дин по-прежнему медлил и пытался понять, что же так напугало его.
Наконец женщине надоело разглядывать озадаченную физиономию нежданного спасителя, который, казалось, вовсе не собирался покидать ее дом.
— Добрый мой друг, — с едва заметной иронией проговорила Мариам, — я оставлю тебя на несколько минут. Мне нужно сменить одежду и вывесить ее просушиться. Ибо ведро, которое ты наполнил, было воистину большим, а вода — невероятно мокрой.
Нур-ад-Дин усмехнулся.
— Прости меня, добрая женщина! Мой испуг был и куда больше этого ведра, и куда совершеннее воистину совершенно мокрой воды.
Мариам кивнула и наконец удалилась к себе. Пока она меняла платье, закалывала на голове тонкую газовую шаль, вывешивала на просушку действительно мокрое платье, Нур-ад-Дин ходил по двору и осматривался. Он пытался понять, что же горело и почему черный дым так напугал его.
Но все было спокойно. Вымокший полусплетенный кушак лежал именно там, где упал. Едва заметно шумела листва тополя, где-то за дувалом запоздало запел петух. Солнце грозило вот-вот уйти за горизонт.
— Но, Аллах всесильный, что же здесь могло гореть? Что?!
— И что же, мой коварный друг, могло гореть?
— Не знаю, почтенный Алим. Пока не знаю. Быть может, лепешки… Хотя у такой хозяйки лепешки сгореть не могут.
— Ну, вот мы это и проверим, мой мальчик.
Ответа на свой недоуменный вопрос Нур-ад-Дин не находил. Он готов был уже признать, что ему это все лишь померещилось, и в этот момент легкий аромат пощекотал ему ноздри.
— О повелитель правоверных! О Аллах всемилостивый! Эта женщина глупо подшутила надо мной!
Нур-ад-Дин кинулся к печи в углу двора и стал разбрасывать сложенные дрова. Не найдя ничего необычного, он сел рядом с тем, что осталось от поленницы, и принялся грозно сверлить взглядом дверь на женскую половину дома. Словно почувствовав этот взгляд, Мариам вышла во дворик.
— Это ты, о хитрейшая из хитрых, решила подшутить над Нур-ад-Дином?
— Я?!
Удивлению Мариам не было предела. К тому же уверенность Нур-ад-Дина начинала женщину понемногу сердить. Пока лишь сердить. Но где та грань, за которой раздражение может перерасти в гнев или обиду?
— Ну конечно, ты! Ибо ты что-то печешь! А значит, ты положила в печку мокрые поленья, дым от которых я и принял за пожар.
— О безголовый мужчина! Покажи мне хоть одно мокрое полено! Мой усердный сын, мой мальчик, никогда не приносит матери сырых поленьев. Ибо мой труд он ценит более чем высоко!
Нур-ад-Дин в глубине души вынужден был признать, что Мариам права: дрова были сухими, а поленница сложена и укрыта столь аккуратно, что сделать это действительно могли только любящие и умелые руки.
— Но тогда почему из твоей печи валил черный дым?
— Аллах всесильный! Из моей печи никогда не валил черный дым! Ибо все это время я была здесь, рядом. И мои лепешки никогда не сгорали до черноты.
Нур-ад-Дин позволил себе улыбнуться. Ибо он услышал запах, который не спутать ни с чем: запах подгорающего теста.
— И нечему здесь улыбаться. Да-да, я знаю, что говорю!
— Так все же это были лепешки?
— О нет, конечно, не лепешки! Глупцу так и не удастся понять, что вызвало у него такой страх.
— Быть может, мальчик, ты еще не придумал, что это было?
— И не придумал, уважаемый, и придумывать не хочу. Скажу тебе по секрету: мне невыразимо страшно. И в то же время я готов петь, ибо душа моя ликует.
— Так убедимся же, что именно твое, воистину не связанное никакими границами воображение изменило ход событий.
Мариам едва не сорвалась на крик. Она была почти оскорблена: ее, столь опытную хозяйку, лучший друг семьи, от чего оскорбление еще ужаснее, обвинил в том, что она не может испечь простых лепешек! Обвинил в том, что ее лепешки сгорели!
Увы, лепешки действительно подгорали. Лишь гнев мешал Мариам услышать этот ужасный для любой уважающей себя хозяйки запах.
И чем больше гневалась Мариам, тем шире улыбался Нур-ад-Дин. Улыбался тому, что, пусть в мелочи, но оказался прав. И тому, о Аллах, как же признаться в этом самому себе, что сейчас Мариам, его давняя знакомая Мариам, была удивительно хороша! Гнев ее даже омолодил.
«Аллах всесильный, — подумал Нур-ад-Дин с некоторым раскаянием, — что значит „омолодил“? Да она просто совсем молодая женщина! Молодая и такая прекрасная! Почему я решил, что она старуха?»
— И этот человек еще смеет улыбаться мне в лицо! Он назвал меня плохой хозяйкой! Да будут свидетелями моих слов и небо над головой, и тополь у стены, и сами стены этого дома! Никогда у меня еще не сгорали лепешки, никогда они не превращались в…
И тут сама Мариам услышала предательский запах. Увы, сегодня это случилось… Черная корочка, должно быть, уже появилась…
Вскрикнув, почтенная женщина бросилась к печи и начала лихорадочно вытаскивать оттуда лепешки. К величайшему разочарованию Нур-ад-Дина, они были удивительно хороши и румяны. Ни пригоревшей корочки, ни черных пятен на аппетитных боках лакомства, до которого он сам был великим охотником, а Мариам — непревзойденной мастерицей.
— Я же говорила! — торжествующе воскликнула она. — Чтобы у меня подгорели лепешки? Да этого просто быть не может! Такого не допустит и сам Аллах всесильный и всемилостивый!
— Он так и останется в неведении, мой друг?
— Должно быть… Мне отчего-то не хочется, чтобы удивительным видениям этого почтенного человека нашлось обыденное объяснение. Уж если чудеса случаются, то пусть будут настоящими.
— Пусть, мой друг… — В голосе мага отчетливо слышна была улыбка. Так, должно быть, может улыбаться учитель успехам своего усердного ученика.
Нур-ад-Дин удрученно склонил голову. Сейчас его паника казалась ему еще более нелепой. Но, увы, объяснения ей он все так же найти не мог. И предстояло еще объясниться с уважаемой Мариам… И, конечно, извиниться перед ней.
Причем, извиниться не единожды. Ибо платье ее было мокрым от ворота до подола — он, Нур-ад-Дин, не пожалел воды для спасения уважаемой ханым; кроме того, он, неуклюжий глупец, поставил под сомнение честь Мариам как хозяйки, что было — о, с этим не может не согласиться любой опытный мужчина! — провинностью куда более тяжкой, чем даже сотня ведер воды.
Почтенный купец склонил голову, прикидывая, с чего начать разговор. Мариам, уперев руки в бока, сверлила его насмешливым взглядом.
— Аллах всесильный и всемилостивый! — воскликнула почтенная вдова. — Ну какой ты неловкий, Нур-ад-Дин! Вбежал, облил меня водой, оставил открытой калитку… А если бы какой-нибудь лихой человек воспользовался этим?
— Я бы защитил тебя, несравненная! — пробормотал Нур-ад-Дин. Что-то в голосе Мариам подсказало ему, что она не очень сердится на своего нежданного спасителя.
— О, не сомневаюсь. Должно быть, еще более рьяно, чем от пожара. Надеюсь, что жива бы я все-таки осталась. Но и только… Хотя и за это стоило бы благодарить Аллаха всесильного и всемилостивого.
— Ты меня делаешь истинным чудовищем, незабвенная, — робко заметил Нур-ад-Дин, поднимая голову. Он увидел, что Мариам не сердится, что в ееглазах больше смеха, чем гнева, и потому чуть осмелел. — Разве мог бы я поднять руку на столь прекрасную женщину?
— О, если бы считал, что этим сможешь защитить ее… Ведь смог же ты едва не утопить меня, защищая от несуществующего пожара!
— Прости меня, добрейшая из женщин. Я столь сильно за тебя перепугался, что почти не помнил себя.
Мариам вздохнула и нежно посмотрела на своего спасителя.
— Я вовсе не сержусь на тебя, добрый мой Нур-ад-Дин. Более того, я даже благодарна тебе. Ибо ты, сам того не желая, вернул меня на землю из прекрасных грез. Кто знает, что стало бы со мной, задержись я там на миг дольше!
Нур-ад-Дин просиял.
— О счастье! Ты не сердишься — и твой почтительный раб счастлив! Но… прости меня, прекраснейшая, быть может, это непозволительная вольность…
— Говори уж, — махнула рукой Мариам, — я и в самом деле не сержусь. Не рассержусь, должно быть, и на неумные слова…
Нур-ад-Дин поклонился. А потом, подняв голову, спросил:
— О, если это и в самом деле так, то не будешь ли столь гостеприимна, чтобы угостить меня такими прекрасными лепешками?
Мариам рассмеялась.
— О, мой добрый друг и всегда желанный гость! Я буду даже более гостеприимна: накормлю тебя разными вкусными вещами, а не только свежимилепешками. А если ты пришлешь ко мне завтра свою дочь, я расскажу ей, что и как следует готовить.
— Благодарю тебя, — качнул чалмой Нур-ад-Дин. — Но тогда, о лучшая из женщин, не забудь ей сказать, сколько ведер воды должен принести с собой мужчина, чтобы получить столь изысканные лакомства.
Мариам рассмеялась и увлекла его в дом — там было и прохладнее, и уютнее.
— Но что же будет дальше, мой друг?
— Полагаю, уважаемый Алим, последуют новые чудеса. Например, почти взрослый сын почтенной ханым решит вымыть посуду…
— Нет, такого я представить себе не могу.
Да и как мог себе такое представить невидимый маг, чтобы мужчина и женщина в доме поменялись местами?! Чтобы юноша не упражнялся с мечами или с колдовским зельем, а опустился до черной женской работы? Воистину, если бы такое произошло наяву, то он, неспящий Алим, решил бы, что мир перевернулся и люди теперь будут ходить по небу.
Свиток двенадцатый
— Ну, так смотри же!
Мераб чувствовал себя настоящим волшебником — не дешевым ярмарочным шутом, нет, настоящим повелителем миров. Поистине, это было пьянящее, кружащее голову ощущение!
Он представил себе, как взрослый сын почтенной ханым, тоже именуемый Нур-ад-Дином, входит в дом после тяжкого дня, проведенного на шумном базаре…
Мать, и это было первое чудо, не ждала его прямо у калитки, прислушиваясь к шагам на улице. Более того, ее и вовсе не было во дворике. Зато на месте, где обычно стояла лаковая скамеечка, украшенная узором из цветущих маков, сейчас разлилась огромная лужа воды, а скамеечка, словно безумный кораблик, тихо покачивалась на ее поверхности…
«О Аллах всесильный, — пронеслось в голове Мераба, — почему именно кораблик? Должно быть, мысли о скором нашем отъезде все же не дают мне покоя. Однако что будет делать Нур-ад-Дин теперь, когда его мир неузнаваемо изменился?»
Удивило Нур-ад-Дина и то, что печка, обычно весело гудящая пламенем, сейчас тиха и холодна. Неужели матушка столь заболталась с приятельницами, что еще не вернулась домой? Но как же такое может быть?!
Словно подслушав эти недоуменные мысли сына, Мариам появилась прямо перед его носом. О нет, она не возникла ниоткуда, словно призрак. Просто юноша совсем забыл, что в доме есть подпол и что он глубок и хранит превеликое множество нужных хозяйке мелочей. Вот из этого люка и появилась уважаемая Мариам-ханым.
И тут Нур-ад-Дина ожидало второе чудо: его мать улыбалась. Более того, она сменила свое обычное темное строгое платье не более светлое и яркое, к тому же повязав узорчатую шаль необыкновенной красоты, которую его отец, уважаемый Абусамад, подарил жене незадолго до своей смерти.
— Мой мальчик, угомонись ненадолго. Не придумывай новые чудеса, пусть эти уважаемые люди разберутся с изменениями, что уже произошли в их жизни.
— Достойнейший маг, я ничего не выдумываю, более того, я всего лишь с интересом слежу за этими людьми. Ибо никому в целом мире не дано придумать то, что может происходить в жизни обычных людей… Ну, пусть не каждый день. Убедись сам.
— О, матушка, как ты хороша! — вырвалось у юноши. И Мариам поняла, что это чистая правда, ибо глаза сына светились такой радостью, какую невозможно изобразить даже самому талантливому лицедею.
Мариам улыбнулась этим словам Нур-ад-Дина и сказала:
— Ах, мой дорогой мальчик, сегодня произошли два удивительных события… Они вернули меня к жизни, они… Да ты и сам видишь, что они сделали с твоей престарелой матерью!
Нур-ад-Дин широко улыбнулся. О, сейчас ее, матушку, престарелой не назвал бы ни один безумец, ибо она выглядела собственной дочерью. Щеки горели румянцем, как у совсем юной девушки, глаза сияли изумительным теплым светом, а губы, яркие, словно подкрашенные кармином, весело улыбались.
— Ах, матушка, хотел бы я выглядеть столь же прекрасно, как ты!
— Ты мне льстишь, малыш. Идем, ужин ждет тебя. А пока ты будешь превращаться из скучного лавочника в моего любимого сыночка, я тебе расскажу обо всем.
Нур-ад-Дин вошел в гостевую комнату и поразился третьему за сегодняшний нескучный вечер чуду: стол был уставлен яствами столь обильно, будто есть собирался не один, пусть уставший и проголодавшийся юноша, а целое войско мамлюков, до того питавшееся в пустыне исключительно акридами и каплями росы.
— О Аллах всесильный, матушка! Что случилось?! Наш дом ждет какая-то большая радость? Или, о прости мне этот вопрос, я забыл о каком-то важном празднике?
Мариам рассмеялась.
— Ты не забыл ни о каком празднике, сын мой. А дом наш действительно посетила великая радость. Ибо наш сосед и добрый друг дома сегодня спас меня от огня, в котором я непременно сгорела бы, не оставив даже воспоминания.
— Я не понимаю, матушка, — жалобно проговорил Нур-ад-Дин. — Я не понимаю таких странных шуток…
И тогда Мариам, не скрывая от сына почти ничего, ну, кроме того разве, о чем ему знать вовсе не полагалось, рассказала, как она вернулась мыслями в далекое прошлое, как услышала прощальные слова Абусамада и как очнулась от ведра холодной воды.
— Почтенный мой тезка, должно быть, просто сошел с ума!
— О нет, мальчик, он просто испугался, что у нас пожар, вот и бросился на помощь. Вполне понятное и достойное мужчины поведение.
— Должно быть, так…
Со смехом рассказала Мариам и о том, как она спасла лепешки, и о том, как Нур-ад-Дин напросился на ужин. Ее сын, юный Нур-ад-Дин, удивлялся, слушая рассказ матери. Более того, он готов был уже оскорбиться за нее, но все простил почтенному купцу, еще раз взглянув в лицо Мариам, такое сияющее, помолодевшее, прекрасное.
— …Вот такой был у меня вечер, мой мальчик.
Нур-ад-Дин нежно улыбнулся матери.
— Я рад слышать такие вести, матушка. Ибо они куда лучше, чем то печальное молчание, каким ты встречала меня раньше.
Юноша склонился к руке матери и поцеловал ее. Обычай франков, о котором уже вспоминал Нур-ад-Дин, прижился, дабы хоть иногда радовать женщин, которым мужчины хотели оказать почести.
— А теперь, почтенный Алим, смотри, сейчас начнутся настоящие чудеса!
Мераб чуть прикрыл глаза — так ему легче было представить, что должно произойти дальше.
И чудо свершилось: слова на страницах книги на миг исчезли, а потом вновь появились. Но то были совсем другие слова и повествовали они совсем об ином.
Юный Нур-ад-Дин выпрямился и проговорил:
— Не годится такой прекрасной женщине самой таскать тяжелую посуду и мыть ее. Я помогу тебе, мамочка.
— Аллах всесильный! — вырвалось у Алима. У Алима, который давно уже не верил ни во что: ни в божественный промысел, ни в силы обычного человека, не верил даже в существование самого Иблиса Проклятого!
Но зрелище, представшее перед ним, было более чем необыкновенным: юноша, напевая, мыл чугунный котел, а его матушка, которой как раз и следовало бы этим заниматься, сидела рядом и любовалась усердием своего сына.
Миг — и все пропало. Остались лишь строки, которые повествовали о сыновней любви.
— Ты быстро учишься, друг мой, — сказал Алим. — Не могу даже представить, что ты заставишь делать дальше этих почтенных людей. Быть может, они у тебя взлетят в небеса, расправив полупрозрачные крылья, подобные крыльям летучих мышей?
— Нет, уважаемый, такого не будет, конечно. Ибо это уже не чудеса, а небывальщина. Я придумал кое-что совсем простое, но вместе с тем необыкновенное…
Стоял ясный полдень, когда почтенная Мариам решила, что пора уже возвращаться домой. Все утро она провела на базаре, слушая сплетни и делая вид, что выбирает овощи и зелень. Увы, день сегодня выдался скучным: никто никого не зарезал, не удавил и даже, о Аллах, бывают же такие зануды! не задушил голыми руками.
Должно быть, в эту ночь сотворилось какое-то великое колдовство и весь городок спал. Хотя, быть может, все дело было в том, что не появилась среди рыночной суеты самая главная и самая знающая среди всех посетительниц рынка уважаемая Суфия-ханым, чье имя не зря означает «мудрость».
Ибо те дни, когда почтенная Суфия появлялась среди покупателей, были более чем интересны для всего городка: его жители сразу узнавали обо всем, что творится за высокими дувалами и неприступными стенами городской знати. Удивительно, как почтенной кумушке удавалось быть в курсе всех дел! Но к этому давно уже привыкли, а день, когда она не отправлялась за покупками, называли днем скучным и пустым.
Итак, скучающая Мариам уже собралась уходить с рынка. Ее корзина была полна снеди и, о Аллах, как тяжела! Однако следовало подумать не только о вкусной еде, но и о здоровье. И потому почтенная матушка направила свои стопы в сторону лавок, где лекари всего мира — так, во всяком случае, считали они сами — продавали свои мази, притирания, травяные сборы и таинственные бальзамы, помогающие даже от таких удивительных заболеваний, как «печаль коленных суставов» и «мечты коротких волос».
К счастью, Мариам в столь удивительных препаратах не нуждалась. А потому, потратив всего несколько фельсов, купила вавилонские груши и смирненские фиги, ибо известно, что они обладают целебными свойствами, предупреждая разлитие желчи. Не забыла она и имбирь, ибо он и врачует, и взбадривает подобно прекраснейшему из напитков — великому кофе. Кроме того, добрый торговец предложил уважаемой ханым взять также молодые побеги ивы и сливового дерева: никогда не знаешь, когда потребуется успокоить компрессом боль в суставах. А разве есть что-то лучшее для правильных компрессов, чем молодые побеги ивы?
Мариам про себя усомнилась в этом утверждении. Но она была женщиной мудрой и потому никогда не отказывалась от того, что достается даром. Поблагодарив щедрого лекаря, почтенная Мариам направилась домой.
Неподалеку была расположена одна из лавок, что принадлежала некогда ее доброму Абусамаду и в которой теперь хозяйничал Нур-ад-Дин. Искушение показаться на глаза сыну, а вернее, посмотреть, как там ее мальчик, было весьма велико. Но у Мариам хватило твердости не свернуть в хорошо известные ряды. Вот показались уже и ворота… Как бы ни был шумен и велик базар, он уже позади.
— Ну что, добрый мой Алим, тебе еще не наскучили чудеса? — Мераб огляделся по сторонам.
Увы, неспящего мага не было видно, впрочем, как обычно. Однако Алим-невидимка преотлично видел, как плещется смех на дне глаз юноши.
— Чудеса наскучить не могут, — пробормотал маг, теряясь в догадках, чем еще может удивить его, всесильного мага, обычный мальчишка… Ну, почти обычный.
А Мераб, тот самый «обычный мальчишка», тем временем проговорил почти неслышно несколько слов, и застывшая на повороте уважаемая женщина вздрогнула, услышав:
— Почтенный Нур-ад-Дин столь болен, что ему не дожить даже до следующего Рамадана…
Солнце для уважаемой Мариам скрыла чернейшая из туч. Ей показалось даже, что исчез весь воздух, что лишь пыль и зной остались в мире. Ноги налились свинцовой тяжестью, а сердце заболело столь сильно, что из глаз женщины полились слезы.
Ничего не видя вокруг, шла Мариам домой. Руки сами распахнули калитку, сами разложили по кувшинам и ящикам припасы. И только после того, как холодная вода коснулась пылающего лица, достойная женщина пришла в себя.
— Как ты все же глупа, Мариам, — пробормотала она. — Ну сколько раз в своей жизни убеждалась ты в том, что базарные слухи — чистое вранье? Сколько раз ты сдуру верила россказням Хаят или Фатимы, Алмас или Наджмие. И каждый раз, приходя домой, убеждалась в том, что в них не больше правды, чем сладкого меда в разбитом старом кувшине. Что же сотворил Аллах великий с твоими мозгами теперь, глупая курица?
Суровая нотация самой себе подействовала, но все же сомнение осталось.
«Или речь шла о каком-то другом Нур-ад-Дине. Подумай сама, безмозглая, не может быть, что в городе только двое мужчин носят это, в общем, не такое и редкое имя…»
Увы, и это умозаключение не помогло. Мудрый внутренний голос, который временами куда умнее разума и к которому всегда прислушивалась почтенная Мариам, все время шептал: «Немедленно отправляйся к нему! Если он столь плох, как это утверждает молва, то он не будет прятаться от тебя в лавках. Он наверняка лежит дома, а его дочь, твоя тезка, Мариам, суетится у его ложа».
— А это здравая мысль, — пробормотала почтенная женщина, вновь закалывая шаль изящной брошью. — Надо не бежать к нему домой, а просто пройтись по его лавкам. Спорю на динар, что я найду его за несколько минут.
— Любопытно, — проговорил Алим, — что ты сказал ей?
— Всего несколько слов, уважаемый…
— И все? Но почему так всполошилась эта достойная женщина?
— Потому что она влюблена, маг. Должно быть, ты забыл, какой может быть женщина, когда ее сердце поет от любви.
— Быть может, мальчик, я и забыл. Но откуда ты знаешь об этом?
— Сотни и тысячи страниц толкуют о прекрасной и коварной любви на все лады. Я просто запомнил. Мне уже и самому интересно, что будет далее.
Так и осталось неясным, с кем именно собиралась поспорить почтенная Мариам. Но уже через несколько минут она вновь вернулась в шумные ряды базара, уверенно переходя от одной лавки, принадлежащей Нур-ад-Дину, к другой. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что нигде его нет! Более того, всего одного осторожного вопроса хватило, чтоб узнать, что «уважаемый Нур-ад-Дин» сегодня вовсе не появлялся на базаре. Что было еще удивительнее, так это то, что с запиской к приказчику на базаре с утра появилась дочь хозяина Нур-ад-Дина, красавица Мариам.
Дальнейший рассказ одуревшего от жары приказчика Мариам-ханым слушать уже не стала. И без того было понятно, что с Нур-ад-Дином случилось какое-то несчастье.
— Быть может, он вчера простудился, спасая меня из огня. И теперь страдает дома, считая часы, которые остались ему до кончины…
О, обычно Мариам была вполне здравомыслящей женщиной. Быть может, она и посмеялась бы, увидев себя со стороны. Но сейчас тревога за дорогого ее сердцу человека сжигала душу, и потому разум молчал.
Мариам возвращалась куда более спорым шагом, чем шла на базар. Правильнее было бы сказать, что она почти бежала. А по дороге прикидывала, найдутся ли у нее дома все необходимые снадобья для того, чтобы излечить Нур-ад-Дина от любой мыслимой хвори, кроме, конечно, «печали коленного сустава» и «мечтаний коротких волос».
Решив, что дома она найдет почти все, Мариам начала собираться. Одной корзины ей показалось мало, и она вытащила вторую, более объемистую, хотяи более старую. Зато теперь можно было складывать отдельно мази и притирания, отдельно — травы и порошки.
— Мальчик мой, остановись! Ни слова больше!
— Увы, почтенный Алим, я был нем как рыба. Настоящую женщину, как всегда говорит моя матушка, не должно застать врасплох никакое бедствие! Должно быть, уважаемая Мариам из той же породы, и ее тоже не может застать врасплох ни болезнь, ни землетрясение, ни гнев небес.
Забив обе корзины до отказа, женщина решительно повязала шаль, закрыла за собой двери и отправилась к дому Нур-ад-Дина. Конечно, такое путешествие заняло совсем немного времени, ибо дома, как известно, стояли почти рядом. Поэтому всего через минуту, не растеряв решительности, Мариам уже стучала в калитку соседа.
— Тетя Мариам! — радостно воскликнула Мариам-младшая, дочь Нур-ад-Дина, который должен был страдать от никому не известных хворей.
— Да хранит тебя Аллах всесильный и всемилостивый, девочка! Как отец? Он сильно страдает?
— Отец? — озадаченно переспросила Мариам. — Страдает? Но почему он должен страдать?
Но Мариам не обратила на слова девушки никакого внимания. Она отдала корзину, что была полегче, своей тезке, а сама решительно направилась в комнаты.
— Тетя Мариам, — пыталась окликнуть ее девушка, — почему отец должен страдать?
— Малышка, когда люди больны, они страдают. Вот я и спрашиваю, так ли плох твой отец, как говорит об этом молва.
Сейчас Мариам-ханым была не соседкой, а лекарем. И потому некая отрешенность появилась на ее лице. Она прикидывала, с чего начать и куда послать Мариам, если ее усилия не принесут успеха.
— Мой отец болен? — Лица Мариам-младшей не покидало озадаченное выражение, и наконец Мариам-старшая обратила на это внимание.
— Конечно болен, болен жестоко. Добрые люди опасаются, что он не протянет и до следующего Рамадана.
— Кто, о прекраснейшая, не протянет до следующего Рамадана? — раздался сильный и звучный голос Нур-ад-Дина. Оказывается, Мариам-младшая привела свою почтенную тезку в гостевую комнату, где за щедро накрытым столом удобно расположился тот самый, смертельно больной купец Нур-ад-Дин.
— Ты, почтенный Нур-ад-Дин… — несколько неуверенно ответила Мариам-ханым.
Свиток — о нет, только не это! — тринадцатый
— Что ж, мой усердный Мераб, — удовольствие в голосе невидимого Алима звучало более чем отчетливо, — теперь тебе осталось придумать, как уважаемая ханым выберется из этого неловкого положения.
— Полагаю, незримый маг, что мне и придумывать ничего не придется, ибо уважаемая ханым не из тех женщин, которых просто смутить.
Незримый Алим в который уж раз за это утро удивился и тому, как легко Мераб смог привыкнуть к своему необыкновенному умению и к тому, с каким удовольствием юноша оживляет кем-то придуманный мир.
Мариам недоуменно осмотрелась по сторонам. Ничто в этих уютных покоях не напоминало приютстрадальца. Шелковые яркие подушки, накрытый низкий столик, еще один, на котором стояли шербет в высоком ярком кувшине и поднос с фруктами. Запах яств смешивался с ароматом стоящей в углу курильницы. Напротив Нур-ад-Дина сидел мужчина, удивительно на него похожий, но чуть моложе. Этот неизвестный тоже с немалым удивлением слушал почтенную ханым.
— Мне кажется, уважаемая, что это ты несколько нездорова, — мягко заметил Нур-ад-Дин.
— Я здорова! Я пришла излечить тебя от смертельной болезни, которая грозится уложить тебя в могилу меньше чем за год.
— Аллах всесильный, женщина! Да если я от чего-то и страдаю, так это от твоей воистину болезненной глупости! Вчера ты едва не загнала меня в могилу, спалив весь хлеб в доме, а сегодня прибежала врачевать меня от какой-то хвори.
— Я?! Спалила весь хлеб в доме? А кто вчера едва не утопил меня? Скажешь, что это был сам халиф багдадский?
— Я всего лишь пытался спасти тебя из огня.
— А я всего лишь хотела вылечить тебя.
Мариам испуганно переводила взгляд с отца на гостью, не решаясь вмешаться в их перепалку. Голоса Нур-ад-Дина и Мариам-ханым становились все громче и… И в этот миг заговорил второй мужчина, который доселе молчал в изумлении:
— Брат, прекрасная незнакомка! Не соблаговолите ли вы замолчать? — Видя, что его никто не слушает, он тоже закричал: — Замолчите! Оба!
От неожиданности Мариам действительно замолчала. От негодования замолчал и Нур-ад-Дин. Мгновение стояла тишина, а потом они оба гневно обрушились на обидчика:
— Да как ты посмел закричать на меня, глупец!
Два голоса, мужской и женский, слились в один. А тот, кто столь неучтиво прервал перепалку, лишь удовлетворенно рассмеялся.
Рассмеялся, о нет, расхохотался в голос и Мераб. Он наслаждался своими новыми ощущениями: так может почувствовать себя хозяин балагана с марионетками, который вдруг понял, что его куклы вовсе не вырезаны из дерева и украшены цветными лоскутами. О нет, в мгновение ока его куклы стали живыми людьми, а он, кукловод, теперь может более не делать ни одного движения, лишь любоваться тем, сколь причудливы судьбы героев им же самим созданного мира.
— …Вот поэтому я и остался сегодня дома. Ибо, согласись, прекраснейшая из женщин, что любые заботы меркнут по сравнению с приездом любимого младшего брата, которого я не видел более десяти лет!
Мариам кивнула. Увы, она была не просто опечалена, о нет. Душу ее грызла досада. «Я мечтала помочь ему, спасти его… А выставила себя на посмешище, словно девчонка! Какими глазами он будет смотреть на меня, глупую гусыню, поверившую даже не слухам, а лишь обрывку чьей-то фразы!»
Мариам пила шербет, почти не ощущая его вкуса и мысленно сокрушаясь все сильнее и сильнее. Нур-ад-Дин же, сидя напротив нее, воистину отдыхал душой. Он любовался ее прекрасным, столь любимым лицом и радовался тому, что эта женщина, еще недавно погруженная в печаль об ушедшем муже, возрождалась к жизни. И более того, она столь беспокоиласьза него, Нур-ад-Дина, что бросилась на помощь, ведомая лишь чьей-то глупой болтовней.
«Аллах всесильный! Ну почему же я, достойный мужчина, вдовец, человек умный и наблюдательный, до сего дня так и не разглядел, как она хороша?! Почему давно не понял, что она ищет моего общества так же, как я — ее? Почему еще вчера, лакомясь ее сладкими лепешками, не уразумел, что люблю ее, сильную, мудрую, одинокую?»
О, то были мысли, воистину переворачивающие все с ног на голову! Или, быть может, все ставящие с головы на ноги?
Мариам же испытывала совсем иные чувства. Вернее будет сказать, что чувства были такими же: она тайком мечтала о Нур-ад-Дине, но мудро сдерживалась, давая ему возможность сделать первый шаг. Если только он, о Аллах всесильный, сам этого захочет. Ибо почтенной вдове показать, что она грезит о каком-то мужчине… Это невозможно! Более того, это непристойно! Как тогда на эту воистину падшую женщину будут смотреть соседи?!
И вот теперь она, словно влюбленная кошка или малолетняя дурочка, бросилась сюда первой, показав, что одно лишь упоминание имени почтенного соседа способно ввергнуть ее в панику и заставить броситься на выручку…
О, Мариам еще долго могла бы себя мысленно грызть и укорять, но ароматный напиток в пиале закончился. «Пора бы и честь знать», — казалось, сказал ей, глупой гусыне, дом ее уважаемого соседа.
— Ох, юный колдун…
Если бы почтенный Алим был похож на обычного человека, если бы его мудрая голова покоилась на шее, а не на обсидиановом блюде, если бы у него вообще была голова, он бы непременно укоризненно покачал ею.
— Не отвлекай меня, маг, — пробормотал Мераб. Ему сейчас вовсе неинтересно было мнение невидимого советника. Он упражнял незримые мышцы разума. И эти упражнения его и забавляли, и пугали.
— Да, мой друг, — незримый Алим всегда знал, о чем думает юноша. — Сила воображения может стать оружием поистине страшным, и ни пушка, ни секира, ни боевой слон не сравнятся с нею.
— Аллах великий! Маг, помолчи! Иначе следующей моей жертвой станешь ты.
Алим умолк. Мераб же, видя затруднение достойной ханым, напряг все свое воображение, чтобы дать возможность уважаемой Мариам без особого урона для собственного достоинства покинуть дом почтенного купца Нур-ад-Дина.
И Мариам стала собираться. Она поправила шаль, проверяя, не съехал ли в пылу перебранки с волос тонкий газ, осмотрелась по сторонам, увидела, что корзины так и стоят посреди комнаты, и легко поднялась с подушек.
— Да пребудет вовеки над этим домом длань Аллаха всесильного и всемилостивого! Не стану тебе, почтенный Нур-ад-Дин, более мешать. Ибо ты воистину прав: встреча с братом после долгой разлуки столь сладка, что пренебрегать ею для общения с соседями недопустимо.
— Да пребудет и с тобой, добрая Мариам, его забота и щедрость! Мой дом — твой дом. Ты можешь приходить сюда во всякий день.
— Аллах всесильный, почтеннейший, ну почему ты сдержался?! — воскликнул Мераб. — Почему не остановил ее, единственную, которую сейчас хочешь видеть, а вовсе не брата, пусть появление его более чем отрадно для тебя?
Увы, могущество юноши было велико, однако все же не настолько, чтобы герои истории отвечали ему со страниц книги.
Мариам еще раз поклонилась и, взяв обе корзины в одну руку, попыталась гордо уйти. Конечно, это у нее не получилось, ибо она позаботилась о здоровье Нур-ад-Дина столь основательно, что корзины мог бы оторвать от пола лишь раб, который в одиночку носит паланкин богатого и толстого купца.
Мариам-младшая бросилась к ней на помощь со словами:
— Я помогу тебе, тетя Мариам!
— Спасибо, доченька, — едва слышно прошептала почтенная вдова, с трудом переживая очередное, как ей казалось, унижение.
Женщины вышли, закрылась и калитка в дувале. И лишь тогда младший брат Нур-ад-Дина, Шейх-ад-Дин, заметил:
— Ты счастливец, брат мой!
— Почему же?
— Потому что не каждому удается вызвать столь сильное чувство. И потом, она, твоя соседка, почтенная Мариам, диво как хороша!
— О да, брат мой, она воистину прекрасна! Но до сегодняшнего дня я, поверь, даже не подозревал, что она испытывает ко мне какие-то чувства. Ибо был уверен, что она по-прежнему думает лишь о своем муже, который умер почти четыре года назад.
— Так она тоже вдова? Выходит, вы просто созданы друг для друга!
Нур-ад-Дин никогда не задумывался о подобном. Но сейчас, посмотрев на все происходящее глазами своего брата, человека в этом деле постороннего, он понял, что Аллах всемилостивый всю жизнь хранил его, подарив ему прекрасную жену, замечательных друзей, позволил не беспокоиться о семье и доме больше обычного и дал после смерти жены возможность еще раз познать радость любви.
Достойный купец вернулся мыслями к событиям, что произошли вчера и сегодня, попытавшись понять, действительно ли прекрасные чувства толкали их с Мариам в объятия друг друга, или то были просто скука и печаль одиночества.
Порыв ветра отвлек Мераба. Он поднял глаза от страниц и заметил, что вместо ясного солнца над городом нависли черные тучи, предвещающие не просто проливной дождь, а настоящую бурю. Да, пора было прятаться под более надежную крышу, ибо гостеприимная беседка, столь любимая Мерабом, была всего лишь увита виноградом.
Свиток четырнадцатый
Воистину, щедрость халифа была велика, а его распоряжения исполнялись молниеносно. В тот же день, когда гость из далекого полуночного Альбиона припал к ногам повелителя цветущей Джетрейи, начались и сборы в дорогу.
Дабы ничего не забыть (ну, или как можно ближе подойти к такому положению дел), Максимус составил длинный список. Однако сколь бы он ни был опытен в походах, визирю приходилось то и дело поправлять своего приятеля.
Ибо не теплыми одеяниями следовало запасаться в избытке, а сосудами с водой и для воды, не только заготавливать впрок мясо или сыр (хотя следовало помнить и о припасах), но проверить, чтобы с собой было достаточно стрел, чтобы и кремней и трутов было более чем в изобилии.
Максимус с благодарностью принимал все советы друга.
— Ты, как всегда, прав, почтенный, ибо странствие на полуночь столь же отличается от странствия на полудень, как сам полудень отличается от полуночи.
Сборы продолжались. Однако Мерабу отец запретил принимать участие в бесчисленных походах по лавкам и лавчонкам. Сила юноши была в знаниях, и ему следовало позаботиться о картах, просмотреть описания и путевые заметки. О да, тут помощь неспящего Алима была поистине неоценимой: не раскрывая книг, не разматывая свитков, мог тот проникнуть в самую суть текста. И потом уже указывал Мерабу, стоит ли выбирать из записок мудрого (или не очень) и опытного (или безумного) путешественника хоть слово.
Быть может, Мераб мог не делать вообще ничего, ведь Алим был рядом. Но в глубине души (о, Аллах всесильный и всевидящий, даже глубже, чем в самых глубоких ее глубинах) юноша опасался, что незримому магу надоест странствие с людьми и он исчезнет в самый ответственный момент.
Вот поэтому Мераб и корпел в богатой библиотеке, рассматривая старинные рукописные карты и выписывая где слово-другое, а где и, скрепя сердце, целые страницы.
Визирь радовался такому усердию сына. Ибо ему с молодости запала в душу простая истина: «Ничто не слишком».
Дни сливались в недели. И вот уже прошел почти месяц, когда за вечерней трапезой Максимус заявил:
— Что ж, друг моей юности, сегодня я в третий раз проверил запасы и списки. Сдается мне, что можно выступить в поход хоть завтра.
— Да будет так, почтеннейший, да будет так. Однако следует все же спросить совета и у нашего мудрого звездочета: подойдет ли для начала похода вечер завтрашнего дня или следует дождаться более благоприятного времени.
— Вечер, мой друг?
— Ну конечно, ибо утром мы будем слушать мудрого Касыма.
— Это значит, что мы выйдем в поход еще позже…
Становилось ясно, что каждый день проволочки начинает беспокоить иноземца. Озабоченно поднял голову и Мераб — не зря же он целый месяц, как школяр, штудировал старинные и древние, старые и новые книги и свитки.
— Наш гость прав, батюшка. Близится время штормов. Не забудь, что страна Кемет, пусть и недалека от нас, но все же отделена водами Полуденного океана. Да, до Либийского Рога всего два дня пути, даже при неблагоприятном ветре. Но куда нас может забросить шторм, ведомо одному лишь Аллаху всесильному и всемилостивому. Быть может, я попытаюсь сам взглянуть в небеса?
— Сын мой, я прошу тебя об этом. А твоего братишку я все же пошлю к почтенному Касыму, дабы он составил гороскоп на ближайшие несколько дней.
Мераб выскользнул на улицу, не доверяя карте семи небесных сфер, которую некогда сам и с большим тщанием нарисовал. Увы, небо было затянуто тучами уже в который раз за этот мгновенно промелькнувший месяц. Более того, крупные капли дождя упали на лицо юноши.
— Да, следует поторопиться, — пробормотал Мераб.
Каково же было его изумление, когда в гостевых покоях, сейчас предоставленных Максимусу, он увидел мудрого Касыма.
— Должно быть, старику интереснее составлять прогнозы, чем наблюдать потоки дождя.
Касым, говоря по секрету, вовсе не был столь уж дряхлым стариком. Хотя Мерабу в его годы почтенный пятидесятилетний мужчина безусловно казался дряхлым старцем, из последних сил влачащим свои последние же дни.
Итак, Касым что-то бормотал едва слышно, ежеминутно тычась длинным носом, похожим на клюв, то в циферблат часов новомодного механизма, способного указывать время суток не только днем, но и ночью, то в карту небесной сферы. Периодически Касым поднимал глаза вверх, пытаясь найти решение на потолке, затянутом тонкой кремовой камкой.
— О великий визирь, — наконец Касым распрямил спину. — Дождь не позволяет составить полную картину. Однако я все же решусь предложить экспедиции почтеннейшего Максимуса не выходить из порта нашей прекрасной столицы ни завтра, ни послезавтра, ни даже, о Аллах всесильный, утром третьего дня.
Максимус покачал головой: он торопился и готов был выйти даже без добрых предзнаменований. Однако следовало помнить и о том, что вместе с ним в плавание, а потом и через пески отправятся другие люди, в том числе и те, кто намерен прислушиваться к советам небес.
— Ты увидел столь дурные предзнаменования, мудрец?
— Сатурн, мой господин… Мне мешает Сатурн. Он никак не войдет в созвездие Весов… А значит, никак не сможет указать верного и короткого пути. Венера опять же…
Мераб тяжело вздохнул. Звездочет Касым, что и говорить, был замечательным ученым. Однако голосу своих звезд он верил больше, чем всему остальному. И уж если Сатурн не вошел в нужное созвездие, то Касым готов был не мыться и не есть, ибо ни еда, ни вода пользы ему не приносили.
Быть может, если бы Мерабу предстояло в одиночку начинать странствие, он бы прислушался к отчаянному бормотанию почтенного Касыма. Но нынешнее предсказание перепуганного мудреца было равносильно приговору для уважаемого Максимуса, который считал каждую минуту. Да и, говоря откровенно, самому Мерабу уже давно прискучил долгий обряд подготовки; хотелось наконец ступить на палубу корабля или усесться в неуютном седле на спине у унылого и неторопливого нара…
— Прости меня, — с поклоном, как следовало ученику обращаться к учителю, проговорил Мераб, — достойнейший. Разъясни мне, что пугает тебя. О, конечно, кроме Сатурна.
— Мудрый мальчик, — чуть снисходительно начал свою речь Касым. — Сатурн, вне всякого сомнения, пугает меня во сто крат более всех иных аспектов планет. Венера стоит не в лучшем положении, да и Марс, о Аллах, спаси нас грешных и помилуй, заставляет мое сердце биться несколько тревожнее, чем ему следует.
Мераб понял, что Касым просто трусит: он боится составлять гороскоп, чтобы не оказаться крайним в случае неудачи похода.
Юноша длинно и тяжело вздохнул. Он не любил трусов и не понимал их доводов. Однако выставить почтенного и уважаемого звездочета на посмешище он желал еще меньше. И потому, раз-другой согласно кивнув, он опустил глаза в расчеты мудреца.
О да, о Сатурне Касым не произнес ни слова лжи: он действительно был более чем далек от Весов. Как известно, эта планета покровительствует терпеливым и бережливым, организованным и собранным, расчетливым и здравомыслящим, умеющим ценить время и жизнь. Однако Весы, да и любой другой знак, к грядущей цели экспедиции не имели никакого отношения, ибо Максимус собирался отправиться в неизвестное, и менее всего его можно было назвать здравомыслящим или расчетливым.
Мераб опустился на подушки рядом с мудрецом и, не говоря ни слова, начал свои вычисления.
Его не пугали планеты, занявшие ту или иную позицию, ибо не это было самым неприятным… С точки зрения великой астрологии, конечно. Мераб собирался лишь вычислить дни Луны «без курса», ведь ибо именно это больнее всего могло сказаться на дальнейших действиях: начав странствие в такой день, путники рисковали до окончания этого странствия не дожить вовсе. Корабль мог опрокинуть шторм, налетевший неизвестно откуда и исчезнувший затем неведомо куда. На суше их путь мог пересечься с путем кровожадных разбойников. В горах обвал мог завалить камнями наглецов, решивших потревожить нехоженые тропы. Одним словом, весьма плохо было бы для экспедиции двинуться в путь в день Луны «без курса».
Мудрый Касым, стоит отдать ему должное, очень быстро понял, что именно затеял Мераб. Теперь вычисления пошли быстрее. И вот уже картина для любого понимающего стала вполне ясной и, Аллах великий, вовсе не такой пугающей.
— Да, — Касым несколько раз кивнул. — Теперь, о мудрый юноша, я чуть спокойнее могу описать будущее.
Даже визирь, погруженный в размышления, уже готов был вырвать расчеты из рук мудреца. А потому упер взгляд в лицо сына и спросил:
— Звезды закрывают вам путь?
— Нет, — Мераб улыбнулся отцу. — Звезды вовсе не против, чтобы мы отправились в путь. Более того, отец, думаю, им это совершенно все равно, чем бы ни пугал нас мудрый Касым. Однако, думаю, нам следует двинуться в путь в отлив, лучше завтра или через два дня.
— Так завтра или через два дня? — Это подал голос Максимус, который готов был и не завтра, и не при отливе, а прямо сейчас по воде пешком отправиться в странствие.
— И завтра, и через два дня…
— Но почему так, сын?
— Ибо сегодня с полуночи до шестого рассветного часа нас будет ждать Луна «без курса».
Касым кивал, готовый согласиться со всем на свете, ибо не на нем теперь лежала ответственность.
— А это что за дьявольщина такая? — пробормотал Максимус.
— О нет, почтеннейший. Иблис Проклятый к этому никакого касательства не имеет. Это просто небесное явление, замеченное многие сотни лет назад и столь же давно объясненное. Это происходит каждые несколько дней и продолжается от нескольких минут до двух суток.
Лунные периоды «без курса» неблагоприятны для любых начинаний, и их надо по возможности избегать. Начатое дело редко осуществляется так, как было задумано, если вообще доводится до конца. А любые начинания, скорее всего, ни к чему не приведут.
Купленные в этот период товары оказываются испорченными, даже одежда не будет сидеть как следует. Начатый курс лечения будет долгим, а болезнь будет чревата осложнениями, появившиеся идеи окажутся бесплодными. Странствие, в которое вы собираетесь отправиться во время Луны «без курса», продлится долго, но успеха не принесет, а судьбы тех, кто рискнет окунуться в неведомое, и вовсе сотрутся из книги будущего.
— Да, невесело…
— О да, уважаемый, невесело. Однако всего этого избежать более чем просто: надо лишь переждать несколько часов. Вот поэтому лучше будет дождаться окончания этого периода, а произойдет это завтра, сразу после полудня. А отлив поможет нам быстрее выйти в глубокие воды и лечь на курс.
— Пусть так и будет, малыш! — Максимус хлопнул себя по коленям и встал. — Итак, завтра на закате мы отправляемся.
— И да поможет вам Аллах всесильный и всевидящий, — прошептал Касым, обрадованный, что ответственность за принятие решений лежит на чужих плечах, и несколько обиженный тем, что простой и мудрый выход нашел мальчишка, пусть и достаточно разумный, а не он, уважаемый мудрец, в славе которого теперь будут сомневаться все, от мала до велика.
Свиток пятнадцатый
И вот наступил час отлива. Шумно упали вниз паруса, в тот же миг наполнившись ветром, втянулись через клюзы канаты, какими был закреплен у причальной стенки прекрасный «Странник ветров». И Мераб впервые в своей жизни увидел, как уменьшается фигура почтенного визиря, как теряется в дымке берег и как неспешно опускается солнце в бескрайний океан.
Вот юноша перестал различать черты лица отца, вот и сама фигура Анвара слилась с сотней других фигур… Впереди ждала неизвестность, а рука сжимала отцовские четки, те самые, которые уважаемый визирь не выпускал из рук весь день, да и всю ночь.
И лишь когда Мераб припал в прощальном поцелуе к руке отца, заговорил Анвар:
— Возьми мои четки, сын мой. Некогда вот так же их передал мне мой отец, а ему, по преданию, его отец. Они собраны из камня, который некогда был самой душой земли. Думаю, тебе не раз понадобится в будущем мой совет. Увы, странствовать с тобой я уже не могу, но, надеюсь, мои четки помогут тебе найти решение мудрое или просто честное. Для этого возьми в руки четки, мой мальчик, и найди пальцами камень, который заговорит с тобой в этот миг… Ну, вот и все, друг мой. Осталось сказать лишь, что душа моя ноет, не принимая нашего расставания, а разум ликует, ибо начало нового пути всегда прекрасно. Помни о том, что мы с матушкой ждем от тебя вестей. Пусть твое странствие продлится весьма долго, для нас оно не станет таким бесконечно тягостным, если ты найдешь возможность посылать нам известия о себе.
— Благодарю тебя, мой добрый батюшка. И за то, что отпускаешь меня, и за четки, легенда о которых мне известна с младенчества. Обещаю, что буду сообщать об успехах нашего странствия столь часто, сколь это будет возможно, ибо живем мы в просвещенные времена, а письмоносцы могут доставить депешу даже с туманного Альбиона в поистине смехотворные три десятка дней. Не удивлюсь, если вскоре весь мир можно будет обогнуть меньше чем за сотню дней. Быть может, всего за восемь десятков…
Визирь расхохотался:
— Да ты фантазер, мальчик…
И Мераб улыбнулся отцу, ибо расставание со смехом нравилось ему значительно больше, чем потоки слез, готовые затопить весь пирс.
Ветер и отлив делали свое дело, и берег прекрасной Джетрейи исчез столь быстро, сколь это только было возможно. Путешествие во имя глупой славы началось…
Довольный Максимус ушел в каюту, чтобы «отдохнуть от этой бесконечной гонки». Вскоре весьма громкие звуки его отдыха сообщили Мерабу, что для уважаемого друга визиря суета и в самом деле осталась позади.
Юноша же не покидал палубы. Хотя правильнее было бы сказать, что он попросту не мог сделать и шагу, завороженный торжественностью небесного гимна всесильному творцу всего на свете. Звезды рассказывали ему удивительные истории, ибо он слышал их речи, а ветерок и волны толковали эти истории на свой лад. Говоря же простыми словами, юный странник, понимающий, что происходит вокруг него, готов был кричать от восторга.
Мудрый Алим видел, что происходит с его юным освободителем. А потому — воистину, в этом иногда куда больше мудрости — просто молчал, давая юноше время насладиться всем увиденным и слегка привыкнуть к окружающему миру. Скажем по секрету: Алим прекрасно знал, что Мераб все ждет того мига, когда он, неспящий и неведомый маг, покинет его. Но это вовсе не обижало бестелесного мудреца, ибо мы опасаемся потерять только то, что нам по-настоящему дорого, со страхом ждем расставания с тем, без чего не можем обходиться.
Огромная Луна освещала все вокруг. Мераб почувствовал, как затекла его шея, и решил, что пора присоединиться к отчетливо различимому отдыху Максимуса в просторной каюте.
— Мальчик мой, — услышал он голос Алима, — что за четки столь твердо сжимаешь ты в руках?
Мераб чуть разжал руку. Он и не заметил, что сжимал их до мраморной белизны пальцев с самого мига расставания с отцом.
— Ах, неспящий мудрец… Эти четки, говорят, некогда нашел среди развалин неведомого города дед моего деда. Или, Аллах всесильный, дед деда моего деда… Одним словом, нашел их первый из мужчин нашего рода, который обосновался в Джетрейе и стал ее первым визирем. У нас в семье они передаются от отца к сыну, ибо считается, что в тех случаях, когда нужен совет, не найти лучшего решения, чем то, что подскажут старые четки. Смотри!
И Мераб раскрыл ладонь. Полупрозрачные серо-черные камни заиграли в свете звезд. Крохотные капли, казалось, впитывали блеск светил для того, чтобы в следующий миг вернуть его с лихвой.
— Обсидиан, — с непонятной юноше опаской проговорил Алим. — Вновь обсидиан…
— О да, невидимый маг, звездчатый обсидиан.
— А знаешь ли ты, пытливый юноша, что камень этот с седой древности считается камнем магов? Обсидиан пользуется уважением за способность защищать от негативных воздействий; однако и колдуны признают, что каждый кристалл обсидиана — это вход в лабиринт, полный тайн и загадок, в котором все пути ведут к постижению себя посредством раскрытия тайн Вселенной. Поэтически настроенные любители метафизики называют обсидиан «зеркалом скрытых эмоций» и уверяют, что, любуясь игрой света на поверхности этого камня, можно услышать музыку сфер. Знаешь ли ты, что камни, подобные твоим, способствуют обострению внутреннего зрения, помогают навести порядок в мыслях и избавиться от «мусора», который мешает быть счастливым?
— О да, я читал об этом… Знаю, что обсидиан считают камнем, который может уберечь и от дурных поступков, удержать на грани, за которой человечность переходит в свою противоположность.
Алим усмехнулся.
— Урок мне: я все время забываю, сколь много знает мой юный собеседник…
Мераб улыбнулся в ответ.
— Более того, мой невидимый друг, я знаю, что именно на обсидиановой чаше повелел некогда Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими, высечь надпись: «Если не знаешь, как поступить, поступай благородно…»
— Воистину так.
— Вот теперь у меня и появится возможность проверить, правда ли все то, что говорят об этом древнем камне…
А Алим подумал, что теперь будет привязан к своему юному спасителю еще и невидимой магией, рожденной в мгновение, когда древний вулкан исторг из своих недр потоки кипящей лавы, породившей эти самые «камни благородства». «Однако, — тут же признал незримый мудрец, — нет в этом ничего дурного… Был я некогда пленником обсидианового блюда коварного магрибинца. Но воспоминание об этом черном колдуне вскоре сотрется из людской памяти, если уже не стерлось. А я по-прежнему восторгаюсь прекрасной жизнью».
Долго еще размышлял неспящий Алим в эту ночь. Правильнее будет сказать, что размышлял он все время: и когда уснул Мераб, и когда поутру проснулись юноша и Максимус, и даже когда на следующее утро на горизонте показались берега Либийского Рога.
Первая часть пути, самая легкая, осталась позади. Едва миновал полдень, как ноги странников ступили на улицы самого восходного из городов Либии — древней Зейлы — и сделали первый привал на пути к еще неведомой далекой цели.
Свиток шестнадцатый
— Ну что ж, Мераб, — Максимус пытался перекрыть гомон, который стоял в харчевне. — Когда теперь нам следует отправляться в путь?
— На рассвете, — пожал плечами Мераб.
— Но как же эта твоя Луна без мозгов? Теперь она нам не помешает?
— Без мозгов, почтенный?
— Ну да… Которая мешает начинать разные дела. Или пускаться в плавание…
— Теперь она нам не страшна — мы же отправились в путь правильно. А сейчас просто странствие продолжаем. И потому Луна «без курса», или «без мозгов», уважаемый, нам вовсе не страшна…
— Вот и славно, мой друг… А что же нам страшно?
Мераб удивился вопросу Максимуса: с его, юного странника, точки зрения, так лев мог спрашивать у воробья, каким должен быть, его, царя зверей, ужин в эту закатную пору.
— Должно быть, подлость человеческая, ибо она страшна везде и всегда.
— Да, малыш, тут ты прав… Но если нашему странствию больше не грозит твоя глупая Луна, если ты не видишь никаких опасностей, то мы и в самом деле отправимся на рассвете. Но вот куда?
И вновь Мераб удивился вопросу:
— Достойный Максимус, почему ты спрашиваешь об этом меня? И сейчас? Должно быть, ты забыл, что именно в твоей дорожной сумке лежит карта, заботливо вычерченная лучшими картографами нашей великой Джетрейи. И путь наш на карте этой прочерчен более чем отчетливо. До тех границ, куда вообще может заглянуть разум человеческий.
Максимус покачал головой.
— Мой юный друг, ты понял меня превратно. Я просто подумал, что нам было бы не грех найти проводника. Думаю, любой из местных мальчишек за медную монету с удовольствием укажет нам лучший из колодцев на окраине, а за монету серебряную согласится проводить до тех самых пределов, о которых ты уже упомянул.
— Полагаю, уважаемый, что за дюжину монет мы сможем найти здесь не мальчишку, а сильного духом и опытного бывшего солдата удачи, каких немало в этих местах. Быть может, дюжина золотых и слишком высокая цена, однако в этом случае враги нашего похода перекупить проводника у нас не смогут. Да и он сам поостережется продавать наши секреты…
— Это разумно. «Солдаты удачи»… Мудрая мысль. Да и моим людям с таким проводником договориться будет куда легче.
Беседе Мераба с Максимусом помешал Алим (хотя именно он подсказал юноше мысль о бывшем наемнике), который уже несколько раз пытался обратить внимание юноши на драку, что, подобно пожару, разгоралась в дальнем углу харчевни. Веселее всех кулаками махал высокий франк со шрамом через все лицо.
Хотя, быть может, то был и не франк, а ромей или гунн… Однако в том, что он получает от потасовки определенное удовольствие, не возникало ни малейших сомнений.
— Смотри, уважаемый, во-о-н там… Не кажется ли тебе, что именно такого проводника ты ищешь?
Меж тем франк или, быть может, ромей весело уклонялся от ударов, раздавая их сам и стараясь при этом сделать так, чтобы со стороны все выглядело устрашающе, но увечий серьезных не вызвало.
— Ты прав, мальчик, ты прав. Мужик-то дерется не всерьез. Должно быть, он хочет кого-то напугать или кому-то показаться. Давай посмотрим за ним и мы.
Неспящий Алим промолвил:
— Ах, как мудр достойный Максимус! Посмотри, Мераб, рядом с нами, видишь? почтенные толстяки. Не из бедных. Похоже, этот драчун рисуется перед ними. Смотри-смотри, он краем глаза пытается уследить вон за тем толстяком с огромным перстнем.
Теперь и Мерабу было видно, что высокий франк следит за перешептывающимися толстяками.
Тем временем драчун ухмыльнулся и нанес страшной силы удар в челюсть ближайшего к нему соперника. Тот взлетел, словно птица, и упал спиной прямо на стол болтунов.
Те отпрянули от такого нежелательного блюда, а долговязый, отряхнув руки, стал выбираться из драки, все еще бушующей вокруг. Мимо просвистела деревянная скамья…
— Клянусь Митрой, ребята тут живут с удовольствием, — пробормотал Максимус. — Должно быть, и мне следует немного помахать кулаками.
— Думаю, уважаемый, силы пригодятся тебе в более разумном деле. А сейчас, мне помнится, ты подумывал о проводнике. Так, быть может, пора обратиться к этому долговязому драчуну? Пока его не переманили другие наниматели…
Максимус встал и шагнул было вперед, но увидел, что драчуна потянули за рукав именно те болтливые толстяки.
— Эти тучные господа нас опередили…
— Погоди немного, уважаемый, — прошептал Мераб. — Думается мне, что мы с тобой невольно стали свидетелями зачинающегося заговора.
— Тогда нам лучше уносить ноги. Не хотел бы я оставаться здесь, когда появятся местные стражи порядка.
— Увы, уважаемый, это портовый кабак. И тут может случиться всякое и в любой момент…
— Но откуда это известно тебе, сын визиря?!
Изумление на лице Максимуса читалось все явственней. Он был потрясен и мудростью слов юного Мераба, и его спокойствием.
— Книги, мой полуночный друг, книги… Подлинные друзья каждого, кто хочет познать мир.
Максимус промолчал, ибо у него был свой, отличный от Мераба, взгляд на книги и книжную премудрость. Меж тем уродливый франк подсел к тучным толстякам.
— Ну, чего надо?
— Мы стократно просим у тебя, уважаемый, прощения, но хотели бы побеседовать с тобой. Преломить хлеб, так сказать, как добрые приятели. Нечасто встретишь в нашей спокойной стране такого удивительного человека, как ты.
«О да, — услышал Мераб голос Алима. — Такого действительно дано встретить не каждому. Однако, мальчик, этот драчун вовсе не тот, за кого себя выдает».
Мераб пытался понять, о чем говорит незримый маг, и одновременно слушать, что происходит в двух шагах.
— Да ладно, — услышал он. — Хлеб преломить — дело хорошее. А вот болтать я не мастак. Так что простите меня, добрые люди, пойду я, а вы уж беседуйте.
— Но… — Это проговорил самый толстый и самый разряженный. — Тогда, быть может, ты просто побудешь с теми, кто преклоняется перед твоим талантом.
— Да какой там талант… Так, веселая драчка. Ну да ладно уж, присяду ненадолго.
— Вот, друзья мои, — толстяк сиял, будто только что получил награду от самого повелителя всех правоверных. — Это мой друг по имени…
«Смотри, мальчик, вот так глупость выдает себя даже посторонним наблюдателям. Этот толстый дурачок, а он первый советник дивана, забыл спросить имя у драчуна. Совсем безмозглые пошли заговорщики. О времена…»
«Не бурчи, Алим. Они же просто старые глупцы. А ты у нас светоч мудрости».
Алим промолчал, и Мерабу стал слышен ответ гиганта.
— Жаком-бродягой меня зовут люди, — проговорил он и поклонился. — Ваш приятель сказал, что вы хотите мне рассказать, как здорово я дерусь. Так вот этого не надо, дерусь я так себе, как все в нашей деревухе.
— Но ты же раскидал этих наглецов, как игрушечных!
— А что, на них смотреть надо было? Ручки целовать? Подумаешь, несчастный парень украл ломоть хлеба… И теперь его за это в ваш зиндан бросать, да?
— Но это же противозаконно!
Драчун опустил глаза и посмотрел на свои кулаки.
— Противозаконно, говоришь, дядя?
— Прости нас, уважаемый Жак-бродяга. Мой приятель просто хотел сказать, что он не одобряет решения споров в кулачном бою.
Драчун снова ухмыльнулся, постаравшись добавить чуточку доброты.
— Да куда ему… Он же хлипкий, ему и минуты против настоящего бойца не выстоять. Вот он и не одобряет. Ничего, дядя, если тебя обидит кто, ты мне свистни… Слово Жака, приду и всех в капусту изрублю.
— Благодарю тебя, уважаемый, — поклонился толстяк в черном кафтане и почти без колец.
— Да всегда с нашим удовольствием… Спасибо за добрые слова, уважаемые. Пойду я. А ты, дядя, не забудь, что Жак-бродяга всегда готов защитить тебя.
И высокий франк со шрамом через все лицо поднялся. Всего нескольких шагов ему хватило, чтобы оказаться у выхода из трактира.
— Ну что ж, мудрый юноша, пойду-ка я потолкую с нашим новым проводником. Старики не смогли его уговорить, может быть, у меня получится?
И Максимус исчез столь же быстро, как и высокий франк за миг до этого.
— Да и нам пора собираться, — пробормотал Мераб.
— Думаю, торопиться все же не надо, ибо наш друг будет нас искать именно здесь.
Должно быть, посетители портового кабака видели все в своей жизни, раз не обратили ни малейшего внимания на бормочущего под нос юношу-иноземца. Быть может, он показался им обычным безвредным сумасшедшим.
Алим оказался прав: не прошло и четверти часа, как Максимус вернулся. Лицо его сияло, а глаза смеялись.
— Ох, достойнейший Мераб, ну и в историю мы с тобой попали…
— В историю?
— Конечно. Ибо этот уродливый драчун оказался вовсе не франком и, уж конечно, не наемником, хотя некогда был воином и не из последних. Не Жаком-бродягой, а достойнейшим визирем здешнего царства. А толстяки, сидящие за соседним столом, все как на подбор — царедворцы, мудрецы дивана. И собаки-заговорщики, прости мне, юноша, такие слова. Уважаемый визирь Шимас (именно так зовут этого высокого драчуна) выследил их здесь и пытается втереться в доверие.
— М-да, — проговорил Алим вслух. — Он, полагаю, откажется сопровождать нас в глубины континента.
— О да, — согласно кивнул Максимус и только тут сообразил, что отвечает не Мерабу, молчащему уже несколько минут, а кому-то другому.
Максимус тряхнул головой, пытаясь прийти в себя.
— Так вот, мальчик, уважаемый Шимас пообещал, что завтра на рассвете нас найдет его посланник — уважаемый человек, тоже некогда воин и его, визиря, соратник, который станет нам отличным проводником.
— Готов спорить, уважаемый Максимус, что сам визирь будет выводить заговорщиков на чистую воду. Более того, я уверен, что методы он изберет для этого… более подходящие наемнику Жаку, чем визирю и царедворцу.
Это вновь проговорил Алим и вновь вслух.
Максимус уставился в пространство посреди стола.
— Должно быть, не следовало здесь есть всякую дрянь, — пробормотал он. — И трезв как стекло, а слышу голоса, будто пьян уж который день подряд.
Мераб рассмеялся, рассмеялся и Алим.
— Нет, уважаемый, — сквозь смех покачал головой юноша, — ты трезв, и тебе ничего не мерещится. Просто пришла пора познакомить тебя с еще одним нашим спутником. Он невидим, и он маг. А еще он никогда не спит и все знает.
— Почти все, мой спаситель, почти все… — В голосе Алима звучало вполне различимое удовольствие.
— Спаситель?.. Маг?.. Невидимка?.. — растерянно повторял Максимус.
— Ох, уважаемый, какое у тебя сейчас удивленное выражение лица! Должно быть, такое было и у меня, когда я впервые беседовал с Алимом.
Максимус поднял глаза на Мераба.
— Друг мой, но ведь ты же просто пошутил? — Голос достойного воина звучал почти жалобно.
— Нет, уважаемый… Я действительно существую, и мой юный друг Мераб вовсе не шутил. Некогда, более чем давно, черный магрибский колдун лишил меня видимого тела, подарив взамен (пусть и сам не желая этого) множество знаний и почти бесконечную жизнь. Вот… Это мои пальцы касаются твоей руки.
Максимус отдернул руку — было видно, что он ощутил прикосновение сухих прохладных пальцев.
— А вот твой кошель…
Тугой кожаный кошель лег в ладонь перепуганного воина.
— Я просто невидим. Ну и, конечно, для того, чтобы насытиться, мне нужна не еда, а лишь солнечный свет. Хотя лунный получше будет.
Почтенному воину явно было не по себе. Быть может, он все еще не верил в происходящее, но голос, что звучал ниоткуда, угрозы не таил.
— Да будь что будет, — наконец проговорил Максимус. — Мудрец, ну и отлично. А то, что невидимый… Быть может, когда-то и от невидимки бывает толк.
— Воистину так, добрейший Максимус, воистину так.
Свиток семнадцатый
Драчун-визирь сдержал слово, и на следующее утро странников нашел не менее высокий, но куда более похожий на проводника Рамиз-ага, посланный Шимасом в помощь Максимусу и его людям.
И вот уже десятый день верблюды шли вперед под его водительством. Конечно, Рамиз не знал, где на самом деле находится страна Мероэ, однако ему было ведомо, где еще недавно находили склепы повелителей этой легендарной страны.
Разума Максимуса хватило на то, чтобы не открывать посланнику Шимаса истинной цели своего путешествия. Ибо кто знает, как повел бы себя достойный воин, узнав, что удивительная экспедиция ищет вовсе не следы исчезнувших народов, а вполне прозаическую славу для своего властелина.
Однако сейчас, поднимаясь вдоль русла Уаби-Шебелле в предгорья Джимы, где, по слухам, еще живы люди, видевшие то ли последнего из жителей Мероэ, то ли последнего, кто нашел погребение последнего жителя неведомой страны, Рамиз вел долгие беседы с Максимусом и Мерабом. Сетовал воин лишь на то, что повеление визиря надолго оторвало его от семьи… Ну и на то еще, что странники решили путешествовать на верблюдах.
— Аллах всесильный, — ворчал Рамиз, когда караван в очередной раз остановился для привала. — Если бы не ваши унылые и пыльные корабли пустыни… Воистину, мы бы уже поднимались в горы.
— Не ворчи, уважаемый. Конечно, любая лошадь скачет быстрее верблюда. Однако мы рассчитывали на безлюдные места, где не то что коней, а и воды не найти днем с огнем.
— И это в наш-то просвещенный век! Неужели у вас книг нет, неужто карты вы все еще рисуете, сообразуясь с указаниями неумного повелителя, поворачивая реки так, чтобы они текли в сторону его столицы?
— Увы, Рамиз, сколь бы ни был просвещен наш век, следует предусмотреть все, даже если карты рисуют более чем правильно, а повеления властелина нашего касаются лишь починки небес.
— Починки небес, уважаемый?!
И ошарашенный Рамиз вынужден был выслушать более чем поучительную историю о халифе на час и о его восхитительно безумном «втором лице».
Мераб участия в этих беседах почти не принимал: он наслаждался картинами богатой природы, радуясь, что никакой пустыни нет и в помине, и лихорадочно записывал все, что замечал по пути. В тиши вечерних привалов он безмолвно беседовал с незримым Алимом, который, хоть и был родом из Магриба, однако по ущелью прекрасной Уаби-Шебелле не путешествовал никогда ни в облике человеческом, ни в облике магическом.
Неспящий маг благосклонно относился к тому, что юноша записывает мысли, вызванные всем увиденным, и к тому, что тот читает при любой удобной возможности.
Мераб же потихоньку начинал роптать:
— Мне кажется, уважаемый, я весь состою из одних книжных слов. Они роятся у меня в голове, они выскакивают первыми, едва кто-то обратится ко мне с вопросом. Эти слова вызывают картины, сравнимые даже с живыми картинами прекрасной природы. Мне кажется, что я все время сопоставляю кем-то когда-то записанное с тем, что вижу.
— Друг мой, — отвечал мудрец. — Все, что подарил тебе щедрый Аллах, когда-нибудь сослужит добрую службу. Считай, что ты сейчас превратился… ну, к примеру, в лавку ростовщика. Знания отданы тебе в рост, а потом ты пустишь их в дело.
И Мераб умолкал — конечно, ничего хорошего нет в том, что тебя сравнивают с лавкой ростовщика. Но мысль о том, что когда-нибудь его знания пригодятся, что он пустит их в дело, грела душу юноши.
Наконец тропа вдоль реки стала подниматься вверх. Послеполуденное солнце скрылось за темными тучами, однако ожидаемая прохлада не наступила, напротив, стало еще жарче. Воздух над рекой помутнел и стал дрожать, как над пламенем, а сама Уаби-Шебелле стала серой, почти бесцветной. Верблюды все так же меланхолично двигались по тракту, но всадники просто изнывали от необыкновенной, почти невыносимой влажной жары.
Знаком Рамиз заставил всех спешиться.
— Этот чудовищный зной предвещает бурю, — сказал он без предисловий.
«Он прав, друг мой, — впервые за многие дни в голосе Алима было слышно волнение. — И буря эта будет страшной, ибо здесь, по преданию, бывают грозы, когда на землю струятся не потоки воды, а ливни огня… Хотя и в сильном ливне тоже нет ничего хорошего: река может выйти из своих берегов и может натворить множество бед, не говоря уже о путниках, которые идут по тропам вдоль ущелья».
— Но что же мы можем сделать? — недоуменно спросил Максимус. — Ведь ты же сам говорил, что до обитаемых мест еще целый день пути.
— Я прошу вас, странники, заставьте ваших огромных животных двигаться чуть быстрее. В часе пути мы можем найти пристанище: говорят, в этих местах правил некогда царь-повелитель змей… Так ли это, мне неведомо, однако руины его дворца могут сослужить нам хорошую службу. Пусть там не все крыши целы, но будет гораздо легче переждать непогоду, чем на берегу реки. Боюсь, что ливень подарит нашей красавице Уаби-Шебелле много силы. Воде, как и огню, нет никакого дела до регалий и почестей — она убивает без разбора и царедворца, и нищего.
Путешественники, не говоря ни слова, спешились и повели своих флегматичных «кораблей пустыни», как ленивых и упрямых ослов. Вот удалось уйти от реки на сотню шагов, вот на две, вот уже на пять… Как и обещал Рамиз, вскоре утоптанную тропинку под ногами сменила дорога, выложенная каменными плитами. Первые капли дождя подтвердили опасения опытного воина: горячие струи пали на землю мгновенно. Но, должно быть, не сейчас решил Аллах всесильный отделаться от любопытных странников — впереди уже виднелись серые каменные стены.
Неведомо, на самом ли деле повелевал змеями последний владыка этих мест, однако, кроме коварных убийц, были у него лошади и… повара. Ибо полуразрушенные конюшни сменились поварней, посредине которой без труда можно было рассмотреть яму для очага.
Крыша над давней поварней, на счастье Максимуса, оказалась цела, стены толсты, а в яме для очага даже нашлось немало сухого хвороста. Должно быть, древнее прибежище поваров до сих пор дарило приют отважным путникам.
— О Аллах милосердный и всемилостивый! Да будет счастлив каждый день того, кто позаботился об усталых путниках, — проговорил Мераб. Всего несколько минут — и запылал веселый огонь, и юноша с удовольствием протянул руки к живительному теплу.
— Как странно, — задумчиво сказал он, — зной не отпускает нас, как мы только ступили на гостеприимный берег Либии. Однако тепло от костра равно приятно и в жару, и в холод.
— Ничего странного нет, — раздался голос Алима, привычный Мерабу, но все еще пугающий Максимуса.
Шум ветра за толстыми стенами становился все сильнее, и потому слова, которые были слышны, но которых никто не произносил, других путников не удивили.
— Говоришь, ничего странного, мудрец? — переспросил Мераб. Юноше отчего-то было все равно, наблюдает за ним кто-то или нет — странная апатия охватывала его.
— О да, ибо огонь — живой и, как всякое живое существо, приятен другим живым существам.
— Ага, — ухмыльнулся Максимус. — Припоминаю я давнюю встречу с этим «приятным всему живому» существом. Тогда наше корыто просто накрыло волной «греческого огня». Лишь чудом удалось нам спастись, да и то только потому, что стены крюйт-камеры были обшиты изнутри свинцовыми листами, а мудрый капитан приказал всем немедленно нырять. И за борт упали и те, кто умел плавать, и те, кто не умел.
— Полагаю, они сразу же научились плавать.
— О да, мудрый проводник, мгновенно.
Разговоры стихли. Шум воды за стенами становился все явственнее. Однако молчание, Мераб чувствовал это, было вызвано не усталостью. Он знал, что следует бороться с любым наваждением, пусть даже это наваждение вызвано легендами, впитавшимися в старые стены.
— Не мог бы ты, уважаемый, поведать нам историю здешнего владыки? Кто здесь правил, и почему теперь каменные стены слышат лишь голоса путников и не слышат громкого гласа церемониймейстера или последнего поваренка? — обратился он к проводнику.
— Это долгая история, почтенный странник.
— Однако и буря за стенами не торопится успокаиваться.
— Да будет так, — согласился Рамиз и заговорил, взяв в руки пиалу, полную горячего душистого чая. — Знайте же, путники, что некогда на этом месте стоял дворец царя царей — отчаянного и сурового Вархапутны. Откуда он пришел в наши края, не знал никто. Было с ним две дюжины сотен воинов, и им удалось поработить все побережье вплоть до самой Джимы, во всякое время года покрытой густыми снегами. По преданию, Вархапутна был всего лишь сборщиком податей, а его воцарение — платой от великого змея Нага-повелителя за то, что некогда юный Вархапутна спас от огня наследников великого мага-змея.
Страшная слава мага пугала всех, кто попадался Вархапутне на его кровавом пути, и именно поэтому будущий царь взошел на престол не по крови, а по страху. Предание говорит, что правил он не то чтобы мудро, но и не глупо — разум сборщика податей иногда подавал царственному, простите меня, путники, заду неплохие советы. Никто из смертных не знал, какой уговор заключил он с Нагом-повелителем, однако на всякий случай народ слушался правителя и не пытался бунтовать. Ибо все знают, что Либия славится не только пряностями, загадками, удивительными животными, но и самыми ядовитыми змеями. Однако известно также, что уговор был кабальным, ибо сам царь боялся змей больше, чем все его подданные вместе взятые. Он отдал половину казны только за то, чтобы его дворец выстроили из самого толстого камня и даже самые узкие щели, которые были не шире волоса человеческого, густо замазали глиной, а глину замешивали на яичных белках.
Когда дворец был выстроен, царь учредил особый кабинет, в который входили не мудрецы или прорицатели, не визири и советники, а метельщики, каменщики и верхолазы. И кабинет этот занимался только тем, что рубил поросль вокруг дворца, выметал мельчайший сор и в любое время суток нес караул в погребах и подполах дворца.
— Разумно, — кивнул Максимус. — Ребята, похоже, своей жизнью отвечали за то, чтобы ни одна змея, даже тень змеи не появилась в покоях царя.
— Ты прав, полуночный воин, именно так. Не доверял царь и никому из людей: за все три десятка лет, что правил Вархапутна, он не спал две ночи подряд в одной и той же опочивальне. И никто не знал, в какой из многочисленных комнат дворца он будет ночевать сегодня. Никто, даже жена и сын, не был посвящен в его планы.
Проводник отхлебнул остывший чай и продолжил:
— Через год после восшествия на престол решил Вархапутна, что власть его укрепилась и теперь можно завоевывать соседей. Однако тут и случилась заминка… То ли народы соседнего княжества не так сильно боялись гнева Нага-повелителя, то ли за год глупый царь слишком уверился в своих силах… Этого не знает никто. Но начавшийся по весне победоносный поход закончился глубокой осенью полным разгромом войска царя. Остатки армии вернулись в каменную столицу, не знавшую ни цветка, ни лепестка. Таяли запасы золота, таяла и слава Вархапутны. И тогда решил царь, что пора призвать Нага, дабы он выполнил свою часть уговора и даровал ему царствование до самого последнего дня его, глупца, жизни.
— Что значит «призвать»? Он же боялся его как огня.
— О да… Совсем забыл. Говорят, что глупец боялся змей более чем огня. Ибо вокруг всей столицы были вырыты широкие рвы, в которых в любое время дня и ночи, постоянно, горели дрова. А за полосой огня была «каменная полоса» — широкий ров, облицованный камнем, где должны были, по замыслу строителей, погибнуть все подданные Нага-повелителя, которым удалось бы преодолеть огненную полосу.
— Страте-ег… Мудрец…
— О нет, достойный Максимус, просто трус. Более того, трус безумный. Вернее, обезумевший, ибо в своем страхе он даже во сне беседовал с Нагом. И тот во сне велел Вархапутне выстроить Храм Змея.
— Зачем?
— Этого не знал никто. Говорят, что все стены храма были украшены барельефами и стелами, статуями и статуэтками, изображавшими змей всего подлунного мира. Сотни, тысячи каменных змей… И только каменных. Даже из дерева нельзя было вырезать фигурку.
— Какое-то воистину сумасшедшее безумие.
— О да, юноша, более чем сумасшедшее. Тридцать долгих лет сооружали и украшали Храм. Три десятка лет на эту страсть работала вся страна. Истощались запасы камня; истощались щедрые земли, которые возделывались теперь лишь единицами… Но страх, поглотивший разум царя, не утихал. Наоборот, он все более захватывал его разум. И вот, ровно через три десятка лет, день в день, Храм был готов.
В тот же день глупец Вархапутна, затолкав за пазуху свой страх, призвал Нага-повелителя, дабы тот насладился красотой Храма, выстроенного в его честь. И Наг явился…
— О Аллах всесильный и всевидящий…
— Да, юноша, это было страшно. Говорят, поднявшийся на хвост повелитель змей заслонил собой и само солнце. Легенда гласит, что сотни и тысячи каменных изваяний, ров с горящими поленьями и ловушками столь оскорбили мага, что он своим телом раздавил и хвостом смел все здания столицы… Рассказывают, что струсивший царь превратился в отвратительное существо — в получеловека-полузмею, которое еще добрую сотню лет пугало оставшихся в живых жителей страны.
— Поучительная история, — проговорил Максимус, когда проводник умолк, припав к пиале. — Тщеславие и трусость — более чем страшное сочетание, просто-напросто убийственное.
— Но дворец, похоже, остался стоять. И его вовсе не разрушил своим чудовищным весом повелитель всех магов…
— Да, внимательный юноша. Однако дворец теперь напоминает и о глупости Вархапутны, и о гневе Нага, и о том, что нельзя спрятаться от самого себя.
Свиток восемнадцатый
За разговором странники не услышали шуршания, что с каждой минутой слышалось в заброшенных конюшнях все громче. Вскоре оно стало почти оглушающим. И тогда на этот непрекращающийся шелест и хруст обратил внимание Максимус-воин. Он отвернулся от костра и замер, едва слышно пробормотав проклятие. Тогда Рамиз проследил за его взглядом и тоже оцепенел, боясь сделать малейшее движение.
Замерли и остальные путники, изумленные не столько неподвижностью своих соратников, сколько громким фырканьем и всхрапыванием верблюдов.
Тысячи змей скользили по каменному полу старой поварни. Останавливаясь в нескольких шагах от пылающего костра, они сворачивались в клубки, свивались и вновь распрямлялись, являя собой зрелище отвратительное и притягательное одновременно.
— Аллах милосердный, — почти простонал Мераб. — Что же нам делать теперь?
Максимус, обернувшись, начал искать в седельной сумке свой топорик.
— Остановитесь, уважаемые, — прошептал Рамиз. Он один сохранял спокойствие. Быть может, потому что надеялся на помощь своей земли, а может, потому что как раз не надеялся. — Остановитесь, не шевелитесь. Смотрите: твари замерли вне какого-то странного, только им видимого круга, они словно не решаются двинуться дальше.
— Они просто не любят жара, — пробормотал Максимус.
— О нет, друг мой… Здесь что-то иное. Жаль, что великий Наг-повелитель не дал нам никакого знака, не указал, зачем послал сюда своих многочисленных подданных.
— Знака?.. Послал сюда?..
— Если его подданные пришли сами, значит, они нарушили волю Нага, пытаясь вновь заселить проклятые великим магом места. Если же он послал их сюда, то добивается не нашей смерти, а лишь того, чтобы мы ушли из-под стен древнего города, пусть и под гнев водной стихии.
— Да какая, во имя всех богов, разница, сами пришли или колдун послал?! — Это не выдержал самый младший из спутников Максимуса, мальчишка, которого все называли Сыном Ветра.
Мальчишке ответил другой мальчишка, юноша Мераб. Он был всего годом или двумя старше, однако знания делали его старше во сто крат.
— Если подданные нарушили волю правителя, значит, надо пасть к ногам правителя, дабы наказал он подданных.
— Пасть к ногам, глупец? Чтобы тут же умереть от сотен укусов?
— Аллах всесильный, нет ничего страшнее глупости в этом мире… Да и за его пределами.
Долгие минуты ничего не происходило, лишь подданные Нага-повелителя все плотнее смыкали кольцо вокруг странников. И тогда Мераб решился… На то, чтобы сосредоточиться, времени не было, и он просто послал зов, как это было описано в ученом труде заморского мудреца и путешественника. Юноше показалось, что многоголосое эхо зазвучало в его голове. Некое невидимое усилие, словно бесконечно длинная рука, тянулось за Полуденный океан, в горы, где, как говорилось, нашел свое убежище наставник магов змей-маг.
«О Наг-повелитель, великий маг! — взывал юноша к далекому магу. — Охрани нас от твоих неразумных подданных! Или дай нам какой-нибудь знак!»
Не прошло и мига, как в его ушах возник ровный холодный голос. Мерабу, лишь читавшему о невероятной силе, дарованной Нагу, показалось, что слова его ледяными каплями оседают на стенах каменного дворца и слышны всем, нашедшим приют в заброшенной поварне в десятках фарсахов от любого жилья. Они отдавались не только в его, Мераба, разуме, но и во всех частях его тела. Слова эти тяжким, воистину неподъемным камнем легли ему на грудь, мешали дышать.
«Я знаю о тебе, молодой мудрец, сын визиря и будущий повелитель… Твои штудии забавляли меня, а твой незримый приятель, освобожденный твоим, мальчик, пылким воображением, даже более чем забавлял — он удивлял и радовал… О чем ты хочешь говорить со мной?»
«О великий, не для ученой беседы послал я тебе зов. Прости, что твой покой потревожен, однако буря загнала нас в заброшенный город, который некогда выстроил твой… о нет, глупый сборщик податей Вархапутна. А сейчас вокруг нас собрались твои многочисленные дети. Мы не знаем, чего ожидать… И потому я решился послать тебе зов, дабы укротил ты свирепые аппетиты твоих подданных».
«Не извиняйся, будущий правитель. И не страшись моих детей — их загнала буря, как и вас. Однако мне известна боязнь, с которой потомки обезьяньего племени относятся к потомкам племени Нагов. Да будет так. Вскоре мои дети вас покинут. И более досаждать не будут».
«Благодарю тебя, маг всех магов!»
«Не благодари меня, мальчик, благодари себя, ибо именно твой разум спас вас всех от моих не всегда спокойных и нелюбопытных детей. Однако за твою смелость я тебя награжу: отныне дети моего народа будут тебя охранять, ибо твой путь в этой жизни еще не раз пройдет по местам более чем коварным… Смотри, они уже уходят!»
Наг еще говорил, а его «дети» уже стали исчезать. Не было ни шуршания, ни шороха, ни звука… Лишь тишина, нарушаемая вздохами верблюдов, когда подданные Нага-повелителя проползали особенно близко.
«Вот видишь… Открою я тебе еще одну тайну: вскоре твои друзья найдут цель своих странствий. Нет, не все, а лишь те, кто достоин обретения цели. Но и после этого предстоит им сделать выбор. Тебе же выбор делать не придется, однако ты должен знать: то, что для других конец пути, для тебя лишь недолгий привал. Запомни это, смелый малыш».
«Повинуюсь, о маг магов…»
«Да, и еще… Пожалуй, я позволю тебе и дальше задавать мне странные и смешные вопросы, ибо редко кто обладает твоими умениями. Такие люди драгоценны, и мне доставит удовольствие вести тебя по тропе вечной мудрости. А теперь прощай…»
С последними словами исчез и огромный камень, который давил на сам разум юноши. Перестали слезиться глаза, стало легче дышать.
— Аллах милосердный, куда это они?
— Наг-повелитель попросил своих детей удалиться. Он не хотел нас пугать.
— Откуда ты знаешь, мальчишка? — Над обессиленным Мерабом навис Максимус.
— Я попросил, чтобы он удалил своих детей. Вот он и удалил…
— Великий Митра! Вот так… просто… попросил?!
— Не так уж это было и просто, воин… — Голос Алима прозвучал довольно громко, но снова никто не обратил внимания, что говорящего нет. — Юному твоему спутнику изрядно досталось: не так легко проложить мысли путь сквозь волны мирового эфира. И мальчик сделал это впервые. Так что угомонись. Видишь же: твари исчезли, дождь утихает. Скоро можно будет тронуться в путь. А сейчас помолчите, почтеннейшие. Выпейте чаю и попробуйте представить, от какой беды спас вас достойный сын визиря.
Наступила тишина. Был слышен только шелест утихающего дождя за каменными стенами заброшенной поварни да тяжелое дыхание путешественников, не пришедших еще в себя после такой встряски.
Зной, что не давал перед бурей спокойно дышать, сменился живительной прохладой. Однако земляная тропа совсем раскисла.
— Похоже, что нам придется остаться в этом страшном месте на несколько дней.
— О нет, достойный Максимус. — Рамиза — это было видно — колотила крупная дрожь, однако ему удалось взять себя в руки. — Завтра после полудня тропа станет куда суше. Однако вашим лохматым зверям дальше, увы, дороги нет. Придется идти пешком. До нагорья всего день пути, и если у вас хватит сил, то завтрашний вечер мы встретим у мазара… Да и деревня, которую ты ищешь, всего в двух лигах от места древнего упокоения.
Рамиз оказался прав. Солнце высушило тропу удивительно быстро. Столь быстро, что не пополудни, а на два часа раньше странники тронулись в путь. Ноги еще немного скользили, однако тропа была достаточно широка и поднималась незаметно. Закат застал Максимуса и его спутников уже на нагорье.
— Смотрите, достойнейшие. Вон там, — Рамиз указал на восход, — в полудне пути — мазар. А если оставить его по левую руку, то к закату мы выйдем к деревне, вернее, к целой цепочке деревень. Где-то там и лежит предмет ваших поисков.
— Там страна Мероэ?
Рамиз усмехнулся и покачал головой:
— Там то, что осталось от древней заповедной страны… Воспоминания, могилы, легенды.
«Нет, мальчик, мудрый проводник неправ. Ибо там не только могилы и предания. У мазара вас ждет… Не знаю, как это и сказать. Там ждет какая-то преграда, даже моему разуму непонятная. Эта преграда словно… Да, словно пробный камень. Тем, кто не верит, как не верит и в мое существование (тут Алим хмыкнул), предстанут руины и древние могилы. Тем, кто верит, откроется древняя страна. Ибо я вижу не земляную тропу, а торную дорогу, которая исчезает в тумане. А через этот туман я смогу пройти только с тобой, и то если ты эту преграду сможешь преодолеть…»
«Так, быть может, мне не следует идти вместе с Максимусом и его людьми, а следует отправить зов, подобный тому, на какой ответил Наг-повелитель? Быть может, мне сразу откроется верная дорога?»
«Не думаю, Мераб. Иначе ты бы уже давно ее увидел. Люди, о нет, стражи, которые стоят у этой преграды, конечно, не обыкновенные люди, и потому они давно уже разглядели тебя и пропустили бы. Вероятно, не следует торопиться».
«Да будет так, мудрый Алим. Дождемся вечера».
Путь по нагорью, конечно, был вовсе не так легок, как этого ожидали путники. Следует сказать, однако, что он был бы куда тяжелее, не подгоняй странников любопытство.
Солнце стояло еще довольно высоко, когда по левую руку показался мазар. Вернее, лишь то, что осталось от древнего надгробного памятника целому народу.
— Похоже, мудрый юноша, твоего мага, да и тебя, знания подвели. Нет больше никакой легендарной страны Мероэ… Ушли в далекое прошлое славные ее дни. А нам придется возвращаться.
— Ну что ж, уважаемый Максимус, значит, мы вернемся… И отправимся через Серединное море в Узкий океан и там будем пытаться найти страну, достойную того, чтобы твой глупый и надменный правитель смог назвать своей собственностью.
Максимус промолчал, лишь заходили желваки у него по лицу. Увы, юный Мераб в который уж раз назвал вещи своими именами. И чем дольше странствовал достойный воин, тем яснее он понимал, что послала его в далекий путь глупость правителя и его, Максимуса, неумное понимание своего долга.
Мераб пошел вперед. Непонятная сила гнала его; он уже почти бежал. И чем ближе подходил к развалинам, тем более странными эти развалины становились. Из колышущегося воздуха поднимались высокие стены, увенчанные широкими зубцами. Вот в стене впереди показались ворота… Вот стал виден ров перед воротами… Вот пал через ров подвесной мост…
— Аллах великий, но где же мазар?
— Да зачем он тебе, мальчик?! — Алим, конечно, не отставал от Мераба ни на шаг. — Ты же ищешь не мазар, а неведомую страну. Похоже, она не так уж и легендарна, раз открывается тебе столь легко.
— И да поможет мне в этом Аллах!
Сзади слышался голос Максимуса, чувствовалось, как тяжелые шаги воина сотрясают землю. Но он, Мераб, мысленно был уже там, у крепостной стены.
…И вновь земляная утоптанная тропа превратилась в дорогу, вымощенную каменными плитами, которая привела юношу на деревянный мост с двумя серыми от времени цепями. Мост вновь перешел в каменную дорожку, и вот перед Мерабом поднялись деревянные ворота, высокие, почти достигающие вершин деревьев, что росли вдоль стены, и тоже покрытые седым мхом.
Однако стоило сделать Мерабу еще несколько шагов, как оказалось, что вовсе не седой мох покрывает огромные воротины — примятые временем пластины из блестящего металла укрывают его от неумных глаз и неумолимого огня.
Вот до ворот осталось два десятка шагов, вот полтора, вот уже десяток… Сердце юноши колотилось столь громко, что он опасался, как бы этот звук не распугал птиц, сидящих на зубцах каменной стены.
И тут раздался голос:
— Войди в нашу страну, Мераб, сын визиря. Войди и стань одним из нас…
Ворота открылись без скрипа и скрежета, легко, словно поднимались в стороны два легоньких перышка. Юноша оглянулся: перед мостом замер в нерешительности один лишь Максимус.
Остальные путешественники, едва видимые отсюда, оглядывались по сторонам с видом удивленным и испуганным. По их лицам явственно читалось непонимание, куда же делись их спутники.
— Должно быть, вход сюда дозволен лишь избранным, — промолвил Алим.
И услышал ответ:
— Ты правильно понял, незримый мудрец. Избранным и достойным.
Свиток девятнадцатый
Представшее взгляду Мераба пространство за воротами было гигантским; оно воистину не раскрылось, а распахнулось. Дороги, дома, горы на горизонте — менее всего ожидал увидеть юноша за воротами такой мир. Думал он, что заветная страна Мероэ, если она в самом деле существует, будет небольшим городком, быть может, укрытым в котловине или спрятавшимся в складках гор.
— О Аллах всесильный и всевидящий, — прошептал юноша. Ноги его предательски дрожали, дрожал и голос. — Воистину, твои дары бесценны…
— Так вот почему я видел лишь туман… — проговорил Алим. — Сами жители страны Мероэ закрываются от любопытных. Закрываются силой мысли от дурных мыслей, силой невидимости от взглядов непонимающих.
— Именно так, невидимый маг…
Голос, раздавшийся ниоткуда, заставил вздрогнуть Мераба. Вздрогнул бы и Алим, однако, лишенный тела, лишен он был и этой, иногда даже приятной возможности.
— А теперь, новые гости страны Мероэ, прошу вас проследовать в обитель разума — белое здание вон там, вдалеке, по левую руку от вас. Там вы найдете ответы на свои вопросы. И сможете распорядиться своей судьбой.
Мераб обернулся назад. У самых ворот стоял, озираясь вокруг, Максимус. Он был один и, похоже, не видел, куда направил свои стопы Мераб.
— О своем друге не беспокойся, юный мудрец. Он также стал гостем страны Мероэ. Ему будет даровано право выбора. Есть все основания полагать, что выбор будет сделан им мудро.
Оглянувшись, Мераб увидел вдалеке здание, достойное называться «обителью мудрости».
— Должно быть, найти свой приют в подобной обители дано далеко не каждому, — проговорил юноша, ступая на дорожку, вымощенную желтым камнем и ведущую прямиком к примечательному зданию.
— Позволю себе заметить, Мераб, что в любой обители, мудрости ли, красоты ли, дано найти приют вовсе не каждому. Однако, думаю, тебя-то там ждут…
Судьба Максимуса не давала юноше покоя. Сейчас он, и это воистину удивительно, думал не о том, что будет с ним, не о том, как сообщить отцу об успехе странствия… Думал он исключительно о том, что за выбор предложат достойному воину.
Быть может, Алим мог подслушать его мысли. Но, быть может, прочел по лицу своего «освободителя» как в открытой книге.
— Не стоит, друг мой… Не стоит так сильно беспокоиться о друге твоего отца. Ему ничто не грозит.
— Увы, Алим, боюсь, что грозит. Но не удар ножом от полночного вора, а удар словом в самое сердце.
Дорога из желтого камня оказалась неожиданно короткой. Возможно, расстояние в заповедной стране Мероэ измерялось как-то иначе, а возможно, гостеприимные хозяева дарили желанным гостям неисчерпаемые силы… Однако весьма скоро Мераб уже входил в прохладную тень «обители знаний». Высокие колонны в два ряда скрывали своими стройными телами внутренний дворик. В глубине его увидел юноша еще одни двери, распахнутые настежь, за ними — еще одни…
— Так выглядит коридор, который можно выстроить из зеркал…
— Мудрый юноша… — Голос, оказывается, был вовсе не бестелесным: прямо рядом с Мерабом из воздуха вышел (не появился, а именно вышел, как люди выходят из дверей) почтенный человек. Седые его волосы были зачесаны назад, лицо, лишенное усов и бороды, было изрезано морщинами.
— Почтеннейший… — Юноша низко поклонился этому человеку.
— Здравствуй, Мераб, сын визиря. И тебя, бестелесный маг, я рад видеть в нашей прекрасной стране. — Незнакомец поклонился в ответ, с трудом выпрямился и пробормотал: — Нет, сие обличье не подходит. Оно, конечно, вызывает доверие, но годы начинают приносить ощутимые неудобства…
Человек еще говорил, но облик его уже менялся: теперь перед Мерабом стоял воин, чем-то неуловимо похожий на Максимуса. Морщины стали менее глубокими, руки выдавали многолетнее знакомство с тяжелым мечом, а шрам, появившийся вдоль шеи, — знакомство с чьим-то оружием, причем, знакомство не из приятных.
Перемена облика, было видно, не составила никакого труда для говорившего. Мераб почувствовал некоторое отвращение.
— Не стоит, юный наш гость, быть столь впечатлительным. Ты успеешь еще многое увидеть и многому научиться.
— И такому превращению? — совсем по-детски спросил Мераб.
— Быть может, не только ему. Всем, кто с удовольствием принимает наше гостеприимство, распахнуты сундуки знаний и ларцы умений… Все, что знаем и умеем мы, может изучить и любой из наших гостей, достаточно для этого одного его желания.
— Так просто?
— Нет, юноша, это вовсе не так просто. Однако чистая правда: достаточно лишь пожелать…
— Но значит ли это, достойный хозяин, так и не назвавший своего имени, — проговорил Алим, — что я могу научиться быть видимым? Обрести не только голову, но и тело?
Хозяин, и в самом деле никак не назвавшийся, в ответ лишь улыбнулся:
— Для тебя, невидимый маг, все еще проще. Тебе достаточно лишь пожелать…
— Пожелать? — переспросил Алим. — И что? В воздухе появится говорящая голова, не приставленная ни к какому телу, парящая, словно крошечная птичка из далекой страны?
— Нет, сначала тебе придется отрастить тело… Пожелать отрастить тело… А уж потом, когда ты почувствуешь, как двигаются твои невидимые руки, как дышит грудь, когда услышишь, как стучит сердце, тебе нужно будет научиться выходить в мир примерно так же, как вышел только что я. Ибо невидимость, согласись, преотличная штука.
Незримый Алим отчетливо хмыкнул.
— Да, неизвестный хозяин, ты прав. Невидимость весьма и весьма удобна…
— Так, быть может, ты сначала прикинешь, взвесишь, стоит ли тебе появляться в видимом обличье? Или лучше оставить все как есть: невидимым духом носиться над сушей и водами, не зная никаких препятствий?
Алим молчал, слова хозяина заставляли задуматься. Молчал и Мераб, ибо вопросов было не просто много, а… Собственно, в голове теснились одни только вопросы. Ответов же не было.
— Ну что ж, гости нашей страны… Вижу, что вы еще не готовы к беседе, не готовы к принятию решений. А потому вам предоставляется возможность отдохнуть. Утром мы вернемся к этому разговору.
— Прости, уважаемый, что перебиваю тебя. — Наконец Мераб понял, какой вопрос следует задать первым и с какой первой просьбой обратиться к гостеприимному незнакомцу. — Меня беспокоит судьба достойного Максимуса, ведь это я притащил его сюда.
— И вновь, юноша, ты проявил себя мудро и достойно, взяв на свои плечи заботу о других. Скажу честно: ты можешь не беспокоиться, ибо Максимус обижен не будет. Нам ведомо, что он отправился в странствие не для того, чтобы насытить собственную кровавую жажду, не для того, чтобы, вволю намахавшись мечом, назвать какую-нибудь деревушку своим вассальным владением.
Мераб молча кивнул.
— Более того, сам уважаемый Максимус, друг твоего отца, давно уже понял, что лишь неверно понимаемая верность клятвам погнала его в этот поход. Поэтому достойному твоему спутнику мы предложим остаться в нашей стране навсегда. Сможет он и покинуть нашу страну, однако память о ней будет стерта, и вновь он будет вынужден странствовать, дабы насытить жажду своего неумного повелителя.
— Но что же он выберет?
— Увы, это мне пока неведомо. Подождем, время на нашей стороне.
Мераб понял, что следует изложить свою просьбу, пока есть решимость сделать это.
— И еще, уважаемый… — Юноша помедлил. Нужно было тщательно подобрать слова для просьбы, но при этом не выглядеть сопливым мальчишкой, каким, о Аллах всесильный, конечно, не может быть настоящий путешественник.
Безымянный хозяин все так же улыбался. Однако по его лицу юноша не мог понять ровным счетом ничего. «Это словно маска, которая призвана надежно спрятать истинные намерения здешних обитателей». Увы, страх перед неизвестным всегда был самым первым и сильным чувством человека.
— Прошу вашего дозволения, почтенный, сообщать родителям о себе. Ибо у нас в семье заведено: сколь бы долгим ни было странствие, при каждой удобной возможности подавать весточку.
— Более чем уважаемая традиция, мой мальчик. Но почему ты спрашиваешь разрешения? Разве кто-то в силах запретить любить родителей и уважать традиции?
— Но страна ваша открыта лишь достойным… Вряд ли почтовое сообщение с внешним миром поощряется вашим правителем.
Многоликий хозяин расхохотался.
— Воистину, свежесть чувств, присущая нашим гостям, есть величайшая награда для любого из нас, жителей страны Мероэ!
Видя недоумение юноши, хозяин пояснил:
— Мальчик мой, тебе будет предоставлена возможность каждый день, да хоть каждый час, отправлять весточку родителям. Все эти весточки будут твоим родителям доставлены со скоростью, какую тебе даже трудно представить. Быть может, они опередят и письмо, которое ты отправил, едва высадившись на Либийский Рог… Но не в этом дело. Пойми же, юный наш гость, что ты и сам не решишься написать, что вошел в ворота страны Мероэ и был признан нами равным любому из нас, ибо ваш мир твердо знает, что страна Мероэ исчезла в песках пустыни тысячи лет назад.
— И что? Теперь они будут знать, что это всего лишь легенда…
— Нет, уважаемый, твоя матушка всерьез забеспокоится о твоем душевном здоровье. Более того, подобное письмо может утвердить ее в самых страшных подозрениях: ее мальчик надорвал здоровье в тяжком походе и теперь, терзаемый неизлечимой душевной хворобой, приткнулся к какому-то грязному порогу, принимая его за светлый облик страны, ушедшей в пески прошлого…
Мераб был вынужден признать правоту слов хозяина: матушке могло прийти в голову что угодно, несмотря на все ее здравомыслие.
— …А потому, — тем временем продолжал хозяин, — ты, полагаю, напишешь, что цель странствий по-прежнему далека, гостеприимный правитель городка, где вы остановились для пополнения запасов, позволил тебе воспользоваться почтовой станцией, дабы не беспокоились матушка и отец о здоровье их Мераба.
— В твоих словах есть истина, — опустил голову юноша.
— Скорее, в моих словах лишь простой здравый смысл. Теперь же отдохните, путники. Ибо с сего мига вы не гости, а хозяева-новички прекрасной нашей страны. Утро подарит тебе, юный Мераб, возможность увидеть и познать весь мир. Тебе же, незримый Алим, сначала придется решить, нужно ли тебе тяжелое и неповоротливое тело. Хотя, полагаю, независимо от решения, ты все так же будешь сопутствовать пытливому юноше — своему освободителю.
— Воистину так, ибо он не только выпустил меня из плена пыльных страниц, но и провел за собой в самое сердце тайны.
Свиток двадцатый
Дом, который Мераб теперь считал своим, стоял всего в нескольких минутах ходьбы от места, которое ранее юноша назвал бы библиотекой. Но место это, во многом подобное «приюту мудрости», давало возможность не только читать книги и рассматривать карты. Здесь можно было также послушать лекцию, что напомнило юноше университет, куда он так и не отправился; можно было в тишине размышлять и беседовать с мудрецами, спрашивать у них совета. Можно было писать письма и сразу же получать на них ответы. Пока Мераб еще не привык к такому, однако уже начинал понимать, что все здесь устроено и просто, и мудро.
Дни текли за днями. Юноша учился, гулял, беседовал с Алимом и поражался скорости, с какой получал письма из дому. Более того, Мераб стал уже втягиваться в то необыкновенное состояние, в котором находился, попав в легендарную страну.
Его не тревожили размышления о том, что следует как-то зарабатывать на хлеб насущный, что надо как можно быстрее покинуть это странное место, сбежать и вернуться в мир, в котором он существовал еще, скажем, год назад и какой знал за день до появления Максимуса-воина.
Каким-то неведомым образом гостеприимные хозяева дали юноше понять, что для него сейчас самое главное занятие — это науки. Должно быть, думалось Мерабу, что здешние жители все как на подбор мудрецы. Или, быть может, ушли в постижении наук столь далеко вперед, что знания его, сына визиря, кажутся им знаниями младенца.
Как бы то ни было, Мераб учился. Он поглощал знания, как губка. Но чем больше юноша узнавал, чем отчетливее понимал, сколь мало он знает.
Как-то вечером, рассматривая небосвод, усеянный звездами, Мераб пожаловался на это ощущение Алиму, который, конечно, был рядом. Незримый маг по-прежнему оставался незримым, до сих пор не приняв решения, возвращаться ли ему в мир обычных людей.
— Воистину, мой мальчик, — ответил неспящий Алим, — твое знание подобно шару: чем больше становится сей шар, тем больше становится область его соприкосновения с неведомым…
— О, Алим, это бесспорно. Однако иногда я себя чувствую не школяром, а гусыней, которую откармливают орехами, дабы мясо ее было повкуснее.
— Ты просто устал, юноша. Отложи на день книги, прогуляйся по улицам, посмотри на девушек…
Однако Мераб в ответ лишь отрицательно качал головой. Нет, девушек он не боялся, не робел, беседуя с ними. Однако они ему казались столь скучными, а отложенная с вечера книга манила столь явственно, что Мераб с удовольствием менял беседу с незнакомой красавицей на высокий зал, полный непрочитанных фолиантов. И однажды именно из старой книги явилось ему чудо, еще раз изменившее его судьбу.
То была книга, повествующая о черной земле Кемет. Вычурные золотые буквы складывались в лаконичную надпись «Судьбы богов». Именно эта лаконичность и привлекла внимание Мераба.
— Должно быть, труд сей столь велик потому, что судьбы богов зачастую похожи на судьбы людей. И чем больше этих богов, тем более переплетены их судьбы, тем длиннее история, которая рассказывает об этом.
— Должно быть, так, — пробормотал Алим. Он хотел еще что-то сказать, но внимание Мераба целиком поглотили строчки, написанные темно-красной киноварью.
История богов действительно во многом походила на историю людей. В описании быта увидел юноша рассказ не о небожителях, а о нравах далеких эпох, о жизни и смерти тех, кто этих богов придумал.
Коварная книга открывала любопытному Мерабу страницу за страницей; юноша погружался в чтение, как в трясину. Алим прочитал название главы и понял, что телесно его освободитель здесь, а разум поглощен историей о юной богине Та-Исет и ее любви, нежданной и убийственной.
Имхотеп присел на ложе у ног Та-Исет, пока она распускала волосы, освобождая их от тяжелой затейливой прически.
— Ты куда красивей своей госпожи, богиня…
— Но любишь-то ты ее, о смертный…
— Я никогда не испытывал любви, однако я блаженствую, лежа рядом с красивой и страстной женщиной. Прежде никто не жаловался на меня, богиня. Если бы ты просто наслаждалась теми ощущениями, которые я возбуждаю в твоем теле, то поняла бы, что я прав.
— Ты коварен, смертный. Я не позволю тебе так зло шутить надо мной, — тихо сказала Та-Исет.
— Я не собираюсь шутить, богиня, — прошептал он, и его теплое дыхание коснулось ее уха. Его слова и прикосновения вызвали у нее легкую дрожь. — Позволь мне любить тебя, Та-Исет! Не сопротивляйся!
Его рука начала медленно и нежно ласкать ее груди.
— Ах, богиня, моя прекрасная богиня! — прошептал смертный, но такой красивый юноша, прижавшись губами к ее мягким ароматным волосам.
— О да, — пробормотал Мераб, — и боги земли Кемет, и боги сияющего Олимпа столь чувственны, столь любвеобильны… Должно быть, такими были и те, кто пытался слушать повеления этих богов.
— Люди во все времена ищут любви, ищут душу, которая может соединиться с их душой. Для человека обычного соединение душ невозможно без соединения тел.
— Воистину это так, — кивнул юноша, вновь погружаясь в чтение. Глаза его заскользили по строкам, душа затрепетала вместе с душами тех, о ком повествовала книга. Однако в этот раз перед его глазами не вставали картины.
Та-Исет почувствовала, что его руки и губы легко скользят по ее телу. Она слышала в его голосе едва сдерживаемую страсть, а ее душа, казалось, ушлаглубоко внутрь тела, откуда и наблюдала за ним. Наблюдала, не находя в себе сил сопротивляться. Расстегнув филигранной работы застежку ее длинной столы, он раздел девушку очень осторожно, очень нежно.
Несколько бесконечно долгих минут он просто сидел и пристально смотрел на ее чудесные перси, которые вздымались в такт дыханию. Потом бережно уложил ее на спину между подушек и начал покрывать тело нежными поцелуями. Его губы прикасались к ней легко и быстро.
— Я всего лишь смертный, богиня, — тихо произнес он. — Смертный, которому отмерена короткая жизнь. Да, мне удалось ненадолго перехитрить бога богов, сияющего Ра… У меня никогда не было времени, чтобы как следует любить красивую женщину. Но здесь, в твоих благоухающих покоях, я задержусь и буду обожать тебя, пока не наступит час нашего расставания.
Его губы снова принялись ласкать ее тело. На этот раз они двигались медленно и чувственно, своей лаской раздувая внутри нее пламя желания.
Она не сопротивлялась — этот красивый, как сон, юноша сейчас принадлежал ей. Пусть ненадолго, но он принадлежит только ей. Его губы, руки, его страстные речи — все это соединялось в желании покорить ее.
Кто знает победителя там, на ристалище? Кто кого покоряет сейчас? Та-Исет вспомнила, как горели его глаза, когда он помогал ей сойти с колесницы. Был то первый миг их любви или просто юный смертный, ставший бессмертным, выбрал, с кем ему провести небольшую часть своей бесконечной жизни?
— Забавно… Имхотеп был богом, покровителем врачевателей… Почему же здесь он называет себя смертным?
И неведомый голос, пустой и безжизненный, ответил Мерабу:
— Таково было его наказание. Приди сюда и узнай…
Юноша встрепенулся.
— Ты слышал, Алим? Слышал?
— Что я должен был услышать, юноша?
— Мне отвечал кто-то неведомый, невидимый.
— Тебе показалось, мой друг. Или, быть может, вновь ожила в твоем воображении древняя история.
— О нет, здесь что-то не так…
Глаза юноши вновь опустились к строкам.
Та-Исет посмотрела на Имхотепа и сказала просто:
— Люби меня!
Изумленный, он взглянул на нее и, когда она повторила эти два слова, застонал, словно умирающий от голода человек, которого пригласили на роскошный пир. Имхотеп мог бы поклясться, что его руки дрожали, когда он помогал Та-Исет освобождаться от тяжелого одеяния. Он пристально и страстно смотрел на нее, а его руки уже пробегали по ее шелковистой коже вверх, чтобы охватить большие груди, потом скользили вниз, по бедрам… Его пальцы вначале нерешительно, а потом все более уверенно с нежностью проникали в ее заветную сокровищницу. Она еще не была по-настоящему подготовлена, когда его черноволосая голова быстро опустилась к ее бедрам и он языком коснулся крошечного потаенного чувственного бутона ее женственности.
Та-Исет судорожно вздохнула, но его пальцы мягко раздвинули створки ее сокрытой раковины, и его языкпринялся искусно ласкать ее, исторгая из души девушки поток пламени. Она поняла, что ей уже все равно. Так или иначе, на какое-то время она стала желанной для этого человека, поэтому, ни о чем не беспокоясь, Та-Исет позволила себе погрузиться в вихрь приятных ощущений, которые Имхотеп возбуждал в ее теле.
Он был невероятно выносливым любовником и очень удивлял своей способностью к такой чувствительности и нежности. Его алчущие губы внесли смятение в ее чувства, когда он необыкновенно бережно сосал этот крошечный лакомый кусочек ее нежной плоти. Из глубин души поднялась жаркая волна, и она вскрикнула, все еще испытывая какой-то неопределенный страх перед чувствами, которые этому человеку удалось пробудить в ней.
Имхотеп понял это, поправил спутанную прядь волос у нее на лбу и нежно поцеловал.
— Ты так прекрасна в своей страсти, — тихо сказал он.
— Люби меня! — вновь повторила Та-Исет дрожащим голосом и, повернувшись, прильнула к нему всем телом.
Он мгновенно, словно защищая, заключил ее в объятия своих сильных рук и тихо произнес:
— Здесь, в уединении твоей опочивальни, моя душа смягчается. Я знаю, что волную твои чувства, богиня, но знаешь ли, как волнуешь мои чувства ты? Со мной такого еще никогда не бывало прежде. Не думаю, что когда-нибудь смогу насытиться тобой…
И вновь услышал Мераб голос, лишенный всяких чувств:
— Страстолюбец… Приди же сюда, Мераб, и узнай…
Мераб воскликнул:
— Кто ты, почему зовешь меня из глубины книжных страниц?
Но ответом было молчание, даже Алим не произнес ни звука.
Мераб опустил глаза к книге. Ему уже не так интересно было то, о чем рассказывали ее страницы: он хотел, чтобы тот неведомый голос вновь напомнил о себе. Однако повествование увлекало, ибо трудно молодому мужчине не увлечься описанием любовной страсти…
Его голос стал хриплым от волнения, и она почувствовала, как его жезл любви, твердый и полный страстного желания, упирается в сочленение ее бедер. Однако он не делал ни единого движения, чтобы силой овладеть ею. Неожиданно Та-Исет поняла, что если смертные любовники владычицы уничтожили ее, то это, несомненно, случилось потому, что она любила их и доверяла им. «Я никогда не полюблю этого смертного и не доверюсь ему, — подумала она. — Но если смогу доставить ему удовольствие, а я — тут нет никаких сомнений — могу доставить необыкновенное удовольствие, тогда, возможно, мне удастся хоть ненадолго одержать верх над моей повелительницей».
Она посмотрела в его лицо с суровыми чертами, освободила руки, привлекла к себе его голову и нежно поцеловала его. Ее мягкие губы почти застенчиво прильнули к его губам.
— Ты прав, смертный, — тихо произнесла она. — Вожделение воистину поглощает. Ты не удивишься, если я скажу, что хочу тебя?
Он взглянул на нее сверху вниз: его темные как ночь глаза искали на ее лице хотя бы слабые следы улыбки. Не найдя, он сказал:
— Нет, меня это не удивит, богиня.
— Люби же меня! — в третий раз прошептала Та-Исет, и ее пышное тело начало возбуждающе двигаться рядом с ним.
Имхотеп не нуждался в дальнейшем поощрении, потому что готов был вот-вот взорваться от желания. Почувствовав, что ее длинные ноги раздвинулись, он вошел глубоко внутрь ее теплого, восхитительно податливого тела. Стон наслаждения сорвался с его плотно сомкнутых губ. Прелестные сильные ноги обхватили его, и в голове промчалась мысль, что это и вправду сама повелительница богинь сошла сюда, в тишину опочивальни, чтобы подарить ему сладчайшее блаженство.
Ее руки двигались по его спине, поглаживая ее, потом принялись ласкать его крепкие бедра. Как приятны были эти прикосновения! Она сама отдалась ему!
Та-Исет быстро осознала воздействие своей дерзости на Имхотепа.
Он возбудился, и возбуждение передалось ей. Вместе они разжигали пламя желания. Их тела страстно извивались. Оба, казалось, были неистощимы.
Он наслаждался, сливаясь с этой роскошной и прекрасной женщиной-богиней, которая тяжело дышала под ним. Ее движения поощряли его идти вперед. Никогда еще он не чувствовал себя таким сильным, таким мужественным и… бессмертным.
Та-Исет вдруг вскрикнула:
— О боги, я умираю!
Убедившись, что она уже достигла вершины страсти, Имхотеп, издав низкое торжествующее рычание, принес свою кипящую жертву богине любви. Онбыл потрясен до самой глубины своего существа. Ему показалось, что царица его грез лежит в глубоком обмороке. Ее прекрасное тело было покрыто испариной, слабо-серебристое сияние которой подчеркивало золотистый цвет кожи. Он подумал бы, что она мертва, если бы не голубая жилка, которая билась в крошечной соблазнительной ямочке в основании ее шеи.
Она воспарила вверх и плавала там, свободная и счастливая, обозревая под собой горное жилище богов… Потом вдруг она нырнула вниз, в вихрь, в залитую светом пропасть, которая разрушала и ее тело, и душу… Что-то случилось, но было непонятно, что именно. С тихим стоном она пыталась избавиться от этого гибельного ощущения. Медленно, почти болезненно, прокладывала она себе путь обратно к жизни, и первое, что осознала, когда чувства вернулись к ней, было ощущение чьих-то поцелуев на губах.
Та-Исет открыла глаза. Имхотеп улыбнулся ей, и его губы вновь завладели ее губами. Они были требовательными, и она покорно соглашалась, целуя его в ответ с таким же пылом. Она приоткрыла рот, впуская его ищущий язык, который, коснувшись ее чувствительного нёба, вызвал радость наслаждения. Имхотеп начал посасывать ее язык, словно пытался вытянуть из ее раскрытых губ самую ее душу. Она уклонялась, пытаясь повторять его действия. Ей стало приятно, когда он задрожал, прижавшись к ней, и отпрянул, прошептав на ухо:
— Богиня, ты погубишь меня…
Впервые за многие месяцы Та-Исет почувствовала внутри себя бьющее ключом искреннее веселье. Ее смех тепло и озорно зазвучал в его ушах, и он тоже улыбнулся.
Некоторое время они тихо лежали рядом. Увидев, что возлюбленный заснул, богиня тоже погрузилась в негу.
— Хотел бы я когда-нибудь возлечь с богиней… — пробормотал Мераб, понемногу приходя в себя.
— Недурно, мой мальчик.
Мераб улыбнулся словам Алима.
— Я самонадеян?
— Нет, друг мой, всего лишь молод. Когда-нибудь ты поймешь, что страсти, которые кипели среди богов, лишь отражение, причем неясное, страстей, что кипят среди обычных смертных. Однако прошу тебя, поберегись высказывать вслух подобные желания.
— Отчего, невидимый друг?
— Оттого, мальчик, что мысль вещественна. Все, что ты когда-то произнес, может воплотиться в жизнь. И я не уверен, что ты обрадуешься подобному воплощению.
Мераб промолчал, подумав, что Алим никогда и ничего не советует просто так.
Свиток двадцать первый
В книге же страсти кипели нешуточные.
Словно опрокинутая ветром, ширма упала на каменные плиты пола. А там… О нет, великий Ра, только не это, только не сейчас! Там стояла она, сильная и грозная богиня Бастет. Ее раскосые кошачьи глаза метали молнии, а прекрасные руки, казалось, готовы были разорвать в клочки и Имхотепа, раскинувшегося в блаженной неге, и Та-Исет, вскочившую при появлении своей госпожи.
— Так вот как ты, ничтожная, исполняешь мое повеление!
— Госпожа моя…
— Где я тебе велела оставаться? Почему ты посмела покинуть опочивальню царицы? Разве не должна была ты, невидимая, неосязаемая, все свои силы отдать тому, чтобы юный фараон родился сильным и здоровым? Разве не твоей заботой было здоровье его матери, царицы Ситатон?
Увы, грозная Бастет была права: Та-Исет должна была сейчас находиться совсем в другом месте. Но она, собственно, побывала там, в опочивальне царицы. Она дождалась рождения наследника престола, которому дали имя Ахмес, убедилась в том, что сама молодая мать чувствует себя не хуже, чем любая земная женщина, только что родившая здорового и сильного мальчишку.
И только после этого Та-Исет позволила дать волю собственным чувствам. Она уже не раз замечала, как внимает прекрасный Имхотеп словам ее госпожи, богини Бастет. Не раз с болью в душе следила, как закрываются за юношей двери опочивальни, не раз уже слышала стоны наслаждения из-за створок этих дверей.
И вот сегодня, когда прекрасный юноша вновь обратил свое внимание на нее, ученицу прекрасной богини, юную Та-Исет, сегодня, когда она наконец вкусила прелестей любви с сильным молодым мужчиной, сегодня… Сегодня все и закончится.
Самым страшным даром юной Та-Исет был дар предвидения. Увы, не всегда она могла понять, что значат картины, возникающие перед ее глазами, но всегда могла увидеть, что будет завтра. И потому в этот миг девушка как никогда ясно увидела, что сейчас все закончится. Черная, как ночь, пелена встала перед ее взором. И Та-Исет поняла, что будущее для нее закрыто. Его просто у нее нет…
О, как хотелось Бастет сейчас убить, уничтожить, испепелить эту тоненькую девушку! Но, увы, это было не в ее власти. Ибо все ее прислужницы и ученицы были такими же, как и сама богиня, небожителями — вечными, бессмертными сущностями, каким дано лишь забвение, подобное смерти, но не сама смерть.
Убить, уничтожить, стереть с лица земли, предать забвению… Да все что угодно, лишь бы навсегда избавиться от этой маленькой предательницы! О, богиня была в гневе! Не просто в гневе — она пылала жаждой мести. И вовсе не потому, что Та-Исет не осталась в опочивальне царицы, не потому, что девушка не стала опекать едва родившегося наследника престола, как это следует делать и самой Бастет, и всем ее ученицам и прислужницам. Ибо богиня Бастет, даже не пытаясь скрывать это, тяготилась просьбами ничтожных земных женщин.
О да, ей приносили щедрые жертвы, необыкновенные дары, пытаясь задобрить саму судьбу. Некоторым из них богиня и в самом деле помогала, частенько потом сожалея о своей помощи. Ибо дети, что рождались в муках, потом предавали своих матерей, обманывали их надежды, становясь разбойниками на службе у правителя страны или ворами на службе у собственной жажды наживы. О сколько раз слышала Бастет жалобы таких матерей, их причитания! И каждый раз она проклинала себя за то, что помогла родиться существу никчемному, жестокому или трусливому. Ни разу еще не встретила она человека, который вызвал бы у нее хоть слабую тень уважения к своим достоинствам. И потому богиня с удовольствием перекладывала свои обязанности на прислужниц и учениц.
Любимейшей из них была Та-Исет — скромная, послушная, безотказная ученица. Ей Бастет доверяла почти как самой себе. И потому боль от удара, который та ей нанесла, была такой жгучей. Ибо девушка смогла соблазнить, увести Имхотепа — новую любовь самой богини. Юноша был земным человеком, но смог перехитрить бога богов, всесильного Ра, и сотворил напиток, дарующий вечную жизнь и вечную молодость. И теперь он находился посередине между людьми и богами. А прекрасная и умная Бастет не могла не плениться его свежестью и красотой.
К тому же юноша оказался отличным любовником. Богиня втайне надеялась, что с ее помощью он станет настоящим мастером чувственной игры, и тогда… О, какие горизонты тогда открылись бы перед ним! Но теперь об этом можно было уже не думать. Ибо Имхотеп прельстился юной Та-Исет, предав чувства богини. И потому никогда ему не стать вровень с богами! Никогда Бастет не назовет его своим супругом, что дало бы ему невероятную власть над людскими чувствами и желаниями. И пусть Имхотеп останется юным, прекрасным и бессмертным! Но он будет чужим в жилище богов. О, уж об этом мстительная богиня позаботится!
Все эти мысли промелькнули в голове Бастет с быстротой молнии. Презрительная, хищная улыбка раздвинула губы богини, превращая богиню-кошку в богиню-львицу Сахмет. И от этого оскала Та-Исет стало страшно, ибо сейчас в холодном блеске глаз богини юная Та-Исет прочла собственную судьбу и содрогнулась. То был приговор! Не думала в этот миг Та-Исет ни об Имхотепе, по-прежнему ничего не замечающем в полусне, ни о том, какая судьба ждет этого бессмертного юношу.
— О да, судьба юноши более чем печальна, — пробормотал Мераб.
— Ты, я полагаю, уже не мечтаешь познать любовь богини? — Насмешка в голосе Алима была вполне явственной.
— Должно быть, ее месть будет столь же страшной, сколь обжигающей будет ее страсть.
— Палка о двух концах, — с непонятной тоской пробормотал Алим. — Любовь всегда палка о двух концах… Помни это, друг мой.
Слова Алима заставили юношу содрогнуться. Чтобы забыть о них или хотя бы отвлечься, Мераб вновь уткнулся в раскрытую страницу.
Девушка выпрямилась перед богиней во весь свой небольшой рост и ответила гордым и спокойным взглядом на гневный, полный бешеного огня взгляд своей госпожи.
— Твое повеление, грозная Бастет, исполнено безукоризненно. Царица Ситатон жива и почивает, юный царевич родился здоровым, и повивальные бабки могут защитить его от всех страхов мира, включая и гнев богов.
Увы, эти слова сейчас были лишними. Богиню вовсе не интересовал родившийся сын фараона, не думала она и о жизни царицы. И потому каждое слово ученицы лишь распаляло ее гнев, превращая его в поистине обжигающее пламя.
И наконец этот миг настал. Жгучим огнем вспыхнули глаза богини, поток сверкающего пламени полился из ее рук. Столб необжигающего огня объял стройную Та-Исет.
— Отныне и вовек ты проклята, отныне и вовек я лишаю тебя твоего тела! Теперь ты будешь лишьскитающейся душой, навсегда лишенной любви и утешения. Никогда тебе не испытать страсти, никогда и никто не полюбит тебя, никогда и никто не возжелает тебя. Отныне и вовек ты — всего лишь душа…
И тут богиня запнулась. Ибо душу следовало бы куда-то поместить. Но под рукой не было ничего, способного стать прибежищем про́клятой, вечно одинокой души. И тогда богиня сорвала с собственной шеи дивный золотой медальон, щедро украшенный самоцветами и бирюзой, медальон, на котором улыбалась черная кошка — живой лик самой богини.
— Отныне ты, — вновь загремел голос Бастет, — лишь душа этого медальона. И да будет так вовек!
С последними словами богини огненный столб, заключивший в себе несчастную Та-Исет, втянулся в черный камень кошачьей мордочки на медальоне. Красным огнем вспыхнули глаза кошки. Но всего на миг. И теперь лишь черный агат блестел в восходящих лучах всесильного Ра — отца всех богов и вершителя судеб…
— Невеселая история… Пожалуй, я не хочу такой любви. Чтобы из-за меня остаться всего лишь душой побрякушки… Нет, пожалуй, страсти богов пусть остаются богам.
И вновь в тиши прозвучал все тот же безжизненный голос:
— Приди же и узнай…
Однако теперь его расслышал и Алим.
— Должно быть, какая-то богиня услышала о твоем желании… — Похоже, Алим хотел пошутить.
Но Мераб поднял глаза туда, где, по его мнению, могло оказаться лицо мага, и проговорил:
— Богиня… Мне кажется, что так может звать только богиня вечного сна. Или сама смерть, набросив яркие одежды, решила распахнуть мне свои объятия.
— Приди же и узнай… — услышал Мераб в ответ и понял, что этому призыву сопротивляться он не в силах.
Свиток двадцать второй
Мераб уже привык к тому, что из ниоткуда выходят и в никуда уходят жители его нового дома — удивительной страны Мероэ. Привык, что ответные письма родителей появляются прямо на стопке книг, которой в этот момент он собирается уделить внимание. Привык и к тому, что сам находит ответы на вопросы. Хотя, по привычке, которую воспитал в нем отец, по-прежнему советуется с четками. О нет, не советуется, лишь перебирает, однако вскоре к нему приходит понимание…
Итак, ошарашенный Мераб, перебирая четки, отправился в обитель мудрости, дабы узнать у воистину знающих мудрецов, что же такое происходило с ним вчера на закате и чей голос, страшный своей мертвенной холодностью и завораживающий своей глубиной, довелось ему услышать.
Алим, как обычно, сопутствовал ему. Однако сейчас не привычка двигала незримым магом, а всерьез разгоревшееся любопытство. Магу показалось даже, что еще пара-другая минут — и в воздухе появится его голова с горящими глазами. Так гнала его жажда познания.
Однако об этом маг не говорил юноше. Была и тайна, понять которую Алим не мог. Сейчас он чувствовал себя обычным смертным — таким же, как Мераб, юным человечком, который сам ничего понять не может, а потому бежит с вопросом к старшим.
Итак, Мераб спешил в «приют мудрости» за ответами на свои многочисленные вопросы. Но возле тех самых высоких белотелых колонн увидел он Максимуса — воина и странника. На лице давнего друга его отца гуляла странная улыбка.
— Да охранит тебя своей милостью Аллах всесильный и всевидящий! — привычно проговорил Мераб.
— Здравствуй, мальчик! — Максимус окинул юношу оценивающим взглядом. — Книги, свитки, в глазах огонь… Должно быть, юный мой друг, ты попал в страну своих грез.
— Похоже, что так, почтеннейший. А как сложилась твоя судьба? Я знаю, что мудрые правители страны Мероэ собирались предоставить тебе выбор…
— Так и есть, дружище, — Максимус пожал широченными плечами. — Более того, их предложение оказалось столь заманчивым, что я его принял. И вот теперь я, уже признанный житель страны Мероэ, стою здесь как болван и жду вестей… от себя самого.
— Ты говоришь загадками, достойный Максимус.
— Ага, парнишка. Вообще-то мне кажется, что я брежу наяву. И что бред сей столь интересен, что приходить в себя мне совсем не хочется.
Мераб, положа руку на сердце, иногда чувствовал себя так же: ему тоже не хотелось просыпаться — так интересен был его сон. Пугающ, но головокружительно интересен.
Видя, что юноша ждет разъяснений, Максимус продолжил:
— Сегодня на рассвете я вошел в стены сего приюта всех знаний мира. И… И меня разделили.
— Разделили?!
— Да, мальчик. Вот мы сейчас болтаем тут с тобой, поют птички, улыбаются прекрасные женщины… А в это время я, тот, отделенный, второй я, уже отмеряет шаги по подъемному мосту у границы заповедной страны.
Мерабу показалось, что Максимус заговорил с ним на каком-то странном языке: слова были все понятны, но смысл ускользал. «Быть может, — подумал юноша, — если я повторю вслух за этим достойным человеком, смысл его речей откроется мне?»
— Так, значит, от тебя отделили часть…
— А вот и нет! — совсем по-детски ответил Максимус. — От меня ничего не отделили. Эти удивительные люди из ничего создали второго меня. В тот момент, когда я увидел этого болвана, часть меня стала им… Я смотрел на себя самого двумя парами глаз и сам себе улыбался, как безмозглый дурачок.
— Отчего ты столь неуважительно говоришь о себе, мудрец? — В глазах юноши заплясали веселые огоньки. — Ты и один являл собой подлинный пример для подражания, а теперь, когда вас стало двое, воистину станешь идеалом.
— Издеваешься над стариком, мальчишка… — Максимус не сердился, но был явно не в своей тарелке и продолжал глупо озираться по сторонам.
— Но зачем тебя разделили, уважаемый?
— А затем, чтобы я, ну тот, второй я, убедил своих спутников, что ничего там, за мазаром, не нашел. И что следует возвратиться в вашу прекрасную страну, теплую Джетрейю.
— Но ты же гоним данным словом, ищешь легенду, над которой должен водрузить вексиллиум или паллиум своего повелителя.
— Я никому и ничего не должен, малыш. Глупое мое сердце гнало меня, это верно. Сердце и превратное понятие долга.
«Аллах великий, какое счастье, что он это понял!» — подумал Мераб. Конечно, слова «долг» и «честь» святы для любого человека, но все должно быть разумно… Тем более тогда, когда ленивый и тщеславный монарх остается дома, в уюте и неге, а его верные вассалы, движимые этим самым долгом, терпят бедствия и лишения, дабы прославить в веках имя надменного лентяя.
— …Не знаю еще, что буду делать, когда доберусь до Джетрейи… Быть может, стану пахарем или хлебопеком. Однако истинное положение дел я смогу открыть лишь твоему уважаемому отцу, дабы знал он, что с тобой ничего ужасного не произошло.
— Он знает, — Мераб улыбнулся мимолетно. — Мы обмениваемся письмами. Я видел, что отец пытался понять, я ли ему отвечаю. Он задавал вопросы, на которые только его старший сын знает верный ответ. Отец уже убедился, что со мной все в порядке.
— Забавно, малыш… Однако эти невероятные мудрецы сказали мне, что я выйду к своим людям на закате того самого дня, когда мы подошли к мазару. Того же дня, малыш… А ведь здесь прошел уже, должно быть, целый месяц.
Мераб пожал плечами.
— Чему ты удивляешься, почтенный? Ведь если они умеют делить людей пополам так, чтобы они при этом оставались целыми, что им стоит слегка перехитрить время?
— Это верно, друг мой. Но как-то… неуютно.
— Привыкай, Максимус. Теперь ты будешь одновременно здесь и там: будешь и беседовать с моим почтенным отцом, и встречать на улицах меня.
— Это так, мальчик, это так…
И достойный воин пошел прочь. Мераб смотрел ему вслед, пытаясь понять, каково это: видеть двумя парами глаз, слышать двумя парами ушей… И при этом знать, что ты-настоящий, пребываешь здесь и сейчас, а ты-второй — тоже настоящий, однако создан лишь для сохранения тайны.
Тем временем шаг Максимуса становился тверже.
— Должно быть, человек может привыкнуть ко всему, — пробормотал Мераб.
— Даже к тому, чего не может понять, — согласился Алим.
В привычном уже внутреннем дворике, все так же прохладном и напоенном пением фонтанов, Мераб повернул вправо — там, он знал, в покоях, более похожих на покои халифа, сейчас ждет человек, который тогда, месяц назад, встретил его и которого юноша про себя называл наставником.
— Входи, мой друг, входи. Ты столь сильно обеспокоен, что и я не нахожу себе места. Что случилось, друг мой?
Мераб удивленно посмотрел на собеседника.
— Почтенный наставник, я думал, что все мои дела тебе ведомы, как свои собственные.
Тот рассмеялся.
— Мальчик мой, что бы тогда творилось у меня в голове, подумай сам… Иногда я просто читаю по твоему лицу, иногда то, какую книгу ты держишь в руках, яснее ясного говорит о том, что же обеспокоило тебя. Однако сейчас тебя занимают вовсе не новые знания или неприятные размышления. Нечто непонятное омрачает каждый твой шаг.
Мераб, вздохнув, начал свой рассказ. Он уже понял, что хотел сказать наставник, и потому решил, что будет лучше, если он опишет все как есть и будет ожидать объяснений, не пытаясь понять что-то своим умом.
Чем дольше говорил Мераб, тем явственнее читалась на лице наставника легкая оторопь. Так может удивиться любой учитель, когда несмышленыш, только вчера выучивший буквы, сегодня говорит, что прочел все книги Исидора Севильского, причем на языке ромеев.
Наконец рассказ был окончен. Однако оторопь на лице наставника не уменьшилась. Более того, он, все еще не веря своим ушам, позволил себе переспросить:
— Так, говоришь, голос был мертвым?
— Да, почтенный, холодным и мертвым, как стены самой глубокой могилы.
В разговор вмешался Алим:
— Я тоже слышал этот голос, уважаемый. И это яснее ясного говорит, что вчера не наваждение, а некая сила пыталась прорваться в наш новый мир.
— О, конечно, не наваждение. Однако прорваться… Нет, думаю, она пыталась лишь призвать… И то не сила, а…
Наставник Мераба умолк. Юноша понял, что так он призывает к себе своих друзей. С зачатками мысленного общения пытался разобраться и сам юноша, однако ему с трудом удавалось сосредоточиться настолько, чтобы его зов был долгим и мощным. Лишь тогда, в старой поварне, ему удалось докричаться до Нага-повелителя. «Быть может, — вспоминая тот момент, думал Мераб, — только потому, что меня подгонял страх».
Не прошло и дюжины минут, как из воздуха стали выходить в покои люди — похожие и непохожие на наставника юноши. Они вслух приветствовали друг друга, усаживались в кресла (надо сказать, в этой стране мебель была куда удобнее, чем на его, Мераба, родине) и начинали так рассматривать юношу, что у того по телу бежали мурашки.
— Ты знаешь, Алим, — пробормотал Мераб, — они своими глазами во мне сейчас дырку сделают.
— Скорее дюжину дюжин дырок, мальчик, — отвечал невидимый маг, ибо людей становилось все больше.
Последним из воздуха вышел высокий и очень худой старик. Спина его была прямой, плечи свободно развернуты, однако шевелюра совершенно поседела. Так же были седы и брови, нависающие над ясными серыми глазами. «Воистину, — подумал Мераб, — этот человек очень стар и знать должен все и обо всех».
Повинуясь жесту старика, все в комнате умолкли. Старец, не собираясь усаживаться, минуту покачался с пятки на носок, а затем подошел к юноше.
Он положил теплые сухие пальцы на виски Мераба и на миг прикрыл глаза. Затем взглянул в самую душу юноши и, взяв его ладони в свои, поднял и развернул перед своими глазами.
Никто не проронил ни слова; молчал и Мераб. Затем старик, невероятно удивив юношу, протянул руки вперед и…
«Аллах всесильный, да он же видит Алима! Вот он касается его висков, вот проводит пальцами по лбу, вот всматривается в глаза…»
Наконец необыкновенный старик опустился в кресло, стоявшее у окна. Минуту длилось молчание. А потом мудрец заговорил.
В полной тишине его низкий голос казался голосом самого мироздания:
— Да, мои братья и сестры, это он. Это Избранный…
Мераба передернуло. Несмотря на все почтение, с каким старик проговорил это слово, юноша ощутил, что он стоит на самом краю пропасти и вскоре будет вынужден сделать шаг вперед.
Свиток двадцать третий
— Избранный, уважаемый? — переспросил Мераб.
— О да, юноша. Несмотря на твой возраст, несмотря на то, что ты появился здесь, в заповедной стране Мероэ, совсем недавно, именно ты Избран…
— Чем, уважаемый? Кем и для кого может быть избран юноша? — Требовательный голос Алима заставил старика улыбнуться. Как показалось Мерабу, улыбнулся он чуть печально.
— Чтобы ответить на эти вопросы, мне, должно быть, понадобится не один год. Этого времени нет ни у твоего юного друга, невидимка, ни у тебя, ни у меня.
Алим проворчал:
— Однако ты меня видишь, по-моему, вполне отчетливо.
— Конечно, вижу. Трудно не видеть обладателя столь многих знаний. Ведь именно знания, опыт освещают душу человека. Только они делают его по-настоящему видимым, заметным.
Мераб молчал. Должно быть, этот старик и сам когда-то хотел стать таким избранным… Или, быть может, чтобы им стал кто-то из выученных стариком…
— Однако, почтеннейший, — продолжал настаивать Алим, — тебе придется все-таки объяснить мне и моему другу, что значит быть Избранным. Кем и для чего…
Старик молчал. Быть может, не хотел отвечать на вопросы невидимого мага, а может, просто взвешивал, с чего начать. Наконец он заговорил, и Мераб ощутил, что где-то уже слышал эти слова. Однако когда и где — никак не мог припомнить.
Рассказ же продолжался.
— Призвал твоего юного друга, невидимка, Медный город… Древняя легенда гласит, что прекрасный Медный город не за горами и долами, не за океанами и морями, а за пределами разума ограниченного и нелюбопытного. Путь в этот город открыт лишь избранным. Живут в этом удивительном городе люди сильные и смелые, отважные и разумные. Живут они без страха перед будущим, ибо оно им ведомо, живут и без страха перед нищетой, ибо люди эти небедны и щедры. Также неведом жителям Медного города и страх перед врагом, ибо нет у них врагов ни среди людей, ни среди зверей.
— Город-мудрец, — вновь перебил Алим, — но как же это может быть… И потом, город, если он жив, не может говорить голосом, более напоминающим голос умершего бога.
— В этом-то все и дело, мудрец. Ты недослушал, однако я продолжу, а потом уж ты и сам все поймешь. Дороги в этом городе, согласно человеческой легенде, все сплошь выложены камнем. Но то не просто камень — это огромные самоцветы, обработанные так, чтобы превратиться в яркий и прочный ковер без колдобин и выбоин. Ибо знают жители Медного города, что самое большое богатство в жизни человека не самоцветы или золото, а сама жизнь, спокойная, несуетная и мудрая. Человеку куда больше счастья доставит созерцание детской игры, чем блеск мертвых украшений, а для слуха станут отрадными звуки прекрасной музыки и добрых слов, а не звон сыплющихся монет.
Все, кто находился в покоях, согласно закивали. Должно быть, не об одном Медном городе так могла говорить легенда, должно быть, и в стране Мероэ подобные воззрения были в чести.
— Легенда говорит также, что едут по этим удивительным дорогам не повозки, запряженные лошадьми или ослами, идут по ним не рабы, несущие паланкины. А движутся по дорогам из камней самоцветных самоходные экипажи, и управляют этими экипажами не только мужчины, но и женщины…
И тут Мераб вспомнил! О Медном городе некогда рассказывал мудрец Мустафа, его воистину терпеливейший учитель. Рассказывал в награду за то, что его ученики все же чему-то смогли выучиться. Исчезли стены покоев мудрости, и перед Мерабом опять предстала классная комната, какой могло ее запомнить лишь любящее сердце. Предстали перед Мерабом и лица его приятелей, тех, кто вместе с ним слушал тогда о чудесах мира и удивлялся тому, сколь этот мир разнообразен и сколь воистину бесконечен в своем разнообразии. Голос старика, низкий и сильный, превратился в дребезжащий тенорок усталого Мустафы:
— Рассказывают, что женщины Медного города пользуются такими же правами, что и мужчины; они избирают себе спутников жизни, согласуясь с собственным вкусом, а не следуя лишь повелениям родителей или подсказкам свах; девушки вольны учиться и избирать себе профессию наравне с юношами. И что женщины Медного города столь же прекрасны, сколь свободны и сильны. А гармония в семьях этого города творит богатство этого города наравне с мудростью правителей и золотом казны.
Старик умолк, но лишь на миг.
— Вот так рассказывает о заповедном Медном городе легенда, что ходила среди людей мира и дошла до нас, заповедной страны Мероэ. Дошла долгие тысячи лет назад.
— Тысячи… — пробормотал Алим. — Во-от в чем дело…
— Да, невидимый мудрец, ты уже начал понимать. Однако… Многие люди, услышав эту легенду, мечтали попасть в прекрасный, как сон, Медный город, дабы стать его жителями. Другая легенда, которая пришла вместе с первой, гласила, что под силу это лишь тому, кого изберет сам город, чьи помыслы будут чисты, а душа возвышенна. Кто будет стремиться выстроить в городе хоть один дом или посадить хоть одно дерево, и не для того, чтобы его, никчемного человечка, имя осталось в памяти людей, а лишь для того, чтобы сам Медный город становился все прекраснее.
Избранниками хотели быть многие, и люди, с обычной точки зрения более чем достойные, также. Однако Избранными они не становились — гордыня превращалась в непреодолимую преграду… Ибо даже знание того, что ты Избранный, — это уже немалый повод гордиться собой.
— Готов спорить на собственную голову, — проговорил Алим, — что с течением времени таких Избранных находилось все меньше…
— Воистину, твоя голова останется при тебе, мудрец, надолго. Ты прав: избранников легенды становилось все меньше, жизнь Медного города, которую чувствуют многие из нас, уже не била ключом, а едва теплилась. Однако возродиться Медный город не мог, ибо в пору, отделенную от нынешней даже не тысячами лет, а неведомо сколькими сотнями тысяч лет, сама Душа города решила, что возродить его сможет лишь тот, кто не будет знать ни о самом городе, ни о том, что он живой и может погибнуть. Те, кто стремится, мечтает дать городу новую жизнь, не попадут на его улицы, ибо движимы они все той же гордыней…
— Ну еще бы… Немалая, должно быть, честь — оживить легенду… Пусть даже о легенде той ведает кучка народу за высокими стенами…
— И вновь ты абсолютно прав, невидимка. Честь такая была бы более чем велика, пусть даже о подвиге этом знали воистину единицы. Вот так и угас Медный город… Некому стало топтать улицы из удивительных камней, некому носить украшения, что прекрасней самой мечты. Некому любить и давать жизнь детям… В тот миг, когда мы осознали это, печаль пыльной пеленой пала на наши души: больно, когда умирает легенда.
Замолчал старик, молчали и все вокруг. Лишь на языке у Мераба крутился вопрос. Крутился, однако юноша робел задать его вслух.
— Поэтому, Мераб, мы так и удивились тому, что ты услышал Призыв. Ибо никто уже не надеялся, что осталась жива Душа Медного города. Она одна избирает, она одна открывает Путь, она одна может указать того, кто достоин ступить на ее мостовые и, быть может, возродить величие былой легенды.
— Как странно, — произнес ошарашенный юноша. — Выходит, цель моего странствия вовсе не страна Мероэ. Выходит, что я пришел сюда лишь для того, чтобы отправиться дальше…
— Пути, которыми ведет нас судьба, о Избранный, более чем извилисты. А даже твой Аллах всесильный не всегда может указать предназначение того или иного из его приверженцев.
— Другие боги знают не больше… — заметил чуть ворчливо Алим.
— Это так, — согласно склонил голову старик. — Однако, юный Мераб, ты немножко неверно смотришь на вещи. Подумай: если бы ты не отправился в странствие с другом твоего отца, воином Максимусом, ты бы не увидел страны Мероэ. Верно?
— Верно, почтеннейший.
— Если бы ты не избрал страну Мероэ, то и Медный город ничего не знал бы о тебе.
— И это верно, — с поклоном отвечал Мераб. — Более того, если бы отец мне не позволил, я бы и в странствие не отправился. Выходит, что жизнь легенды зависела лишь от решения моего достойного родителя?
— В какой-то мере. Полагаю, что тогда душа Медного города избрала бы кого-то другого.
— Как тебе кажется, более достойного, да, старик? — Алим злился, и Мерабу это было отлично слышно.
— Быть может, и так. Другого, более достойного… Или душа Медного города нашла бы иной путь, чтобы призвать юного и пылкого…
— …а не умудренного и немолодого.
— Да, невидимый язвительный маг, умудренного, пусть и немолодого.
Словесная дуэль удивляла Мераба, старик же, похоже, забавлялся.
— Не скрою, некогда я приложил много сил, отдал много лет, дабы показать себя Медному городу, дабы исполнилась мечта всей моей жизни — и я ступил на его каменные мостовые. И поэтому твой наставник, мальчик, призвал именно меня, ибо никому другому не понять, как и не услышать зова твоей, юный Мераб, судьбы. Да, я завидую тебе. Но зависть эта бела, ибо перегорела моя душа в тщетных попытках; лишь знания, что привык я собирать для высокой цели и, как оказалось, несбыточной мечты, остались моими верными спутниками. Теперь же, мальчик, мои знания перейдут к тебе.
— Перейдут, почтеннейший? Но как?!
— Более чем просто — ты узнаешь все то, что знаю я… Но не потеряешь и то, что ведомо уже тебе самому. Думаю, что вскоре тебе откроется Путь, а потому с передачей знаний медлить не стоит.
— Я благодарю тебя, уважаемый…
— Нет, меня благодарить не следует, ибо зависть, пусть и беззлобная, еще тревожит мою душу. Однако Призыву сопротивляться бессмысленно. Так лучше пусть Избранный войдет в Медный город, вооруженный всем необходимым, чем не знающий, с чего начать и куда двигаться. Опасаюсь я, что Душа города не сможет сама подсказать тебе верный путь, уж очень сей город стар…
И старик встал — силы, конечно, не покинули его. Однако, похоже, из его жизни ушел ее смысл, лишь осталась жить надежда на то, что Избранный когда-нибудь вспомнит с благодарностью его, старца-хранителя тайны. Эта надежда и давала старику силы шествовать, уводя в грядущее Избранного — пришельца из далекой Джетрейи, сына визиря, юного Мераба.
Свиток двадцать четвертый
Старик сдержал слово: в тот же вечер все знания, что копил он долгие сотни лет, собирая по крупицам, перешли к Мерабу. Так, во всяком случае, его уверяли и наставник, и Алим, и сам высокий и худой Ждущий — именно этим словом, а не именем, что даровали ему некогда отец и матушка, старик назвался.
Мераб, однако, ничего не чувствовал, и это его удивляло. Да и как было не удивляться, если трое уважаемых, достойных людей уверяют юношу, что в нем теперь сосредоточены все знания мира, а он не может вспомнить, как называется небольшой цветок на обочине дороги.
— Юный мой друг, а ты не пытайся вспомнить, просто подумай о цветке и иди себе дальше.
Мераб попробовал последовать этому простому совету и в следующий миг понял, что прошел мимо расцветшего крокуса: лиловые лепестки, просвечиваемые солнцем, желтый пестик…
— Воистину, нечего тут делать первоцвету, — пробормотал Мераб.
— Друг мой, ты разве не заметил, что в прекрасной стране Мероэ, жителями которой мы имеем честь себя называть, нет смены времен года? Тут все цветы цветут, когда им вздумается, а не когда становится тепло.
Было в этом нечто неправильное… Мераб готов был открыть рот, чтобы сказать что-то, но тут вновь услышал холодный бесцветный голос:
— Приди же, Мераб, и узнай!
— Аллах всесильный и всевидящий! Но что я должен узнать? Куда прийти? Где должна открыться дверь, через которую я смогу войти к тебе?
— Захоти войти… Хоти войти… Войди… — ответило многоголосое эхо, в котором на этот раз не чувствовались холод и смерть, а слышна была надежда на скорую встречу.
Прямо на повороте тропинки Мераб увидел, как поднимаются вверх, закрывая самые небеса, стены из позеленевшего металла.
— Так вот почему город сей называют Медным… — проговорил Мераб, и эхо сотней голосов повторило:
— Медным… Медным… Медным…
— Но где же, Аллах великий, та дверь, в которую я должен войти?
— Войти… Войти…
Эхо, о чудо! все приближалось. Вот оно откликнулось в десяти шагах, потом в пяти, потом в трех… Вот почти на ухо Мерабу прошептало:
— Войди…
— Но куда?!
И в ответ на это восклицание юноши послышался скрип открывающихся дверей, и эхо не повторило, но ответило:
— Сюда… Сюда…
Оно вновь стало отдаляться: вот голос донесся с семи шагов, потом с десяти, потом смешался со скрипом открывшейся двери…
— Сюда… да… да…
— Ну что ж, мой друг, — проговорил Алим, который все также сопровождал Мераба, — вот твой Путь… Сама Душа Медного города, такая же бестелесная, как все души, зовет тебя.
— И такая же бестелесная, как ты, мой невидимый, но мудрый маг. Однако прежде чем я ступлю на новый порог, ответь мне: ты останешься здесь, в Мероэ, или отправишься со мной в неведомый мир?
Воистину, Алиму иногда хотелось обрести тело. Нечасто, но хотелось. Для таких, к примеру, мгновений, как сейчас. Чтобы можно было спокойно пожать плечами и этим дать понять собеседнику, сколь глуп его вопрос.
— О все боги мира… — почти простонал незримый маг. — Ты можешь даже не сомневаться, что уж я-то не упущу такой возможности, ибо она может больше не представиться. Я непременно отправлюсь в Медный город вместе с тобой. И, быть может, дам тебе еще один совет…
— Всего один? — просиял Мераб.
— Один… Или два.
— Или дюжину дюжин! — прокричал Мераб и бросился вперед, к калитке, которую видел он один. Незримый Алим скользнул следом.
И в следующий момент исчез с каменной тропинки юный Мераб, и мудрецы перестали ощущать присутствие незримого мага. Ему повезло не отстать от мальчишки.
Мераб по инерции пробежал еще несколько шагов. Остановился, оглянулся. Никакой двери за его спиной не было, как не было ни позеленевших стен, ни цветущих вдоль тропинки крокусов, не было и страны Мероэ…
Хотя тропинка была. Чудом не занесенная серыми песками, каменная дорожка вела из ниоткуда в никуда, так, во всяком случае, показалось Мерабу.
— Веселое место… — пробормотал юноша. Несмотря на то, что вокруг было тепло, даже жарковато, он ощутил порыв леденящего холода, какому не мог найти определения. — Интересно, зачем эта груда песка призвала меня? Должно быть, самая страшная тайна Медного города — это то, что никакого города вовсе нет. Слава его — суть пустой звук от вросшей в медные стены зеленой патины; живо здесь одно лишь эхо, дурачащее наглецов, возжелавших быть коронованными величайшей избранностью.
— Ты неправ, мой друг. А слова твои злы, ибо ты напуган.
— Напуган, друг мой? Вовсе нет, я просто невыносимо зол…
— А что тебя злит?
— Да именно то, что оказался глуп и легковерен, как и все те, кто до меня поверил в легенду о Медном городе. Злюсь я, что променял удивительную, живую, полную знаний, соблазнов, настоящую страну Мероэ на глупый колдовской пустой мир. Понимаешь, Алим, пустой! Здесь нет никого, кроме нас с тобой! Да и мы, полагаю, очень скоро сгинем в этих серых песках, где старой медью уже даже не пахнет…
Алим не знал, что и ответить на такой взрыв Мераба. Он готов был сказать хоть что-нибудь, но эхо, то самое, которое заманило их сюда, вновь появилось. Незримый маг ощутил его, как столб теплого свежего воздуха рядом с ними.
— Пахнет, пахнет…
— А я говорю, не пахнет! — не поворачиваясь, ответил Мераб. Сейчас он больше всего напоминал обиженного мальчишку, которого друзья, решив зло пошутить, позвали в красивую песочницу, на поверку оказавшуюся пустой и грязной старой лоханью.
— Пахнет… Пахнет… Нет…
Алиму показалось, что «это» кружит вокруг них.
— Что «нет», глупый ты старый невидимка…
Маг хмыкнул.
— Я молчу, Мераб, жду, когда закончится твоя истерика.
— Но кто же тогда со мной беседовал? Всего миг назад я слышал чей-то голос. Чей, если не твой?
И эхо проговорило:
— Твой… Ой… Мой…
Слезы (а в глазах юноши и впрямь стояли слезы) мгновенно высохли. Алим заметил, что и голос самого эха изменился. Если раньше из него ушли нотки обреченности и смертельной тоски, то сейчас звуки больше напоминали пение заморского виолона — или, быть может, прекрасный низкий женский голос, теплый и завораживающий.
— Но кто же ты? Кто отвечает мне здесь, среди бескрайнего песка?
Крошечный смерчик поднял пригоршню этого самого песка у ног юноши.
— Думаю, мой друг, что сил у Души города хватает лишь на мелочи. Только так она может привлечь тебя, заинтересовать…
— Это так? — спросил Мераб, пытаясь разглядеть что-то прямо перед собой.
— Так… Так…
— Значит, это и впрямь все, что осталось от некогда самого прекрасного в мире города?
— Да… Да…
— Увы, мой незримый друг Алим, по-моему, мы влипли… Так и сгинем среди песков и камней.
Алим хотел утешить своего юного друга, но не знал, как это сделать. Незримый маг раздумывал, как заставить Душу города показаться… Ведь только увидев нечто живое, телесное, вещественное, сможет Мераб поверить, что все происходящее — не страшный сон, ведущий к гибели.
А еще думал маг о том, что он, пусть и незримый, но все же существующий, почему-то не может ощутить присутствие живой души у здешних мест. Словно остатки жизни развеяны какой-то злой силой в самом здешнем воздухе. И эта сила мешает Душе города показаться.
Мераб оглядывался по сторонам. Он тоже ждал какого-то знака. Но ничего не происходило вокруг — лишь сухой жар, которым веяли пески, и выцветшее, почти белое небо над головой. Сухое шуршание песка, сменившего камни тропы под ногами, было более чем привычным: такими были окраины столицы прекрасной Джетрейи в самые жаркие летние месяцы, когда вода стояла в колодцах совсем низко, а все живое пряталось от беспощадного солнца в подземельях под городской стеной.
Шаг, другой, третий… Бескрайние пески заглушали все звуки, лишь легкое шуршание слышалось в дрожащем воздухе. До самого горизонта, туда, куда, должно быть, ни пеший, ни конный не доберутся никогда, расстилалась безжизненная равнина. И эта пустыня в своей равнодушной безграничной монотонности вдруг показалась юноше прекрасной…
Еще шаг, второй, третий, пятый, сотый, трехсотый…
— Мы здесь увязнем, как муха в меде… — бормотал Мераб. Он хотел добавить что-то, но краем глаза заметил, что пески вдалеке вдруг пришли в движение.
Картина перед юношей менялась быстро и разительно.
— Должно быть, именно здесь, в царстве одной только смерти, спрятал повелитель всех джиннов, Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими, какой-то огромный клад. А теперь, когда предстал он перед высшим судьей, дюжина джиннов вознамерилась перерыть эти пески в поисках сокровищ. Глупцы, они не ведают, что последний клад исчез из этих мест столь же бесконечно давно, сколь бесконечна и сама пустыня.
Похоже, именно так все и было, ибо барханы вокруг свидетельствовали либо об усердных поисках, либо о столь же усердном сражении: какие-то глубокие полосы избороздили прежде гладкие пески, и полосы эти временами становились столь глубокими, что уместнее было бы назвать их канавами.
И словно в ответ на его мысли издали донесся стон. Мераб, конечно, не испугался, ибо нет ничего страшнее бескрайней пустыни вокруг, страшнее безжизненности.
— Должно быть, нашелся еще кто-то, прельщенный сказкой о Медном городе. А теперь он пытается найти дорогу, пусть не домой, но хотя бы к местам, где сможет найти покой.
— Быть может, и так… — ответил Алим. Местность вокруг напомнила ему деревню, где сотни и сотни лет назад он родился. Такие же безжизненные пески вокруг оазиса, одинаковые барханы, в которых легко заблудиться. Как и найти путника, умирающего от зноя и жажды…
Стон повторился. Мераб поспешил на голос и наконец увидел его обладателя, вернее, обладательницу. На куче песка, что была чуть выше и круче других, бессильно раскинувшись, лежала женщина в черном плаще. Посеревшее лицо и запекшиеся губы яснее ясного говорили, что она погибает то ли от жажды, то ли от жара.
Мераб остановился в полушаге от неизвестной.
— Воистину, это не город мечты, а ловушка, которая убивает самых достойных, не разбирая, кто перед ней, — юный мужчина или почтенная старуха. Сколько же дней скиталась она по этим пескам, сколько сил потратила понапрасну…
— О да, мой мальчик. Однако ей не помешает надежное укрытие от солнца.
— Ага, лучше бы, конечно, каменный дом, да с колодцем посреди двора… Да еще бы и оливу у дувала… Персиковые деревья, нет, лучше мандариновые… Полные лари в погребе, уютные занавески, колеблемые ветерком… Смешно, верно?
Алим готов был согласиться, что такая мечта забавна и несбыточна, однако буквально в нескольких шагах по правую руку разглядел нечто, весьма напоминающее оазис. А в нем… Да, в нем оливы, растущие вплотную к дувалу, и дом, очень похожий на дом его, Алима, почтенных родителей, умерших не одну сотню лет назад…
— Отнюдь, мой друг. Полагаю, прекраснейшей более не следует оставаться под этим беспощадным солнцем ни секунды, а надежное укрытие ты и сам можешь разглядеть всего в десятке шагов от себя.
— Готов спорить, — оглянувшись, озадаченно пробормотал Мераб, — что еще миг назад там ничего не было, кроме песков.
— Я думаю, нам следует поторопиться, — перебил друга незримый Алим. Посеревшее лицо, обветренная кожа и полупрозрачные веки незнакомки яснее ясного говорили, что сейчас спорить не время.
Быть может, у юноши недостало бы сил, чтобы отнести на руках взрослую женщину, но та, что Мераб нашел в песках, должно быть, постилась уже очень давно, ибо весом едва превосходила десятилетнего ребенка. Ни единого стона не вырвалось из ее уст — похоже, она уже готовилась к встрече с самим Аллахом всесильным и всемилостивым.
Юноша поднял неизвестную на руки, вновь поразившись тому, как она истощена, и повернул в сторону оазиса. Пусть этот дом появился лишь мгновение назад, но сейчас он был единственным прибежищем на многие лиги вокруг и для неизвестной ханым, переставшей даже стонать, и для него, новой жертвы легенды о Медном городе.
Свиток двадцать пятый
Посреди дворика действительно нашелся колодец. Серые, заросшие темным мхом камни, высокий «журавль» с кожаным ведром, крышка из плотно сбитых досок… Оливы приветливо зашумели от ветерка, когда Мераб ногой распахнул калитку. Мандариновые деревья почти сплелись кронами в одном из углов двора. А под ними нашлась кошма, сложенная так, чтобы на ней было уютно лежать, размышляя о прекрасном или великом.
Туда и опустил Мераб едва живую ханым, не успев даже удивиться и этой кошме, и живой беседке в самом удобном углу двора.
Теперь нужно было незнакомку напоить. Рядом с колодцем нашелся ларь, где в удивительном порядке выстроились кувшины, кумганы, чаши и пиалы, лишенные пыли и следов употребления.
Вот в одну из таких глубоких чаш и налил Мераб прозрачной и обжигающе холодной воды. Пригубил божественный напиток сам.
— Холодновата водичка…
— Полагаю, мальчик, лучше лечить незнакомку от простуды, чем рыть могилу…
Мераб не мог не согласиться с этим.
Первые же капли оживили незнакомую ханым. Воистину, они не только оживили, они и омолодили ее. Ибо губы, пусть и потрескавшиеся от суховея, оказались полными и прекрасными, а глаза, еще слегка воспаленные от жары и ветра, темными и глубокими. Незнакомка улыбнулась и откинулась на подушки.
— Клянусь, — озадаченно проговорил Мераб, — не было здесь ни этих шелковых подушек, ни столика, Аллах великий, с огромным подносом фруктов, ни…
Озадаченные слова Мераба перебило блеяние козы.
— И козы здесь никакой не было, клянусь!
Алим тоже был озадачен волшебными переменами. Однако в его разуме уже забрезжил ответ, хотя пока и неясный. Но следовало, думал маг, сделать так, чтобы Мераб сам понял происходящее.
— Полагаю, мой друг, коза появилась здесь для того, чтобы мы могли восстановить свои силы и напоить теплым молоком прекрасную ханым, которую ты вынес из песков.
— Теплым? — еще больше озадачился Мераб. — Но где же я возьму…
Не успел юноша договорить, как услышал волшебный аромат: так могли пахнуть только лепешки. И не просто лепешки, а те, которые пекла кухарка его отца, толстушка Айше.
Эта жизнелюбивая красавица частенько повторяла любимые слова визиря, отца Мераба.
— Хорошего человека, — говорила она, — должно быть много.
И выносила к ужину огромный поднос с лепешками, полными сыра и специй, зелени трав и ароматных орехов…
Вот и сейчас ноздри Мераба щекотал именно такой аромат. Лепешки с зеленью и орехами яснее ясного говорили (о нет, они просто кричали), что их пора вынимать из печи.
— Из печи? — Мераб оглянулся и увидел печь, выбеленную и притаившуюся у входа на женскую половину дома.
— А домишко-то вовсе не лачуга кожевенника… — Это сказал Алим, пытаясь понять, как домик его далекого детства мог столь быстро превратиться в обитель весьма зажиточного человека… Купца или мастера золотых дел, к примеру.
Тем временем Мераб принес огромное блюдо лепешек. А затем и глиняный кувшин молока, теплого и пахнущего миндалем.
— Этак нам скоро понадобятся и повар, и слуги, и…
Нет, суетливые шаги пока не зазвучали, но разгадка, брезжившая в разуме Алима, уже была совсем близка.
— Кто ты, смелый юноша? — меж тем заговорила незнакомка.
Первый же глоток теплого молока вернул краски ее лицу. Девушка оказалась ослепительно хороша, хотя была истощена до последней степени. Однако ела она неторопливо, изящно, насыщаясь, а не поглощая пищу, как сделал бы на ее месте любой, не видевший ни крошки уже долгие дни.
«Но откуда я взял, — подумал Мераб, — что она давным-давно постится? Почему я подумал так? Она просто изящна, мала ростом и… диво как хороша!»
Почему-то сейчас созерцание красоты незнакомки вызвало печаль в его сердце. Однако вопрос прозвучал, и требовалось ответить.
— Я зовусь Мерабом. Уважаемый Анвар, визирь далекой страны Джетрейя, — мой отец, Бисмиля — моя мать. Кто ты, красавица?
Губы девушки чуть искривились.
— Красавица, говоришь… Да эти свирепые ветры превратили меня в скелет, обтянутый кожей.
— Клянусь небосводом моей великой родины, ты столь же похожа на скелет, как я — на попугая пиратского корабля!
Девушка улыбнулась. Быть может, немудреной шутке Мераба, а может, его горячности. Однако ответа не последовало. О, коварство, присущее женщине, не оставляет ее даже на пороге смерти! И, быть может, даже за ее порогом.
— Я Хаят. Так меня нарекли в далекие-далекие годы те, кто дал мне жизнь и воспитал…
— Далекие годы, прекраснейшая? — Мераб заглянул в глаза девушки. — Клянусь, ты столь же молода, как и я… Или, быть может, годом или двумя старше.
Хаят села и протянула вперед руку. Мераб, не понимая, что с ним происходит, не в силах отвести глаз, вложил ладонь девушки в свою. Тогда Хаят, чуть опираясь о руку юноши, встала и сделала несколько шагов по двору, еще недавно крошечному, а сейчас просторному, выложенному серыми плитами и покрытому яркими дорожками.
Мераб, как пришитый, шел за ней. О нет, конечно, не пришитый, он просто пальцы размыкать не хотел, да и не мог, ибо больше всего на свете опасался, что прекрасная, как сон, стройная, как тополь, девушка исчезнет в свете заходящего солнца.
Заходящего солнца?.. Еще недавно Мерабу казалось, что солнце, словно приколоченное гвоздями к небесному своду, неподвижно висит над головой. А сейчас оно садилось, косые тени пролегли через весь двор, расчертив его подобно шкуре полосатой лошади, коварной зебре.
Наконец тень от высокого пирамидального тополя (Аллах великий, откуда здесь было взяться тополям?) упала на противоположную сторону дувала. И в этот миг чуткий слух Мераба уловил призыв к молитве: где-то далеко, быть может, за добрый десяток лиг, закричал муэдзин.
— О всесильный и всемилостивый, — проговорил озадаченно Мераб. — Муэдзин?.. Откуда здесь взяться муэдзину?
О, как хотелось Алиму, чтобы у него сейчас было тело, руки и ноги, чтобы смог он встряхнуть за плечи мальчишку, дабы увидел тот наконец-то разгадку, рассмотрел, сколь близко подошел к ответу на все заданные вопросы.
Увы, похоже, не его, Алима, желания здесь исполняются в первую очередь… «Надо будет шепнуть мальчишке, что мне уже надоело жить бестелесным духом. Быть может, и для меня найдутся в этом мире забавные перемены…»
Меж тем Мераб, завороженный беседой с Хаят, не видел вокруг ничего. Губы девушки, налившиеся жизнью, произносили какие-то слова, подрагивали ее пальцы, по-прежнему покоящиеся в его руке. Но он не столько участвовал в беседе, отвечая на какие-то вопросы, сколько наслаждался тем, что беседует с прекраснейшей из женщин.
Юноша не заметил, как они поднялись по пологой лестнице на второй этаж дома, как вошли в покои, явно предназначавшиеся для отдыха. Не заметил, как дом, в который уж раз за сегодня, превратил одну из комнат, доселе просто заваленную подушками, в тихую и уютную опочивальню с огромным ложем и прозрачным кисейным пологом. С двумя лампами, не столько дарующими свет, сколько сгущающими в углах тьму.
Мераб не замечал никаких перемен. Ибо могут ли какие-то перемены в обстановке его дома (уже его, воистину) сравниться с тем, что его мечта, его ожившая греза беседовала с ним. И в тот миг, когда она, нежно улыбнувшись, взяла с подноса румяный персик, понял Мераб, что ничего в целом мире не хочет более, чем любви этой девушки. Понял, что родился лишь для того, чтобы встретить ее, красавицу, и что все годы учебы отдал тому, чтобы извилистые пути судьбы привели его в ее объятия. Понял Мераб, что теперь отныне и навеки его душа принадлежит лишь ей, странно прекрасной, удивительной и нежной Хаят[3], оправдывающей имя столь полно, сколь только возможно себе это представить.
Хаят замолчала. Быть может, она ждала ответа на какой-то свой вопрос, быть может, просто наслаждалась тишиной и прохладой вечера. Молчал и Мераб. Он жаждал прикоснуться к девушке, жаждал и… не смел.
— Что же ты молчишь, юноша? — улыбаясь, проговорила Хаят. — О чем ты задумался?
И Мераб понял, что миг настал: сейчас или никогда.
Он упал к ногам девушки, поднял на нее молящие глаза и произнес:
— Я молчу, великолепная, ибо желания сжигают мою душу. Могу ли я, смею ли надеяться, что ты не оттолкнешь меня?
— Глупенький, — смех Хаят был бархатистым. Мераб поймал себя на том, что любуется ее длинной шеей и мечтает запечатлеть горячий поцелуй в соблазнительной впадинке у ключиц. — Я не оттолкну тебя. Ибо вижу, что страсть затопила твой разум. Открою тебе тайну: я желаю тебя столь же сильно, сколь ты желаешь меня. Иначе зачем бы я затащила тебя в опочивальню?
— В опочивальню? — Мераб безумными глазами обозрел и стены, затянутые камкой, и прозрачный полог, и горящие светильники. — Так это наша опочивальня?..
Голос его предательски сел. Но теперь он мог хотя бы не опасаться, что девушка засмеет его, откажет ему.
— Прекраснейшая, единственная… — Мераб зарылся лицом в колени сидящей на ложе девушки. — Мечта моя, греза…
С этими словами он подхватил ее на руки, не столько для того, чтобы прижать к своему сердцу, сколько для того, чтобы показать всему миру, что это его, Мераба, добыча и собственность. Юноша не торопился, но и не хотел терять ни минуты. Хаят, должно быть, прекрасно понимала его желание.
Однако от самого желания до его воплощения может лежать настоящая бездна. Последним, должно быть, усилием разума юноши было именно осознание того, что он во всем, что касается страсти, осведомлен не из собственного опыта, а из книг, что лишь книжные страницы приоткрыли ему тайны соития и таинство любви.
— Свет звезд моих, Хаят, — Мераб остановился и опустил девушку на ложе. Он пытался найти слова, но горел от стыда: невместно взрослому мужчине признаваться в том, что он, желающий ее, никогда еще не касался женского тела. — Мне больно говорить это, но…
— Ты боишься меня, юный герой?
— Нет, прекрасная, — покачал головой Мераб. — Я боюсь того, что я… что я неумел, что моих знаний не хватит, чтобы сделать счастливой тебя, чтобы ты насладилась в полной мере…
«Ну вот, — с тоской подумал юноша. — Слово произнесено. Теперь только ей решать, умру я от горя или воспарю от счастья».
Хаят нежно улыбнулась.
— Любимый, увы, я тоже более чем неумела. Мое странствие убило все мои воспоминания, так что, думаю, теперь тебе, мудрому, придется учить меня страсти. И, быть может, сложив вместе два неумения, создадим мы подлинное умение, доступное и дарованное нам лишь одним…
Слова девушки бальзамом пролились на сердце Мераба. Он почувствовал, что оно колотится о ребра и готово выскочить прочь из груди.
Хаят же продолжила:
— Об одном я лишь прошу тебя: не торопись. Дай мне почувствовать каждый миг твоего наслаждения как свой…
— Прекраснейшая, желаннейшая из женщин мира! Клянусь тебе, я не потороплюсь, я буду медлителен, как самый густой мед… Однако, поверь, ни одного мгновения больше терять я не намерен, ибо ты, желанная, рядом со мной. Клянусь, у меня хватит сил, чтобы показать тебе все, чтобы доказать, что ты поступила более чем разумно, поднявшись со мной в нашу опочивальню!
— Я в этом не сомневаюсь, — нежно улыбнулась Хаят.
Неужели она вновь сможет стать самой собой? Стать желанной, стать живой, стать… Стать настоящей.
Мераб сбросил одеяние. Он почувствовал необыкновенный прилив сил. О, сколь много иногда может значить для человека миг ожидания долгой и спокойной жизни, наполненной радостью взаимной любви и уважения!
Хаят хотела было не смотреть на него, но это оказалось невозможным. Тело Мераба завораживало своей силой, своим желанием. Прекрасный и сильный возлюбленный, а не робкий юноша стоял сейчас перед Хаят. Его восставшая плоть чуть подрагивала, живя, казалось, своей жизнью, и от нее исходила такая мощная волна, что девушка с трудом верила своим чувствам. Более того, она испугалась этого вожделения, словно была неопытной девчонкой. «Но так оно и есть… Я сейчас более чем неопытна — если бы не этот юноша, я была бы мертва… И даже воспоминания о Хаят были бы развеяны ветрами пустыни». Само собой куда-то исчезло и ее одеяние, оставив девушку дрожащей, пусть не от холода, но от чувства куда более сильного и куда более непонятного.
Кровь молотом стучала у Мераба в висках, его тело горело от близости той, которую он так мучительно желал. Это чувство родилось в тот самый миг, когда он впервые ощутил прикосновение нежных рук к своему горящему челу, и с каждым мигом становилось все сильнее. Его тело сейчас было готово воплотить в реальность самые безумные мечтания, которые до сего мига жили лишь на страницах книг и в его пылком воображении.
— Ты будешь счастлива со мной, волшебная краса, — обжег ей губы горячий шепот. — Не бойся, я не сделаю тебе больно. Просто доверься мне…
Невероятный, всепоглощающий шквал страсти, обрушившийся на Мераба, был неожиданным для него самого, ибо ему еще не доводилось переживать ничего подобного. И вызвала эту бурю не умелая обольстительница, каких, он знал, немало в огромном мире, а эта спасенная им девушка, с этого самого мига его прекрасная суженая!
Он весь превратился в туго натянутый лук, готовый в любой момент выпустить свою стрелу… Но где-то в глубине сознания вдруг проснулась и запульсировала тревога:
«Ты же обещал ей, Мераб… Она должна почувствовать, насладиться слиянием. Не торопись, иначе она запомнит только боль и то, что эту боль причинил ей ты».
Допустить такое Мераб никак не мог. Более того, мысль о том, чтобы возбудить Хаят, подвести ее к пику наслаждения и лишь затем взять, доставила ему истинное удовольствие. Он вспомнил строки одного древнего наставления о любви и страсти и захотел перенести со страниц в жизнь то, о чем ему сейчас напомнил его разум. Он жадно припал к ее губам.
Хаят показалось, что ее живота коснулся кусок раскаленного железа. Она испуганно взглянула туда и… усмехнулась. Ибо его тело говорило о его желании куда яснее любых слов.
— Отдайся же мне, прекрасная… — хрипло простонал Мераб.
Хаят нежно улыбнулась. Она лишь удивлялась тому, сколь пылко ответила на желание этого, еще миг назад неизвестного, совсем чужого ей человека. «О все боги мира, я так давно не была с мужчиной. Его обидит моя холодность. Хотя, быть может, я вовсе никогда не знала мужских объятий…»
Мераб, должно быть, почувствовав эту опаску, делал все, чтобы заставить ее забыть обо всем, остаться с ней наедине и доказать, что холод и одиночество никогда больше не вернутся в ее душу.
Его губы и язык принялись ласкать ее грудь, а рука скользнула вниз, пальцы нащупали и стали мягко ласкать средоточие ее наслаждения.
По телу Хаят разливалась теплая волна возбуждения, кровь быстрее бежала по жилам, сердце стучало все чаще и чаще. Она опасалась, что не сможет ответить на желания его тела так, как ему этого хочется.
Пальцы и язык Мераба продолжали ее мучительную, сладостную муку. Хаят начала задыхаться.
— Пожалуйста, не надо! — воскликнула она, с ужасом чувствуя, что ей все труднее владеть собой. — Остановись!
— Не могу, удивительнейшая, не могу… Да и не хочу, — раздался его прерывистый шепот. — Ты просишь о невозможном. Лучше забудь обо всем, постарайся почувствовать меня, дай себе волю!
Его слова (Хаят с удивлением и даже ужасом ощутила это) зажгли в ней поистине чудовищный огонь. Знала ли она подлинную страсть до сего мига, знала ли любовь, наслаждалась ли счастьем брака? Ответов на эти вопросы она не знала. Но, позволив себе прикоснуться к его, Мераба, страсти, почувствовать то, что чувствует он, она удивительным образом изменилась. Сейчас, на ложе, отвечая на все более смелые ласки этого юноши, распростерлась женщина, не просто жаждущая страсти, а женщина, алчущая ее… Что ж, он победил. Будь что будет!
Ее колени разошлись в стороны.
— О, ты желаешь меня… — словно сквозь сон донесся до нее голос Мераба. — Правда, ты еще не совсем готова, но скоро, уже совсем скоро…
Его пальцы стали действовать с большей настойчивостью, проникая все глубже, то убегая назад, то снова устремляясь вперед. Желание, до сих пор гнездившееся где-то внизу живота подобно плотно сжавшемуся клубку, выпустило свои щупальца и стремительно побежало по всему телу, окутывая сладостной негой каждую его часть, задевая каждый нерв, заволакивая разум пеленой волшебного дурмана и даря изысканное, ни с чем не сравнимое наслаждение.
Хаят застонала, ее глаза закрылись, голова запрокинулась, а бедра непроизвольно задвигались навстречу дразнящим его пальцам. Одиночество, предчувствие смерти, бесконечная боль утекания в никуда — все осталось где-то там, в другой жизни; сейчас она страстно желала лишь одного: безраздельно отдаться этому валу наслаждения, который, вздымаясь все выше и выше, неотвратимо нес ее на своем гребне к ослепительно сверкающим звездам…
Мераб с радостным удивлением наблюдал, как сдержанная, чуть неумелая женщина на его глазах превращается в подлинную тигрицу, подхваченную буйным вихрем желания. Теперь Хаят с жадностью принимала от него то, что еще несколько мгновений назад решительно отвергала, и он понял, что она вскоре взойдет, взовьется на самую вершину страсти. Чудом родившееся ощущение, казалось, просто забытое, а не рожденное впервые, подсказало ему, что настала та самая минута, пропустить которую не должен ни один мужчина.
Мераб порывисто сжал ей ягодицы и наконец мягко вошел в восхитительный влажный коридор ее жаждущего тела. Выждав лишь долю секунды, чтобы Хаят привыкла к этому новому для нее ощущению, он повел свою нежную, но смелую атаку.
Мераб подался чуть назад, затем вошел в нее на всю длину своей твердой, горящей от возбуждения плоти.
— О Аллах всесильный! — простонал он. — Никогда еще не испытывал ничего подобного! Ты… ты просто чудо, моя мечта…
Хаят готова была разрыдаться. Эта сила, эта страсть… Она стала девчонкой, которая впервые отдается любви самого желанного и прекрасного на свете мужчины.
Мераб между тем продолжал размеренно двигаться, задавая ритм, успокаивая и одновременно поощряя. В теле женщины вновь просыпались чувственные ощущения: сначала робко, потом все отчетливее заговорили бедра, спина, живот; волна желания с глухим рокотом (или то был ее собственный стон?) опять подхватила Хаят и стремительно понесла, сметая на своем пути осколки опасений и осторожности. Затем с внезапной злостью она швырнула ее куда-то вверх, и девушка словно зависла в воздухе, охваченная наслаждением такой силы и пронзительной остроты, что перед ее плотно закрытыми глазами запульсировали огненные пятна.
Ее исполненный страсти крик прозвучал для Мераба великолепной музыкой. Сам он давно уже был на грани и лишь ждал этого момента. О, теперь и ему можно было отдаться ощущениям, возводящим его к самым вершинам! Несколько широких, мощных движений, и его хриплый стон присоединился к затихающему крику Хаят…
Они долго лежали рядом, не шевелясь и почти не дыша.
Наконец хоровод звезд перед глазами Хаят стал меркнуть, а мир — обретать свои прежние очертания. Она подняла голову и увидела склонившегося над ней Мераба — он улыбался…
«О все боги мира! — пронеслось в голове Хаят. — Как же он силен! И как он прекрасен, как умел, мой Мераб!»
И еще совсем недавно истощенная песками, умирающая в седой пыли женщина исчезла, а совсем юная и сильная женщина отдалась чувствам. Тем чувствам, что даровал он, ее избранник, ее Мераб.
Свиток двадцать шестой
Наступило утро. Бестелесный Алим посвятил всю ночь тому, что гулял по городу. О да, невесть каким чудом появившемуся среди песков городу… Более того, своими изумительными зданиями поправшему эти самые пески так, что скрылись они под каменными мостовыми, под сточными канавами и за городскими стенами.
— Да, мой юный друг, вот ты и нашел свой Медный город, — сказал Алим, незримой тенью скользя по пустым зданиям, не оживленным ни теплом каминов, ни муками и радостями обитателей.
И даже крики муэдзинов, пригрезившиеся вчера Мерабу, были всего лишь звуками столь же бестелесными, как и Алим, который сейчас, летая по пустому городу, встретил эти бестелесные звуки.
Странствия Алима могли быть бесконечными, но вскоре незримый маг понял, что, сколь бы долго он ни перемещался от здания к зданию, от храма к храму, от молельного дома к мечети, ничего не изменится. Тихи и немы будут стены. Ибо одному лишь Избранному удастся заселить людьми все эти каменные дворцы, деревянные дома и бамбуковые хижины.
— И только ему дано знание, только ему дано сделать так, чтобы заговорили люди, закричали ослы и попугаи, чтобы появились на богатых базарах бесчисленные горы фиников и изюма, красных крутобоких томатов и жгучего, как огонь, перца. Только он может сделать все это. Но, Аллах всесильный и всевидящий, как? Как он узнает об этом?
— Ты расскажешь ему об этом, маг, — прямо подле себя услышал Алим. Теперь незримый мудрец знал, кому этот голос принадлежит.
— Хаят, властительница, — проговорил маг, вновь печалясь, что он не обладает телом. Хотя бы для того, чтобы отвесить девушке самый низкий из поклонов.
— Как ты назвал меня, мудрейший?
Алим ухмыльнулся.
— Так, как следует называть тебя, повелительница. Ведь я не ошибся, ты — Душа этого странного, пустого города?
— Ты прав, незримый дух. Я и есть Душа Медного города. Я всесильна, но в то же время и совершенно бессильна. Ибо лишь Избранному дано сотворить из небытия город-сказку, город-легенду, дать ему бесконечно долгую новую жизнь.
— Но лишь тебе одной дано указать Избранного. Дано его вдохновить.
— Да, это правда.
Хаят вышла из воздуха и сделала по каменному полу огромного зала несколько шагов. В пустоте шаги отдавались гулко, таинственно, даже немного страшно.
— Довольна ли ты своим выбором, мудрейшая?
— Мераб прекрасен, умен, силен, он честен.
— Схож ли он с другими Избранными? Достоин ли стоять в их ряду?
Девушка пожала плечами.
— Не знаю, Алим. Ибо не помню никого из Избранных. Ведь и меня, Душу города, каждый творит заново, как творит и сам город. И потому я сейчас знаю лишь одного Избранного — Мераба из Джетрейи.
— Да будет так, красавица.
О, сейчас Алиму даже больше чем ранее захотелось иметь тело, чтобы отвесить второй поклон, наполненный более уважением, чем простой вежливостью.
— Ну, если тебе и в самом деле хочется вновь стоять на ногах, скажи об этом Мерабу, — уже почти исчезая, через плечо заметила Хаят. — Полагаю, для тебя он выберет самое замечательное тело.
— Повинуюсь, мудрейшая.
Последней растаяла улыбка прекрасной юной девы. Только в сказках доселе встречал Алим улыбку, что оставалась в воздухе после того, как ее обладатель исчезал.
— Только в сказках, — повторил мудрец, переносясь во дворец Мераба. Ибо за ночь, полную для юноши удивительнейших ощущений, откровений и радости, превратился глинобитный домишко в каменный дворец, щедро украшенный лепниной, колоннадами, фонтанами, галереями и прочими непременными для уютного дворца атрибутами.
— В сказках, мудрейший? — повторил Мераб слова мага.
— О да, друг мой. Ибо мы, войдя в ту скрипучую калитку, попали в настоящую сказку, тем более завораживающую, что тебе, юный Избранный, дано творить ее ровно столько, насколько хватит твоего воображения и знаний.
— О чем ты, маг?
— Выгляни в окно, мальчик. То, что ты увидишь, возникло в одну ночь. Город, сотворяя сам себя, сооружал то, о чем ты когда-то читал или слышал, о чем рассказывали твоему уважаемому отцу послы и что ты, толмач, пересказывал со слов посланников своему повелителю. Смотри же!
Мераб послушно подошел к окну и замер, не в силах сдержать возгласа восхищения. Каменные дома и дворцы, сады и скверы, мечети, храмы, молельни, пагоды, террасы — все, что только может себе представить, что может вспомнить изощренный разум, — все лежало сейчас перед взором Мераба.
— Аллах всесильный и всевидящий! — почти простонал Мераб. — Так вот почему те, кто хотел стать Избранными, всю жизнь копили знания! Вот почему они собирали их с такой же любовью, с какой красавица собирает драгоценности!
— Именно так, мальчик, именно так! О, как хотелось бы мне сейчас пройтись по каменным ступеням площадей! Как бы хотелось ногами, а не только глазами ощутить всю силу твоих знаний!
— Так ты хочешь стать обычным человеком? Все же хочешь… И твое решение окончательно?
— О да, друг мой, я хочу обрести тело. Пусть мне не дано будет сохранить ни крохи своих магических знаний, я готов обменять их на здоровое и крепкое тело, способное наслаждаться жизнью столь долго, сколько позволит Аллах всесильный, творец всего сущего под этим небом!
— Так знай же, маг, что отныне ты — обычный, обретший тело маг. Ибо не надо тебе обменивать гигантские свои знания на земную оболочку, более того, они есть такая же часть тебя, как и крепкие сильные ноги и умелые руки. Стань же человеком, оставаясь колдуном!
Мераб едва успел договорить, как из воздуха вышел, подобно старику Ждущему, подобно самой Хаят, широкоплечий, высокий, крепкий мужчина средних лет. В чем-то он весьма напоминал Максимуса, нашедшего приют в стране Мероэ, в чем-то походил на визиря Анвара, оставшегося в бесконечно далекой Джетрейе.
— Итак, мой друг, каковы сейчас твои ощущения?
Незримый маг, о нет, вполне зримый Алим повел сильными плечами, поднял к лицу ладони и несколько раз сжал пальцы в пудовые кулаки, провел рукой по волосам, взъерошив их. Потом сделал несколько осторожных шагов, проверяя, сколь надежны ноги. А потом… потом скорчил страшную рожу.
— О да! — Так мог ликовать проснувшийся лев, ибо голос Алима был теперь низким и гулким. — Они прекрасны! Жизнь прекрасна! И жизнь в человеческом теле во столько же раз прекраснее жизни бестелесной, во сколько прекрасно целое море живых роз по сравнению с цветком, забытым в древней книге.
— Ну, вот и отлично.
Мераб впервые ощутил сладость творения. Это было столь завораживающе, столь… необычно, не похоже ни на что вокруг, что ему захотелось за сегодняшний день еще сто, нет, тысячу раз испытать это необыкновенное чувство.
— Воистину, сейчас я могу понять, что ощущал Зевс-Громовержец, повелитель эллинов, или Марс-воитель, ведущий римлян в бой…
Горделивую фразу Мераба прервал женский смех.
— Однако, мой герой, недурные сравнения!
— Хаят, моя греза! Но это же… Это же прекрасно. Отчего ты смеешься?
— Оттого, любимый, что рада. Рада тому, что ты учишься столь быстро и хочешь успеть столь много!
— О да, прекраснейшая! Во сто крат больше, чем уже успел сделать! — Мерабу удалось вложить в свои слова тот тайный смысл, который был понятен только им одним.
Но Хаят не покраснела, напротив, она одарила юношу гордой и солнечной улыбкой.
— Так не медли же, мой властелин! Исполни все, что хочешь, и ни мгновения не сомневайся в силе своих желаний.
— Да будет так!
Юноша прикрыл глаза и… У распахнутых настежь дверей дворца появился экипаж удивительной красоты, запряженный четверкой лошадей.
— Мы отправимся в путь на этом!
Хаят покачала головой.
— Не сегодня, юный творец. Твоему другу столь желанна обычная пешая прогулка, что не стоит лишать его удовольствия.
— Тогда мы отправимся пешком. Но пусть к нашему возвращению будет готов ужин. И пусть… Да, пусть клумбы покроются цветами, пусть глициния увьет колонны. Пусть птицы всего мира совьют гнезда на верхушках храмов и за стрехами домов. Пусть берега реки покроются норами ласточек, а трудолюбивые бобры выстроят плотины чуть ниже по течению…
Мераб все говорил и говорил, все желал и желал. И одному лишь Алиму было слышно тихое пение — так может петь за работой златошвейка, наслаждаясь тем, что выходит из-под ее умелых пальцев. То пела Душа города, обретая тело.
Свиток двадцать седьмой
— А теперь, добрые мои друзья, пора отправляться! Я мечтаю заселить этот город — воистину город моих грез, жителями и жительницами, хочу украсить его чудесами из легенд и мифов всех народов. Чтобы Медный город не просто восстал из небытия… Чтобы он, впитав историю подлунного мира, стал поистине великим и вечным. Но не вечно мертвым, а вечно живым.
И вот наконец сбылась мечта Алима: он спускался вместе с Хаят и Мерабом по лестнице нового дома юного творца. И эти ощущения — сгибающиеся колени, твердь каменной ступени, поскрипывающая подошва одного из башмаков — были воистину куда более волшебными, чем сотня сотен бестелесных полетов вокруг… вокруг граната… Почему-то в голову Алима пришло название колдовской картины, которой суждено будет появиться лишь в далеком грядущем…
Мераб спустился первым. Он смеющимися глазами смотрел снизу вверх на прихрамывающего с непривычки Алима. Улыбающаяся Хаят стояла у него за спиной и тоже наблюдала, как Алим овладевает давно забытым умением ходить, дышать, открывать двери и завязывать развязавшиеся шнурки.
Шаги складывались в десятки, потом в сотни. Навстречу стали попадаться люди. Метельщик, зеленщик, молочница… Обогнали путников грумы, что вели пару вороных коней.
Встречные улыбались Мерабу, кивали, как давнему знакомому. Некоторые свой кивок сопровождали приветственными возгласами: «Халиф!», «Доброе утро, халиф!»
— Халиф? Какой халиф? Почему халиф? — наконец обернулся Мераб к Хаят.
— Не знаю, мой друг, — пожала плечами девушка, и ее лицо озарилось светлой, но хитрой улыбкой.
— Аллах великий, но почему халиф? — Мераб на миг забыл о цели своей прогулки по городу.
Однако всего на миг, ибо впереди открылась огромная долина с зеленеющей травой.
— Нет, здесь не должно быть такого… Это место заслуживает прекрасных строений, достойных великой Пальмиры, а не нор, дарящих приют сотне озабоченных сурикатов.
Не успел договорить Мераб, как из воздуха соткались, встали величественные стены. Чуткий Алим услышал аромат великого прошлого, донесся до мага и печальный запах бесконечно давно пролитой крови.
— Пальмиры, мой повелитель?
— О да, ибо ее история столь же богата, сколь и поучительна. И потому столица прекрасной царицы Зенобии воистину заслуживает того, чтобы найти приют в моем огромном, прекрасном Медном городе.
Мераб сделал несколько шагов вперед, коснулся руками колонны, всего миг назад появившейся из небытия, и начал свой рассказ.
Алим внимал своему молодому другу так, как иной малыш слушает прекрасную сказку. И пусть все, о чем говорил Мераб, он, некогда незримый маг, уже знал, сейчас это сухое, как саксаул, знание превращалось в каменные стены и живую славу города, встающего из небытия на радость тем, кому отныне станет домом.
— …Судьба Пальмиры, — меж тем говорил Мераб, — красивейшего древнего города, города-сказки, эфемерного, пролетевшего метеором по страницам истории человечества, в чем-то сходна с судьбами многих древних царств от Петры до Баальбека. Быть может, потому, что все они родились задолго до наших дней и расцвет их совпал со временем владычества сурового Рима. Быть может, потому, что они некогда были весьма близки друг другу, и теперь сухие ветры дуют на улицах Баальбека, как и среди колонн пальмирского форума.
Судьба же Пальмиры трагична. Этот город не умирал, не хирел в течение многих веков, как его соседи. Он погиб в одну ночь.
Мераб на минуту замолчал. Быть может, сейчас он вспоминал вехи той трагичной и прекрасной истории или примерял на себя нелегкую роль творца. Ибо теперь он был в ответе за всех тех, кого вызовет к жизни силой своего воображения и глубиной собственных знаний.
— Вернемся же в Сирию, римскую провинцию, проедем по ее дорогам от прекрасного Дамаска на полуночь, а потом на восход, в пустыню. И сегодня в этих местах еще жива память о временах владычества древнего Рима. Помпей великий завоевал часть Сирии полторы тысячи лет назад. Римские легионы надолго стали лагерями на склонах сухих гор, ибо имели поистине достойную империи цель: мечтали они, чтобы Сирия покорилась им навсегда. Ведь она — ключ к великому торговому пути в древности, который начинался в долинах Альбиона и в горах Прекрасной Кордовы, шел через Рим в Элладу. Здесь же, на восточном берегу Серединного моря, сходились пути кораблей с запада и востока — из Аравии, Индии, Китая.
Алим услышал вдалеке позвякивание колокольчика и вскоре увидел, как караван меланхоличных верблюдов отправился в далекое странствие к неведомой цели.
— Поистине, мальчик, тебе следует быть осторожней со словами: они становятся явью все до последнего. Страшен будет тот день, когда ты кого-нибудь проклянешь…
Мераб не слышал слов своего друга. Хаят даже подумала, что вряд ли он сейчас услышит и ее — столь далеко был сейчас в мыслях.
— С восхода везли шелковые ткани, пряности, благовония, фарфор, драгоценные камни. Плиний — мудрец и политик — жаловался, что на роскошь и женщин тратятся десятки миллионов сестерциев каждый год. Да и сама Сирия, вновь образованная провинция, была нужна Риму как поставщик зерна, фруктов, оливкового масла, фиг, фиников и вина. В Сидоне производилось лучшее стекло, в Тире — пурпурные шерстяные туники. Более сотни лет Римская империя, словно ненасытный колосс, поглощала небольшие царства и княжества, что лежали у границ Сирии. Признало власть Рима царство набатеев — то самое, коего столицей была великолепная Петра. Признала власть Рима и Пальмира.
Непревзойденные лучники Пальмиры участвовали в походе Траяна в Дакию; набатейские отряды несли охрану южных границ. Императоры Рима раздавали ветеранам участки сирийской земли и рабов. В плодородном сухом краю жизнь была недорогой: с семьей можно было прожить на сто пятьдесят сирийских денариев в год.
Сирия становилась самой богатой из римских провинций. Арабы, евреи, арамейцы, набатеи, персы, армяне, египтяне, римляне, греки населяли ее города и деревни. Антиохия — столица провинции — насчитывала больше жителей, чем Дамаск или Алеппо. Крупных городов было там вдвое больше, чем теперь. В одном только Апамее, от которого сейчас осталась груда развалин, обитало более полумиллиона человек. Так говорят нам исторические книги.
— И ты, мальчишка, помнишь все это?!
— Ну конечно, глупенький маг. Это же столь завораживающе — знать и пытаться представить. Мне иногда кажется, что любое мое слово может превратиться в зверя или птицу, человека или дом, обрести жизнь в виде вереницы верблюдов или прекрасной мелодии из тех, звуки которых не разносились по земле уже сотни лет.
— Так будь же осторожен, мой прекрасный, — проговорила Хаят. — Ибо если это тебе сейчас кажется, то в следующий миг может обрести подлинную жизнь.
— Повинуюсь. — Мераб отвесил девушке шутливый полупоклон и сделал несколько шагов вглубь городского квартала.
— Император Диоклетиан приказал создать укрепленную границу — ее так и назвали: страта Диоклетиана. И тянулась сия страта от Босры, что неподалеку от вечного Иерусалима, до Мосула на реке Тигр. Укрепления должны были оберегать провинцию от набегов персов. То была не просто стена, подобная той, что пересекает великую страну Син, о нет! То была длинная цепочка крепостей и укреплений. В каждой крепости были бассейны с водой, казармы для солдат и пристанища для проходящих караванов. Один пост находился в пределах видимости следующего поста; соединялись они невысокой стеной, ибо лошади персов и парфян не были приучены перепрыгивать через препятствия.
Города связывались мощеными дорогами, которые используют и в наши дни, зачастую не догадываясь об их более чем почтенном возрасте. Дороги эти всегда поддерживались в полном порядке, а вдоль них устанавливались столбы. В низинах же дороги были ограждены стенками, чтобы в половодье не заливались водой. Римские акведуки проходили над деревнями, дабы воинские подразделения не знали отказа ни в воде, ни в пище.
— Так ты хочешь возвести здесь и эти все строения: крепости и дороги, акведуки и мосты?
— Хочу, конечно. В нашем прекрасном городе они послужат украшением, создадут поистине колдовской мир гармонии камня, воды и тысяч деревьев, кустов, цветников и просто лужаек с травой.
Хаят огляделась по сторонам. Слово Избранного по-прежнему было магическим: вдали протянулся каменный акведук с арками-подпорами; сеть мощеных дорог в мгновение ока пролегла через бывшие пустоши к оживающим городским кварталам.
Но Мераб, творец всего вокруг, останавливаться не думал. Он даже не прерывал своего рассказа. И Алим, некогда ученик мага, вдруг вспомнил своего наставника, столь же увлеченного собственным делом и столь же мало беспокоящегося о том, слышит ли его хоть один из десятка учеников…
— Большую провинцию, — продолжал Мераб, — было нелегко охранять. Границы ее тянулись по горам и пустыням. Соседи и соперники — сначала парфяне, а затем персы — всегда зарились на богатые земли и города Сирии. Римляне же, подлинные властители, избрали здесь политику, которая оправдывала себя в течение многих десятилетий. Они не стали полностью лишать самостоятельности поглощенные ими некогда свободные царства и княжества. Они оставили на престолах местные династии, вынудив их присягнуть на верность Риму. Иудея, управляемая династией Ирода, набатейская Петра, города Декаполиса в Южной Сирии и Пальмира стали государствами-охранителями империи. Они должны были платить дань Риму и охранять караванные пути. За это их правители оставляли себе доходы от торговли. В случае же неповиновения римские легионы вторгались в царство и доказывали свое право на власть.
А теперь о самой Пальмире… Оазис на перекрестке нескольких караванных дорог был заселен задолго до власти эллинов, а затем и римлян. Там стоял городок Тадмор, жители которого поклонялись Ваалу, богу неба, и Белу, богу Солнца. В городе было несколько караван-сараев, базар, храм бога Бела и несколько сотен глинобитных и каменных домов.
В оазисе было много воды. Город мог прокормить и, главное, напоить десятки тысяч человек. И потому он рос и богател. Здесь пересекались караванные пути с юга, из Аравии и черной земли Кемет, с дорогой на Восток, до страны Син. Неудивительно, что влиятельными в городе были люди, носившие, как гласят древние надписи, титул «предводитель каравана» и «предводитель торговцев».
Легионы Помпея не добрались до оазиса. Это удалось сделать через полсотни лет Марку Антонию. Но и ему пришлось отступить от стен Тадмора. Прошло еще двадцать лет, и лишь тогда город признал главенство Рима. Бороться с таким колоссом тадморским царям было не под силу. Во времена императора Адриана Тадмор — уже вассал Рима и никто не называет его старым именем. Теперь это уже Пальмира Адриана. Позже император Септимий Север превратил Пальмиру и оазисы вокруг нее в огромную имперскую провинцию. А еще через несколько лет Пальмира получила статус имперской колонии.
Однако это царство не вступало ни в одну из бесчисленных войн между Римом и парфянами, стараясь остаться вне схваток двух империй. Как бы жестоко ни сражались римские и парфянские войска, какие бы угрозы ни посылали друг другу властители двух колоссов, римские патриции все равно нуждались в шелке, пряностях и благовониях, а парфянским вельможам нужны были римские товары. А именно сюда, в Пальмиру, стекались караваны, и на базарах царило выгодное для всех сторон торговое перемирие.
В городе строились громадные храмы, театры, ристалища, бани, дворцы. Римская мода проникала в город, детям давались римские имена. Но главным храмом города все равно оставался храм Бела — местного бога, а дети вместе с римским получали и свое, пальмирское, аравийское имя. И, пожалуй, самым величественным местом в городе был не форум, как в римских городах, не акрополь, а базар. Он был велик, обнесен колоннадами, и лавки его были похожи на дворцы. Театр города был одним из самых крупных театров в Римской империи. А храм Бела с центральным залом уступал разве только храму Юпитера в Гелиополе. К храму вела гигантская колоннада: полторы тысячи колонн в десятки локтей высотой чередовались с прекрасными мраморными статуями.
Мераб остановился, чтобы перевести дыхание. Все то, о чем он говорил и что мгновение назад жило лишь в его воображении, сейчас обрело плоть и ожило, задвигалось, зашумело.
Юноша был настолько поглощен своими видениями и рассказом, что не замечал почти ничего из творимых им чудес. Более того, он протянул руку, как старается любой из нас взять со стола чашу холодной воды, — и рука его сжала сосуд из драгоценного синийского фаянса, и в самом деле наполненного ключевой водой…
Свиток двадцать восьмой
— Остановись, друг мой, — не попросил, а почти взмолился Алим. — Дай нам насладиться прекраснейшим зрелищем, что видели когда-либо наши глаза!
— О нет, мой более чем заметный маг! Никогда я не ощущал в себе столько сил. И никогда столь многого не хотел достичь, как в этот более чем прекрасный день! Поэтому вам, мои друзья, придется запастись поистине морем терпения, дабы увидеть все то, что появится под этим небом еще до заката.
Шаги в глубину оживающего города давно уже сложились в сотни, а потом и в тысячи, превратившись для Алима в настоящую казнь. А Мераб почти бежал вперед и вперед, и глаза его горели, как у тигра, который увидел целое стадо коров. Продолжал Мераб и свой рассказ, забыв о том, что его спутникам может понадобиться отдых.
— Чудом уцелели великолепные гробницы Пальмиры. Они разбросаны по окрестным долинам. Некоторые из них — обширные подземелья; другие башнями возвышаются над иссушенной степью, достигая высоты в добрую сотню локтей. Гробницы разграбили, однако никакому вору не унести с собой больше, чем горсть, даже мешок серебра. Поэтому до нас дошли изумительной красоты портреты в пальмирских гробницах. И портреты эти рассказывают пытливому взгляду многое, о чем изображенные на них могли бы поведать сами.
Богатые пальмирцы заказывали свои портреты, когда еще были молоды. Затем портреты переносили в домашние святилища. Оригинал старел, дряхлел, но был спокоен: когда боги после его смерти захотят ознакомиться с внешностью отбывшего в царство мертвых, их взор не будет омрачен зрелищем старости и немощи.
— О Аллах всесильный и всемилостивый! — простонал Алим. Непонятно, что заставило его, мага, воззвать к повелителю всех правоверных, однако в возгласе этом было больше усталости, чем восторга.
— О да, мой друг, — а вот Мераб вовсе не устал. Он, казалось, становился все бодрее и, похоже, готов был повествовать обо всем еще сотни лет. — Алим, ты подал мне прекрасную мысль…
— Неужели ты хочешь соорудить усыпальницу с собственным портретом, мальчик?!
Мераб рассмеялся:
— О нет, всего лишь создать настоящую художественную мастерскую, дабы и художники, и поэты, и ткачи, и плотники могли не просто сооружать дома и ткать полотна, а творить дворцы и кроить прекрасные платья…
— Да ты поэт, малыш, — проворчал Алим.
— О да, мой друг, и, безусловно, поэты! Каждый поэт сможет читать свои прекрасные творения на любой из площадей города!
— …И получить тухлым томатом в лоб, ежели творение сие покажется прекрасным лишь ему одному.
Теперь словам Алима улыбнулась Хаят: вместе с безмерно увлеченным Мерабом ставший ворчуном бессмертный маг составляли замечательную пару, ибо стремление к великому хорошо лишь тогда, когда опирается двумя ногами на трезвый расчет.
— Пальмирцы не были воинами. Их знаменитые лучники были немногочисленны и в основном несли караульную службу. Иногда они уходили с римлянами в походы, но, как только пропадала в них острая необходимость, возвращались обратно. Они были данью, которую платила Пальмира за право богатеть. Это понимали и римляне, и парфяне. Но воинская слава дама весьма капризная, оружие совершенствуется более чем быстро, империи опрокидываются, а провинции, лишь ощутив аромат свободы, стремятся навсегда покинуть своих поработителей. Да и умертвить их при этом для верности…
— Мудро. И иногда более чем полезно. Однако я прервал тебя, малыш…
Мераб продолжал, похоже, так и не заметив, что его речь прерывали. Вероятно, он сейчас не услышал бы и рева зурны прямо над ухом.
— Более тысячи лет назад персидский царь Шаппур I захватил в плен императора Валериана, разгромил его легионы и захватил бо́льшую часть римской Сирии. Персидские войска подходили к пальмирскому оазису, и римляне обратились к его властителю Оденату с просьбой о помощи. Верный слову, Оденат собрал армию, выступил против персов, разгромил их и гнал до самых ворот персидской столицы Ктесифона. С богатой добычей пальмирские войска вернулись домой. Не в интересах Одената была затяжная война с Персией, ибо от нее выигрывали только римляне. Однако совсем избежать войны не удалось: оправившись от разгрома, персы вновь выступили против римлян, и одной из частей римской армии стала уже знаменитая армия пальмирская.
В благодарность новый римский император провозгласил Одената «устроителем всего Востока» — вторым человеком в Римской империи. Благодарность была вынужденной, так как римляне опасались, что, покинь их пальмирская армия, они потеряют свое влияние в Азии. Император Галлиен пошел и на то, что признал за Оденатом право называться не царем, а императором и сделал его равным себе. Кроме того, Оденат был объявлен командующим всеми римскими легионами в Азии. С этого дня он получил полную власть над Сирией, Аравией и даже Арменией. Пальмира стала первым городом в Азии — столицей Ближнего Востока.
Дружба с римлянами была недолговечной. Рим понимал, какую опасность таит признание равным себе властителя Азии, но отнимать титул и армию было не за что, ибо мудрости Одената хватало на то, чтобы не зариться на императорский трон и сохранять в целости Пальмиру, пользуясь заслуженной любовью всех жителей города. С каждым годом слово Одената значило все больше, росло и могущество этого мудрого царя. Рим уже не смел объявить его врагом. Оставался проверенный и испытанный путь — убийство…
Оденат и его старший сын были приглашены в Эмессу и там предательски убиты. Исполнители-убийцы были не римляне, и из Рима поступили «искренние» соболезнования: римский император скорбел о смерти лучшего полководца Востока. Казалось бы, опасность устранена, ибо младший сын Одената еще мальчик и Пальмире придется примириться с низведением в ранг второстепенного княжества.
— Воистину так бывает часто, мой друг. Быть может, нам пора возвращаться?
— Пусть будет так, Алим, пусть будет так…
И лишь позже смог Алим оценить коварство своего друга, ибо тот и обратную дорогу посвятил лекции. Он не рассказывал уже о городе — он рассказывал о женщине. И ожившему Алиму, ставшему сильным и страстным мужчиной, эта тема пришлась более по душе.
— Однако римляне просчитались: вдова Одената, Зенобия, у которой было и аравийское имя Зубайдат, оказалась не только красавицей, но и весьма мудрой и энергичной женщиной. Она возвела на престол своего младшего сына и объявила себя царицей Востока. Великий Рим не сразу осознал всю опасность: царица была молода, да и вряд ли армии Одената могли пойти в бой под предводительством женщины. Надо было ждать, что скажут оба пальмирских военачальника — Заббей и Забда. Но военачальники присягнули на верность прекрасной царице, на ее сторону перешла и армия.
Римские гарнизоны бежали из сирийских городов. Пальмирская армия шла мстить за предательски убитого царя.
Три года продолжалась борьба пальмирцев и их союзников с громадной империей. Зенобия во главе своих войск завоевала всю Сирию и Палестину, дошла до самых западных окраин земли Кемет и до побережья Красного моря. Многие жители покоренных римлянами стран встречали пальмирские войска как освободителей и присоединялись к отрядам Зенобии.
Но как ни была отважна царица, исход войны был предрешен. Пальмирских сокровищ не хватало на то, чтобы прокормить многочисленных союзников. Да, впрочем, и союзники были не всегда верны и надежны. После нескольких битв армия Зенобии потерпела поражение под Антиохией, а в следующем году остатки войск были разбиты под Эмессой, там, где за шесть лет до этого погиб Оденат. В том же году пала и Пальмира.
Император Аврелиан сровнял с землей городские стены, разрушил часть храмов и полностью разграбил столицу. Все сокровища храма Бела были вывезены в Рим.
Пальмира, дома и храмы которой были разрушены, а жители или перебиты, или уведены в рабство, в одну ночь опустела. Ее покинули люди, но остались нетронутыми храмы, театры, базар, триумфальные арки и колоннады…
Мераб закончил свое повествование почти у ступеней собственного дома… О нет, своего дворца. Однако за спиной у путников оживал город — прекрасный, многоголосый город, возрожденный в мертвых песках пустыни, орошенный живой водой воображения и знаний, любви и желания воссоздать то, что некогда ушло в небытие.
Свиток двадцать девятый
Как бы ни был утомлен Алим, усидеть дома он не мог. Ибо теперь, о чудо! когда ему вновь нужен был отдых, крепкие стены и крыша, уютные покои и еда, он ощутил, что все это может и подождать. Быть может, недолго, однако… И вскоре ускользнул из дворца, который Мераб уже считал своим домом.
Свершившееся на его глазах чудо было необыкновенным, ибо из ничего, из одних только безбрежных знаний и восхищения миром родились дворцы и храмы, заспешили по своим делам люди, запели птицы…
— Быть может, — пробормотал Алим, — сегодня из небытия родился и мой дом…
— Быть может, и так, друг мой. — Теплый голос Хаят зазвучал в ответ на эти слова. — Должно быть, Избранный еще и сам не понимает, сколь многое может он совершить. И сколь щедры его подарки.
— Ты вновь права, повелительница, — с кивком ответил Алим.
— Но если мы оба знаем, что теперь где-то есть и твой дом, появившийся ниоткуда, то, думаю, будет вполне разумно этот дом разыскать. Может, уже не только дом ждет тебя…
— Ты говоришь загадками, повелительница, — ответил Алим, послушно, впрочем, отправляясь в путь.
Хаят не ответила, но магу, похоже, вовсе и не нужен был ее ответ. Он просто шел по городу, наслаждаясь каждым шагом и тем, сколь быстро некогда умерший город преобразился в город живой. Улицы были полны многоголосого шума, но не было слышно ни угроз, ни плача, ни звуков побоев.
— Должно быть, все те, кто ждал момента своего второго рождения, дали великий обет не обижаться более по пустякам, не грозить ближнему своему… — Остановившись, Алим стал разглядывать вычурную каменную резьбу, украшавшую вход в… Маг решил, что это храм. — Лишь оберегать, сохранять и даровать все, чем богата душа.
— Ты прав, путник, — проговорил человек, выходящий из храма. — Оберегать и даровать… Ибо угрозы, желание убить ближнего столь же мало свойственны существу человеческому, как и возможность летать.
— Скажи мне, почтеннейший, — Алим чуть склонил голову в церемонном поклоне, — что это за здание и кто ты, мой незнакомый собеседник?
— Здание сие заключает в себе все законы нашего великого города и всех нас, хранителей закона. Меня же называй Мехтар[4], ибо имя мое как нельзя лучше отвечает роду моих занятий.
— Так это, выходит, здание городской стражи? — В голосе Алима отчетливо слышалось разочарование.
— Ты можешь называть его и так. Хотя гораздо мудрее назвать нас не городскими стражниками, а защитниками города и горожан.
— Благодарю, почтенный Мехтар.
Алим вновь поклонился, уже в спину поспешно удалявшемуся Мехтару.
— Должно быть, мне следует искать свой дом, если он существует, не сообразуясь с тем, что видят мои глаза, а с тем, на что отзовется моя душа.
Алим даже чуть прищурился… О нет, не для того, чтобы прекрасный город больше не слепил его разум, а лишь для того, чтобы услышать души своей повеление. И вскоре понял, что его дом действительно существует, и дойти до него совсем просто — всего два квартала от здания городской стражи на полудень. Более того, Алим почувствовал, что не пустым будет его дом, что нашлась та, которая станет для него всем.
— Воистину, нет такого чуда, которому я смог бы удивиться, — проговорил Алим, поворачивая к дому за свежепобеленным дувалом. — Однако сейчас я не просто удивлен — я поражен, ибо чувствую, что обретаю настоящий свой дом, словно всю жизнь до этого провел лишь в ожидании встречи с ним…
— Какой встречи, о Алим?
Перед Алимом стояла улыбающаяся девушка. Глаза ее смеялись, лицо светилось радостью. И маг почувствовал, что это она, ожившая греза! Ибо в душе его словно запели трубы…
— Прекраснейшая, я встретил тебя!
Первые слова были странно нелепыми, а голос странно хриплым.
— Льстец, — улыбнулась девушка. — Войди же в свой дом, столь долго ждавший хозяина и повелителя, насладись его уютом и успокой свою мятущуюся душу. Я твоя жена, и зовут меня…
— Ты моя прекрасная Камиля — совершенная, — прервал Алим девушку.
— Воистину так, я твоя жена и зовут меня Камиля, и отныне сей дом — твой дом. Входи же.
От одного взгляда в эти глаза закружилась голова Алима. И он ощутил, что теперь ожил во всех смыслах этого слова, что возродилась и помолодела его душа, что его тело возродилось не просто к жизни, но к жизни, полной страсти, как и положено обычному человеку. «Поистине, мой друг, твои дары более чем щедры…»
Это была последняя мысль, что посетила голову Алима, ибо желание поцеловать Камилю вытеснило все прочие желания. Наклонившись, он нежно обнял девушку и припал губами к ее губам, вложив в поцелуй всю страсть, что лишь ждала этого мига. Но, должно быть, испугавшись своей смелости, он быстро отстранился. И тут до его слуха донесся насмешливый голос Камили:
— И это все? Это все, что можно предложить жене, Алим? Если ты столь же робок на ложе, то мне, должно быть, не стоило выходить за тебя замуж.
Алим с удивлением посмотрел на Камилю. Та, разглядев в его глазах испуг, рассмеялась и притянула мага к себе.
— Иди ко мне, мой Алим, и делай все, что пожелаешь. И не бойся, что оскорбишь меня или напугаешь. Обидеть может лишь нежелание и холодность.
Алим не помнил, как подхватил девушку на руки, как донес ее до опочивальни (как он понял, где именно в его доме находится опочивальня, ему тоже осталось неведомо). Он почти уронил девушку на широкое ложе, зажег светильники и поставил их в изголовье и изножье постели.
— Я хочу видеть ту, что принадлежит мне с этого мига и до последнего дня, — проговорил он, поспешно раздеваясь.
Через мгновение он уже лежал, уткнувшись лицом в прекраснейшую в мире (и никто не в силах был бы его переубедить!) грудь Камили. Его руки легко заскользили по ее телу, останавливаясь в самых укромных местах, но ненадолго: сегодня Алим впервые почувствовал себя желанным мужчиной, ему хотелось, чтобы этот миг для него и его удивительной жены длился как можно дольше.
Камиля чувствовала, что под руками любимого ощущение теплоты и сладости в ее тело приходит не сразу, нарастая едва заметно, но от этого становится более сильным. Страсть Алима, который наслаждался каждым мигом, усиливалась. Он языком ласкал розовые лепестки сосков подрагивающих персей жены.
— Воистину, нет в мире прекрасней женщины, чем ты, моя греза, — простонал он. — Да благословен тот миг, когда ты стала моей женой! Теперь мы каждый день и каждую ночь будем дарить друг другу блаженство.
Его пальцы едва прикасались к вожделенной расщелинке меж ее ног. Камиля тихо постанывала от охватившего ее возбуждения. Иногда ей даже было немного больно, настолько нетерпеливыми были ласки Алима, но то была сладкая боль.
— Тебе нравится? — спросил он.
— Да, да, конечно! — ответила она срывающимся голосом.
Он опустился к ее ногам, немного приподнял ее бедра, наклонился и стал целовать влажную розовую плоть. Никогда прежде не испытывала она подобного ощущения и поэтому немного испугалась.
— Что ты делаешь?! Не надо! — простонала она, содрогаясь всем телом. — Не надо! Перестань!
Алим поднял голову, и Камиля увидела на его лице удивление.
— Что ты кричишь? — спросил он. — Тебе разве неприятно то, что я делаю?
— Приятно, но это же неправильно!
— Ты сама мне сказала, что тебе понравится все, что я с тобой сделаю, значит, это правильно. Понятно, глупенькая моя?
— Да, мой повелитель…
Алим возвратился к прерванному занятию. Сначала Камиля еще находилась во власти страха и стыда, но он ласкал ее так искусно, что через некоторое время она, сама того не замечая, стала приподнимать и опускать свое тело в такт движениям его губ и языка.
— О! О-о-о! Еще! Еще, мой Алим! — восклицала она. Вдруг по ее телу прокатилась жаркая волна, заставившая затрепетать каждый уголок разгоряченной плоти, и Камиля погрузилась в мягкое, нежное небытие.
Очнулась она через минуту. Алим лежал рядом и гладил ее грудь. Внезапно она почувствовала, как где-то в глубине ее тела зарождается желание вновь испытать всю силу любви.
Резко повернувшись к Алиму, она жарко поцеловала его в губы. А потом одним мягким движением легла на него и соединилась с ним. Глаза ее закрылись, она стала подниматься и опускаться на тело Алима, чувствуя, как с каждым ее движением по телу возлюбленного пробегает сладкая дрожь.
— Открой глаза, — почти приказал Алим. — Я хочу видеть их, когда мы любим друг друга.
Эти слова произвели на нее странное действие. Стоило ему их произнести, как ее всю затрясло, она вскрикнула и в изнеможении упала на мужа. Ей показалось, что силы оставили ее и более ни одного движения она сделать уже не сможет. Но Алим, почувствовав это, помог ей. Обхватив Камилю сильными руками, он начал сам двигаться в ее теле. Все ее естество отзывалось на его сильные толчки; она уже не пыталась сдержать свои чувства и, крепко вцепившись пальцами в его мускулистые плечи, лишь помогала ему в этих движениях, вскрикивая каждый раз от все нарастающего потока страсти. Первый раз в своей жизни она ощущала себя настоящей, да ведь так оно и было на самом деле. И наконец фонтан его горячей лавы оросил ее лоно…
Камиля и Алим слились в едином объятии, обессиленные до такой степени, что не могли уже пошевелить рукой или ногой.
— Я счастлива, мой Алим, что стала твоей женой.
Маг, отныне воистину живой и небесплотный, открыл глаза, и лицо его озарилось радостью.
— Я люблю тебя, Камиля! — воскликнул он и, помолчав, добавил: — Странно, мужчина сильнее женщины, но в конце концов она всегда одерживает над ним победу.
Свиток тридцатый
Утро встретило Мераба полностью одетым — его вновь манили к себе пустоши за городскими улицами. Именно там, он знал, ждет его еще один день чудес.
И сейчас, вглядываясь в распахнутое окно, он прикидывал, к какой бы легенде обратиться, дабы возродить еще одну, быть может, навсегда закрытую страницу истории. Ибо, скажем по секрету, его, Мераба, более всего манили к себе именно закрытые страницы сей великой книги. Именно те города и страны, которых уже не было на карте мира, более всего возбуждали его любопытство.
— Не зря же, в самом деле, я оказался здесь…
— Воистину, никто другой не был бы достоин имени Избранного как ты, мой Мераб, — теплые руки Хаят опустились на плечи юноши. — Ибо лишь тебе одному хочется увидеть то, что увидеть не может никто, тебе одному хочется почувствовать скрытое под спудом, быть может, навсегда…
— Не навсегда, моя греза, — покачал головой Мераб. — Лишь на время.
— О да, до того мига, когда в твою безумную голову придет охота это все рассмотреть, а для сего оживить.
— Именно так, моя прекрасная, именно так. А сегодня, думаю, нас ждет еще один удивительный день… Но почему я не вижу Алима?
— Потому, мой прекрасный, что и он обрел свой дом, как обрел его ты. Но, уверена, Алим готов поддержать тебя в любых, самых безумных предприятиях. Надо лишь послать ему мысленный зов.
Хаят тоже смотрела в окно. Девушка видела, как быстро затягивают черные грозовые тучи высокое небо над городом, чувствовала, как крепчает ветер, уже не колышущий, а пытающийся порвать в клочья занавески на распахнутых окнах. Вот ее щек коснулся холод… Вот в воздухе появился запах влаги…
«О Аллах, нас ждет дождь! — подумала Хаят. Резкий порыв ветра, подтвердив ее опасение, вызвал к жизни страх. Быть может, в первый раз за долгие годы. — О нет, это будет не просто дождь… Это будет ливень! Смогут ли уберечься жители города?»
Отвечая на этот безмолвный вопрос, Мераб сказал:
— Не беспокойся, моя греза. Никакому дождю, даже ливню, не под силу разрушить город моей мечты. Давай же просто насладимся тем, сколь чудесна будет эта гроза… И дождемся мига ее окончания. Быть может, тогда и Алим вернется, пусть и к вечеру.
— Я уже здесь, мой юный халиф, — сказал, входя, Алим. — Однако будет настоящий ураган. Боюсь, Мераб, что тебе придется отойти от окна, иначе ты промокнешь до нитки, несмотря на то, что над твоей головой прочная каменная крыша.
Дождь превзошел самые смелые предположения Алима. То был первый настоящий ливень в Медном городе за долгие сотни лет. Должно быть, даже природа радовалась его возрождению. На свой, разумеется, лад: гремел гром, сверкали молнии, потоки воды накрыли город, смывая напоминание о сотнях лет забвения.
Наконец буря утихла, унеслась, торжествуя, в те пределы, где еще царил песок. Должно быть, решила, что стоит побуйствовать на свободе… Ведь, быть может, через миг барханы могут обернуться парками, а иссушенные вади наполнятся водой и по ним заскользят изящные лодочки.
— А теперь, друзья мои, когда солнце вновь показало нам свой прекрасный лик, я хочу продолжить удивительную нашу прогулку.
— Ты не боишься, что на полпути нас вновь застигнет дождь? — заботливо спросила Хаят.
— Любимая, дождя не будет. Да и ночь наступит тогда, когда этого захочу я, — быть может, несколько самодовольно, но честно ответил Мераб.
«Недурно сказано, мальчик, — подумал Алим. — Как же быстро ты учишься! Осталось лишь молить Аллаха, чтобы ты остался открытым человеком, чтобы то величие, которое ты ощущаешь все сильнее, не испортило тебя, превратив в деспота».
«Я позабочусь об этом, мудрый маг, — услышал Алим голос Хаят. — Ведь я все-таки Душа Медного города, а не только влюбленная женщина».
«Да будет так…», — не мог не согласиться Алим.
— Куда же мы направимся сегодня? Какую страну желаешь ты построить в своих владениях, халиф Мераб?
— Аллах великий… Ну какой я халиф! Я самый обыкновенный человек. Разве что судьба подарила мне чуть больше способностей, чем какому-либо другому юноше.
— Пусть будет так, юный творец. Однако на мой вопрос ты не ответил.
— Думаю, мудрый маг, что сегодня нам следует устремить свой взор на восход и украсить наш город пагодами. Ибо формы их столь же прекрасны, сколь и непохожи на все известное нам доселе. Я видел их в книге великих путешественников почти забытого прошлого. И вот теперь вспомнилась мне история Шведагона — памятника усердию человеческому. И пусть хотели строители пагоды воздать дань богу, но возвеличили себя и свое великолепное умение.
Чем выше становилась пагода Шведагон — а в конце концов она достигла высоты более чем трех сотен локтей над платформой и стала высочайшей пагодой в мире, — тем больше золота шло на ее покрытие. Сотни талантов драгоценного металла каждый год возлагались на сооружение во славу Будды.
Мераб показал рукой на восход.
— И вот теперь там, как в далеком Рангуне, возвысится пагода Шведагон и весь огромный парк пагод. От сего дня и навсегда то краснеющая на закате, то ослепительно желтая днем пагода воспарит над нашим прекрасным городом, видимая отовсюду.
Повинуясь словам Мераба, восстали из небытия и раскинулись на фарсахи монастыри, жилье для паломников, парки и сады, маленькие пагоды и непременный священный пруд.
Алим в который уж раз поразился всесилию юного своего друга. Он сделал шаг, потом другой и пошел вперед. И чем ближе он подходил к тому, что раньше было пустошью, тем шире распахивалось пространство, украшенное усилиями рук человеческих так, как под силу украсить лишь Богу.
…Вот у вымощенной камнем дороги, за невысокой изгородью, ярко-зеленый прямоугольник воды. Посредине на сваях небольшая белая пагодка. Поверхность пруда настолько гладкая и спокойная, что кажется, будто он не наполнен водой, а накрыт зеленым стеклом. В одном месте к воде ведут каменные ступени. Там стоит мальчишка в клетчатой юбке-лоунджи и перед ним корзина, полная шаров из кукурузных хлопьев.
Стоит кинуть в воду кукурузный шар, пруд мгновенно преображается: вода вскипает, и обнаруживается, что пруд совсем не так спокоен, каким казался на первый взгляд. Он буквально переполнен рыбой. Пядей двух длиной, похожие на маленьких сомиков темно-зеленые, покрытые слизью усатые рыбы переплетаются на поверхности пруда сплошной массой так, что не видно воды. Дерутся за кусок кукурузы, обкусывают шар, кажется, еще несколько секунд — и от него ничего не останется. Но в этот момент большая черная масса расталкивает рыб, из воды высовывается клюв, раскрывается — и обкусанный шар исчезает. И тут же пруд успокаивается. Но вот еще несколько шаров летит в воду, и вокруг каждого вновь вскипает вода, и почти наверняка там появится, распугивая рыб, черный клюв.
— Но что же это за черный клюв? — Любопытство охватило даже невозмутимую всегда Хаят.
— Смотри, красавица!
Мераб взял шар из кукурузы и положил его у самого края пруда. Вскоре у кромки воды показался и обладатель черного клюва — большая старая черепаха, более трех локтей в длину.
— Такие пруды, где можно сделать доброе дело, покормив бессловесных созданий, есть у каждой большой пагоды.
Мераб, продолжая говорить, уже шел вперед, туда, где раскинулась площадь. Там стояли сотни повозок, которые оставили любопытствующие (а в какой стране их нет) и желающие вознести молитву, ибо дальше путь к сказочным строениям можно было проделать только пешком. Расцвечена была площадь и множеством лавочек: здесь торговали цветами — непременным атрибутом каждого молящегося. Нашлось место и для тех, кто желал бы накормить любого, ибо нет ничего лучше, чем слегка перекусить перед путешествием.
Юный творец вместе с друзьями слился с процессией, что поднималась к пагоде. Мераб сейчас молчал, дабы не мешать Хаят и Алиму удивляться тому, сколь прекрасно его новое творение.
Маг качал головой, сокрушаясь, что нельзя, как в былые годы, в мгновение ока облететь все. Сейчас же он, как самый обыкновенный человек, смотрел то вправо, то влево, то всматривался вдаль, то опускал глаза под ноги, дабы что-то разглядеть.
Вот два льва-чинте, ростом около трех десятков локтей, стерегут лестницу, ведущую к пагоде. Львы белые, только морды их и когти раскрашены. Круглые глаза смотрят вдаль. Они охраняют пагоду не от людей — их глаза высматривают кого-то покрупнее. Может, ждут, когда пожалует настоящий дракон или злой великан. Тогда-то и придет их черед сбросить с себя каменные вериги.
Между львами — портал, от него ведет вверх длинная крутая лестница, по бокам которой расположены бесконечные торговые лавки. Здесь продают и книги, и безделушки, и цветы, привязанные к бамбуковым палочкам, чтобы ровнее держались в сверкающих медных кувшинах, стоящих у статуй будд, и зонтики из фольги — тоже дары Будде, и свечи.
Вот под навесом сидит хиромант. Он раскачивается над разложенными на коврике волшебными книгами, будто распевает про себя тягучую магическую песню…
А здесь — продавец талисманов и зелий. Над ним шатром растянуты рваные шкуры леопардов. Черепа оленей и диких буйволов целятся рогами в прохожих; связки корешков и сучьев похожи на вязанки дров; бусы, косточки и темные фигурки свалены грудой, ограждающей волшебника от простых смертных.
В углу спрятался татуировщик, разложив перед собой образцы рисунков. Он строг и серьезен. Среди стариков и старух, поднимающихся по лестнице к пагоде, многие татуированы, да так обильно, что за рисунками не видно тела ни на руках, ни на ногах — человек будто надел синюю расписную кружевную ткань.
Лестница вывела путников на площадку, залитую солнцем. По другую сторону площадки — навес, под которым мерцают позолоченные статуи. Почти закрывая небо, поднялся необъятный склон пагоды.
Мераб давно уже молчал, молчала и Хаят. О да, она не ошиблась — Избранный был воистину неутомим. И дело не в силе молодого мужчины, а в том, что молод и силен его разум, не только тело. Ему открыт весь мир, он творит, не останавливаясь, зачастую даже не осознавая, что делает.
Алим не думал сейчас ни о чем. Он просто смотрел вокруг, наслаждался виденным и все запоминал, дабы вечером рассказать своей Камиле и уговорить ее покинуть на время уютный дворик с ручейком и печью, чтобы прогуляться сюда, к творению халифа Медного города, которое от сего мига существует не только где-то там, в далеком восходном царстве, а и здесь, в какой-то тысяче шагов от дома.
Пагоду окружала четырехугольная платформа, вымощенная мраморными плитами и густо застроенная навесами, святилищами, маленькими храмами так, что вокруг нее осталась лишь дорожка, шириной не более тридцати локтей. То тропа для паломников. Одни сидят на плитах, размышляя о жизни, другие молятся, держа в руках цветы или свечи; некоторые укрылись в тени, дабы отдохнуть и перекусить. Шлепанье многочисленных босых ног по мраморным плитам, переливы негромких голосов, звон колокола вдали, шуршание бумажных цветов и зонтиков создавали для пагоды торжественный и необычный фон. Необычность и торжественность эта подчеркивалась обилием, многообразием и густотой красок, из которых создан этот мир, зеленью пальм, чьи высокие кроны подобрались почти вплотную к платформе и теперь заглядывали через барьер из немногочисленных деревьев, допущенных на саму платформу. Белизна и золото пагод, ало и сине выступающие крыши, всплески цветов, статуи, столбы, на которых стоят каменные фигуры охранителей пагод с мечами в руках… И над всем этим — великолепное сияние ушедшего в самое небо Шведагона…
— Аллах великий, должен же быть край силам человеческим! — прошептал Алим.
— Нет, маг, не должно быть никаких границ ни силам, ни воображению, ибо границы сковывают и угнетают. Пусть же воображение превратит наш город в бесконечный калейдоскоп всех чудес, возможных и невозможных, существовавших некогда и тех, которым еще лишь суждено сбыться. — Это ответила мудрая Хаят.
— О, повелительница, — ответил Алим, — ты стократно права. А я неправ, ибо усомнился. Хотя с детства знаю, что сомнение становится первой преградой на пути любого разума и усомнившиеся не в силах создать новое, а лишь повторяют то, что когда-то и где-то уже существовало. Как творцы они мертвы.
— Воистину это так. Однако, думаю, нам следует поспешить, чтобы не отстать от Мераба. Давайте вместе с ним обойдем пагоду. Надеюсь, это будет не тяжело и не очень долго.
— Смотрите, мои добрые друзья. Вот прямо перед нами похожий на елку навес — тазундаун под восемью уменьшающимися крышами. Тазундаун прижался спиной к самой пагоде, и золотые будды внимательно глядят своими прищуренными глазами на входящих. Статуи полускрыты за кувшинами цветов и разноцветными зонтиками. Таких тазундаунов на платформе десятки.
Вот небольшая пагода. В восьми ее нишах — статуи сидящего Будды, над каждой — скульптура зверя или птицы, и каждая изображает планету, а также день недели. За пагодой восьми планет стоит на подставке колокол Махаганта — ему суждено родиться на свет лишь через три сотни лет и весить он будет целые тысячи талантов. Если подойти к колоколу и ударить в него три раза, исполнится заветное желание.
Алим шагнул вперед и уже даже поднял руку… Но так и застыл, спросив сам у себя, зачем ему сейчас просить исполнения желаний. Ибо его желания, самые заветные, уже исполнены без всяких ударов в колокол.
— Должно быть, пришла пора новых желаний, — заметил Алим.
— Должно быть, так… — согласно кивнула Хаят. Она смеющимися глазами смотрела на Мераба.
Так смотрит мать на проделки своего любимого сына — снисходительно, но и с восхищением, сумев разглядеть в шалости не только желание задеть ближнего, но и умение в будущем одарить его чем-то важным и нужным.
Предмет ее размышлений, Мераб, стоял у самого края платформы и смотрел туда, где на площадке, ограниченной с двух сторон пагодами, а с двух других — парапетом, было священное дерево бо. Чуть в глубине, под следующим тазундауном была статуя Будды с глазами разной величины. Юноша вспомнил строки старой летописи: в ней говорилось, что эта статуя поставлена в честь великого ученого паганских времен Шина Итцагона, умевшего превращать свинец в золото.
— Ну что ж, мои прекрасные друзья, думаю, нам пора уходить. Должно быть, сюда мы еще вернемся в большой праздник, когда платформа будет заполнена народом и здесь будут петь и танцевать. Быть может, удастся побывать здесь и как-нибудь вечером, в тот таинственный и полный очарования час, когда солнце уже село, а короткие сумерки залили все теплой синевой, в которой золотыми звездочками мерцают сотни свечей у пагоды и на платформе. И тогда мы увидим подлинное чудо: отражая вершиной последние лучи солнца, пагода языком пламени устремляется в синее небо…
Свиток тридцать первый
Обратная дорога промелькнула для Мераба словно миг: он любовался своим городом, своим миром и думал о том, что еще предстоит сделать. Хаят же каждый шаг давался все тяжелее: она была и душой великого города, и вдохновительницей героев и… обыкновенной женщиной. И вот теперь ее, как самую обыкновенную девчонку, захлестывали волны самой настоящей ревности. Тем более странной, что ревновала Хаят Мераба не к другой красавице, что было бы вполне естественно для женщины, а к… самому Медному городу.
«Неужели, — думала она, — ему, моему избраннику, эти каменные стены и статуи, базары и цирки становятся дороже меня? Неужели я избрала не того? Может, я избрала создателя города, который, созидая, уничтожит Душу города?»
Увы, читать мысли Мераб не умел, иначе он смог бы переубедить любимую. Но юноша размышлял совсем о другом, и потому обида Хаят изумила его.
— Но почему, моя прекрасная? Почему ты столь сердита на меня?!
И Хаят не выдержала: слезы брызнули у нее из глаз и она сквозь рыдания выплеснула самую горькую из своих обид. Увы, сколь бы мудра ни была Душа города, сейчас она чувствовала себя обыкновенной молодой женщиной и потому совершала все ошибки, присущие молодости.
Мераб же онемел от слов любимой: как же она могла такое предположить?! Разве не для нее он творит этот мир? Разве не ее, свою любовь и единственную мечту, прославляет в каждом творении?!
Но отвечать упреком на упрек не стал, должно быть, его мудрости уже хватало на то, чтобы не спорить с женщиной, когда она не совсем права. Он просто обнял Хаят и прижал к своему сердцу. И задохнулся от совершенно нового, потрясшего его ощущения: это его часть, часть его мира, часть его души… Не просто любимая — единственная, столь же избранная им, сколь он избран для нее.
Желание защитить ее, утешить быстро переросло в совсем иное желание — слиться с ней, соединиться и тем доказать, что нет на свете женщины, более желанной, чем она, сейчас сторонящаяся его и пытающаяся понять, чего ей ждать в следующий миг.
Мераб постарался взять себя в руки, не торопиться, сдержаться. Он боялся своим порывом испугать Хаят. Но желание неумолимо сжимало свои тиски, кровь превратилась в жидкое пламя…
Мераб стиснул Хаят в объятиях. Ему хотелось стереть эти блестящие соленые ручейки, хотелось укрыть ее от всех бед, защитить. Хотелось согреть своими губами, всем телом. Что-то неразборчиво пробормотав, он властно впился в ее губы поцелуем.
Искра проскочила между ними, мгновенно воспламенившая их обоих, как воспламеняется бочонок с порохом. Облегчение, ярость, желание — все вложил Мераб в этот поцелуй. Сколько бессонных ночей он провел без нее! И вот теперь подавляемые страсть и вожделение вырвались наконец наружу.
Он почувствовал, что Хаят попыталась высвободиться, едва их губы соприкоснулись, и это робкое ее движение вызвало в нем свирепую потребность подчинять и властвовать. В ответ он лишь крепче стиснул ее руками и забыл обо всем, пока не услышал тихий умоляющий стон, пробившийся сквозь слепой туман горящей страсти, стон, вонзившийся иглой в его сердце.
Мераб поднял голову и глубоко вздохнул, пытаясь победить предательский жар, сжигавший тело. Лучше ему умереть, чем видеть, как она плачет!
— Не плачь, — сдавленно пробормотал он. — Не нужно, Хаят. Теперь мы вместе, мы всегда будем вместе, и потому нам дано преодолеть все.
Что-то болезненно сжалось в его груди, то, чему не было названия, но что заставило его ласково коснуться ее мокрой щеки. Хаят поспешно отвернула голову.
Жалость и необыкновенная, всепоглощающая нежность переполнили его сердце. Он снова притянул ее к себе, на этот раз осторожно, стремясь исцелить своей любовью. Хаят бессильно прислонилось к нему и тихо всхлипнула, уткнувшись в плечо.
Последние преграды, которые и так существовали лишь в воображении девушки, рушились на глазах. Она была такой мягкой и трепещущей; ее слезы насквозь промочили его платье и, кажется, проникли в душу. Он не хотел, нет, он просто не мог отпустить ее. И осознал, что ничего не жаждет сильнее, чем держать ее в объятиях, прикасаться к ней, защищать, оберегать, упиваясь ее близостью.
— Звезда моей жизни, счастье и радость моей души, — прошептал он, и, услышав незнакомые нотки в хриплом голосе Мераба, Хаят сдержала рыдание. Руки, гладившие ее по спине, скользящие по изгибу бедер, вселили странное спокойствие… Она поняла причину внезапных перемен в Мерабе, и почувствовала, что нуждается в утешении. Окончательное исцеление пришло вместе с невероятной душевной болью.
Чуть отодвинувшись, она заглянула в глаза юноши, и слезы мгновенно высохли при виде нежности и участия в них. Мераб взял в ладони ее мокрое лицо, чуть коснулся губами губ, нагнувшись, поднял ее на руки и молча положил на ложе.
Наблюдая за дрожащей Хаят, Мераб неожиданно заколебался. Его плоть требовала удовлетворения, желание, настойчивое и острое, пронизывало тело, но при виде этой беззащитной и в то же время гордой женщины он невольно замер. Она обхватила себя руками, словно пытаясь отгородиться от него, спрятаться от его чувств, хотя только что жаждала их более всего в мире. Она пыталась отгородиться своей обидой от понимания того, что он, даря себя городу, также дарит себя и ей.
Мераб понял, что сама она сейчас не сделает к нему ни шагу. Он же горел желанием помочь, поддержать и… другим желанием, куда более низменным. Выбор оставался за Хаят.
(Как странно, что именно те, кто самой судьбой предназначены друг для друга, весьма часто сомневаются в этом, каждый день проверяя на прочность нить, что связывает их души. А те, кто менее всего создан для совместной жизни, попросту не задумываются об этом и не пытаются порвать с нелюбимым, убежать, скрыться. Они просто каждый день своей жизни посвящают тому, что отравляют радость и само существование своему врагу, которого утром находят на своем ложе.)
— Хочешь, чтобы я покинул тебя? — едва слышно вымолвил он.
Повисла напряженная тишина.
— Нет, — шепнула Хаят.
Вопрос в глубине его глаз завораживал. Мераб погладил девушку по щеке. Он больше не может стоять рядом и не касаться ее, больше не может ждать. Он хотел ее, хотел насладиться ее объятиями, погрузиться в ее влажную тугую плоть, упиваясь головокружительным ароматом ее тела…
Мераб осторожно вытащил из ее волос ленты, которые берегли кудри от ветерка, и, зарывшись пальцами в густые пряди, прильнул к ее губам. Странно, что простой поцелуй имеет силу пробудить в человеке неутолимую жажду, почти волчий голод…
Ее дрожь отзывалась эхом в его теле, пробегая по коже мелкими волнами озноба. И это ненадолго вернуло Мераба к реальности.
— Ты дрожишь, моя греза… — пробормотал он.
С невероятной нежностью Мераб встал на колени перед ложем. Тем самым, где еще вчера они дарили друг другу себя, не ощущая ни ревности, ни страха, ни боли. Ступни и пальцы Хаят и впрямь были ледяными. Он осторожно начал их растирать. Хаят едва слышно застонала. Немного согрев ее, Мераб осторожно совлек с нее пеплос, а потом, стараясь не запутаться в полупрозрачных шелках, и нижний, почти невесомый ионийский хитон. Кожа Хаят блестела, как слоновая кость, тугие перси просились в его ладони, горошины сосков сморщились и затвердели.
Неистовая потребность в этой женщине снова вонзилась в него хищными острыми когтями. Только Хаят — воистину, она, в первую очередь, его душа — способна заставить его жить дальше. Только ее вкусом он хочет упиваться; только ее обольстительная красота снится ему по ночам. Как он хотел видеть ее неистово бьющейся, придавленной его телом!
— Расслабься, моя звезда, — хрипло проговорил он, помогая ей устроиться удобнее.
Хаят безучастно наблюдала за ним, зная, что сейчас произойдет неизбежное. Мераб снова причинит ей боль. Не физическую, разумеется. Он никогда не был груб с ней. Но он вновь ранит ее душу. Ранит своим желанием только ее тела и пренебрежением к ее духу. Ранит тем, что сейчас горит страстью, а в следующий миг забудет, занявшись какой-то глупой игрушкой из тех, что так любят выросшие мальчишки.
Она вся сжалась, когда он опустился рядом, хотя не могла оторвать глаз от обнаженной фигуры юноши. Мускулистый и высокий, он двигался легко и неслышно. Под его кожей перекатывались мышцы. Из поросли волос внизу живота поднималось его налившееся силой мужское естество, и Хаят судорожно перевела дух.
— Хаят… — нерешительно выдохнул Мераб.
В его голосе страсть, безумное желание… Стремление любить и дарить любовь. Хватит ли у нее сил отказать ему? Победить себя?
Но зачем? Ведь ей так отчаянно нужны его губы, руки, сильное тело — без них она просто не сможет жить. Эти мысли, должно быть, так ясно отражались в озерах ее выразительных глаз, что Мераб все понял без слов и, скользнув на прохладные шелка, прижался к ней всем телом.
— Я хочу любить тебя, — пробормотал он, зарываясь лицом в копну ее распустившихся волос.
Его рот припал к ее шее, как к священному источнику, и Хаят конвульсивно выгнулась: острые напряженные соски уперлись в его грудь. Ее стыдливость исчезала при одном его прикосновении, только вырвался тихий гортанный звук. Но тут Мераб чуть нагнул голову и обвел языком темно-розовую кожу вокруг соска. Когда он сомкнул губы на крошечном бугорке и вобрал его в рот, Хаят что-то несвязно пробормотала.
О боги мира, что он с ней делает?! Почему сердце замирает в груди, стоит ему лишь приблизиться к ней?
Чувствительность ее тела обострилась настолько, что она уже не была способна ни о чем думать. Все мысли разом куда-то улетучились.
Но Мераб, похоже, держал себя в руках. Его чувственная атака была неспешной и хорошо продуманной. Он бесконечно долго ласкал ее, поглаживая спину, живот, плечи, пока наконец его рука не оказалась у нее между бедер. Розовые складки плоти сами раскрылись под легкими касаниями его нежных рук.
Сладостная пытка длилась, казалось, целую вечность. Голова Хаят лихорадочно металась по подушке. Его пальцы оказались способны разжечь в ней опасный, всепожирающий огонь, заставить умирать от наслаждения. Он творил настоящую магию своими руками и губами, и она словно растекалась, таяла, плавилась…
Еще несколько тревожных ударов сердца — и Мераб приподнялся над ней. Его возбужденная плоть трепетала у ее лона.
— Взгляни на меня, моя звезда. Прочти мою душу, что всегда будет лишь твоей…
Она распахнула глаза, и в этот же миг неумолимое копье пронзило ее едва ли не насквозь.
Хаят громко охнула от неожиданности. Но Мераб проникал все глубже, казалось, не в силах насытиться. Да, она жаждала сокровенных ласк, жаждала принять его в себя, вобрать и поглотить. Откуда-то издалека до нее доносился его шепот, чувственные, откровенно бесстыдные слова: он не уставал повторять, как это чудесно — заполнить ее собой, владеть безраздельно…
И Хаят, словно обезумев, отдалась этому бурному потоку. Мераб начал двигаться. С каждым толчком он как бы утверждал свою власть над ней. Хаят стонала, впивалась ногтями в его плечи, сдирая кожу…
Та же сладкая мука терзала и Мераба, забирая его в плен беспощадного желания. Напряжение росло и становилось почти невыносимым, пока волна наслаждения не накрыла их обоих головокружительным потоком. Хаят пронзительно вскрикнула. Ее лоно сомкнулось вокруг его трепещущей плоти, он прижал ее лицо к своему влажному от пота плечу, заглушив крик страсти. Каждая легкая судорога Хаят отзывалась в теле Мераба блаженством.
Наконец он ворвался в нее в последний раз, и огненные струи разлились по нему бешеным, неистовым, яростным наслаждением. Задыхаясь, почти теряя сознание, он словно взорвался, извергая хмельной напиток своей любви.
Когда все кончилось, Мераб долго прижимал к себе Хаят, овевая своим разгоряченным дыханием ее тело. Он был потрясен столь сильным чувством обладания, переполнившим его, и, не чувствуя пресыщения, ощущал потребность снова и снова брать ее.
Он поднял голову. Хаят лежала, обессиленная. Ее глаза потемнели от пережитой страсти. Роскошные волосы обрамляли побледневшее прекрасное лицо.
Он сейчас раздавит ее! Мераб пошевелился, пытаясь откатиться в сторону.
— Не оставляй меня, — умоляюще прошептала она, удерживая его за плечи.
— О нет, звезда моя! Я не оставлю тебя никогда! — прошептал Мераб.
Как же ему было хорошо с ней! Если бы эти мгновения длились вечно… Мераб глубоко дышал, наслаждаясь сладостным благоуханием ее кожи, прижимаясь губами к шелку волос. Он даже прикрыл глаза, перебирая в памяти моменты опьяняющего блаженства. Она, только она одна, душа города, душа мира, могла быть его душой! И никаким глупым девичьим страхам не пересилить этого ощущения, как соломинке не сломить каменной колонны!
— Я не оставлю тебя никогда, — вновь повторил Мераб. — И да не будет в целом мире мужчины счастливее меня!
Свиток тридцать второй
Утро после бури, как известно, кажется во сто крат прекраснее обычного рассвета. Даже если эта буря пронеслась лишь в душах… Но утро после нее, утро торжества любви оказалось настолько же лучше вчерашнего утра, насколько свежеиспеченный ломоть хлеба лучше его даже самого красивого изображения.
Утро давно вступило в свои права. Более того, оно вот-вот обещало превратиться в полдень. И только к этому мгновению в парадной приемной дворца Мераба (воистину, опять-таки появившейся самым таинственным образом) зазвучали тяжелые шаги Алима-мага.
— Все же маг наш прихрамывает, — заметил Мераб.
— Увы, друг мой, — ответила Хаят, — я опасаюсь, что ты придумал ему не самое молодое тело. А с возрастом даже самые сильные юноши обретают другую походку и, увы, вместе с ней иногда и хромоту.
— Ну что ж, звезда моя, пора нам присоединиться к нашему другу, — кивнул ей Мераб и вошел в ту же разряженную приемную вслед за своим другом.
— Да воссияет над тобой, о халиф, во всякий день твоей жизни благодать Аллаха, всесильного и всемилостивого! — Алим поклонился Мерабу. Наметанный взгляд юноши уловил в этом поклоне добрую порцию иронии.
— И да согреет он тебя лучами возвышенной благодати! — ответил Мераб поклоном на поклон.
— Итак, о создатель миров и строитель Вселенной, куда же мы сегодня направимся? И какой поистине необжитой уголок твоего безграничного царства сделаем сегодня обжитым и восставшим из небытия?
— Друг мой, зачем такие пышные выражения?
— Ну-у, юный мой халиф, их придумал не я. Просто я сегодня шел к тебе через базар и там услышал все эти громкие эпитеты: глашатаи объявляли народу твою волю.
— Аллах великий, какую мою волю? И что кричали глашатаи?
— Они приглашали на дворцовую площадь всех желающих насладиться удивительной красоты фейерверком в тот час, когда солнце покинет нас и небосвод воссияет тысячами светил.
— Хорошо, что так…
— О да, — усмехнулась и Хаят. — Куда хуже было бы, если бы они приглашали народ насладиться веселым зрелищем казни…
— Звезда моя, какой казни? Разве в нашем городе, да хранит его Аллах всесильный и всевидящий, принято так обращаться с его жителями?
— Прости, мой друг, я просто неловко пошутила…
— Более чем неловко, — сухо заметил Мераб.
Юный халиф (о да, Мераб уже ощущал себя именно правителем, пусть и совсем еще молодым) подошел к окну. На площади перед дворцом действительно было непривычно многолюдно. Однако в этой суете чувствовалось предвкушение радостного события. И потому Мераб немного оттаял.
— Я подумал, добрые мои друзья, что в нашем прекрасном городе найдется место для истории всех миров и народов. А потому стоит, вспомнив великую Индию — страну тысячи княжеств, вспомнить и не менее великий Египет — черные земли Кемет, страну тысячи правителей…
— Мальчик, ты будешь сооружать гробницу каждому из них?! Или в городе появится столько же храмов, сколько правителей видела та черная земля?
— О нет, мой друг, я ничего такого делать не буду. Я вспомню историю лишь одного города, который как губка впитал историю великого Египта за все тысячи лет. Те тысячи лет, что стояли на берегу великого Нила столицы всех его правителей, всесильных и бессильных фараонов. Я вспомню лишь историю Фив с удивительным храмом храмов — огромным Карнак-Луксором.
— Воистину, город этот достоин того, чтобы украсить собой наши необъятные земли… Еще в те годы, когда я был юн и учился магии, слышал я от учителей своих учителей похвальные слова, что произносили они о магии жрецов этого храма, об их удивительной силе и умении, способных обмануть само непобедимое Время…
— Это и в самом деле так. Хотя маги, конечно, не смогли время обмануть, но тешили себя мыслью, что сие им почти удалось.
— Победить время не дано никому, — печально заметила Хаят.
— Однако некоторым, конечно, не людям, удается его обмануть, — ответил ей Алим.
Они улыбнулись друг другу: ведь им-то удалось…
— Итак, мои хитрые друзья, перенесемся же мысленно на берега Нила, в земли Верхнего Египта. Оттуда уже недалеко и до первых его порогов, до нубийских земель. Две тысячи лет назад великие Фивы стали очередной столицей фараонов. Земли на полудне были уже покорены, правила Верхним и Нижним Египтом уже восемнадцатая династия.
Это, пожалуй, самые известные времена в жизни древней земли Кемет, да простят меня всеведущие мудрецы и маги. Это самые известные времена для любого, кто хоть раз погружался в исторические жизнеописания. Ибо эту династию прославили Тутмос III и его гордая соправительница Хатшепсут — женщина-фараон, Аменхотеп IV — бунтарь, известный под именем Эхнатона, его прекрасная жена Нефертити, юный Тутанхамон, покорный жрецам Амона…
Фивы, известные в те давние времена как Уасет, зовутся сегодня Аль-Кусур или Луксор. Это красивое название не имеет отношения к Египту. Когда-то римляне, дойдя до этих мест, дали поставленному здесь укрепленному лагерю название «кастра». Отсюда и арабское Аль-Кусур или Луксор, как называли это место правоверные странники, пришедшие на черную землю Кемет пять сотен лет назад.
Затерянные в песках близлежащей пустыни храмы и здания Фив были почти забыты, лишь феллахи соседних деревень почитали эти удивительные строения, как они считали, созданные джиннами и засыпанные потом песком, дабы люди не увидели, сколь бессильны они рядом с духами огня.
Так бы и стояли заброшенными храмы и дворцы, если бы всего сотню лет назад не отправил наместник Александрии экспедицию вдоль всего великого Нила — отца всех народов этой древней земли. Странники поднимались вверх по реке на парусных судах и, подойдя к первым порогам, увидели полузасыпанные песками величественные колонны. То была колоннада Луксорского храма — южного дома бога Амона. Нанеся удивительное древнее творение на карту, путешественники собирались отправиться дальше. Но тут в свете заходящего солнца разглядели они самый большой и загадочный храм некогда великих Фив, расположенный рядом с деревушкой Карнак.
Тысячами загадок обогатила наши знания великая черная земля, земля магии и химии, истории и великой астрологии… В значительной степени все эти науки развивали жрецы. Однако более преуспели именно жрецы храмов Карнака. К сонму великих знаний они добавили и зодчество, ибо здесь были придуманы те самые лотосовые капители колонн, именно здесь подняли в воздух и поставили на нужное место огромные плиты, из которых сложены храмы. Именно те, кто создал Карнак, пошли против традиции, создав храм, подобный театру, и запутав его так, что напоминал он более лабиринт.
Должно быть, не отыщешь в мире более сложного сооружения с множеством коридоров, тесных ниш и камер, колонн, статуй богинь, галерей сфинксов. Поражают воображение спокойный блеск священных озер и руины блоков с рельефными рисунками. Здесь можно заблудиться, как в узких улочках ромейского города.
— И такой город-лабиринт ты мечтаешь установить?
— Думаю, что он украсит наш Медный город и заставит задуматься…
Мераб отвечал рассеянно. И Алиму вдруг стало ясно, что его юный друг-освободитель исчезает, а на смену ему приходит правитель, мудрый и, похоже, лишь снисходящий до объяснения своих деяний.
«Ну что ж, сего и следовало ожидать, — подумал маг. — Да, наши знания останутся ему нужны, но перестанут быть необходимы, ибо юный халиф сможет и сам решить сотни задач, которые ему поставит жизнь».
— Не обижайтесь на меня, добрые друзья. Иногда мои мысли столь заметно обгоняют слова, что приходится останавливаться только для того, чтобы понять, что уже сказано, а о чем только предстоит сказать.
— Нам невместно обижаться на создателя города, на Избранного, — за двоих ответила Хаят.
— Однако мне неуютно, оттого что вы перестаете быть моими друзьями, превращаясь в почитателей или смиренных сограждан. Слушайте же, что было дальше…
Загадка этого древнего храма разрешилась весьма просто: оказалось, что храм Амона в Карнаке подобен луковице. Он, центральное святилище главного бога страны, строился, достраивался и дополнялся в течение двух тысячелетий сотнями фараонов и правителей, каждый из которых почитал своим долгом оставить след — статую, пристройку, барельеф, но обязательно оставить. Великие же фараоны не ограничивались колонной или статуей, они словно соперничали с предшественниками, и соперничество это растянулось на столетия. Похоже, каждый из них стремился лучше прочих угодить Амону.
Летописцы считают, что время создания основания карнакского храма относится ко времени правления одиннадцатой династии. Именно тогда Фивы превратились из незначительного поселения в крупный процветающий город в среднем течении Нила — здесь пересекались пути из Нубии и Пунта, с Красного моря и больших оазисов западной пустыни. К началу правления двенадцатой династии культ Амона уже главенствовал в Фивах. К этому времени относится и сооружение первых огромных его строений.
— И вновь я перебиваю тебя, юный халиф, — заговорил Алим. — Откуда, во имя всех богов, знаешь ты все это?! Я могу поклясться, что для обретения подобных знаний тебе бы понадобились годы и годы. Ты же столь юн…
— Я напомню тебе, зримый маг, тот миг, когда услышал первый зов своей прекрасной Хаят.
— Я помню это.
— А помнишь ли ты старика Ждущего, того самого, что завидовал мне, пусть и белой завистью?
— Помню, как же не помнить сей пляшущий скелет.
— Именно он, твой «пляшущий скелет», и подарил мне все эти поистине гигантские знания — просто сделал так, чтобы я узнал все то, что знает он. Я даже представляю, как именно он это сделал, хотя вряд ли найду в каком-нибудь из языков мира слова для описания этой магической манипуляции. Быть может, когда-нибудь позже…
Алим кивнул: о да! знаний Ждущего хватило бы на сотню нормальных мудрецов. Теперь понятно, почему мысли юного халифа бегут быстрее его речей.
«Однако, во имя Аллаха всесильного, почему мне, некогда знатоку всего на свете, приходится все чаще задавать вопросы, как самому обыкновенному человеку?»
«Потому, мой друг, что разум твой некогда был направлен лишь на обретение знаний. А теперь он, как и разум любого человека, занят одновременно многими мыслями, начиная с того, хочется ли тебе сейчас ужинать, и заканчивая тем, почему так жмет именно левый башмак».
Безмолвные пояснения Хаят дышали заботой, однако Алим в глубине души ощутил, что лишь забота Камили доставляет ему удовольствие.
«Благодарю тебя, повелительница».
«Не благодари меня, маг».
Мераб, конечно, не слышал этого разговора. Он по-прежнему стоял у окна и смотрел теперь уже на полуночь, где из песков и небытия поднимались к нему храмы и пилоны великой некогда страны.
— Похоже, главный храм Амона начался со святилища, сооруженного фараоном Сенусертом Первым. Кроме того, он возвел и небольшой храм, который разумно было бы назвать «молельней» или «часовней». Фараоны, следует заметить, были настоящими сатрапами, отдавая все до последнего фельса из своей казны на сооружение всего двух усыпальниц для себя и нового храма для бога Амона. Они без особого уважения относились к труду своих предшественников, ради собственной славы всегда готовы были разорить храм, который теми был возведен. Даже если против этого, зачастую почти неведомого им предшественника, они ничего не имели. Но когда к делу примешивались личные обиды или вражда… О, одна такая драма более чем отчетливо видна в Карнаке.
Изгнав из страны гиксосов, фараоны восемнадцатой династии вновь объединили Верхние и Нижние Земли, пройдя целой волной завоевательных войн далеко за пределы Нильской долины. Египет стал богатым и могущественным, и это сразу отразилось на строительстве храма Амона, воистину столь же бесконечном, как и сама история воцарения всех египетских династий.
Аменхотеп I строит алебастровый храм; Тутмос I сооружает три великолепных пилона, ведущие к храму, и гипостильный колонный зал; царица Хатшепсут возводит зал из кварцитовых блоков для ритуальной ладьи Амона и ряд других строений, а также четыре высоких обелиска.
— Почему-то мне это напоминает одаривание невесты. В моей деревне некогда был такой обычай: тот, кто одарит девушку наиболее щедро, и станет ее мужем.
— Совсем недурной обычай, — остановив свой рассказ, заметил Мераб. — И, главное, что дары-то в этом случае не покинут семью, а лишь послужат ее славе и богатству.
— Похоже, мой ученый друг, что твои фараоны были не умнее деревенских женихов.
— Не знаю, мой маг, не знаю. Сего знания нет в моем разуме.
— Тогда продолжай свой рассказ. Должно быть, звонкие имена правителей земли Кемет не звучали долгие тысячи лет, ибо они мне напоминают одновременно и страшные заклинания, и музыку варваров.
— Быть может, друг мой, ты и прав…
Свиток тридцать третий
И Мераб продолжил свой рассказ:
— Вернемся же к храму Амона и его фараонам-строителям. Наследник Хатшепсут и ее соправитель Тутмос III в первую очередь решил, что следует стереть с лица земли все, что связано с именем его тетки. У Тутмоса были основания ее ненавидеть. После смерти великий фараон Тутмос I оставил царство сыну знатной наложницы Тутмосу II, и тот, дабы упрочить свои права на престол, тут же женился на своей сводной сестре, молодой и прекрасной принцессе Хатшепсут — дочери главной жены своего отца. Восемнадцать лет брат и сестра правили Египтом, а когда Тутмос II умер, престол должен был перейти к его сыну, десятилетнему Тутмосу III, происхождение которого оставляло желать лучшего: его матерью была простая наложница.
В первые два года правления юного Тутмоса ничего не менялось; страной управляла от имени племянника Хатшепсут. Но затем царице надоело оставаться лишь соправительницей и она совершила настоящий бескровный переворот: женщина объявила себя фараоном. Царицу поддержали могущественные вельможи, опасавшиеся, что с молодым фараоном к управлению страной придут жадные до власти и уставшие ждать своего часа стяжатели. Почти двадцать лет Тутмос ничего не мог поделать со своей теткой. Жизнь проходила, а энергичная царица оказалась на редкость живучей и никак не желала отдавать племяннику трон. Только тридцатилетним, весьма зрелым по тем временам человеком, Тутмосу удалось избавиться от тетки, которая умерла, а может, была умерщвлена. Все последующие годы своего правления Тутмос III выискивал по царству барельефы, статуи, надписи, созданные по приказу Хатшепсут, и разрушал их, чтобы стереть с лица земли даже память о ней.
В Карнаке Тутмос решил разделаться с громадными обелисками Хатшепсут, каждый из которых превышал в высоту тридцать локтей. Казалось бы, самым простым было разрушить их и заменить своими. Но, возможно из-за противодействия могущественных жрецов Амона, Тутмос не решился на такое, а поступил на редкость неразумно, чтобы не сказать «по-дурацки»: он приказал возвести стены и замуровать в них обелиски, чтобы никто больше тех не видел.
Для этого следовало построить соответствующие по высоте стены. Стена поднялась на шестьдесят локтей, и… почему-то на этом сооружение тюрьмы для обелисков было прекращено. По сей день они, словно жирафьи головы, возвышаются над своей тюремной стеной.
Зато с барельефами и надписями Хатшепсут Тутмос расправился беспощадно. Лица царицы сбивались долотом, картуши с ее именем стесывались, образуя глубокие рубцы-ямы. Правда, не везде получилось как задумывалось: должно быть, исполнители во все времена могут быть одинаково нерадивы, ибо все следы царствования Хатшепсут Тутмосу уничтожить не удалось.
— Да-а, более чем неумно… Все равно что факелом гасить пожар.
— Примерно так, о мудрец. Я вижу, друзья, что вы уже подустали от моих бесконечных лекций. Но должен же я кому-то объяснить смысл своих деяний.
— Должно быть, мальчик, для того, чтобы увериться в их правильности самому.
— Может, ты и прав, мой видимый друг…
Юноша еще заканчивал фразу, думая о том, что сказать дальше, когда его взор наконец-то обратился на Хаят. И выражение самого дорогого для Мераба лица показалось ему более чем пугающим. О нет, Хаят не злилась, не кусала губы, не рвала в клочья носовой платок. Напротив, лицо ее было каменно-спокойным. И сейчас, более чем обычно, напоминало юному халифу лик прекрасной мраморной статуи.
«Сегодня же… Сегодня же вечером я скажу ей все. Нет, сразу после полудня…»
Так и не решив, когда же начать с любимой серьезный разговор, Мераб мысленно вернулся к Карнаку, тому, каким он высился среди песков Египта.
— Расправившись с памятью о тетке, глупый фараон-мститель приступил к сооружению собственных зданий храма. Были поставлены два обелиска и несколько статуй, построен роскошный зал для «хебседа» — царского юбилея, перестроено большинство уже стоявших сооружений, выбиты барельефы, повествующие о военных подвигах Тутмоса, и сооружен зал, заслуженно названный «застывшим садом», ибо на его стенах изображены растения и животные Верхней и Нижней Земель.
«Нет, решено: я не буду ждать ни полудня, ни полуночи. Лишь только закончу рассказ, лишь только увижу свой Карнак в далекой дымке, сразу и скажу. Воистину, женщины вдохновляют нас на подвиги и потом более чем часто обижаются, что мы оставляем их, дабы эти подвиги совершать».
— Два последующих фараона этой династии не внесли особых изменений в храмовый комплекс, зато Аменхотеп III взялся за его перестройку с утроен ной силой. Он соорудил новый храм, окружив его полумесяцем священного озера, в котором поставил шесть сотен каменных львиц — изваяний богини Сахмет, причем каждая статуя была более шести локтей высотой. У священного озера Аменхотеп установил внушительную монолитную статую священного жука-скарабея и воздвиг центральную колоннаду, увенчанную капителями в виде раскрытых цветков лотоса. Толстые колонны были так велики, что на капители каждой из них могут разместиться сто человек, а высота каждой из колонн превышает четыре десятка локтей.
— Аменхотеп III не ограничился работами в храме Амона. Прекрасен, о нет, поистине величественен и его собственный заупокойный храм, сооруженный на другом берегу Нила, у стен которого несут вечную вахту две громадные статуи фараона, чаще называемые колоссами Мемнона — бога бессердечного времени.
— Аллах великий, мальчик, но почему они строили храмы? Почему не строили дома для себя? Почему строили дома лишь для богов?
— Полагаю, оживший маг, что мудрые фараоны так добывали себе средства к существованию. О нет, они верили, что боги существуют… Однако вера им не помешала понять, что храм — это преотличное место, чтобы выманивать денежки и у богатеев, и у бедняков. Что-то, конечно, достанется и Амону, да и жрецы получат не один медный грош, но куда больше получит фараон.
Все храмы строили по одному шаблону.
Храм начинался от Нила. Там сооружался мол, к которому могли приставать ладьи, перевозившие в праздники статую божества. От воды к храму вела аллея сфинксов, которая завершалась у высоких торжественных пилонов, украшенных барельефами и надписями. Перед пилонами обычно стояли колоссы фараонов. Пройдя под пилоном, паломник оказывался в обширном дворе, окруженном колоннами с трех сторон. Далее путь молящегося пролегал в гипостильный зал с двумя рядами главных колонн, образующих неф, и несколькими рядами колонн по бокам. Затем следует зал для ритуальной ладьи Амона и зал для статуи божества. Кроме того, в задней части храма расположено было множество других помещений: сокровищницы, кладовые, архив… Вокруг каждого храма непременно разбивали парк и украшали его священным озером.
«Недурно… Мудро… Дабы запугать человечка, показать его ничтожность и слабость».
О нет, Алим делал свои умозаключения не потому, что верил словам Мераба. Он просто разглядел вдалеке и появившийся храм, и аллею, что вела к реке, и лес колонн. Его воображение, конечно, не могло соперничать с воображением халифа Мераба, однако и он, Алим, отчетливо видел всю картину в целом.
Когда торжественное шествие поднималось между рядами строгих сфинксов к пилонам, те вырастали, казалось, до неба и подготавливали к встрече с таинством. Неподвижные колоссы фараона доказывали ничтожность человека, входящего в храм. После просторного, величественного, яркого двора человек попадал в полумрак таинственного каменного леса гипостильного зала, в лес смыкающихся в сказочной высоте колонн, зелень пышных капителей которых растворялась в синеве потолка, сверкающего золотыми звездами.
— Мудры были зодчие страны Кемет, воистину мудры…
— Однако, мой друг, ни их великие творения, ни их мудрость не пощадило всесильное время. И лишь тебе, мой халиф, удалось уберечь их имена и деяния от полного забвения.
— Удалось, маг? — Это спросила Хаят. Голос ее был более чем холоден, а выражение лица испугало Мераба еще больше, чем прежде.
— О да, ибо мы теперь можем наслаждаться совершенством этих сооружений.
— Но их созерцание доступно лишь избранным, то есть немногим…
— Увы, прекраснейшая, созерцание тех чудес, кои сгинули в бесконечном водовороте человеческой истории и о которых неизвестно юному халифу, недоступно уже никому, даже избранным.
— Так возрадуемся же созданному…
— И создателю, — кивнула Хаят. Никогда раньше не походила девушка на изваянную богиню. И эта мраморная холодность лучше тысячи слов подстегнула Мераба.
«О нет, мне надо решиться сейчас. Только сейчас!»
Свиток тридцать четвертый
И Мераб заговорил, едва лишь Алим, прихрамывая, отправился любоваться только что воссозданным храмом.
— Душа моя, Хаят, довольна ли ты своим Избранным? Радует ли тебя то, что ты видишь вокруг?
— Более чем довольна, мой халиф.
Хаят покорно склонила голову. Мерабу это очень не понравилось: не годится прекраснейшей из женщин вести себя подобно покорной наложнице. Да, в своем рвении он совсем позабыл о ней, душе всей его жизни. Юноше стало ясно, что его рвение и усилия стали обижать любимую, иначе бы ревность к городу не душила ее, подобно самой черной из змей мира.
— Позволено ли будет мне, твоему Избранному, задать вопрос?
Хаят посмотрела на юношу скорее изумленно, чем удивленно.
— Не смотри так на меня. Я хочу задать тебе вопрос более чем важный. И потому прошу твоего позволения на это, ибо ты можешь быть сейчас не расположена ни к серьезным беседам, ни даже к пустым шуткам.
— Я слушаю тебя, мой халиф, и готова отвечать на все твои вопросы, — в тон Мерабу ответила Хаят.
— В таком случае, о прекраснейшая, единственная из женщин мира, моя греза, скажи мне: согласишься ли ты стать моей женой?
Хаят замерла.
— Почему ты молчишь, моя любовь?
— Но разве тебе мало того, что мы все время вместе?
— Да, моя прекрасная, мне этого мало! Ибо я, если уж вы все называете меня халифом, хочу воздать тебе поистине царские почести. Ты куда более меня достойна править городом, ты более, чем любой смертный, достойна великого имени правительницы. Но если я не могу тебе дать в точности такого же имени, то прошу лишь о том, чтобы стала равной мне и стала частью моей жизни во всем — от трона до ложа. Скажи мне, моя греза, согласна ли ты?
Хаят молчала, ибо была изумлена. Никогда (так ей казалось сейчас) и никто ее, Душу города, не звал замуж… Должно быть, роль советницы и наложницы для Хаят ранее устраивала любого из Избранных.
«Быть может, потому и умирал Медный город со смертью каждого из них… Быть может, Мерабу удастся превратить свой город в город вечный, не исчезающий с лица земли вслед за смертью свое го халифа».
Это были мысли, продиктованные разумом. Но душа, обычная душа обычной женщины, просто пела, ибо она давно уже мечтала быть именно женой, а не «единственной», «прекраснейшей» или «прелестницей».
— Так ты согласна, моя греза?
— Да. — Чувства взяли верх над разумом. — О да, мой любимый. Я так мечтала об этом!
— И да будет так!
Мераб хлопнул в ладони, и на его зов явились слуги, хотя еще миг назад — юноша готов был поклясться в этом — во всем дворце были лишь повар да водонос.
— Халиф Мераб повелевает готовить свадебную церемонию! За час до заката я желаю назвать Хаят своей женой!
Слуги поспешно ретировались, ибо халиф поставил перед ними задачу почти невыполнимую: за несколько часов, что остались до заката, приготовить все к столь пышному торжеству казалось им невозможным. Однако высокий сухощавый имам появился во дворце, как и было велено, за час до заката. Составленная им по всей форме брачная запись гласила, что от сего мига мужем и женой становятся почтенный Мераб, сын визиря страны Джетрейя, и Хаят, свободная дочь Медного го рода. Достойные всякого уважения свидетели поставили подписи под этим документом. Украсил пергамент своей, более чем затейливой, подписью и маг Алим.
И жених, и невеста также присутствовали при этом торжественном акте. С этого мига прекрасная Хаят более не была ни дочерью города, ни Душой неведомых мест, а стала почтенной замужней дамой, женой халифа.
Как и положено, в эти торжественные мгновения жениха и невесту разделяла ширма, по традиции непрозрачная. Считалось, что новобрачные не должны видеть лиц друг друга, считалось постыдным даже касание руки… Традиция, суровая в своей непреклонности, уверяла, что только долгий обряд открывания достоин того, чтобы жених и невеста наконец увидели друг друга.
Стемнело. По всему дворцу зажигали свечи. Традиция, командовавшая всем и всеми — от поваренка до церемониймейстера — теперь велела приготовить специально для жениха баню. Пиршественные комнаты были уже готовы, ложе было устлано розовыми лепестками, невесту одевали к традиционному обряду. Дворец был полон людей, шума и музыки.
— Какое счастье, любимая, что нам с тобой не нужны никакие церемонии для того, чтобы быть вместе, — шепнул Алим своей Камиле.
И та ответила согласным кивком.
Мераб уже был не рад, что затеял эту свадебную церемонию. Он, конечно, с удовольствием совершил омовение, переоделся в роскошные белые, шитые золотом одежды, прицепил к поясу тяжеленный кошель, полный монет. Однако ему уже надоела эта суета, мечталось лишь о покое и счастье мига прикосновения к руке Хаят.
Однако церемониал требовал неукоснительного соблюдения, и Мераб подчинился. Юноша опустился на подушки и взял в руки церемониальную свечу. Нежную песню запел уд, тихо зазвенели бубны, и вот появилась она — его греза, прекрасная Хаят, в первом одеянии.
— Смотри, о халиф Мераб! Вот твоя невеста!
Мераб улыбнулся и бросил горсть монет музыкантам. Затем он повернулся к фигуре, целиком закутанной в сверкающий красный атлас.
— О солнце в тростнике над холмами, о рассвет над горной рекой, позволь мне увидеть твои сияющие глаза! — проникновенно произнес он и осторожно снял верхний атласный покров с головы нареченной.
Услышав голос своего жениха, Хаят задрожала: должно быть, все-таки существует в традиционном обряде нечто колдовское, превращающее жениха в того единственного, а невесту — в настоящую мечту.
Когда же покров был снят, через тонкую газовую накидку девушка подняла глаза на любимого, теперь уже мужа и повелителя. «О боги, — промелькнуло в голове у Хаят, — никогда еще Мераб не был столь красив… И никогда еще я так сильно не любила его».
— Да склонится пред тобой солнце, о моя прекрасная супруга! — Мераб едва нашел в себе силы, чтобы произнести эти церемониальные слова, ибо красавица Хаят — его Хаят! — невыразимо преобразилась, и никогда еще не видел юноша столь совершенной красоты.
— Да воссияет над тобой благодать Аллаха, о мой супруг… — прошептала в ответ Хаят слова, которые предписывала древняя церемония.
Но тут многочисленные девушки, служанки и горожанки, увлекли ее в покои, чтобы надеть новое одеяние — второе, означающее восход любви над двумя сердцами.
Вновь зарокотали струны, зазвенели бубны. И в покоях появилась невеста в голубом одеянии. Еще раз ударились золотые монеты о натянутую бычью кожу. Мераб поднялся и подошел к невесте.
— Да никогда более не скроет от меня этот покров лица той, что предназначена мне самим Аллахом всемилостивым и милосердным!
Он осторожно снял с головы Хаят голубой шелк. Глаза девушки сияли как две звезды, локоны оттеняли нежные персиковые щеки, розовые губы улыбались… Все та же сила церемониала вложила в уста Мераба строки, которые он произнес с нежностью и благоговением:
Но, увы, насмотреться на прекрасную жену Мерабу не дали, вновь уведя ее в покои, чтобы привести в третьем одеянии, что символизировало омут страсти влюбленных. Это одеяние было черным, и под тонким газом третьей накидки вились змеями длинные кудри Хаят. Под газом одеяния они казались чернее ночи, но для Мераба эта новая, почти угрожающая грань красоты стала еще одним откровением.
— О свет очей моих, радость утра, чернота ночи, желанность неги! Пусть каждый день твоей жизни сияют мне твои глаза. И пусть умру я от счастья, насладившись светом твоей любви…
— Не умирай, прекрасный мой супруг. Живи и дай мне радоваться жизни вместе с тобой…
Четвертое платье, солнечно-желтое, зажгло искры в глазах всех, кто радовался вместе с женихом и невестой.
— О Аллах, — только и смог сказать пораженный Мераб, — ты своей несравненной красотой затмеваешь все светила небосвода…
— Моя красота лишь для тебя, о мой супруг…
Пятое одеяние, оливково-зеленое, сделало Хаят нежной, как побег бамбука. Шестое, синее, пронзило сердце Мераба, словно острое копье. И наконец появилась прекрасная жена халифа в седьмом одеянии, белом, затканном золотыми нитями. И стали жених с невестой рядом, словно две половины одного целого, словно клинок и ножны, с самого первого мига своего предназначенные друг для друга. Так предписывала традиция, и так оно и оказалось наяву.
— Я клянусь всем святым для меня, что с этого дня я твой, о моя великолепная супруга! И да будет мне порукой вся сила Аллаха милосердного, я не отступлюсь от этой клятвы даже в тот миг, когда придет к нам Усмирительница собраний…
— Я клянусь своей жизнью, солнцем в летний день, луной в светлую ночь, звездами, сияющими тысячи лет, что буду делить с тобой всякий день моей жизни… И да смилуется над нами судьба во веки веков, подарив жизнь, о какой сложат тысячу и одну легенду!
Не было в этих словах ни капли фальши, ни грана лицемерия. Ибо говорились они от чистого сердца, словно и не повторяли слова, предписанные древним обычаем. Руки их перевязали белым шелком и открыли двери в опочивальню. Сегодня туда могли зайти лишь они вдвоем.
Тихо закрылись за спиной халифа и его жены высокие двери, за которыми остались шум и музыка, пожелания долгого счастья и любви. Наконец жених и невеста были вдвоем. И поняли, что в этот миг нет в целом мире никого счастливее их.
Свиток тридцать пятый
Мераб закрыл за собою двери и устремил на девушку долгий взгляд… Хаят не шелохнулась. Она едва дышала, вдруг ощутив, что напугана, невероятно напугана, как кролик перед ликом удава… или как невеста, в первый раз в жизни увидевшая своего жениха и гадающая, что принесет ей этот совершенно незнакомый человек: счастье или горе. Девушка застыла, словно прекрасная мраморная статуя.
— Воистину, только во сне может привидеться столь совершенная красота, — наконец прервал Мераб тягостное молчание. — Мне на миг даже показалось, моя Хаят, что ты не живая девушка, а прекрасная эллинская статуя! Но ты живая, моя греза и теперь моя жена во веки веков. Откройся же мне так, как положено жене. И дарует мне Аллах великий силы без границ, дабы более никогда ты не пожалела о том миге, когда дала свое согласие. Иди же ко мне!
Тон мужа показался юной жене весьма требовательным, и она почувствовала, что он сдерживается изо всех сил. В этот момент, словно для того, чтобы ее приободрить, он улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Мераб по привычке был без тюрбана, волосы его оказались в беспорядке, а глаза, опушенные черными ресницами, сияли радостью.
Пальчики ее принялись медленно расстегивать жемчужные пуговки белого вышитого кафтана. И вот последняя жемчужинка легко выскользнула из шелковой петельки. Кафтан распахнулся.
Взгляд Мераба словно загипнотизировал девушку, которая едва дышала. Прежде чем она успела сбросить с себя одежду, он сам распахнул шелковые полы. Кафтан легко соскользнул на пол с тихим шуршанием. Юноша отступил на шаг и стал любоваться изгибами ее изящного юного тела.
— Во имя всех семи джиннов, почему ты боишься меня, моя греза? — вырвалось у Мераба.
— О муж мой, единственное счастье всей моей жизни, — отвечала Хаят, изумленная тем, что не потеряла дара речи. — Я так долго ждала тебя…
— Это слова традиции. Но почему ты, моя греза, моя душа, боишься меня? Меня, того, кого сама избрала?
— Должно быть, мой халиф, уже потому, что я избирала создателя мира, но не мужа для себя. Оказывается, я тебя, своего Избранника, вовсе не знаю. Но, похоже, судьба распорядилась так, что ждала и жаждала я только тебя.
Мераб с удивлением смотрел на жену.
— Ты меня не знаешь?! Ты избирала не мужчину? Как же это может быть?!
— Глупенький. — Хаят наконец улыбнулась. — Я избирала, о да, мужчину, сильного и решительного, готового принять решение и действовать без промедления, сильного своими бескрайними знаниями и жадного до знаний. Но никогда еще Душа Медного города не избирала себе мужа, спутника своих дней…
— И да будет счастлив тот день, когда я услышал твой зов! Ибо мне мало творить миры, мне хочется творить любовь, и творить ее лишь с тобой, о прекраснейшая из дочерей человеческих…
Хаят хотела было заметить, что она вовсе не принадлежит к человеческому роду, однако выражение глаз мужа остановило ее. «Воистину, сейчас я лишь простая девчонка, юная жена, впервые восходящая на ложе. А кем я была раньше… Не знаю, да и знать не хочу».
Юноша провел рукой по голове своей жены, снимая прозрачный газ накидки… Аллах, какие волшебные волосы! Он жаждал ощутить их мягкость на своем обнаженном теле…
— Никто и никогда не разлучит нас, волшебница! — твердо сказал Мераб. — Ты принадлежишь мне, мне одному, моя красавица!
Он привлек девушку к себе. Приподняв подбородок двумя пальцами, Мераб поцеловал, словно впервые пробуя на вкус, ее губы. Глаза затуманились желанием, когда язык его скользнул по нежным губам.
— О-о-о, ты сказочное, необыкновенное существо, — проговорил он. — Ты создана лишь для наслаждения. Лишь для этого Аллах сотворил тебя! — Одна рука его принялась ласкать ее левую грудь. — Сердце мое взывает к твоему, Хаят! — Ладонь его теперь гладила ее лицо, а чувственный низкий голос — душу, истерзанную долгим ожиданием. — Ты страшишься меня, моя дивная? Не нужно!
— Нет, мой любимый, ты сотворил меня, ты один. И сегодня мне хочется тебя столь сильно, будто не было никогда в этом мире других мужчин.
«И это чистая правда! Нет и не будет для меня в этом мире другого мужчины, кроме тебя, пылкий и страстный Мераб, создатель и халиф Медного города… Только ты, кто сотворил и меня такой, какая я есть сейчас».
Мерабу не надо было повторять столь ясных слов дважды. Нескольких движений хватило, чтобы сбросить с себя нарядное церемониальное платье. Совершенно нагой теперь, Мераб потушил стоявшую на столе свечу, разрешив только зареву разожженного еще днем очага мягко освещать затянутые прозрачным газом стены опочивальни.
Мягкий свет обнимал изумительное тело девушки и играл в ее волосах, превращая струящиеся по плечам пряди в сияющий ореол.
Когда возлюбленный наконец приблизился к молодой женщине, та тихонько рассмеялась.
— Что тебя так забавляет? — спросил он.
— Все это. Наша игра в мужа и жену, — Хаят протянула руку и коснулась пальцами его губ. — Разве не этого ты с самого начала хотел, Мераб, — назвать меня своей женой?
— Сейчас, моя греза, это уже не игра. Сейчас мы и в самом деле муж и жена, и никогда не бывать иному!
Мераб смотрел на Хаят, и свет ее сияющих глаз удивительным образом преображал всю его душу; на смену усердному следованию обряда приходило обжигающее желание и безудержная нежность. Он по-прежнему был потрясен сознанием того, что теперь эта удивительная девушка, ничем и никогда не желающая поступиться ему, но при этом терпеливо ждущая своего часа, стала его женой. Но теперь юноша знал, что это не мимолетный каприз и не бездумная одержимость. Они, скрепив свой союз, лишь утвердили то, чему предначертано было случиться.
Его чувства были глубже, серьезнее. Хаят была женщиной, с которой ему хотелось прожить всю жизнь. Он ощутил жгучую потребность оказаться глубоко внутри нее. В нем вспыхнуло пламя плотского голода, требовавшее утоления.
Приковав к себе взгляд Хаят, Мераб шагнул ближе. Он намеревался выжечь в ней свое клеймо страсти, заставить ее примириться с тем, что она принадлежит ему, распалить в ней такую же первобытную алчность, которая терзала его самого.
С этой молчаливой клятвой юноша потянулся к Хаят, лишил ее последнего средства прикрыть наготу и заключил в объятия. Бесконечно долгое мгновение Мераб просто прижимал к себе возлюбленную, позволяя смешаться холоду тел и жару взглядов.
Он мог покорить ее тело, в этом он не сомневался, но столь же сильно он хотел приковать к себе и ее сердце.
Его собственное сердце гулко забилось в груди, и Мераб склонился, чтобы нежно поцеловать Хаят. Это было сладкое соитие даже не губ, а дыханий, не передававшее и тысячной доли дикой страсти, опустошающим вихрем терзавшей его тело. Однако, когда их губы наконец встретились, юношей овладело совершенно новое чувство. Он понял, что не просто вожделеет ее. Сейчас он готов был подарить весь свой мир, отдать всего себя ради счастья этого соединения.
Не отрываясь от сладких губ, Мераб потянул Хаят к огромному ложу, усыпанному лепестками роз, и упал на него, увлекая ее с собой.
Девушка блаженствовала в объятиях любимого, чувствуя, что ее тело создано для него. Изнывая от плотской жажды, она отвечала на жаркие поцелуи Мераба, судорожно обнимая его; очертя голову она бросалась в водоворот его ласк в поисках обещанного наслаждения.
Безусловно, ошибкой было состязаться с Мерабом в силе любви, но Хаят не смогла отказать себе в удовольствии побороться с ним еще и еще. Она хотела его с такой сокрушительной силой, что ей самой становилось страшно.
Когда желание разгорелось до безумного, невыносимого жара, Мераб снова завладел инициативой, навалившись на девушку. Подняв руки возлюбленной над головой и прижав их к подушкам, он притиснул свой восставший жезл страсти к средоточию ее желания и, услышав в ответ стон наслаждения, приподнялся над ней. Тело Хаят жадно открылось, и Мераб глубоко вошел в него.
Задыхаясь, она подняла голову, чтобы посмотреть на любимого в золотом свете открытого огня, на прекрасное лицо, потемневшее сейчас от всепоглощающего желания.
— У меня нет сил сопротивляться этому водовороту, когда я с тобой, — судорожно прошептала Хаят.
— О прекрасная, — почти хрипя от едва сдерживаемого вожделения, ответил Мераб. — И у меня тоже нет сил бороться с тобой.
И тогда он начал двигаться, энергично и размеренно, разжигая в ней неистовую страсть. Спустя всего несколько мгновений Хаят уже всхлипывала… А потом настал и пик наслаждения, прекрасный и сокрушительный, каким он бывал во всех их любовных встречах. Она закричала, извиваясь под Мерабом, и тот вздрогнул и застонал, сраженный такой же ошеломляющей силой наслаждения.
Потом Хаят лежала под ним, задыхаясь, не в силах пошевелиться. Ей хотелось, чтобы любимый всегда оставался внутри нее, хотелось, чтобы этому блаженству не было конца. Мераб заполнял какую-то пустоту, дарил ей чувство целостности.
Спустя некоторое время юноша перелег на бок и прижался грудью к спине возлюбленной. Его руки властно и нежно обнимали ее, его ноги переплелись с ее ногами. Хаят чувствовала, как мощно бьется о ее спину сердце Мераба, тогда как ее собственное металось в груди от удивительных и чудесных ощущений.
Хаят пугало, как хорошо ей было с Мерабом, каким правильным казалось быть с ним. Она закрыла глаза. Она чересчур сильно его хотела, чересчур сильно хотела быть с ним. Хаят резко вдохнула и вздрогнула.
— Тебе холодно? — Хриплый голос Мераба нарушил молчание.
— Нет… уже нет.
Юноша изо всех сил обнял Хаят, и ей показалось, что еще миг — и он раздавит ее в своих объятиях.
— Пусти меня, чудовище, — прошептала Хаят.
— Нет, я не отпущу тебя, я спрячу тебя в карман и буду носить, как самое главное сокровище своей жизни. И буду счастливейшим из смертных.
Мераб поднял жену на руки.
— О как же прекрасен сей мир!
— О мой халиф, ты ведешь себя, как глупый влюбленный, — смеясь, сказала Хаят.
— Я и есть самый глупый и самый влюбленный! Ибо я влюблен в тебя, моя греза! Влюблен в город, прекраснейший Медный город, который возродил из небытия, влюблен в саму жизнь!
Воистину, Мераб оказался подлинным Избранным, ибо даровал Медному городу, восставшему из легенд и песков, не столь свои желания, сколь всю мощь своего разума, постоянно ищущего и находящего ответы на все большее число вопросов.
А вот желания… Желания он принес к ногам Хаят, которая была теперь его любимой, его жизнью и жизнью прекрасного, живого и вечного Медного города.