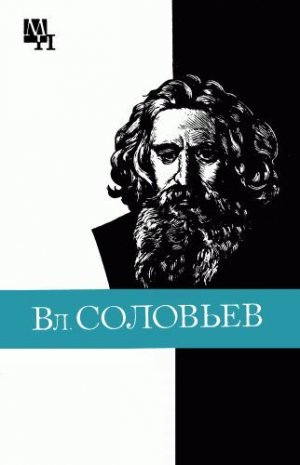
РЕДАКЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Лосев Алексей Федорович (род. в 1893 г.) — профессор, доктор филологических наук, автор многочисленных научных трудов по классической филологии и по истории философии, среди которых — «Античный космос и современная наука» (М., 1927), «Диалектика художественной формы» (М., 1927), многотомная «История античной эстетики», «Эстетика Возрождения» (М., 1979) и др.
Рецензенты:
докт. филос. наук П. П. Гайденко
докт. филос. наук А. В. Гулыга
От автора
Вместе с тем, однако, все, что совершается в истории, получает для нас полный смысл только в том единственном случае, когда мы доходим до возможности понимать историческую жизнь как жизнь социальную, и в частности как общественно-политическую. И этот общественно-политический коэффициент часто в самом корне нарушает ту картину, которую мы с большой легкостью формулируем теоретически.
Вл. Соловьев — идеалист. Но Л. Толстой и Ф. Достоевский — тоже идеалисты. Однако первый сыграл огромную роль в борьбе с самодержавием, а второй разоблачил ничтожество буржуазно-капиталистической культуры и неистово пророчествовал о гибели мелкобуржуазного оптимизма и о грядущей его катастрофе.
В теоретическом плане Вл. Соловьев, как сказано, идеалист, но в общественно-политическом плане будет антиисторической ошибкой, если мы забудем учение Вл. Соловьева о материи. Да, дух, конечно, у него выше материи. Но материя трактуется как такое осуществление духа, которое необходимо для самого же духа, чтобы он полноценно существовал. Материя — это храм духа; и она такая же светлая и прекрасная, как и сам дух. Материя — это мать, это единственная порождающая сила, это наша родина, это наше спасение. Материя обязательно прекрасна, и красота — это есть материальная сила, Вл. Соловьев любил повторять слова Ф. Достоевского о том, что красота спасет мир.
Вл. Соловьев — фидеист. Но кто дал такую убийственную критику византийско-московского православия, какую дал Вл. Соловьев? Эта критика была настолько уничтожающая, что ни о каком печатании соответствующих трудов Вл. Соловьева в России не могло быть и речи. Эти труды писались и печатались за границей, по-французски; и об их переводе на русский язык и о необходимости перевода их на русский язык заговорили только после 1905 г.
Вл. Соловьев мыслил вне марксизма. И с общественно-исторической позиции это закономерно, поскольку марксизм в России стал распространяться в 90-х годах, когда деятельность Вл. Соловьева подходила к концу. Но разве мало того, что в 1881 г. после убийства Александра II Вл. Соловьев выступил с лекцией, требуя помилования народовольцев и считал, что это есть долг русского правительства? Разве мало того, что знаменитую диссертацию Н. Г Чернышевского Вл. Соловьев назвал «первым шагом к положительной эстетике» и напечатал на эту тему громкую статью? Разве мало того, что не только сам Вл. Соловьев, но и весь его родительский дом с неизменным уважением относился к деятельности Чернышевского? И когда в разгар гонений против революционных демократов Вл. Соловьева попросили дать свои воспоминания о Чернышевском, разве он не дал эти воспоминания в благородно-лирическом стиле и разве кто-нибудь писал в те дни так о Чернышевском, как это сделал Вл. Соловьев?
Есть три вопроса, о которых необходимо упомянуть в этом кратком предисловии.
Первый вопрос заключается в том, что при трезвом общественно-политическом подходе к Вл. Соловьеву никак нельзя пройти мимо его диалектики. Для нас эта диалектика, конечно, идеалистическая. Но с диалектическим идеализмом — осторожно, потому что ведь и Гегель — это тоже идеалистическая диалектика, которую, однако, марксизм ставит с головы на ноги. Думается, что замечательная соловьевская диалектика всеединства, как и гегелевская, тоже заслуживает постановки с головы на ноги.
Ведь и в самом деле, если действительность — это все, что есть, она есть нечто целое, а целое всегда больше своих частей. Целое — это есть новое качество, которое не существует без своих частей, но зато и части без него не существуют. Конечно, такое целое, которое выше отдельных частей действительности, нельзя характеризовать какими-нибудь предикатами, потому что всякий отдельный предикат уже будет нарушать природу целого. В смысле отдельных предикатов это мировое целое выше всех отдельных моментов мировой истории, и потому Вл. Соловьев называет это целое термином «ничто», но в то же время прибавляет, что это «ничто» является положительным.
Второй вопрос, о котором мы хотели бы кратко упомянуть, — это вопрос о внутренней настроенности Вл. Соловьева как философа. Иной раз приходится слышать такое мнение, что Вл. Соловьев внутренне как будто и был настроен прогрессивно, но объективно-исторически его философия была вполне реакционна. Это мнение в корне противоречит марксистско-ленинской методологии, если ею пользоваться не абстрактно и догматически, но конкретно и общественно-политически.
Ведь очень мало сказать, что Вл. Соловьев субъективно был настроен как защитник прогресса. Тот прогресс, который проповедовался на Западе и процветал в эпоху Просвещения, был чужд Вл. Соловьеву, поскольку это был прогресс индивидуалистический, субъективистский, или, вообще говоря, буржуазно-капиталистический. Такой прогресс Вл. Соловьев считал объективно-исторической необходимостью для человеческого развития. Но сам он мечтал о совсем другом прогрессе, который основывался на цельном знании и цельном человеке. Как показывает тщательное исследование, соловьевский прогресс не имел ничего общего ни с западничеством, ни со славянофильством. Новый человек мыслился ему настолько новым, что можно назвать его взгляды в этой области только утопическими. Конечно, такая утопия — это еще не революция. Но если подойти к делу общественно-политически, то этот утопизм есть во всяком случае мечта об изменении общества.
Наконец, еще на третий вопрос мы хотели бы обратить внимание читателя в этом кратком предисловии. Он касается по преимуществу личности Вл. Соловьева и его интимной настроенности в проведении своих идей, особенно в самом конце жизни. Вл. Соловьев много времени потратил на построение своей утопической теории относительно слияния церковной и светской власти в одно нераздельное целое. Время тяжкой реакции, в которое он жил, разрушило всю его утопическую настроенность, так что, не зная куда деться, философ умер в отчаянии и бессилии. Но у него была одна мечта, которая в течение его жизни принимала разные формы и которая, насколько можно судить, единственно осталась у него непоколебимой. Это мечта о России. У него была своя Россия, не восточная и не западная, не объективистская и не субъективистская, не узконациональная, но и не ширококосмополитическая, а, как он писал, «семья народов». Это равновесие субъективной и объективной жизни и это равновесие национального и интернационального, а отсюда и мировая роль России — вот что было последней мечтой Вл. Соловьева.
В заключение напомним марксистско-ленинскую идею о необходимости изучать прошлое и необходимости его критической переработки для современных целей.
«…Теоретическое мышление является прирожденным свойством только в виде способности. Эта способность должна быть развита, усовершенствована, а для этого не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии» (1, 20, 366).
«Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники» (2, 29, 131).
Наша настоящая работа проникнута энтузиазмом критического освоения философского наследия прошлого.
Введение. Жизненный путь
Со стороны матери Поликсены Владимировны Вл. Соловьев принадлежал к украинско-польской фамилии, имея в числе предков своих замечательного мыслителя XVIII в. Г. С. Сковороду. От матери он унаследовал, несомненно, поэтическую сторону своей натуры.
Обстановка ранних лет сложилась весьма благоприятно для духовного развития Вл. Соловьева. Семья создала наилучшие условия для его образования, позднее — для научной и философской деятельности.
Среднее образование Вл. Соловьев получил в московской 5-й гимназии (1864–1869), окончив ее с золотой медалью и занесением на гимназическую Золотую доску. Из гимназических лет мы имеем достаточно много сведений его начального мировоззрения. Необычайно одаренная натура Вл. Соловьева и его постоянные и, можно сказать, страстные поиски высших целей сказались уже в это раннее время его жизни, сопровождаясь религиозным скептицизмом и глубоким критицизмом. Он увлекался и религией и материализмом (см. 7, 3, 73).
Высшее образование Вл. Соловьев получил в Московском университете (1869–1873). Вероятно, не без влияния материалистических идей 60-х годов Вл. Соловьев поступил на физико-математический факультет, где преподавались не только математика и физика, но и все естественные науки. Он увлекался в те годы биологией; из биологии больше всего занимался зоологией и ботаникой. Естественнонаучные устремления, наверное, не были для Соловьева призванием — достаточно было ему провалить какой-то экзамен на II курсе, как он перешел на историко-филологический факультет того же университета и обратил основное внимание на изучение там философии.
Имеются некоторые сведения о кратком пребывании Вл. Соловьева в Московской духовной академии в качестве вольнослушателя (1874), но, по-видимому, о каком-то серьезном влиянии здесь и говорить нельзя, так как по сути дела Вл. Соловьев уединился там от повседневной суеты, чтобы завершить диссертацию и пользоваться обширной библиотекой Академии.
Защита магистерской диссертации Вл. Соловьевым «Кризис западной философии (против позитивистов)» (ноябрь 1874) ярко свидетельствует как о необычайной силе его философского мышления, так и о простоте и ясности выражения, о логической убедительности и очевидности, сочетавшихся с глубиной и с широтой исторического горизонта. Он был назначен доцентом на кафедре философии Московского университета и получил право самостоятельного преподавания философии вместо П. Д. Юркевича, который умер в октябре 1874 г. Вскоре он подал прошение о заграничной командировке и в июле 1875 г. приступил к изучению древних историко-философских текстов в Британском музее. В Россию он возвратился лишь через год.
Вл. Соловьев приступил к лекциям в Московском университете, но из-за одной профессорской склоки в марте 1877 г. вынужден был перевестись в Петербургский университет. Одновременно он состоял членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения. Вскоре он защитил докторскую диссертацию на тему «Критика отвлеченных начал» (1880), где под «отвлеченными началами» понимал все односторонности идеализма и материализма.
После прочтения публичной лекции 28 марта 1881 г., в которой Вл. Соловьев призывал императора Александра III помиловать первомартовцев, его преподавательская деятельность навсегда окончилась. Прочтение этой лекции, текст которой не сохранился, обычно считают причиной ухода Вл. Соловьева из университета. Однако ради соблюдения исторической точности необходимо сказать, что в более ранней публичной лекции, 13 марта того же года, он протестовал против всякой революции как насилия (см. 4, 3, 417–421). После лекции 28 марта петербургский градоначальник намеревался наказать Вл. Соловьева, но по желанию Александра III ему было временно запрещено чтение публичных лекций, и он был оставлен в Петербурге.
Все же из университета Вл. Соловьеву пришлось уйти, хотя его никто не увольнял (см. 40, 46). Уход его был связан, по-видимому, с нежеланием продолжать педагогическую деятельность, которую он весьма не любил из-за низкого уровня преподавания философии, обязательного расписания лекций и пр. Несмотря на огромные философские знания и редкую научную выучку, Вл. Соловьев чувствовал, что в его жилах билась кровь теоретика, проповедника, публициста, литературного критика, поэта, иной раз — визионера и вообще человека, преданного изысканным духовным интересам.
Прежде всего на этих свободных от казенных форм путях деятельности Вл. Соловьев целиком отдается написанию произведений церковно-общественного характера. В произведении 1882–1884 гг. «Духовные основы жизни» он дает в основном не что иное, как толкование на молитву «Отче наш». К 1881–1883 гг. относятся его «Три речи в память Достоевского». Но решающим признаком его церковных занятий является почти никогда не покидавшее его увлечение католицизмом, о чем можно судить по его малопопулярной работе 1883 г. под названием «Великий спор и христианская политика». Вл. Соловьев задумывает трехтомный труд в защиту католицизма, но по разным причинам цензурного и технического характера вместо этих запланированных трех томов вышли работы «История и будущность теократии» (1886) и в Париже «Россия и вселенская церковь» (1889) на французском языке.
Сближение с католицизмом сопровождалось знакомством философа с видными католическими деятелями, как, например, с епископом Штроссмайером в Загребе, куда Вл. Соловьев ездил в 1886 г., ввиду чего в области богословия у Вл. Соловьева появилось много неприятностей вплоть до запрещения ему писать на церковные темы. Но опять-таки здесь Вл. Соловьев нашел для себя выход. Глубокий ум и широкая натура философа обеспечили для него работу не менее интересную, чем богословие, а именно работу литературно-критическую и эстетическую.
Особенного внимания заслуживает литературная деятельность Вл. Соловьева в 80-х годах в связи с проблемами славянофильства и западничества.
В последние годы своей жизни Вл. Соловьев опять вернулся к философии. К этому времени относятся его трактаты «Красота в природе» (1889), «Смысл любви» (1892–1894), «Понятие о Боге (В защиту философии Спинозы)» (1887) и «Теоретическая философия» (1897–1899). Наконец, тоже чисто философским трудом необходимо считать огромное произведение «Оправдание добра» (1897–1899).
Таким образом, после своих церковных увлечений Вл. Соловьев опять вернулся к теоретической философии, и если и касался религиозных вопросов, то уже вне всякой конфессиональной проблематики. Философско-теоретическими интересами был продиктован также новый перевод некоторых диалогов Платона.
Не находя никакого сочувственного отзыва на свои теократические и католические настроения, трагически переживая безвременье конца века, далекое от его утопических идей вселенской церкви, Вл. Соловьев в последний год своей жизни стал говорить о конце мира и в своих «Трех разговорах» (1899–1900) представил картину явления антихриста. Это было последним словом крупнейшего русского идеалиста. Здоровье его к этому времени стало заметно ухудшаться, и он стал чувствовать неимоверную физическую слабость.
Это был бездомный человек, без семьи, без устойчивого быта. По природе своей он был экспансивный, восторженный, порывистый и живал большей частью в имениях своих друзей или за границей. Имея весьма оригинальные взгляды, он никогда не сходился ни с правыми, ни с «левыми».
Кончина Вл. Соловьева произошла в подмосковном имении его друзей философов С. Н. и Е. Н. Трубецких «Узкое» 31 июля 1900 г. вследствие артериосклероза, болезни почек и общего истощения организма. Похоронен он был на Новодевичьем кладбище.
Так безвременно, на 48 году, оборвалась жизнь русского философа, который отличался небывалой силой мысли, владением мировой философской культурой и напряженнейшей духовной жизнью.
Глава I. Личность
Все они говорят о наружности Вл. Соловьева как о загадочной и таинственной, но в то же самое время и как о самой обыкновенной, понятной и распространенной. Приведем сначала два изображения наружности Вл. Соловьева, относящиеся к 1874 г., когда он был вольнослушателем Московской духовной академии.
Архиепископ Николай (в миру Михаил Захарович Зиоров) пишет следующее: «Владимира Сергеевича Соловьева я видел и знал, можно сказать, мельком. Это было в Московской духовной академии, когда я там учился. Я был тогда на втором курсе, когда он приехал в академию — слушать лекции по богословию и философии. На вид он был весьма сухощавый, высокий, с длинными волосами, падавшими ему на плечи; сутуловатый; угрюмый, задумчивый, молчаливый. Помню, как он в первый раз пришел к нам в аудиторию — на лекцию проф. Потапова, по истории философии.
В шубе, в теплых высоких сапогах, в бобровой шапке, с шарфом на шее, он, никому не кланяясь, прошел к окну и стал у окна… Побарабанил пальцами по стеклу, повернулся и ушел обратно… Профессор остановился в чтении лекции, мы все в изумлении — кто сей господин и что ему нужно?! Кончилась лекция, и узнаем, что это Соловьев, сын знаменитого историка С. М. Соловьева…» (26, 1, 326) Заметим, что воспоминания архиепископа Николая относятся к 1874 г., т. е. ко времени, когда Вл. Соловьеву был всего 21 год.
Другая интересная запись принадлежит проф. М. Д. Муретову, который сделал ее по просьбе С. М. Лукьянова. Воспоминания М. Д. Муретова тоже относятся к 1874 г. Приведем эту запись. «Небольшая голова, сколько помнится — круглая. Черные длинные волосы наподобие конского хвоста или лошадиной гривы. Лицо тоже небольшое, округлое, женственно-юношеское, бледное, с синеватым отливом, и большие очень темные глаза с ярко очерченными черными бровями, но без жизни и выражения, какие-то стоячие, неморгающие, устремленные куда-то вдаль. Сухая, тонкая, длинная и бледная шея. Такая же тонкая и длинная спина в узком и длинном, уже поношенном, пиджаке-пальто темного цвета. Длинные и тонкие руки с бледно-мертвенными, вялыми и тоже длинными пальцами, большею частью засунутыми в карманы пальто или поправляющими волосы на голове. Почему-то хочется называть такие пальцы перстами. Вероятно, они были очень приспособлены к игре на скрипке или виолончели. Наконец, длинные ноги в узких и потертых черных суконных брюках с несколько обтрепанными концами и в сапогах с высокими, но стоптанными внутрь каблуками. Нечто длинное, тонкое, темное, в себе замкнутое и, пожалуй, загадочное; такое общее впечатление осталось у меня от Вл. С. Соловьева, когда он ходил на лекции в нашу академию в 1874 г.» (там же, 327).
Наружность, лицо и общее поведение Вл. Соловьева особенно переживались людьми во время чтения им лекций. Еще совсем молодым человеком, тотчас же после защиты магистерской диссертации, он читал лекции по философии Платона на Высших женских курсах, открытых в Москве В. И. Герье. Свои впечатления от этих лекций, относящихся к весне 1875 г., сообщает Е. М. Поливанова в своих неопубликованных воспоминаниях, которыми пользовался С. М. Лукьянов. Вот эти впечатления.
«В ожидании его первой лекции у нас было необычайное оживление — все с нетерпением ожидали появления нового профессора. Наконец, в большую аудиторию вошел В. И. Герье, а с ним и молодой ученый. Я очень близорука и не могла рассмотреть его наружности, видела только высокую и очень худую фигуру и густые темные волосы. Когда он сел на кафедру, все замерло, все с затаенным дыханием приготовились слушать. Раздался голос звучный, гармоничный, какой-то проникновенный. Я не сразу могла приняться записывать: меня слишком поразил этот обаятельный голос» (26, 3, 43). Когда Е. М. Поливановой удалось сесть поближе к кафедре, в ее тетради появилась следующая запись: «У Соловьева замечательно красивые сине-серые глаза, густые темные брови, красивой формы лоб и нос, густые темные довольно длинные и несколько вьющиеся волосы; не особенно красив у него рот, главным образом из-за слишком яркой окраски губ на матово-бледном лице; но самое это лицо прекрасно и с необычайно одухотворенным выражением, как бы не от мира сего; мне думается, такие лица должны были быть у христианских мучеников. Во всем облике Соловьева разлито также выражение чрезвычайной доброты. Он очень худ и хрупок на вид» (там же, 48). «Лекции становились все интереснее и часто бывали захватывающими, как, например, лекция о диалоге Федр, где речь идет о хладнокровном ораторе и ораторе, обладающем пафосом, которым в высшей степени обладал и сам лектор» (там же, 47).
Правда, после лекции 1881 г. в защиту народовольцев чтение публичных лекций Вл. Соловьеву временно запрещено. Но чтение это возобновилось довольно скоро. У нас есть сведения о том впечатлении, какое произвел Вл: Соловьев и его первая лекция о богочеловечестве в Петербургском университете, читанная в конце 70-х годов. А. Ф. Кони передает рассказ очевидца, присутствовавшего на лекции, причем аудитория на этот раз состояла почти исключительно из естественников, относившихся к Соловьеву весьма настороженно, и шумно волновалась. «Но вот все разом стихло, и сотни глаз устремились на молодого еще человека, одетого в скромный домашний пиджак и тихо, с опущенными глазами, входившего в аудиторию. Это был Соловьев. Прежде всего, что бросалось в глаза, это прекрасное одухотворенное его лицо. Оно было продолговато, с бледными, немного впавшими щеками, с небольшой раздвоенной бородкой и в раме густых черных волос, кольцами спускавшихся на плечи. Он медленно взошел на кафедру и обвел глазами огромную аудиторию. Эти большие темноголубые глаза с густыми черными бровями и ресницами были глубоки, полны мысли и огня и как бы подернуты мистическим туманом.
На губах играла милая, ласковая улыбка. Аудитория, вопреки обычаю встречать нового профессора аплодисментами, хранила гробовое молчание. Среди „филологов“ послышалось было несколько шлепков, но они тотчас были заглушены бурным: шш-ш… Соловьев с той же мягкой улыбкой начал лекцию. Начал он говорить тихо, но чем далее, тем голос его более и более становился звучным, вдохновенным: он говорил о христианских идеалах, о непобедимости любви, переживающей смерть и время, о презрении к миру, который „во зле лежит“; говорил о жизни как о подвиге, цель которого — в возможной для смертного степени приблизиться к той „полноте совершенства“, которая явлена Христом, которая делает возможным „обожествление человечества“ и обещает царство „мировой любви“ и „вселенского братства“… Такова была тема этой вступительной лекции. Он кончил и по-прежнему опустил голову на грудь. Несколько секунд молчания, и вдруг — бешеный взрыв рукоплесканий. Аплодировала вся аудитория — и естественники, и юристы, и филологи. Наконец вдохновенный лектор поднял руку, и разом все смолкло. Очевидно, он уже овладел своей аудиторией, он загипнотизировал ее… „Я хочу сообщить вам, господа, — сказал Соловьев, — или, лучше, я прошу вас, чтобы каждый, несогласный с основными положениями моей настоящей и будущих лекций, возражал мне по окончании лекции“. Снова взрыв рукоплесканий. Возражения профессору по поводу прочитанной им лекции — это являлось совершенным новшеством в университетской жизни, и новшеством, как оказалось потом, весьма благотворным по последствиям» (19, 217–218).
Что касается вообще наружности и привычек Вл. Соловьева, то много интересных сведений на эту тему мы находим у Андрея Белого в воспоминаниях, а также в биографии, принадлежащей С. М. Соловьеву (см. 41), отчасти — у А. Блока (см. 31, 96—103), но больше всего — у Е. Н. Трубецкого (см. 43, 1, 3—18).
Вл. Соловьев был худой и высокого роста. У него были грустные, ласковые и проницательно видящие глаза, что еще и теперь можно разглядеть на дошедших до нас фотоснимках и портретах. Он всегда носил большую бороду и длинные волосы, доходившие до плеч, так что мальчишки иной раз называли его «божинька», а кое-кто называл его «батюшкой» и даже подходил под благословение, которого он, не будучи духовным лицом, конечно, не мог дать. Исходя из иконописных традиций говорили, что он похож на Иисуса Христа, а его голова как будто напоминала голову Иоанна Крестителя.
Но эта внутренняя и внешняя духовность удивительным образом совмещались у него с веселым нравом, с постоянной шутливостью, с любовью к своим и чужим анекдотам, с шуточными произведениями, занимающими далеко не последнее место в сборнике его стихотворений.
Одевался он во что ни попало и по забывчивости даже выходил на улицу в красном одеяле, которым укрывался ночью. В Лондоне и Каире, который был тогда под властью Англии, ему пришлось напяливать на себя цилиндр, напоминавший ему какую-то трубу или ящик. Но выходить в Лондоне без цилиндра было, по словам Вл. Соловьева, все равно что выходить без штанов. В Каире, несмотря на жару, он ходил в высокой шляпе и длинном черном плаще, хотя, судя по «Трем свиданиям», в египетскую пустыню он вышел путешествовать все в том же цилиндре. Это соответствовало эксцентризму его натуры.
Шуба (довольно изношенная) досталась ему в наследство после А. А. Фета, старого его и значительно более старшего друга. Он ею очень дорожил. Философ часто имел при себе палку с оленьими рогами, принадлежавшую раньше А. К. Толстому и подаренную Вл. Соловьеву вдовой поэта С. А. Толстой. От него всегда пахло скипидаром, так как это был его любимый запах. Он не любил и не знал изобразительных искусств, музыки и театра, но зато страстно любил стихи. Кроме того, он любил шахматы.
Е. Н. Трубецкой пишет: «Не удивительно, что в житейских отношениях его всякий мог обойти и обмануть. Прежде всего, его со всех сторон всячески обирали и эксплуатировали. Получая хорошие заработки от своих литературных произведений, он оставался вечно без гроша, а иногда даже почти без платья. Он был бессребреником в буквальном смысле слова, потому что серебро решительно не уживалось в его кармане; и это не только вследствие редкой своей детской доброты, но также вследствие решительной неспособности ценить и считать деньги» (43, 1, 11–12).
Когда у него просили денег, «он вынимал бумажник и давал, не глядя, сколько захватит рука, и это — с одинаковым доверием ко всякому просившему. А когда у него не было денег, он снимал с себя верхнее платье. Помню, как однажды глубокой осенью в Москве я застал его страдающим от холода: весь гардероб его в то время состоял из легкой пиджачной пары… и из еще более легкой серой крылатки: только что перед тем, не имея денег, он отдал какому-то просителю все суконное и вообще теплое, что у него было: он рассчитывал, что к зиме успеет заработать себе на шубу» (там же, 12).
Безалаберность и странничество — типичные черты Вл. Соловьева. В 1897–1898 гг., задумав жить в Петербурге, он снял какую-то комнату под крышей, и жизнь его от этого стала еще хуже. Он прожил несколько месяцев совершенно один, сам таскал дрова и топил печь, а в комнате у него были только кухонный стол, две дырявые табуретки и складная кровать. Иной раз он спал не то на ящиках, не то на досках, а пить чай ездил на Николаевский вокзал (см. 22, 444)[1].
Отношение Вл. Соловьева к людям было теплое и сострадательное. В этом плане он был совершеннейший демократ, о чем свидетельствует хотя бы следующее место из воспоминаний М. С. Безобразовой: «А между тем в другую Пасху мне довелось быть очевидицей следующего: мы жили тогда в одном из переулков Арбата, и окна нижнего этажа квартиры приходились совсем низко над землей; Пасха была поздняя, окна выставлены; вхожу в столовую и вижу: окно настежь, брат сидит на нем спиной в комнате, спустив ноги за окно на тротуар, и христосуется с очень непривлекательным на вид, грязным, пьяным нищим. А кругом собрались свои и не свои извозчики и с большим утешением смотрят на эту сцену. Смеялись громко и восклицали умиленно: „Ну что ж это за барин такой задушевный! Что это за Владимир Сергеевич!“» (10, 155).
Но чтобы составить себе яркое представление о бытовом поведении Вл. Соловьева, стоит добавить еще и следующий рассказ М. С. Безобразовой: «Деликатное и заботливое отношение брата к прислуге доходило иногда до чудачества, только вполне искреннего: если когда была ему нужда послать за чем-нибудь горничную или лакея, он не только давал всегда на извозчика, и гораздо больше, чем следовало, но и справлялся о состоянии здоровья посылаемого: „Может, слишком скверно на дворе, а вам нездоровится?“
— Да нет, Владимир Сергеевич, я сейчас схожу, пожалуйста.
— Но мне совестно, Алексей, вас посылать, — вон, повалил снег, а вы кашляете.
— Да это самые пустяки, что я кашляю: ноги, верно, промочил.
— Как промочили, почему?
— Да калоши теплые износились, а новых еще не завел.
Брат зашагал к матери и заговорил взволнованно с расстроенным лицом:
— Послушайте, мама, нельзя ли послать Дарью? Мне совершенно необходимо, а у Алексея нет калош.
— Дарье некогда, и какие там калоши? Слушаешь все, что он тебе же наскажет.
— Ах, мама! Пойми же, он кашляет, а калоши худые.
— Он вечно кашляет, меньше бы пил, меньше бы кашлял.
— Володя! — доносится из комнаты старшей сестры ее насмешливо подзадоривающий голос. — Я тебе советую послать Алексея в карете, а потом растереть ему ноги уксусом.
— Вздор, — говорит брат и смеется. А через минуту с детски-смущенным лицом идет к себе, ищет по всем карманам, рассматривает, пересчитывает деньги, наконец, опять зовет Алексея.
— Так вот что, Алексей: прежде чем отправляться, куда я сказал, заезжайте и купите себе калоши, вот вам на калоши и вот еще прибавить извозчику за заезд.
— И для чего ты это опять сделал? — сказала мать, узнав о финале истории с калошами, — ведь он же тебя обманывает.
— Как вам не стыдно, мама! Эдакая у вас подозрительность!
Увы, подозрительность матери оказалась более чем основательной. Алексей, живший у нас много лет, и которому мы все доверяли в крупном, как выяснилось впоследствии, искусно, систематически нас обкрадывал и кончил тем, что взял у брата со стола 500 рублей, на которые тот должен был ехать за границу. Брат рассказывал нам потом, как это случилось.
— В доме, кроме меня и Алексея, никого не было, я сказал ему, что на минуту поеду проститься, затем вернусь за чемоданом. Спустившись уже с лестницы и вспомнив, что оставил деньги на столе, решил, что лучше вернуться и положить их себе в карман. Не потому, чтоб я не доверял Алексею, вы знаете, что до этого несчастного случая я ему доверял безусловно, но я люблю деньги иметь при себе, и потом, никогда не следует искушать одного из малых сих. Когда я поднялся, дверь в переднюю не была заперта, я вошел без звонка; иду в свою комнату, Алексей там что-то убирает. Увидав меня, он вскрикнул, побледнел и весь затрясся, очевидно, он только что взял деньги, никак не ожидая, что я тотчас вернусь, оттого, увидав меня, и испугался так. Я же испугался не меньше его, и, разумеется, мне не денег было жаль, это уж второстепенное, а ужасно вдруг увидать в человеке этот чисто животный страх быть уличенным в мерзости. Однако у меня еще была надежда, что он сознается, и тогда все спасено. Денег на столе, само собой, не оказалось. Тогда я стал просить Алексея сознаться, побожившись в таком случае никому никогда не обмолвиться об этом ни словом. Просил его, заклинал, умолял. Так страшно мне хотелось, чтоб он только сознался, что, умоляя его, я чуть не плакал и с радостью отдал бы ему и все эти деньги. Он сначала, совершенно потрясенный и от страху потеряв голову, бормотал что-то нескладное и невнятное, но как только побожился, так окончательно осатанел и стал громко и нахально меня же укорять, что я взвожу на него напраслину. Тогда я почувствовал к нему уже не сострадание, а полное омерзение, и стало мне крайне скверно.
По счастью, в эту самую минуту приехал Миша (младший брат, с которым Владимир был особенно дружен), и с его помощью Лихутинский дом (мать жила в нем до переезда в Петербург) был очищен от Алексея. То есть он забрал свои и не свои пожитки и уехал, так как брат и слышать не хотел, чтоб задержать его и пригласить полицию, что бы следовало сделать, так как, когда он перед тем хныкал и причитал, что вот, мол, до чего пришлось дожить, и младший брат предложил ему открыть сундук, и тут выяснилось, что, хоть денег в нем не нашлось — очевидно, были на самом Алексее, — тем не менее оказалось немало вещей, несомненно ему не принадлежащих, как-то: тома Истории России с древнейших времен, серебряная ложка с вензелем матери и т. д.
Вспоминая эту печальную историю с Алексеем, брат говорил, что вначале он еще нет-нет да и подумает: а вдруг он возьмет да и явится с повинной. — „Как бы это было хорошо!“ Но потом эту надежду потерял.
— И главное, столько лет у нас жил, я был уверен, что он так был привязан к папа, к нам всем, и вдруг… — говорил брат с глубоким и горестным изумлением, так как особенно страдал от малейшей измены верности и дружбе и сам исключительно и глубоко сильно чувствовал благодарность за всякую и небольшую услугу» (там же, 145–147).
Везде в изображениях внешней стороны жизни и поведения Вл. Соловьева, даже если эти воспоминания и не отличаются глубиной, всегда промелькивают замечательные черты личности философа, начиная от его лекторских способностей и кончая его отдельными высказываниями.
Среди рядовых поклонников Вл. Соловьева можно отметить Н. Макшееву. Она в своей статье «Воспоминания о В. С. Соловьеве» ярко рисует то сильное впечатление, которое он производил на публику своими статьями, докладами и лекциями. В силу большой оригинальности своей личности и наружности Вл. Соловьев вызывал у своих знакомых, даже далеких от его взглядов, глубокое впечатление. Худой аскет, с виду похожий на духовное лицо, странник и бродяга, у которого нет ни кола ни двора, постоянный раздаватель всех получаемых им денег — это уже и без всего прочего был весьма колоритная фигура, с которой многие не знали даже, как себя и вести. Но те две черты, о которых мы сейчас скажем, уже совсем делали поведение, наружность и манеру разговаривать Вл. Соловьева чем-то небывалым и даже страшным. Именно он очень часто смеялся, даже хохотал, и, кроме того, был большой любитель винопития.
О внешнем поведении Вл. Соловьева много рассказывает и его сестра М. С. Безобразова в своих воспоминаниях. Однако нужно сказать, что М. С. Безобразова не понимала брата со стороны внутреннего содержания его личности. Поэтому приводимые ею сведения, в правдивости которых мы не сомневаемся, надо интерпретировать в связи с общим обликом внутренней жизни Соловьева.
М. С. Безобразова пишет о раздражительности Вл. Соловьева, но тут же характеризует его в светлых и почти детских тонах: «Мрачное же и тоскующее настроение, равно и раздражительное, хоть и находило на него порой в течение всей жизни, в общем, характер его вспоминается мне удивительно мягким и светлым, и очень много было в нем детского, способность же смеяться и дурачиться — совершенно исключительная, так что иногда достаточно было пустяка, чтобы заставить его закатиться самым задушевным, захлебывающимся смехом, разносившимся на далекое пространство кругом» (10, 132).
Об этом соловьевском смехе писали и рассуждали многие. И действительно, в нем было нечто особенное. Та же М. С. Безобразова пишет: «Случалось ему и знавать и нужду, и он потом, рассказывая об ней, заливался безудержным радостным смехом, потому что у матери было уж очень выразительно скорбное лицо» (там же, 142). По поводу споров об одежде Вл. Соловьев разражался «таким неистовым хохотом — вот сотрясется потолок и рухнет лампа» (там же, 152). Однажды в кружке шекспиристов, куда входили Лопатины, Венкстерн, Гиацинтовы и другие, были сочинены и поставлены две шуточные пьесы, с которыми они разъезжали по знакомым домам. По этому поводу М. С. Безобразова сообщает: «На каждом представлении этих двух вещей брат хохотал так, что не только с лихвой восполнял молчание иногда и большей части публики, но актерам приходилось иногда прерывать игру» (там же, 139). М. С. Безобразова приводит ради примера такой разговор двух знакомых:
«— Приезжайте к нам в четверг: шекспиристы будут эту… галиматью свою ломать…
— Ну, это мне не интересно…
— Постойте, Владимир Соловьев тоже будет.
— Играть?
— Нет, в публике, для одобрения актеров: ему нравится, и все время смеется, знаете, этим своим смехом» (там же, 138).
О смехе Вл. Соловьева интересно пишет С. М. Соловьев, дающий даже нечто вроде приблизительной общей формулы этого смеха: «Много писали о смехе Вл. Соловьева. Некоторые находили в этом смехе что-то истерическое, жуткое, надорванное. Это неверно. Смех В. С. был или здоровый олимпийский хохот неистового младенца, или Мефистофелевский смешок хе-хе, или и то и другое вместе» (41, 51).
В этом же духе говорит о смехе Вл. Соловьева и Андрей Белый. Таково, например, следующее его суждение: «Бессильный ребенок, обросший львиными космами, лукавый черт, смущающий беседу своим убийственным смешком: хе-хе…» (11, 389). В другом месте А. Белый пишет: «Читаются стихи. Если что-нибудь в стихах неудачно, смешно, Владимир Сергеевич разразится своим громовым исступлением „ха-ха-ха“, подмывающим сказать нарочно что-нибудь парадоксальное, дикое. Ничему в разговоре не удивлялся Владимир Сергеевич; добродушно гремел свое: „Ха-ха-ха! Что за вздор!“ И разговор при нем всегда искрился, как шипучее вино» (там же, 392).
Обращает на себя внимание и тот противоречивый смысл, которым отличался смех Вл. Соловьева. Как это ни странно, но в стиле комизма, юмора, иронии Вл. Соловьев был склонен говорить даже о самых высоких предметах своего мировоззрения. То, что он любил шутить, то, что он любил Козьму Пруткова, сам являясь автором целого ряда шуточных произведений, вовсе не удивительно. Но удивительно и заслуживает специального анализа та комическая ирония, с которой написаны, например, «Три свидания». По его же собственным словам, он изобразил в этом произведении самое важное в его жизни. И тем не менее все это сплошная ирония и как бы насмешка над самим собою. На самом деле это даже и не ирония, а просто свободное и беззаботное самочувствие на основе достигнутой и непоколебимой истины. Это один смысловой полюс его философского смеха.
Но был и другой полюс, вполне противоположный этой философской иронии. Именно Вл. Соловьев любил и все просто смешное, анекдоты, побасенки и вообще шутливость, иной раз доходящую до прямой непристойности. Своими непристойными анекдотами он часто смущал собеседников, и в частности от матери и сестер получал прямые выговоры. Но этим он не стеснялся и продолжал в том же духе (см., например, 10, 133–134).
Весьма значительно и глубоко проблемно пишут о смехе Вл. Соловьева В. Л. Величко и А. Амфитеатров.
В. Л. Величко пишет, что в Соловьеве «уживались рядом и порою прерывали друг друга два совершенно противоположных строя мысли… „Первый можно сравнить с вдохновенным пением священных гимнов… Второй — с ехидным смехом, в котором слышались иногда недобрые нотки, точно второй человек смеется над первым“» (14, 173–174). Еще сложнее и труднее для анализа картина смеха Вл. Соловьева, которую мы находим у А. Амфитеатрова. Этот автор пишет: «Удивил нас Соловьев… Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех… Но… доказывал он, положим, что дважды два четыре. Доказал. Поверили в него, как в бога. И вдруг — словно что-то его защелкнуло. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые. — А знаете ли, — говорит, — ведь дважды два не четыре, а пять? — Бог с вами, Владимир Сергеевич! Да вы же сами нам сейчас доказали… — Мало ли что — „доказал“. Вот послушайте-ка… — И опять пошел говорить. Режет cotra, как только что резал pro, пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что эта шутка, а жутко как-то. Логика острая, резкая, неумолимая, сарказмы страшные… Умолк — мы только руками развели: видим, действительно дважды два — не четыре, а пять. А он — то смеется, то — словно его сейчас живым в гроб класть станут» (9, 256–257).
Смех Вл. Соловьева очень глубок по своему содержанию и еще не нашел для себя подходящего исследователя. Это не смешок Сократа, стремившегося разоблачить самовлюбленных и развязных претендентов на знание истины. Это не смех Аристофана или Гоголя, где под ним крылись самые серьезные идеи общественного и морального значения. И это не романтическая ирония Жан-Поля, когда над животными смеется человек, над человеком ангелы, над ангелами архангелы и над всем бытием хохочет абсолют, который своим хохотом и создает бытие и его познает. Ничего сатанинского не было в смехе Вл. Соловьева, который по своему мировоззрению все-таки проповедник христианского вероучения. И это уже, конечно, не комизм оперетты или смешного водевиля. Но тогда что же это за смех? В своей первой лекции на Высших женских курсах Герье Вл. Соловьев определял человека не как существо общественное, но как существо смеющееся.
Еще один штрих, вероятно, весьма характерен для личности Вл. Соловьева, хотя, как мы скажем ниже, здесь никак не может идти речь о буквальном понимании этого штриха. Мы нередко находим в соловьевских материалах факты, свидетельствующие о любви Вл. Соловьева к вину, особенно к шампанскому. Можно сказать, что всякий случай, более или менее заметный в его жизни, он сопровождал шампанским и угощал им своих друзей.
Но не нужно слишком преувеличивать отношение Вл. Соловьева к вину. Если посмотреть, например, его произведения, написанные в последние десять лет жизни, то можно только поразиться небывалой работоспособности Вл. Соловьева, огромному количеству разрабатываемых у него тем, а также оригинальности и глубине постановки вопросов, подлежавших его исследованию. Никакая голова, находящаяся под действием винных паров, не может сочинить столько, сколько продумал и написал Вл. Соловьев за свою сравнительно короткую жизнь. В одной характеристике Вл. Соловьева, которую дает С. М. Соловьев (племянник), прямо говорится, что при своей перегрузке литературной работой Вл. Соловьев, наоборот, иной раз подбадривал себя вином. Но в последние годы жизни он вообще не пил крепких напитков, употребляя только легкое вино.
У Вл. Соловьева была даже собственная философская теория винопития, которую он изложил в одном из самых обширных и возвышенных своих произведений — «Оправдании добра». Здесь он пишет следующее: «Что касается до питья, то самое простое благоразумие запрещает употребление крепких напитков, доводящее до потери разума. Аскетический принцип требует, конечно, большего. Вообще вино повышает энергию нервной системы и через нее психической жизни; на наших (по-видимому, опечатка вместо „низших“. — А, Л.) ступенях духовного развития, где преобладающая сила в душе еще принадлежит плотским мотивам, все, что возбуждает и поднимает служащую душе нервную энергию, идет на пользу этого господствующего плотского элемента и, следовательно, крайне вредно для духа; поэтому здесь необходимо полное воздержание „от вина и сикера“. Но на более высоких ступенях нравственной жизни, какие достигались и в языческом мире, например, Сократом (см. Платонов „Пир“), — энергия организма служит более духовным, нежели плотским, целям, и повышение нервной деятельности (разумеется, в пределах, не затрагивающих телесного здоровья) усиливает действие духа и, следовательно, может быть в известной мере не только безвредно, но даже и прямо полезно. Всеобщим и безусловно правилом остается здесь одно: сохранять духовную трезвость и ясность сознания» (4, 8, 77–78).
В конце всего этого рассуждения Вл. Соловьев делает примечание внизу страницы, где высказывает, кажется, более строгий взгляд на винопитие: «Впрочем, так как при действительном нравственном уровне человечества господство плотских влечений есть правило, а преобладание духовных побуждений — только исключение, и притом довольно неустойчивое, то проповедь трезвости и борьба против искусственного одурения может без всяких практических неудобств выставлять своим правилом полное воздержание от крепких напитков и всяких других возбуждающих средств. Но это уже имеет значение педагогическое и профилактическое, а не принципиально-нравственное» (там же, 78).
Вл. Соловьев был довольно равнодушен к еде и если что и любил, то по преимуществу сладкое. У М. С. Безобразовой читаем: «Брат был очень умерен в пище, ел только, чтоб не быть голодным, хотя иногда, заработавшись, мог терпеть и чувство голода; не придавал он ни малейшей важности вопросу о bonne chere и не выносил, чтоб и другие придавали, но ошибочно думать, что брат был совершенно равнодушен ко всякой пище в смысле отсутствия вкусов или болезненного отсутствия аппетита, совсем наоборот: он очень любил некоторые вещи, например сладкое, шоколад, фрукты и ягоды, особенно малину, только боялся очень червяков и просил, нельзя ли получше выбрать, но, понятно, сам себе ни разу в жизни не купил никакого лакомства, а когда давали, был доволен и ел очень охотно. Хотя у матери обед всегда заканчивался сладким, садясь за шашки за послеобеденным чаем, брат говорил: „Мама, нельзя ли чего-нибудь сладкого?“ И мурлыча и обдумывая ходы, истреблял этого сладкого изрядное количество» (10, 150).
Личность Вл. Соловьева, несомненно, была весьма высокого типа. Ему были свойственны разного рода мысли, настроения и поступки, которые и сравнивать нельзя с повседневным поведением обывателя. Но это не значит, что во Вл. Соловьеве было нечто недоступное, сверхъестественное и всегда далекое от обыденной жизни. Он любил шутить, часто находил утешение в общении с простыми людьми, и ему были присущи естественные человеческие чувства. На эту тему можно было бы привести немало материалов из его биографии. Но мы ограничимся здесь только одним местом из воспоминаний его сестры, свидетельствующим о естественности человеческих чувств Вл. Соловьева. «Помню, не один раз брат с сокрушенным громким вздохом, и комичным, и совершенно искренним, в котором было опять-таки что-то детское, признавался матери, что много нагрешил в сердце своем. А я любила эти признания: чувствовалось, что этот человек, неустанно служивший Афродите Небесной, не был чужд земных соблазнов, и порой они находили на него, как тяжелые зловещие тучи, и давили, и гнули, и бороться ему с ними было нелегко, и тем не менее он вел непрестанную борьбу со всякой нечистой мыслью» (там же, 135). Подобного рода биографические сведения, конечно, ни в какой степени не снижают высоты и необычности личных качеств Вл. Соловьева. Наоборот, они делают их только более живыми, более человеческими и для нас более понятными.
Вл. Соловьев отличался влюбчивостью. Л. М. Лопатин вообще называет юность Вл. Соловьева «богатой внутренними бурями и умственными катастрофами». Однако то, что мы знаем о его юношеских романах, например, по его письмам к Екатерине Романовой (в дальнейшем по мужу Селевиной) или по воспоминаниям Е. М. Поливановой, поражает своей чистотой, целомудрием и благородством. В это время ему было 18–20 лет. Кто хочет понять подлинную настроенность Вл. Соловьева в эти годы, пусть прочитает его рассказ «На заре туманной юности», написанный в 1892 г. (см. 6, 3, 283–298). Здесь читатель найдет весьма тонкую наблюдательность, высокую принципиальность чувства, горячее стремление чистых чувств, философскую осмысленность ощущений любви, и все это на фоне тонкого и благородного юмора, свидетельствующего о свободе намерений автора.
После возвращения из Египта Вл. Соловьев познакомился с С. А. Толстой и ее племянницей Софьей Петровной Хитрово. К С. П. Хитрово Вл. Соловьев питал серьезные чувства и готов был на ней жениться. Но она, весьма ласково относившаяся к Вл. Соловьеву, тем не менее отказывала ему во взаимности, не желая разводиться со своим мужем. Любовь эта продолжалась много лет и так и не дошла до бракосочетания, хотя Вл. Соловьев был постоянным посетителем С. А. Толстой и С. П. Хитрово в их имении «Пустынька» под Петербургом и в имении «Красный Рог» под Брянском.
Роман с С. П. Хитрово длился не меньше 10 лет, начиная с возвращения Вл. Соловьева из Египта. Кажется, надежды на брак с нею Вл. Соловьев переживал больше всего весной 1883 г. Об этом периоде его жизни вспоминает его сестра Мария Сергеевна. В боковом кармане жилета у груди он носил талисман — вязаный розовый башмачок с ноги ребенка любимой женщины, «изредка вынимал, любуясь, смотрел на него с улыбкой, иногда целовал и опять бережно прятал» (10, 158). Раз он пришел в отчаяние, так как ему показалось, что он его потерял. Поднял тревогу, но через несколько минут вернулся, «держа в приподнятой правой руке бережно, двумя пальцами, розовый башмачок. На лице и радость, и смущение, и виноватость» (там же). Когда Вл. Соловьев получал письмо от Софьи Петровны, он читал его с паузами, по нескольку слов. «Чего ж тут непонятного! — говорил он. — Если б я прочел все сразу, впереди не было бы никакого утешения, а так я длю блаженство. Ну а с другой стороны, это учит и самообладанию» (там же, 159).
В это же время Вл. Соловьев опасно заболел. «Это случилось весной, — рассказывает М. С. Безобразова, — если не ошибаюсь, в апреле, незадолго перед тем, как Москва начала готовиться к коронации Александра III. Время тогда было „волнистое“, как выражался один знакомый, а для брата и в личном отношении: он всю зиму перед тем ждал и надеялся, что та, которую он называл своей невестой, решится на последний шаг, чтобы стать его женой… Помню, с каким таинственным и сияющим лицом брат иногда за обедом говорил: „Пью за здоровье моей невесты!“ Потом, обратясь к матери: „Мама, она скоро к Вам приедет, желая с Вами познакомиться, а также и с вами“, он кивал головой всем нам.
Последние дни, перед тем как заболеть, ждал писем, выходил из своей комнаты на каждый звонок, был то страшно мрачен, то безумно радостен. И вдруг заболел, и сразу плохо: не то тиф, не то нервная горячка. Вероятно, тут была и простуда, и надрыв нервов. Жар страшный, и не спадает, но в полной памяти…» Когда он уже почти поправился и мог ходить, внезапно, в первый и единственный раз, появилась С. П. Хитрово. Вл. Соловьев молча встретил ее, поклонился и, ни слова не говоря, провел в свой кабинет, где они долго беседовали, хотя предмет этой беседы так и остался неизвестным.
Через несколько недель Вл. Соловьев, с бритой после тифа головой, уехал в «Красный Рог», к графине С. А. Толстой. Оттуда он писал брату Михаилу: «Я, кажется, почти выздоровел, но у меня был настоящий тиф, даже волосы стали лезть, и я должен был обрить голову. Это настолько умножило мою красоту, что юнейший из здешних младенцев, Рюрик, с озабоченным видом спрашивал у всех домочадцев: „Ведь Соловьев урод, правда, урод?“» (6, 4, 85).
В 1887 г. роман, по-видимому, пришел к печальному концу, насколько можно судить по трем стихотворениям этого года: «Безрадостной любви развязка роковая!..» (1 января), «Друг мой! прежде, как и ныне…» (3 апреля) и «Бедный друг, истомил тебя путь…» (18 сентября). В последнем стихотворении вечная красота, как ее понимал Вл. Соловьев, получила свое выражение. Стихотворение полно нежной ласки и даже какой-то жалости и сострадания к возлюбленной, выступающей здесь в виде усталого и больного, маленького человека, обремененного жизнью и жаждущего обрести покой; да и сам автор изображен здесь тоже в виде слабого и беспомощного человека. А ведь в Софье Хитрово Вл. Соловьев находил отдаленное подобие вечной Софии. Соловьев в это время уже начинал болеть, страдал хронической бессонницей, от которой он не мог найти никаких средств и по ночам в уме своем мучительно расставался с образом любимой женщины. Так как это стихотворение тоже было написано одной мучительной ночью и весьма для Вл. Соловьева характерно, мы позволим себе привести его целиком.
Можно только пожалеть, что у нас нет никаких достаточно выразительных материалов, на основании которых можно было бы проанализировать интимные отношения между Вл. Соловьевым и С. П. Хитрово. По-видимому, оба они предприняли все усилия для того, чтобы скрыть от окружающих и от потомства сущность своих отношений. Вероятно, здесь были и письма, и воспоминания, и чьи-нибудь записи. Ничего из этого до нас не дошло, ни одной строки. И останется навсегда загадкой, каким это образом крупнейший идеалист и проповедник вселенской церкви, профессор и публицист, с одной стороны, а с другой стороны, крупная, богатая и родовитая помещица оценивали друг друга как людей слабых, беспомощных, переутомленных, у которых великая взаимная любовь, великая тоска и сознание великой жизненной загубленности и неудача сливались в одно целое. В приведенном выше стихотворении соловьевский гимн вселенскому солнцу любви непонятным образом переплетается с чисто чеховской тематикой слабого и беспомощного неудачника.
Неизвестно почему, но около 1887 г. Вл. Соловьев окончательно расстался с мыслью о женитьбе на С. П. Хитрово. Он настолько сильно переживал этот разрыв, что, по сообщению С. М. Соловьева-младшего, даже стал сильно болеть. Правда, друзья Вл. Соловьева не очень сочувствовали его намерениям. Так, например, довольно отрицательного мнения о С. П. Хитрово придерживался такой близкий его друг, как А. Ф. Аксакова. В неопубликованном письме к ней Вл. Соловьев писал: «Мне жаль, что Вы, кажется, имеете какое-то предубеждение против бедной дамы моего сердца. Она очень замечательная и очень несчастная женщина» (42, 272). После 1887 г. Вл. Соловьев даже перестал бывать в «Пустыньке». Свои посещения «Пустыньки» он возобновил только через 10 лет. Да и то, судя по письму Вл. Соловьева к В. Л. Величко от 3 июня 1897 г., он жил не в главном доме, а нанимал дачу у сына С. П. Хитрово Рюрика (6, 1, 232).
Несмотря на все свои неудачи с С. П. Хитрово, жившей в «Пустыньке», Вл. Соловьев очень любил это имение, и оно прошло глубоким символом почти через всю его жизнь.
Были два обстоятельства, которые могли приблизить С. П. Хитрово к мысли о выходе замуж за Вл. Соловьева. Это смерть графини С. А. Толстой в 1892 г., после чего С. П. Хитрово получила полную самостоятельность в «Пустыньке», и смерть мужа в 1896 г., после которой отпадала необходимость в разводе. Ни то, ни другое обстоятельство нисколько не приблизили С. П. Хитрово к мысли о выходе замуж за Вл. Соловьева. После смерти М. А. Хитрово Вл. Соловьев возобновил свои предложения С. П. Хитрово. Но ее отказ на этот раз, кажется, не очень огорчил его. Следует только заметить, что недопустимость развода не имела для него ровно никакого значения. В письме к той же А. Ф. Аксаковой он писал: «Я совершенно согласен с Иваном Сергеевичем, что моя женитьба на разведенной была бы вредна и недостойна, и очень рад, что этого не вышло. Но это не потому, чтобы первый брак был нерушимым абсолютно (ничего подобного не признает церковь, допускающая второй брак для вдовых, даже для одной из разведенных сторон), а просто ради ни в чем не повинных детей, которые были бы поставлены таким браком в трагическое положение между отцом и матерью. Это есть единственное нравственное препятствие в этом деле» (42, 271–272).
Между прочим, весьма характерно для постоянных благородных чувств Вл. Соловьева то, что при всем своем нежном отношении к С. П. Хитрово Вл. Соловьев очень доброжелательно относился к ее мужу, и когда тот умер в 1896 г., то Вл. Соловьев писал М. М. Стасюлевичу 26 июля того же года: «Я искренно пожалел о внезапной смерти Хитрово, с которым в этот последний его приезд мы встречались как старые приятели. Он очень изменился к лучшему под конец жизни, и деятельность его в Японии была безукоризненна. Я написал некролог для „Вестника Европы“» (6, 1, 136–137). И вообще приходится только удивляться благородству и даже какой-то духовной тонкости взаимных отношений, царивших около Вл. Соловьева. С. П. Хитрово не считала для себя возможным вступить в брак с Вл. Соловьевым, но тем не менее и к нему, да и ко всем Соловьевым относилась чрезвычайно дружелюбно и благожелательно. В октябре 1895 г., поздравляя Михаила Сергеевича Соловьева с рождением у него сына, она писала: «Вы знаете, Михаил Сергеевич, до какой степени вы все мне близки к сердцу и как мне жаль, жаль, что жизнь моя все еще отдаляется от всех, вас, но только во внешнем мире — а я бы ужасно хотела, чтобы вы имели ко мне то же дружеское чувство, которое я к вам питаю» (42, 248). Подписано это письмо было только одним словом «София», в котором нельзя не видеть весьма грустного намека на глубокие умозрения Вл. Соловьева и на невозможность их реального осуществления.
Свои дружеские чувства и к Вл. Соловьеву, и ко всем Соловьевым С. П. Хитрово доказала еще и тем, что специально приехала в Москву на похороны Вл. Соловьева и даже требовала отправить гроб в «Пустыньку», где сам Вл. Соловьев указал место для своего погребения. И, быть может, это и состоялось бы, но сестры Вл. Соловьева, Надежда и Поликсена, воспрепятствовали ей, и Вл. Соловьев был похоронен в Москве. Так окончился самый серьезный роман Вл. Соловьева, и окончился, как видим, не только весьма возвышенно и целомудренно, но и человечески неудачливо, человечески беспомощно.
В дальнейшем, насколько можно судить по биографическим данным, настоящих и нежных интимных чувств у Вл. Соловьева не появлялось. Наоборот, С. М. Соловьев-младший утверждает, что в начале 90-х годов Вл. Соловьев даже отошел от своего постоянного аскетизма и вел более свободный и разбросанный образ жизни. Но об этом нет никаких сведений. В 1892–1894 гг. он увлекался некоей С. М. Мартыновой. Сохранившиеся стихи к ней (в изд. 1974 г. №№ 155–160, 162) и письма (см. 6, 4, 150–159) полны больше шуток и юмора, чем серьезного чувства. Ни в ком из любимых им женщин Вл. Соловьев не находил для себя настоящей взаимности. Да это и понятно для такой духовно сложной и психологически насыщенной натуры, как Вл. Соловьев.
Разнообразие и противоречивость отдельных черт личности Вл. Соловьева, его непостоянство и легкая подвижность не только в поведении, но даже и в теоретических взглядах — все это сильно мешает представить себе общий облик Вл. Соловьева; и то, что было сказано на эту тему, тоже удивляет и поражает своим разнообразием и своей противоречивостью. Что касается автора настоящей работы, то ему представляется более или менее определенной одна особенность личности Вл. Соловьева, хотя по мере дальнейшего изучения его жизни и творчества здесь возможны разные поправки, а может быть, даже и установление тех или иных наших ошибочных заключений. Именно нам представляется, что трем писателям более или менее удалась характеристика личности Вл. Соловьева в целом. И при условии, что эта характеристика все еще требует критического анализа и что в дальнейшем она может быть существенно изменена, — при этом условии мы решаемся дать ее словами трех указанных писателей, заставляющими во всяком случае о многом задуматься и многое проверить с самой беспощадной критикой. Эти три писателя — В. В. Розанов, Л. М. Лопатин и Е. Н. Трубецкой. У многих тут, несомненно, появится некоторого рода смущение по поводу привлечения В. В. Розанова. Оба других автора не могут вызвать никакого сомнения уже потому, что и сами придерживались разных взглядов и с Вл. Соловьевым были далеко не во всем согласны. Но они были ближайшими друзьями Вл. Соловьева и знали его больше чем кто-нибудь другой.
В. В. Розанов был весьма оригинальный писатель и в некоторых отношениях по-настоящему талантливый человек. Резкая литературная полемика Вл. Соловьева и Розанова, по-видимому, нисколько не отразилась на их личных вполне дружеских отношениях. Но то, что мы скажем сейчас об общей оценке Вл. Соловьева Розановым, выходит далеко за пределы декадентства и бесцеремонного анархизма Розанова. Нашу общую характеристику личности Вл. Соловьева мы начинаем с Розанова.
Розанов глубочайше понимал все религии; его критика христианства и церкви отличалась необыкновенной принципиальностью. Но ему часто присущ был парадоксализм мышления и суждения. В статье 1904 г. «Об одной особенной заслуге Вл. С. Соловьева», говоря о большой скудости отечественного богословия и философии, он вдруг пишет, развивая мнение Л. М. Лопатина: «Все они, русские философы до Соловьева, были как бы отделами энциклопедического словаря по предмету философии, без всякого интереса и без всякого решительного взгляда на что бы то ни было. Соловьев, можно сказать, разбил эту собирательную и бездушную энциклопедию и заменил ее правильною и единоличною книгою, местами даже книгою страстной. По этому одному он стал „философом“» (39, 2, 369). Справедливость заставляет сказать, что В. В. Розанов на этот раз высказал совершенно правильную мысль.
Но что представляется нам необыкновенно ценным в характеристике личности Вл. Соловьева, так это то, что В. В. Розанов написал в статье 1901 г. «На панихиде по Вл. С. Соловьеве». 30 июля 1901 г., в годовщину кончины философа, его друзья и почитатели служили панихиду по нем в Сергиевском соборе на Литейной, в Петербурге.
На этой панихиде присутствовал и В. В. Розанов. Образ Вл. Соловьева, который он нарисовал после этого события, является, можно сказать, лучшим из написанного о Вл. Соловьеве.
Розанов весьма талантливо уловил во Вл. Соловьеве его постоянную неустроенность, его бездомность, его вечные искания, которые ничем не кончались. Розанов пишет: «Вот уж был странник в умственном, идейном и даже в чисто бытовом, так сказать, жилищном отношении! Сын профессора, с большими правами на кафедру, он не получил „по независящим обстоятельствам“ этой кафедры; внук священника, посвятивший памяти деда „Оправдание добра“, он был крайне стеснен в своих желаниях печататься в академических духовных журналах; журналист, он нес религиозные и церковные идеи, едва ли встречая для них распахнутые двери в редакциях. Он пробирался в щелочку, садился пугливым гостем, готовым вот-вот вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом» (там же, 1, 239–240).
Мы раньше уже не раз замечали, что у Вл. Соловьева его философское глубокомыслие очень часто объединялось с юмором, со смехом. Розанов подметил также и эту черту: «Какой странный у него был этот смех, шумный и может быть маскирующий постоянную грусть. Если кому усиленно не было причин „весело жить на Руси“, то это Соловьеву» (там же, 240). И где бы он ни жил, в Москве ли, в Петербурге ли, у себя ли, у приятелей, никто не замечал грусти в смехе Вл. Соловьева. А вот Розанов заметил. И он был бы еще более прав, если бы заметил, что соловьевский смех, с одной стороны, делает этот предмет смеха чем-то свободным, независимым и самодовлеющим, а с другой, и чем-то недостижимым, чем-то несравнимым с фактическими несовершенствами жизни. Но из слов Розанова это выходит само собой.
В дальнейшем Розанов отмечает у Вл. Соловьева не только внешнюю неустроенность его жизни и деятельности, но и широту его духовных стремлений, в которых смешивались в одно целое и духовность его деда-священника, и ученость его знаменитого отца, и собственная профессорская подготовка, и далеко идущий антитрадиционный размах шестидесятников, граничивший с самой настоящей революционностью. Это замечательное умение Вл. Соловьева избегать всяких схематических характеристик и видеть в самых резких противоположностях нечто единое мы находим в таких словах Розанова: «Дедовская священническая кровь, учено-университетские заботы отца и, наконец, весь духовный пласт наших шестидесятых годов с их хлопотливыми затеями, шумными отрицаниями и коренным русским „простецким“ характером отразились в Соловьеве. Он был какой-то священник без посвящения, точно несший обязанности, и именно литургические обязанности, на себе. Это заметно было в его психологии. Точно он с вами говорит-говорит, а вот придет домой, наденет епитрахиль и начнет готовиться к настоящему, должностному, к завтрашней „службе“. Ссылки на Священное Писание, на мнения отцов церкви, на слова какого-нибудь схимника-„старца“ постоянно мелькали в его разговоре» (там же, 240).
Духовный размах Вл. Соловьева, с точки зрения Розанова, был вообще редчайшим явлением в русской литературе. То, что он был профессором, это не удивительно; и то, что он был хорошим лектором, это явление уже не такое редкое; журналистов разного рода тоже весьма много. Но необычайно одаренный от природы Вл. Соловьев был или мог быть не только профессором или лектором. Он был еще необычайно одаренным журналистом, необычайно чувствующим и тончайше восприимчивым, так что трудно было даже и определить, где кончалась у него ученость и начиналась журнальная нервозность, а также где кончалась его бесконечная любовь к слову и начиналась гениальная игра со словами и огнедышащая риторика.
Самым глубоким и для нас самым неожиданным является у Розанова сближение Вл. Соловьева, правда временное, с теми, кого принято называть шестидесятниками. Если вдуматься в это сопоставление Вл. Соловьева с шестидесятниками, то действительно начинает бросаться в глаза общее для него и для них свободомыслие, презрение ко всякого рода обывательщине, хотя бы даже и церковной, а также вера в какие-то небывалые синтезы жизни, несмотря на их неопределенность, даже какую-то туманность, несмотря даже на их какой-то анархический размах и несмотря на их без всякой мыслительной точности всемирно-историческое духовное освобождение. Правда, конец века ознаменовался отходом русского передового общества от столь неудержимых порывов к духовному освобождению и переходом к плаксивой и сумеречной обыденщине. Сильный и волевой Вл. Соловьев не мог с этим примириться и глубоко страдал от невозможности так же свободно мыслить, как это было в более ранней русской общественности. И это было для него новой трагедией. Но на этот раз история уже не позволила ему выбраться из мучительных пут этой трагедии. Он всегда мыслил себя на передовых позициях, всегда был застрельщиком, всегда был каким-то внутренним и духовным революционером, что часто и приводило к опрометчивости, к философским неудачам и в конце концов к упованию на преображение мира после окончательной мировой или даже космической катастрофы. Об этой катастрофе Розанов не говорит, но о крушении идеально-человеческих исканий у Вл. Соловьева он говорит, и притом говорит красноречиво.
«В образе мыслей его, а особенно в приемах его жизни и деятельности, была бездна „шестидесятых годов“, и нельзя сомневаться, что, хотя в „Кризисе западной философии“ и выступил он „против позитивизма“, т. е. против них, он их, однако, горячо любил и уважал, любил именно как „родное“, „свое“…
Он начал писать в семидесятых годах. И с людьми 80—90-х годов он уже значительно расходился. Это второе, послереформационное поколение было значительно созерцательнее его. У Соловьева было явное желание завязать с ним связь, но она не завязывалась, несмотря на готовность и с другой стороны. В этом втором поколении было заметно менее желания действовать, а Соловьев не умел жить и не действовать. Как-то он мне сказал о себе, что он — „не психолог“. Он сказал это другими словами, но заметно было, что он жалел у себя о недостатке этой черты. Действительно, в нем была некоторая слепота и опрометчивость конницы сравнительно с медленной и осматривающейся пехотой или артиллерией. Во всем он был застрельщиком. Многое начал, но почти во всем или не успел, или не кончил, или даже вернулся назад. Но если были неудачны его „концы“, то были высоко даровиты и нужны для отечества и славны для его имени выезды, „начатки“, первые шаги…» (там же, 241–242)
В результате приведения нами обширных цитат из Розанова о Вл. Соловьеве необходимо сказать, что, кроме Розанова, вообще мало кто говорил о Вл. Соловьеве так метко и так проникновенно. Постоянная бездомность и неустроенность жизни и деятельности Вл. Соловьева; его русская душа, всегда грезящая о всемирно-историческом духовном и материальном освобождении; его русское сердце, всегда ищущее уюта и никогда его не находящее; невозможность и недоступность такого рода идеалов, постоянно заставлявшие переходить от профессуры к литераторству и публицистике, а в журналистике от талантливых литературно-критических анализов к прямому космическому утопизму; его постоянная жажда общественно-политической свободы, заставившая его перейти к трагическому одиночеству как среди либеральной, так и среди консервативной русской общественности, — все это подмечено и сформулировано Розановым настолько же ясно и просто, насколько и гениально.
И так как статьи Розанова о Вл. Соловьеве всеми давно забыты и их найти трудно даже в столичных центральных библиотеках, то мы сочли необходимым привести все предыдущие цитаты, поскольку этот бывший ругатель Вл. Соловьева высказал также о нем глубокие мысли, которые вообще едва ли приходили кому-нибудь в голову.
Другую весьма ценную характеристику личности Вл. Соловьева в целом мы находим у Л. М. Лопатина. Последний тоже выдвигает на первый план противоречивость натуры Вл. Соловьева. Но и он находит эту противоречивость и в мысли и в жизни Вл. Соловьева обоснованной и для Вл. Соловьева вполне естественной. Л. М. Лопатин пишет: «Глубокая религиозность с раннего детства и через всю жизнь, за исключением краткого перерыва в годы юности, и — полное свободомыслие. Напряженная сосредоточенность мощного и замечательно оригинального философского ума на самых трудных и возвышенных проблемах жизни и знания и — чрезвычайная общительность, делавшая его незаменимым собеседником, отзывчивым товарищем, задушевным и любящим другом. Редкая самобытность мысли, с ранних лет заставлявшая его на все смотреть по-своему, и — удивительно развитая способность усвоять и проникаться чужими взглядами, лежавшая в основании его громадной начитанности в самых разнообразных областях, которая давалась ему как будто сама собой, без всяких особых усилий с его стороны. По существу аскетический и печальный взгляд на условия чувственного, земного существования, соединенный с очень серьезной, искренней и строгой постановкой идеала душевной чистоты, и — ясная жизнерадостность, страстная пылкость темперамента, способность к беззаветным сердечным увлечениям, которая нередко проносилась опустошающими бурями в его потрясенном духе. Мистическое прозрение в глубочайший смысл жизни, скорбное сознание ее внутреннего трагизма и — неиссякаемый юмор, светлая веселость, детски заразительный хохот, которого не забудет никто из знавших Соловьева лично. Изумительная терпимость к чужим мнениям, позволявшая ему близко сходиться с людьми совсем другого умственного и духовного склада, чем он сам, — и горячий задор в спорах даже о незначительных предметах. Беспечность, доходящая до безалаберности в устройстве своих личных дел, и — трогательная заботливость о чужих делах, не только готовность, но и тонкое практическое умение помочь в чужой нужде. И много можно было бы привести еще таких же пар противоположностей, и все они так гармонически уживались в своеобразном единстве личности Соловьева, что его никак нельзя вообразить без них. И на всем этом лежала такая прочная и неистребимая печать внутреннего благородства, высшего аристократизма души, что он органически был неспособен подчинять свою волю каким-нибудь пошлым и низким побуждениям. Высокий строй духа был прирожден ему, и оттого в нем не поколебали его никакие житейские испытания и никакие перемены судьбы, и он донес его до могилы. Таков был Соловьев как человек» (24, 625–627).
В дальнейшем Л. М. Лопатин говорит о единстве и целостности исканий Вл. Соловьева, наличных у него наряду с глубиной и цельностью его натуры. «В вопросах исторических, церковных, общественных он часто колебался, быть может, заблуждался и обманывался. Допустим все это — ведь нет в самом деле на свете непогрешимых людей. Но он был честный, пламенный, неутомимый искатель правды на земле, и он верил, что она сойдет на землю» (там же, 636).
Весьма ценную и глубокую характеристику Вл. Соловьева мы находим у Е. Н. Трубецкого. Этот автор справедливейшим образом выдвигает на первый план в личности и воззрениях Вл. Соловьева универсализм, всегда мешавший ему останавливаться на чем-нибудь одностороннем или условном. «Тот широкий универсализм, — пишет Е. Н. Трубецкой, — который мы находим у высших представителей философского и поэтического гения, был ему присущ в высшей мере; именно благодаря этому свойству он был беспощадным изобличителем всякой односторонности и тонким критиком: в каждом человеческом воззрении он тотчас разглядывал печать условного и относительного» (43, 7, 25). В этом смысле Вл. Соловьев, по мнению Е. Н. Трубецкого, никогда не был ни западником, ни славянофилом, ни либералом, ни консерватором, ни социалистом, ни индивидуалистом, ни приверженцем каких-либо односторонностей идеализма или материализма. «Ничто так не раздражало покойного философа, как идолопоклонство. Когда ему приходилось иметь дело с узким догматизмом, возводившим что-либо условное и относительное в безусловное, дух противоречия сказывался в нем с особой страстностью» (там же, 27). «Он — верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в Исламе, но и во всевозможных языческих религиях востока и запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических» (там же, 27–28).
По мнению Е. Н. Трубецкого, тот же самый универсализм был характерен и для бытовой жизни Вл. Соловьева. «Ради друзей он был всегда готов на жертвы; если бы это было нужно, он не задумался бы положить за них душу; но было бы совершенно невозможно представить себе его супругом и отцом… В течение своей жизни он был влюблен много раз, горячо и страстно. Однако это чувство не могло его приковать; ибо и здесь элемент универсальный преобладал над личным, индивидуальным» (там же, 30).
Из этого, по мнению Е. Н. Трубецкого, вытекает также и то, что Вл. Соловьев, в сущности говоря, воплощал в себе тот тип народного праведника, который всю жизнь странствовал по земле и везде всем старался помочь и словом и делом.
«Своим духовным обликом он напоминал тот, созданный бродячей Русью, тип странника, который ищет вышнего Иерусалима, а потому проводит жизнь в хождении по всему необъятному простору земли, ищет и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой здешней обители. В такой жизни материальные заботы не занимают много места: у странников они олицетворяются всего только небольшой котомкой за плечами. Сам Соловьев сознавал себя таким. В „Трех встречах“, вспоминая свое искание откровений в пустыне египетской, он сравнивает себя с дядей Власом Некрасова. В шуточный тон тут облекается весьма серьезный смысл» (там же, 38).
Если мы сравним эти три характеристики личности Вл. Соловьева в целом, принадлежащие В. В. Розанову, Л. М. Лопатину и Е. Н. Трубецкому, то все они выдвигают на первый план, с одной стороны, универсализм философа, мешавший ему останавливаться на отдельных мелочах жизни и мысли, а с другой — его необычайную широту в обобщенных оценках именно этих мелочей жизни и мысли.
К этой характеристике личности Вл. Соловьева мы должны добавить один момент, о котором никак нельзя забывать, особенно если иметь в виду чрезвычайную сложность личности Вл. Соловьева. Этот простой, простейший, понятнейший и до наивности очевиднейший момент заключается в том, что Вл. Соловьев никогда и нигде не мог удовлетвориться окружающей действительностью, что он всегда старался вырваться из ее оков и что фактически, на деле, т. е. на самом деле, всегда был вне ее нелепых повелений. Вот что он писал Е. К. Романовой (Селевиной) 2 августа 1873 г.:
«С тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, я сознавал, что существующий порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и гражданский, отношения людей между собою, определяющие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким должен быть, что он основан не на разуме и праве, а, напротив, по большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и насильственном подчинении. Люди практически хотя и видят неудовлетворительность этого порядка (не видеть ее нельзя), но находят возможным и удобным применяться к нему, найти в нем свое теплое местечко и жить, как живется. Другие люди, не будучи в состоянии примириться с мировым злом, но считая его, однако, необходимым и вечным, должны удовольствоваться бессильным презрением к существующей действительности или же проклинать ее a la лорд Байрон. Это очень благородные люди, но от их благородства никому ни тепло, ни холодно. Я не принадлежу ни к тому, ни к другому разряду. Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта. Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: где средства?» (6, 3, 87–88).
Глава II. Историко-философская ориентация
С самого начала своего философского творчества Вл. Соловьев всегда проявлял небывалую самостоятельность и тончайший критицизм при обсуждении огромного числа излагаемых философов. Его критический ум, поражающий быстротою охвата обширной литературы в течение самого незначительного времени, делает обзор источников его философии делом уже менее важным и не столь интересным, как это обычно бывает. В конце концов даже трудно сказать, какие источники были для него самыми главными и основными и какие он достаточно основательно использовал. И если в дальнейшем мы набросаем краткий обзор этих источников, то скорее ради академической традиции историко-философских исследований, чем ради выяснения существа самих соловьевских теорий.
Второе обстоятельство, которое бросается в глаза при изучении источников философии Вл. Соловьева, — это подведение изученных им философов к своему собственному мировоззрению. Каждый крупный философ является для него только какой-нибудь односторонностью, в отношении которой его собственное мировоззрение кажется ему гораздо богаче, гораздо синтетичнее.
1. Вл. Соловьев и Платон. Основатель мирового идеализма Платон влиял, конечно, на всех идеалистов, которые только были в истории, и в этом смысле, конечно, был источником также и для Вл. Соловьева. То, что идея выше материи и определяет ее, оформляет и организует, и у Платона и у Вл. Соловьева об этом нечего и говорить, это достаточно ясно. Любовь Вл. Соловьева к Платону сказалась в том, что он, как известно, предпринял даже попытку перевести все диалоги Платона на русский язык, и только преждевременная кончина помешала ему довести это дело до конца. Однако и в отношении Платона Вл. Соловьев питал столь оригинальные чувства, какие до него совершенно никем не высказывались.
Вл. Соловьев высоко ставит платоновское идеальное умозрение. Но, согласно Вл. Соловьеву, одного умозрения идей еще очень мало для преобразования жизни. Необходимо, чтобы идея еще и воплотилась материально, не теряя своей идеальности. Однако духовный опыт Платона, по Вл. Соловьеву, был далек от такого боговоплощения. Отсюда — идеализм для Платона явился только источником душевной драмы и невозможности для материи засиять полным светом идеи. Вл. Соловьев пишет: «Чтобы идти дальше и выше Сократа, — не в умозрении только и не в стремлении только, а в действительном жизненном подвиге, — нужно было больше, чем человека. После Сократа, и словом, и примером научающего достойной человека смерти, дальше и выше мог идти только тот, кто имеет силу воскресения для вечной жизни. Немощь и падение „божественного“ Платона важны потому, что резко подчеркивают и поясняют невозможность для человека исполнить свое назначение, т. е. стать действительным сверхчеловеком, одною силою ума, гения и нравственной воли, — поясняют необходимость настоящего существенного богочеловека» (4, 9, 240–241).
2. Вл. Соловьев и неоплатонизм. Едва ли в своих ранних работах Вл. Соловьев успел досконально ознакомиться хотя бы с главнейшими произведениями античного неоплатонизма. Его неоплатонические идеи в этот ранний период безусловно возникали сами собой на почве углубленных размышлений небывало острого и критического ума молодого философа. Так или иначе, но учение Вл. Соловьева о положительном «ничто» уже фигурирует в его работе о философских основах цельного знания. Рассуждения Соловьева на эту тему настолько ясны, что, думается, его концепция возникла у него не как результат ученого историкофилософского исследования, но независимо от источников.
Это же самое необходимо сказать и о диалектическом единстве апофатизма (учение о непознаваемом первоедином) и о катафатизме (учение о необходимости познавательных проявлений этого непознаваемого первоединого). И положительное ничто и необходимость его познавательных проявлений оказываются здесь для Вл. Соловьева такими же ясными и простыми, что, собственно говоря, ему и доказывать тут нечего.
Что касается прочих основных категорий неоплатонизма, то ввиду отсутствия их ясно выраженного наличия они тоже скорее представляют собою результат собственного мышления у Вл. Соловьева, а не какую-нибудь абстрактно выраженную структуру. Так, отношение трех лиц божества представлено у него в гораздо более свободном духе, чем в духе строгой диалектической триады. Всеобщая одушевленность тоже представлена у Вл. Соловьева гораздо суше, поскольку трактуется здесь в общем как частное приложение принципа всего во всем.
Особенно обращает на себя внимание отсутствие неоплатонического учения о восхождении от смутной чувственности к чистому и светлому уму и о восхождении от ума к сверхумной области первоединого. У неоплатоников это учение фигурирует на первом плане. Но у Вл. Соловьева в качестве развитого учения оно целиком отсутствует, хотя и легко выводится из предложенной им системы категорий.
Таким образом, собственно говоря, только учение о «положительном ничто» является строго неоплатоническим и буквально соответствует общеизвестным конструкциям. Поэтому можно предполагать, что неоплатонизм раннего Вл. Соловьева вовсе не вычитан им из какого-нибудь Плотина, Прокла или Дионисия Ареопагита, а представляет собою самостоятельное и свободное достижение остро мыслящего ума талантливого философа. О знакомстве с неоплатонизмом Вл. Соловьева говорят его поздние работы. Энциклопедическая статья «Плотин» представляет собою блестящее изложение философии Плотина с учетом решительно всех самых главных моментов его философии и с их необычайно точной интерпретацией. Статья «Прокл» вышла у Вл. Соловьева несколько хуже. Но это объясняется слишком большой сложностью и запутанностью философии Прокла, которую еще и теперь изложить в ясной и четкой форме представляется делом весьма нелегким.
3. Вл. Соловьев и патристика. Удивительным образом этот всезнающий и принципиальный философ Вл. Соловьев, проповедующий к тому же необходимость строгого и последовательного христианства, совсем не касается сочинений отцов и учителей церкви. И нельзя сказать, чтобы он их не читал или не знал. Некоторые главнейшие византийские церковные писатели и мистики с положительным к ним отношением упомянуты (правда, наряду с писателями неправославными) в статье «Понятие о Боге» (1897): «Азиатские и европейские мистики, александрийские платоники и еврейские каббалисты, отцы церкви и независимые мыслители, персидские суфи и итальянские монахи, кардинал Николай Кузанский и Яков Бём, Дионисий Ареопагит и Спиноза, Максим Исповедник и Шеллинг — все они единым сердцем и едиными устами исповедуют недомыслимую и неизреченную абсолютность божества» (4, 9, 23, ср. 17). Вл. Соловьев ставит православных мистиков в один ряд с такими мистиками, которые не имеют никакого отношения к православию, а частично даже и прямо настроены против него. Философ чувствовал себя православным. Но в своей философии он был сторонником самой четкой и подробной системы категорий, которую к тому же создавал по преимуществу самостоятельно, допуская в свой контекст прочие системы философии как нечто привходящее и нестабильное. Кроме того, мистика его всегда отличалась достаточно интеллектуалистическим характером. Его система категорий была насквозь религиозна и, конечно, православна. Но это христианство и это православие разумелось у него как бы само собой; и он редко испытывал необходимость говорить об этих предметах специально, вне всякого их логического конструирования. Поэтому свое учение о всеединстве он мог излагать без христианских терминов. То, что все совпадает в одном единстве, то, что это единство везде присутствует, и то, что каждый элемент бытия является носителем всего бытия и потому не может быть изъят из бытия, как не может быть изъят отдельный орган из организма без уничтожения самого организма, — все подобного рода конструкции можно излагать, не касаясь религиозных проблем, и вполне можно ограничиваться только одной правильно сконструированной системой основных категорий. Конечно, Вл. Соловьев при этом мог бы цитировать и Дионисия Ареопагита, и Максима Исповедника, не обращая, например, никакого внимания на знаменитого диалектика эпохи Возрождения Николая Кузанского. Но Вл. Соловьев был интеллектуалистическим мистиком, который не нуждался для себя ни в каких посторонних источниках, который мыслил вполне самостоятельно, и никакая патристика ничего не дала бы для него существенного. Что же, при таких условиях, он мог почерпнуть непосредственно в самой мистике, хотя бы и максимально христианской и специально православной?
Из многочисленных писателей периода патристики, может быть, имеет смысл указать на Августина. Доказать непосредственную зависимость Вл. Соловьева от Августина так же невозможно, как и его зависимость вообще от ранней патристики. Тем не менее и с Августином у Вл. Соловьева в некоторых отношениях было известное совпадение в разных вопросах. Э. Л. Радлов прямо пишет о зависимости Вл. Соловьева от Августина: «Из христианских философов два имели на него преимущественное влияние — Ориген и бл. Августин» (36, 77). Необходимо сказать, что вопрос о влиянии Августина на Вл. Соловьева такой же трудный, как и о влиянии на него Оригена. Но, кажется, в вопросе о свободе воли известное совпадение взглядов Вл. Соловьева и Августина все же можно наблюдать. Мнение Э. Л. Радлова по последнему вопросу не вполне правомерен. Он пишет: «В вопросе о свободе воли Соловьев сначала стоял на почве философии Канта, т. е. приписывал человеку свободу лишь постольку, поскольку он принадлежит к трансцендентному миру. В „Оправдании добра“ Соловьев стоит на точке зрения бл. Августина, т. е. признает некоторую свободу и в феноменальном мире, а именно свободу выбора зла» (там же, 87). По этому поводу необходимо сказать, что Вл. Соловьев нигде и никогда кантианцем не был и что в «Оправдании добра» нисколько не больше августинизма, чем в более ранних работах философа.
Не входя в подробности всей этой трудной историко-философской проблемы, мы все-таки должны сказать, что ни Августина нельзя назвать фаталистом, как это делают очень многие, ни Вл. Соловьева нельзя назвать сторонником формальнологического решения этой проблемы. И по Августину, и по Вл. Соловьеву, человеческая воля свободна; добрая воля должна сопутствовать также и действию благодати, которое в противном случае бессильно. Вот что пишет Вл. Соловьев в «Чтениях о Богочеловечестве». Каждый единичный образ, или идея, «с которой сопрягается божественная воля, не относится безразлично к этой воле, а необходимо видоизменяет ее действие согласно своей особенности… ибо очевидно, что свойство актуальной воли необходимо определяется не только волящим, но и предметом его. Каждый предметный образ, воспринимая беспредельную божественную волю по-своему… тем самым усваивает ее, т. е. делает ее своею; таким образом, эта воля перестает быть уже только божественной…» (4, 3, 138–139) Это чисто соловьевский взгляд на взаимное соответствие воли человека и божественной благодати. Но об этом же пишет и Августин: «Недостаточно одного желания человека, коль скоро не будет милосердия Божия, недостаточно и одного милосердия Божия, коль скоро не будет желания человека… Ибо доброе желание человека предшествует многим дарам Божьим, но не всем; каким же не предшествует, и в тех оно налицо» (7, ч. 11, 27).
Само собой разумеется, в настоящем случае мы занимаемся только постановкой этого обширного историко-философского вопроса, но далеки от решения его по существу.
4. Вл. Соловьев и Ориген. Сопоставлять Вл. Соловьева и Оригена, может быть, и не стоило бы, если бы не имелся большой труд А. Никольского (см. 29), в котором автор подробнейшим образом изучил решительно все сочинения Вл. Соловьева и снабдил свое изложение указаниями, а иной раз и самым настоящим анализом литературно-философского окружения Вл. Соловьева. А. Никольский понимает Вл. Соловьева как русского Оригена. Вероятно, можно было бы допустить, что выражение «русский Ориген» употреблено здесь в смысле некоторого иносказания. Тем не менее, если в статьях А. Никольского имеется указание на Оригена как на источник философского творчества Вл. Соловьева, мы должны в этом подробно разобраться.
Ориген (185/6 — 254 гг.) — главнейший представитель доникейской[2] патристики, и поэтому Ориген использовал для целей догматики популярный в его время стоический платонизм, связанный с чисто языческими традициями. В древней церкви он прославился как большой знаток и талантливейший комментатор Библии, как весьма популярный проповедник, как активный борец против язычества и как автор первой сводки догматического богословия. Зависимость Оригена от стоического платонизма и его роковые жизненные заблуждения помешали церкви канонизировать его; он навсегда остался только «учителем церкви», несмотря на мученическую гибель во время одного из гонений на христиан.
А. Никольский делает ряд сравнительных характеристик Вл. Соловьева с Оригеном. Эти сравнения удивляют нас своим слишком общим характером, позволяющим иметь в виду вовсе не только Вл. Соловьева, но и множество других философов.
Прежде всего А. Никольский находит общим у обоих философов то, что оба они понимают «христианство и его тайны» (27, № 24, 480). Но неужели, кроме Вл. Соловьева, не было других философов, которые тоже понимали христианство и его тайны? Далее А. Никольский утверждает, что оба философа были еще и апологетами христианства и защитниками его от еретиков и языческих философов. Ориген, по А. Никольскому, был даже по своей профессии катехизатор (см. там же, 481). И это правильно. Но назвать Вл. Соловьева катехизатором христианства XIX в. было бы очень странно. Вл. Соловьев по своей профессии был, во-первых, академический философ, а во-вторых, литератор и публицист весьма широкого размаха, так что многие его произведения просто даже не имели никакого отношения к церковному учительству и к стремлению обязательно во что бы то ни стало формулировать христианское догматическое богословие в его традиционном виде.
Далее, согласно указанному автору, оба философа пользуются в своей философии методами рационализма (см. там же, 482). Однако всякий скажет, что рационализм — это слишком широкая философская позиция, которая объединяет весьма многих философов. Кроме того, будет ошибочно считать Вл. Соловьева только рационалистом. Рационализм, иной раз доходящий до абстрактного схематизма, конечно, у Вл. Соловьева очень силен, особенно в ранние годы. Но если, например, взять его вероисповедные взгляды, или взять его литературно-критические воззрения, или вникнуть в его исторические взгляды, то квалификацию рационализма придется глубоко ослабить. Что же касается такого произведения, как «Три разговора», то здесь можно находить преодоление всякого рационализма. Мы уже не говорим о том, что Вл. Соловьев был еще и крупным поэтом, и поэтом как раз философского склада, так что здесь у него была какая-то поэтическая философия, но никак не рационализм.
Едва ли также нужно приписывать рационализму Вл. Соловьева и Оригена одинаковый характер их догматических ошибок (см. там же, 482–483). Если учение Оригена о двух природах во Христе с точки зрения христианской церковной догматики было неправильным, то это едва ли было результатом его рационализма, а скорее непреодоленным остатком эллинской мудрости. «Пламенное» и «ревностное» учительство (см. там же, 483) — это тоже слишком общая и слишком широкая позиция, чтобы находить в ней единство индивидуальных черт обоих философов. Но что уж совсем неверно — это приписывание Оригену и Вл. Соловьеву у А. Никольского аскетизма одинакового типа (см. там же). Ориген прославился в истории своей великой жизненной ошибкой, нашедшей осуждение и в церкви, именно оскоплением себя ради аскетических целей. Вл. Соловьев хотя и был человеком воздержанным и даже, например, вегетарианствовал, но никаким особенным аскетизмом никогда не отличался, был влюбчив и любил шампанское. Неужели из-за этого нужно называть Вл. Соловьева русским Оригеном? Отношение церкви к обоим мыслителям тоже не такое, чтобы в этой области можно было объединить их.
Догматические ошибки были и у того и у другого. Оригенизм осуждался на соборах в связи с возраставшим уточнением догматического мышления. Что же касается Вл. Соловьева, то он не только не осуждался ни на каком соборе, но, вероятно, и не мог подлежать никакому осуждению, будучи не церковным писателем.
После всего этого необходимо сказать, что А. Никольский никакого оригенизма Вл. Соловьева не доказал и вместо этого ограничился такими общими суждениями, при помощи которых можно сблизить множество разнообразных философов, не имеющих никакого отношения ни к Оригену, ни к Вл. Соловьеву.
Тем не менее если подойти к делу историкофилософски и не ограничиваться только переносным употреблением имени Оригена, то сравнение Вл. Соловьева с Оригеном дает некоторого рода небезынтересный материал. Нам представляется здесь необходимым выдвинуть одну линию философского развития, которая весьма характерна для Оригена, но совсем нехарактерна для Вл. Соловьева, — хотя у Вл. Соловьева кое-где и можно найти непоследовательность, мы бы сказали, не столько самой логики, сколько употребляемых у Вл. Соловьева словесных выражений. Именно Ориген, как и вся доникейская патристика, отличается тем, что в науке уже давно зафиксировано при помощи термина «субординационизм». Субординационизм есть такое учение о бытии, которое рисует его в виде целого ряда ступеней, одна другой подчиненных, субординированных, в отношении своего совершенства. Наиболее совершенное бытие находится наверху, и оно выше всего. Начиная с него, происходит постепенное снижение бытия, покамест это последнее не доходит до своего низшего состояния. Такой субординационизм весьма характерен для всей античной философии, поскольку в основном она является пантеизмом разной степени совершенства.
Когда в ранней патристике возникла потребность дать новое учение о боге, то, несмотря на полную противоположность монотеизма пантеизму, полагали, что и монотеизму тоже свойственно это учение об иерархической разноценности бытия. Думали, что и в боге тоже наличествует эта разносторонность и разнокачественность, так что одно в боге считали более высоким и более совершенным, — таков был бог-отец; другое считали в боге менее совершенным, — таков был бог-сын; и третье, а именно животворная сила божества, бог-дух святой, считалось еще менее совершенным. И эта убыль совершенства переносилась и на космос. Интересно, что крупнейшие представители раннего христианства, которые прославились своими подвигами и даже мученичеством, в своих теориях стояли на позициях субординационизма, заимствуя эту позицию из традиционной в те времена эллинской философии. И только на первом вселенском соборе в 325 г. этот языческий субординационизм был осознан и строжайше запрещен раз навсегда. И такие учения, как, например, оригеновское, были осуждены, но их авторы как крупнейшие деятели церкви должны были почитаться независимо от этих плохо разработанных у них языческих теорий.
Можно считать доказанным, что Ориген при всем своем благочестии, учености и даже мученичестве еще с тех пор открыто квалифицируется в церкви как субординационист. Правда, необходимо сказать, что такой высокий ум, как Ориген, не мог рассуждать в данном отношении так уж грубо. Его субординационизм принимает иной раз весьма тонкие формы (см. 12. 17). Между прочим, сам Вл. Соловьев поместил в Энциклопедическом словале Брокгауза и Ефрона обстоятельную статью под названием «Ориген» (см. 4, 10, 439–453). Это прекрасная статья и весьма поучительная для тех, кто хотел бы ориентироваться в историко-философских позициях Вл. Соловьева. Статья эта не только содержит изложение основных теорий Оригена, но и обнаруживает сознательное, критическое и часто даже весьма тонкое понимание философии Оригена. Вл. Соловьев прекрасно отдает себе отчет во всех библейских чертах философии Оригена и в ее соотношении как с традиционными в те времена греческими философскими теориями, так и с быстро созревавшей в то время оригинальной патристической мыслью. В частности, у Вл. Соловьева нет ровно никаких иллюзий относительно субординационизма Оригена, как нет и никакого слепого преклонения перед другими особенностями оригенизма, то более то менее близкими к назревавшей в те времена христианской ортодоксии. Но кое-какие черты оригеновского субординационизма все-таки необходимо находить в рассуждениях Вл. Соловьева.
Субординационизм как логическая система, конечно, всегда был чужд Вл. Соловьеву и в его ранние, и в его поздние годы. И может быть, здесь дело только в словесных недосмотрах. Но даже и в нашем кратком анализе теоретической философии Вл. Соловьева мы встретимся с этими недосмотрами.
С точки зрения христианской ортодоксии здесь есть в чем упрекнуть Вл. Соловьева. То, что в своем учении о Троице он выше всего ставит сверхразумное всеединство бога-отца, это обстоятельство, о чем мы скажем еще, вполне понятно и не создает никаких противоречий с намерениями философа. Но что наличен момент расчлененности в боге, а именно то, что Вл. Соловьев называет логосом, здесь кое-где уже заметны оттенки некоего отдаленного субординационизма, поскольку логос этот уже ниже первой ипостаси, и Вл. Соловьев даже говорит о наличии в нем какой-то «материи». Без специальных оговорок это напоминает приемы античного и раннепатристического субординационизма. Затем логос этот по античным образцам трактуется у него двояко, как «внутренний», так и «внешний», «произнесенный». При этом произнесение и вовсе мыслится как акт менее совершенный. Далее мы укажем также и на черты сниженной трактовки духа святого, а также и Софии, которая понимается у Вл. Соловьева то как внутрибожественная ипостась, то как область уже твари. Имя «Христос», с которым мы встретимся ниже, тоже содержит в себе представление о некоторого рода низшей действительности, хотя сам Вл. Соловьев, вероятно, ужаснулся, если бы ему высказали эту мысль.
Такое учение у Вл. Соловьева, как, например, об его историзме, тоже не содержит в себе отчетливого различения творца и твари, так что этот историзм, которым кончается у Вл. Соловьева его «Критика отвлеченных начал», необходимо одновременно расценивать и как божественный и как космический. Вл. Соловьев здесь уже сбивается на пути пантеизма, которые, вообще говоря, немыслимы без субординационизма, поскольку история есть развитие от низшего к высшему.
Мы не будем входить в подробный анализ элементов пантеизма или субординационизма у Вл. Соловьева. Нам они представляются в конце концов результатом словесного недосмотра у философа. Но так или иначе, а об отношении Вл. Соловьева к оригенизму, только на более глубоких основаниях, рассуждать надо. И проблема эта, вообще говоря, весьма нелегкая.
5. Вл. Соловьев и теософско-гностическая литература. Если внимательно присматриваться к тем источникам, которые Вл. Соловьев если не прямо использовал, то во всяком случае всегда имел в виду, мы натолкнемся на теософско-гностическую литературу, которая выходила за рамки академических программ, но для изучения которой Вл. Соловьев исхлопотал для себя научную командировку за границу тотчас же после защиты магистерской диссертации и после утверждения его преподавателем Московского университета в 1875 г.
В биографических материалах Вл. Соловьева встречаются такие имена, как Парацельс, Яков Бёме, Сен-Мартен и Сведенборг. Интересно, что даже Л. М. Лопатин об этом философском источнике Вл. Соловьева ничего не говорит. Однако я хорошо знаю, почему об этом Л. М. Лопатин не высказывался. В свои студенческие годы я, специализируясь на философии в Московском университете, должен был по необходимости слушать лекции Л. М. Лопатина и сдавать ему многочисленные экзамены. Я хорошо знаю, что, несмотря на свою личную близость с Вл. Соловьевым, Л. М. Лопатин всегда был абстрактно-метафизическим спиритуалистом типа Лотце, Тейхмюллера или Бергсона и всегда избегал не только всякой общественности и политики, не только всякой церковности, но даже и всякого теоретического символизма, который в те годы в России процветал, а в известных кругах был даже модой, и на методах которого я получал тогда свое первоначальное неоплатонически-шеллингианское образование. По причине этой абстрактно-метафизической позиции Л. М. Лопатин принадлежал к тем профессорам университета, которых люди, настроенные более общественно, называли «дикими».
Понятно поэтому, что Л. М. Лопатин, так глубоко любивший Вл. Соловьева, совсем замалчивал всю эту теософско-оккультную сторону философской эволюции Вл. Соловьева. Что же касается самого Вл. Соловьева, то он потому мало и неохотно говорил об этих источниках своей философии, что в душе у него жила все-таки университетская академическая традиция, и вся эта каббалистика переживалась им в основном как нечто экзотическое. Тем не менее он чувствовал, что его внутренний опыт выходит далеко за пределы университетского академизма и во многом сближается с теософской традицией. Строго говоря, он ни в какой теософии не нуждался, так как мыслил совершенно самостоятельно. Но мы сейчас занимаемся историей русской философии; и раз у Вл. Соловьева все-таки была какая-никакая каббалистически-гностическая и теософско-оккультная тенденция, мы о ней должны сказать, не ограничиваясь только академически признанными Б. Спинозой, И. Кантом, Г. В. Ф. Гегелем, Ф. Шеллингом или А. Шопенгауэром.
Что Вл. Соловьев читал Бёме в бытность свою студентом Московской духовной академии, установил П. А. Флоренский. О характере теософских занятий Вл. Соловьева и в то же время об его критическом отношении к теософии можно судить из его письма к графине С. А. Толстой (вдове поэта А. К. Толстого). Он пишет: «У мистиков много подтверждений моих собственных идей, но никакого нового света, к тому же почти все они имеют характер чрезвычайно субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел трех специалистов по Софии: Georg Gichtel, Gottfried Arnold и John Pordage. Все трое имели личный опыт, почти такой же, как мой, и это самое интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют Бэму, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое. В результате настоящими людьми все-таки оказываются только Парацельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое» (6, 2, 200).
На этом основании можно сказать, что отношение Вл. Соловьева к традиционному оккультизму было глубоко критическим.
Еще более яркую картину отношений Вл. Соловьева к теософско-оккультной традиции можно почерпнуть из следующих его слов, которые не вошли в собрание его сочинений, но которые С. М. Соловьев-младший на основании перешедших к нему рукописных материалов своего знаменитого дяди передает так: «Мировой процесс безусловно необходим и целесообразен. Случайность и произвол только в человеческом невежестве. Доселе (до меня) теософические системы, обладавшие духовными основами, не имели истинной идеи мирового процесса: они или совсем игнорировали его (неоплатонизм, Сведенборг), или же допускали в нем элемент случайности и произвола (грехопадение). Каббала, Бэме, и те и другие получали в результате чертей и вечный ад.
С другой стороны, философские системы, имевшие настоящее понятие о мировом процессе как необходимом без всякого произвола, лишены были духовных основ. Поэтому у них процесс являлся или чисто идеальным и даже абстрактно-логическим (Гегель), или же чисто натуральным (эволюционный материализм), некоторые же соединяли идеализм с натурализмом (натурфилософия Шеллинга, система Гартманна), но вследствие отсутствия духовных основ даже эти последние, сравнительно совершенные системы не могли определить истинной цели и значения процесса, ибо цель эта… духовное божество мира.
В последней своей системе Шеллинг с логическим понятием процесса соединяет некоторое, хотя весьма неполное и довольно спутанное, представление о духовных началах; поэтому и цель процесса получает у него довольно удовлетворительное определение; отсюда же у него вместе с признанием конкретного духовного мира, как у Бэма и Сведенборга, — отсутствие чертей и ада, почему Шеллинг и есть настоящий предтеча вселенской религии. Учения Бэма и Сведенборга суть полное и высшее теософическое выражение старого христианства. Положительная философия Шеллинга есть первый зародыш, слабый и несовершенный, нового христианства или вселенской религии вечного завета».
Приведем также и еще два текста, но на этот раз принадлежащие уже самому С. М. Соловьеву-младшему.
Именно по поводу учения о Софии Вл. Соловьева здесь мы читаем: «Это теоретическое воплощение Софии — развитие современной философии— Яков Бэме, Сведенборг, Шеллинг» (там же, 142).
Важно еще и такое рассуждение С. М. Соловьева-младшего: «Они (т. е. раскольники. — А. Л.) отвергали авторитет господствующей церкви во имя своего понимания православного предания. То же делает и Соловьев. Однако его пока не отлучают от церкви. Но почему это происходит? Не потому ли, что Соловьев развивает свою теософию в духе Бэме и Шеллинга в XIX веке, когда в русской церкви нет не только меча, но и рвения к искоренению заблуждений, а живи и проповедуй Соловьев в XVII веке, не сгорел ли бы он на том же костре, на котором погиб Квирин Кульман за те же идеи Бэме, а если бы и не сгорел, то остался ли бы он „во имя любви“ в подчинении иерархии, возглавляемой патриархом Иоакимом!?» (там же, 198)
По поводу всех этих материалов, характеризующих связь Вл. Соловьева с теософской литературой, необходимо сделать следующие три вывода.
Во-первых, Вл. Соловьев воспитывался отнюдь не только на академической философии, но внимательно изучал и теософскую литературу, которая стояла в университетах, правда, на втором или на третьем месте, но во многих отношениях оказалась близкой начинающему философу. Глубоко ошибаются те исследователи Вл. Соловьева, которые игнорируют эту его каббалистически-гностическую и теософско-оккультную настроенность при построении его собственной философской системы.
Во-вторых, в такой же мере несомненно и то, что Вл. Соловьев, собственно говоря, совсем не нуждался в изучении этой теософской литературы. Он имел собственный и очень глубокий внутренний опыт, в котором он не только не был ниже всей этой теософской литературы или равен ей, но безусловно превосходил ее, так что, строго говоря, Вл. Соловьев почти ничего из этой литературы не почерпнул.
Свое критическое отношение к гностицизму он ярко выразил в статье «Гностицизм», написанной для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Излагая древние формы гностицизма, Вл. Соловьев ничего не находит в них положительного, но лишь разложение язычества либо незрелое христианство. Свое внимание он обращает здесь главным образом на гностический дуализм как на языческую пародию христианского учения о творце и твари и на дискретность мифологических фигур в гностицизме, игнорируя христианскую сотериологическую нагрузку этих фигур. Как приверженец учения о Софии, Вл. Соловьев, казалось бы, должен был отнестись к гностицизму начала нашей эры более снисходительно и более мягко. Но строго христианская и к тому же строго академическая оценка древнегностических концепций взяла здесь у него верх.
Тем не менее интерес к этой литературе у него все-таки был довольно большой, потому что академические философы, как, например, Спиноза, Кант, Гегель и др., казались ему слишком абстрактными и требовали эмоционально-умозрительного дополнения.
В-третьих, — и это самое главное — Вл. Соловьеву с самого начала хотелось создать такую философию, в которой логическая и систематическая точность совмещалась бы и с его интимным отношением к бытию. Этому как раз и послужило учение о Софии, которое он взял не просто из античного неоплатонизма, где оно было для него все еще слишком абстрактно, но именно в теософской литературе, разрабатывавшей это учение в теоретическом отношении весьма слабо, но зато претендовавшей на большую логическую обобщенность. Это учение о Софии, возникшее у Вл. Соловьева в самые юные годы, оставалось у него в течение всей его жизни, так что для обозначения специфики его идеализма мы в дальнейшем и будем говорить прямо о софийном идеализме Вл. Соловьева.
6. Вл. Соловьев и Декарт. Даже в условиях нашего краткого изложения сопоставление Вл. Соловьева с другими философами дает очень много для понимания Вл. Соловьева, и это особенно нужно сказать о Декарте. С этим великим основателем нового европейского рационализма Вл. Соловьев вплотную столкнулся дважды. Первый раз он заговорил о существенной стороне картезианства в своей магистерской диссертации (1874). Второй же раз весьма глубокие и существенные мысли о Декарте были высказаны Вл. Соловьевым в конце его жизни в трактате «Теоретическая философия».
Изображение и оценка картезианства в магистерской диссертации обращают на себя внимание весьма отчетливой постановкой вопроса об исторической значимости Декарта. В средние века, по мнению Вл. Соловьева, человеческому разуму противостоял абсолютный авторитет веры, так что разуму оставалось только бороться за свое существование путем самостоятельного установления истин. В конце средневековья человеческий разум развился настолько глубоко и широко, что уже мог обходиться сам своими собственными средствами. И уже сам достигал того, что раньше давала вера. Но теперь, в эпоху Декарта, положение дела, по Вл. Соловьеву, резко переменилось.
Именно теперь человеческому разуму предстояло овладеть еще новой и небывалой стихией, а именно овладеть природой. Но овладевать природой на основании простых эмпирических наблюдений, с точки зрения Декарта, означало не достичь своей цели; наоборот, предполагалось доразумное существование природы в объективном и абсолютном смысле слова. Поэтому Декарт обратился к анализу человеческого самосознания, а не к эмпирическому изучению природы. Человеческое же самосознание повелительно требовало именно своего собственного приоритета. Можно во всем сомневаться, но нельзя сомневаться в самом этом сомнении, откуда и возникло декартовское «я мыслю, следовательно, я существую». Так Декарт оправдывал приоритет разумного человеческого существования, из которого уже можно было делать выводы и относительно различных форм существования объективной природы. Это и подвергается у Вл. Соловьева историческому анализу (см. 4, 1, 33–36) без разбора дальнейших весьма интересных исторических деталей картезианства.
Совсем другой метод анализа картезианства мы находим у Вл. Соловьева в его позднейшем труде «Теоретическая философия» (см. 4, 9, 105–130). Историко-философская точка зрения интересует здесь Вл. Соловьева меньше всего. Он подвергает критике само это картезианское методическое сомнение. В дальнейшем нам еще придется вернуться к этому. Сейчас же для нас важно только отдать себе отчет в самом этом принципе, при помощи которого Вл. Соловьев критикует картезианское методическое сомнение.
По Вл. Соловьеву, теперь оказывается, никакое внутреннее самосознание само по себе ничего не говорит относительно объективности этого самосознания. Если мы сознаем себя существующими, это вовсе еще не значит, что мы действительно существуем. В состоянии опьянения, гипноза и многих других анормальных явлений мы можем представлять себя кем угодно; но это вовсе не будет значить, что мы действительно являемся теми, кем мы себя в данном случае представляем. Ни о какой самостоятельной субстанции человеческого сознания мы не имеем никакого права говорить на основании только методического сомнения Декарта. Самое большее мы можем представлять себя в виде некоей «подставки» для разного рода переживаний, действий, мыслей и пр. Каждая человеческая субстанция, как и всякая субстанция вообще, кроме абсолютной субстанции божества, самое большее есть только некоторого рода замысел или некоторого рода заданность, которая еще должна осуществиться, но может также и не осуществиться.
Здесь мы формулируем существенно новый гносеологический вывод, который отнюдь не был безоговорочно свойствен ранним трудам Вл. Соловьева. Вместо абсолютного всеединства, при котором все находится во всем, Вл. Соловьев теперь утверждает, что обычно мыслимые субстанции вовсе не есть субстанции, а только сплошная текучесть. Настоящая же и подлинная субстанция есть божество, которое имеет только замысел для каждой данной субстанции, а вовсе не содержит ее в себе всю целиком. Несомненно, здесь сказалось возросшее в конце жизни Вл. Соловьева чувство ничтожества всей окружающей реальности и ее субстанциальной зависимости от единой и абсолютной субстанции.
Таким образом, картезианское методическое сомнение Вл. Соловьев в конце своей жизни отбрасывает окончательно. И если все существующее для него и продолжает быть бесконечным рядом субстанций, то это субстанции уже совсем в другом смысле. Это только «подставки» для единой и высшей субстанции. Не наше сомнение, т. е. не наше разумное самосознание, заставляет нас признать то, что мы являемся чем-то или кем-то, но самоочевидная уверенность в существовании единой и высшей субстанции. Не трудно заметить, что первоначальное соловьевское учение о всеединстве в сравнении с этой последней концепцией, несомненно, содержит в себе черты пантеизма и оригенистских представлений об эманации.
Так в конце жизни Вл. Соловьев оказался весьма строгим и непреклонным врагом всякого картезианства, или, точнее сказать, всякого идеализма, построенного на данных внутреннего человеческого самонаблюдения.
В заключение этого раздела необходимо сказать, что если опора на самосознание отвергается Вл. Соловьевым как последняя гносеологическая инстанция, то, очевидно, та абсолютная истина, которая создает для всего возможность быть субстанцией, более доступна и даже совсем неопровержима. Восприятие этой абсолютной истины сопровождается для нас такой уверенностью и неопровержимостью, что в этом смысле даже человеческий субъект гораздо менее очевиден и достоверен. Абсолютная истина неопровержимо говорит сама за себя. Я еще не знаю, существую ли я сам; но я уже знаю, что существует абсолютная истина, очевидность которой яснее всего. Думается, что если довести эту мысль Вл. Соловьева до конца, то это будет не чем иным, как учением об откровении.
7. Вл. Соловьев и Спиноза. Уже в своей магистерской диссертации Вл. Соловьев мастерски излагает спинозизм, прекрасно отдавая себе отчет как в его положительных, так и в отрицательных сторонах (см. 4, 1, 36–40). Но о Спинозе ему пришлось высказаться уже на закате своей жизни в полемической статье против А. И. Введенского. Мы должны сказать, во-первых, что Спиноза был в свое время настоящей любовью Вл. Соловьева и, во-вторых, что Вл. Соловьев умел находить в Спинозе то, что мы можем считать подлинно соловьевским достоянием. О своей любви к Спинозе Вл. Соловьев буквально так и пишет: «Признаюсь, что статья А. И. Введенского задела меня за живое сначала из-за Спинозы (который был моею первою любовью в области философии)…» (4, 9, 3) Но что же «своего» Вл. Соловьев находил в Спинозе?
Можно сказать, что на всех этапах своей философской деятельности Вл. Соловьев был жесточайшим противником всяких теорий дурной бесконечности. Всякая вещь имеет для себя причину в другой вещи, другая — в третьей и т. д. до бесконечности. Вот тут-то Спиноза и предстал для Вл. Соловьева как подлинный борец не за дурную, т. е. только потенциальную, но именно за актуальную бесконечность, т. е. за ту причину, которая уже не нуждается для своего объяснения ни в каких других причинах, но является причиной самой себя и всего прочего. Вл. Соловьев пишет: «Божество, как абсолютное, ничем, кроме себя, не обусловлено (оно есть causa sui), и вместе с тем оно все собою обусловливает (оно есть causa omnium). Все существующее имеет в божестве последнее и окончательное основание своего бытия, свою субстанцию. Это понятие о Боге, как единой субстанции всего, логически вытекающее из самого понятия Его абсолютности или подлинной божественности… — эта истина всеединой субстанции, под разными именами исповедовавшаяся язычниками, под настоящим названием Бога Вседержителя исповедуется и христианами, в согласии с евреями и мусульманами» (4, 9, 23). Вот это учение о всеобщей субстанции, которое мы теперь назвали бы теорией актуальной бесконечности, и есть одинаково и соловьевское и спинозистское.
Нечего и говорить о том, что столь глубокий мыслитель, как Вл. Соловьев, не мог закрыть глаза на разного рода недостатки и даже в подлинном смысле слова логические ошибки в последовательном спинозизме. Вл. Соловьев прекрасно отдает себе отчет и в противоречивости учения Спинозы о множественности вещей, и в наличии у Спинозы механистических элементов, и в большой условности его «геометрического метода», и в отсутствии у Спинозы историзма. Односторонность Спинозы для Вл. Соловьева не подлежит никакому сомнению. Но что в основе бытия лежит актуальная бесконечность и что всякая философия должна увенчиваться учением о causa sui — в этом для Вл. Соловьева никогда не было никакого сомнения и в этой теории Спиноза всегда был для него основой. При этом все отличия соловьевского идеализма от спинозистского настолько ясны, что для нас в настоящую минуту будет совершенно излишним распространяться на эту тему[3].
8. Вл. Соловьев и Кант. Вопрос об отношении Вл. Соловьева к Канту можно было бы решить весьма просто, если бы этому не помешала работа авторитетного неокантианца на рубеже двух столетий, профессора Петербургского университета Александра Введенского. Питая большое уважение к Вл. Соловьеву, А. Введенский именно ради этого и выставляет на первый план якобы кантианские черты Вл. Соловьева. Нам необходимо сказать, что в истории философии, вероятно, еще не было столь противоположно мыслящих философов, как Вл. Соловьев и Кант. Так как неокантианцы считали гносеологию основной философской наукой, то и у Вл. Соловьева А. Введенский пытается найти это коренное учение о значимости гносеологии. А так как некоторые черты изолированного понимания гносеологии можно, при известных усилиях, найти у Вл. Соловьева только в статьях под названием «Теоретическая философия», то, по А. Введенскому, и получается, что Вл. Соловьев, отрицая примат гносеологии, всю жизнь только то и делал, что ошибался, и ошибаться перестал лишь за три года до своей кончины.
Действительно, примат гносеологии нигде не выставляется у Вл. Соловьева в каком-нибудь безусловном виде. Для него это было невозможно уже по одному тому, что в неокантианском требовании такого примата заключается грубейшая логическая ошибка petitio principii: проверка истинности знания совершается при помощи все того же познавательного процесса. Главное же в том, что Вл. Соловьев, всегда отдававший большую дань логическому схематизму, никогда не был сторонником основной роли этого схематизма.
В. Ф. Эрн, написавший блестящую статью «Гносеология В. С. Соловьева» (см. 31, 129–206), так формулирует исходный принцип философии Вл. Соловьева, являющийся к тому же и свидетельством полной новизны его философии: «Первый после Платона Соловьев делает новое громадное открытие в метафизике. В море умопостигаемого света, который безобразно открылся Платону, Соловьев с величайшею силою прозрения открывает определенные ослепительные черты вечной женственности» (там же, 134). Какая же была возможна гносеология для такого убежденного и целостного мировосприятия?
Если же подойти к делу формально, то некоторого рода гносеологию, отнюдь, конечно, не кантианскую, у Вл. Соловьева можно было находить на каждом шагу. Выше мы видели, например, что он критикует всякий безоговорочный эмпиризм. Разве это не гносеология? Вл. Соловьев критикует также и безоговорочный рационализм. Разве это не гносеология? Критика всякого бытового христианского мировоззрения разве возможна была у Вл. Соловьева без самого напряженного внимания к философским проблемам знания и религии? В связи с этим В. Ф. Эрн совершенно правильно пишет: «В написанном о гносеологических вопросах у Соловьева несомненно есть „внутренний тон“, „высота и свобода мысли“, и притом в такой мере, что гносеология Соловьева должна занять почетное место не только на бойком гносеологическом рынке современности, но и в сокровищнице философских прозрений всех времен и эпох» (там же, 131). Но это не была гносеология Канта, поскольку Кант — субъективный идеалист, а Вл. Соловьев является убежденным объективным идеалистом.
Вместе с тем, однако, нельзя думать, что в статьях «Теоретическая философия» у Вл. Соловьева не было ничего нового. В основном онтологизм Вл. Соловьева оставался здесь незыблемым. Но теперь ему захотелось построить такую онтологию, которая не была бы так сильно и глубоко связана с характерной для его прежних работ склонностью к чрезмерному схематизму. Такая категория, как, например, категория субстанции, имела раньше для Вл. Соловьева иной раз чересчур логически-неподвижный характер. Теперь же он дал эту категорию в ее конкретном эмпирическом развитии, не отрицая самих субстанций, но пока признавая их лишь некоторого рода заданностями для ищущего философа. По А. Введенскому выходило, что Вл. Соловьев в конце своей жизни стал отрицать конкретность всяких субстанций и сводить их только на отвлеченно-гносеологические принципы. Но такая оценка последнего периода творчества Вл. Соловьева является безусловным искажением намерений философа, не говоря уже о том, что бог и в этот период философии Вл. Соловьева трактуется им как универсальная субстанция. Такой субстанцией, хотя и не всегда отвлеченно данной и конкретно познаваемой, является, например, и человеческое «я». Вл. Соловьев писал: «Я должен прежде всего заявить, что и теперь, как и прежде, я имею твердую уверенность в собственном своем существовании, а равно в существовании всех обоего пола лиц, входящих и даже не входящих в перепись народонаселения различных стран» (4, 9, 108). Таким образом, если какая-нибудь новизна или какой-нибудь перелом и нашли для себя место в этих последних философских работах Вл. Соловьева, то это было только намерением избегать приема прежнего логического схематизма и стремлением понимать каждую логическую категорию жизненно.
В. Ф. Эрн пишет о переломе в конце жизни Вл. Соловьева: «Перелом состоит в том, что с творческой силой Соловьев вдруг ощутил дурную схематичность прежних своих философем. В этом огне самопроверки сгорела схема теократическая, схема внешнего соединения церквей, схема планомерного и эволюционного развития Добра в мире, и Соловьев почувствовал трагизм и катастрофичность истории» (31, 201).
Чтобы дать общую характеристику антикантианской гносеологии Вл. Соловьева, мы предложили бы следующее рассуждение В. Ф. Эрна: «Соловьев, употребляя его терминологию, постиг в Египте живую и существенно личную идею мира, идею вселенной, и только этим постижением обосновывается все философское творчество Соловьева, которое есть не что иное, как воплощение в грубом и косном материале новой философии — его основной интуиции, о живой идее и живом смысле всего существующего» (там же, 200).
Наконец, если иметь в виду, что в последний год жизни Вл. Соловьева им были написаны «Три разговора», то можно с полной уверенностью сказать, что вовсе не гносеология Канта была последним интересом Вл. Соловьева, но учение о зле, которое к тому же повелительно заставляло философа говорить об этом не в виде философских схем (это он умел делать хорошо и раньше), но в виде потрясающих картин мировой катастрофы. После этого только упрямая слепота и неподвижный догматизм мысли может находить в философском творчестве Вл. Соловьева, и в раннем, и в среднем, и в позднем, хоть какие-нибудь намеки на кантианские симпатии. Конечно, по Вл. Соловьеву, наука и вообще знание возможно только потому, что слепая текучая чувственность оформляется априорными формами рассудка. Но все дело в том и заключается, что априорные формы рассудка трактуются у Канта как исключительное достояние человеческого субъекта, а у Вл. Соловьева они являются объективно существующими идеями. Конечно, вещи в себе существуют и у Канта и у Вл. Соловьева. Но у Канта они остаются навеки непознаваемыми, у Вл. Соловьева они изливаются в конкретный чувственный опыт человека и его оформляют. Поэтому Кант — метафизический дуалист, Вл. Соловьев же — строжайший диалектический монист. Также и сфера разума привлекается и у Канта и у Вл. Соловьева ради учения о полноте человеческого знания. Но опять-таки у Канта идея разума не имеет для себя никакой объективной интуитивной предметности; и потому разум, по Канту, распадается на противоречия и имеется целая наука, которая разоблачает эти противоречия разума, которую Кант называет диалектикой и ее основную функцию видит в том, что она является «разоблачительницей иллюзий». У Вл. Соловьева здесь все наоборот. Разум у него действительно требуется для завершения и полноты знания, но идеи этого разума даются человеку интуитивно, так что возможная здесь диалектика только открывает человеку сферу высшего познания.
Если иметь в виду эту нашу кратчайшую характеристику расхождения Вл. Соловьева с Кантом, то никакие соловьевские совпадения с Кантом не будут перекрывать той дуалистической бездны, которая разделяет обоих философов.
9. Вл. Соловьев и Шеллинг. Преувеличивать шеллингианские заимствования Вл. Соловьева не приходится. Это вовсе не означает, что у Вл. Соловьева не было никаких совпадений с Шеллингом. Это означает только то, что эти совпадения вырастали у Вл. Соловьева органически и самостоятельно и что они были почти всегда результатом его собственного философского творчества.
Что же шеллингианского можно найти у Вл. Соловьева? Несомненно, общей у обоих мыслителей была высокая оценка человеческого разума, его онтологическая значимость и, в противоположность Канту, его интуитивная, а часто, даже можно сказать, художественная насыщенность. Конечно, никаких разговоров о дуализме субъекта и объекта, о противоположности вещи в себе и явления, а также о диалектике только как о «разоблачительнице иллюзий» ни у Вл. Соловьева, ни у Шеллинга не может и возникнуть. Обоих мыслителей глубочайшим образом объединяет борьба с абстрактным рационализмом и с формально-логической метафизикой. Сказать, что здесь у Вл. Соловьева было какое-то прямое заимствование у Шеллинга, никак нельзя: до того учение об интуитивном разуме было для Вл. Соловьева самой глубокой философской потребностью.
Можно говорить и о многих других точках соприкосновения между философскими концепциями обоих мыслителей. В первую очередь нам хотелось бы отметить, что на путях борьбы с дуализмом субъекта и объекта оба мыслителя испытывали глубочайшую потребность выйти за пределы субъекта и объекта и формулировать нечто более важное, способное объединить в себе и субъект и объект. Подобного рода тенденция у Шеллинга очень сильна, но, как мы видели выше, Вл. Соловьев прямо учит о «положительном ничто», которое, будучи выше всех субъектов и объектов, по этому самому и не допускает для себя никакой предикации. Такая концепция, конечно, могла быть навеяна Шеллингом; и воздействие Шеллинга на Вл. Соловьева в данном случае даже более вероятно, чем воздействие неоплатоников или Оригена. Повторяем, однако, ни о каком прямом заимствовании у Шеллинга не может идти и речи.
Может быть, Шеллинг имел значение для Вл. Соловьева в смысле высокой онтологической и гносеологической значимости искусства. Но у Шеллинга это превознесение искусства носит чисто романтический характер, чего нельзя сказать о Вл. Соловьеве, дававшем в «Критике отвлеченных начал» по преимуществу категориально-логическое построение теории искусства.
О прямом расхождении Вл. Соловьева с Шеллингом тоже сказать необходимо. Так, мимо Соловьева прошел весь натурфилософский период Шеллинга. Ко времени Соловьева после натурфилософии Шеллинга прошло целое столетие, так что натурфилософские работы Шеллинга 90-х годов XVIII в., конечно, были для Вл. Соловьева чем-то весьма устаревшим. Нечто шеллингианское можно находить в позднейшей работе Вл. Соловьева «Красота в природе» (1889).
Необходимо отметить, что и последний период творчества Шеллинга, когда он создавал свою четырехтомную «Философию мифологии и откровения», тоже прошел мимо Вл. Соловьева. Термином «миф» Вл. Соловьев даже совсем не пользуется. У Вл. Соловьева была собственная «философия мифологии и откровения», которая с Шеллингом не имела ничего общего. Читатель может найти ее в работах Вл. Соловьева «Чтения о Богочеловечестве» (1877–1881) и «Духовные основы жизни» (1882–1884). И вообще необходимо сказать, что Вл. Соловьев с начала и до конца ориентировался на христианское богословие, и особенно на православие, в то время как Шеллинг в своих философских устремлениях навсегда остался антицерковным протестантом.
10. Вл. Соловьев и Гегель. Насколько Вл. Соловьев глубоко разбирался в Гегеле, видно по его блестящей статье «Гегель» в Словаре Брокгауза и Ефрона. Приведем начало этой статьи: «Гегель может быть назван философом по преимуществу, ибо изо всех философов только для него одного философия была все. У других мыслителей она есть старание постигнуть смысл сущего; у Гегеля, напротив, само сущее старается стать философией, превратиться в чистое мышление. Прочие философы подчиняли свое умозрение независимому от него объекту; для одних этот объект был Бог, для других — природа. Для Гегеля, напротив, сам Бог был лишь философствующий ум, который только в совершенной философии достигает и своего собственного абсолютного совершенства; на природу же в ее эмпирических явлениях Гегель смотрел как на чешую, которую сбрасывает в своем движении змея абсолютной диалектики» (4, 10, 301). Если выразить кратчайшей формулой, что такое Гегель, то, кажется, лучше и не скажешь, чем это сказал здесь Вл. Соловьев.
Это делает соловьевскую критику гегельянства весьма интересным предметом для исследования. Гегель настолько труден для усвоения, что подавляющее большинство критиков Гегеля критикуют его без всякого проникновения в сущность того, что Гегель мыслил и писал. Вл. Соловьев относится к тому небольшому числу знатоков Гегеля, которые не только глубоко его понимают, но находят необходимым в то же самое время и весьма существенно его критиковать.
В своей магистерской диссертации (см. 4, 1, 57–66, 111–123) Вл. Соловьев хорошо понимает, что Гегель является вершиной европейского рационализма. И мы впали бы в большое заблуждение, если бы стали думать, что Вл. Соловьев не имеет никакого вкуса к построению философии как понятийной системы. При изложении трактата «Философские основы цельного знания» мы сможем убедиться в огромной склонности Вл. Соловьева к построению категорий и к установлению их тончайшей системы. Многие даже критикуют раннего Вл. Соловьева за его слишком большой схематизм и злоупотребление голыми абстракциями. И действительно, эта приверженность раннего Вл. Соловьева к установлению категориальной системы, безусловно, роднит его с Гегелем; может быть, в этом отношении Вл. Соловьев действительно многому поучился у Гегеля.
Далее, Вл. Соловьев также весьма глубоко воспринимает и движение понятия, его становление, его постепенное самораскрытие. Более того, он не только понял сущность гегелевской триады, но и сам постоянно пользовался ею в своих рассуждениях. Это число «три» настолько оказалось привычным Вл. Соловьеву, что он его весьма часто употреблял даже и не в смысле диалектики, а в смысле просто обыкновенной системы рассуждения или рассказа. У него мы находим стихотворения под названиями «Три свидания» или «Три подвига». Большое сочинение последнего периода называется «Три разговора». Но, может быть, еще более существенным является то, что свое развитие категорий Вл. Соловьев мыслит по гегелевской манере исторически. В магистерской диссертации отдельные философские направления ни в каком случае не выступают в виде простого перечисления или в виде какой-нибудь формально-логической классификации. У Вл. Соловьева закономерно и последовательно развивается средневековая философия. То же самое происходит и в философии Нового времени. Каждое философское направление, будучи односторонностью, обязательно требует своего законченного перехода на другую ступень, где закономерным образом зарождается и новое направление философии. Так философия Нового времени постепенно исчерпывает себя и приходит к самоотрицанию, так что позитивизм является для Вл. Соловьева такой же исторической необходимостью, какими были в свое время рационализм, эмпиризм и немецкий идеализм.
Наконец, и все соловьевское построение мировой истории несомненно навеяно гегелевскими схемами, хотя по своему содержанию схемы эти не имеют ничего общего с Гегелем. Когда Вл. Соловьев говорил о бесчеловечном божестве на Востоке и о безбожном человечестве на Западе, то подобного рода противопоставления наверняка идут от Гегеля.
Таким образом, о существенном сближении Вл. Соловьева с Гегелем говорить можно и нужно. Однако тут же необходимо констатировать и огромное расхождение обоих мыслителей, доходившее до прямых враждебных чувств Вл. Соловьева к гегельянству.
Первое, что бросается здесь в глаза, — это несводимость соловьевского бытия только к одному понятию. У Гегеля нет ничего, кроме понятий и их постепенного исторического самораскрытия. Мы уже знаем, что в своем учении о всеединстве Вл. Соловьев постулирует признание такого сущего, которое охватывает все существующее и потому никак не определяется отдельными моментами действительности. Чтобы все было действительно всем, необходимо отказаться от приписывания ему какого-нибудь отдельного предиката. А отсюда, как это мы хорошо знаем, и возникло у Вл. Соловьева учение о «положительном ничто», которое уже выше всякого понятия. Здесь непроходимая пропасть между соловьевской философией и гегелевской. Для Вл. Соловьева каждая вещь необходимым образом есть некоторого рода понятие. Однако она вовсе не только понятие. Поэтому сказать, что все бытие и вся действительность есть только мышление, — это значит совсем не понимать того, к чему стремился Вл. Соловьев. Даже и абсолютное мышление его вовсе не устраивало. У Гегеля абсолютный дух мыслит логическими категориями, которые и характеризуют собою всю реальную действительность. Получается так, что абсолютный дух есть какой-то профессор чистой логики, который умеет очень хорошо и точно мыслить, и больше ничего не нужно для действительности. Но такого рода понятийная действительность вызывала у Вл. Соловьева только резко отрицательное отношение.
Полагая, что никакая вещь не существует без понятия о ней, Вл. Соловьев в течение всей своей жизни был непримиримым врагом панлогизма и всякого логицизма. Несмотря на свои симпатии к чистому мышлению, Вл. Соловьев навсегда остался непримиримым врагом чисто мыслительного рационализма. Будучи создателем философии всеединства и связанного с этой последней органицизма, Вл. Соловьев ни в каком случае не мог допустить, как то делал Гегель, чтобы вся действительность в своем конечном развитии пришла к философии и на ней остановилась. Конкретные периоды исторического саморазвития мирового мышления в той форме, как это было у Гегеля, тоже не устраивали Вл. Соловьева. Ему казалось смехотворным, что абсолютный дух нашел свое завершение в прусской монархии. Противопоставлять Запад и Восток по-гегелевски — такая тенденция у Вл. Соловьева была. Вл. Соловьев считал, что подлинный синтез восточной и западной односторонностей совершается в России и что подлинным синтезом всех исторических противоречий будет Россия как вместилище вселенской церкви.
Мы можем резюмировать соловьевскую критику гегелевского обожествления понятия следующими словами Вл. Соловьева: «Гегель утверждает, во-первых, что всякая данная действительность безусловно определяется логическими категориями, а во-вторых, что сами эти категории суть диалектическое саморазвитие понятия как такого или чистого понятия самого по себе. Но понятие само по себе, без определенного содержания есть пустое слово, и саморазвитие такого понятия было бы постоянным творчеством из ничего. Вследствие этого логика Гегеля, при всей глубокой формальной истинности частных своих дедукций и переходов, в целом лишена всякого реального значения, всякого действительного содержания, есть мышление, в котором ничего не мыслится» (4, 1, 330).
Вопрос об отношении Вл. Соловьева к Гегелю — это весьма запутанный вопрос, если иметь в виду соответствующие весьма разнообразные и пестрые тексты из Вл. Соловьева. Здесь можно указать на важное замечание Вл. Соловьева о Гегеле в целом (см. 4, 10, 317–320). Кроме того, начало изучения этого вопроса у нас уже положено в работе А. Н. Голубева (см. 16, 73–87).
11. Вл. Соловьев и О. Конт. Историко-философский и диалектический переход от Гегеля к позитивизму дан у Вл. Соловьева безупречно. В самом деле, гегелевское понятие решительно все в себе поглотило и все превратило только в чистую мыслимость. Но тогда вполне естественной является реакция на такое всепоглощающее понятие и проповедь действительности не на основе анализа понятий, а на основе анализа данных чувственности. Позитивизм — прямая противоположность гегельянству, и его генетическая характеристика у Вл. Соловьева отличается большой ясностью (см. 4, 1, 62–74; 152–170).
Однако с Контом дело обстоит не так просто. Вл. Соловьев, во-первых, написал ценную статью о Конте в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (см. 4, 10, 380–409). Эта статья богата не просто общими сведениями о Конте, но и увлекательной картиной контовских позитивистских утопий. Так как сам Конт страдал острым психическим заболеванием, то эта его утопия полна самых разнообразных курьезов, способных создать только потешное настроение у читателя. Все это изложено у Вл. Соловьева очень подробно и внимательно, так что не может не представить большого исторического интереса. Во-вторых же, в последние годы своей жизни Вл. Соловьев опять вернулся к изложению Конта, но на этот раз уже в положительном плане контовской концепции истории человечества.
В 1898 г. Петербургское философское общество отмечало столетие со дня рождения О. Конта, и в связи с этим Вл. Соловьев прочитал о нем блестящий доклад, необычайно характерный для специфики соловьевского идеализма. Стоит только привести хотя бы название этого доклада: «Идея человечества у Августа Конта» (4, 9, 172–193).
Отношение Вл. Соловьева к позитивизму заслуживает особого внимания. В самом общем смысле слова это отношение, безусловно, отрицательное, как это мы находили еще в магистерской диссертации философа (1874). Но вот в 1898 г., признавая свою прежнюю критику позитивизма совершенно правильной, он высоко ценит его в сравнении с вульгарными материалистами. О. Конт не принимает никакой материалистической метафизики, а просто говорит о необходимости изучать только явления. И в этом смысле, по мнению Вл. Соловьева, Конт совершенно прав. Он не прав только в том отношении, что не подвергает анализу самое это явление и относится к нему слишком наивно.
Но все-таки для добросовестной критики Вл. Соловьева весьма характерно, что выше О. Конта он ставит знаменитого Канта. Черты субъективизма и дуализма у Канта ему, конечно, чужды. Но то, что Кант хочет обосновать науку на основе анализа чувственно понимаемого явления, это Вл. Соловьеву очень близко и дорого, так что лозунг «от Конта к Канту» (4, 6, 274) для него звучит вовсе не регрессивно, а вполне прогрессивно.
Несмотря на это, учение Конта о человечестве Вл. Соловьев считает весьма ценным и аналогизирует его с подлинными христианскими теориями, несмотря на атеизм Конта. Вероятно, во всей истории философии Вл. Соловьев был единственным идеалистом, который нашел положительными некоторые идеи основателя европейского позитивизма, «зерно великой истины» (4, 9, 172).
Возвращаясь к историко-философским конструкциям магистерской диссертации Вл. Соловьева, мы должны указать еще на одну ступень европейской философии, а именно на А. Шопенгауэра и Э. Гартмана. Дело в том, что кроме позитивизма необходимо представлять себе другую, еще более резкую противоположность гегельянству. А именно если гегелевское понятие есть торжество мировой логики, то можно себе представить и полное отсутствие такой мировой логики. А это и будет бессмысленная, безумная и даже вообще бессознательная мировая воля. Вл. Соловьев имеет в виду прежде всего нигилизм Шопенгауэра. И этот нигилизм тоже закономерное детище европейской философии, построенной на гипостазировании отвлеченных понятий. Скажем несколько слов о Шопенгауэре и Э. Гартмане.
12. Вл. Соловьев и А. Шопенгауэр. Вл. Соловьев увлекался Шопенгауэром, но это увлечение, во-первых, относится только к раннему Вл. Соловьеву и, во-вторых, было весьма непродолжительно. Однако вопрос об отношении Вл. Соловьева к Шопенгауэру имеет достаточно большое значение для понимания русского философа.
Прежде всего обращает на себя внимание глубокое и тонкое понимание Вл. Соловьевым всего творчества Шопенгауэра (см. 4, 1, 74–96; 100–109; 147–148), хотя, как мы увидим ниже, Вл. Соловьев был отнюдь не всегда прав в своей оценке ведущих концепций у Шопенгауэра. Сведение всего на волю и представления является у Шопенгауэра, как правильно думает Вл. Соловьев, только результатом непосредственного опыта: если вообще есть познание чего-нибудь, то это значит, что у познания есть собственный предмет, а этот предмет и есть представление. Но представление относится к внешнему миру, а гораздо прямее наш внутренний опыт, гласящий о примате хотения или воли. Представление есть внешняя сторона действительности, воля же есть ее внутренняя сторона, потому воля и есть нечто первичное (см. там же, 74–85). Значит, и само бытие, по Шопенгауэру, есть не что иное, как воля с внутренней стороны и представление как внешняя сторона (см. там же, 93–94).
Это изложение философии Шопенгауэра у Вл. Соловьева можно считать вполне элементарным. Но вот что никак не элементарно, так это понимание им шопенгауэровской воли как гипостазированной абстракции, подобной и всем вообще гипостазированным абстракциям в истории новой философии (см. там же, 100; 101; 104–105). В установлении этих абстракций Вл. Соловьев совершенно беспощаден. Вместо того чтобы гласить об истине сразу и целиком, философы всегда хватались за какой-нибудь ее отдельный момент, отрывали этот момент от целого и приписывали ему абсолютное бытие, т. е. гипостазировали. Вся средневековая философия, по мнению Вл. Соловьева, только и состояла из гипостазирования то одного, то другого момента истины и абсолютизировала эти односторонние абстракции, тем самым превращая их в нечто мертвое. Эта абстрактная методология, по мнению Вл. Соловьева, не изменилась и в Новое время. Картезианское учение о разуме или английское эмпирическое учение о примате чувственности — все это является только абсолютизированием той или иной односторонности. Так было у Канта, и так было у Гегеля. Гегель — это вершина европейского рационализма, но он оперировал только абстрактными категориями, что тоже было односторонностью, поскольку бытие содержит в себе категории, но само по себе вовсе не есть только категория разума. Такое понимание европейской философии, когда Вл. Соловьев переходит к Шопенгауэру, становится во многих отношениях чем-то эффектным.
В самом деле, бессознательная воля Шопенгауэра является прямой противоположностью гегелевскому понятию. Последнее и разумно, и закономерно, и вселяет в каждого размышляющего философа неопровержимый и очевиднейший оптимизм. У Шопенгауэра все наоборот, и его бессознательная воля неразумна, бесцельна и способна вселять в людей только беспросветный пессимизм. Казалось бы, между Шопенгауэром и Гегелем совершенно нет ни одной точки соприкосновения, но вот Вл. Соловьев доказывает, что бессознательная воля Шопенгауэра есть тоже гипостазированная абстракция, поскольку в ней абсолютизируется всего только один момент истины и жизни (см. там же, 103, 104, 105). Вл. Соловьев в этой критике Шопенгауэра не только беспощаден, но и вполне прав, поскольку и с нашей точки зрения воля не хуже и не лучше представления; ее понятия тоже не хуже и не лучше стихийной устремленности.
Однако здесь приходится нам также и кое в чем возразить Вл. Соловьеву. Философ считает, что если воля есть нечто стихийное и бессмысленное, то она ничего не может породить из себя разумного и осмысленного. Будучи заклятым врагом Гегеля и его диалектики, Шопенгауэр здесь действительно впадает в неразрешимое противоречие и не умеет преодолеть этого противоречия диалектически. Это и дает повод Вл. Соловьеву тоже проходить мимо той очевидной диалектики, которая у Шопенгауэра невольно возникала при переходе от бессознательной и неразумной воли к ее сознательным и разумным порождениям. Но если не признавать такой диалектики, то в таком случае и сам Вл. Соловьев не имел бы права говорить о «положительном ничто», которое выше всего разумного и оформленного.
Едва ли также можно считать правильной ту критику Шопенгауэра у Вл. Соловьева, согласно которой воля, будучи ничем, может и породить из себя тоже ничто, небытие. Вл. Соловьев обвиняет Шопенгауэра ни больше ни меньше как в абсолютном нигилизме (см. там же, 80). С точки зрения формального метода Вл. Соловьев допускает здесь огромное преувеличение, но, кажется, он во многом нрав, если мы будем обращать внимание не на скрытую шопенгауэровскую диалектику, но на само содержание бытийного первопринципа, который проповедуется у Шопенгауэра.
В частности, Вл. Соловьев совсем не учел концепцию мира идей у Шопенгауэра. Правда, в таком частом непонимании Шопенгауэра приходится винить самого же Шопенгауэра. Под своим термином «представление» Шопенгауэр понимал по крайней мере три разных предмета. С одной стороны, это у него обычный общечеловеческий феномен, который не требует для себя никакой теории. С другой стороны, Шопенгауэр понимает «представление» вполне кантиански, т. е. как субъективный человеческий процесс, не имеющий никакого отношения к объективному миру. Но, в-третьих, — и это самое главное — мир представления является у Шопенгауэра не чем иным, Как платоновским миром идей, разумных, прекрасных и вечных. Вот эту платоническую концепцию мира идей Вл. Соловьев и не рассмотрел у Шопенгауэра. И если бы он это увидел, то он должен был бы сказать, что освобождение от воли у Шопенгауэра не есть уход в небытие, но погружение в чистый мировой интеллект, в художественное и уже ни в чем не заинтересованное наслаждение. Вся эта сторона шопенгауэровской философии целиком прошла мимо Вл. Соловьева. И вообще, свои заключения о Шопенгауэре Вл. Соловьев строит больше на основании трактата Шопенгауэра «О четверояком корне достаточного основания», чем на основании главного труда Шопенгауэра.
Очевидно, самым главным пунктом в понимании Шопенгауэра Вл. Соловьевым является историкофилософский анализ бессознательной воли как типичной для всего Запада гипостазированной абстракции.
13. Вл. Соловьев и Э. Гартман. Совсем другую картину представляет собою в изложении Вл. Соловьева философия Гартмана. Главной особенностью этого изложения является то, что Вл. Соловьев отнюдь не сближает Гартмана с Шопенгауэром в такой мере, как это делается обычно. Если философия Шопенгауэра является для Вл. Соловьева принципиальным нигилизмом, то у Гартмана он, наоборот, находит такие черты, которые позволяют нам констатировать здесь некоторые моменты выхода из общеевропейского гипостазированно-абстрактного тупика. В этом отношении Вл. Соловьев даже чересчур увлекается. Все же, однако, расхождение Гартмана с Шопенгауэром, как оно представлено у Вл. Соловьева, оказывается огромным. Еще надо сказать и то, что изложение философии Гартмана дается у Вл. Соловьева в необычайно отчетливой форме. Все предыдущие указанные им философы вообще излагаются в диссертации чрезвычайно просто и ясно. Но Гартман изложен у Вл. Соловьева прямо в виде отдельных тезисов: шести положительных и семи отрицательных. Эти тезисы имеют одну цель. Вл. Соловьев хочет сказать, что Гартман пытается выйти из указанного европейского тупика, для чего ему необходимо трактовать понимание бессознательной воли у Гартмана как более содержательный, более синтетический и более целостный принцип. Так, бессознательное сохраняет организм, создает в нем необходимые жизненные инстинкты, помогает мышлению, наделяет человека чувством красоты и художественным творчеством. Отрицательные (в логическом смысле) черты бессознательного у Гартмана тоже очень важны. Сейчас оно не страдает (как это было у Шопенгауэра), не прерывает своей деятельности, не имеет чувственной формы, не нуждается во времени, не заблуждается, не имеет памяти, всегда одинаково совершенно, все содержит в себе в одном мгновении и объединяет в себе волю и представление в одном и нераздельном целом.
Изобразивши Гартмана в таком синтетическом виде, Вл. Соловьев склонен находить в нем выход из западноевропейского тупика и попытку строить философию цельного духа. Вл. Соловьев пишет: «Истинность Гартмановской практической философии заключается, во-первых, в признании того, что высшее благо, последняя цель жизни не содержится в пределах данной действительности, в мире конечной реальности, а, напротив, достигается только через уничтожение этого мира, и, во-вторых, в признании, что эта последняя цель достижима не для отдельного лица в его отдельности, а только для всего мира существ, так что это достижение необходимо обусловлено ходом всеобщего мирового развития. Истинность обоих этих положений прямо вытекает из доказанной истинности основного метафизического принципа, по которому истинно-сущим, абсолютным первоначалом и концом всего существующего утверждается всеединый дух… Ясно также, что раз абсолютным началом признан всецельный, конкретный дух, полагающий всякую действительность, то необходимо признать, что все происходящее — мировой процесс — есть проявление того же духа, а следовательно, и конец этого процесса — уничтожение существующего мира в его исключительной реальности — полагается необходимо тем же всеединым духом, а следовательно, уже по одному этому достижение последней цели не может иметь того субъективного значения, с каким оно является у Шопенгауэра» (4, 1, 148–149).
Подобного рода заключения Вл. Соловьева о Гартмане свидетельствуют не столько о значении Гартмана в буквальном смысле слова, сколько о тех выводах, которые делает из Гартмана сам Вл. Соловьев. Тенденция противополагать Гартмана Шопенгауэру проводится у Вл. Соловьева правильно. Однако уже и на магистерской защите Вл. Соловьеву говорили о недостаточности философии Гартмана для построения теории конкретного и всеедино-целостного духа. Мы имеем дело с развитием идей, для которого у Гартмана имеются некоторые материалы, но которое свойственно скорее самому Вл. Соловьеву, чем Гартману.
Глава III. Теоретическая философия
Прежде всего мы считаем необходимым отбросить часто фигурирующую в литературе схему философского развития Вл. Соловьева, который якобы шел от славянофильства к западничеству. Все его славянофильские элементы, которые можно было бы заметить при тщательном изучении сочинений философа, имеют, самое большее, значение только наиболее общих форм мысли, популярных в тогдашней литературе. Так, в своей первой статье «Мифологический процесс в древнем язычестве» он ссылается на Хомякова и Шеллинга, но ничего хомяковского в этой статье заметить невозможно. В первой своей диссертации Вл. Соловьев трактует о кризисе западной философии. Однако термины «Запад» или «Восток» он меньше всего связывает с культурно-национальной проблематикой, но дает лишь историко-философски. Что же касается призыва к наивной вере в противоположность рассудочному мышлению, то Вл. Соловьев в своей вступительной речи на защите диссертации прямо считает возвращение к такой вере невозможной бессмыслицей. А. Никольский, рассматривая влияние на Вл. Соловьева разного рода мыслителей, античных, немецких и русских, приходит к такому правильному выводу: «Все же это влияние не было настолько исключительно, чтобы отнять у Соловьева право на имя самостоятельного мыслителя» (29, № 10, 419).
1. Цельное знание. Работа «Философские начала цельного знания» (1877) базируется на круге мыслей, который разрабатывала европейская классическая философия от античности вплоть до своего завершения в системах немецкого идеализма.
Наша жизнь, говорит Вл. Соловьев, полна всякого рода мучений, далека от всеобщего блаженства. Из этого следует, что человек не может оставаться в подобном состоянии и должен стремиться к какой-нибудь счастливой цели. Но стремиться к цели — значит пребывать в постоянном развитии, так как постоянное пребывание в неподвижном виде исключает всякую цель.
Но что значит развиваться? Это значит, во-первых, быть чем-то и быть этим чем-то во все моменты своего развития. А во-вторых, это значит, что каждая точка развития приносит с собой какое-то новое качество, которого не было раньше. Но простое сопоставление этих новых точек опять-таки противоречит развитию. Все эти точки должны быть в развивающемся уже с самого начала в нерасчлененном виде. И вот только тогда, когда развивающееся уже содержит в себе в потенциальном виде все то, чем оно станет впоследствии, подобно семени, потенциально содержащему в себе уже будущее растение, — только тогда и возможно развитие в собственном смысле слова. Другими словами, это развитие должно быть жизнью, а это развивающееся должно быть организмом или существом (см. 4, 1, 252–253).
В этом рассуждении дан ряд понятий, против которых нельзя ничего возразить: несовершенство жизни можно установить только в результате знания ее совершенства. Знание или по крайней мере предположение совершенства требует перехода от менее совершенного к более совершенному. Переход этот не может состоять из отдельных изолированных точек; отсутствие изоляции требует присутствия всех точек в начальной точке, а это в свою очередь требует развития из неразвернутого состояния в состояние развернутое. И наконец, это развернутое состояние, в котором все отдельные точки содержат в себе свое целое, и есть организм.
В дальнейшем Вл. Соловьев применяет эту схему развития и к истории. История человечества начинается у него с семьи, которую он понимает как примитивный человеческий организм, еще близкий к биологическому состоянию, названному им в данном случае экономической ступенью. Ей противостоит та ступень человеческого развития, когда вместо чистого материального производства зарождается общение между собою всех человеческих индивидуумов, что он называет политической ступенью, и, наконец, по Вл. Соловьеву, нарождается ступень духовного общения людей, которую он называет церковью. Так от примитивного организма человечество развивается до ступени церковного общения (см. там же, 257–259).
Сейчас мы должны выставить одно необходимейшее для понимания Вл. Соловьева требование, которое сводится к обязательному анализу его терминологии. В работе, часть которой мы сейчас изложили, собственно говоря, нет ничего церковного, а рассуждение заканчивается теорией всеобщего духовного развития. При чем тут церковь? Последовательное освоение философской классической культуры приводит здесь Вл. Соловьева к трем основным категориям человеческого бытия, а именно к истине, добру и красоте (см. там же, 378), долженствующих исчерпать содержание идеи совершенства, которое он выразил христианским понятием «церковь». Другими словами, под термином «церковь» согласно духу и букве его учения нужно понимать у Вл. Соловьева в первую очередь всеобщую целостность бытия, или, как он говорит, всеединство, но только в таком состоянии, когда уже преодолеваются все несовершенства жизни и человек приобщается к окончательному идеальному состоянию человечества или по крайней мере стремится к таковому. Таким образом, это есть учение о жизни и бытии, включая всю человеческую и всю космическую сферу, как о нерушимой и всеединой целостности. Учение это, кроме того, мотивируется, как мы видели, чисто жизненными задачами человека, который хочет преодолеть несовершенство жизни и переделать ее в целях лучшего будущего.
Несмотря на нечеткую терминологию, трактат «Философские начала цельного знания» дает нам ценные сведения о творческой эволюции философского мышления Вл. Соловьева.
Именно свое учение о развитии, как мы знаем, он применил к человечеству в целом. Но для выработки системы этого было еще мало. Эту категорию развития Соловьев применяет еще и к бытию в целом.
Организм есть единство и цельность. Следовательно, по Вл. Соловьеву, и все бытие тоже есть единство и цельность. Однако эту цельность, считает он, нельзя понимать ни натуралистически, потому что натурализм оставляет без внимания всю область духовного развития, ни идеалистически, потому что идеализм, взятый сам по себе, в отрыве от всего прочего, и прежде всего от материи, оказывается, с точки зрения Вл. Соловьева, только рационализмом, т. е. рассудочной философией, которая тоже бессильна охватить всю область духовного развития (см. там же, 290–303). Для Вл. Соловьева гораздо более полноценной философией является философия мистическая, но и она слишком часто оказывается связанной то с натурализмом, то с идеализмом. Поэтому и она, по Вл. Соловьеву, требует совершенно новой разработки.
Очень важно отдать себе отчет в том, что Вл. Соловьев понимает под мистицизмом. «Предмет мистической философии есть не мир явлений, сводимых к нашим ощущениям, и не мир идей, сводимых к нашим мыслям, а живая действительность существ в их внутренних жизненных отношениях; эта философия занимается не внешним порядком явлений, а внутренним порядком существ и их жизни, который определяется их отношением к существу первоначальному» (там же, 304).
Здесь мы должны напомнить о необходимости критического отношения к философской терминологии Вл. Соловьева. Если о натурализме и идеализме более или менее еще можно говорить и думать так, как это дано у Вл. Соловьева, то термин «мистицизм» в настоящее время имеет совсем иной смысл. Под мистической философией, как это мы сейчас видим, Вл. Соловьев понимает «всеобщую органическую действительность», которую, конечно, нельзя охватить ни методами изолированного эмпиризма, ни методами рассудочно-идейного построения. Против термина «мистицизм» можно и нужно спорить, но против органического понимания действительности спорить невозможно.
Можно говорить, что организм в бытии существует в разной степени, не исключая и нулевую. Но отрицать организм бытия в целом нет никаких логических возможностей. Соловьевский «мистицизм» есть просто теория бытия и жизни как всеобщего и целостного организма, если покамест не входить ни в какие детали.
Необходимо сказать даже больше того. Считающие себя мистиками, те, которые базируются на всякого рода иррациональных переживаниях, на всякого рода душевных и духовных страстях, на заумных и сверхумных экстазах, будут глубочайшим образом разочарованы при внимательном изучении философских произведений Вл. Соловьева. Все ранние трактаты Вл. Соловьева полны схематизма, логического систематизма и того, что обычно называют схоластикой в ругательном смысле, а именно в смысле никчемной и никому не нужной, пустейшей абстрактной метафизики. Поэтому точный терминологический анализ философии Вл. Соловьева только и может спасти нас от всякого рода традиционных представлений о нем и от навязывания ему таких мыслей и переживаний, которых он не только в то время не имел, но с которыми тогда даже постоянно боролся.
Возвращаясь к трактату о философских началах цельного знания, мы должны формулировать то, что по преимуществу укладывается в традиции классической философии, а именно его учение о сущем, бытии и идее. При учете разнообразных точек зрения, которые накопила огромная философская литература, необходимо будет сказать, что их понимание у философа представляет определенные трудности. Под этими терминами в философии Вл. Соловьева нужно понимать только то, что понимает он сам, и только потом можно критиковать эту терминологию. Конечно, с установившейся точки зрения совершенно нет никакой разницы между сущим и бытием. Возможно, что такого рода терминология и является непонятной или излишней. Но то, что понимает сам Вл. Соловьев под этими терминами, совершенно ясно и едва ли заслуживает какой-либо существенной критики.
В самом деле, если исходить из сказанного у нас о соловьевском учении о целостности, то становятся понятными такие категории у него, как единство множественности и как единство, взятое само по себе. Ведь всякий яснейшим образом отличает признаки предмета от самого предмета. Если предмет, кроме своих признаков, не содержит в себе ровно ничего, то ведь нет и никакого предмета, которому можно было бы приписать какой-нибудь признак; и весь предмет перестанет существовать, а останутся только его дискретные признаки, которые нечему будет и приписывать. Значит, вещь есть совсем иное, чем ее свойства. И в поисках абсолютной целостности Вл. Соловьев, конечно, не мог остановиться только на одних признаках и свойствах, не рассуждая о том, чему же, собственно, принадлежат эти признаки и свойства. Это Вл. Соловьев (как, впрочем, это было уже у Шеллинга) хочет выразить в своем противопоставлении сущего и бытия.
Сущее, по мысли Вл. Соловьева, выше всяких признаков и свойств, выше всяких предикатов и вообще выше всякой множественности. В этом смысле Вл. Соловьев называет его даже сверхсущим. Но исходя из принципов философской культуры идеализма, никак нельзя остановиться на таком сверхсущем, потому что для этого нужно было бы вообще уничтожить раздельность вещей и превратить все существующее только в какой-то непознаваемый нуль.
Классический образ мышления требовал равноправного существования также и для множественности, раздельной, понятной и далекой от превращения в абсолютно непознаваемый нуль, в абсолютное ничто. Вот это раздельное, доступное пониманию, структурное, относительное, объединяемое в отдельные относительные единства, Вл. Соловьев называет бытием в отличие от сущего (см. 4, 1, 354–360). Все дело заключается здесь в том, что должна же существовать какая-нибудь вещь, если мы ей приписываем какие-нибудь признаки. Но если она действительно существует, то она выше своих признаков. По терминологии Вл. Соловьева, эту вещь и надо называть не просто суммой признаков, или бытием, но тем, что является носителем этих признаков, а именно сущим, которое в сравнении со всеми своими признаками есть уже нечто сверхсущее. Отрицать такое «сверхсущее» — значит, по Вл. Соловьеву, просто отрицать существование вещей, а значит, и всего мира.
Далее, Вл. Соловьев для своего сущего употребляет также термин ничто. Этим термином он хочет сказать, что мир и все существующее несводимы к отдельным вещам, потому что тогда и каждую вещь пришлось бы рассыпать на ее бесконечные признаки, а эти признаки еще на другие и тоже бесконечные признаки и, словом, превратить все существующее в какую-то неразличимую пыль, в какой-то мираж. Кроме того, и сам Вл. Соловьев именует свое ничто положительным (см. там же, 348–349) и находит в нем силу всех вещей вместо их мертвой и механической суммы, в виде которой вещи вообще немыслимы на путях целостного их познания. Только объединение этого всеобщего положительного ничто, обнимающего все существующее в виде единого и цельного организма, и раздельных вполне самостоятельных вещей может обеспечить искомую целостность познания. Это единое не есть какая-нибудь отдельная вещь, будучи вне всех вещей. Но это единое, являясь принципом всего организма, только и может осмыслить всякую отдельную вещь. Другими словами, все существует во всем. И этот принцип всеединства (см. там же, 336–337) как раз и является основным принципом Вл. Соловьева.
Но чтобы понять теоретическую философию Вл. Соловьева в целом, наш терминологический анализ его рассуждений необходимо существенно продолжить. Действительно, то, что он сейчас назвал бытием, он именует также необходимостью, а также непосредственной силой бытия (в отличие от абсолютной мощи сущего), а также еще и «первой материей», по-видимому в отличие от сущего. Далее, называя сущее «первым центром», а бытие «вторым центром», он именует свое бытие также еще и сущностью. Этот последний термин может вызвать у читателей большое недоумение, поскольку, казалось бы, «сущность» целесообразнее было связать с сущим, а не с бытием. Кроме того, у него «сущность» опять занимает не второе (см. там же, 378), но третье место в общем разделе — сущее, бытие, сущность.
Может вызвать недоумение такая фраза: «Поскольку сущность определяется сущим, она есть его идея, поскольку бытие определяется сущим, оно есть его природа» (там же, 356). Получается, что бытие, или сущность, т. е. «второй центр», уже есть и идея, и природа. И Вл. Соловьев даже сам признает, что бытие, взятое в его объективном «содержании», есть «идея», или «сущность», а взятое в его «способе, или модусе», есть бытие «подлежательное», или «природа». Выходит, что «природа» содержится уже во «втором центре», т. е. бытии, куда философ помещает также и «идею». Тут же, однако, свое третье начало он именует действительностью, которую он вместе с бытием считает «общим произведением, или взаимоотношением», первых двух «центров», т. е. свободно сущего (или сверхсущего, положительной мощи бытия) и необходимости, или непосредственной силы бытия.
Не забудем, что произведение, которое мы сейчас анализируем, было написано 24-летним молодым человеком. Многие трудные вещи к этому времени он уже успел продумать до полной философской ясности. Однако здесь еще чувствуется недостаточная опытность в изложении этих вещей, почему и приходится их подвергать некоторого рода анализу.
Во-первых, свое бытие Вл. Соловьев понимает по крайней мере в двух, если не в трех смыслах. У него совершенно отчетливо говорится о противоположении сущего и бытия, как это мы констатировали. Одно выше всякой раздельности, другое есть раздельность и множественность. Теперь же оказывается, что в бытии тоже необходимо различать два разных бытия. Одно — идеальное, необходимое, которое философ называет сущностью. Другое же — реальное, действительное, которое философ называет природой. Нельзя сказать, что все это разделение вполне ясно. Нерасчлененное сущее, расчленяясь, становится идеей, или, как говорит философ, логосом, а эта идея, или логос, осуществляясь, создает реальную действительность. Однако совсем неясно, когда мы тут же читаем, что после расчлененного логоса нужно признавать идею, которая есть «осуществленное или проявленное (открытое) сверхсущее» (4, 1, 375). Здесь можно понять так, что логос есть только «акт проявления или откровения», а идея — само проявленное и открытое сверхсущее. Но тогда идея оказывается уже на третьем месте после сущего, а не на втором, куда ее помещал философ на этих же страницах вместе с «необходимостью» и «сущностью». В общей таблице анализируемых в данной работе категорий мы тоже находим тройное деление: абсолютное, логос, идея (см. там же, 378).
Не очень благополучно обстоит здесь дело также и с категорией логоса. Поскольку логос расчленяет абсолютное сущее, а последнее нерасчленимо, то философ вводит понятие внутреннего, или скрытого, логоса, которому приходится противопоставлять открытый, или проявленный, логос. И это тоже было бы понятно, но философ вдруг говорит почему-то о «видимости» или «призрачности» этого второго логоса. Дело запутывается еще больше, когда философ заговаривает о третьем логосе, «воплощенном, или конкретном», который он называет также Христом. Ведь христианство мыслит Христа как воплощение логоса в чувственной материи. Но ни о материи, ни тем более о чувственной материи философ до сих пор не сказал ни слова; а то, что он выше назвал «первой материей», было у него только «необходимостью» и «сущностью», о воплощении которых совершенно ничего не было сказано.
Более понятно суждение о том, что «третьему, или конкретному, Логосу отвечает и конкретная идея, или София» (там же, 376). Или по-другому: чистая идея тоже содержит в себе какую-то чистую материю и в совокупности с этой материей является Софией. Но что это за материя в чистой идее, об этом можно только догадываться.
В связи с этим не очень ясным является в данном трактате также и слишком кратко и абстрактно выраженное учение о Троице. То, что абсолютное сущее как начало, исток и сила всего существующего именуется Отцом, это, если стоять на позициях Вл. Соловьева, еще более или менее понятно. Но если второе лицо Троицы он именует то логосом, то идеей, то Сыном, тогда здесь возникают неясности, о которых мы только что сказали, относительно понимания логоса и идеи.
Наконец, нелегко понять и то, что философ говорит здесь о Духе Святом. Это и возвращение расчлененности сущего к его единству, и отношение сущего к самому себе через свое проявление, или через свою идею (см. там же, 377), и даже «соответствие» конкретной и воплощенной идее (там же). В последнем случае остается неясным, каково же отличие Духа Святого от Софии и от Христа.
Вопреки всем этим неясностям, свидетельствующим пока еще о неумении Вл. Соловьева выразить все в ясной форме, та таблица категорий, при помощи которой философ хочет резюмировать свою теорию цельного знания, на наш взгляд, несомненно, является большим достижением в творческой эволюции Соловьева. Философ избегает здесь противоречивости благодаря тому, что из всех своих указанных у нас выше основных триад останавливается только на одной — сущее, бытие, сущность. Это же самое тройное деление он представляет еще и в таком виде: абсолютное, логос, идея. Поскольку, однако, цельность предполагает существование всего во всем, то в каждой из этих трех категорий снова повторяются те же самые три категории. Получается следующая таблица (см. там же, 378):
| сущее(абсолютное) | бытие(логос) | сущность(идея) | |
|---|---|---|---|
| абсолютное | дух | воля | благо |
| логос | ум | представление | истина |
| идея | душа | чувство | красота |
Отобрав только эти два тройных деления, Вл. Соловьев очищает себе путь для той ясности и простоты, без которых он не мог бы мыслить завершение своих категориальных построений.
Чтобы понять логику предложенной Вл. Соловьевым таблицы категорий, нужно помнить три обстоятельства.
Первое — это наличие трех основных категорий: сущее, бытие и сущность. В таблице они расположены сверху по горизонтальной линии. Второе — эти три основные категории находятся во взаимном соотношении, а именно так, что каждая категория существует сама по себе, далее, она отражает на себе вторую и потом третью категорию. Таким образом, эти три категории, отражая друг друга, превращаются уже в девять категорий. А если эти три категории не будут превращены в девять, тогда нарушится основной принцип всеединства, а именно что все находится во всем. Без учета этого обстоятельства нечего и думать разобраться в таблице Вл. Соловьева. Но очень важно еще и третье обстоятельство. Дело в том, что в полученной девятке категорий мы имеем три горизонтальные линии, параллельные основной горизонтальной тройке: сущее, бытие, сущность. Каждое из этих трех горизонтальных направлений Вл. Соловьев также обозначает отдельным термином, в результате чего вся девятка категорий оказывается ориентированной не только на основную горизонталь (сущее, бытие, сущность), но еще и тройным образом горизонтально, причем три получающиеся горизонтали именуются как абсолютное, логос и идея.
Логика этих девяти категорий получает свою определенность, которую, однако, легко можно не заметить и превратить в чистейший сумбур, если останавливаться только на их словесном выражении. При соблюдении же указанной нами диалектики девяти категорий эта таблица для Вл. Соловьева безупречна.
Итак, берем сначала категорию сущего. Сущее как таковое, или как абсолютное, есть дух, как логос оно есть ум и как идея оно есть душа. Вторая основная категория, а именно бытие, взятое как абсолютное, есть воля, как логос оно есть представление и как идея оно есть чувство. Такое же тройное деление находим мы и в сфере сущности. А именно сущность как абсолютное есть благо, как логос она есть истина и как идея она — красота.
Для цельного знания важны прежде всего эти три последние наиболее насыщенные категории, а именно благо, истина и красота. То, что благо, будучи в основе своей сущностью, есть синтез абсолютного и логоса в виде духа и воли, это можно считать достаточно понятным, если исходить из установок Вл. Соловьева. Точно так же и истина (и не только с точки зрения Вл. Соловьева) есть синтез ума и представления. Но понятнее всего нам становится положение красоты, в которой Вл. Соловьев находит синтез души и чувства.
По вопросу о терминологии Вл. Соловьева могут быть весьма углубленные и обостренные споры. Тем не менее если говорить по существу, то для понимания этой таблицы надо, во-первых, признать, что перед нами здесь чистейший идеализм, то есть функционирование понятий как таковых, без опоры на какое-нибудь внепонятийное, или материальное, бытие. Во-вторых, перед нами не просто идеализм, но его классическое выражение, поскольку здесь берется непосредственная данность, лишенная всего второстепенного, избегающая всяких уклонов в сторону и взывающая ко всеобщему охвату. И в-третьих, все рассуждение увенчивается здесь тремя основами всякого идеализма, а именно благом, истиной и красотой. Неучет этих трех особенностей рассуждения Вл. Соловьева о цельном знании грозит превратить всю эту теорию в нагромождение пустых абстракций. А между тем нечто живое вполне ясно ощущается в этой с виду слишком абстрактной таблице. Так, едва ли можно отрицать, что в красоте функционирует нечто, доступное непосредственному чувству. Или, если придерживаться другого направления мысли Вл. Соловьева, то едва ли можно отрицать существование в красоте всегда какой-нибудь идеи в форме чисто умственного образа, а также и объективной предметности (Вл. Соловьев говорит здесь об абсолютном и о сущем), которая, будучи чем-то внутренним, обязательно выражена внешне как определенная образная идея.
Общий итог: в философии Вл. Соловьева обнаруживается определенная логическая закономерность; критический анализ его философской терминологии показывает как давно ушедшие и вполне для нашей современности устаревшие истины, так и живое чувство действительности, отрицательные стороны которой философ стремится к тому же с большим вдохновением переделать и преобразовать. Этим восторженным отношением к жизни проникнуты и другие его произведения ранней молодости, как, впрочем, и произведения более зрелого возраста.
Цельное знание Вл. Соловьева является не чем другим, как строгой системой логических категорий. Он это называет мистикой. Но эта мистика достаточно специфична, так как в ней нет ничего, кроме системы логических категорий, или того, что мы бы назвали «органической логикой», используя терминологию самого Вл. Соловьева. В предложенной системе Вл. Соловьева надо строго различать эти категории и их словесное выражение. В структуре системы Соловьева они даны вообще в безупречной логической ясности, в то время как основное их выражение содержит у него иной раз и путаницу, что и понятно, поскольку философские термины слишком часто употреблялись весьма разнообразно и потому спутанно. Нет ничего яснее того, как различает Вл. Соловьев, например, бытие и сущее. Например, кусок камня, содержащий массу разных свойств, резко отличается от другого же камня, но с совершенно другими свойствами. Такой камень назовем бытием, а то, что является носителем его свойств, — сущим (а в сравнении с бытием даже сверхсущим, даже каким-то «ничто»). Различение бытия и сущего в этом отношении есть элементарное требование логики. Тут нет совершенно никакой мистики, хотя Вл. Соловьев и называет такое различение именно мистикой.
Далее, Вл. Соловьев называет свое бытие также еще природой. Конечно, это не природа в том смысле, как мы ее понимаем. Но наличие свойств и признаков вещи, несомненно, есть некоторого рода «природа» в сравнении с той идеей, которая в этой «природе» воплощена. Точно так же это свое бытие, или природу, Вл. Соловьев называет еще логосом. Но и здесь перед нами возникает вопрос отнюдь не категориальный, а только чисто словесный, чисто терминологический. Ведь этот термин «логос» означает не что иное, как «смысл», т. е. понятную расчлененность. Почему же это бытие, которое Вл. Соловьев в отличие от просто сущего понимает как расчлененное сущее, не назвать ему логосом? Наконец, это свое бытие и этот свой логос Вл. Соловьев называет еще необходимостью. Ведь покамест у него речь шла о просто сущем, оно, как носитель признаков и свойств, взятое само по себе, конечно, было свободно от всяких свойств и признаков. Но когда оно стало трактоваться как носитель определенных, свойств и признаков, т. е. уже как расчлененное бытие, то, конечно, стало необходимым признавать его именно таким, а не другим. Покамест камень был свободен от гранитности или мраморности, он был действительно свободен от своих признаков. Но когда мы взяли в руки гранит, то этот гранит уже не мог не быть гранитом, и гранитность для гранита оказалась самой настоящей необходимостью. Конечно, на данном этапе философских поисков Вл. Соловьев еще не был особенно точным к отдельным словам и потому допускал тут некоторого рода словесный разнобой. Но логическая категория, которая крылась под этим словесным разнобоем, была уже отчетливо им продумана. Точно так же, следуя логике мышления Вл. Соловьева, почему же эти бытие, логос, природу, необходимость не назвать еще и идеей? Ведь каменная глыба чем-нибудь да отличается от кучи песка. И чем отличается? А тем, что камень имеет свою идею, именно идею камня; песок же имеет свою, именно идею песка.
Вл. Соловьев употребляет слово «сущность». И придирчивый критик это слово будет относить к понятию «сущее». Раз мы указываем на камень как на нечто сущее, то, естественно, говорим и о сущности камня. Но вот оказывается, что слово «сущность» философ связывает и не с «сущим» и не с «бытием», а с тем, что их объединяет и что является для них общим. Ведь нельзя же оторвать признаки камня от носителя этих признаков. При всем их различии фактически это есть одно и то же. Вот это тождество сущего и бытия Вл. Соловьев и называет «сущностью». Термин этот можно считать неудачным, поскольку он тяготеет к «сущему», а не к «бытию». Почему бы это третье, объединяющее начало не назвать хотя бы «бытностью»? Ведь «бытие» участвует в «сущности» совершенно так же, как и сущее.
Но вот что решительно непонятно. Если Вл. Соловьев считает себя христианином, то третье, основное начало, а именно вот эту самую «идею», он называет «Духом Святым». С ортодоксальной христианской точки зрения это совершенно неверно. «Идея», «логос», «слово», по христианскому учению, суть признаки отнюдь не третьего, но второго лица. Точно так же понятие Софии как действительной божественной осуществленности тоже различается у Вл. Соловьева на данной стадии его философского развития не очень четко. Кроме того, сам термин «София-Мудрость» не так уж популярен в христианском богословии, чтобы можно было употреблять его без специального разъяснения. Да и сам Вл. Соловьев едва ли заимствовал этот термин только из одной патристики.
Наконец, если Вл. Соловьев хотел дать в анализируемой нами работе чисто христианское учение о всеединстве, то он прошел мимо одного чрезвычайно важного принципа, который для христианства является как раз наиболее специфическим. Дело в том, что вся система логических категорий, установленная здесь Вл. Соловьевым, проводится совершенно отчетливо. От высшего положительного ничто до низшего и мельчайшего его элемента не устанавливается ничего такого, что отличало бы творца от твари. Ведь всеединство, взятое как таковое, говорит только о цельности всего существующего, но ничего не говорит о различии бога и мира. С таким всеединством согласятся и все античные неоплатоники, которые были язычниками и пантеистами. Правда, под сущим Вл. Соловьев понимает то, что обнимает все вещи и потому выше всех вещей. Но с таким сверхсущим единством опять-таки согласятся все неоплатоники. У Вл. Соловьева здесь нет четкого учения о различии творца и твари. А ведь только это одно и могло бы сделать его философию чисто христианской. Эта пантеистическая тенденция найдет для себя некоторый корректив в его «Чтениях о Богочеловечестве», которых мы коснемся ниже. Принципиальный пантеист рассуждает совершенно так же, как рассуждает здесь Вл. Соловьев. Если не делать никаких оговорок (а Вл. Соловьев их как раз и не делает), то необходимо утверждать, что все существующее есть безличное божество, а отдельные вещи являются только эманацией этого божества, той или другой его степенью, от бесконечности до нуля. Поскольку во всем этом трактате нет ровно никакого намека о твари, т. е. о творении из ничего, постольку нет никакой необходимости находить здесь что-нибудь, кроме пантеизма. Безусловно, Вл. Соловьев никогда не был пантеистом, хотя некоторого рода пантеистические мотивы ему небезынтересны. Но оттенить специально христианское учение о творении в этом учении о всеединстве, очевидно, не было задачей философа. В заключение все-таки надо сказать, что для столь молодого возраста такое тонкое и глубоко продуманное произведение, как анализируемая нами работа, безусловно является гениальным, как бы придирчивые критики ни упрекали Вл. Соловьева в использовании немецких систематически-категориальных методов. Но рассматривать эту работу необходимо в контексте всех произведений Вл. Соловьева, в которых он окончательно преодолел схематизм.
2. «Критика отвлеченных начал». В творческой эволюции Вл. Соловьева очень важное место занимает «Критика отвлеченных начал» (1880). Вся эта работа проникнута живейшим пафосом жизнеутверждения, так что «Отвлеченные начала» критикуются в ней только ради положительных целей. Не трудно представить себе, что понимает здесь Вл. Соловьев под «отвлеченными началами», как об этом он сам в яснейшей форме говорит в предисловии. Это вообще все философские односторонности, которые возникали в истории философии, боролись одна с другой, сменяли одна другую и все еще не могли дойти до цельного философского синтеза.
Эмпиризм, или «материальное начало нравственности», есть односторонность, поскольку он не охватывает разумной нравственности, и потому является отвлеченностью (см. 4, 2, 15–44). Рационализм тоже односторонность и отвлеченность, поскольку игнорирует материальную сторону (см. там же, 110–116). Экономическая жизнь, политическая жизнь — это тоже односторонности (см. там же, 126–158). Религия, которая выставляет на первый план божество без всякого живого отношения к человеку, природе и обществу, есть тоже рассудочное начало, которое Вл. Соловьев не боится заклеймить термином «клерикализм» (см. там же, 161–166). Традиционный реализм, метафизический материализм, сенсуализм, с одной стороны, и рационалистская метафизика — с другой, друг другу противоположны, друг друга исключают и потому тоже являются отвлеченными началами знания, требующими перехода к более высокой ступени знания, к религиозной, но уже в новом смысле слова (см. там же, 192–289).
Что же в конце концов является, по Вл. Соловьеву, не отвлеченным, а по-настоящему конкретным? Истина для нас возможна только в том случае, если мы будем признавать всю действительность, беря ее в целом, т. е. максимально обобщенно и максимально конкретно. Это значит, что истина есть сущее, взятое и в своем абсолютном единстве и в своей абсолютной множественности. Другими словами, истина есть сущее всеединое. Мы бы особенно рекомендовали читателю внимательно ознакомиться с этими страницами данного трактата, где философ дает диалектику этого всеединого сущего (см. там же, 295–302). Эти страницы представляются нам ясными и простыми, являясь к тому же наилучшим образом построения именно в духе классического идеализма Гегеля и Шеллинга. Этот тип философствования Вл. Соловьева далек и от архаизма многочисленных односторонностей, какие были в истории философии, и от всякого модернизма и декадентства, бьющих в глаза чрезвычайной изысканностью и всякого рода субъективными изломами.
Этим же характером отличается и последняя глава «Критики отвлеченных начал» (см. там же, 342–353). Он тут употребляет такие термины, как «мистицизм», «свободная теософия», «свободная теургия», «искусство». Под «мистицизмом», и с этим мы уже встречались, он понимает, собственно говоря, только цельное знание. Он всячески старается отождествить мистическое знание и естественные науки. То, что он называет «свободной теософией», совершенно не имеет ничего общего с теософскими учениями, которые в Европе имели большое распространение в течение всего XIX в. Этот термин «теософия» понадобился ему только ради того, чтобы отгородиться от той традиционной теологии, которая всегда представлялась ему слишком рассудочной и слишком мертвенной, слишком несвободной. Его теософия есть просто учение о всеединстве, сформулированном у нас выше. Под «теургией» Вл. Соловьев вовсе не понимает когда-то популярного учения о разного рода магии и чудесах. Теургия для него — это свободное общечеловеческое творчество, в котором свои высшие идеалы человечество осуществляет в материальной действительности, в природе. Эту теургию Вл. Соловьев называет также просто «искусством», вполне отдавая себе отчет в том, что это вовсе не есть традиционное искусство с его чрезвычайно ограниченными целями и возможностями. Таким образом, едва ли что-нибудь можно будет возразить и против такой теософии, и против такой теургии, и против такого искусства, если учесть рациональное зерно соловьевской терминологии. Все это у Вл. Соловьева только мощный призыв реально бороться за общечеловеческие идеалы и за цельное и здоровое воплощение их в материальной и природной действительности.
Между прочим, одно критическое замечание мы бы сделали с точки зрения подлинных намерений самого же Вл. Соловьева. Дело в том, что в своем понимании последней конкретности как «сущего всеединства», т. е. всеединства, взятого в его неделимой субстанции, Вл. Соловьев опять-таки недостаточно четко проводит различие между монотеизмом и политеизмом.
Особенно ярко бросается в глаза пантеистический характер термина «история». Ведь если бог есть все и это все рассматривается как всякое становление, то, не употребляя никаких оговорок, и такого рода историю тоже необходимо будет представлять в виде не чего иного, как все того же божества, но только данного в своем становлении. Становление божества тоже будет божеством, только что рассмотренным в одном специальном отношении. Сам Вл. Соловьев, конечно, ни в каком смысле, как мы уже сказали, не был пантеистом, так как он был ревностным защитником христианства, которое является строжайшим монотеизмом. Но Вл. Соловьев в своей философии далеко не всегда употреблял слова и термины, которые выражали бы философскую сущность его идей вполне адекватно. Здесь в конце трактата «Критика отвлеченных начал» он в своих поисках неотвлеченного начала дает повод для возможного пантеистического истолкования его теории истории. Однако объективно настроенный исследователь Вл. Соловьева прекрасно видит, где у него монотеизм и где у него пантеизм, а также и то, какой смысл приобретают у него восторженно употребляемые им термины. Рассуждения об истории в конце «Критики отвлеченных начал» заканчиваются пантеистическим аккордом, пожалуй, скорее только в словесном смысле, но вовсе не являются совсем несвойственным ему пантеизмом.
В конце концов историческая справедливость заставляет нас считать, что при общей пантеистической окраске философия Вл. Соловьева в «Критике отвлеченных начал» представляет собой абсолютный идеализм, правда непоследовательный.
Так. Вл. Соловьев вдруг вводит совершенно странное и непонятное учение о двух абсолютах (4, 2, 315). Он прекрасно понимает, что абсолют только потому и именуется абсолютом, что он один и что если имеется нечто иное, помимо него, то он уже не охватывает всего, а потому и не есть абсолют. И тем не менее этот второй абсолют Вл. Соловьев все-таки признает, считая при этом, что это есть абсолют становящийся, в то время как первый абсолют существует сам по себе, вне всякого своего становления.
В этом рассуждении Вл. Соловьева понятно стремление признать необходимость многообразия, для того чтобы осуществилось всеединство.
Ведь если сущее выше всякого определения, то либо его нет совсем, либо оно допускает для себя свое определение. Но если оно допускает такое определение, то это определение есть уже нечто иное, чем само сущее, или, как говорит Вл. Соловьев, «другое». Поэтому сущее, во-первых, выше всех своих возможных определений, т. е. оно выше всякой раздельности; а с другой стороны, оно имеет свое определение, т. е. оно есть именно оно. А это значит, что абсолютное всеединство необходимейшим образом содержит в себе и свою раздельность. Вл. Соловьев пишет: «Сущее, а следовательно, и абсолютно-сущее не покрывается, не исчерпывается никаким определением, отсюда возможность другого… В каком же отношении абсолютное есть все и не все? Так как невозможно в одном акте быть и тем и другим, а в абсолютном не может быть много актов, ибо это заключало бы в себе изменение, переход и процесс, то, следовательно, абсолютное само по себе, в своем актуальном бытии-actu есть все, другое же определение принадлежит ему не actu, а только potentia. Но чистая potentia (возможность) есть ничто; для того чтоб она была больше, чем ничто, необходимо, чтоб она была какой-нибудь и где-нибудь осуществлена, то есть чтобы то, что есть только potentia в одном, было актом (действительностью) в другом. И если многое как не все, то есть частное, не может быть актом в абсолютном, то, следовательно, оно должно иметь действительность вне его. Но оно не может иметь эту действительность само по себе, быть безусловно независимым от абсолютного; многое не все, то есть неистинное (потому что истина есть всеединство), не может существовать безусловно — это было бы противоречием; и следовательно, если оно должно существовать в другом, то это другое не может быть безусловно вне абсолютного. Оно должно быть в абсолютном и вместе с тем, чтобы содержать actu частное, неистинное, оно должно быть вне абсолютного. Итак, рядом с абсолютно сущим как таким, то есть которое actu есть все-единое, мы должны допустить другое существо, которое также абсолютно, но вместе с тем не тождественно с абсолютным как таким» (4, 2, 316–317).
Таким образом, путем безукоризненной логики Вл. Соловьев убедительнейше доказал, что его учение об абсолютном всеединстве не есть учение ни о какой-то бессодержательной точке или нуле, ни какой-то расплывчатый и никак не расчлененный мысленный туман. Абсолютное всеединство, по Вл. Соловьеву, есть абсолютная единораздельная цельность бытия. Но можно ли это считать критикой пантеизма? Едва ли. Ведь самоотрицание ради достижения целостности свойственно абсолютам и всех монотеистических религий. И поэтому самоотрицание еще не есть переход в инобытие и не есть отрицание всего инобытийного, т. е. отрицание его внебожественности, что только и могло бы спасти внебожественное инобытие от субстанциальной божественности и тем впервые уничтожить пантеизм в корне. У Вл. Соловьева этого не происходит еще и потому, что сам же он свое внебожественное инобытие, или становление божества, упорно продолжает именовать абсолютом. И то, что это становящееся божество он трактует как абсолют второго плана, нисколько не спасает дела, поскольку в конце истории у него все-таки опять появляется бог как все во всем, так что историческое становление божества ничего в этом божестве не снизило, а, наоборот, только утвердило его. Поэтому принципиальной критики пантеизма в рассматриваемом нами трактате все же не получается, хотя попытки преодолеть его весьма внушительны и при решении вопроса о значении пантеизма совершенно необходимы.
3. «Кризис западной философии (против позитивистов)». Вслед за «Критикой отвлеченных начал» удобно будет указать на работу «Кризис западной философии (против позитивистов)», хотя написана она была на шесть лет раньше. Здесь также ставится основой для философии Вл. Соловьева вопрос о цельности знания, но ставится не столько теоретически, сколько исторически.
Нужно, однако, помнить то, что в своей историко-философской концепции Вл. Соловьев не ориентировался ни на правый, ни на «левый» лагерь. И от тех и от других его всегда отделяла собственная философия символа, несовместимая с позитивистски-националистической или антинационалистической методологией мысли. Но она во многом соответствовала тогдашнему академическому консерватизму. В духе этой концепции профессор Московского университета (к тому же математик) В. Я. Цингер прочитал 12 января 1874 г. актовую речь, направленную тоже против позитивистов, под названием «Точные науки и позитивизм». О речи В. Я. Цингера Л. М. Лопатин говорил, что она была «крупным общественным событием» (25, 377). «Антипозитивистское движение в России только зарождалось: Вл. Соловьев начинал печатать свой „Кризис западной философии“; Б. Н. Чичерин еще всецело был погружен в свою „Историю политических учений“. У В. Я. Цингера не было союзников, на которых он мог бы опереться» (там же, 378).
Профессор Московской духовной академии В. Д. Кудрявцев 1 октября того же 1874 г. тоже прочитал актовую речь против позитивизма. Эта речь называлась «Религия и позитивная философия».
Что магистерская диссертация Вл. Соловьева зародилась именно в этой начинающейся антипозитивистской атмосфере русской философии, — это не подлежит никакому сомнению. Позитивизм в России был настолько силен в те годы, что свою диссертацию Соловьев не мог напечатать ни в одном журнале, кроме «Православного обозрения».
Однако и от славянофильства Вл. Соловьев резко отличался признанием исторической необходимости западного рационализма. Для Вл. Соловьева этот рационализм является такой же односторонностью, как и противоположный ему эмпиризм. Но и рационализм и эмпиризм под руководством изначального и непосредственного авторитета веры должны занять свое неопровержимое место в системе цельного человеческого знания. И тут тоже у славянофилов можно было находить только более или менее случайные намеки на окончательный философский синтез, но никак не на продуманную с начала до конца философскую систему цельного знания и бытия. Никакой славянофил не мог даже и приблизиться к положительной оценке таких западных мыслителей, как Э. Гартман. Вл. Соловьев, отмечая множество рационалистических односторонностей в «Философии бессознательного» Гартмана, находит у последнего определенные синтетические тенденции и попытки строить более или менее цельную философию духа. Тут у Вл. Соловьева было уже прямое антиславянофильство; и это еще в первой большой работе, в магистерской диссертации. Антиславянофильские мотивы его мышления и вообще не были редкостью.
Обратимся к краткому обзору содержания диссертации.
В истории философии Вл. Соловьев различает век господства авторитета веры, век приравнивания разума и веры и, наконец, век преобладания разума над авторитетом веры (см. 4, 1, 27–33). Все это является для Вл. Соловьева преодоленным прошлым. Его совершенно не устраивает борьба в Новое время индивидуального разума с природой, подобно более ранней его борьбе с авторитетом веры (см. там же, 33). Хуже всего для него подчинение природы разуму в западной философии от Декарта до Гегеля (см. там же, 33–66). С точки зрения Вл. Соловьева, является вполне естественным и необходимым появление материализма как реакции на метафизику разума (см. там же, 66–73). Но и позитивизм также терпит крах, причем крах этот Вл. Соловьев разъясняет на примере анализа философии Шопенгауэра и Э. Гартмана (см. там же, 74—150).
Основной вывод этой работы Вл. Соловьева следующий: никакая предыдущая ступень философии не должна игнорироваться. Но будучи только односторонностью, она найдет свое соответствующее место только при условии нашего освобождения от всей западной философии и только при условии привлечения чистого и нетронутого авторитета веры. В свете этой непосредственной веры, по мнению Вл. Соловьева, только и можно осмыслить все эти бесконечные односторонности западной философии, сами свидетельствующие о своей гибели в качестве претендующих на абсолютное знание (см. там же, 150–151).
Если подвести итог работы Вл. Соловьева о кризисе западной философии, то мы увидим следующую соловьевскую концепцию. Суть ее сводится к тому, что все эти ступени западной философии являются для нас во всяком случае преодоленным этапом мышления. Можно не соглашаться с Вл. Соловьевым, когда он призывает вернуться к непосредственному авторитету, но, во-первых, сам Вл. Соловьев говорит на этот раз уже не просто только о доразумном авторитете, но понимает этот авторитет в связи со всей последующей западноевропейской философией разума. А во-вторых, для тех, кто не признает авторитета веры, все же раз и навсегда остается авторитет простой, ясной и общедоступной непосредственности, без которой никакие ухищрения разума и науки не могут привести к истине. Мощная сила философского мышления даже в откровении веры находит свое непобедимое рациональное зерно.
4. «Чтения о Богочеловечестве». К циклу теоретико-философских и историко-философских рассуждений Вл. Соловьева относятся его «Чтения о Богочеловечестве» (1877–1881). В этом сочинении у Вл. Соловьева содержится весьма важный для него ряд идей, которые можно считать завершением его теоретической философии, и притом не только раннего, но и позднего периода.
В этих «Чтениях» обращает на себя внимание прежде всего чрезвычайно свободный и весьма критический подход к состоянию в те времена религии. Вл. Соловьев здесь пишет: «…я не стану полемизировать с теми, кто в настоящее время отрицательно относится к религиозному началу, я не стану спорить с современными противниками религии, потому что они правы. Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть» (4, 3, 3). В поисках подлинной формы религии Вл. Соловьев анализирует как первобытные формы религии (см. там же, 41–42), так и могущие появиться в будущем. Учение об идеях у греков и монотеизм иудеев представляются ему теоретическими и практическими основами положительной религии (см. там же, 58; 74). Но это является только предварением христианства, которое на совершенно новой основе личного воплощения идеи соединило греков и иудеев (см. там же, 80–82).
Учение Вл. Соловьева и здесь не лишено всяких противоречий. Вполне понятно звучат слова философа о том, что абсолютно-сущее дано не только в своем неразличимом и сверхпознаваемом смысле, но обязательно дается в своей раздельности, которая здесь именуется логосом, а также о том, что раздельное не может навсегда оставаться в своей раздельности, а еще и возвращается к своему первоистоку (см. там же, 90). Это вполне понятно. Однако тут же возникает вопрос о том, относить ли эти три ступени абсолютного только к нему же самому, или это триединство захватывает и всю материю, т. е. все то, что Вл. Соловьев должен был бы считать тварью. Употребляя такое имя, как Христос, в качестве логической категории (см. там же, 114), философ, очевидно, свое триединство понимает также и в смысле материального мира. Но тогда Христос едва ли является, с точки зрения Вл. Соловьева, богочеловеком. Неясность увеличивается также оттого, что богочеловечество Вл. Соловьев находит также до христианства (см. там же, 180). Правда, по Вл. Соловьеву, до христианства человечество еще только стремилось к богу, а с появлением христианства оно стремится не просто к богу, но еще и к материально воплощенному богу. Однако для боговоплощения необходимо тварное бытие, в котором и воплощается нетварное божество. Но как раз об этой тварности у Вл. Соловьева и тут тоже не говорится ни слова, а говорится только о воплощении логоса во плоти. Но о каком воплощении логоса здесь идет речь? Ведь с христианской точки зрения все люди, а не только Христос являются воплощением Логоса, Слова Божия. Несомненно, мысль Вл. Соловьева в этих «Чтениях» движется в плоскости христианского монотеизма. Но сказать, что этот монотеизм достаточно отчетливо выражен, никак нельзя.
К этому присоединяется также и противоречивость концепции Софии, которая, с одной стороны, является здесь у него «телом Божиим», неразрывно связанным с самим богом (см. там же, 115). С другой стороны, утверждается, что «тело Христово» есть София (см. там же, 180). Получается, следовательно, что и София есть не просто божество, но включает в себя и тварный момент, подобно самому Христу. Утверждается также, что Христос как цельный божественный организм есть и логос и София (см. там же, 115).
Учение о богочеловечестве, несомненно, является у Вл. Соловьева завершением его теоретической философии. Но невозможно сказать, что это завершение произошло у него без всяких противоречий. А ниже мы убедимся даже и в том, что эта противоречивость имела для Вл. Соловьева глубочайший жизненный смысл и оказалась одной из самых существенных сторон его философского развития. Философия, претендующая быть системой, требует ясного и простого и ни в каком отношении не противоречивого завершения. У Вл. Соловьева она содержала не вполне согласованные моменты.
5. «Исторические дела философии». В начале своих занятий в качестве преподавателя Петербургского университета Вл. Соловьев 20 ноября 1880. г. прочитал вступительную лекцию, которая в существенном смысле слова является настоящим гимном философии. У нас нет сведений о том, как эта лекция Вл. Соловьева была воспринята его аудиторией. Но из множества других источников мы знаем, что Вл. Соловьев обладал большим лекторским талантом, имел приятный и звучный голос и потрясал аудиторию ораторски выраженными идеями. Можно думать, что и в данном случае Вл. Соловьев имел огромный успех у слушателей, чему соответствовал также и возвышенный тон основной идеи этой лекции. Она состояла в прославлении свободной философии, которая не зависит не только от рациональных и механических законов природы, но даже от самой религии, если эта последняя не является продуктом свободного и внутреннего творчества человека. Философия, по мнению Вл. Соловьева, есть прежде всего свобода и духовное освобождение. Она утверждает духовно свободного человека, она враг всякого насилия над человеческой мыслью.
Вот что говорил Вл. Соловьев в этой лекции: «Итак, что же делала философия? Она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. Она низвергала всех ложных чужих богов и развивала в человеке внутреннюю форму для откровений истинного Божества. В мире древнем, где человеческая личность по преимуществу была подавлена началом природным, материальным, как чуждою внешнею силою, философия освободила человеческое сознание от исключительного подчинения этой внешности и дала ему внутреннюю опору, открывши для его созерцания идеальное духовное царство…» (4, 2, 411–412).
Приводимая нами лекция печатается в собрании его сочинений под названием «Исторические дела философии». Так вот, первое историческое дело философии — это освобождение человека от рабского подчинения природе. Но и духовное, чисто идеальное начало, по мнению Вл. Соловьева, тоже никуда не годится, если оно внедряется в человека путем насилия и вопреки свободе его мышления. И если что способно было освободить человека от этого насилия со стороны духовных сил, то это опять-таки все та же философия: «В мире новом, христианском, где само это духовное царство, само это идеальное начало, принятое под формою внешней силы, завладело сознанием и хотело подчинить и подавить его, философия восстала против этой изменившей своему внутреннему характеру духовной силы, сокрушила ее владычество, освободила, выяснила и развила собственное существо человека сначала в его рациональном, потом в его материальном элементе» (там же, 412).
Однако здесь у Вл. Соловьева возникает вопрос о том, почему же и откуда же философии принадлежит такая замечательная роль. Оказывается, что человек никогда и нигде не может удовлетвориться никакими раз навсегда данными границами. Он вечно стремится и не хочет быть рабом никакой ограниченности, хотя бы и самой высокой. «И если теперь мы спросим, на чем основывается эта освободительная деятельность философии, то мы найдем ее основание в том существеннейшем и коренном свойстве человеческой души, в силу которого она не останавливается ни в каких границах, не мирится ни с каким извне данным определением, ни с каким внешним ей содержанием, так что все блага и блаженства на земле и на небе не имеют для нее никакой цены, если они не ею самою добыты, не составляют ее собственного внутреннего достояния. И эта неспособность удовлетвориться никаким извне данным содержанием жизни, это стремление к все большей и большей внутренней полноте бытия, эта сила-разрушительница всех чуждых богов, — эта сила уже содержит в возможности то, к чему стремится, — абсолютную полноту и совершенство жизни. Отрицательный процесс сознания есть вместе с тем процесс положительный, и каждый раз как дух человеческий, разбивая какого-нибудь старого кумира, говорит: это не то, чего я хочу, — он уже этим самым дает некоторое определение того, чего хочет, своего истинного содержания» (там же).
Интереснее всего в приводимой лекции Вл. Соловьева — это учение о человечности самой философии. Будучи вечным исканием духовной свободы, философия делает самого человека именно человеком. А духовно свободный человек есть не только то, в чем нуждается человеческая природа ввиду своего несовершенства, но и то, в чем нуждается даже и само божество ввиду своей полноты и совершенства, стремящееся проявить себя также и в своем инобытии. Для христианина Вл. Соловьева это очень смелая мысль, и такой антропологизм существенно расширяет рамки традиционной богословской ортодоксии. Но эта смелость чисто соловьевская, и с ней читатель сочинений Вл. Соловьева встречается решительно всюду. «Эта двойственная сила и этот двойной процесс, разрушительный и творческий, составляя сущность философии, вместе с тем составляет и собственную сущность самого человека, того, чем определяется его достоинство и преимущество перед остальною природой, так что на вопрос: что делает философия? — мы имеем право ответить: она делает человека вполне человеком. А так как в истинно человеческом бытии равно нуждаются и Бог и материальная природа — Бог в силу абсолютной полноты своего существа, требующей другого для ее свободного усвоения, а материальная природа, напротив, вследствие скудости и неопределенности своего бытия, ищущей другого для своего восполнения и определения, — то, следовательно, философия, осуществляя собственно человеческое начало в человеке, тем самым служит и божественному и материальному началу, вводя и то и другое в форму свободной человечности» (4, 2, 412–413).
Само собой разумеется, что такая духовно-освободительная роль философии заставляет Вл. Соловьева не только усиленно, но прямо-таки страстно пропагандировать занятия философией; и в этом смысле конец его вступительной лекции звучит не только логически правильно, но и ораторски убедительно. Лекция кончается следующими словами: «Так вот, если кто из вас захочет посвятить себя философии, пусть он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни туманов метафизики, ни даже бездны мистицизма; пусть он не стыдится своего свободного служения и не умаляет его, пусть он знает, что, занимаясь философией, он занимается делом хорошим, делом великим и для всего мира полезным» (там же, 413).
Эта вступительная лекция Вл. Соловьева формально вполне может считаться завершением всего раннего периода его теоретической философии. Но нельзя удержаться от того, чтобы не отметить ее оригинальную и свежую значимость даже для нашего времени. Такова внутренняя темпераментность ее содержания и такова эффектная выразительность ее ораторского пафоса.
6. «Теоретическая философия». С проблемами теоретической философии Вл. Соловьев никогда не расставался в течение своей жизни, несмотря на свои самые разнообразные интересы. Он занимался вопросами церковными, религиозными, литературными и политическими. Но интерес к теоретической философии его решительно никогда не покидал, а, наоборот, незримо играл свою огромную роль. Самым ярким доказательством этого является то, что не только первые труды Вл. Соловьева были посвящены чисто теоретической тематике, но то же самое нужно сказать и об его последних трудах. Наряду с мистикой «Трех разговоров» мы имеем не только огромный и чисто теоретический труд «Оправдание добра» (1899), но и трактат тех же лет, который так и озаглавлен — «Теоретическая философия» (1897–1899).
В этом труде первая статья носит название «Первое начало теоретической философии» (4, 9, 89—130). Всегда синтетически мыслящий философ, конечно, и тут начинает с нравственности, которая, по его воззрению, вместе с теоретической философией не может не базироваться на учении об истине. «…В мериле истины заключается понятие добросовестности: настоящее философское мышление должно быть добросовестным исканием достоверной истины до конца» (там же, 97).
После обстоятельного анализа методического сомнения Декарта (см. там же, 108–123; 127–128) автор утверждает, что если остановиться на ступени факта, то наши психические переживания и вообще состояние нашего сознания, нашего «я» — это и есть первичный и непреложный факт. Но все дело заключается в том, что этот факт говорит нам не столько о некоей данности, сколько о некоей заданности. Наше сознание непрерывно ставит бесконечные вопросы; и невозможно остановиться на данных сознания только как на некоем факте, хотя бы и непреложном. В нашем сознании нечто является. Но что же именно в нем является — вот вопрос, с которого, по Вл. Соловьеву, начинается теоретическая философия (см. там же, 129–130), если она хочет добросовестно стремиться к достоверной истине.
Во второй статье, озаглавленной «Достоверность разума» (см. там же, 130–147), исходя из факта психического переживания, Вл. Соловьев утверждает, что это переживание говорит не просто о непосредственно-единичных представлениях. Все единичное возможно только в том случае, когда оно является разновидностью чего-нибудь общего, или всеобщего. Если мы мыслим то, что называем волной, или морем, или временем, то это значит, что все такого рода предметы тут же мыслятся нами и в обобщенном виде. Если мы говорим «это есть морская волна», то это значит, что тут же мы мыслим и морскую волну вообще, независимо от того, существует ли эта морская волна объективно или не существует (см. там же, 133–139). Существенная роль в процессе мышления принадлежит тому, что мы пользуемся не только своей памятью, но еще и обозначаем имеющийся в нашей памяти предмет определенным словом, которое как раз и позволяет перейти от единичности к всеобщности (см. там же, 142–146). Однако здесь же возникает вопрос: неужели и эта мыслимая нами всеобщность есть только формальный результат самого же субъективного процесса мысли? Ответ Соловьева на этот вопрос вполне категоричен и не вызывает никаких кривотолков.
Ограничиться здесь рамками субъективности нельзя потому, что чисто формальная обобщенность мысли сделала бы эту мысль вполне бессмысленной и бесцельной. Если нет этой уже не формальной обобщенности, то осталось бы неизвестным, почему наши мысли идут так, а не иначе и почему наше мышление, если оно не простая нелепость, всегда преследует какую-нибудь объективную цель, имея для нас значение вполне осмысленное и целенаправленное, т. е. оно предполагает наличие объективного замысла, а не просто субъективной мысли (см. там же, 146–147). Но тут мы и подходим к проблеме разума как именно объективно достоверного разума.
Эта проблема решается в третьей статье под названием «Форма разумности и разум истины». Именно как простая психическая наличность факта невозможна без формального обобщения этого факта, так формально-логическая обобщенность этого факта возможна только при наличии дальнейшего обобщения. Действительно, если существует формальная логичность непосредственного факта, то это значит, что есть нечто уже не только формальное, но и содержательное. И если есть субъективная логичность, то, следовательно, есть и объективная разумность. Нельзя мыслить субъекта без объекта, и нельзя мыслить формы без содержания, и нельзя мыслить субъективной логики, по Вл. Соловьеву, без объективно и творчески действующего разума. Кроме того, поскольку действительность бесконечна, то бесконечен и творческий разум, ее отражающий, а поскольку наше мышление не сразу достигает истины, то оно всегда есть творческое движение. Мышление, таким образом, есть становящаяся разумность (см. там же, 164–165).
Подводя итог всем этим рассуждениям Вл. Соловьева в трактате «Теоретическая философия», необходимо сказать, что в существенном смысле они мало чем отличаются от философских трудов раннего Вл. Соловьева. Только здесь философ не ставит всех теоретических проблем в их последней широте. Но он без труда мог бы сделать эти дополнения не только без всякого противоречия, а несомненно, еще и ради поясняющих дополнений. В трактате «Теоретическая философия» нет проблемы Запада и Востока, нет мистической проблематики богочеловечества и нет стремления во что бы то ни стало дать законченную философскую систему. Ясно, однако, что здесь не противоречие с первыми философскими трактатами, а только их гносеологически-онтологическое сужение и специализация, способствующие более четкому выделению некоторых положений (например, о вечных субстанциях в отличие от относительных субстанций в инобытии).
О том, что Вл. Соловьев и в этом же предсмертном (1899) году придерживался своей старой философской системы, которую он сам именовал мистической, свидетельствует незадолго до того написанная статья «Понятие о Боге (В защиту философии Спинозы)» (1897). Здесь Вл. Соловьев ссылается на такие религиозно-философские системы, которые находятся у «александрийских платоников и каббалистов, отцов церкви и независимых мыслителей, персидских суфи и итальянских монахов, у Николая Кузанского, Якове Беме, Дионисия Ареопагита и Спинозы, Максима Исповедника…» (там же, 23) и даже в религиозно-философском сборнике «Добротолюбие».
В атмосфере так понимаемой теоретической философии невольно возникает вопрос: почему же вдруг в трактате «Теоретическая философия» нет почти никакого мистицизма и изложение ведется в тонах традиционной для второй половины XIX в. академической философии? По этому интересному и, нужно сказать, не очень легкому вопросу необходимо заметить, что Вл. Соловьев, несомненно, оказался здесь под некоторым влиянием, правда только терминологическим, расцветавшего тогда в Европе неокантианства, марбургского и фрейбургского. Неокантианство жесточайшим образом обрушивалось на всякого рода психологизм и требовало замены психологических теорий чисто логическими теориями смысла и понятия. Это вполне соответствовало исконным взглядам Вл. Соловьева, но в данном трактате этот антипсихологизм он выразил в тонах тогдашней академической терминологии. Неокантианцы именовали слепое эмпирическое представление «данностью», противопоставляя его смысловым и понятийным конструкциям как сфере «заданности». Эта «заданность» была не только смыслом слепо констатированного факта, но и таким смыслом, который в самом себе таил необходимость своего развития, и притом бесконечного. Вл. Соловьев воспользовался модной тогда неокантианской терминологией, которая тоже соответствовала его исконным философским методам. Но все эти «заданности», «замыслы» и творчески функционирующие понятийные бесконечности неокантианцами привлекались для построения логицизма, или панлогизма. Вл. Соловьев от этого как раз был безусловно далек, так что появление у него трактата «Теоретическая философия» было вызвано исключительно только терминологическим влиянием модного в те времена в немецких университетах неокантианства. По существу же между объективным идеализмом Вл. Соловьева, с одной стороны, и логицизмом тогдашнего неокантианства — с другой, не было ровно ничего общего[4].
Заметим, что в настоящем пункте нашего изложения мы не можем дать более или менее обстоятельной оценки теоретической философии Вл. Соловьева на последнем ее этапе. Такую оценку «нового» этапа теоретической философии можно дать только при помощи сопоставления Вл. Соловьева с окружавшими его философскими деятелями. Там и надо будет коснуться более подробно и мнения А. И. Введенского, и полемики Вл. Соловьева с Л. М. Лопатиным, и, главное, той специфики последнего его философского этапа, которую весьма оригинально и убедительно формулирует Е. Н. Трубецкой.
В «Теоретической философии» окончательной, последней и абсолютной субстанцией для Вл. Соловьева, как и прежде, остается божество. Но в изображении той субстанции, которая называется человеком, здесь уже не находится никаких особенно возвышенных или торжественных признаков. Изображение человеческой личности начинается у него с описания самых простых и элементарных ощущений и с самых обыкновенных, всегда изменчивых и ненадежных человеческих переживаний. Что же касается личности в целом, то, по Вл. Соловьеву, она вовсе не дается в окончательном виде, существует всегда незаметно и туманно и скорее даже вовсе не дается как таковая, а только задается, существует где-то отдаленно в виде какого-то идеала, а скорее даже только в виде какой-то гипотезы. Это учение, между прочим, возмутило Л. М. Лопатина, ближайшего друга Вл. Соловьева. Л. М. Лопатин разразился даже специальной статьей против Вл. Соловьева, о чем подробно нужно говорить отдельно. Некоторые черты разочарования, пессимизма и подавленности, как мы видели выше, безусловно, характерны для последних лет жизни Вл. Соловьева.
Эволюцию взглядов Вл. Соловьева на категорию субстанции, например, описывает С. М. Соловьев (его племянник), указывая на растущее в конце жизни Вл. Соловьева ослабление интереса философа к категории субстанции. Он пишет, что в последние годы Соловьев занялся пересмотром и исправлением своей гносеологической и метафизической системы и думал о переработке «Критики отвлеченных начал». Но он успел написать только три первые главы «Теоретической философии»; эти главы свидетельствуют о высоком подъеме философского творчества. В своей гносеологии Соловьев решительно отталкивается от Декарта и отрицает субстанциальность души (см. 42, 368). «Самодостоверность наличного сознания как внутреннего факта не ручается за достоверность сознаваемых предметов как внешних реальностей, но нельзя ли из этого сознания прямо заключить о подлинной реальности сознающего субъекта как особого самостоятельного существа или мыслящей субстанции? Декарт считал такое заключение возможным и необходимым, в этом за ним доселе следуют многие. И мне пришлось пройти через эту точку зрения, в которой я вижу теперь весьма существенное недоразумение…» (4, 9, 107–108). «Возвратившись в последнее время к пересмотру основных понятий теоретической философии, я увидел, что такая точка зрения далеко не обладает той самоочевидною достоверностью, с какою она мне представлялась» (там же, 126). Резкий отзыв о Декарте мы находим уже в 1888 г. в письме к Н. Н. Страхову: «Вы верите даже (или притворяетесь, что верите) жалким глупостям Декарта и Лейбница» (6, 1, 56). Выше ставит Соловьев послекантовскую философию: «Великое достоинство гегельянства в том, что и бессмысленная „субстанция“ догматизма и двусмысленный „субъект“ критицизма превращены здесь в верстовые столбы диалектической дороги. Картезианская „душа“ перешла в кантианский „ум“, а этот растворился в самом процессе мышления, не становясь, однако, и у Гегеля разумом истины» (4, 9, 163–164). Окончательно оттолкнувшись от картезианского догматизма, Соловьев относится с большим сочувствием, чем в юности, к позитивизму и английской эмпирической психологии. «Я не сторонник этой психологии как системы, но я вижу, что она начинается с того, с чего следует начинать, — с бесспорных данных сознания, а между ними нет ни „мыслящей субстанции“, ни безусловного самополагающегося или самоначинающегося деяния. Наличные состояния сознания как такие — вот что действительно самоочевидно и что дает настоящее начало умозрительной философии…» (там же, 384).
Итак, индивидуальное «я» не есть субстанция. Как говорит Е. Трубецкой, «для Соловьева в последний период его творчества Бог является единственной субстанцией в подлинном значении этого слова» (43, 2, 247). Личная душа есть только ипостась (по-древнегречески буквально «подставка») божества. Так думал Соловьев и в юности, когда сознавал себя как hypopodion божественной Софии, подножие ног ее. Личное сознание растворяется в боге, и сам бог не есть личность. В полемике с профессором А. И. Введенским, защищая Спинозу от обвинения в атеизме, идеалист Соловьев находит идею божества как всеобщую. Божество не безлично, но и не личность, не лицо. Оно сверхлично и имеет три лица (см. 4, 9, 21). Имея три лица, оно не может само быть лицом, предикат личности приложим не к первому, а только ко второму субъекту божественного бытия — Логосу-Сыну. Божество есть существо индивидуальное, но и всеобъемлющее. А. Никольский находит, что Вл. Соловьев в «Понятии о Боге» стоит на более пантеистической точке зрения, чем в «Чтениях о Богочеловечестве». Наоборот, Е. Трубецкой утверждает, что Соловьев в последних статьях окончательно освобождается от того пантеизма, который был в «Чтениях о Богочеловечестве». Мы согласны с Э. Л. Радловым, отрицающим существенное изменение взглядов Соловьева в данном вопросе. «То направление мистицизма, к которому принадлежал Соловьев (неоплатонизм, шеллингианство), — говорит Радлов, — представляет сочетание пантеистических идей с теизмом; оно признает истинность формулы: все есть Бог, и отрицает лишь формулу: Бог есть все» (4, 10, XXXIII). Добавим, что подобное понимание божества находится в согласии с богословием отцов восточной церкви, на что указывал Соловьев еще в своей юношеской «Софии».
Таким образом, вопрос о значении последнего этапа теоретической философии Вл. Соловьева отнюдь не является вопросом легким и простым; он наталкивается на ряд трудностей, разрешить которые можно только при большом усилии мысли.
Если взять ранние и поздние теоретические работы Вл. Соловьева, то найти в них нечто общее не так уж трудно, и закончить наше исследование такой общей концепцией совсем не будет ошибкой. Тем не менее внимательный анализ раскрывает здесь разного рода существенные детали, и вот их-то объединить вовсе не так просто. Конечно, для Вл. Соловьева, как и для всякого идеалиста, всякая вещь, в том числе человек, мир и божество, являются постоянно субстанциями. Но вот в конце жизни Вл. Соловьев вдруг заговорил о том, что, кроме бога, вовсе не существует таких субстанций, что всякая субстанция состоит из случайных и относительных элементов; а вечное во всякой субстанции есть только известного рода заданность, которая может осуществиться, а может и не осуществиться. С известной точки зрения такой взгляд на субстанцию, конечно, является в творчестве Вл. Соловьева какой-то новизной, которая давала возможность тогдашним неокантианцам находить у него вовсе не систематическую метафизику, а всего только неокантианское учение о заданностях. Мы уже видели, и в дальнейшем увидим еще не раз, что в строгом смысле слова ничего неокантианского не было ни в начале философствования Вл. Соловьева, ни в его конце, если не считать некоторых терминологических неточностей. Но мы повторяем, что соблюсти общефилософский образ Вл. Соловьева является при таких условиях задачей весьма нелегкой. Метод разрешения этой трудной задачи мы наметили выше.
7. Юношеские истоки теоретической философии. Для характеристики теоретической философии Вл. Соловьева не в плане историко-хронологическом, а в смысле системы логических категорий имеют огромное значение две его работы. Это две юношеские статьи, очень важные для выяснения сущности его философской теории.
Одна из них недостаточно известна, поскольку она вошла в собрание сочинений философа только в составе его большой работы «Духовные основы жизни» (1882). Об этой интереснейшей статье необходимо сказать подробнее по разным причинам.
Прежде всего эта статья является, как можно думать, самой первой по времени работой Вл. Соловьева. Обычно первой его работой считают «Мифологический процесс в древнем язычестве». Но это едва ли так. Статья по мифологии напечатана в «Православном обозрении», 1873, № 11. Настоящей же первой работой Вл. Соловьева, как можно предполагать, является «Жизненный смысл христианства (Философский комментарий на учение о Логосе ап. Иоанна Богослова)». Правда, по неизвестным нам причинам эта работа появилась в том же «Православном обозрении» только в 1883 г. Но в конце ее стоит дата «16 января 1872 г.», хотя она и оспаривается. Если считать ее подлинной, то эту первую свою работу Вл. Соловьев написал еще 19-летним молодым человеком, т. е. еще на студенческой скамье. И в таком случае эта небольшая статья не только рисует Вл. Соловьева как автора продуманной и законченной философской системы, к которой он, в сущности, ничего принципиально нового не прибавил за всю свою жизнь, но даже отличается четкостью, ясностью и красивым философским стилем мышления.
Уже само название статьи «Жизненный смысл христианства» свидетельствует о том, что раннего Вл. Соловьева мы никак не можем расценивать как автора и составителя только логически-категориальной системы. Его философия, и ранняя, и поздняя, не есть только логика и система категорий, как это легко может показаться при беглом просмотре трудов его ранней молодости. Эти труды были прежде всего философией жизни. Это можно легко заметить даже при нашем кратком изложении, поскольку свое учение о цельном знании Вл. Соловьев начинает не с чего другого, как с картины жизненного хаоса и с погони живых существ за своим самосохранением, т. е. с выразительной картины мирового зла. Но остаться на стадии мирового зла Вл. Соловьеву не позволяет элементарная логика.
Если первый тезис Вл. Соловьева гласит здесь о том, что мир лежит во зле и что все живое живет только уничтожением другого живого и самого себя, то тут же зарождается у Вл. Соловьева и второй тезис. Уничтожать все живое и самого себя можно только при условии логической противоположности ко всему этому мировому безобразию.
Если же есть зло, основанное на выживании одного живого существа за счет другого, то это значит, что есть и такая цельность, которая основана не на взаимоистреблении, но на взаимной любви и гармонии. Эту цельность Вл. Соловьев называет логосом. И это есть его второй тезис, без которого немыслим был бы и первый, т. е. невозможно было бы даже просто и констатировать мировое зло. Вл. Соловьев пишет: «Первенство бытия принадлежит не отдельным частям, а целому. Безусловное первоначало и источник всякого бытия есть абсолютная целость всего сущего, т. е. Бог. Эта-то целость всего, пребывающая сама по себе в неизменном покое вечности, открывается и проявляется во всеединяющем смысле мира, так что этот смысл есть прямое выражение или Слово (logos) Божества, явный и действующий Бог» (4, 3, 355).
Но отсюда сам собою вытекает и третий тезис, который у Вл. Соловьева формулируется так. Логос, или божество, становится смыслом жизни самого человека и вместе с тем принципом мирового всеединства. Отсюда вытекает и четвертый тезис, гласящий, что божественное всеединство есть живая личная сила, а не только идея как предмет созерцания ума.
Пятый тезис гласит, что если имеется эта живая вечная сила всеединства, то, значит, есть и носитель этой силы, т. е. сам бог, но не просто бог, а богочеловек, в котором воплощается божественный логос и одухотворяется материя. «Если первый природный человек был образом и подобием Божиим, то новый духовный человек есть истинный Бог, потому что в нем существо Божие, составляющее истинный смысл всего существующего, впервые явилось самим собою, показало себя тем, чем оно есть безусловно» (4, 3, 365–366). Последний тезис важен еще и потому, что он делает невозможным находить у раннего Вл. Соловьева черты пантеизма. Если эти черты и были, то скорее в результате недостаточного внимания Вл. Соловьева к этой стороне вопроса и в результате более словесного, чем существенно-логического, недоразумения. Сам собою появляется у Вл. Соловьева и шестой тезис его работы, в котором он говорит о приобщении всякого человека к богочеловечеству, т. е. о таинствах.
Две теоретические тенденции особенно важны в этой первой статье Вл. Соловьева. Во-первых, необходимо понимать теоретическую философию Вл. Соловьева не иначе как философию жизни. И во-вторых, становится ясным, что весь этот категориальный схематизм направлен у Вл. Соловьева единственно только к раскрытию того, что люди называют жизнью. Всю философию Вл. Соловьева нужно представлять как философию жизни, сконструированную в виде системы категорий. Конечно, Вл. Соловьев никогда не был материалистом, он объективный идеалист, но он стремился увековечить материю, возвеличить материю и сделать ее в основном равноценной самой идее. Уже из трактата Вл. Соловьева «Критика отвлеченных начал» отчетливо видно, что исторический процесс, которым заканчивается у Вл. Соловьева преодоление «отвлеченных начал», есть одновременно и торжество чистой идеи, и торжество пронизанной этой идеей материи.
Относительно другой, весьма важной статьи Вл. Соловьева, претендующей и на хронологический приоритет, а именно работы под названием «Мифологический процесс в древнем язычестве», имеются некоторые трудности, о которых стоит сказать. Дело в том, что в 1872–1873 гг. Вл. Соловьев был всецело занят немецкими философами, которые были ему необходимы для написания магистерской диссертации. В это время он даже перевел «Пролегомены» Канта. 18 марта 1874 г. П. Юркевич, предлагая оставить окончившего курс Вл. Соловьева при университете с научной командировкой его за границу, ссылался, между прочим, и на переведенные Вл. Соловьевым «Пролегомены». Влияние Шеллинга и Шопенгауэра на Вл. Соловьева было в то время весьма велико.
Все творчество Вл. Соловьева вообще пронизано мифологическими интересами, и мифологическая тематика иной раз появляется у него даже в буквальном смысле слова. Первые три главы работы 1883 г. «Великий спор и христианская политика» всецело посвящены истории Востока и Запада в связи с их религиозной философией и с постоянными реминисценциями мифологического характера. Также и в 1890 г. Вл. Соловьев напечатал статью «Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки», где критикует современные ему односторонние мифологические теории и выдвигает понимание древнейшей мифологии не как анимизма и не как натурализма, но как «смутного пандемонизма» (4, 6, 183), или «стихийного пандемонизма» (там же, 232). Однако мифологическая стихия его идеализма больше всего сказалась в изображении «конца века» в «Трех разговорах» 1900 г. (см. 4, 10, 193–221).
Изучение мифологии Вл. Соловьев ставил настолько высоко, что еще до окончания университета он собирался писать «Историю религиозного сознания в древнем мире», без которой, как он считал, «невозможно полное понимание всемирной истории вообще и христианства в особенности» (6, 3, 106).
Мифологической тематике и посвящена статья «Мифологический процесс в древнем язычестве».
Мифологическая теория, проводимая Вл. Соловьевым в этой статье, в настоящее время, конечно, должна считаться глубоко устаревшей[5]. Однако для нас имеет значение не просто идейное содержание мифологической теории Вл. Соловьева в этот ранний период его творчества. Нас интересует скорее метод конструкции этой мифологии. Этот метод сводится к тому, что первобытный (якобы) монотеизм распадается в дальнейшем на мифологию высших богов, преобладающих над материальной природой, «ураническую», и на мифологию страдательных божеств, подчиненных закону материальной природы, т. е. на «солярную» мифологию. По Вл. Соловьеву, в конце концов духовное и материальное начала сливаются вместе в жизни земли и образуют так называемую «фаллическую» мифологию.
Не трудно заметить, что, несмотря на устаревший характер всей этой теории, в ней весьма ощутимо выделяется одна чисто соловьевская точка зрения — это необходимость слияния духовного и материального начал в одно целое. Вл. Соловьев говорит здесь не о христианской, но о языческой теории, а всякая языческая теория базируется на живом организме, который вполне самостоятельно борется за свое существование. Борьба эта заключается в том, что организм стремится осуществить и сохранить не свою индивидуальную жизнь, но жизнь рода. Поэтому Вл. Соловьев и называет этот третий период мифологии фаллическим. Изображая христианство, Вл. Соловьев будет говорить не о фаллической мифологии, но о богочеловечестве. Однако необходимость конечного слияния духовного и материального в одно живое и органическое целое одинаково методологически постулируется Вл. Соловьевым и в языческой и в христианской мифологии и, как мы знаем, в философии вообще. Отсюда видно, какое большое значение имели мифологические произведения еще весьма молодого философа для формирования всей его философии.
Чтобы закончить этот раздел теоретической философии Вл. Соловьева, напомним высказанное нами мнение о том, какое значение имеют здесь указанные выше работы.
Юношеская работа о философии жизни, была ли она в хронологическом отношении первой или одной из первых, очень ярко рисует теоретическую философию Вл. Соловьева как именно философа жизни, или как философию всеобщего, вселенского организма. Эту работу нужно выдвигать на первый план потому, что первые печатные работы Вл. Соловьева чрезвычайно абстрактные и преследуют в первую очередь цели логически точной и категориально продуманной системы. Не принимая во внимание его статьи о философии жизни, очень легко сбиться с толку и начать трактовать всю теоретическую философию Вл. Соловьева как логический схематизм. На самом же деле логически заостренная система категорий только и привлекается Вл. Соловьевым для конструирования философии жизни, причем жизнь эта понимается у него и в смысле вселенского обобщения, и в смысле совокупности самой обыкновенной живой жизни.
Вторая статья, которую мы тоже считаем важнейшей для понимания всей его философии, формально посвящена проблеме мифологического процесса в древнем язычестве. По существу же в ней бьется то сердце философа, которое не хочет признавать ничего ни только духовного, ни только материального. Это есть яркое свидетельство того, что и в своих категориальных схемах Вл. Соловьев всегда хотел не только выразить те или иные моменты вселенской жизни, но также интерпретировать каждую категорию в чисто жизненном смысле. Каждую свою абстрактно выведенную категорию он всегда понимал как некий атом живой жизни. Мы будем часто находить его нетерпение чистой духовности и его постоянное стремление, прямо даже аффект, представлять все духовное как живую жизнь материи.
Наконец, в своей «Теоретической философии» Вл. Соловьев расстается с наивным и слишком уж вещественным представлением о тех субстанциях, из которых состоит мир. Каждая субстанция, по Вл. Соловьеву, является не просто законченной и данной раз навсегда предметностью, но всегда развивается, всегда становится, всегда борется за свое существование и всегда распадается на отдельные моменты. Всякая вещь и всякое живое существо должно достигнуть своего субстанциального существования. А в иных случаях возможно, что этой окончательной субстанциальности и совсем не возникнет. Правда, все единичное предполагает свою общность, а всякая общность, по Соловьеву, предполагает свою бесконечную общность, которая и является уже абсолютной субстанцией, или божеством. Тем не менее никакая субстанция не есть какая-то мертвенная устойчивость, но обязательно является всеобщим смысловым движением и стремлением, вселенским прогрессом и неустанным исканием. И все эти мысли тоже делают теоретическую философию Вл. Соловьева постоянным жизненным порывом.
Так, редчайшим образом Вл. Соловьев сумел отождествить строжайшую систему абстрактных категорий с их чисто жизненным, всегда становящимся наполнением. Думается, что такого рода философов в истории было чрезвычайно мало; и если они были, то им редко удавалось делать это с такой яркостью и простотой, как это было у Вл. Соловьева.
8. «Оправдание добра». Чтобы закончить обзор теоретической философии Вл. Соловьева как раз на ступени ее завершенности, мы должны, наконец, указать на обширный труд философа под названием «Оправдание добра», являющийся у Вл. Соловьева вершиной его классического идеализма. Как идеалист-классик, он, конечно, хотел завершить свою систему учением о добре, истине и красоте, намереваясь посвятить каждому из этих разделов по большому тому. Об истине и красоте создать больших книг не удалось. Но написание труда «Оправдание добра» говорит о том, что в этом смысле его философская система вполне достигла своего завершения. Отдельные главы этого труда Вл. Соловьев начал печатать в разных изданиях в 1894 г. К 1897 г. этот труд был завершен, и философ тут же приступил к его второму изданию, которое в исправленном и значительно дополненном виде вышло в 1899 г. Этот труд не содержит никаких уклонений в сторону, ни церковных, ни политических, ни публицистических, ни исторических. Это есть только теоретическая система, глубоко и последовательно продуманная, и в смысле метода классического идеализма она мало чем отличается от раннего периода соловьевской философии.
Своей целью философ ставит здесь определение правды, не впадая в какой бы то ни было тон наставления и проповеди. По его глубочайшему убеждению, во всей истории человечества проходит этот путь к правде, которая, конечно, в то же самое время является и истиной, а также и религией. Но отношение философа к этим трем областям: правде, истине и религии — вполне свободное и даже свободомыслящее. Если человек хочет быть животным, пусть будет таковым, но тогда пусть он не считает, что он идет к добру и к правде. Эти мысли Вл. Соловьев развивает в предисловии ко второму изданию «Оправдания добра».
Но и предисловие к первому изданию обращает наше внимание на то, как философ везде старается опираться на здравый смысл. Он разоблачает духовное убожество всякого мелкого пессимизма, жалкую противоречивость нравственного сознания самоубийцы, ограниченность ницшеанских идеалов. Вл. Соловьев красноречиво трактует о необходимости установления смысла жизни, а также искания его на путях добра и правды. И весь этот большой трактат как раз построен на самом тщательном внимании к человеческим нуждам и потребностям, к человеческим чувствам и стремлениям, на рассмотрении самых обыкновенных путей человеческой жизни, взывающих, несмотря на стихию зла, к ясной простоте правды и добра, установленных не путем насилия, но в результате самых искренних влечений человеческой воли.
Весь трактат «Оправдание добра» проникнут мягкой, благожелательной и, мы бы сказали, человечной тенденцией привести человека и всю его историю к благополучному завершению. Человеческое влечение к добру оправдывает собою то, что очень часто считается несовместимым противоречием. Так, нравственности свойственно аскетическое начало. Но оно вовсе не есть цель, а только путь к добру, да и то не единственный. Личность человека — на первом плане. Но этот план тоже далеко не окончательный. Вл. Соловьев дает целую теорию семьи, где личность хотя и на первом плане, но находится в согласии с рядом других личностей, или предков и потомков. Половая любовь вполне оправданна, но и она не довлеет, а содержит в себе и многое другое. Деторождение — благо, но тоже не единственное. Личность есть полнота, но для завершения этой полноты она нуждается в обществе. Общество есть полнота, но завершение этой полноты не просто в обществе, а во всем историческом процессе, т. е. в человечестве. Экономическая и политическая жизнь, государство и право — это неотъемлемые моменты исторического стремления человечества к правде и добру. Но и самая общая нравственная организация человечества, считает Вл. Соловьев, еще должна быть религиозной и завершаться во вселенской церкви.
Философ подчеркивает здесь, что человечество не может развиваться, если нет безусловной цели развития. Так как цель развития человечества — это незыблемая полнота и взаимопронизанность материальных и духовных сил, то необходимо эту цель человечества наименовать каким-нибудь особым термином. Для религиозного философа Вл. Соловьева таким максимально обобщенным и синтетическим термином является «церковь».
9. Заключение. Все приведенные у нас выше материалы, касающиеся источников теоретической философии Вл. Соловьева, как и самой этой теоретической философии, дают нам право сделать несколько выводов, которые нам представляются очевидными.
Во-первых, уже в самых молодых годах Вл. Соловьев проявил необычайную склонность к чисто понятийной философии как в ее истории, так и в ее систематическом построении. Необходимо признать, что у Вл. Соловьева с самого начала возникло острейшее чувство понятийного систематизма, в котором он равнялся не только многим выдающимся европейским философам, но по остроте и силе логики часто даже их превосходил. В отношении его склонности к отвлеченному мышлению можно сказать, что в XIX в. в России не было столь остро мыслящего, чисто понятийного философа, каким оказался Вл. Соловьев с самого начала.
Во-вторых, понятийная философия всегда отличалась у Вл. Соловьева весьма напряженным историзмом, при котором ни одна философская теория не отбрасывалась без разбору в виде какого-то исторического хлама, а, наоборот, всякое философское направление получало у него свое законное место. Нигилизм Шопенгауэра, позитивизм Конта, Спенсера или Милля, вульгарный материализм — все это имело у Вл. Соловьева смысл для своего времени, все это было результатом исторической необходимости и все это органически входило в общечеловеческий прогресс мысли и жизни.
В-третьих, понятийная философия имела для Вл. Соловьева настолько самостоятельное значение, что, в сущности говоря, не нуждалась даже в авторитете веры. Но это не значило для Вл. Соловьева, что разум исключал веру и откровение. Это значило только то, что разум, освобожденный от всяких авторитетов и предоставленный своей собственной свободе, сам приходил к тому же самому мировоззрению, которого требовал авторитет веры. Если бы Вл. Соловьеву удалось завершить эту чисто понятийную систему разума, то она заняла бы такое же место в философии, какое вообще занимали завершительные системы в конце разных больших исторических периодов. Так, античный неоплатонизм дал такую систему логических категорий, которая оказалась не чем иным, как диалектикой самой древней античной мифологии. Так, Гегель в своем диалектическом историзме понятийно воспроизвел все основные культуры человеческого общества. В идеале также и Вл. Соловьев мыслил себе такую понятийную систему разума, которая вполне параллельна вере и откровению, но создается собственными усилиями самого разума.
В-четвертых, обращает на себя внимание удивительная особенность всей теоретической философии Вл. Соловьева, а именно она во многом совпадает с разными философскими учениями, которые мы в изобилии находим в истории. Идеализм, диалектика, огромная склонность к систематике категорий, совмещение понятийной философии с определенного рода мифологией, понятийный историзм, теософская тенденция. Но при этом философское рассуждение в теоретических вопросах мысли развивается у Вл. Соловьева слишком искренне и убедительно, а также слишком самостоятельно и тончайшим образом критически, так что нет никакой возможности говорить о каких-нибудь его прямых заимствованиях у других мыслителей. Да и совпадения эти с другими мыслителями производят скорее какое-то случайное впечатление, потому что тут же у философа дается убийственная критика философии, о заимствованиях из которой могла бы идти речь у некритически мыслящего читателя Вл. Соловьева. Вл. Соловьев как будто бы близок к неоплатоникам, но уже одно то, что они понимают развитие античной философии на основе природы, а не человека, создает настоящую пропасть между Вл. Соловьевым и античным неоплатонизмом. Понятийный историзм Гегеля как будто бы близок Вл. Соловьеву. Однако никто так не опровергал всего гегельянства и в таком виде, как это делал Вл. Соловьев. Таким образом, получается исторический парадокс: Вл. Соловьев весьма близок ко многим философам, о которых мы говорили выше, но он мыслит настолько самостоятельно, что как будто бы этих философов не существовало или как будто бы он с ними не был знаком. Острая критика Вл. Соловьевым многих зарубежных философов убедительно свидетельствует о том, что он не только был с ними хорошо знаком, но и умел находить у них такие особенности, которые были для них уничтожающими. При этом философская критика подается у Вл. Соловьева в тонах вполне спокойного и даже созерцательного раздумья.
Наконец, в-пятых, — и это удивительнее всего — при большой любви к абстрактно-категориальным операциям, при такой, можно сказать, влюбленности в чистую мысль, при высокой талантливости в ее конструировании Вл. Соловьев вовсе не превратился в абстрактного систематика на всю жизнь, а, наоборот, оставался им только в ранней молодости. В некотором смысле эти понятийные конструкции никогда не отбрасывались Вл. Соловьевым целиком и полностью. Но уже с самого начала 80-х годов его начинают волновать совсем другие вопросы, не только не абстрактно-понятийные, но часто даже и не философские. Его захватывают идеи социальные, общественно-политические, практически-конфессиональные, эстетические, этические, литературно-критические, а часто даже просто публицистика, не говоря уже о его поэтическом творчестве. Поэтому то, что мы сейчас сказали о теоретической философии Вл. Соловьева, относится по преимуществу только к самому раннему и самому позднему периодам его творчества. Для Вл. Соловьева, даже еще не достигшего тридцатилетнего возраста, возникли совсем другие проблемы, которые в общем виде мы можем назвать проблемами социально-историческими.
Глава IV. Общее мировоззрение
1. Кем не был Вл. Соловьев? В обычных представлениях и изложениях Вл. Соловьев трактуется прежде всего как философ. И это правильно, но правильность эта чрезвычайно ограниченна. В ранней молодости он действительно написал две диссертации на чисто философские темы, а в конце жизни также вернулся к вопросам теоретической философии. Но, во-первых, много лет (по преимуществу это 80-е годы) он совсем не занимался теоретической философией. Во-вторых, и в своих теоретических трудах он никогда не был только философом, а признавал такое цельное знание, которое выше и синтетичнее всякой философской теории. В-третьих, он уделял много времени как вопросам конфессионального характера, так и художественной литературе, не говоря уже о том, что и сам был поэтом достаточно высокого уровня. В-четвертых, наконец, в строго академическом смысле Вл. Соловьев был философом всего каких-нибудь 3–4 года, после чего он ушел из университета раз и навсегда и вообще не выносил строгого академизма.
Далее, его обычно считают религиозным мыслителем. И это тоже правильно, но опять-таки односторонне. Не говоря уже о том, что даже и по своей профессии он был прежде всего публицистом и художественным критиком, он и в своих философских трудах и в своей публицистике исходил из принципа полной свободы человеческого разума. Этот свободный разум, правда, почти всегда приходил у него к выводам чисто религиозного типа. Но при этом надо помнить, что на первом плане у Вл. Соловьева была только логическая аргументация. Что же касается религии в практически-бытовом смысле, то Вл. Соловьев не выказывал здесь большого рвения и мало от этого удручался. В Оптиной пустыни он был один раз, но никаких особенных чувств к ней не стал питать. С монахами на Валааме он прямо рассорился. Сестра Вл. Соловьева Мария пишет в своих воспоминаниях: «Брат вообще в церковь за редким исключением почти никогда не ходил, но Пасхальную ночь редко и дома оставался: когда бывал в Москве, обыкновенно отправлялся в Кремль» (10, 164). В другом месте она пишет: «И вот мне в эту Пасхальную ночь представилось, что, может быть, у брата сомнения не потому, что он объявил, что никуда не отправится, а потому, каким мрачным тоном он это сказал и какой сам весь этот день был мрачный. — „Когда так веруешь в Христа, нельзя быть таким мрачным в великую субботу“, — думала я: „Значит, у него опять сомнения“, и делалось очень тяжело за брата» (там же). Из всех подобного рода биографических данных следует, что в религиозно-бытовом смысле Вл. Соловьев чувствовал и вел себя довольно свободно.
Однако и в догматически-религиозном плане он отнюдь не был безусловно устойчив. Как известно, византийско-московское православие он считал язычеством. Римский католицизм одно время он чрезвычайно превозносил, но в последнее десятилетие своей жизни явно к нему охладел. При этом ни православного, ни католического культа он все же не отрицал и определенно участвовал в том и в другом почти одновременно. Известно о его сочувственном отношении и к протестантизму. Он мечтал о соединении церквей, но на каких путях оно могло бы произойти, об этом ясных свидетельств у Вл. Соловьева не имеется. А в своей эсхатологии он соединяет в одно целое все три христианских вероисповедания. Таким образом, хотя религиозность Вл. Соловьева и вполне несомненна, ее исторический характер остается для нас неясным.
Вл. Соловьев был публицист, и притом довольно либерального, если не прямо «левого» направления. Чернышевского он почитал и многими его идеями в буквальном смысле пользовался. Но назвать его революционным демократом совершенно невозможно. То же самое нужно сказать и о литературно-критической деятельности Вл. Соловьева. Он, несомненно, литературный критик, и вполне в профессиональном смысле слова. Но отнести его к «левым» или правым представителям тогдашней литературной критики тоже очень трудно. Для правых он отличался слишком большим свободомыслием, а «левых» отталкивал своей религиознофилософской настроенностью.
Вл. Соловьев, несомненно, социально-исторический мыслитель и даже исследователь. Но и в этой области позиция его чрезвычайно свободомыслящая. Было время, когда ему запрещалось печататься; и тогда он печатался за границей и подвергал критике политику Победоносцева и Дмитрия Толстого. С другой стороны, в своих письмах к царям он называл их хранителями веры и убеждал помиловать народовольцев.
Таким образом, ни одна из традиционных характеристик личности Вл. Соловьева в настоящее время не может считаться более или менее достаточной, и здесь требуются какие-то более глубокие подходы.
2. Был ли Вл. Соловьев мистиком? Прежде всего нам хотелось бы отдать себе полный отчет в том, как нужно понимать обычную характеристику Вл. Соловьева как мистика. Эта квалификация настолько многозначна, что здесь вовсе не стоит устанавливать наше собственное понимание мистики. Нас здесь интересует только Вл. Соловьев.
Как мы видели выше, под мистицизмом Вл. Соловьев понимает цельное знание, которое означает у него слияние внутренней жизни действительности с ее внешними проявлениями. В более развитом виде под мистицизмом Вл. Соловьев понимает просто учение о всеединстве, которое он трактует в очень простой и ясной форме. В самом деле, кто же осмелится сказать, что мир не един; и кто осмелится сказать, что вещь не есть вещь? Далее, кто же осмелится сказать, что вещь есть только механическая сумма составляющих ее свойств и что не существует никакого носителя этих свойств? И когда Вл. Соловьев именует этого носителя всех мировых свойств не просто сущим, но сверхсущим, то им руководит здесь такой же здравый смысл, каким пользуемся и мы, когда говорим и думаем, что чайник не есть ни просто дно чайника, ни просто его ручка или крышка, ни просто его носик, но что он есть все эти свойства, и не просто в их хаотическом смешении, но и в их определенном структурном объединении, которое выше каждого отдельного элемента этой структуры. И когда Вл. Соловьев утверждает, что это всеединое существует повсюду и решительно во всех своих элементах, так что изъятие одного из них привело бы к уничтожению другого (как изъятие из организма сердца равносильно смерти этого организма), то здесь нет ничего мистического. Вл. Соловьев понимает всю действительность как универсальный организм. Можно только утверждать, что органичность имеет свои разные степени и что если изъятие сердца или легкого из организма означает его смерть, то ампутация руки или ноги еще не означает ее. Но это еще не значит, что действительность или по крайней мере некоторые ее моменты являются организмом. Нам представляется, что хотя и сам Вл. Соловьев квалифицировал подобного рода воззрение как мистицизм, но для нас здесь нет ничего мистического. Это просто концепция, основанная на здравом смысле, и больше ничего другого. Таковы во всяком случае те произведения Вл. Соловьева, которые и он сам и мы считаем теоретико-философскими. Но конечно, дело этим не исчерпывается.
Дело в том, что Вл. Соловьев как личность, как человек был ко всему происходящему необычайно чуток и чувствителен. Его сенситивность доходила до огромных размеров. Поэтому многое из того, что было только теорией и только логикой, часто представлялось ему в необычайно конкретном и остро ощутимом образе. С марксистской точки зрения мир представляет собой нечто целое и закономерное, и эта закономерность охватывает решительно всякую мельчайшую долю действительности. Однако здесь является вполне достаточной общая теоретическая концепция, кроме которой ни в чем другом не чувствуется никакой нужды. Что же Вл. Соловьев? Он не отрицал материальный мир, также знал и его физическую закономерность. И что безоблачное небо голубое или синее, тоже знал, как знают и все.
Но вот он даже как поэт никак не мог ограничиться простой констатацией небесной синевы. Уже как поэт он воспевал ее в таких тонах, которые совершенно чужды и совершенно не нужны обыкновенному прозаическому мышлению. А он был не только поэт. Он был поэт в чрезвычайно остром и сенситивно напряженном смысле слова. Он мог погружаться в эту синеву, в бесконечную лазурь и находить в ней не только нечто интимно для себя близкое, не только исток для своих чувств в любви и восприятии красоты, но и нечто космическое, даже божественное. И тогда его железная логика всеединства сразу превращалась в восторг, в какое-то наитие, в нечто такое, что уже было превыше всякой философии и превыше самого человеческого ума. К такого рода духовным состояниям Вл. Соловьева слово «мистика», конечно, уже применимо.
Соответствующие биографические материалы говорят о его отношении к своей мистике — жизнерадостном, жизнелюбивом. Обыкновенно в качестве доказательства сенсационного визионерства приводится известная небольшая поэма Вл. Соловьева под названием «Три свидания». Уже самый этот термин «свидание» заставляет нас резко противопоставлять соловьевские интуиции общеизвестному визионерству. Кроме того, вся эта поэма выдержана в иронических и даже юмористических тонах, что уже во всяком случае свидетельствует о полной естественности и человеческой понятности всей этой образности. При этом, конечно, серьезность этих «свиданий» не подлежит никакому сомнению для Вл. Соловьева. Он сам пишет в примечании к поэме: «Осенний вечер и глухой лес внушили мне воспроизвести в шутливых стихах самое значительное из того, что до сих пор случилось со мной в жизни». И даже то, что они произошли с ним либо в детстве, либо в ранней молодости, а помнил он о них всю жизнь (поэма эта была написана 26–29 сентября 1898 г., т. е. за два года до смерти), свидетельствует о серьезности этих свиданий.
В поэме «Три свидания» есть вступление, в котором читаем:
Отметим здесь, что возлюбленная, о которой будет речь, является «вечной подругой»; и, взывая к ней, автор «торжествует над смертью» и любовью одолевает «цепь времен».
Первое свидание автор относит к своему девятилетнему возрасту, т. е., надо думать, к 1862 г. Возлюбленная явилась ему в праздник Вознесенья[6]. Во время обедни для него вдруг погасла не только вся церковная обстановка, но и все то, что он переживал раньше. И дальше мы читаем:
Здесь мы заметим, что золотистая лазурь как раз характерна для русских софийных икон. Но нам представляется, что и здесь у Вл. Соловьева не просто субъективная выдумка и фантастическое визионерство. Дело в том, что многие поэты вообще прославляют чистый голубой небесный свод с ярким солнечным сиянием. Для многих это было символом космоса вообще. Значит, в приведенных стихах можно находить намек на душу мира, вечную женственность, Премудрость Божию, космическую Софию в соединении с лирическим подъемом автора поэмы и с его патетическим восторгом перед «сияньем божества» и его «нетленной порфирой».
Второе свидание, и опять по словам самого же Вл. Соловьева, произошло в Британском музее в Лондоне, куда он был командирован в 1875 г. для изучения древнейших мистических текстов. Среди этих ученых занятий
Здесь опять вечная возлюбленная, «золотая лазурь» и «божества расцвет».
Однако наиболее глубоким содержанием отличается третье свидание. Возлюбленная второго свидания внушила ему мысль ехать в Египет. И Вл. Соловьев неожиданно для своих близких и знакомых, да, вероятно, неожиданно и для самого себя вдруг сорвался с места, оставил Британский музей и поехал в Египет, где под Каиром в пустыне он был чуть не убит бедуинами, вскоре освободившими этого удивительного иностранца, в легком плаще, туфлях и цилиндре… среди песков. Биографы Вл. Соловьева обычно не имеют таких материалов, по которым можно было бы судить о цели его египетской поездки. Но имеются воспоминания, из которых вырисовываются важные подробности.
В. А. Пыпина-Ляцкая пишет, что однажды, находясь в гостях у ее отца, известного историка культуры А. Н. Пыпина, бывшего в самых дружеских отношениях с Вл. Соловьевым, этот последний за обеденным столом, оставшись среди «чуждой ему молодой компании», стеснявшейся знаменитого философа и обычно скучавшей во время серьезных бесед Вл. Соловьева и А. Н. Пыпина, вдруг неожиданно рассказал о своем путешествии в Египет: «Как заговорил он, не помню, знаю только, что в один миг он овладел всеобщим вниманием. Просто, по-товарищески, стал он рассказывать о своем путешествии в Египет, которое, по-видимому, произвело на него большое впечатление. Вспоминал особенно подробно о том, как посещал там различных аскетов, таившихся от людей, селившихся в шалашах по пустынным местностям, как на себе проверял их мистические экстазы. Хотел видеть знаменитый Фаворский свет и видел» (35, 124). Приключение в пустыне с бедуинами общеизвестно. Сейчас же для нас важно то, что как раз в этой самой пустыне под Каиром произошло третье свидание, которое нужно относить, очевидно, ко второй половине ноября 1875 г., как это можно судить по его письму к матери от 27 ноября 1875 г. по новому стилю (см. 6, 2, 19). Вот что мы узнаем об этом из «Трех свиданий».
Проснувшись в пустыне на голой земле, философ почувствовал, что небо и земля «дышали розами». И здесь:
О лазури говорилось и в первых двух свиданиях. Но здесь появляется еще новый момент: его возлюбленная возникает как символ «всемирного и творческого дня». Этот космический момент развивается и дальше.
Здесь мы находим уже вполне отчетливое космическое представление о Софии, обнимающей собою весь мир с первого момента его появления.
Вульгарное и обывательское представление о мистике, конечно, многих может навести здесь на мысль о какой-то соловьевской психопатологии или о каких-то литературных выкрутасах. Но неопровержимые биографические данные свидетельствуют о том, что Вл. Соловьев был в то время духовно здоровым и веселым молодым человеком, у которого умозрительные чувства соединялись с обыкновеннейшим бытовым поведением. Из обширных биографических материалов мы позволим себе привести только два источника, которые свидетельствуют о внутренней настроенности Вл. Соловьева чуть ли не на другой же день после египетского «свидания».
Он уже и в Египте жил не по средствам и во время своего «свидания» не забывал требовать у родителей выслать ему 200 рублей. Но здесь интереснее всего то, что после Египта он отправился вовсе не в Россию, а почему-то еще в Италию и еще в Париж. Что он делал в Париже кроме подготовки своих религиозно-философских трудов, автору настоящей работы неизвестно. Но вот что пишет В. А. Пыпина-Ляцкая:
«С большим юмором рассказывал он также о своих злоключениях в Италии, когда он, поднимаясь на Везувий с двумя знакомыми дамами, повредил себе ногу и лишен был возможности продолжать путешествие. Последние деньги истратил он на чудные розы, которые послал своим спутницам, и жил в гостинице в долг, ожидая присылки денег из Москвы. В гостинице сначала ему охотно открывали кредит, но потом стали косо поглядывать. Владимир Сергеевич, все более и более сокращая свои потребности, стал уже питаться одним кофе. Деньги все не шли. Как только нога поправилась настолько, что явилась возможность передвигаться, он обратился к русскому консулу, рассказал о своей беде, дал о себе необходимые сведения и попросил ссудить деньгами. Консул выслушал серьезно, денег дал, но выразил сожаление, что у столь знаменитого, уважаемого человека, как историк Соловьев, такой „беспутный“ сын. Вернувшись в гостиницу, Владимир Сергеевич велел подать себе шампанского и как можно больше роз. Хозяин гостиницы стал называть его князем» (35, 124).
Итак, прогулка на Везувий с дамами, жизнь не по средствам, шампанское и розы — все это чуть ли не на другой день после египетского «свидания» с лазурной подругой. Заметим, кроме того, что за одной из этих двух дам, встреченных им на Везувии, он даже немножко ухаживал.
Приведем еще один эпизод, относящийся к июлю 1876 г., т. е. тоже вскоре после возвращения Вл. Соловьева из Египта. В декабре 1914 г. барон П. Г. Черкасов поделился воспоминаниями своей молодости с биографом Вл. Соловьева С. М. Лукьяновым. Однажды во время прогулки в подмосковной местности летом 1876 г. он увидел целую кавалькаду кавалеров и дам. «Впереди кавалькады, на бойкой серой лошади, несся красивый брюнет с развевающимися по плечам волосами; пятки его, плотно прижатые к лошади, „придавали“ последней ходу, и она неслась вовсю. А красивый всадник мрачного вида глядел куда-то вдаль и, ничтоже сумняшеся, летел дальше, размахивая локтями. Ясно было из всей его повадки, что езда верхом ему была не в привычку» (26, 3, 364). Этим всадником был не кто иной, как Вл. Соловьев. Рассказы В. Пыпиной-Ляцкой и барона Черкасова в сочетании с лондонско-египетскими «свиданиями» Вл. Соловьева, выраженные впоследствии в поэтической форме с приниженным личным отношением философа, говорят только о духовном здоровье Вл. Соловьева. Ведь то. что рассказывает Черкасов, относится к июлю 1876 г., а в Россию Вл. Соловьев вернулся из Египта в начале июня того же года. Другими словами, его скачка на лошади вместе с веселой кавалькадой произошла через каких-нибудь три месяца после египетского «свидания». Приключение же на Везувии было еще ближе к этому третьему «свиданию».
Не следует думать, что это жизнелюбие Вл. Соловьева связано только с его юностью. Мы имеем множество свидетельств о простых и непритязательных отношениях философа с окружающими. Так, В. Пыпина рассказывает (имея в виду 90-е годы), что Вл. Соловьев любил играть с ее отцом в шахматы, участвовал в отгадывании шарад, смеялся так заразительно, что, глядя на него, все смеялись, и его звонкий, «несколько демонический» смех так не гармонировал с его «загадочным взором, таинственно полуприкрытом веками, лишь иногда открывавшими его неземной блеск» (35, 126). После двенадцати ночи, когда А. Н. Пыпин уходил, Вл. Соловьев чувствовал себя совсем привольно «без старших» и просил петь ему цыганские романсы, «единственная музыка, которую он признавал», причем слушал их «за стаканом вина», рассказывал «забавные анекдоты», читал шутливые стихи или «свои пародии на символистов». По-видимому, как замечает В. Пыпина, «он любил иногда быть среди непритязательного, веселого общества, где мог ни о чем не думать, ничем не стеснять себя, сбросить с себя ответственность „избранника“, каким не мог себя не сознавать».
Пыпина делает примечательное заключение: «А душа у него была младенческая, и недаром он так хорошо понял моего брата, когда тот однажды сказал при нем: „Когда я буду большой…“ (ему было уже за тридцать). Все засмеялись. „А я так вас понимаю, — заметил Владимир Сергеевич, — я тоже часто про себя думаю: когда я буду большой…“» (там же, 125).
Д. Н. Овсянико-Куликовский однажды задался вопросом о том, что же такое в конце концов мистика.
В своей характеристике соловьевского типа мистики он упоминает еще и Франциска Ассизского. За это сопоставление мы не ручаемся и оценивать его не беремся. Думается, что здесь слишком много преувеличений и, может быть, даже ошибок. Вл. Соловьев — профессор, публицист, литературный критик, теоретик и историк философии и профессиональный поэт. Ничего этого у Франциска Ассизского не было. Обе эти фигуры взяты из разных исторических эпох, разделенных многими сотнями лет, и совершенно из разных социальных окружений. Ставить их на одну плоскость мы совершенно отказываемся. Однако то, что Д. Н. Овсянико-Куликовский пишет о мистике Вл. Соловьева, совершенно правильно, и в этом нетрудно убедиться по многочисленным биографическим материалам Вл. Соловьева. Кроме того, Д. Н. Овсянико-Куликовский — литературовед, и ему почти несвойственны те предрассудки, которыми очень часто отличаются историки философии. Он просто старается более или менее выразительно сказать то, что он буквально находит в текстах Вл. Соловьева.
Вот что мы читаем здесь сначала о Франциске Ассизском:
«Космическая радость бытия и чувство бессмертия у него — не производные — интеллектуального порядка — величины и не фикция, а „непосредственные данные“ экзальтированного сознания, очарованного наитием божества. Из всех возможных — и невозможных — миров мистический мир Франциска Ассизского представляется если не самым лучшим, то, бесспорно, самым радостным…»
А теперь прочитаем и то, что говорит Д. Н. Овсянико-Куликовский о самом Вл. Соловьеве: «И прежде всего, в этом, для нас столь фантастическом, мире отнюдь не скучно: там много радостей, много невинной веселости, там слышен порою беззаботный смех, там встретим и незлую шутку, и добрый юмор. Большою ошибкою было бы думать, что мистики этого типа — люди угрюмые, всегда погруженные в замогильные чаяния, чуждые живой жизни и земных радостей… Мистики, как Франциск и наш Соловьев, конечно, аскеты, но их аскетизм в своем роде умеренный, не доходящий до юродства… — мистики типа Франциска и Соловьева — вовсе не фанатики. Их вера несокрушима, как и их мистическая экзальтация, но у них нет того порабощения личности гнету властной идеи, которое составляет сущность фанатизма. Это — люди внутренне свободные, широкие, гуманные; строгие к себе, они снисходительны к другим» (32, 157–158).
Мы уже и раньше находили и юмор, и шутку, и иронию как в личности Вл. Соловьева, так и в его произведениях. И вот как теперь говорит об этом Д. Н. Овсянико-Куликовский, и говорит чрезвычайно метко: «В психологическом родстве с этим укладом натуры находится и свойственный таким мистикам, как Соловьев и Франциск, дар юмора и шутки… У Влад. Соловьева, в инвентаре его разнообразных выдающихся дарований, ярко проявлялся веселый дар остроумного юмориста. Его шутки в стихах и прозе, его пародии и крылатые меткие „mots“ достаточно известны и не уступают прославленному „творчеству Кузьмы Пруткова“» (там же, 158).
Нечего и говорить, что подобного рода характеристика основного настроения Вл. Соловьева отнюдь не может считаться окончательной ввиду чрезвычайного богатства его натуры и личности. Но такие характеристики все же очень важны, поскольку они вносят жизненную конкретность в мистику Вл. Соловьева. Если бы изучалась содержательная сторона мистики Вл. Соловьева, то, вероятно, самый термин нужно было бы или ставить в кавычках, или совсем отменить. Приходится весьма сожалеть, что Вл. Соловьев в популярном сознании читателей почти совсем не рассматривается в контексте всей мировой символики. Эта мировая символика у историков философии и литературы тоже весьма мало популярна, так что история ее не только еще не написана, но, по-видимому, и вообще будет написана весьма не скоро. Ведь для того чтобы ее изучить и написать, нужно прежде всего точнейшим образом проанализировать и то, что такое мистика, и то, что такое символика. А мы не знаем хорошо даже того, что такое художественный образ. Когда анализируются художественные образы у того или иного писателя, то дело обычно сводится просто к изложению содержания произведения, но только изложение это относится в данном случае не ко всему произведению в целом, а к тому или иному его герою или к той или иной изображаемой в нем ситуации. А если бы у нас была такая история мировой символики или хотя бы некоторые попытки ее написания, то мы убедились бы, что основной «мистический», или «художественный», образ у Вл. Соловьева (тут неизвестно, как его квалифицировать) оказался бы для нас отнюдь не мистичнее того, что мы находим и у других мировых писателей.
Вечная подруга и космическая золотистая лазурь у Вл. Соловьева отнюдь не мистичнее и отнюдь не загадочнее, чем неизъяснимые наслаждения на краю мрачной бездны («бессмертья, может быть, залог», — говорит сам Пушкин) и вообще гимны чуме, а также бесовщина зимней непогоды у Пушкина, чем бегство послушника из монастыря, чтобы обняться с бурею в горах, или искания покоя мятежным человеком в буре, или обманная клятва демона (потому что сам демон есть обман и ничто) у Лермонтова, чем покаянное состояние умирающего Гоголя, чем «эликсир сатаны» или «песочный человек» у Гофмана, чем любовный напиток или кольцо из рейнского золота у Рихарда Вагнера, чем завывание мирового хаоса в печной трубе у Тютчева, да в конце концов, даже чем покойники в «Железной дороге» Некрасова и птицы в «Буревестнике» Горького. Везде тут открываются перед нами глубины человеческого самочувствия, философские картины мировых судеб и грозное пророчество, доходящее до мировых катастроф. Понять все это может только тот, кто давал себе труд хотя бы на краткое время прикоснуться к мировой символике.
Но и здесь не надо забывать того, что над этой бесконечной лазурью в теоретическом плане все-таки залегало его учение о всеединстве, и ничто другое. Сенситивная обостренность философско-поэтических восторгов Вл. Соловьева приводила его к тому, чтобы обозначить эту максимально духовную, но в то же самое время и максимально телесную, максимально материальную основу своих умозрений особым термином, который он позаимствовал из неоплатонической и еще больше теософско-оккультной литературы. Этим термином была София, о которой мы выше говорили при анализе «Трех свиданий».
Наконец, рассуждая о мистике Вл. Соловьева, мы можем доставить удовольствие тем знатокам мистики, которые сводят ее к переживанию всякого рода сверхъестественных явлений и тем понимают ее как наличие галлюцинаций в воображении психически расстроенного человека. Дело здесь не в этих «знатоках», а в том, чтобы в характеристике того, что сам Вл. Соловьев квалифицировал как учение о всеединстве, не игнорировать и таких элементов, которые представляются в виде сверхъестественных явлений. Мы только должны категорически протестовать против характеристики этих явлений как психопатических галлюцинаций без всякого иного, и прежде всего без всякого общественно-политического, к ним подхода. Допустим, что явление черта психически больному Ивану Карамазову есть галлюцинация этого последнего. Но такое заключение, очень интересное для врачей и психиатров, ровно ничего не говорит нам по существу. Внутриатомные процессы не являются даже и здоровым, и никакой микроскоп о них ничего не сообщает. Тем не менее отрицать реальность атомного распадения было бы той ошибкой, которая в логике называется a dicto secundum quid ad dictum simpliciter, т. e. переносом частной ситуации появления предмета на общее состояние этого предмета самого по себе. И действительно, если явление черта Ивану Карамазову — галлюцинация, то это глубоко насыщенная галлюцинация, свидетельствующая, по мнению самого же Ивана Карамазова, о самом скверном и злом, что таится в его душе.
Сам Вл. Соловьев в последние годы своей жизни чувствовал себя весьма мрачно и ослабленно, поскольку он до невыносимости глубоко переживал крах всех своих теократических иллюзий, основанных, как ему казалось, на здравом смысле и безупречной логике.
Это разочарование в своих идеях исторического прогресса он выразил, в частности, в том, что в работе «Три разговора» уже прямо повествует о последних временах истории и о всеобщей мировой катастрофе. Это не было просто болезнью человека, и являвшийся ему черт был галлюцинацией, которая имеет для нас глубочайший общественно-политический смысл.
Вл. Соловьев был христианином, для которого крест — символ победы над злом, а воскресение Христа — символ всеобщего спасения. Но вот оказывается, что явившийся Вл. Соловьеву черт не испугался его слов о воскресении Христа, и после этого философа нашли лежащим в бессознательном состоянии. Что это такое? Неужели вся сущность дела заключается здесь в его душевном расстройстве? Нет, дело здесь не в черте и не в душевном расстройстве Вл. Соловьева, в течение всей своей жизни бывшего человеком выдающегося духовного здоровья и кончившего жизнь в совершенно здравом уме и твердой памяти. Нет, только общественно-политический подход и может разъяснить сущность дела. Вл. Соловьев настолько чувствовал себя в окружении нарастающего зла, что в конце жизни уже не мог с ним бороться так, как это он делал всегда. Тут не галлюцинация, но крушение всех общественно-политических его учений и надежд философа. Теперь мы приведем те биографические материалы, которые относятся к этим чересчур подозрительным галлюцинациям.
Еще до основного и самого страшного явления черта в Эгейском море, о чем мы сейчас скажем, у Вл. Соловьева были и другие явления, о которых С. М. Соловьев пишет так: «Часто бывали у него видения черта, и он просто рассказывал о них, иногда впадая в шутливый тон. Помню один его рассказ: „Вчера я лежу в постели. Горит свеча. Кто-то, кого я не вижу, гладит меня по руке и нашептывает мне весьма дурные вещи. Я вскакиваю с постели, начинаю его крестить и крестом выгонять за дверь“. С простотой монаха он говорил: „Надо читать перед сном псалом 90-й, чтобы избавиться от наваждений“» (42, 358).
С. М. Соловьев пишет также и о демонических явлениях у Вл. Соловьева в Финляндии: «В 96–97 гг. в Финляндии, очевидно, у Соловьева были демонические явления. И финское море, подобно лицу возлюбленной женщины, могло утрачивать сияние божественной Софии. В полушутливых стихах Соловьев сообщает»:
Однако самое главное, что можно сказать из этой области, — это переживания Вл. Соловьева в архипелаге, через который он ехал на пароходе в Египет во второй раз в своей жизни в 1898 г. «В архипелаге Соловьева преследовали демонические видения. Те черти морские, которые „недавно ловили его в финском поморье“, преследуют его и здесь, между Амафунтом и Пафосом».
Соловьев пробует обратиться к морским демонам с увещевательным словом и в шутливой форме заклинает их пророчеством о приходе на землю вечной женственности.
Здесь, где стояли Амафунт и Пафос, некогда родилась Афродита. «Розы над белой пеной», «пурпурный отблеск в лазурных волнах» — образ прекрасного тела богини — был и первым нежданным горем для морских демонов, он привел их в смятение, трепет и страх. Но коварные демоны нашли себе доступ к этой красоте и сеяли в прекрасный образ адское семя растления и смерти.
Е. Н. Трубецкой склонен был воспринимать все видения своего друга как чистейшие галлюцинации: «У него бывали всякого рода галлюцинации — зрительные и слуховые; кроме страшных, были и комичные, и почти все были необычайно нелепы. Как-то раз, например, лежа на диване в темной комнате, он услыхал над самым ухом резкий металлический голос, отчеканивавший каждое слово: „Я не могу тебя видеть, потому что ты так окружен!“ В другой раз, рано утром, тотчас после его пробуждения, ему явился восточный человек в чалме. Он произнес необычайный пассаж по поводу только что написанной Соловьевым статьи о Японии („ехал по дороге, про буддизм читал, вот тебе буддизм“) и ткнул его в живот необычайно длинным зонтиком. Видение исчезло, а Соловьев ощутил сильную боль в печени, которая потом продолжалась три дня» (там же, 20–21).
Вл. Соловьев думал, что из болезненности воспринимающего субъекта вытекает вовсе не необходимость отрицать самое существование являющихся объектов, но только то, что они являются людям психически больным, а не здоровым. Поэтому у Вл. Соловьева выходило так, что он не отрицал ни галлюцинаций, ни объективного существования тех явлений, которые воспринимаются в галлюцинациях. Е. Н. Трубецкой продолжает:
«Такие болевые ощущения и другие болезненные явления у него бывали почти всегда после видений. По этому поводу я как-то сказал ему: „Твои видения — просто-напросто галлюцинации твоих болезней“. Он тотчас согласился со мной. Но это согласие нельзя истолковывать в том смысле, чтобы Соловьев отрицал реальность своих видений. В его устах слова эти значили, что болезнь делает наше воображение восприимчивым к таким воздействиям духовного мира, к которым люди здоровые остаются совершенно нечувствительны. Поэтому он в подобных случаях не отрицал необходимости лечения. Он признавал в галлюцинациях явления субъективного и притом больного воображения. Но это не мешало ему верить в объективную причину галлюцинаций, которая в нас воображается, воплощается через посредство субъективного воображения во внешней деятельности. Словом, в своих галлюцинациях он признавал явления медиумические. И в самом деле, как бы мы ни истолковывали спиритические явления, какого бы взгляда мы ни держались на их причину, нельзя не признать, что самые явления переживались Соловьевым очень часто. Он во всяком случае был очень сильный медиум, хотя медиум невольный, пассивный» (там же, 21).
Никто не может отрицать того, что если применять эту квалификацию мистика к личности Вл. Соловьева, то квалификация эта получается весьма неоднородной и в значительной мере противоречивой.
Во-первых, Вл. Соловьев понимает под мистикой учение о всеединстве, которое строится у него с употреблением строгих философских понятий, диалектически, так что у нас нет никаких оснований считать его в этом отношении мистиком. Действительно, если всё присутствует во всем, то каждый момент этого всего является предельно насыщенным излияниями всеединой общности. Тогда каждый предмет получает огромную символическую нагрузку, и в этом смысле всякий может сказать, что здесь есть нечто мистическое. Вообще же говоря, мистика, как ее здесь понимает сам Вл. Соловьев, есть просто учение о действительности как о всеобщем организме, и, мы бы сказали, слово «мистика» здесь, пожалуй, неуместно. Иначе все вполне материалистические учения о целом и частях, об общем и единичном, о сущности и явлении придется обозначить термином «мистика».
Во-вторых, совсем другое дело — это постоянная соловьевская склонность представлять все идеальное в материализованном виде. Здесь, пока речь идет об общих принципах, никакая материализация не страшна, поскольку всякая вещь в нашей бытовой практике и в наших обывательских представлениях тоже имеет свою идею (ибо иначе она ничем не отличалась бы от других вещей) и обладает тем или иным физическим телом, материей как носителем этой идеи. Но начинает охватывать сомнение, когда идеалист заговаривает о материализации тех единичностей, которые являются носителем космических общностей. Такой символизм является уже чересчур насыщенным, и мы склонны понимать такую материализацию космических общностей в отдельных единичностях самое большее как поэтическое изображение, нежели как реальное воплощение космических общностей в отдельных вещах. Так, «Божественная комедия» Данте большинством переживается как поэтическое произведение, образы которого можно понимать только переносно, а не буквально. Тем не менее сам Данте понимал их отнюдь не только поэтически и переносно, но в большинстве случаев буквально. Для Вл. Соловьева такая образность, насыщенная космическим содержанием, тоже не есть только поэзия и понимается меньше всего переносно, меньше всего аллегорически. Поэтому учение о материализации идеального, хотя оно есть прямой вывод из диалектики всеединства, гораздо ближе к тому, что обычно называется мистикой. Для Вл. Соловьева если это и мистика, то, во всяком случае, мистика интеллектуально сконструированная и диалектически-понятийно выведенная.
В-третьих, еще ближе к принятому пониманию мистики стоят соловьевские софийные переживания. София, по Вл. Соловьеву, вообще говоря, как раз и есть материализация идеального. Но у Вл. Соловьева она еще более насыщена разного рода интимными переживаниями, и притом не только религиозными или философскими, но и вполне интимными. Что касается самого Вл. Соловьева, то это является для него, между прочим, также и источником его поэтических вдохновений. Но в принципиальном смысле дело здесь вовсе не сводится у него только к поэзии, но охватывает собою целый ряд областей сознания и бытия, несмотря на полную раздельность и даже взаимную противоречивость этих областей в бытовом человеческом сознании.
Наконец, в-четвертых, Вл. Соловьеву были свойственны видения в человеческом образе злой силы, причем он сам открещивался от них как мог, а иной раз и совсем не мог откреститься. Находясь на самой твердой позиции объективного исторического повествования, мы обязаны сказать, что так оно действительно у Вл. Соловьева и было. Однако мы боимся не чертовщины, но боимся понимания ее вне наших общих общественно-политических и вообще социальных и притом безупречно точных научных методов. Что касается общественно-политического подхода, то все эти галлюцинации относятся к последнему периоду его творчества, когда он разочаровался в своей теократии, в своем прогрессизме и не мог противостоять мировому кризису, который вел к мировым катастрофам. Так что тут дело не в кресте и не в демоне, а в социально-политических разочарованиях философа.
Если мы усвоим все, что было выше сказано о мистике Вл. Соловьева, то теперь для нас многое выяснится и в тех его переживаниях, которые заставляют его строить свою собственную философскую систему.
3. Идеализм Вл. Соловьева. Сказать, что Вл. Соловьев — идеалист, и этим ограничиться, — этого мало. Даже такой термин, как «объективный» идеализм, тоже слишком общий. Для уяснения специфичности объективного идеализма Вл. Соловьева служит понятие Софии.
Учение о Софии мы находим в античном неоплатонизме. Но античные неоплатоники — это в основном пантеисты. Вл. Соловьев же — строгий монотеист; его София в основном монотеистична. Понятие Софии мы находим у теософов Бёме и Сведенборга, которых Вл. Соловьев внимательно изучал. Но Бёме и Сведенборг — протестанты с большой долей пантеизма. Учение о Софии встречается также в немецком идеализме и романтизме. И в немецком идеализме и романтизме Вл. Соловьев тоже находил подтверждение своему учению о Софии. Но опять-таки немецкие идеалисты и романтики — протестанты и для Вл. Соловьева слишком односторонние рационалисты.
Будучи православным теоретиком религии, Вл. Соловьев чувствовал себя ближе всего к древнерусским софийным представлениям, в результате которых в Древней Руси появлялись даже храмы, посвященные Софии. Однако и здесь Вл. Соловьев не остался и не хотел оставаться на почве наивных и философски не проанализированных верований, и поэтому его идеализм и не античный, и не классический немецкий, и не теософско-оккультный, и не византийско-московский, и не наивно-фидеистический. Если задаться вопросом о специфике этого идеализма, то его необходимо назвать «софийным» с использованием для своего доказательства категорий немецкого идеализма и при наличии вселенских чувств всеединства. Так можно было бы сказать об идеализме Вл. Соловьева, понимая его как проблему самой личности философа.
Если говорить кратко, то сущность софийного идеализма Вл. Соловьева заключается в учении, которое проповедует не абстрактно-гипостазированную идею, но духовно и материально насыщенную идею, заостренную в виде страстно ощущаемой заданности, закона и метода ее бесконечных материальных осуществлений. Черты такой материальной насыщенности и острейшей реальной запланированности в учении об идеях, конечно, можно кое-где находить в истории философии. Но не будет ошибкой сказать, что у Вл. Соловьева это дано максимально выразительно, максимально личностно, не минуя и общественных выводов.
4. Отношение Вл. Соловьева к материализму. Что из двух противоположностей — материализм и идеализм — Вл. Соловьев выбрал идеализм, сомневаться невозможно. Тем не менее фактическое изучение сочинений Соловьева безусловно говорит о постепенном стремлении философа покинуть всякие позиции отвлеченного идеализма и вырваться на простор чисто реалистических исканий, иной раз прямо близких к материализму. В истории философии мы вообще находим очень часто таких мыслителей, которые избегают крайностей и стремятся найти какой-нибудь средний путь, на котором и идеальное и материальное нашли бы для себя достаточно глубокое выражение. Это искание не миновало и Вл. Соловьева. Действительно, зачем понадобилось Соловьеву учение о Софии? Ведь София — это та сторона глубин действительности, которая, оставаясь идеальным бытием, максимально стремится к реальному и материальному. Когда Вл. Соловьев учит о Софии, то она становится идеальным первообразом многообразия и полноты материального мира, которые хотя пока и не являются чувственными, но уже и не просто идеальны в абстрактном смысле слова. Это картина всей бесконечной действительности, которая сама еще не стала чувственной и исторической действительностью, но уже является ее прообразом, или, как мы сказали, ее заданностью, замыслом, законом и методом ее бесконечных осуществлений. На этом основании можно сказать, что из всех бывших в истории философии типов идеализма софийный идеализм является в материальном смысле максимально насыщенным, близким к ее реальной истории.
В утверждении этой идеально-софийной «материи» Вл. Соловьев не знал никаких пределов. Вся его эстетика есть не что иное, как учение о жизнесозидательных и жизнедеятельных формах красоты. Для Вл. Соловьева не существует никакой чистой красоты как противоположности всякой материи. Наоборот, красота только и имеет смысл — создавать действительность.
Точно так же Вл. Соловьев поразил в свое время философскую общественность, когда в специальной работе доказал связь позитивистского учения Огюста Конта с учением о всечеловеческой Софии. Это, конечно, не материализм. Но очень трудно привести из истории философии пример такого сближения идеализма с материализмом, которое мы находим в подобных произведениях Вл. Соловьева. Слить идеализм и материализм невозможно. Но Вл. Соловьев употребил все силы своего таланта, чтобы это слияние произвести. И это вовсе не свидетельствует о том, что снимается всякое различие между материализмом и идеализмом и что это различие нехарактерно для всей истории философии.
С этой стороны Вл. Соловьев еще очень мало изучен. Из десятков, а может быть, и сотен размышлений его на эти темы мы приведем лишь два места из третьей речи о Достоевском, где мы читаем такие сочувственные слова о вере Достоевского в человека: «Но его вера в человека была свободна от всякого одностороннего идеализма или спиритуализма: он брал человека во всей его полноте и действительности; такой человек тесно связан с материальной природой, и Достоевский с глубокой любовью и нежностью обращался к природе, понимал и любил землю и все земное, верил в чистоту, святость и красоту материи. В таком материализме нет ничего ложного и греховного» (4, 3, 213).
Даже больше того. Понимать материю как пустой механизм означает, с точки зрения Вл. Соловьева, унижать материю и оскорблять ее. Даже если признавать, что материя все из себя производит и все собою из себя порождает, то и этого слишком мало для величия материи. Нет, только тогда материя получает для нас свое настоящее значение, когда она способна стать максимально совершенным бытием, и притом настолько, что даже все совершенства, которые человечеством приписывались божеству, оказываются субстанциально присущими также и материи. Но пантеизма Вл. Соловьеву здесь мало, поскольку пантеизм безличен и бездушен. Именно самая духовная и личностная религия, христианство, по его мнению, необходимым образом проповедует как раз такое возвышение и освящение материи. И это достигается в учении о богочеловечестве Христа, в котором и божество дано по своей субстанции, и человек дан по своей субстанции, нераздельно, но и неслиянно. Этому соответствуют слова из тех же речей о Достоевском: «Веруя же действительно в Бога как в Добро, не знающее границ, необходимо признать и объективное воплощение Божества, т. е. соединение Его с самим существом нашей природы не только по духу, но и по плоти, а чрез нее и со стихиями внешнего мира; а это значит признать природу способною к такому воплощению в нее Божества, значит поверить в искупление, освящение и обожение материи. С действительной и полной верой в Божество возвращается нам не только вера в человека, но и вера в природу. Мы знаем природу и материю, отделенную от Бога и извращенную в себе, но мы верим в ее искупление и ее соединение с Божеством, ее превращение в Бого-материю, и посредником этого искупления и восстановления признаем истинного, совершенного человека, т. е. Богочеловека в Его свободной воле и действии» (там же, 211–212).
В заключение необходимо сказать, что вопрос об идеализме Вл. Соловьева глубочайшим образом связан с его личностью, с его жизнью. В этом смысле очень трудно отделить теоретическую или научную часть от биографии писателя. Когда, например, неокантианцы говорили, что метафизика есть поэзия понятий, то подобного рода суждения, пожалуй, применимы к Вл. Соловьеву больше всего. Но это нисколько не мешает ни его чисто понятийной философии, где логика и диалектика на первом плане, ни том более мистике в узком и в собственном смысле слова. Везде у него весьма заметно действие его основного принципа всеединства. Ему можно приписывать самые разнообразные свойства и качества, но вся эта пестрота удивительным образом не мешает находить в нем какое-то внутреннее единство. Жизнь Вл. Соловьева была достаточно пестра, но все находили в нем какую-то внутреннюю направленность, объединявшую не только все разнообразие его жизни, но и всю ее пестроту, доходящую до кричащих противоречий.
5. Философия истории. У Вл. Соловьева была одна такая область мысли и творчества, в которой единство его философских и личностных устремлений сказалось больше всего, сказалось весьма напряженно и, можно сказать, страстно. Это область философии истории. При всей краткости и ограниченности нашего изложения об этой области совершенно необходимо сказать хотя бы несколько слов. В литературе о Вл. Соловьеве высказывалась масса разного рода неточных и часто даже просто неверных суждений. Их опровержением должно заниматься специальное исследование. В настоящий же момент мы находим нужным сказать только несколько слов.
Как отмечалось выше, одно из ходячих мнений о Вл. Соловьеве гласит, что сначала он был славянофилом, а потом западником. Такое представление о Вл. Соловьеве нужно считать в корне неправильным. Против славянофильского национализма он начинает выступать очень рано. Что же касается его позднейшего «славянофильства», которое, как думают некоторые, наступило после разочарования в западничестве, то оно было весьма своеобразным и не укладывается в традиционное понимание славянофильства исследователями русской культуры. Но если Вл. Соловьев никогда не был славянофилом, то он никогда не был и западником, потому что его западнические идеи всегда были направлены против западного рационализма, субъективизма и некритического прогрессизма.
В январе 1894 г. П. Н. Милюков прочитал в Москве лекцию «Разложение славянофильства», где доказывал, что прежнее славянофильское учение о мессианстве России давно умерло, но часто оно еще остается у Вл. Соловьева в его учении о всемирной теократии. Вл. Соловьев действительно весьма увлекался теократическими идеями на основе своей веры в необходимость обязательного слияния духовной и светской власти. В 80-х годах он резко критиковал византийско-московское православие, считая, что келейное подвижничество оставляло в Византии государственную область на стадии чисто языческой и что только римский католицизм способен созидать правильную и общественно-организованную церковь вместо личного подвижничества в византийско-московском православии. Но та теократия, которая, по Вл. Соловьеву, должна восторжествовать на основе римского католицизма, уже совершенно не имела ничего общего с прежним славянофильством. И в своих замечаниях против указанной лекции Милюкова Вл. Соловьев так и говорит, что его теократия не имеет ничего общего с прежним славянофильством и что она вовсе не является лозунгом для какого-нибудь направления или партии, а представлена исключительно им одним, Вл. Соловьевым.
Эта вера в будущее слияние духовной и светской власти доставила много страданий и горя Вл. Соловьеву. Такая философия истории и такая вера в теократический прогресс истории решительно никого не устраивала. И, можно сказать, из всех соловьевских учений не было такого учения, которое бы так далеко отстояло от тогдашней русской общественности. Эту соловьевскую теократию все считали курьезом. С ней не мирились ни отцы-иезуиты в Париже, с которыми Вл. Соловьев лично встречался и полемизировал, ни идеологи православия, воспитанные на разделении верховной власти между царем и патриархом (или тем преемником патриаршей власти, которым тогда считался Синод). Поэтому не удивительно, что и сам Вл. Соловьев постепенно разочаровывался в своей теократии и в 90-х годах если не прямо отошел от нее, то во всяком случае перестал страстно на нее уповать. Этот процесс разочарования в 90-х годах очень выразительно рисует Е. И. Трубецкой, привлекая не только печатные труды Вл. Соловьева, но и свои беседы с философом.
Е. Н. Трубецкой говорит о том, что Вл. Соловьев разочаровался прежде всего в способности тогдашнего русского общества как-нибудь приблизиться к идеалам вселенской церкви и теократии. В связи с небывалым всероссийским голодом в 1891 г. Вл. Соловьев писал: «…при нынешнем бескультурном состоянии русского народа и его хозяйства… процесс запустения остановить нельзя… сам народ не имеет средств поднять свой культурный уровень, и… это также не может быть прямою и непосредственною задачей правительства. Еще менее могут тут что-нибудь сделать индивидуальные усилия частных лиц… Значит, требуется деятельность общества как такового, как организованного целого» (4, 5, 444).
По поводу этих высказываний Вл. Соловьева Е. Н. Трубецкой пишет: «Высказать в печати больше этого Соловьев в то время, разумеется, не мог; но в беседах с друзьями, а в том числе и со мною, он откровенно говорил о своем разочаровании в тогдашнем государственном строе и о необходимости представительных, конституционных учреждений. Помню, как при этом однажды он шутя показывал мне красную подкладку своей шведской куртки и с хохотом говорил: „А подкладка у меня на всякий случай вот какая“. Эти разговоры происходили осенью 1891 года» (43, 2, 7). В результате этого «Соловьев очень скоро был поставлен перед необходимостью сделать выбор между теократией и конституцией» (там же, 10). Но для конституции тогдашнее общество еще настолько не созрело, что даже и для мечтателя Вл. Соловьева она осталась только на стадии мечтаний. Для нас, однако, важно сейчас то, что соловьевский выбор не мог пасть на этот раз и на теократию, настолько философ уже успел в ней разочароваться. Во всяком случае вселенская теократия теперь уже не представлялась ему в виде союза русского императора и римского папы.
Ко всему этому присоединялось еще растущее у Вл. Соловьева разочарование в русской государственности и в способности русского народа объединить восточное благочестие и западную цивилизацию. В 1897 г. от этой воинственной теократической идеи у Вл. Соловьева остались только самые общие словесные выражения.
В этом отношении весьма любопытна социально-историческая позиция в его предсмертных «Трех разговорах». Здесь идет речь о конце истории и красочно рисуется целая эсхатология. Тут бы, казалось, и заговорить о теократии и об ее окончательной победе. Однако ни одного слова о теократии в этих «разговорах» нельзя найти. Римский первосвященник, гонимый на своей родине, появляется в Петербурге. Но весьма характерно то, что, по изображению Вл. Соловьева, ему запрещается здесь всякая открытая деятельность. Россия тоже перестает быть ведущим носителем теократического идеала. Согласно этой философско-художественной картине, Россия сначала находится под монгольским игом, а потом входит в состав каких-то «соединенных штатов Европы». А с наступлением царства антихриста о России вообще всякий разговор прекращается. Соединения церквей тоже не происходит. Вернее же, происходит соединение всех церквей в одно религиозное целое, но это уже в совершенно новом, внеисторическом качестве.
Да и вообще пессимистическая тенденция, которая и раньше никогда не отсутствовала у Вл. Соловьева, одерживает здесь полную победу. В своей предсмертной статье «По поводу последних событий», напечатанной в сентябре в журнале «Вестник Европы» (значит, уже посмертно), Вл. Соловьев писал: «Что современное человечество есть больной старик и что всемирная история внутренне кончилась — это была любимая мысль моего отца, и когда я, по молодости лет, ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступить на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: „Да в этом-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы отыщешь?.. А когда я, с увлечением читавший тогда Лассаля, стал говорить, что человечество может обновиться лучшим экономическим строем, что вместо новых народов могут выступить новые общественные классы, четвертое сословие и т. д., то мой отец возражал… Какое яркое подтверждение своему обдуманному и проверенному взгляду нашел бы покойный историк теперь…“» (4, 10, 225).
В «Трех разговорах» присутствует то обожествление государства, которое является одной из основных идей всей соловьевской теократии. Тот собеседник, который, по словам самого же Вл. Соловьева, выражает его собственные мысли, ровно ничего о государстве не говорит. А говорит о государстве другой спорщик, который вполне равнодушен к вопросам религии и уповает на общечеловеческий прогресс. Но с его точки зрения, государство есть только условное орудие для сохранения человеческого общежития, но там уже не мыслятся те исторические основы теократии, на которые так уповал Вл. Соловьев, и уже едва ли мыслится какое-нибудь юридическое государство.
Общий итог теократических мечтаний Вл. Соловьева вполне ясен. Попросту говоря, под конец жизни Вл. Соловьев уже не имел никаких иллюзий в этой области. Но Е. Н. Трубецкой совершенно прав, когда он пишет: «…не подлежит сомнению, что крушение теократии есть крупный шаг вперед в духовном развитии Соловьева. Мы видели, насколько в произведениях его среднего периода облик теократии неясен и противоречив, как странно и тесно там сплетаются религиозные упования и мирские надежды. Теократия Соловьева — это прах земной, прилипший к крыльям, — то самое, что отягощает полет его мысли и служит в ней источником противоречий. Таково же значение и всех прочих утопий нашего мыслителя, с которыми его теократическая мечта неразрывно связана. В последний период его творчества все эти утопии одна за другою отпадают, и, наконец, к концу жизни он освобождается от них окончательно. Тут мысль его совершает величайший свой подвиг, тот высший свой полет, который должен увековечить его имя в истории» (43, 2, 36–38).
В этой судьбе творческих исканий Вл. Соловьева совершалось великое деяние, в котором мало кто отдает себе заслуживающий того отчет. Все привыкли думать, что Вл. Соловьев — это какая-то неприступная крепость идеализма, лишенная всяких противоречий и сомнений. На самом же деле совершался великий подвиг идеалиста, осознавшего не только всю недостаточность идеализма по его содержанию, но и в структурном смысле его трагическую судьбу ввиду невозможности преобразовать жизнь только одними идеями. В своей вступительной статье к первому тому переводов Платона Вл. Соловьев пишет: «Гениальнейший ум сам по себе недостаточен не только для того, чтобы перейти в область сверхчеловеческого, но и для того, чтобы удержаться на высоте уже достигнутой.
Действительная жизненная история Платона, увековеченная в совокупности его творений, более всякого вымысла может быть названа трагедией человечества» (3, 30).
Таким образом, в 1900 г. Вл. Соловьев умирал с мыслью о полной недостаточности идеализма как системы идей, с разочарованием в своей неистово проповедуемой теократии и с отчаянно низкой оценкой тогдашней русской общественности, которая нуждалась, по его мнению, в столь коренных преобразованиях, которые ему, великому энтузиасту и национальному проповеднику, не представлялись в сколько-нибудь определенных очертаниях.
Заключение
Однако из этого вечного недовольства окружающим и из этого постоянного страстного стремления преодолевать несовершенства окружающей жизни сама собой вытекает еще одна идея, которую можно с полным правом считать для Вл. Соловьева окончательной, итоговой и заключительной. Это то, что можно назвать философией конца.
В течение всей своей жизни Вл. Соловьев только и знал, что наблюдал конец. Еще в своей магистерской диссертации он изображал не что иное, как кризис западной философии, т. е. ее конец. В своей докторской диссертации «Критика отвлеченных начал» он изображает концы всех философских односторонностей. В 80-х годах Вл. Соловьев острейшим образом чувствует конец византийско-московского православия и рвется к тому, чтобы при помощи римской католической церкви оживить и преобразовать восточную церковь. В 1891 г. его работа «Об упадке средневекового мировоззрения» тоже наполнена чувством катастрофизма по отношению к традиционному православию. Вл. Соловьев настолько низко оценивал традиционную и бытовую религию, что однажды в беседе с Е. Н. Трубецким выразил желание объединить всех неверующих против верующих. Поэтому неудивительно, что и в самом конце своей жизни он заговорил о конце всей человеческой истории и о пришествии антихриста. И если его мировоззрение всегда было интимно связано с его личностью, то особенно здесь эта связь оказалась наиболее глубокой и ощутимой.
В 1900 г. Вл. Соловьев умирал от неизлечимых болезней; и человечество, по его мнению, в те времена тоже умирало и тоже от своих неизлечимых болезней, которые он теперь уже научился распознавать вопреки своему прежнему историческому оптимизму. У Е. Н. Трубецкого мы читаем: «Мы знаем, что уже „Три разговора“ были написаны в предвидении „не так уже далекой“ смерти самого их автора. Это предчувствие близости собственного конца в связи с изданием книги, повествующей о непосредственно предстоящем всеобщем конце, не есть результат простой случайности. Что-то оборвалось в Соловьеве, когда он задумал эту книгу: ее мог написать только человек, всем существом своим предваривший как свой, так и всеобщий конец» (43, 2, 304–305). Таким образом, мы не ошибемся, если назовем вообще все мировоззрение Вл. Соловьева не иначе как философией конца.
При этом мы хотели бы только предупредить читателя о недопустимости некоторых крайних выводов из этого определения. Ведь эту философию конца очень легко понять как проповедь какого-то квиетизма, нигилизма. Но такого рода выводы диаметрально противоположны тому, чего хотел умиравший Вл. Соловьев. Никакой конец не мог иметь для него абсолютного и всепобеждающего значения. С его точки зрения, если конец дела означал его неудачу, то этот же конец означал и необходимость еще чего-то нового. Конец одного Вл. Соловьев всегда мыслил как начало другого, хотя это другое и не представлялось ему в ясном виде. Например, разочаровавшись в схематизме своей ранней философской системы, в своих статьях под названием «Теоретическая философия» он стал уже на новый путь, хотя и не успел его закончить. В критике традиционной религии он ощутил ее конец, но он был еще и провозвестником новых путей в этой области. Он предчувствовал и конец прежней отвлеченной эстетики, но он же стал и предначинателем новой эстетики, основанной не на красоте как умозрительной предметности, но на красоте как животворящей силе самой действительности, почему и оказался близким ему тезис Ф. М. Достоевского: «Красота спасет мир». И здесь опять да будет позволено привести слова Е. Н. Трубецкого: «Но с точки зрения человеческой нам не дано знать, что означает этот один день у Бога — одни сутки или тысячи лет. И с этой точки зрения становится ясным, что практический вывод из „философии конца“ не есть покой, а творческая деятельность. Пока мир не совершился, человек должен всем своим существом содействовать его совершению. Чтобы осуществилась в нас целостная жизнь, мы должны предвосхищать ее в мысли, вдохновляться ею в подъеме творческого воображения и чувства и, наконец, готовить для нее себя самих и окружающий мир подвигом нашей воли».
Вот что такое философия конца у Вл. Соловьева, если только мы всерьез решимся придерживаться чисто соловьевских, подлинных текстов, не вдаваясь в их произвольное толкование и оставляя в стороне наши собственные субъективные и вкусовые оценки.
Исследователь не имеет права отвергать великих людей прошлого за их несовременные для нас убеждения и настроения или за одну их общественно-политическую деятельность. Если отвергать Вл. Соловьева за то, что он был верующий христианин, то тогда придется отвергать и Ньютона за то, что он снимал шляпу, произнося имя божье, и Дарвина за то, что он был церковный староста, и Менделеева за то, что он был тайный советник, и рефлексологию Павлова за то, что Павлов ходил в церковь. Он любил Россию без всякой славянофильской лакировки, наоборот, с резкой критикой византийско-московского православия, но и решительно без всяких западнических восторгов перед достижениями буржуазной цивилизации. Самым резким образом Вл. Соловьев критиковал и Восток и Запад и все общественно-политические несовершенства режима царской России. Но сама Россия в течение всей его жизни оставалась его единственной и страстной любовью.
Указатель имен
Августин 58–60
Аксакова А. Ф. 38–39
Александр II 4
Александр III 10–11
Амфитеатров А. В. 28—29
Аристофан 29
Безобразова М. С. 21–22, 26, 27, 32, 35, 161
Белый А. 19, 27
Бёме Я. 67, 69, 184–185
Бенфей Т. 150
Бергсон А. 68
Блок А. А. 19
Бунзен X. 150
Вагнер Р. 176
Введенский А. И. 79, 81, 141, 144
Величко В. Л. 28, 38
Венкстерн А. А. 26
Гартман Э. 93, 97–99, 127–128
Гегель Г. В. Ф. 5, 69, 73, 86–91, 95–96, 121, 128, 157–158
Герье В. И. 16, 30
Гоголь Н. В. 29, 176
Голубев А. Н. 91
Горький А. М. 176
Гофман Э. Т. А. 176
Данте 183
Дарвин Ч. 200
Декарт Р. 73–75, 79, 128, 136, 142–143
Дионисий Ареопагит 56, 58
Достоевский Ф. М. 3–4, 187–188, 199
Жан-Поль (И. П. Ф. Рихтер) 29
Зиоров М. З. (архиепископ Николай) 14—15
Кант И. 69, 73, 79, 81, 83–84, 92, 95, 149
Карамзин Н. М. 8
Кони А. Ф. 17
Конт О. 91–93, 157, 187
Крейцер Ф 150
Кудрявцев В. Д. 126
Кун А. 150
Лейбниц Г. В. 79
Леонтьев П. М. 150
Лермонтов М. Ю. 176
Лопатин Л. М. 33, 41–42, 47–49, 51, 67–68, 126, 141–142
Лотце Г. 68
Лукьянов С. М. 15–16, 171
Максим Исповедник 58
Макшеева Н. 25
Мартынова С. М. 40
Менделеев Д. И. 200
Милль Д. С. 157
Милюков П. Н. 190–191
Муретов М. Д. 15
Мюллер М. 150
Некрасов Н. А. 176
Николай Кузанский 58
Никольский А. 60–61, 63, 101, 144
Ньютон И. 200
Овсянико-Куликовский Д. Н. 173–174
Ориген 59—65
Павлов И. П. 200
Парацельс 67
Платон 12, 54, 196
Плотин 56
Победоносцев К. П. 163
Поливанова Е. М. 16, 33
Прокл 56
Пушкин А. С. 176
Пыпин А. Н. 168, 172
Пылина-Ляцкая В. А. 168, 170—172
Радлов Э. Л. 58–59, 144
Риттер К. 150
Розанов В. В. 41–47, 51
Романова (Селевина) Е. 33, 51
Сведенборг Э. 67, 184—185
Сен-Мартен Л. 67
Сковорода Г. С. 8
Соловьев М. С. 36, 39
Соловьев С. М. (отец Вл. Соловьева) 8
Соловьев С. М. (племянник Вл. Соловьева) 27, 30, 38, 40, 69, 71, 142, 178–179
Соловьева П. В. 8
Спенсер Г. 157
Спиноза Б. 69, 73, 77–79
Стасюлевич М. М. 39
Страхов Н. Н. 143
Тейхмюллер Г. 68
Толстая С. А. 20, 34, 36, 38, 69
Толстой А. К. 20, 69
Толстой Д. 163
Толстой Л. Н. 3
Трубецкой Е. Н. 13, 19–20, 41, 49–51, 141, 143–144, 180–181, 191–192, 195, 198–199
Трубецкой С. Н. 13
Тютчев Ф. И. 176
Фет А. А. 20
Флоренский П. А. 69
Франциск Ассизский 173
Хитрово М. А. 38
Хитрозо Р. М. 38
Хитрово С. П. 34–40
Хомяков А. С. 101
Цингер В. Я. 126
Черкасов П. Г. 171
Чернышевский Н. Г. 4–5, 162
Чичерин Б. Н. 126
Шеллинг Ф. В. 69, 84–86, 101, 107, 121, 149–150
Шопенгауэр А. 69, 93–99, 128, 149, 157
Штроссмайер И. 12
Юркевич П. Д. 10, 149
Эрн В. Ф. 80, 82
Литература
1. Маркс K., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд.
2. Ленин В. И. Полн. собр. соч.
3. Вл. Соловьев. Жизнь и произведения Платона. — Творения Платона, т. 1. М., 1899.
4. Соловьев В. С. Собр. соч. в 10-ти томах. 2-е изд., б/д.
5. Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.
6. Соловьев В. С. Письма, в 4-х томах. СПб. — Пг., 1908–1923.
7. Августин. Творения блаженного Августина, епископа Иппонийского, ч. 11. Киев, 1908.
8. Аксаков И. С. Соч., в 7-ми томах, т. 4. М., 1886.
9. Амфитеатров А. Литературный альбом. СПб., 1904.
10. Безобразова М. С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве. — Минувшие годы, май — июнь 1908.
11. Белый А. Арабески. М., 1911.
12. Болотов В. В. Учение Оригена о Святой Троице. СПб., 1879.
13. Введенский А. О мистицизме и критицизме в теории познания В. С. Соловьева. — Вопросы философии и психологии, 1901, № 1.
14. Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. 2-е изд. СПб., 1904.
15. Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия XI–XIX веков. Л., 1970.
16. Голубев А. Н. Гегель и Вл. Соловьев. Границы идеалистической диалектики. — Доклады X Международного гегелевского конгресса. Вып. II. М., 1974.
17. Елеонский Ф. Учение Оригена о божестве Сына Божия и Духа Святого и об отношении их к Отцу. СПб., 1881.
18. История философии, в 6-ти томах, т. 4. М., 1959.
19. Кони А. Ф. Очерки и воспоминания. СПб., 1906.
20. Краткий очерк истории философии. 4-е изд. М., 1981.
21. Кудрявцев В. Д. Соч., т. II, ч. 1. Сергиев Посад, 1892.
22. Кузьмин-Караваев В. Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве. — Вестник Европы, 1900, № 11.
23. Лопатин Л. М. Философское миросозерцание В. С. Соловьева. — Вопросы философии и психологии, 1901, № 1.
24. Лопатин Л. М. Памяти Вл. Соловьева. — Вопросы философии и психологии, 1910, № 5.
25. Лопатин Л. М. Философские характеристики и речи. М., 1911.
26. Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы, т. 1–3. Пг., 1916–1921.
27. Макшеева Н. Воспоминания о В. С. Соловьеве. — Вестник Европы, 1910, № 8.
28. Мочульский К. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж, 1936.
29. Никольский А. Русский Ориген XIX века Вл. С. Соловьев. — Вера и разум, 1902, № 10 (кн. 2), № 24 (кн. 2).
30. Новгородцев П. И. Идея права в философии Вл. С. Соловьева. — Вопросы философии и психологии, 1901, № 1.
31. О Владимире Соловьеве. М., 1911.
32. Овсянико-Куликовский Д. Н. Что такое мистика? — Вестник Европы, 1916, № 10.
33. Отчет и речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 янв. 1874 г… ч. 2. М., 1874.
34. Петровский А. Г. Памяти Владимира Сергеевича Соловьева. — Вопросы философии и психологии, 1901, № 1.
35. Пыпина-Ляцкая В. А. В. С. Соловьев. Страничка воспоминаний. — Голос минувшего, 1914, № 12.
36. Радлов Э. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и учение, СПб., 1913.
37. Радлов Э. Л. В. С. Соловьев. Биографический очерк. — Соловьев Вл. С. Собр. соч., т. 10. 2-е изд., б/д.
38. Рачинский Г. А. Взгляд В. С. Соловьева на красоту. — Вопросы философии и психологии, 1901, № 1.
39. Розанов В. В. Около церковных стен, т. 1–2. СПб., 1906.
40. Слонимский Л. Лекция В. С. Соловьева по поводу 1-го марта 1881 г. — Былое, 1907, № 3.
41. Соловьев С. М. Биография Владимира Сергеевича Соловьева. — Соловьев В. С. Стихотворения. 7-е изд. М., 1921.
42. Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977.
43. Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. Соловьева, т. 1–2. М., 1913.
44. Трубецкой С. Н. Основное начало учения В. Соловьева. — Вопросы философии и психологии, 1901, № 1.
45. Флоровский Г. Ф. Новые книги о Владимире Соловьеве. — Известия Одесского Библиографического общества, 1912, № 1, вып. 7.
46. Цертелев Д. Памяти В. С. Соловьева. — Вопросы философии и психологии, 1901, № 1.
47. Щеголев П. Е. Событие 1 марта и Владимир Соловьев. — Былое, 1918, № 4–5.