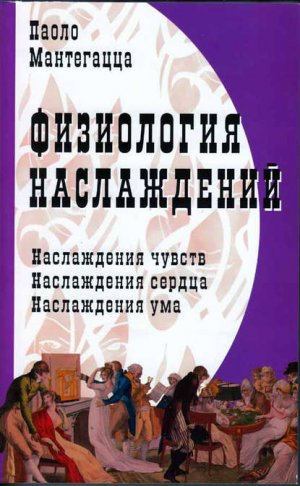
Наука о наслаждениях
«Когда мы говорим, что наслаждение есть цель, мы говорим не о наслаждениях распутников и не о вкусовых удовольствиях как полагают некоторые несведущие, инакомыслящие или дурно к нам расположенные. Наша цель – не страдать телом и не смущаться душой»
Эпикур
Известный итальянский антрополог, психолог, литератор и политик Паоло Мантегацца (1831–1910) был весьма популярным и плодовитым автором, его работы активно издавались и в дореволюционной России.
Сегодня у себя на родине, да и в других странах Европы он совершенно незаслуженно забыт. И лишь совсем недавно имя итальянского ученого, философа и изящного стилиста вновь стало возвращаться из безызвестности. Немалая заслуга в том принадлежит московскому издательству «Профит-Стайл», переиздавшему в 2011 году фундаментальную работу «Физиогномика и выражение чувств», сразу же ставшую популярной. Как и более ста лет назад с типично итальянской легкостью и жизнелюбием Мантегацца вновь стал приобретать популярность в среде российских читателей, несмотря на изобилие самой разнообразной литературы на полках книжных магазинов. Как и более века назад его успех был предопределен сочетанием таких качеств, как обширная эрудиция, изумительный легкий и, вместе с тем, изящный стиль, афористичность, а также тонкое понимание глубинной сути человеческой природы, даже самых тщательно скрываемых ее лабиринтов.
Предлагаемой книгой «Физиология наслаждений» мы хотели бы открыть еще одну грань несомненного дарования Паоло Мантегацца и уверены, что и эта его работа не останется незамеченной, ибо она поможет восполнить лакуну в современном мировоззрении наших сограждан. Дело заключается в том, что с падением коммунистической уравнительной идеологии, люди начали открывать для себя много новых красот бытия, которые были недоступны прежде. Тяга к наслаждениям стала официально поощряемой средствами массовой информации. Символы жизненного успеха начали прочно ассоциироваться с определенной стилистикой материального достатка и характерными правилами пользования им. Но вот никакой позитивной философии, направленной на умение пользоваться жизненными благами, пока не возникло. И вот здесь-то Мантегацца, нисколько не устаревший, может вновь стать арбитром наслаждений, чтобы помочь людям ориентироваться в этой сфере с пользой для себя и окружающих, а не исчезнуть, растратившись без остатка в водовороте неуправляемых инстинктов.
Легендарный Гай Цельсий Меценат, видный политик при дворе блистательного и великого римского императора Августа, исполнял именно роль арбитра изящества, формируя эстетический стиль и каноны жизнеустройства молодой и стремительно растущей Римской империи, чем и обессмертил свое имя, сделав его нарицательным. Управление красотами бытия – это важнейший вопрос государственной политики, и его нельзя доверять неграмотным шарлатанам, от природы наделенным дурновкусием. Эпоха «дикого капитализма» в современной России миновала, и если государство желает иметь презентабельный вид перед лицом своих сограждан и на международной арене, оно со всей неизбежностью должно научиться управлять этой сферой своей жизнедеятельности.
Пожалуй, нигде, как в России, не существует такой пропасти между академической философией и тем, что принято называть житейской мудростью. Обе относятся друг к другу почти с нескрываемым презрением. Народ наш на протяжении всей своей истории показывал подлинные чудеса умения жить красиво, предаваясь всем мыслимым и немыслимым видам удовольствий, от самых незатейливых до самых возвышенно поэтических, слагая при этом свою житейскую философию, неизменно оправдывающую такую стратегию поведения и ее мораль. Но никогда эта житейская мудрость народа не прорастала из глубин народного самосознания на уровень академической философии. Ни одна национальная школа философии так не скучна и выхолощена всякими «измами», как философия русская. Так называемый «русский космизм» с его всечеловечностью – апофеоз глумления и издевательства над природным жизнелюбием и смекалкой русского человека. Разительный контраст с данной тенденцией составляет русская классическая литература, которая признана так высоко во всем мире и столь популярна, именно потому, что она не оторвана от жизни, а отражает всю суть ее глубинных процессов с самых неожиданных сторон и в необычайно яркой форме.
Именно поэтому всякий маломальский успешный средний соотечественник инстинктивно сторонится философии, чувствуя в ней некую призрачную антитезу своему реальному существованию. В западной системе ценностей такого разрыва нет, и цитата из Эпикура, приведенная в качестве эпиграфа, ясно характеризует такое положение вещей. Теория и практика там были традиционно связаны более крепкими узами на протяжении столетий. Увы, но даже в Новое время ни экзистенциализм, ни персонализм не стали прочными достояниями нашей философской школы, ни тем более такое направление как «философия жизни».
Сама книга Паоло Мантегацца отражает закономерный процесс развития европейской философской мысли в целом, но представляет определенный этап, так как при всех видимых художественных достоинствах могла появиться на свет только благодаря новейшим на то время открытиям в области антропологии, психологии, психиатрии и неврологии. Мантегацца одним из первых начал объяснять, как правильно пользоваться своим телом, душой и умом для того, чтобы извлекать максимальный эффект из своего бытия без ущерба для себя. До него сочинения такого жанра носили занимательный характер, а Мантегацца попытался подвести строгую научную базу естественных наук под жизнеутверждающую философию. Именно в этом и состоит непреходящая ценность данного сочинения, в котором автор сформулировал принципы новой науки.
«Эдонтология – это наука наслаждений. Скрываясь, то под маской людской стыдливости и лицемерия, то в извилинах личной совести, то посреди учреждений народной цивилизации, искусство наслаждаться – оказывается разбросанным по земле мелкими кусками и клочьями, и фрагменты его можно встречать везде, где бы ни проходил одинокий человек или целая народность.
Если люди считают занятием вполне невинным – дело разыскания нравственных наслаждений и распространения их по земле, среди наиболее обширного круга личностей, то нельзя заподозрить, в грехе эпикурейских стремлений, желание мое положит начало существованию науки, которой я дал имя эдонтологии, имя составленное мной из слов греческого корня.
Ненасытная погоня за наслаждениями, в ущерб всему прочему, предпочтение, отдаваемое ему перед всеми остальными постоянное измышление новых для себя наслаждений и добывание себе всего приятного – бывает несомненным признаком более или менее утонченного эгоизма, сбитого повсеместно ума и крайней испорченности сердечной, – все это не имеет ничего общего с наукой эдонтологии. Это можно назвать только похотью к наслаждению. Но изучение источников этого ощущения, осведомление об их происхождении и о конечной цели самого наслаждения анатомические исследования, искусно производимые над его элементами – все это принадлежит к вопросам как философии, так и политической экономии.
Начала эдонтологии основаны на совершенстве хода нашего умственного механизма, на топографическом положении человека среди мироздания, состоя притом в интимной связи с длинной повестью человеческого сердца», – так определял суть созданной им новой науки Паоло Мантегацца, цель которой состоит в анализе и классификации всех известных видов наслаждений, которые он разделил на три группы.
Первая – чувственные наслаждения, источником которых являются ощущения органов зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Вторая – наслаждения сердечных чувств. Третья – умственные наслаждения. В этом анализе человек предстает как на ладони, во всех своих физиологических и тонких душевных проявлениях. Ученый рассматривает физиологию наслаждений плотской любви, любви к самому себе, дружбы, а также удовольствия от различных видов искусств и творческих видов деятельности, упражнений мысли, фантазии и памяти.
Мантегацца подчеркивает, что своей книгой хочет сформировать основы целой философии радости, а не примитивное оправдание удовлетворения низменных страстей. Любовь к родине, истине, справедливости – это не обезличенные формы долга перед гражданским обществом, а естественные и сугубо индивидуальные формы наслаждений. Любовь к борьбе и поиск правды тоже. Логическая гимнастика ума и фантазии дарует наслаждения сравнимые по интенсивности ощущений с упражнениями мускулов тела. Очень важно отметить, что итальянский философ учил как быть красивым, умению выбирать партнера в браке, искусству жить долго, оставаясь здоровым и счастливым, и все это на основе наследственных качеств человека, задолго до открытий в области генетики альтруизма. Изобретенная им наука уникальна еще и тем, что на основе анализа и структурирования наслаждений отдельного человека Мантегацца создал концепцию «этнографии наслаждений», ибо совершенно очевидно, что различные народы и расы всех частей земли стремятся к различным гаммам наслаждений и все стараются удовлетворять их на свой лад, что видно из всего многообразия национальной культуры. Как подлинный ученый, а не салонный романтик он исследовал и патологические формы наслаждений, анализируя искажения здоровой человеческой природы. И нужно отметить, что пороки, так же отнюдь не интернациональны, а «разбросаны по земле мелкими кусками и клочьями» и все народы ими одарены в разной степени.
В целом жизнеутверждающую натурфилософскую концепцию Паоло Мантегацца лучше всего можно будет охарактеризовать его собственным афоризмом: «Иметь всегда в своей библиотеке новую книгу, в погребе полную бутылку, в саду свежий нетронутый цветок».
Владимир Авдеев
Краткая биография П. Мантегаццы
Паоло Мантегацца пользуется в Италии репутацией не только величайшего современного писателя в области философии, но и завидной славой антрополога и доктора медицины. Он родился в Пизе 31 октября 1831 года и, окончив в возрасте восемнадцати лет курс элементарного учебного заведения, посвятил себя изучению медицины и с этой целью слушал лекции в Пизе, Милане и Павии. По окончании курса молодой ученый не пожелал заниматься медицинской практикой. Он жаждал знания, наблюдений и ввиду этого предпринял огромное путешествие по Европе, посещая почти все государства, внимательно осматривая все выдающиеся достопримечательности центров цивилизации. На поприще писателя он выступил на 23-м году своей жизни, и первым его сочинением явилось «Za fisiologia del piacere», которую мы и даем здесь в переводе. Сочинение это было встречено с необыкновенным сочувствием, как это видно и из биографии самой книги, помещаемой нами далее, и в самое короткое время труд молодого ученого был переведен почти на все европейские языки. Книгу эту Мантегацца окончил в 1854 году и напечатал ее в Париже. Тотчас же по окончании этого сочинения Мантегацца принял предложенное ему место врача в Южной Америке и прожил там почти четыре года, продолжая с тем же прилежанием заниматься вопросами антропологии, психологии и философии вообще. В конце 1858 года он снова вернулся в Италию в качестве практикующего врача и поселился в Милане. Но ученые труды его становились все более и более популярными, слава его как мыслителя росла все больше, и, наконец, правительство предложило ему занять профессорскую кафедру патологии в Павии, а затем – кафедру антропологии в Instituto di Studii Superiori во Флоренции.
Из выдающихся его сочинений этого времени надо отметить прежде всего замечательный по глубине мысли и живости изложения огромный труд, озаглавленный «Quadri della natura umana», далее – «Elementi dell igene», «Scritti medici», «Della dispomania», «La scienze e Tarte della salute» (1859), «La generazione spontanea» (1864), «La fisiologia dell uomo ammalato» (1861), «Fisiologia del dolore» (1879, с атласом), «Fisionomica et mimica» (1881), «Dizzionaria digiene per le famigli», «Le estati umane», и т. д. Большинство этих сочинений выдержало по нескольку изданий, в особенности в Германии, где Мантегацца пользуется особенной популярностью. Его «Физиология любви» выдержала до семи изданий, «Studien tiber die Geschlechtsverhaltnisse», «Гигиена любви» и другие – по четыре и больше изданий. Но особенно выдающимся успехом пользуется и теперь еще его книга «Наш нервный век».
В настоящее время почтенный ученый издает специальный журнал, посвященный вопросам антропологии.
Независимо от серьёзных сочинений чисто научного содержания Мантегацца обнародовал и целый ряд путешествий своих, изложенных в весьма легкой и увлекательной форме. Выдающееся место среди них занимает его путешествие в Японию («Un viaggio in Japponia»), затем – его «Индия», далее «Due mese in Bulgaria». Но этого мало: многосторонний талант Паоло Мантегаццы отвел ему место и среди беллетристов, и в этой области он славен как автор увлекательнейшего романа «Непознанный бог» («Il dio ignoto»). И, наконец, он – автор замечательных по своей художественности и глубине анализа «Мемуаров укротителя зверей».
Поистине можно сказать, что Бог с избытком наградил талантами великого итальянца. Он столь же разнообразен, как и оригинален во всем, что выходит из-под его гениального пера.
Биография книги
Первая страница
Мысль о написании этой книги пришла ко мне в Павии 22 ноября 1852 года. Я написал в тот день общий план сочинения, которое было закончено 15 апреля 1854 года в Париже. Книга была написана за 185 часов, разделенных на 48 дней работы. Я не хотел читать ни одной книги, говорящей о наслаждениях, чтобы сохранить полную независимость от какого бы то ни было авторитета, и держаться одних наблюдений над самим собою и над обществом. Таким образом моя книга, хорошая или дурная, представляет простой и чуждый посторонних примесей образ мыслей одного человека. Я всегда думал, что даже самая плохая книга философского содержания не может быть совершенно бесполезной, если она написана без помощи иных книг. Она всегда может служить историческим документом для естественной истории заблуждений. Компиляции, если они не дают науке лучше усваиваемой умом формы, только загромождают библиотеки. Это – насмешка над тем прогрессом цивилизации, который измеряется некоторыми статистикой книгопечатания. Я написал эту книгу в самую бурную пору моей жизни, когда мечты о будущем, порывы страстей и иллюзии юности сшиблись в ужасном столкновении с грустной действительностью настоящего, с веющим ледяным холодом разума и с заботами жизни. Проницательные наблюдатели найдут в книге следы этой бури. Наконец я выдаю мою книгу лишь за ряд отрывков о предмете, который для того, чтобы быть рассмотренным как следует, требует более зрелого ума. Мне было раз сказано, что наслаждения уходят с юностью, возрастом радостей, и потому я захотел попытаться написать их историю в двадцать два года. Этот труд есть первый шаг по тропинке, на которую пал мой выбор как на жизненную колею; первый опыт того метода, которому я намереваюсь следовать в физиологическом изучении нравственного человека, чему я хочу посвятить мои слабые силы. Почтенные мыслители не пожалеют мне своих советов. Я не молю о снисхождении, не желаю и строгости; требую только, чтобы тот, кто будет моим судьей, прочел мою книгу от начала до конца. Если я попал не на тот путь, у меня есть еще время вернуться назад, и я буду счастлив найти друга в том, кто укажет мне, где я впал в заблуждение.
Если сознанье собственных недостатков может сделать критику менее строгой, я сознаюсь, что нахожу немного небрежным стиль моего труда. Мне служит извинением то, что я не мог просмотреть корректурных листов, будучи далеко от моей страны. Часть, говорящая об умственных наслаждениях, очень неполна; многие чувственные формы радости забыты; многие пробелы могут быть заполнены лишь историей страданий, которую я, может быть, напишу когда-нибудь после более долгого жизненного опыта. Наслаждения меланхолии пропущены, потому что они представляют небесную, туманную грань, разделяющую оба мира – мир радости и мир страдания.
Без страха и без пылкой самоуверенности я жду приговора и мысленно жму руку всем честно и мужественно ищущим истину.
Париж, 15 апреля 1854 года
Вторая страница
Эта бедная книга еще не умерла. Она была встречена с большим снисхождением и сопровождала автора в обоих полушариях среди народов трех частей света. Ей следовало бы переменить обветшалое одеяние на более новое.
Я с величайшим удовольствием воспользовался критикой честных поборников истины, и если я не мог уничтожить все недостатки моей книги, я все же надеюсь вручить ее образованной и изящной публике с меньшим числом недостатков.
Я старался изучить новые, малоизвестные виды наслаждений.
Я расширил горизонт далекими путешествиями.
Я обогатил мой труд новыми главами – о наслаждениях опьянения, об этнографии, науке и философии наслаждений.
В добрый час, моя книга: я вверяю тебя тем, кто любит истину. Не гневайся на честную критику, какой бы суровой она бы тебе ни показалась; утешь жизнь страдальца, напомни ему, что еще здесь, на земле, человеку дарована богатая жатва радостей; направь того, кто предается не совсем благородным наслаждениям, на путь лучших радостей. Ступай и вернись, согретая симпатиями моих соотечественников и уважением всех хороших людей.
Милан, 2 июля 1859 года
Третья страница
Я должен опять дать пропускную грамоту этому детищу моей юности, являющемуся в третий раз перед глазами читающей публики, и я испытываю в одно и то же время и дорогую сердцу радость, и большой страх.
Радость всем легко понять, но чтобы вы не стали искать в том греха гордости, я скажу вам с глазу на глаз, что если моя книга прожила тринадцать лет и не умерла, то обязана этим отчасти своему здравому смыслу, но главным образом своему крестному имени и той цели, которой она задалась от рождения. Всякому приятно увидеть свой образ в зеркале чужой совести; всякому приятно сопровождать в его труде человека, который с ножом в руке и с глазом, вооруженным увеличительным стеклом, вступает с целью наблюдения и изучения в те таинственные области, где нарождаются радость и страданье.
Перечитывая в тридцать пять лет то, что было написано в двадцать два года, я хотел бы умыть руки от кое-чего, что я тогда настрочил, хотел бы ножом зрелого человека очистить мою книгу от горячностей юности; но с другой стороны, тот, кто раз замарал пальцы чернилами и помирился с этим пороком на всю жизнь, должен бы был исправлять себя самого в новых книгах и лишь настолько трогать подпилком старые, насколько это нужно, чтобы ржавчина не ела рук читателя. Таким образом, все те, кто добивается местечка в литературном или ученом мире, принесли бы в произведениях разных пор жизни в высшей степени драгоценный материал для естественной истории человеческого ума и его развития. При виде того, как одна и та же книга, с переменами возраста автора и в зависимости от выпавших ему на долю превратностей, меняет форму, изламывается и преображается до неузнаваемости, я испытываю грусть и отвращение. Это – дача, превращающаяся во дворец, или сад – в площадь. Пусть это будет лучше, пусть хуже, но всегда в этом преобразовании что-нибудь да будет потеряно. Оставим юноше его расточительность, зрелому человеку – его равновесие, старику – его скупость: у всякого дерева свои плоды, у всякого возраста – свои произведения.
Вот почему в зрелом возрасте я даю вам труд моей юности, только слегка подпиленный и подструганный. Воспринимай юношу таким, каков он есть, в ожидании суда над зрелым человеком.
Павия, 12 ноября 1866 года
Четвертая страница
В течение менее чем года «Физиология наслаждений» вступает в третий цикл своего существования. Мой издатель сообщает, что ей предстоит возродиться в четвертый раз под его счастливым покровительством, и я хочу дать в спутники этому детищу моей ранней юности приветствие моей любви к нему, так как оно собралось жить долгую и небесполезную жизнь.
В ту пору жизни, когда мы уверены, что крепко стоим на самой вершине горы, только потому, что медленно спускаемся по параболе падения, я захотел прочитать еще раз эту книгу, как будто бы она была не моя; захотел произвести беспощадный экзамен совести, чтобы увидеть, является ли моя «Физиология наслаждений» нравственной книгой. Итак, если вы даете мне опасное право быть судьей самого себя, я думаю, что книга честна и что ее чтение может внушить честные мысли и подвигнуть на благородный труд. У меня нет угрызений совести: я – не льстец человеческим похотям и никогда не ласкал человеческие слабости.
Природа даровала нам широкие радости в мире чувств, но я показал, что большие радости, сообразные с природой интенсивного наслаждения, находятся на высоте чувства, в отважной борьбе страстей, в бодром труде ума.
В течение моей жизни мне довелось получить не одно красноречивое благодарственное письмо от возвышенной и благородной души, которую я сумел вырвать из изнеженных, противных природе наслаждений; от обескураженной и разбитой души, которую я смог направить к великодушным поступкам. Позвольте мне порадоваться от всей души этому сделанному моей книгой добру.
Я питаю такую веру в способность нравственной радости улучшить и возвысить человека, что мне хочется пообещать тем, кто читает с удовольствием мои книги, и всем тем, кто желает мне сколько-нибудь добра, два новых тома: «Эпикура», и первый – опыт картин человеческой природы, который повествует о «Радостях человека», написанных как картины природы и изученных как факт науки.
Лицемерие – одна из самых выдающихся характерных черт нашей современной цивилизации. И верующие, и рационалисты, – и свободные, и рабы, и великие, и малые, и целомудренные, и развращенные, – мы все до единого копошимся в густом тумане циничного скептицизма, которым мы измучены и обессилены. Итак, соберитесь, взявши друг друга за руку, и с высоко поднятым челом гляньте прямо в лицо тому, чей возглас: «Брат, учись умирать», донесся до нас через столько веков; и соберитесь, чтобы, в свой черед, воскликнуть еще громче: «Брат, учись жить».
Флоренция, 13 марта 1868 г.
Пятая страница
Эта жемчужина, издатель, присылает мне весть, что он намеревается превратить каждый лист моей книги в металлическую страницу, и, не желая новых хлопот с набором, хочет выпустить пятое последнее и стереотипное издание. От неожиданной новости меня обдает холодом страха, и я вижу со священным ужасом, как выливается в неумолимый, неизменный металл то, что я настрочил в моей ранней юности. Если это не то, тогда победив скромность и сделавшись гордым из-за этих пятисот лилипутских табличек, в которые должна превратиться моя «Физиология наслаждений», я тоже принимаю монументальный вид законодателя и пророка; и, с высоты моих скрижалей, я хочу начертать эти десять советов Эпикура, следуя которым всякий может сделаться счастливым, будь на то лишь его добрая воля.
I. Всегда работать.
II. Всегда любить.
III. Любить жену больше самого себя.
IV. Не считать никогда в активе жизненного баланса чужой благодарности.
V. Наставление вместо ненависти; улыбка вместо презрения.
VI. Из крапивы извлекать нитку, из полыни – лекарство.
VII. Нагибаться лишь за тем, чтобы поднять того, кто упал.
VIII. Иметь всегда больше ума, чем самолюбия.
IX. Спрашивать себя каждый вечер: «Что сделал я хорошего?».
X. Иметь всегда в своей библиотеке новую книгу, в погребе – полную бутылку, в саду – свежий нетронутый цветок.
Флоренция, 10 марта 1870 года
Введение
Наслаждение есть элементарный, неопределимый сам по себе феномен жизни. Цель этой книги – его видимые проявления и история; будь это не простой набросок, а многотомное сочинение, сущность наслаждения осталась бы все же без определения. Впрочем, определение предмета, известного всем, о специфической действительности которого нет сомнения, есть чистая роскошь логической гимнастики, от которой я отказываюсь без угрызения совести. Тому, кто, будучи другого мнения, настоятельно потребовал бы определения, я отвечу, что дал его вместе с этой книгой, представляющей хотя очень многословное на вид, но неполное и недостаточное по моему мнению, определение.
Наслаждение есть ощущение, почему и имеет общие черты с этим жизненным проявлением. Существенные, составляющие его элементы – суть, вследствие этого, результат какого-нибудь внутреннего или внешнего влияния на одну из чувствительных точек нашего тела; частное изменение, воспринятое чувствительным волокном, и сознание ощущения. Этот феномен принадлежит, таким образом, нервной системе и как ощущение может иметь первое начало в периферических нервах и цереброспинальном центре. Иногда наслаждение (исходит прямо из чувствующего нерва, изменяясь частным образом, и центры не получают ничего, кроме сознания о том, что происходит в нерве. В другой раз нервы передают головному мозгу впечатление, которое, разнообразно изменяясь, создает наслаждение; или же сами центры перерабатывают прежние, собранные чувствами материалы и производят приятные ощущения. В этих двух последних случаях наслаждение происходит в мозгу и может распространиться по периферическим нервам, чтобы облегчиться от чрезмерного напряжения и показать свою особенную физиономию.
Характерные черты, которыми ощущение наслаждения отличается от других ощущений, неведомо, и должно состоять, по всей вероятности, в некотором частном изменении чувствительной нервной мякоти, которое ускользает от чувств. Это специфическое изменение может составить единственный элемент ощущения или может соединиться со многими другими частными изменениями и создаст столько же наслаждений, отличающихся один от другого, но согласных в их общем характере.
Наслаждение почти всегда есть усиленное ощущение, проявление излишества местной или общей силы. Пользование им требует траты материи и представляет, как и все другие явления жизни, параболу. Наслаждение растет до самой высшей точки и потом убывает, пока не исчезнет совершенно. Чем короче линия, соединяющая эти две различные стадии, тем сильнее наслаждение, и наоборот. У некоторых наслаждений линии роста и убыли до того растянуты, что трата силы на пользование ими распределяется на бесконечное течение времени, и ощущение, дойдя до последней точки падения, может снова воспрянуть и образовать новую параболу. В этих случаях лишь начерченная ощущением, она может казаться почти прямой, как дуга очень большой окружности.
Во всяком случае, каждый класс наслаждения получает при зарождении некоторую сумму силы, которая может быть увеличена лишь потерей материалов, предназначенных для других радостей. Слабый бред чувств уничтожает высшей степени жадным огнем топливо, предназначенное для поддержки жизни спокойных радостей ума, и ум, жаждущий возвышенных наслаждений, находящихся лишь на известной высоте, должен стоять на пепелище ощущений и чувств. Здесь, как и в других случаях, сила зависит от растянутости.
Вообще наслаждение всегда имеет свою причину и сопровождает удовлетворение потребности. Если оно не имеет прямой цели, оно способствует украшению жизни и этим заставляет любить жизнь и защищать ее от враждебных сил. Когда наслаждение есть причина или результат зла, мы попадаем в патологические условия.
В первом случае человек, будучи свободным, злоупотребляет благом, которое до некоторой степени находится в его власти, и потому представляет собой явление нравственной патологии. Во втором случае органическое поражение чувствительных центров или периферических нервов извращает порядок вещей и служит порождению наслаждения из зла. Вот почему образуются два класса наслаждений: физиологические и патологические. Первые сообразны с естественными законами организации, и потому не только не вредят ей, но сохраняют и улучшают, между тем как вторые всегда составляют упорство или болезнь.
Наслаждения – это не предметы, существующие сами по себе, но нужные и таинственные факты, известные нам лишь через сознание. Они не существуют независимо, но образуют один из моментов или одно из простых явлений жизни! Вследствие этого, разделяя с людьми фатальный недостаток необходимости резать и раздроблять предметы для их изучения, я разделю наслаждения на разные классы, взяв за основание классификации источники их происхождения. Я разделю их на следующие три класса:
I. Наслаждения чувств.
II. Наслаждения сердца.
III. Наслаждения ума.Я не считаю должным обосновывать это разделение, которому я не придаю никакой важности, и которое я принял как средство, годное для сближения схожих между собой фактов! Я хочу сказать то же самое и о моей классификации умственных способностей. Моя книга – простой труд наблюдения и анатомического анализа, и я по возможности держусь как можно дальше от теорий и гипотез.
Анализ
Часть первая. Наслаждения через ощущение
Глава I. О наслаждениях осязания вообще
Весьма важная часть нервной системы, распределенная по периферии нашего тела, заявляет нам о впечатлениях, приходящих к нам извне, и о молекулярных изменениях в самых тканях нашего организма. Наше «Я» входит таким путем в общение с внешним миром и сознает изменения, совершающиеся в нашем теле. Органический аппарат, предназначенный для этой функции, составляет то чувство осязания, которое можно разделить и по его сути, и по целям, им достигаемым.
Ощущения, сосредоточенные в руке и составляющие собственно осязание, знакомят нас с физическими и математическими свойствами окружающих нас тел. Другие виды осязания заявляют о происходящих в мире изменениях не столь механического свойства (темперы, степени электричества и т. д.) и о видоизменениях в составе собственного нашего тела.
Третья, наконец, категория родственных осязанию ощущений имеет целью сближение полов ради продолжения великой функции деторождения и потому называется половой или эротической.
Такое искусственное деление наших ощущений на три категории необходимо здесь для рассматривания наслаждений, происходящих из чувства осязания.
Наслаждение, добываемое чувством осязания, в мире животных должно встречаться чаще иных удовольствий, так как создание, одаренное впечатлительностью, может не приходить в соприкосновение с другими телами, различно на него влияющими. Из самого этого разнообразия должно проистекать удовлетворение функции следовательно – наслаждение.
Инфузория или амёба, тело которой состоит из мягчайшей субстанции, изменяет ежеминутно свою форму, принимая облик от каждого встреченного им предмета и вбирая притом в себя всей окружностью своего тела все органические вещества, служащие ей пищей. Ежели такое создание, как амёба, может вообще иметь сознание чего-либо, то оно не способно испытывать иных наслаждений, кроме удовольствия чувства осязания, которое при встрече животного с разнообразными предметами должно доставлять ему разнообразие ощущений.
Начиная с этой низшей формы оживленной материи и восходя по ступеням жизненной лестницы, наслаждения осязания должны возвышаться по мере того, как усложняются и самый осязающий аппарат, и нервный центр, которому ощущения доносятся нервами, как телеграфными нитями.
Приятные ощущения достигаются нами, когда мы воздействуем одним телом на другое, более или менее уступающее напору. Мы любим, например, вбивать гвоздь в деревянный предмет, раскалывать дерево, строгать и т. п.; но эти последние удовольствия усложняются желанием добиться цели и другими элементами, происходящими из начала высшего рода.
Указав на некоторые удовольствия, доставляемые чувством осязания, я вовсе не претендую на перечисление всех наслаждений этого рода. Не могу, однако, обойти молчанием ощущение, производимое щекотанием, заслуживающее особенного внимания. Легкое затрагивание некоторых мест тела собственными или чужими пальцами (например, подошвы ноги, углубления подмышкой, живота и вообще всех сочленений), производит ощущение, совершенно отличное от вышеупомянутых наслаждений. Приятно бывает это ощущение только на малое время и только до некоторой степени; затем, доводимое до крайности, оно становится невыносимым и превращается в чувство болезненное и отвратительное. Вначале щекотание вызывает сдавленный смех и почти конвульсивные движения тела, желающего освободиться от щекочущей руки. Лицо разгорается, приятное ощущение пробегает по всему телу, пульс ускоряется, дыхание становится неправильным и затем удовольствие прекращается, и человек, выведенный из терпения, старается освободиться и убежать. Смерть бывает иногда последствием слишком сильного щекотания.
Феномены эти до крайности странны и вполне заслуживают внимания физиолога, тем более что проистекают они из явлений, весьма обычных для нервной системы. С одной стороны, мягкое прерывистое движение, с другой – сильная, удивительная реакция всех мускулов, сокращаемых, наконец, настоящими конвульсиями. Отношение между причиной и последствиями совершенно непропорционально и заставляет предполагать, что ощущение, производимое щекотанием, стоит уже на грани между здоровьем и заболеванием и принадлежит к удовольствиям патологического свойства.
Удовольствия, доставляемые чувством осязания вообще, могут дать человеку несколько приятных минут, но они не могут прибавить ничего к счастью его жизни. Ими не совершенствуется даже и само осязание, злоупотребление же ими доводит до изнеженности, а иногда – и до разврата. Римляне времен империи умели мастерски пользоваться подобными наслаждениями, ставшими в настоящее время достоянием изнеженных народов Азии. Усовершенствования, вводимые в них, всегда служат признаком глубокого падения народов и извращений ума и сердца. Те же упражнения осязания, которые производятся при помощи технических инструментов, например, в ремеслах, чрезвычайно способствуют развитию чувств осязания. До совершенства доводят только руки особых специалистов, обладающих притом значительной силой.
Для множества низших животных способность осязания существует только в некоторых частях тела, остальная же периферия бывает покрыта жёсткой и чувствительной корой. Но чем более животное приближается к высшим типам, тем более расширяется в его теле пространство чувствительной кожи и тем устанавливается все более и более точек соприкосновения между внешним миром и центром понимания и чувства. Ни в одном животном, однако, чувство осязания не доходит до такого совершенства, как у человека. Он снабжен дивным инструментом, умеющим и схватывать своими тонкими двигателями мельчайшие предметы, и, скользя по более крупным, служить им и подъемной машиной, и осязающей силой, и средством передачи центру нескончаемых известий. Кожа его, почти лишенная волос, до крайности чувствительна, а цивилизация, заставив прикрывать тело, придала ей еще более нежности и впечатлительности. В половых органах его развита притом тонкость ощущений, усугубляющая наслаждение.
Кроме обычных условий всякого удовольствия, при наслаждении осязанием следует выделить три составных элемента, впечатление, производимое внешним или внутренним телом на ощущающую часть периферии, устройство передаточного нерва и сущность того центра, который, воспринимая впечатление, обращает механический факт сближения двух тел в факт динамический, т. е. в ощущениях). Малейшее изменение в этих трех элементах изменяет и свойство самого ощущения, делая его или индифферентным для нас, или более или менее приятным, или болезненным.
Оставляя совершенно в стороне ощущение боли, вовсе в настоящее время нас не касающееся, рассмотрим, каким образом один и тот же предмет может производить безразличное и приятное впечатление. В виду этого мы должны исследовать сам процесс наслаждения осязанием.
Ощущающий аппарат, состоящий из центрального аппарата и нервов периферии, расположенных по органам, способствующим их деятельности, вступил в свои функции и начал требовать себе удовлетворения. Правильное отправление функции сопряжено с удовольствием только тогда, когда ум сознающий не отвлечен от восприятия ощущений ни своим мышлением, ни другими ощущениями. Чем сильнее чувствуется необходимость в отправлении функции вообще и чем интенсивнее внимание умственных сил, тем ярче становится удовольствие. Это вполне можно проверить и чувством осязания. Младенец, еще не ведающий того мира, в котором он должен жить, уже чувствует сильную потребность ознакомиться со свойствами предметов, его окружающих, и потому всесильный инстинкт заставляет его прикасаться ко всем предметам, находящимся в пространстве, доступном для ручонок. Он то проводит по ним руками, то поднимает их или бросает оземь, то снова берет их, передавая их из одной руки в другую, – словом, производит все те странные телодвижения, которые называются несведущею толпою игрой малого ребенка. В упражнениях этих первых чувств осязания младенец находит громадное удовольствие, что доказывается светлым выражением его лица и смехом. Он действительно обладает в это время всеми элементами наслаждений: необходимостью упражнения, новизной ощущений и интенсивностью внимания. И он в это время наслаждается радостями, свойственными его возрасту и худо понимаемыми в более зрелые года. Но младенец ознакомился мало-помалу с предметами, его окружающими; они уже не могут доставлять ему прежних радостей, он более не нуждается в этих предметах, и они уже перестали привлекать к себе его внимание. Тогда он отыскивает себе новый источник удовольствий, пробуя над этими же самыми игрушками опыты своей двигательной силы. Разбивая или разрывая окружающие его предметы, он производит над обломками новые наблюдения и открывает себе таким образом новый источник радости. Но вот и обломки вещей изучены вполне, и младенец, поднимая ручонки с растопыренными пальчиками, ищет новую пищу своим ощущениям. Новые предметы для игры доставят ему тем более радости, чем менее они походят на прежние, и на них он еще раз возобновляет попытки своего всеистребляющего анализа. Но младенец становится ребенком, отроком и теряет прежний источник удовольствий, так как вокруг его всё изведано, и привычка сделала его невнимательным к ощущениям, доставившим ему такое богатство наслаждений в первые годы его жизни.
Ежели взрослому нет возможности при всей интенсивности внимания и всей силе фантазии, извлечь из кусков папки те наслаждения, которые он чувствовал ребенком при их истреблении, то, тем не менее, многие из удовольствий чувства осязания еще остаются ему доступными.
Тела вполне уже изведанные могут особенностью своего строения возбудить приятные ощущения в человеке, который, не будучи удручаем другими мыслями, обратит на них достаточное внимание. Так в минуту бездействия и покоя мы охотно занимаемся иногда проведением рукой по шелку или бархату, расчесыванием пальцами длинных прядей тонких волос или приминаем тонкий слой только что выпавшего снега. А между тем невнимательный или занятый иными мыслями человек способен пройти босиком по разостланной куньей шубе и не почувствовать при этом ни малейшего удовольствия. Но и обращая полнейшее внимание на осязаемое, не всегда удается вызвать в себе приятное ощущение. Чтобы насладиться всей нежностью этих ощущений, потребно тончайшее осязание, а оно выпадает на долю не всякого. Неизвестные нам причины, кроме того, сокращают время удовольствия при соприкосновении некоторых тел. Вовсе не надеясь открыть здесь неизведанные еще тайны ощущений, мы попробуем, однако, анализировать хотя бы поверхностно некоторые известные всем факты.
Тело, прикасающееся к нервам ощущения, не должно нарушать гармонии их строя, оно должно упражнять чувство, не утомляя его. Краткие интервалы отдыха при возможном разнообразии ощущений приносят иногда величайшее удовольствие чувству осязания. Удовольствия, добываемые таким образом, происходят не от простого упражнения естественной функции. Постараюсь разделить на группы удовольствия, доставляемые чувством осязания.
Есть особое наслаждение в поглаживании и потирании гладких и ровных тел, например, мрамора, металлов, талька, мыльного камня и т. п. Такое удовольствие длится, разумеется, одно мгновение и ограничивается местным ощущением; оно бывает тем живее, чем новее прикосновение и чем непривычнее к нему наша периферия. Так, прикосновение животом к мрамору ванны может доставлять иногда более удовольствия, чем прикосновение к нему рукой.
Удовольствие ощущается при соприкосновении с кожей тел, составленных из множества мягких упругих или гладких элементов. Осязание как-то странно изощряется в подобных случаях. Тончайшие нервные нити, приходя в соприкосновение с телом, которое упражняет их, не раздражая, порождают удовольствие. Это наслаждение может продолжаться долее первого и распространяется по нервам, производя содрогания и даже вздохи. Такое впечатление производят на наши нервы соприкосновение их с мехами, с тюками шелка, с прядями волос, со слоем свежего снега, хрустящего под ногами, с прижатыми к земле кристаллами снега.
Иногда, совершенно напротив, удовольствие возникает вследствие прикосновения к нам тел, слегка шероховатых, когда мы скользим ими по коже или растираем их между рук. Удовольствие подобного рода возникает в нас, когда мы проводим рукой по странице, исписанной и посыпанной песком, когда растираем среди пальцев сахар или песок, когда мнем на ладони хлебный мякиш и т. п. Удовольствие в этом случае происходит, кажется, от того, что раздражения воздействуют довольно сильно на некоторые нервные окончания, оставляя смежные с ними в покое; оно может продолжаться не долее нескольких мгновений.
Можно находить еще удовольствие в уминании мягких тел, которые, не приставая к коже, принимают в руках наших разнородные образы. Это приятное впечатление усложняется еще и чувством зрения, которое любит всматриваться в постоянное изменение форм окружающей нас материи. Такие же ощущения испытываем мы, когда мнем в руках хлебные шарики, воск, мел и тому подобные материалы. Уминая в тонком слое воды редниный мешок с мукой для приготовления клейстера, мы испытываем такого же рода удовольствие, а также при пожевывании резины промеж зубов. Но в этих последних случаях чувство осязания раздражается до степени, часто переходящей в болезненное состояние; руки не переставали бы переминать мякиш, и зубы не переставали бы жевать неподдающуюся резинку, пока разум или усталость мускулов не положат конец легкомысленной забаве. И эти удовольствия не распространяются далее занятой ими местности.
Мы тешимся иногда повертыванием в руках цилиндрических тел небольшого диаметра – например, карандашей. Чувство осязания тоже удовлетворяется, когда мы вертим под ладонью совершенное сферическое тело. И это удовольствие – тоже чисто местное, но может достигать значительного напряжения (интенсивности). Источник осязательных радостей представляет нам поигрывание с эластичными, легко сжимающимися телами, так же легко принимающими свой прежний вид и вызывающими тем новый толчок с нашей стороны. Такое же удовольствие производит в нас сгибание эластической пластинки и сжимание в обеих руках кожаного пузыря, наполненного воздухом.
Еще новое удовольствие осязанием производит взвешивание в руке малообъемного, но тяжелого тела (например, ружейной пули) или игра с пушечным ядром.
Глава II. Удовольствия, доставляемые общим чувством осязания. Удовольствия патологического свойства
Удовольствия, доставляемые человеку осязанием, распространенным по всей чувствительной поверхности его тела, отличаются друг от друга и сообразно потребностям, ими удовлетворяемым, и сообразно частям тела, служащим в каждом данном случае орудиями ощущения. Некоторые из них почти тождественны с удовольствиями специфического осязания, т. е. осязания рукой; другие же, напротив того, происходят в более глубоких частях организма и существенно отличаются между собой.
Изменения в температуре окружающего нас воздуха бывают источником бесконечных для нас наслаждений. Приятные ощущения подобного рода естественно делятся на два рода удовольствий: на ощущения, передающие тепло нашему телу, и на те, которые избавляют его от излишней теплоты. Находясь в слишком разгоряченной воздушной среде и не имея притом возможности освободиться ни от избытка теплоты, в нас самих постоянно зарождающегося, ни от жара, гнетущего нас извне, мы чувствуем непреодолимое желание освежиться, с жадностью отыскиваем предметы, способные избавить нас от излишнего тепла. Удовлетворение этой способности возбуждает в нас различные наслаждения, смотря по тому, чем освобождаем мы себя от гнетущей нас теплоты: доступом ли к нам холодного воздуха, жидкостью ли, водой (в большинстве случаев) или прикосновением к какому-либо плотному холодному телу. Чтобы оставаться приятным, охлаждение, разумеется, не должно длиться долее потребности. Подобного рода удовольствия возбуждают в нас дуновение вечернего ветра в конце томительно-жаркого дня, обмахивание разгоряченного лица веером, приближение к окну душной комнаты или выход из спертой атмосферы зала, наполненного людьми, на свежий воздух. Колебание около нас воздуха может, впрочем, доставлять удовольствие и помимо степени окружающей нас температуры; так и ветер, щекоча подкожные нервы, приятно упражняет их. Это, впрочем, дело личного вкуса и особенностей сложения каждого человека. Иной не выходит из дома во время ветра, чтобы не возвращаться усталым и не в духе; другой, напротив того наслаждается прогулкой в ветреную погоду и любит стоять неподвижно на палубе корабля, когда ветер надувает паруса и нос корабль по пространству. Я старался изучить впечатление от ветра на человека, прогуливаясь вдоль берега озера, слегка взволнованного бурей, то подставляя свою особу напору ветра, то укрываясь под защиту огромного и крепкого зонта. При подобной прогулке чувствуется двоякое удовольствие: одно состоит в противодействии силе ветра и, следовательно, в преодолении препятствия, другое, в приятности чувствовать, как чуждая нам безвредная стихия грозит оторвать нас от земли и унести в пространство, а затем она же ластится к нам, проникая в нервы кожи через ткань одежды. К подобному же роду наслаждения принадлежит и удовольствие стоять на площадке локомотива с лицом, обращенным в ту сторону, куда стремится поезд.
От избытка тепла холодная вода избавляет нас быстрее и успешнее, чем воздух, а механическое давление ее на тело производит само по себе наслаждение своего рода. Возбуждаемые ей ощущения чрезвычайно разнообразны, смотря по тому, опускаем ли мы в воду один только член нашего тела, погружаемся ли мы в нее целиком, опрыскиваем ли мы себя водой или наслаждаемся холодной струей, падающей с высоты на какую-либо часть нашего организма. К удовольствиям подобного рода принадлежат умыванье, купание, холодные ванны, душ и т. п.
Приносить нам удовольствие, освежая нас, могут только те плотные тела, которые служат хорошими проводниками тепла. Степень приятности этих ощущений зависит от форм и свойств самых тел, от способа прикосновения к ним и от той части тела, к которой они прилагаются. К подобному роду удовольствий относятся надевание свежего полотняного белья, лежание между простынь такого же свойства, приближение раскрасневшегося лица к мраморной плите, потрагивание разгоряченными руками металлических и стеклянных предметов и т. п.
Противоположностью этим наслаждениям, прохладе и освежению – служит прибавление нашему телу тепла, когда в нем ощущается недостаток. Можно сказать утвердительно, не боясь ошибиться, что удовольствие согреванием вообще сильнее в людях, чем наслаждение прохладой. По всей вероятности, это происходит от того, что сама чувствительность наших нервов увеличивается от теплоты. Так, холодная ванна успокаивает эротические пожелания, между тем как жаркая баня возбуждает их. Чтобы не входить в ненужные здесь подробности и не распространяться об удовольствиях, доставляемых человеку теплом, скажу только, что они продолжаются дольше, чем приятность охлаждения, и что им свойственно увеличиваться, по мере их вкушения. Так, например, вспомним, что удовольствие улечься летом между свежих простынок мгновенно улетучивается, так как белье немедленно впитывает в себя теплоту нашего тела. Напротив того, зимой мы с трудом можем решиться оставить одеяло, согретое в течение ночи собственной теплотой нашей, и требуется иной раз немало усилий и напряжения воли, чтобы выйти из постели на зимний холод.
Нет надобности ни перечислять здесь всех приятных ощущений, доставляемых нам температурой воздуха, ни уяснять, почему удовольствия эти изменяются с условиями климата и ходом времен года. В Гвинее или на острове Мадейра, где царствует круглый год однообразие вечного лета, удовольствия эти бывают менее ощутимы, чем в наших краях, где, благодаря чередованию различных времен года, мы пользуемся удовольствием четырех различных климатов.
Личные особенности каждого (идиосинкразия) при пользовании климатическими удовольствиями разнообразны до бесконечности. Иной, обрызгивая себя водой на берегу реки или стоя под мелким дождем холодного душа, вздрагивает от наслаждения и пользуется полным здоровьем только с наступлением морозов. Другой, напротив того, сжимается болезненно, при малейшем дуновении холодного ветра и круглый год вздыхает по жгучей температуре июльского полудня и по палящим солнечным лучам. Немногие (счастливцы, к которым принадлежу и я) потирают от удовольствия руки при виде выпавшего снега и с наслаждением прислушиваются к скрипу январского снега под их ногами. А между тем они же могут без вреда здоровью переносить прямые лучи палящего июльского солнца и с восхищением чувствовать, как жар все глубже и глубже проникает в организм их, производя в нем сложное ощущение неизъяснимой неги, – наслаждение, доступное, впрочем, во всей полноте своей только разве нищим Неаполя.
Присутствие в воздухе электричества, несомненно, влияющего на благосостояние наше, должно само по себе производить на организм более или менее приятное впечатление, а главное – оно должно значительно модифицировать удовольствия, приходящие к нам от других причин. Но мы не владеем никакими данными для определения этих источников влияния и вообще оказываемся совершенными невеждами в распознавании различных элементов, влияющих как на атмосферу различных стран, так и на изменения воздуха в разные часы дня. Самые усовершенствованные инструменты показывают только едва заметные изменения в воздухе двух гемисфер, между тем как легкие наши ощущают разницу в воздухе при расстоянии нескольких верст.
Мы не умеем изучать физические части, составляющие наш организм, иначе как разрезая их в трупах животных, но пока мы сами живы, мы не перестаем, однако, получать от каждой подобной части ощущение, заявляющее о ее бытии с его особенностями, и все эти лишения, сливаясь, объединяются в нашем сознании. Таким образом, закрыв глаза, не давая развлечь себя ничем внешним и посторонним, мы испытываем ощущение собственного своего бытия и собственного своего организма во всей его совокупности. Этот простейший психический феномен производится, с одной стороны, беспрерывными воздействиями живой материи на нервы ощущения, с другой – нашим сознанием, которое, констатируя эти впечатления, объединяет их. Это – основной феномен жизни, который должен происходить разно – в разных животных, в разных индивидуумах человечества и в разные моменты жизни одного и того же человека. Ежели бы была возможность обозначить видимым и верным знаком этот факт с его разновидностями во всех живых существах, тогда образовалась бы градация формул, объяснивших бы разнообразную жизненность живых существ. Чем бы, однако, ни оказался этот феномен, он все же принадлежит, несомненно, к области чувства осязания, и как таковой он может стать источником бесчисленных наслаждений. Когда совершенно здоровы все органы человека и когда действует со всей свойственною ей силой неуловимый механизм ума, тогда человек ощущает самого себя и наслаждается жизнью, испытывая при этом одно из наипростейших и между тем наисложнейших удовольствий своего бытия. Это удовольствие свойственно всем возрастам, всем временам и всем странам. Не иметь возможности насладиться им – болезнь, свойственная меланхоликам, ипохондрикам и щекотливым людям. Это – одно из наименее интенсивных удовольствий, но зато оно может продолжаться всю жизнь, и только сильная боль приостанавливает его течение, временно заглушая его. В молодости, однако, удовольствие это испытывается в полной силе; только юноше прилично наслаждаться окружающим миром, гордясь сознанием собственных сил, с улыбкой на лице, от которого радость жизнью отражается живыми лучами. Это – вообще как бы первобытное удовольствие; оно – вовсе не продукт цивилизации или какого бы то ни было усовершенствования нашей природы. Еще первый человек, любовавшийся окружающей его природой, оглянувшись на самого себя, почувствовал, вероятно, то же удовольствие самоощущения, с которым глядит, улыбаясь, младенец, приподнявшись в своей люльке, и с которым здравый умом и телом, философ, покончив с размышлением и умственным трудом, потягивается и потирает себе руки.
Сон составляет одну из самых настойчивых потребностей жизни; удовлетворение этой потребности не сопровождается, однако, никакими удовольствиями, так как сон прерывает внимание и затмевает самое сознание человека. Приятными оказываются мгновения, немедленно предшествующие сну, когда мысли начинают прекращать свою деятельность и во всем теле начинает сказываться успокоение.
Чтобы вполне насладиться этими блаженными мгновениями, иные велят будить себя за некоторое время обычного часа своего вставания, так как утром этот процесс засыпания, совершаясь медленнее, бывает еще приятнее, чем с вечера. Сновидения могут возбуждать в нас иногда чувство удовольствия, но так как они относятся к разряду наслаждений более умственных, то о них будет упомянуто в своем месте. С потребностью сна смешивают иной раз желание отдыха. Удовольствия, доставляемые отдыхом, иной раз так велики, что люди предпочитают их величайшим наслаждениям. Их испытывает в полной силе выздоравливающей, который, встав в первый раз с постели после долгой болезни и сделав несколько шагов, снова опускается на кровать и с наслаждением предается отдыху. Тогда, ежели только болезнь не оставила и следов страдания, человек засыпает с чувством совершенно райского наслаждения. Мельчайшие точки тела, получив от истощения болезнью небывалую чувствительность, становятся как бы сами небольшими центрами ощущений и чувствуют невыразимую негу от мягкого соприкосновения с ложем.
Мускулы опускаются в состояние полнейшего успокоения; кое-где бьется трепетно артерия и сладостно бьется сердце; усталость как бы уходит в дерево кровати под видом теплого, дрожащего тока и, наконец, нисходит блаженный сон, как друг давно желанный. Сходные с этим удовольствия испытываются теми, кто ложится после долгого бега или утомительного движения вообще. По большей части наслаждение отдыхом распространяется по всему организму, но оно бывает и местным, когда к отдыху расположена какая-нибудь одна часть тела.
Существует род весьма живых удовольствий, совершенно противоположных вышеупомянутым наслаждениям покоя и отдыха. Они состоят в упражнении членов передвижением мускулов или движениями всего тела; в обоих случаях наслаждение ощущается только тогда, когда движение отвечает потребности организма. Укажу здесь только на некоторые приятные ощущения подобного рода, предоставив себе говорить о других позднее, как об играх и обычных людям развлечениях. К весьма легким приятностям жизни причисляются грызение орехов, помахивание рукой, постукивание пальцами по столу, трясение ногой и т. п. Удовольствия, общие для всего тела – это прогулка пешком, бегание взапуски, прыгание, езда верхом или в экипаже, танцы, качание на качелях и т. п. Эти последние упражнения доставляют живейшее удовольствие в первую пору молодости и людям, привычным к упражнению мускулов. Крупные функции растительной жизни как вовсе не подлежащие области воли не могут доставлять удовольствие человеку иначе как только в отрицательном смысле. Печень, сердце, селезенка могут заставить нас ощутить удовольствие только в те минуты, когда в них на время утоляется могущее произойти в них страдание. Впрочем, и они во время полнейшего здравия участвуют в том синтетическом ощущении жизни, о котором говорено было выше. Дыхательные органы, состоя, напротив того, в прямом общении с внешним миром, могут предоставить нам удовольствие более или менее отрицательного свойства.
Ежели бы к нашим легким не прикасался никогда зловонный и душный воздух, то мы не наслаждались бы так сознательно атмосферой чистой и свежей. Ежели бы не раздражались так или иначе слизистые оболочки дыхательного аппарата и гланды слюнотечения – нам неизвестно было бы во всей полноте своей наслаждение чихнуть. Ежели бы внутренняя оболочка дыхательного горла не подвергалась энервации или скуке – мы не знали бы наслаждения зевнуть на свободе. Ежели бы, наконец, никогда не заболевали у нас, так или иначе ткани легких – нами не испробована была бы великая радость облегчённого дыхания.
Гастроэнтерический аппарат не может доставить нам сильных ощущений, иначе как входя в общение с внешним миром. Где воспринимается пища, там находится и чувство вкуса, этого обильного источника легких радостей, тесно связанного и с чувством осязания. Далее пищеприемный канал не сообщает никаких приятных ощущений. Желудок не радуется принимаемой им пище, и благосостояние, ощущаемое во время пищеварения, – чувство весьма сложное, происходящее и от утоления голода, и от усиления кровообращения, и от примеси к желудочному соку более разжиженных материалов, и от иных, менее известных причин. Кишечный канал не высказывает никакого положительного удовольствия, кроме приятного ощущения при испражнении, доходящего в весьма чувствительных субъектах до некоторой степени удовольствия. Акт испражнения доставляет удовольствие как выполнение потребности, и чем менее утомил он мускулы, требуя их содействия, тем он более доставляет приятности. По совершении испражнения ощущается еще иное удовольствие от передвижения внутренностей, которые занимают место, оставленное пустым; прекращение ирритации в ткани прямой кишки тоже способствует наслаждению. Удовольствие, испытываемое при инъекции некоторых клистиров, принадлежит уже к области патологии. Извержение урины, когда пузырь слишком растянут, сопровождается удовольствием и в физиологическом состоянии; весьма чувствительные субъекты ощущают даже это сжимание пузыря и возвращение его на свое место. Удовольствие это весьма незначительно и длится не более мгновения.
Все перечисленные здесь удовольствия зависят от большей или меньшей чувствительности ощущающих их личностей. Сильнее чувствуют их женщины и люди слабые и женоподобные.
Выражения, придаваемые всеми этими удовольствиями телу, весьма разнообразны, и мы постараемся обрисовать их в общих чертах.
При освежении себя чем-либо тело выражает свое удовольствие легким содроганием, вздохами, суживанием глаз, стискиванием зубов. Когда освежающее нас тело – воздух, тогда мы слегка открываем рот, по возможности расширяем дыхательное горло и производим ряд глубоких вдохов; иногда же мы выражаем удовольствие только прояснением лица и оживлением глаз. Когда же, напротив того, приятное ощущение происходит от сообщения тепла нашему телу, тогда мы потягиваемся, закрываем глаза и улыбаемся от внутреннего удовольствия. Погружение тела в горячую воду производит в нас чувство приятного томления, побуждает нас к чувственности и к эротическим мыслям. Жар от солнечных лучей производит чрезмерное расширение кожи, лицо становится багровым, дыхание замедляется и становится шумным. Выступление пота производит наслаждение, освобождая кожу от излишней ее напряженности. Удовольствие согреваться около огня выражается весьма разнообразно, смотря по температуре нашего тела и по свойствам горящего в камине топлива. Когда же мы подходим к огню с желанием согреться, тогда движения наши чрезвычайно просты. Мы потираем руки и производим вообще телодвижения, способные предоставить действию огня наибольшую поверхность нашего тела. Когда же сидение около огня становится обычным занятием, тогда удовольствие согревания усложняется желанием и провести время без утомления, и сосредоточиться в самом себе, и упражнять осязание легким постукиванием щипцами по углям, и насладиться зрелищем дрожащего пламени, струек голубоватого дыма и распадающихся углей, то вспыхивающих, то поддернутых сероватым пеплом. В этом последнем случае физиономия греющегося выражает тихое созерцание и блаженное состояние покоя.
Чувство благосостояния, доставляемое человеку физическим сознанием телесного здоровья, отражается на лице его особенным, нелегко сбегающим с него выражением.
Меньшая степень этого внутреннего благосостояния отражается на лице выражением тихого покоя, высшая же степень здоровья проявляется ясностью и экспансивностью всех очертаний лица, склонностью к смеху и странной живостью телодвижений. Даже проявления умственных способностей носят отпечаток этого внутреннего оживления, которое условились называть хорошим расположением духа.
Наслаждение во время отдыха или в минуты засыпания обозначается на лице выражением сладкой истомы, а на теле – предоставлением всех членов действию физических законов. Когда человек засыпает сидя, тогда стан его слегка отгибается назад, голова опускается на грудь, руки или скрещиваются на коленях, или висят по бокам; ноги или вытягиваются вперед, или нога закидывается на ногу. Опускание век указывает или на утомление, или на сильную степень неги.
Если человек очень устал перед сном, то он опускается в горизонтальное положение на постель с раскинутыми врозь руками и ногами, испуская глубокий вздох и стараясь как можно меньше шевелить членами. Затем нередко следует ряд вздохов и втягивание воздуха в себя. Лицо ленивца, решившего провести утро, наслаждаясь переходом от сна к бдению и от бдения ко сну, выражает полнейшее блаженство. Едва начинает он просыпаться, открывая глаза впечатлениям внешнего мира, как окружающие его предметы, сливаясь в полусонном еще сознании с фантастическими образами минувшей ночи, комбинируются с ними в чудную фантасмагорию небывалых видений. Веки медленно опускаются, чтобы снова подняться через некоторое время, заявляя таким образом о переходе спящего от сонного небытия к внешнему миру и о жизни, еще продолжающейся в полусознании дремлющего ума. Но вот учащается дыхание, кровообращение становится сильнее, жизнь приливает к центру сознания с новой силой, и счастливец просыпается, потягивается и выражает долгой зевотой обуявшее его блаженство. Насколько удовольствие, производимое движением, разнится от наслаждения покоем, настолько своеобразно отражается оно и на физиономии человека. Лицо оживляется, глаза блестят и те члены, которым вовсе не приходилось бы участвовать в данном упражнении, увлекаются симпатическим движением. Смех, веселые возгласы, невольная игра мускулов сопровождают удовольствие. Но упражнение мускулов приятно только после долгого отдыха, и наоборот, наслаждение покоем доступно только после утомления движением.
Отрицательное удовольствие, проистекающее от временного прекращения боли, отражается на лице тем явственнее, чем сильнее было предшествующее страдание. Длинные и учащенные вздохи, улыбка, смех и даже песни, выражение покоя и сладкой истомы на лице бывают иногда следствием внезапно прекращенного страдания.
Блаженное состояние человека, поглотившего роскошный обед, выражается довольно характерным образом. Он покоится с раскрасневшимся и слегка одутловатым лицом; углы его полуоткрытого рта отдернуты слегка к щекам, симулируя начало улыбки, глаза, сияя тусклым блеском, медленно переводятся с предмета на предмет. Руки, сложенные на животе, как бы отслеживают ход принятой пищи и процесс пищеварения, от разгоряченного желудка веет теплом, и во всем существе пообедавшего сказывается невыразимое блаженство.
Вот типы физиономий, подмеченных мной у людей, насаждающихся удовольствиями того, что я назвал самоощущением или самоосязанием вообще.
Общее благосостояние всех частей тела, влияя на организм, располагает его к восприятию всех удовольствий. Недостаток этого благосостояния производит страдание, не допускающее развития приятных ощущений, так как часть их должна идти на утоление страдальческих ощущений в организме. Разные степени благосостояния этого источника радостей обусловливают для каждого человека статистику его удовольствий. Движения, способствуя развитию мускулов, успокаивают в человеке непомерную восприимчивость к мимолетным впечатлениям, рафинируя чувства неги и ту нервную возбужденность, которая для нежного пола составляет и наслаждение, муку жизни.
Все удовольствия и ощущения, о которых здесь сказано, могут быть одинаково чувствуемы всеми правильно организованными людьми, и так как они действуют согласно законам нервной системы, их можно назвать физиологическими. Существуют другие удовольствия, зависящие тоже от чувства осязания, которые могут быть названы патологическими. Противоестественное удовольствие осязания может происходить или от прирожденной особенности мозгового центра и нервов осязания, или от временного их болезненного состояния.
От прирожденного склада организма зависят странные удовольствия, находимые некоторыми психически больными людьми в разминании грязи и даже экскрементов в руках и наслаждении, с которым другие бьются головой об стену, наносят себе толчки, удары и т. п.
В сущности эти удовольствия названы патологическим только относительно, но ежели бы все люди разделяли подобные вкусы, то они, в свой черед, назывались бы физиологическими. Они не производят материального вреда, но противны чувству красоты и почти всегда идут об руку с тупостью ума и низостью инстинктов.
Патологические удовольствия, происходящие от временно болезненного состояния, чрезвычайно разнообразны. Человек, зараженный чесоткой или иной кожной болезнью, связанной с извержением гноя, чувствует нескончаемое удовольствие в почесывании себя или разрывании корост и струпьев, покрывающих его кожу. Иногда страдающий гнойной язвой не только любит постукивать по ее краям, но даже сдирать с чувством наслаждения струпья, начинающие ее затягивать.
Вспоминаю при этом старика, который признавался мне, что во всей жизни своей он не знал удовольствия больше того, которое он испытывает, уминая красный край старческой язвы, носимой им издавна на ноге. Одержимый горячкой готов броситься с наслаждением в ледяную ванну. Путник, идущий через снежные переходы Альп, едва может уберечься от искушения прилечь на морозе и заснуть, зная притом, что смерть была бы следствием подобного сна. Умственное помешательство, наконец, может сделать приятным нанесение себе ударов, царапин, глубоких ран и других повреждений, влекущих за собой страдания и смерть.
Удовольствия подобного рода могут быть смело названы патологическими, так как, нанося вред организму, они противны закону природы, которая соединила удовольствие с исполнением акта, ведущего к нашему благосостоянию.
Выполнение ненормальных удовольствий отражается отвратительными чертами на лице человека. Видевший лицо ребят, мажущих себе лицо и руки грязью, или чесоточного, скребущего свои раны, может составить себе о них понятие. Бывают случаи, когда лицо человека, раздирающего свою рану, носит отпечаток чистейшей радости, но тогда чувство это только истекает из болезненного начала, и производит на организм целебное действие. Возбужденная таким образом и прикрытая успокоительной мазью язва доставляет ощущение невыразимого блаженства.
Глава III. Об упражнениях и играх, основанных на общем чувстве осязания
Чувство осязания служит основным элементом большинства наших увеселений. Некоторые из обычных упражнений этого чувства входят в разряд гимнастических, другие слывут увеселением и игрой. Упомяну здесь о некоторых мускульных движениях, ставших прототипом прочих.
Самое несложное из человеческих упражнений, прогулка, бывает для нас источником обильных наслаждений. Прогулка составляет, собственно говоря, отправление функций ходьбы ради одного только движения мускулов. Редко, однако, остается она удовольствием столь простым, и прогулка служит, по большей части, только основной нитью для иных жизненных удовольствий. Прогуливаясь, мы смотрим вокруг себя, разговариваем, весело проводим время и даже читаем иной раз в промежутках отдыха. Главным, однако, непременным условием всякой прогулки остается, тем не менее, движение мускулов нижних конечностей и стана.
Тело человеческое состоит преимущественно из плоти и костей, и хотя крошечная часть его, головной мозг, и держит весь организм под всесильным своим началом, все же эта часть не в состоянии удовлетворить все потребности всей громадной массы живой материи, и масса эта, оставленная в бездействии, властно вопит, требуя и себе упражнения и питания. Среди занятий наших, требующих по большей части, усидчивости, для ног оказываются недостаточными и ходьба по дому, и то качание ими под столом, с помощью которых люди хотят утолить в них потребность движения; и вот человек начинает чувствовать неодолимое влечение к прогулке и к свежему воздуху. Переполненные накопившейся в них силой, мускулы начинают действовать с необычайной живостью, и во всех движениях их чувствуется радость удовлетворенной потребности. Грудь расширяется от жадно вдыхаемого ей воздуха, пульс учащает свой ритм, и все тело наслаждается движением, сообщенным ему ногами. Шаг более или менее ускоренный, свойства почвы и вид окружающих человека предметов могут разнообразить до бесконечности удовольствие прогулки, но что всего более разнообразит наслаждение ей – это большая или меньшая степень впечатлительности и понимания каждого. Кто прогуливается ради проведения без скуки нескольких часов вполне праздного или употребленного на пошлые занятия дня, тот в прогулке не признает ничего, кроме удовольствия механического передвижения ног. Человек же, проведший несколько часов в глубине своего кабинета за усиленной работой и, при упорности умственных занятий, не утративший живости впечатлений, собирается на прогулку как на праздник. Сосредоточенный в самом себе, он сознает всякое впечатление, производимое на него внешним миром, – от теплоты почвы, попираемой его ногами, до легких содроганий внутренностей в глубине собственного тела. Шаг его бывает иной раз неровным из-за непривычки обращать внимание на мелочные приличия жизни; иногда из желания и сберечь время, и сообщить как можно более движения притомившимся мускулам он ускоряет донельзя шаг, выше поднимая ноги (как хаживал еще издавна один профессор хирургии, знаменитость нашего времени). Удовольствия, доставляемые зрелищем, придают прогулке особую прелесть в глазах человека, умеющего и чувствовать, и думать. Людям слабосильным и женщинам прогулка не представляет живого удовольствия, отчасти потому, что сидячая жизнь стала для них необходимой привычкой, отчасти потому, что усилия при ходьбе были бы для них слишком утомительными.
Ускоренная донельзя ходьба превращается в бег, и в этом усиленном виде доставляет людям источник живейших радостей. При избытке жизненных сил требуется и сильно напряженное мускульное движение; вот почему бегать особенно любят дети и весьма молодые люди, для которых бег представляет гораздо более наслаждений, чем простая прогулка. Во время бега человек вдыхает и выдыхает большое количество воздуха, внутренности его приятно сотрясаются, получая ряд мирно чередующихся толчков, и вся эта перетасовка сливается для бегущего в ощущение непомерно веселого общего настроения. Сбегание с высоты вниз, по наклонной покатости, доставляет иногда громадное наслаждение человеку с длинными и гибкими нижними конечностями, умеющему держать стан свой во время бега в должном равновесии. Глаз быстро и издалека намечает пункты, на которые должна ступить нога; направляясь к ним, ноги стремительно бегут, увлекая за собой все тело, которое, проходя целую серию разнородных движений, оказывается потрясенным до глубины своих мельчайших фибр, – и все это без малейших усилий со стороны бегущего и без малейшего для него утомления. Соревнование сильно способствует удовольствию бегающих, как это бывает при всех телесных упражнениях, удовольствие коих зависит отчасти от преодоления трудностей.
Прыжок только тогда вызывает в осязании нашем приятное чувство, когда он сравнительно невысок; в противном же случае прыгающего вознаграждает за неприятность толчка и всеобщего потрясения разве что удовольствие совершенного над собой усилия и сознание собственной удали.
Прыганье по предмету упругому доставляет удовольствие цепью непрерывных усилий при преодолении препятствий, вновь и вновь возникающих под пятами прыгающего.
Плавание представляет ряд весьма сложных удовольствий, состоящих в большей или меньшей зависимости от чувства осязания. В плавании по стоячей воде все наслаждение сводится к освежению кожи, к упражнению мускулов и к соприкосновению с нервами периферии субстанции упругой, но легко уступающей малейшему движению. Плывя по поверхности озера или слегка взволнованного моря, мы наслаждаемся тем, что то возвышаемся на гребне волн, то опускаемся вместе с ними, и чувствуем между тем, как хлещет нам в лицо студеная вода и как журчит она, струясь около нашего тела, когда мы плывем навстречу ветру. Но высшее наслаждение ожидает пловца на водах быстротечной реки: течение увлекает плавающего без малейшего утомления с его стороны; легкое движение руками еще увеличивает быстроту. Мимо плывущего несутся берега, а вода, колеблясь около его тела, производит на кожу слегка приятное щекотание. Но характеристика плавания разнообразна до бесконечности, и исчисление здесь всех удовольствий этого упражнения привело бы только к напрасной трате времени и места.
Танцы – наслаждение весьма сложного свойства. Значительная часть удовольствий, ими доставляемых, относится к области слуха, но так как основной акт пляски – все же движение мускулов, и так как побуждением к танцам в салонном мире служит отчасти желание привести оба пола к некоторому общению, то можно, кажется, не боясь ошибки, включить наслаждение танцами в настоящий отдел. Взяв пляску в самом элементарном ее значении, представим себе человека, пляшущего одиноко, без аккомпанемента музыки. Все наслаждение в этом случае сводилось бы к ритмичному передвижению мускулов с мерными интервалами усилия и покоя. Затем представим себе, что к пляшущему присоединяется товарищ одного с ним пола, и наслаждение увеличится удовольствием видеть около себя, соответственно стройные движения человека, соразмеряющего свои увлечения с действием мускулов соседа. Когда же товарищем увеселения становится женщина, молодая и прекрасная, тогда бледное удовольствие передвижения в такте, соединяясь с прелестью легких, но жгучих прикосновений, превращается в восхитительное наслаждение, именуемое в свете танцами. Когда же к довершению удовольствия раздается музыка, тогда она производит на танцующих действие солнца, появляющегося на горизонте и придающего всему значительную долю света, жизни и теплоты. Тогда все разнообразные впечатления танцующих сливаются и объединяются в одно общее чувство гармонии и счастья. Чтобы довершить очарование, к быстроте кружения вдвоем, к упоительной мягкости приемов партнера, к миловидной грации и изяществу ее мнимо-ласкающих телодвижений присоединяются трепетное вздымание груди, слияние двух теплых дыханий, невзначай встретившиеся взоры, невольное сжимание руки и более сильный охват гибкого стана. Человек тогда, чувствуя, как колеблется в его руках живое существо, эластично, гибкими движениями следящее за ним в бурном ходе телодвижений, указываемых ему порывами музыки, приходит в смущение и называет эти мгновения танцев самыми блаженными минутами жизни. Женщина, со своей стороны, чувствуя, как увлекает, почти уносит ее сильная рука в вихрь нескончаемых кружений, вполне наслаждается танцами; она то удаляет стан от охватывающей его руки, то желает, чтобы рука эта поддержала ее еще сильнее. В упоении изящной своей чувствительности она забывает, что живет, – и ее, с разгоряченным лицом и с опущенными вниз глазами, приводит на место, которое нелегко, быть может, отыскала бы она теперь одна. Яркость освещения, блеск одежд, благоухания и ароматы бальной залы, все ухищрения роскоши и богатств придают танцам изящество и красоту, не изменяя их сути и свойств. В молодости и в особенности для женщин танцы и бал составляют величайшие из удовольствий жизни, хотя они и становятся иногда для людей источниками многих страданий и бесконечного горя. Танец становится для некоторых чуть ли не судорожным удовольствием и упоительным бредом чувств.
В гимнастических упражнениях удовольствие оказывается тем сильнее, чем могучее и развитее у человека мускулы и тем необходимее бывает упражнять их. Люди же с тощими мускулами не могут находить никакого удовольствия в утомительных для них усилиях. Удовольствия эти чрезвычайно разнообразны, но никогда они не переходят в наслаждения неги, и лицо гимнаста всегда сохраняет выражение самодовольства и силы. Мгновенное прекращение противодействия, уступающего усилиям человека, постоянный переход от движения к покою и наоборот, быстрое чередование в человеке сильных ощущений – вот главные элементы, из коих складывается удовольствие многообразных гимнастических упражнений.
Все эти удовольствия проистекают от двигателя, находящегося внутри нас самих; некоторые другие, напротив того, действуют на нас, движимые двигателем, находящимся вне нас.
Верховая езда, например, сопровождается многими удовольствиями подобного рода. Сидя в хорошем седле и чувствуя себя крепкими в стременах, мы ощущаем некоторое элементарное удовольствие уже вследствие того, что находимся высоко над землей, на спине гордого животного, которое теплотой своей и легким содроганием мускулов дает нам чувствовать, что под нами движется сильная и могучая жизнь. Едва по знаку руки нашей конь двинулся вперед, как мы уже начинаем чувствовать удовольствие от передвижения без усталости и от приятного ощущения правильных и плавных сотрясений. Глазу вдали открывается широкий горизонт, а вблизи седок может любоваться разнообразными движениями тонких ушей или изящными поворотами конской головы.
Одна рука, держащая поводья, остается наготове для передачи коню воли седока, другая треплет шею коня или поигрывает его лоснящейся гривой. Но вот слишком плавное передвижение наскучило седоку; он отпустил поводья, скомандовал рысь, и в глубине его внутренностей отразилось сотрясение от ускорения конского бега. И вот верховой опирается на стремена и по-английски несется по пространству, едва касаясь седла. Главное удовольствие верховой езды состоит в галопе и в езде во всю скаковую прыть коня. Мы несемся на всем скаку, точно плывя по воздушному пространству, быстро разрезая воздух, который щекочет ветром наше тело, освежая нас и возвышая еще прелесть подобной езды.
Езда в экипаже приятна при плавности передвижения и при ловком положении тела. Она доставляет удовольствие, когда мы находимся в том положении, в котором привыкли двигаться, т. е. с лицом, обращенным вперед. Обратное движение вредно для многих людей, вызывая у них тошноту и головную боль. Предки наши в их безрессорных экипажах и при езде по неотделанным дорогам не испытывали того удовольствия, которое чувствует в наше время горожанин, полулежа на рессорных подушках нанятого фиакра и катаясь по улицам наших городов. Для многих людей подобная езда – вовсе не удовольствие, другие же, напротив того, наслаждаются им с восхищением. Езда при помощи пара приятна по причинам слишком понятным.
Обычные средства передвижения по воде доставляют чувству осязания приятное, но весьма несложное ощущение. Разрезание гладкой поверхности воды, стоя на палубе парохода или корабля, производит на органы осязания едва заметные ощущения; когда же ветер волнует воду, тогда качка судна производит иногда приятное ощущение качания на качелях. Иным людям доставляет удовольствие чувствовать подвижную почву под своими ногами.
Носиться по заоблачным пространствам, сидя в лодочке аэростата, должно доставлять немало удовольствий чувству осязания и по новости своей, и по громадности пространства, доступного взору аэронавта.
Многие игры обязаны своей привлекательностью ощущениям осязания. Качание на качелях, игра в лапту или в мяч, бильярд и т. п. доставляют удовольствия, основанные на комбинации тех элементарных ощущений, о которых здесь говорено. Общение между людьми и соревнование придают этим играм главную их прелесть.
Глава IV. Половые наслаждения и физиологический анализ их
Заботясь о сохранении расы наперекор враждебным силам извне и столкновениям в жизни внутренних элементов, ради существования ее в течение многих и многих тысячелетий природа вложила в мужчину и женщину неодолимое влечение сблизиться в том высоком акте, когда среди бреда наслаждений и трепета спазматических радостей зарождается новое существо. Для достижения этой высокой цели она пустила в ход два сильнейших двигателя – мощь внутреннюю, или прирожденный мозговому центру инстинкт, и самые чувствительные и чуткие органы, которые при сближении доводят чувственное наслаждение до высшего его апофеоза.
В этом простейшем его выражении сближение полов наблюдается и у низших животных, у большинства которых акт совокупления ограничивается соприкосновением половых частей. Но, возвышаясь от низших степеней животной жизни до высших ее проявлений, мы поражаемся дивным зрелищем того, как около самого факта, служащего как бы скелетом процесса, группируются все в большем и большем количестве другие элементы, совершенствующей удовольствие совокупления. Природа прежде всего озаботилась украшением внешних форм обоих существ, долженствующих встретиться, словно приглашая их на пир. Ради градации удовольствий она наделила высшие существа органами все более и более чуткими и нежными и все более и более усовершенствованными нервными центрами. Длинная стадия любви у некоторых насекомых и затем мгновенная смерть самца могли бы внушить предположение, что насекомые эти одарены высшей способность неги, ежели бы простота их нервной системы допускала возможностью подобного явления. Поспешим заключить все возвышающуюся цепь живых существ конечным ее звеном – человеком.
Любимое создание было и здесь одарено природой выше всякой меры. Она, видимо, хотела излить лучшие сокровища свои на сближение полов, как бы желая тем вознаградить мужчину за ущерб сил, утрачиваемых им для произведения себе подобных, а женщину – за те горести и страдания, которыми заплатит она за мгновения наслаждения и неги. Самые ценные сокровища ума и сердца бывают потрачены людьми в блаженные времена, предшествующие половому общению; когда же настает желанный миг, тогда все радости жизни сливаются, казалось бы, в один апофеоз неги и в сложность наслаждений, не находящую себе выражений ни на одном языке человеческом.
Половое сближение двух существ, незнакомых между собою, было бы только механизмом полового общения. Но в большинстве случаев происходит совершенно иное.
Неодолимое стремление приблизиться к другому полу заставляет нас усиленно вглядываться и искать; когда же встречается нам существо, отвечающее нашим понятиям или об одной красоте, или о связанных с ней идеях правды и добра, тогда неопределенные дотоле пожелания сосредоточиваются на одном предмете, воспламеняются и становятся страстью. Но путь от желаний к достижению долог и бывает уставлен длинной вереницей возвышенных томлений и тех восхитительных радостей, о которых, как о принадлежащих к сфере умственного мира, сказано будет в ином отделе. Но, желая изобразить немногими словами проявления удовольствия, предшествующих неге чувственной, скажем только, что сила природы научила женщину избегать на время приближения любимого человека, борясь с ним нравственной, не лишенной своеобразной радости борьбой, после которой еще сладостнее становится победа. У дикарей женщина, преследуемая мужчиной, бежит и скрывается в чаще леса. У нас в Европе молодая девица, укрываясь за всеоружием прирожденной стыдливости, невольно вызывает и возвышает еще желание любовника, которому нелегко достается иной раз победа. Сложности, соединенные с этой борьбой, женихания намечены здесь только слегка; они бесконечны и бесчисленны, как все страсти, великие и малые, могущие волновать человеческое сердце. Но и физическая часть удовольствий любви, единственная, занимающая нас теперь, и та переполняет человека избытком наслаждений.
Одно прикосновение между собой двух любящих существ доводит нервы осязания до состояния эротизма и гиперстении. Соприкосновения, вовсе не имевшие бы значения в иное время, становятся здесь источником сильнейших наслаждений: кожа разгорячается, содрогаются уста, речь становится прерывистой, дыхание и кровообращение учащаются и из взволнованной груди вырываются сладкие вздохи. В эти минуты полнейшего смолкания умственных способностей чувство перестает рассуждать и вся деятельность жизни переходит в чувство осязания. Руки смыкают свои объятия, уста встречаются в долгом поцелуе. Весь организм приходит в неописуемое волнение. Глаза закрываются как бы для того, чтобы сознание, не развлекаясь образами внешних предметов, всецело могло быть занято сладким трепетом, доносящимся до него из всех частей тела… Почтим молчанием таинственность этих торжественных минут.
Расскажем только о том, что необходимо для полноты картины изображаемого нами мира ощущений и наслаждений, являющихся их отголоском. Ощущения, производимые актом полового совокупления, не суть исключительно только местные, точно так же, как и наслаждение, производимое ими, отнюдь не имеет местного характера. Вся нервная система возбуждается через местные раздражения. Дыхание учащается, сердце начинает биться сильнее. Наслаждение охватывает весь организм и всего человека, По напряженности во всем мире человеческих ощущений нет более сильного. Если бы оно продолжалось долее, самый сильный человек не мог бы вынести его силы и окончательно изнемог. На время оно заглушает остальную психическую деятельность человека, его сознательные и мыслительные способности. Все другие ощущения являются в большей или меньшей степени парализованными; все ощущения, доставляемые осязанием – жар, холод, боль и т. п., – уничтожаются почти всецело. Сознательная психическая деятельность с актом полового совокупления, безусловно, непримирима. Случайное пробуждение ее уничтожает все наслаждение и делает акт болезненно-ненормальным.
Участие полов в акте совокупления далеко не тождественно, а потому и психические состояния их далеко не одинаковы, вследствие чего должны быть различны их наслаждения. Женщина остается по природе пассивной и совершает акт почти бессознательно, тогда как мужчина должен обладать напряженной энергией. Нередко случалось, что внезапно появившаяся мысль, испуг, игра воображения или что-либо подобное сразу делало мужчину неспособным к продолжению акта. Прерванное напряжение заменяется в этом случае внезапным упадком нервного ритма, как общим, так и местным.
Все эти физиологические удовольствия вполне естественны; они становятся преступными только тогда, когда наносят ущерб уму и сердцу. Человек, умеющий победить их ради разумной цели, не убивая, впрочем, в себе самом способности пожеланий, одерживает величайшую и весьма редкую победу, так как удовольствия половые, сильнейшие из чувственных наслаждений, составляют для множества людей величайшее счастье жизни.
Половые удовольствия, если пользоваться ими с благоразумной умеренностью, ослабляют силы мужчины только на некоторое время, вовсе не влияя на силы женщины. Ощущаемая после них слабость поражает мускульный аппарат, ощущения тупеют; позыв к пище и потребность сна приглашают человека возместить затраченную организмом субстанцию пищей и оживить ослабевшую нервную систему сном. Но затем вся жизнь обусловливается суммой этих наслаждений, влияющих всего более на чувствительность человека. Так как выполнение половой функции составляет первое звено социальной цепи, то оно делает нас вообще любящими и более склонными к жалости и всепрощению, между тем как полная победа над плотью возвышает интеллектуальные способности в ущерб чувствительности; когда же ум не сильно занят, тогда она делает людей рабами скотских наслаждений обжорства.
Половые наслаждения влияют весьма различно на жизнь людей. Кто способен наслаждаться интеллектуальными сокровищами или утонченностями любви, тот отдает чувственности только небольшую часть самого себя и этой частью он жертвует как бы неохотно, отнимая ее от служения более возвышенным алтарям. Между тем человек, который по прирожденному несовершенству своей природы или по падению, обусловленному в нем социальными условиями, не умеет «поднять рыла выше корыта», предоставляет лучшую часть дней своих любовной борьбе и ее наслаждениям. Однообразная и блеклая ткань иной жизни не удерживает иных впечатлений, кроме почти непрерывной цепи вульгарных восхищений и гнусных объятий.
Глава V. Половые удовольствия патологического свойства
Люди, способные злоупотреблять всем, не всегда довольствуются естественными наслаждениями, сопровождающими общение обоих полов, – потому ли, что прискучили им эти удовольствия, потому ли, что страсть к наслаждению заставила изобретать новые к нему пути, потому ли, наконец, что условия жизни не дозволяли утолять иначе потребности чувственной любви. Все это побудило человека отыскивать искусственным, более или менее отвратительным образом некое подражание механизму совокупления, поставляя таким образом удовольствие, назначенное природой только ввиду иных высших целей, финальной и единственной целью многих действий. Отсюда появились среди людей онанизм, педерастия, зоофилия и другие бесчисленные гнусности, которые мы не умеем назвать иначе как греческим или латинским именем; некоторым же человечество вообще не давало имени, и не наречет их никогда ни один из языков человеческих.
Хотя относительно научная цель этой книги могла бы извинить до некоторой степени невоздержанность в словах писателя, но я отдам, однако, и здесь должную дань уважения чувству общественной стыдливости и, не входя в подробности, обращусь к этим вопросам слегка и упомяну о них только в общих чертах.
Оставив в стороне патологические удовольствия менее обычные, скажу только несколько слов о рукоблудии, пороке более общем, чем предполагают, который, будучи тщательно скрываем, медленно подтачивает источники сил и умственных способностей в лучшие годы жизни, пагубно влияя на рост целых поколений. Кто сам настолько чист, что ему вполне неведомы подобные удовольствия, тот не должен отвергать существование широко распространенно– го зла, но, допрашивая друзей своих, наблюдая и изучая, он должен доискаться правды, чтобы затем служить окружающим как собственным примером, так и добрым советом. Кто продолжает утверждать, что удовольствия эти могут быть ощущаемы только личностями с отупелыми умственными способностями и с извращенными чувствами, тот пусть вспомнит, что из небольшого числа великих людей, решившихся составить мемуары о жизни своей, двое признали себя виновными в этом пороке, а именно Руссо и Гёте.
Бесчисленные причины могут вовлекать людей в порочные наслаждения этого рода. Укажу на некоторые из них: в младенческие и отроческие годы наущение и пример бывают главными причинами распространения этого зла, которое иной раз сообщается как зараза или чума. Редкий случай, чтобы ребенок, коснувшись невзначай своих членов, сам научился злоупотреблению собой; но едва узнает он тлетворную тайну, как у него возникает неутомимое желание сообщить о ней сверстнику, или потому, что он хочет сознанием облегчить совесть от первых ее упреков, или потому, что живее становится сообщенное другому удовольствие; чаще же всего причина бывает весьма сложной. Так как эти гнусные радости, хотя и совращенные с естественного своего пути, все-таки относятся к инстинкту деторождения, то в них всегда является поползновение приблизиться к другому человеку, и за недостатком живого лица несчастный мальчик обращается при удовольствии своем к воображаемому или далекому существу.
Весьма редко случается, чтобы болезнь, производя раздражение в детородных частях, становилась причиной онанизма. И это относится к эрпетическим болезням, к обычным белям у девочек, камням в мочевом пузыре и т. д.
Но каким бы образом ни пристрастился человек к пагубному делу, много причин содействуют тому, чтобы он не предал его забвению. Причины эти бывают: любовь к наслаждению, праздность, отсутствие особы иного пола, с которой можно было бы утолить чувственную потребность, венерические болезни, пламенность желаний, скука и плохое расположение духа, привычка и т. д.
В первое время развращения, когда удовольствие еще борется в человеке с чувством долга, падения случаются нечасто, и за ними следует время долгих и горьких покаяний. Незрелое тело, истощенное потрясениями и затратами выше собственных сил, поднимает властный протест и устрашает виновного упадком физических сил и отупением способностей, обычными спутниками подобных удовольствий. Тогда несчастный организует целый аппарат сопротивления, чтобы побороть искушение как врага. Но при малейшем послаблении неумолимый противник снова овладевает им и оставляет его обессиленным и приниженным низостью падения. Так чередуются победы и поражения, пока, наконец, утешаются навсегда угрызения совести, и юноша, потеряв уважение к самому себе, утешает себя мыслью, что он платит только дань человеческой слабости, влача в продолжение всей жизни смертельную болезнь, осудившую его на преждевременное одряхление. Разнообразны бывают градации падения каждого, по мере того, что сильнее в виновном – инстинкт ли, его обуревающий, или уцелевшее разумение, а потому неравномерны и разнообразны бывают у разных индивидуумов и последствия одиноких удовольствий.
К счастью, весьма редки случаи онанизма, доводимого до крайних пределов или хотя бы до пределов того, что может вынести организм. Некоторые писатели, занимавшиеся вопросом, ложно измеряя последствия этого порока, указывали на сильную смертность среди виновных, которые, прочитав подобные книги и, не сознавая в себе никаких признаков страшного tabes dorsalis, поднимали на смех писателей, думавших напугать их призраком ужасающих болезней, и продолжали с обычною беззаботностью ход своих гнусных занятий. Истину следует обожать как нечто религиозное, и из любви к ней должно признать, что большинство онанистов не доводят своих упражнений до крайностей, угрожающих им страшными и смертельными болезнями. Но не остаются вины их безнаказанными, и природа присудила их стоять в умственном отношении одной ступенью ниже того положения, которое предназначено было естеству их.
О юноши, и вы все, читающие эти строки! Положите руку на сердце и скажите, не портило ли вам лучшие минуты вашей жизни горькое воспоминание о том, как подчиняли вы себя самому низкому из инстинктов? Вы находитесь в той жизненной поре, когда все способности и чувства, и ума, и сердца достигают в вас полной силы и, готовясь к действию, открывают вам нескончаемые горизонты успеха и радости. Фантазия украшает в ваших глазах предметы и заставляет сильнее биться сердце, представляя вам блестящие грезы о том, что вас ожидает впереди. И любовь, и дружба, и слава, и науки поочередно возбуждают в вас весьма реальные надежды, заставляя вздыхать только разве о том, что жизнь так коротка, и что не удастся вам, пожалуй, дознаться до всего и все в мире обнять, а между тем чему вы жертвуете всем этим? Жалкому мимолетному удовольствию, которое, покидая вас, оставляет вас униженными, отупелыми и ни к чему не способными. Ум в вас коснеет, цепкая и быстрая память юности изменяет вам, воображение оказывается уже неспособным вызвать в светлом своем зеркале отражение блестящих некогда образов вашей фантазии; воли не существует; мучительное, мелкое беспокойство овладевает всем вашим существом и заставляет вас проводить долгие часы дня в жалком состоянии того равнодушия ко всему и всем и к той умственной праздности, которая для вас страшнее смерти. Само тело ваше страдает наравне с умом и сердцем: пищеварительный процесс начинает происходить все хуже и хуже, чувствуются непреодолимые болезненные ощущения в детородных органах; кожа, быстро отражающая состояние общего здоровья, бледнеет и вянет, физиономия приобретает вид столь глубокого унижения и нравственного упадка, что виновность человека становится очевидной для чуткого глаза наблюдателя. Не раз случалось мне читать скорбную повесть грязной тайны на лице соучеников, своих, и тогда, смело заявив им о грустном своем открытии, я призывал их к признанию, и призывы мои не всегда оставались бесплодными.
Но указанные мной болезненные проявления оказываются еще довольно сносными, и бедный юноша, свыкаясь с ними, проводит многие часы дня или в полудремоте, или в неутомительных занятиях обычного безделья, выжидая то время, когда обильно принятая им пища понемногу восстановит его силы для новых, быть может, злоупотреблений самим собой. Тогда состояние обычной оргии, в которое приведены его члены гнусными представлениями развращенного ума, заставляет человека прибегнуть снова к гибельному наслаждению. Иногда, напротив того, уныние и наставшая уже невозможность возбуждать в себе новые ощущения, для которых требовалось бы поднятие жизненной энергии, влекут к пагубному удовольствию и человек уступает им для того, чтобы испытать хоть что-либо, сильно потрясающее его организм, и снова чувствовать в себе самом процесс жизни. Проводимое таким образом существование, пустота ни к чему не пригодных занятий, долгие часы сна или дремоты, прерываемые иной раз раздражением или гневом, жизнь, замаранная от времени до времени пятном обычных увеселений, становятся в высшей степени отвратительной мукой. Вы все, привязанные цепью древних предрассудков к существованию, один раз навсегда указанному вам внешними обстоятельствами жизни, располагающих вами и делающих вас игралищем обветшалых понятий; вы, которые умудряетесь доживать до старости, не допросив себя никогда о том, чему служит ваша жизнь; вы, которые обозначаетесь только лишней цифрой в формуле вашего поколения, – продолжайте, пожалуй, жить среди мерзостных ваших занятий, так как вашему пониманию недоступны радости более возвышенные или хотя бы наслаждения менее низкие.
Но вы, не подлежащие цепям предрассудка или сами разорвавшие их; вы, стоящие на высоте современной мысли, вы, окинувшие пространство свободным взором и опознавшие место своего рождения; вы, испытавшие умственное, высшее наслаждение и направившие жизнь к избранным вами целям (целям религии, науки, славы или любви, все равно), – умоляю вас: не уступайте тому пороку, который стянул бы вас с высоты человеческого достоинства в бездну грязи у ваших ног и сломал бы у вас в руках то всеоружие, которым вы как люди обязаны сражаться с грозными врагами, стоящими на пути человечества к истине, добре и красоте. Если вам вовсе незнакомы одинокие удовольствия, не вздумайте приступить к ним в виде пробы или научного опыта; это – опасное испытание. Если же, к несчастью вашему, вы уже обучились им в те годы, когда еще младенчествовал ваш ум, – боритесь с недругом вашим сильнейшим из данных человеку орудий, высшей силой, объединяющей все способности ума, – волей. Воспитайте в себе эту драгоценную мощь упражнением в щедрых, великодушных и даже неблагоразумно-смелых делах; задайте волей своей задачу трудновыполнимую, решитесь бороться чуть ли не с непобедимым; решитесь сделать жизнь вашу согласной с природой вашей как человека, и вы насладитесь двумя высшими наслаждениями жизни – счастьем воли и победы… Но стоит ли пожертвовать ему жалким трепетом мимолетных наслаждений? Если воля ваша слаба по природе вашей или по обстоятельствам, войдите в товарищество с людьми, окрыленными волей; доверьте тайну вашу другу, объединитесь с ним, чтобы силой соревнования, наградами, наказаниями, всем тем, что может и возвысить, и усмирить человека, сделаться достойными высшей и славнейшей из побед – победы над самим собой.
Глава VI. Об удовольствиях вкуса вообще. Сравнительная физиология
Строгий мыслитель, всецело занятый обоготворением «идеи», глядит с презрением на тривиальные удовольствия вкуса; женщина, впечатлительная и нервная, охотно согласилась бы испробовать на самой себе дивный бред Байрона о поддержании жизни одними чувствами любви. Философ же, смело положивший руку на тайны оживленной материи, чтобы спокойно прислушиваться к бьющемуся в ней пульсу, видит в людских сборищах толпы интеллигентных животных, изощряющих ум и мысли, чтобы есть и пить по правилам искусства и науки. Он слышит, как эти люди признаются, что минуты, проведенные за роскошным обедом, среди веселых гостей, бывают лучшим временем жизни, и он не смущается этим и не стыдится имени человека.
Ему известно, что предусмотрительная природа, вложив в человека всепревозмогающую потребность питания, обратила эту необходимость в источник нескончаемых для нас наслаждений. Удовольствие связано с питанием для всех животных вообще, но природа, всегда щедрая в отношении к любимейшему из своих созданий, предоставила человеку целый цикл возможных комбинаций и соображений, целый мир нравственных и физических наслаждений – акт питания, который мог бы и для него оставаться столь же несложным и разнообразным, как и для остального животного мира. Питание начинается с введения в организм материалов, способных возмещать ущерб в силах, затрачиваемых процессом жизни, и потому оно должно производить удовольствие при первом соприкосновении снеди с органами, готовыми переработать их; прикосновение это должно, следовательно, возбуждать чувство осязания.
Простейшие виды животных, получающие пищу посредством эндосмоса, должны ощущать удовольствие питания всеми пунктами своего тела. Материя, их составляющая, ежели только она способна чувствовать, должна или быть снабженной тончайшими фибрами, или вся состоять из однородной, чувствительной массы. В обоих случаях удовольствие вкуса у этих животных не может различаться от других более или менее приятных ощущений, происходящих от удовлетворения иных потребностей и составляющих сложное для них ощущение бытия. Поднявшись ступенью выше по лестнице живых существ, мы встречаем состоящих из однообразного субстанции инфузорий или амёбы, которые, охватив тело, служащее им пищей, всасывают его в невидимый дотоле желудок; по окончании пищеварения желудок скрывается или исчезает. Если подобное существо способно чувствовать что-либо вообще, то удовольствие вкуса должно обнимать все части его тела, поочередно прикасающиеся к охваченной им пище.
Затем мы видим животных уже с постоянным неким углублением в виде желудка, в котором ощущение вкуса как ограниченное местностью должно уже быть интенсивнее; ощущения в подобных существах должны быть чисто осязательными и отличаться одно от другого только по свойствам тех предметов, с которыми они приходят в соприкосновение. И действительно, в низших родах животных, снабженных элементарной нервной системой, один и тот же нерв должен отвечать аффектам всевозможного рода: и простому осязанию, производимому толчком встречных предметов, и половому ощущению, порождаемому щекотанием детородного члена; тот же самый нерв служит и органу вкуса, ежели встреченное тело питательного свойства.
Переходя от этих жалких набросков бытия к животным более совершенным, снабженным двумя различными нервными системами, мы видим, что при самом отверстии, куда влагается пища, преобладают нервы животной жизни, между тем как остальной аппарат пищеварения предоставлен нервам ганглиозной системы. Здесь уже сказывается ощущение вкуса, отдельное от такта внутреннего, хотя у насекомых оно еще не может быть названо специфическим.
После этого краткого обзора органов вкуса у низших животных перейдем к высшему разряду живых существ, у которых для чувства вкуса приспособлена специальная система нервов, могущая в физиологическом отношении быть названа, по крайней мере, специфической.
У высших животных вкусовые ощущения видоизменяются как в самой сути своей, так и в степени своего развития различием организации у них и нервов ощущения, и мозговых центров, а также тем способом, каким пища входит в соприкосновение с нервными окончаниями, расположенными внутри их зева. Чувство вкуса оказывается слабо развитым в птицах, которые слишком быстро глотают свою пищу, а также в рыбах, зев коих обложен жесткими, хрящеватыми тканями. У млекопитающих же мы находим, напротив того, пищеприемник чрезвычайно развитым и снабженным множеством щупалец, которые разнообразят пункты соприкосновения с пищей и расширяют до бесконечности область вкусовых наслаждений. Кроме того, мы видим, что пища, останавливаясь на некоторое время во рту, пережевывается зубами и примешивается к слюне, которая, в свой черед, все более и более растворяет ее, приводя ее частицы время от времени в соприкосновение с нервами для возбуждения через их посредство наслаждения все более и более интенсивного и тонкого.
Между млекопитающими могут найтись те, вкусовой аппарат которых более развит, чем у людей, но можно сказать утвердительно, что ни одно животное не может извлечь из чувства вкуса столько удовольствия, как любимейшее создание природы – человек. С удивительным знанием дела он умеет разнообразить и комбинировать вкушаемые им вещества и тонким своим вниманием усовершенствовать орган, который, по физиологическому своему устройству, остался бы, может быть, слабым и неразвитым.
Удовольствие вкуса состоит из комбинации различных элементов, из коих иные составляют необходимую принадлежность акта питания, другие же, напротив того, служат ему только украшением и роскошной обстановкой. С каждым удовольствием вкуса необходимо связаны ощущения осязания и вкуса; придаточными же элементами наслаждения бывают приятный вид самой пищи, ее запах и вся богатая сервировка, украшающая вкусное блюдо.
Чувство голода и его утоление не составляют необходимого условия хорошего обеда, хотя стимул голода, примешиваясь к другим элементам наслаждения, и может придавать особенную прелесть ощущениям вкуса. Человек более других животных способен действовать ввиду нескончаемого горизонта, находя почти всегда возможным расширять для себя его пределы. Вот почему он может и есть, и пить с удовольствием, уже давно не ощущая голода, и это бывает с ним вовсе не в силу какого-либо патологического состояния. Позднее, говоря о болезненных удовольствиях вкуса, постараемся определить демаркационную линию между физиологическими и патологическими удовольствиями, доставляемыми этим чувством.
Общие законы, регулирующие другие жизненные удовольствия, влияют одинаково и на вкусовые отправления. Чем сильнее потребность в пище и питье, чем нежнее и утонченнее бывает нервный аппарат, чем интенсивнее обращенное на процесс еды внимание, тем изящнее и сильнее становится наслаждение. Здесь, однако, степень радости для человека зависит, по-видимому, от молекулярных частиц съедаемой им пищи, таинственный же феномен внутренних ощущений не подлежит никакому анализу. Две личности, находящиеся при совершенно одинаковых условиях аппетита, чувствительности и внимания, ощущают при питании весьма различную степень удовольствия, потому что один из них ест черный хлеб, а другой вкушает соус из нежнейшей дичи. Желудок как в теле бедняка, так и в теле богача принимает одинаково безразлично и произведения тончайшего кулинарного искусства, и самое простое варево, лишь бы в обеих снедях оказывался материал, пригодный к возмещению утраты в теле, производимой временем и жизнью. Но богач медленно пережевывает и впитывает в себя с наслаждением вкусные препараты своей гастрономической лаборатории, между тем как бедный наскоро проглатывает свою неизящную снедь. Феномен этот – очевидно, результат предусмотрительности и провидения, и розыски, устраиваемые человеком по всей земле в течение веков в поисках себе сокровищ в виду удовольствия вкуса, были издавна могучим рычагом богатства и цивилизации.
Обильным источником вкусовых наслаждений бывает еще широкое поле идиосинкразии отдельных личностей. Всем известно, как отличен вкус одного человека от вкуса другого: у иного сияют глаза от радости при одном запахе вкусно приготовленного мяса, другой вовсе не обращает внимания на съедаемую им пищу, находя вкусным всё, что только утоляет голод. Некоторые выбирают себе как бы специальности вкуса, чувствуя отвращение к кушаньям, составляющим желанное лакомство для других. Эту особенность или исключительность вкуса можно подвести разве только под закон естественного унаследования. Когда вкусы обоих родителей сходятся в своих предпочтениях, тогда в детях сказывается та же самая вкусовая исключительность. Когда же вкусы отца и матери противоречат друг другу, тогда дети наследуют особенности то отца, то матери, или комбинируют их, так или иначе, между собой. Случается, хотя и весьма редко, что ребенок, родившийся от родителей, вкусы которых диаметрально противоположны, бывает одарен вкусом столь обширным и совершенным, что он умеет найти приятное в грубейшей снеди и между тем может поспорить тонкостью и изяществом вкусовых ощущений с самыми опытными адептами кулинарного искусства. Эта особенность унаследования сказалась на мне самом.
Заметное влияние на разнообразие вкуса проявляет пол человека: мужчина здесь, как и везде, оказывается баловнем природы. В женщине, несмотря на более развитую в ней восприимчивость чувств вообще, слишком мало эгоизма, и она не умеет ни изощрять, ни анализировать своих чувственных удовольствий, как это свойственно гурману. Сравнительная нежность ее пищеварительных органов и странная эксклюзивность ее вкусов мешает ей в большинстве случаев пользоваться сильнейшими из наслаждений вкуса. Она не выносит по большей части ни едкого алкогольного запаха, ни пряностей вообще и находит наслаждение в сладостях, кислых и горьких продуктах и т. п. Всему этому, разумеется, бывают исключения, но они не убавляют верности общего правила. В деле нравственной физиологии нет возможности проводить безусловно прямых линий и заключать представляемые ей факты в строго очерченные геометрические пределы. Здесь все приходится строить на неопределенных, летучих гранях и на кривых линиях. Кто хотел бы поступать иначе, тот работал бы анатомическим ножом над облаком и измерял бы свод небесный шириной своей ладони.
По быстроте и легкости впечатлений ощущения вкуса должны изменяться и с возрастом человека, так как с годами меняется и сама основа, на которой ткется жизненная ткань. В первые месяцы бытия человек, по однообразию пищи и по неразвитости внимания, вряд ли в состоянии наслаждаться настоящим образом ощущениями вкуса. Алчность аппетита, замечательная не столько по объему, сколько по своей интенсивности, заменяет ему в это время недостаточность вкусовой оценки. В ребяческие же годы, напротив того, удовольствия вкуса становятся чрезвычайно разнообразными как по разнородности его пищи и по новости ощущений, так и по громадности аппетита в эти блаженные дни. Но в юности, когда на горизонте человека появляется солнце любви, тогда перед ярким блистанием этого солнца бледнеют и меркнут удовольствия вкуса, они не занимают много места в жизни человека весьма молодого. Треволнения этого бурного времени не дозволяют юноше наслаждаться спокойным раздумьем обеденного стола. Но тускнеет и гаснет солнце молодости – и для человека пожилого виднее становится бледный светоч наслаждений вкуса, приманивающий спокойным своим мерцанием охотника до удовольствий, начинающего дорожить и временем, и деньгами. И вот тогда-то люди начинают считать час обеда кульминационным пунктом дня, ухищряясь заменить недостаток аппетита изящными кушаньями, приготовленными чуть ли не по личным указаниям.
В младенчестве человек был жаден по инстинкту, теперь он становится лакомкой (гурманом) в силу гастрономической науки и понемногу выучивается неподражаемо проводить языком по всей полости рта, как бы желая уловить остатки улетающего наслаждения. Но зубы начинают качаться, чувства притупляются, и бледноликая старость отпугивает от человека последние быстротечные удовольствия вкуса. Несмотря на все изощрения искусства и на терпеливую сосредоточенность внимания старческого эгоизма, вкус уже не может вызвать в дряхлеющем человеке ни восторженного аппетита ребяческих лет, ни даже тех строго обдуманных удовольствий пожилого возраста, которые обтягивали еще недавно внутренности гурмана приятным слоем жира.
В различных странах света у людей встречается и различная степень аппетита, и разница в наслаждениях вкуса. Волчий голод лапландца побуждает его глотать с восхищением огромные куски жира, запиваемые нескончаемыми чарками алкоголя; аравитянин, напротив того, вполне удовлетворяет свой аппетит скудной горстью фиников. Жители северных стран Европы, умея соединять в себе утонченность вкуса с неутомимым аппетитом, наслаждаются более других народов удовольствиями вкуса. Испанец же, хотя бы и самый преданный гастрономическим вкусам, может только безнадежно вздыхать, вспоминая с завистью об эластичных желудках Вены и Петербурга.
Было замечено не раз, что большая или меньшая потребность в пище обусловливается не столько климатом, сколько прирожденными свойствами расы. В Южной Америке жители Рио-де-Жанейро употребляют гораздо более пищи, чем обитатели Буэнос-Айреса и Монтевидео, хотя первый находится по климату в более жаркой полосе. Мне самому случалось видеть, как англичане и немцы не оставляют прожорливых своих привычек ни в Парагвае, ни даже под экватором. Из европейских народов лангобарды и французы всего успешнее умеют пользоваться удовольствиями вкуса; наслаждения же испанцев по этой части сводятся к нулю.
Само собой разумеется, что подобными удовольствиями бедняки всех частей света пользуются менее, чем богатые. Однако и богачу приходится иной раз строго следить за собой и лишать себя силой собственной воли многих наслаждений, чтобы не утратить навсегда аппетит свой в постоянной борьбе желудка с гастрономическими произведениями его роскошной кухни. Богачу, злоупотреблявшему удовольствиями вкуса, случалось не раз завидовать из глубины своей кареты аппетиту чернорабочего, который, прислоняясь к колонне во время полуденного отдыха, с видимым наслаждением закусывает краюхой черного хлеба.
Протекшие над землей времена и годы тоже немало изменили первобытные удовольствия вкуса. В первые столетия жизни человечества на земле люди вовсе не ведали ухищрений кулинарного искусства и довольствовались одним удовлетворением аппетита. Как громадна в былые времена была потребность в пище у людей, мы можем судить по гигантским размерам угощений Энея и Одиссея. Позднее гастрономия набросила свой красивый и пестрый плащ на громадность аппетита и уменьшила его значение среди богатых и досужих людей земли. Порядочная доля аппетита уцелела и у людей нашего времени, и мы можем похвастаться тем, что умеем лучше отцов наших наслаждаться удовольствиями стола и вкуса. И немудрено, нами получены сокровища кулинарного искусства, унаследованного памятью; мы наслаждаемся утонченностью нерва, переданного нам по наследству естеством нашим, – словом, мы могли бы соблазнить к обжорству умереннейшего из римлян времен Августа, пригласив его только к обыденному столу наших ресторанов.
Человек немного затрачивает нервной субстанции при наслаждении ощущениями вкуса, и ум весьма мало участвует в их проявлениях. Мозги поклонников кулинарного искусства находятся, следовательно, в состоянии вечного покоя, и ежели бы, по законам неумолимой природы, не ветшал обременяемый желудок и не случалось бы засоряться путям, по которым течет переполненная соками кровь, то счастливым едокам этим не приходилось бы, пожалуй, вовсе умирать.
Невозможно, однако, предаваться кулинарным наслаждениям вполне безнаказанно. Ум тупеет, и силы, предназначенные для мысленной работы, затрачиваются непроизводительно на выслеживание бесконечного ряда блаженных процессов пищеварения. Весьма редко случается, чтобы лакомками становились люди гениальные; немногие же примеры подобных исключений не должны поощрять людей к обжорству, так как оно является явлением вполне ненормальным. Или весьма умный человек бывает одарен желудком громадных размеров, или чрезмерная деятельность мысли потребляет и сжигает массу топлива, вводимого пищей в организм. Удовольствия вкуса влияют менее пагубно на чувствительную сторону человеческой жизни, чем на ум его. Люди, любящие полакомиться инстинктивно, еще бывают иногда мягкосердечны, но те, которые с наслаждением обдумывают заранее составы своих обедов, те по большей части бывают уже неисправимыми эгоистами. Лакомство и обжорство часто идут рука об руку с отупевшим и тривиальным строем мысли и чувства.
Наблюдение за игрою физиономии у людей, предавшихся вполне удовольствиям вкуса, довольно занимательно, хотя выражение лиц не выходит никогда за пределы спокойной радости и бесстрастного самоудовлетворения. Первая степень удовольствия выражается живостью телодвижений и какой-то безоблачной ясностью лица. Когда же наслаждение рафинируется изяществом пищи, тогда движение рук, постепенно замедляясь, перестает почти совершенно, ум же весь сосредоточивается на ощущении снедаемого. Тело оказывается слегка склоненным над любимым занятием; глаза, подернутые тусклым блеском, не видят ничего далее горизонта стоящего перед ними блюда. Челюсти двигаются с обдуманной медленностью, а язык, проводя пищевой комок по чувствительнейшим струнам зева, словно по клавишам, как бы следит за гармонией разнородных ощущений. Наконец, в ту минуту, когда питье или пища готовы исчезнуть от анализа (т. е. быть поглощенными), тогда лакомый кус производит самое интенсивное впечатление, как бы посылая ласковое «прости» своему усердному ценителю. Губы при этом сжимаются, и вся физиономия выражает напряжение мускулов, старающихся удержать как можно дольше приятное впечатление. Это мгновение, когда лакомка готовится передать смакуемый им кус из мира собственных, животных ощущений в свой же растительный, не ощущающий уже удовольствия, мир, придает его физиономии совершенно особое выражение. Но вот жертва принесена, кусок проглочен, и рот, широко раскрывшись, испускает глубокий вздох полнейшего удовлетворения. Иногда челюсти поднимаются и опускаются еще раз, чтобы собрать последние следы удовольствия, и затем рот снова открывается, и на этот раз уже с нетерпением, чтобы принять новую добычу, ощущение от которой, сливаясь с последними трепетными ощущениями первого, производит своего рода мелодию. Можно сказать, что во вкусовых ощущениях есть и своя мелодия, и своя гармония: все производимые в полости рта одним и тем же куском осязательные вкусовые ощущения естественно группируются в один общий, вкусовой аккорд, т. е. в нечто гармоничное. А между тем убегающее впечатление от проглоченного, сочетаясь со следующим впечатлением, производит мелодию. Разнообразие происходит от того, однородны ли эти впечатления, разнясь между собой только степенью, или тем, состоят ли они из совершенно различных свойств. На гармонии вкусов вещества зиждется первая часть гастрономии как науки, рассуждающей о приготовлении яств. На мелодии же вкусов построена последняя, главная часть этой науки, трактующая о последовательности между собою блюд и о комбинации вин между собою. Хороший обед – концерт, составленный из гармонии и мелодии и основанный на непреложных законах вкуса, чуть ли не математически определенных и доводимых гениальностью кулинарного артиста до апогея своего совершенства. Так, в своем «Искусстве угощать» наш Райберти написал драгоценный фрагмент музыки вкуса.
Указав в главных чертах на физиономию лакомки при великом деле поглощения им пищи, я не упомянул ни о прижатии руки к середине груди, как бы для того, чтобы проследить за дальнейшим ходом драгоценного пищевого клубка, ни об иных мимических чертах наброшенной мной картины. Повторяю только, что в деле вкусовых ощущений, как и при акте генерации, наибольшее удовольствие ощущается при довершении существенного акта функции. Природу обмануть невозможно. Как можно симулировать акт любви, не довершив оного, так есть возможность пережевывать вещества, не глотая их, но главное удовольствие ощущается только тогда, когда выполняется цель, предназначенная природой, т. е. когда пищевой клубок входит в область растительной жизни человека.
Глава VII. Аналитический очерк удовольствий вкуса
Несмотря на все разнообразие и на всю многочисленность удовольствий вкуса, нет возможности определить и сгруппировать их по свойствам внутренних ощущений человека. Только гадательно можно проводить лишь неопределенную и шаткую черту в широком и таинственном поле ощущений вкуса.
Ощущение составляет один из главных элементов вкусовых удовольствий; оно же становится и главным для них источником, обусловливаясь притом физическими свойствами вкушаемого. Так, температура снеди может уже сама по себе производить приятное ощущение, причем следует отметить как физиологический закон, что при ощущениях вкуса холод доставляет гораздо больше удовольствий чисто осязательных, чем тепло. Тепло само по себе не составляет элемента удовольствий, а может только обострить до высшей степени специфическое ощущение вкуса. Вот почему, когда мы в летнюю жаркую пору с наслаждением пьем ледяную воду или чувствуем, как тает мороженое в разгоряченной полости зева, мы радуемся осязаемому во рту холоду, помимо самого вкуса лакомства, но весьма редко ценим приятность пищи только по степени ее теплоты. Чтобы оценить всю прелесть глотка чистой теплой воды, может быть, следует перенестись в снега и льды Сибири. Но если высокая температура пищи не может сама по себе доставить удовольствия вкусу, то она косвенно способствует интенсивности ощущений в его аппарате, и это случается по следующим причинам: теплота пищи приводит нервы в состояние гиперстении чувства, и затем, разъединяя молекулы тел, тепло уменьшает их плотность. Еще может статься, что незаметный трепет молекул, долженствующий происходить во всяком разгоряченном теле, содействует произведению удовольствия в полости рта. Как бы то ни было, всем известен факт, что искусство разгорячать вкушаемое составляет одну из основных задач гастрономии, и что одна и та же пища и один и тот же напиток могут совершенно изменить свое вкусовое значение с изменением своей температуры. Достаточно припомнить разницу между парным и холодным молоком.
Еще один физический элемент, способствующий проявлению удовольствий вкуса, составляет степень жидкости или плотности находящейся во рту снеди. Приятное ощущение питья гораздо менее сложно, чем наслаждение, производимое плотной пищей; удовольствия, доставляемые питьем, нежнее и скоротечнее, но они, если можно так выразиться, менее возвышенны, чем наслаждения пищей.
При поглощении напитка мускулы зева остаются в покое, и, собираясь вкусить моментально появившееся наслаждение, мы не ощущаем ни малейшей при этом усталости. Мы довольствуемся только тем, что слегка приостанавливаем в зеве питье, стараясь обратить все внимание на восхитительное мгновение его перехода в глотку. Ежели бы была возможность подвести итог всем удовольствиям вкуса за целое поколение, то оказалось бы, вероятно, что наслаждения питьем далеко превосходят все приятности еды.
К удовольствиям питья относятся и наслаждения алкогольными напитками, кофе, чаем, гуараной, мятой и другими менее известными таинственными субстанциями подобного рода, стоившими того, чтобы их сгруппировали в особый отдел под именем нервных и поставили бы наряду с вдыхаемыми субстанциями. Напитки эти как могучие двигатели цивилизации среди народов должны бы быть тщательно изучаемы людьми, занимавшимися историей человеческого естества. Но анализ нескончаемых удовольствий, доставляемых нам этими напитками, вовлек бы нас в сферу наслаждений ума и чувства, так как их действие распространяется на всю область человеческих способностей, и они странной цифрой входят в статистические разрешения как простейших вопросов, так и самых сложных проблем общественной жизни. Удовольствия, распространяемые этими напитками, естественно подразделяются на два отдела: на алкогольные и на те, которые я позволю себе причислить к кофе, т. е. наслаждения чаем и другими напитками подобного рода.
Среди нескончаемого легиона крепких напитков вино первенствует с полным правом, соединяя в себе все их особенности и представляя их то летучей пеной шампанского, то строгим вкусом португальского портвейна, то вулканическими эссенциями ягод, взращенных на склонах Везувия, то возбуждающими винами острова Малага.
Сокровища, ревниво оберегаемые в хранилищах наших погребов, подлежат, разумеется, ведению вкуса; но лучшие из радостей, ими доставляемых, начинаются после осушения бутылки. Будем говорить о них позднее, когда речь коснется ощущений, однородных им.
Кофе и младший брат его, чай, смотрят с улыбкой презрения и жалости на неприлично веселых алкоголиков с их раскрасневшимися лицами и со спокойным торжеством указывают на благородный строй идущих за ними радостей.
Запах, распространяющийся от чашки хорошего мокко, уже располагает мозг человека к спокойно-деятельной жизни. Нервы начинают живее переносить более интенсивные впечатления; фантазия разворачивает перед поклонником кофе могучий свой калейдоскоп, представляя картину за картиной, отражая их в ясном зеркале ничем не возмущаемого сознания, и человек, радуясь жизни, гордится самим собой. Но, продолжая перечень подобных удовольствий, я невольно переступил бы в заповедную для меня в настоящую минуту грань интеллектуальных радостей. Достаточно будет этих немногих слов, чтобы указать, почему так дорог кофе людям, умеющим чувствовать и мыслить. Но не все способны испытывать подобные удовольствия, и множество людей вовсе не помышляют, чтобы кофе мог доставить иное наслаждение, кроме удовлетворения вкуса и улучшения пищеварительных сил. Мате, или настой из поджаренных листьев растения Падуб парагвайский, составляет тонизированный и возбуждающий напиток, издавна излюбленный жителями Рио-де-ла-Плата и употребляемый, хотя не в столь широких размерах, в Бразилии, в Боливии и по всему побережью Тихого океана. Взойдет ли кто в палаццо президента или под глиняную кровлю беднейшего гаучо, везде гостеприимная рука протягивается с любимым настоем, и затем гость и хозяин дружественно принимаются сосать поочередно горячий раствор через горлышко серебряной трубочки. Хозяева подбрасывают еще сахару, подливают еще кипятку на те же самые листья; вновь настаивается любимое питье, и чаша с мате переходит из рук в руки, и никому не приходить в голову отлить себе настоя в особую чашку или употребить для высасывания его особую трубочку. Вам будут предлагать мате еще и еще, пока вы не ответите наконец решительным отказом. Дилетанты умудряются приступать к выпиванию мате по десять и даже по двадцать раз в течение дня.
Напиток этот, содержащий громадную долю кофеина, приятно возбуждает чувства и умственные способности. Самый образ всасывания его целым обществом поочередно способствует проявлению при этом новых придаточных наслаждений. Питье мате поддерживает живость разговора, поочередным всасыванием, словно легкими булавочными уколами, прогоняя скуку, а главное, соединяя всю группу собравшихся гостей атмосферой общих всем ощущений. Европейца претит от этого коммунизма уст и чаш, и он нередко избегает участия в удовольствии, которое слишком сильно напоминает те блаженные времена, когда подозрительность и страх заражения себя болезнями еще не изгоняли из наших пиров общность блюда и чаш. Я, со своей стороны, не хотел бы видеть того времени, когда американские племена отбросят употребление своей прадедовской трубочки и начнут по-нашему разливать дорогое свое мате в роскошные фарфоровые чашечки. Охотно послал бы я в эту минуту проклятие вослед тем нивелирующим условиям цивилизации, которые все более и более стирают особенности человеческих рас, распространяя отчуждение и подозрительность в группах людей, собиравшихся во имя общительности и связанных с ней удовольствий.
Гуарана, составленная из ягод Paillunia sorbilis, – напиток исключительно аристократический, предоставленный, ввиду ценности своей, богачам Бразилии и Боливии. Вкушают его холодным и подслащенным; вкус его напоминает шоколад и вместе с тем малину; он отгоняет инерцию и сонливость, располагая человека к интеллектуальному труду и к наслаждениям любви.
Плотные питательные вещества способны доставлять приятное ощущение нервам рта чисто внешними своими свойствами. Так, мягкость пищи, упражняя мускулы, не утомляет их и приносит осязательное удовольствие, как, например, при поедании желе, артишоков или студня. Иногда источниками удовольствий бывают тонкость и нежность тканей, что замечается едящими печенку, мозги, каперсы из плодов настурции, мясо, плоды и т. п. Присутствие в пище мельчайших фибр тоже приятно осязанию, и эту приятность мы ощущаем вполне, когда наслаждаемся в совершенстве приготовленной говядиной. Странное удовольствие, производимое на нервы рта эластичной пищей, бывает так велико, что оно может доводить до судорог челюстей. На Востоке гаремные дамы, скучают от праздности и зевоты, занимаются пережевыванием промеж зубов мастики и других пахучих смолянистых веществ, которые, не разрываясь, уступают давлению челюстей и принимают во рту всевозможные формы. Некоторые продукты кулинарного искусства как бы дразнят нас мнимым противодействием и затем, мгновенно уступая давлению, то рассыпаются во рту мелким порошком, то растекаются в нем жидким тестом.
Удовольствие подобного рода доставляют нам некоторые сладости, хрупкие поджаренные гренки и все разновидности сухариков и кренделей. Еще род удовольствий представляет чувству осязания пища, плотная с виду, но мгновенно разжижающаяся во рту, как, например, масло и другие кулинарные препараты. Особенную приятность, наконец, находят люди в преодолении во рту некоторых препятствий, требующих более или менее значительного усилия, что мы испытываем, лакомясь конфетами нуги или так называемыми крокетами, разгрызая плодовые зерна, орешки и т. п.
Все эти более или менее приятные впечатления, воспринимаемые в полости рта нервами осязания, производят, комбинируясь между собой, весьма сложные и бесчисленные удовольствия. Одна из главных подобных комбинаций состоит из примешивания тел плотных к телам жидким или из смешивания между собой элементов различной плотности. Стоит вспомнить здесь удовольствие при поедании рисовых сухариков с кремом из сливок или холодной говядины с маслом. Европейцы привыкли примешивать хлеб ко всякой вкушаемой ими пище; китайцы же в этом случай заменяют хлеб вареным рисом. В пище, как и везде, привычка производит на людей значительное влияние.
Жирное нравится людям только в связи с иными, более твердыми, кушаньями, или в примеси к веществам более определенного, пряного или едкого, вкуса. Неизвестно, в силу каких законов люди любят жир или чувствуют к нему отвращение; верно только то, что в нем находят удовольствие люди с предрасположенностью к чахотке.
Кроме основных этих отношений между ощущениями, доставляемыми вкусом, существует еще множество других, не имеющих иных определений, кроме названий веществ, их производящих, и потому почти нет возможности обозначить какие бы то ни было определенные грани в этом хаосе разнородных вкусовых ощущений.
Вкус наслаждается иногда тонкостью и нежностью доставляемых ему ощущений, столь летучих и неуловимых, что для оценки их требуется особенно напряженное внимание. Это можно сказать о чае, вкус которого так изящно тонок, что едва замечается людьми с невнимательным или огрубелым чувством вкуса.
Удовольствие совершенно противоположное составляют сила и крепость ощущения, доставляющего наслаждение только лицам, могущим переносить его без неприятного потрясения. Ром, корица, разновидности перца, горчица и т. п. доставляют удовольствия этого рода.
Середину между этими двумя крайностями занимает вереница более или менее выдающихся ощущений, комбинация которых составляет для гастронома источник нескончаемых наслаждений. Законы же, регулирующие приятность этих вкусовых ощущений, мало изучены; неизвестно, например, почему ваниль сообщает кушаньям столь утонченную приятность, а также и почему ее внутренности содержат более аромата, чем кожура.
Так как в удовольствиях вкуса многое зависит от личных идиосинкразий, то почти нет возможности указать, где кончается наслаждение физиологическое и где начинается удовольствие болезненного или патологического свойства.
Человек, отшатывающийся с омерзением от сырного запаха, не вправе называть патологическим наслаждение другого, с восхищением вкушающего горгольский сыр, который кишит криптограммами, и в котором под разновидностями грибов нежатся личинки насекомых и мириады всевозможных инфузорий. Иная пища нравится всем вообще, другая, напротив того, разделяет своих любителей и врагов на два чуть ли не воющие стана. К счастью, почти все люди сходятся во вкусах своих, когда дело идет о пище, поддерживающий наш организм; споры же между гастрономами касаются только роскошных аксессуаров питания. Устрицы, улитки, икра или полынь вовсе не составляют необходимой потребности для человека, хотя они и имеют повсюду своих поклонников и врагов. Колосья же хлебных растений и мясо травоядных животных, наоборот, сопровождают человека во всех его миграциях по земному шару.
Отвращение целых народностей от некоторых яств вовсе еще не составляет патологические явления. Привычка придает жителям Океании охоту к пожиранию муравьев, китайцам – к клейкости излюбленных ими птичьих гнезд, американцам Флориды – к собачьему мясу.
Патологическое наслаждение начинается только там, где съедаемое вещество вовсе не придает питательности человеческому телу. Люди, склонные к истерике, грызущие с восхищением кусочки угля, или личности, наслаждающиеся втихомолку роскошным лакомством золы, земли, извести и т. п., утешаются удовольствиями вполне морбидного свойства. У меня есть знакомый, вовсе лишенный обоняния и почти совсем не ведающий ощущений вкуса; он чувствует ощущение сладости и потому держит всегда перед собой блюдце с мелким сахаром, которым и посыпает усердно всякое кушанье – от супа и говядины до сосисок.
Глава VIII. О некоторых увеселениях, основанных на наслаждениях чувства вкуса. Философия гастрономии
Животное вкушает пищу, когда оно голодно и находит корм; ощущаемое же им удовольствие соизмеряется со степенью его аппетита и со свойством вкушаемой им снеди. Но человек, сумевший разнообразить до бесконечности удовольствия вкуса при содействии гастрономического искусства, умудрился еще распределять часы своего питания так, чтобы они доставляли ему как можно более наслаждений, не мешая притом порядку его занятий.
Наиболее близкая к животному миру часть человечества ест, не соблюдая при этом ни времени, ни меры. Но человек образованный строго придерживается часов, назначенных для питания, распределяя их скорее ради сбережения деятельности своих мозгов, чем ради требования желудка. Время вкушения пищи изменяется в силу национальных привычек, в силу общественных условий и по вкусу каждого; наиболее обычная для людей процедура гастрономических удовольствий обусловливается распределением дня на завтрак, обед, полдник и ужин. Каждая подобная трапеза обусловливается свойственными ей законами, имеет особенное выражение, которое могло бы стать предметом отдельной физиологии. Набросим здесь легкий очерк, посвященный особенностям каждой.
Первая трапеза дня – завтрак, к которому приближаются с чувством девственного, вполне отдохнувшего за ночь аппетита. Обычная неумеренность и капризы избалованного желудка лишают многих людей наслаждений, присущих завтраку. Но дети и те из юношей, которые, будучи уже в совершенных летах, умели сохранить желудок в неиспорченности первого возраста, чувствуют, о пробуждении настоятельную потребность в пище и приступают к завтраку с улыбкой на лице, весело потирая от ожидания руки. Разум, однако, умеряет эти желудочные побуждения, требуя, чтобы временем, употребленным на питание, не был наносим вред предстоящим каждому занятиям дня, и вот почему едят за завтраком вообще немного, спеша утолить только первый голод. Приступая к завтраку семейно или поодиночке, мало обращают внимания на съедаемую пищу и мало разговаривают вообще во время этой первой трапезы дня. Ум бывает вполне занят предположениями и планами на предстоящие часы дня, и человек довольствуется утолением потребности, не ставя на этот раз удовольствие целью процесса питания. Приводя акт завтрака к физиологической формуле, можно сказать, что наслаждению им более всего способствуют хороший аппетит и необходимость скорейшего утоления голода. Случается, впрочем, столько же видоизменений и этой трапезы, сколько людей на свете. Для иных завтрак составляет самое значительное событие первой половины дня; другие же вовсе не приступают к процедуре завтрака. Некоторые блаженные смертные умудряются проводить за этим занятием не менее двух или трех часов, возводя завтрак в трапезу чисто баснословных размеров.
Дети и те немногие из взрослых, которые, по редкому счастью, сохранили в течение жизни желудочную деятельность первых лет, устраивают нередко вторичный завтрак, не имеющий, впрочем, никакого влияния на остальной обиход дня, так как его обычно проводят на манер евреев во время исхода из Египта, т. е. стоя и не выпуская посоха из рук. В холодных краях, где аппетит почти всегда равносилен голоду, второй завтрак бывает иногда делом серьезной необходимости; но, по физиологическому своему значению, он все же отвечает только первой трапезе дня. Таковы ланч у англичан и, по всей вероятности, наше закусывание. Но трапеза, имеющая полное значение отдыха среди занятий дня, соединяет под скромным именем обеда всех, более или менее многочисленных членов семьи; под более же громким названием пиршества, или «обеденного пира», она соединяет множество людей ради настоящего празднества, в течение которого дается место и более благородным человеческим чувством и самым низким побуждениям мелкого тщеславия. Обед человека одинокого состоит из серии одних чувственных наслаждений, и потому он вовсе не имеет никакого психологического значения. Когда случается, что двое или трое людей обедают за одним столом, каждый – на собственные средства и при выборе блюд по собственному вкусу, тогда бывает «совместный обед», украшенный, быть может, интересом беседы; но нравственного общения и акта обеда в собственном смысле нельзя признать в подобном случайном собрании отдельных личностей. Обедом называется общение между лицами, связанными узами семейства или приязни, собравшимися около стола, чтобы вместе вкушать одни и те же яства. Тогда только трапеза оказывается настоящим увеселением, действительным пиром, во время которого удовлетворения вкуса удивительно содействуют гармонии и наслаждению дружественного общения.
При семейном обеде лучшая часть угощения состоит во взаимном чувстве дружелюбия; когда же оказывается недостаток приязни между обедающими, тогда самая изящная снедь не в силах заменить недостающего сокровища, и каждая личность оказывается при подобной трапезе только жующим само по себе животным. Той нравственной атмосферой, в которой сливаются все радости обеда, может быть только или примитивное чувство общительности, или любовь, соединяющая между собой членов одной и той же семьи.
Удовольствие отдохнуть после усталости дня, радость свидания, сближения за одним столом, разговоры и шутки – вот элементы, из коих составляется блаженство того недолгого обеденного времени, в котором люди умеют вместить столько доказательств любви и столько радости. Все, что способствует сближению личностей, сосредоточению их около одного общего дела, придает живость удовольствиям обеда. Вот почему не может быть более приятного зрелища, как вид обедающей швейцарской семьи, которая, приютившись в своей теплой и обособленной от всего житейского каморке, видит, как за оконцами падает снег, меж тем как ей тепло и уютно при свете мерцающего среди комнаты камелька; и сидят они все, родители и дети, спокойные и радостные, чинно расположившись за столом почти с математической точностью. При тех же самых нравственных условиях происходит гораздо менее привлекательная с виду трапеза индейцев. Разбредшиеся утром по степи, они собираются около середины дня к столу беспорядочному и грязному и начинают обедать, кто сидя, кто продолжая стоять, а кто и растянувшись, лежа на траве. Не будучи сами ни индейцами, ни швейцарцами, мы можем вообразить себе разницу между двумя обеденными обстановками, припомнив себе картину собственных трапез при таинственном освещении камина зимой, и присутствие наше при обедах в летнюю жаркую пору, гораздо более невнимательное и менее порядочное. Можно сказать утвердительно, что по мере приближения людей от севера к югу обыденный процесс среди них становится все менее обильным и менее красивым; под жаркими же лучами тропического солнца обыденная трапеза совершенно изменяет своим характерным особенностям. Преобладающее между гостями настроение во время пиршеств принадлежит к гораздо менее возвышенному порядку вещей, чем то, которое согревает сердца людей во время более скромных семейных обедов. Изысканная роскошь скрывает нередко под складками своей великолепной мантии множество страстишек, отталкивающих ввиду крайней своей мелочности. Благороднейшим из угощений бывает то, которым платят дань собственной потребности гостеприимства, особенным образом чествуя каждую приглашенную на вечер личность. Преобладают тогда, с одной стороны, ласковость и прирожденная учтивость хозяев и внимание, вызываемое в них чувством взаимного уважения; а с другой – вполне естественное выражение благодарности. Подобный обмен благородных чувств распространяет и на самую трапезу свое благотворное влияние, оживляя и украшая то чувственное наслаждение, которое, таким образом, приносится на алтарь более возвышенных понятий. Весьма редкими оказываются пиры, достигающие такой нравственной высоты. Великолепно убранный стол собирает нередко круг людей, презирающих или ненавидящих друг друга, но могущество и покровительство которых бывают нужны угощающему. И вот это-то жалкое покровительство вымаливают нищенски, стараясь вместе с тем и обязать угощаемых узами благодарности, и ослепить их нагло выставляемым богатством. Бледные, неестественные улыбки, изысканно сложенная неправдивая речь и бессовестно-льстивые слова распространяют вокруг стола искусственное наслаждение чисто патологического свойства. Эти смертельно-бледные удовольствия заглушают и самое наслаждение яствами, от которых, таким образом, отстранено все внимание гостей. Кроме этих двух разновидностей пиршеств существует еще третья. Люди, хорошо знакомые между собой, собираются за обеденным столом, блистающим всеми ухищрениями гастрономического искусства, и здесь приносится настоящее жертвоприношение изяществу человеческого вкуса в связи с чувствами обоняния и слуха, а может быть, даже и некоторых половых наслаждений. Когда подобное пиршество не опускается до низменного уровня оргии, оно может возвыситься до той изысканности кулинарного искусства, которое удовлетворяет чувство прекрасного в человеке; а между тем радость, просвечивая на лицах пирующих, высказываясь то блеском ума, то вспышками веселого смеха, вовсе не имеет в себе ничего преступного.
Полдник, составляя трапезу по преимуществу южан, может дойти до совершенства только под сводом вечно лазоревого неба, среди роскоши травы и цветов. Самый условный этикет трапезы становится веселым и приятным, и человек насыщается плодами, сластями, молоком и столь же простыми и легкими яствами. Игры, шутки и музыка бывают естественными товарищами подобных увеселений.
Ужин представляет две весьма отличные друг от друга разновидности. Семейный ужин – это собрание приятно-спокойных радостей, неразлучных с прелестью отдыха, вкушаемого целой группой людей сообща. Утомительные работы дня миновали, и ум отдыхает в спокойном пересмотре событий прошедшего дня и в планировании всего приятного на будущие времена. Настало время, когда сознание всего отчетливее передает языку скопившиеся в нем образы и мысли, и когда человек наслаждается восхитительным внутренним спокойствием; это – самые удобные часы для душевных излияний и дружеских признаний, часы нескончаемых рассказов, шуток и шаловливой болтовни. Благословенна жизнь тех, кому суждено было насладиться радостями семейного ужина.
Другой род ужина состоит из небольшого пира, посвященного удовольствиям вкуса; для наслаждения им достаточно легкого капризного аппетита вовсе не голодного человека, его сумеют возбудить снова легким составом блюд и восхитительными винами, выпитыми в обществе хорошо известных друг другу людей. Подобный ужин даже в самых своих лучших проявлениях всегда колеблется на грани между трапезой и оргией. По большей части чувство умеренности исчезает с самой первой минуты сборища и проявляется уже гораздо позднее, всегда в связи с раскаянием и неприятным сознанием унижения.
Глава IX. О наслаждениях, доставляемых обонянием
Из всех пяти чувств всего менее удовольствий доставляет нам обоняние, да и сами эти удовольствия так мимолетны и скудны, что для иных людей чувство обоняния оказывается как бы ненужным орнаментом и предметом роскоши. У многих животных низшего разряда обоняния вовсе не существует; у большинства же млекопитающих, напротив того, оно является гораздо более острым и развитым, чем у человека. При этом невольно вспоминается собака, которая, бегая весь день с поднятым носом, впитывает все могущие проноситься по воздуху запахи своими чуткими, всегда мокрыми ноздрями. Но так как удовольствия, доставляемые обонянием, не могут быть измеряемы ни на один аршин, то, вероятно, найдутся люди, утверждающие, что орган обоняния у человека более развит, чем у других животных, приводя довольно веские аргументы в пользу своего заверения.
Анализируя самую процедуру обоняния, мы не усматриваем того, что именно составляет для человека приятность благоуханий. Самый орган этого чувства не требует упражнения, и потому удовольствие не может состоять в утолении потребности, как то было указано при объяснении приятности других ощущений. Кроме того, природа, видимо, не старалась привлечь посредством обоняния внимание человека к свойственной ему пище, так как сладчайшие ароматы не связаны вовсе с веществами, его питающими. Благоухания распространены по всем трем царствам природы без видимых законов и без определенной меры. Заметить можно, что ароматами обильно наделено растительное царство и преимущественно цветы; в животном царстве благоухания встречаются реже, а в минеральном их весьма мало. Основной элемент удовольствий обоняния неизвестен, и никогда, по всей вероятности не узнают люди, почему невзрачная фиалка скрывает среди бледных лепестков своих такое обилие благоуханий и почему, напротив того, красивый цветок аронника обыкновенного (эстрагон) распространяет вокруг себя такое зловоние.
Процедура обоняния состоит по большей части из соприкосновения носящихся в воздухе пахучих частиц с обоняющими нервами; но иногда в наслаждении обоняния участвует и развивается в органе способность осязания, хотя она редко бывает начальным стимулом удовольствия.
Индивидуальные свойства более влияют на особенности обоняния, чем на удовольствия остальных чувств, по самой мимолетности наслаждений запахами и по незначительной роли в ходе животной экономии. Большинство людей сходится во вкусах при выборе сильно пахучих веществ, но чем нежнее запах, тем более расходятся люди в своем к нему пристрастии или отвращении. Патологической же становится какая-нибудь особенность этого рода только тогда, когда человеку нравится запах вещества, могущего нанести ему вред; но так как большинство имеет решающий голос и в деле вкуса, то не могу не назвать болезненным пристрастие к запаху асафетиды, чеснока или жженого рога.
Женский пол вообще более чуток к удовольствиям обоняния, потому ли, что нервы его нежнее сами по себе, или потому, что они не притуплены грубыми наслаждениями, почерпаемыми в табакерке. Летучие радости обоняния оказываются сильнее в зрелые годы, в жарком климате и в высших, более образованных слоях общества.
Эти удовольствия так мало влияют на людей, что действие их на жизнь проходит почти незамеченным, требуя немало внимания; они развивают в человеке способность к наблюдению, они развивают любовь к цветам и, следовательно, сознание красоты в природе.
Впечатление этого удовольствия отражается на лице весьма несложным способом: закрывая рот, человек долго и глубоко вдыхает воздух ноздрями с выражением спокойного и тихого внимания; дыхательное горло по возможности расширяется, предваряя глубокий вздох; затем следует долгое и шумное выдыхание воздуха, при котором вся физиономия как бы расцветает, выражая полнейшее удовлетворение. Восклицания или междометия, выражающие удивление, дополняют картину. Иной раз запах приводит нам на память прежде бывшее ощущение подобного же рода, тогда мы молча как бы призадумываемся, обратив глаза вверх с выражением какой-то строгости на лице. Удовольствия обоняния заставляют нас иногда улыбнуться, но они никогда не вызывают смеха.
Круг осязательных удовольствий обоняния довольно ограничен; они состоят или в простом раздражении слизистой оболочки, или в действительном ее щекотании. Реакция ощущений бывает иногда настолько сильна, что вызывает их сразу, освобождая нервным усилием чувство от состояния крайней напряженности, что может быть иногда весьма приятно. Подобное облегчение испытывается при нюхании табаку или крепких уксусов, при вдыхании мельчайших хрусталиков бензойной кислоты и других подобных веществ.
Специфические удовольствия обоняния делятся на два разряда сильных и нежных ощущений. К числу тонких наслаждений относится аромат фиалок, роз, резеды, янтаря. Сильные ощущения производят запахи магнолий, ванили, мускуса, пачули и т. п. Некоторые благоухания до того летучи и нежны, что уловить их сладость можно только при особенном внимании. Таковы, например, запах чайной розы, чая и некоторых древесных стружек.
Иногда сильный и сложный запах медленно и как бы таинственно заявляет свою приятность, и чтобы находить в нем удовольствие, следует произвести над собой некоторое усилие и медленно приучить к нему нервы; это – борьба с запахом при посредстве чувства и воли. Ядовитый запах опиума и некоторых смол может служить примером, но свойства их еще недостаточно изучены.
Удовольствие при обонянии производится иной раз вовсе не самым ощущением, а воспоминаниями, вызываемыми запахом. Так моряку, услыхавшему запах смолы, вспоминаются море и любимый корабль; так ветеран, изведавший земную славу и изможденный ранами, еще вдыхает в себя с наслаждением заслышанный им издали запах пороха, а горец, перенесенный судьбою в страну равнин, с восхищением втягивает в себя запах смолистой сосны.
Во всех подобных случаях к ощущениям обоняния присоединяется более возвышенное чувство, производя сложное наслаждение, могущее достигнуть высшей степени напряжения.
Глава X. О нюхательном и курительном табаке и о возможности изобретения иных наслаждений, доступных чувству обоняния
Цивилизация, совершенствуя наслаждения иных чувств, не сумела дать обонянию других наслаждений, кроме злосчастной страсти нюхать табак. Привычка эта, упражняя только некоторые ощущения, делает людей неспособными к наслаждению иными, более утонченными радостями этого чувства.
Табак, приятно раздражая нервы осязания и распространяя легкие запахи, увеселяет человека постоянными интермедиями нюхания, прерывающего по временам серийность его труда. Табак же облегчает и нестерпимое бремя праздного времени, деля его на столько же частиц, сколько случается за час понюшек. Табакерка иной раз спасает от сонливости и упражняет руки, когда, находясь в обществе, мы не знаем, куда их девать. С табакеркой свыкаешься, как с неразлучным другом, который иной раз дает легкую пищу и тщеславного нюхателя: люди утешаются иной раз до бесконечности возможностью открывать и закрывать золотую табакерку на глазах человека, которому судьба указала смиренно довольствоваться серебряной или даже деревянной табакохранительницей. Охотно допускаем возможность всех этих удовольствий, связанных с нюхательным табаком, для мужчин всех сословий и возрастов и даже для женщин, достигших почтенных лет или столь уже уродливых, что при виде их не замечаешь вовсе, какого они пола; но торжественно вопием здесь против табакерок в руках молодых и красивых женщин, носики которых следует поберечь для наслаждения запахом фиалок и роз.
Обонянию и вкусу специально подлежит курение табаку, о котором постараемся сказать здесь немного слов без страстного увлечения и без ненависти, стараясь отыскать для себя блаженную середину между лагерями неутомимых дилетантов, проводящих дни в атмосфере табачного дыма, и чопорных гонителей табака и его курения, проклинающих ни в чем не повинный никотин, обвиняя его в извращении и отравлении нашей расы. Человек, готовящийся покурить трубку ли, сигару ли, все равно, бывает озабочен рядом мелких, не лишенных некоторой приятности приспособлений. Кто обратил внимание на физиономию свертывающего папиросу, обрезающего сигару или набивающего трубку, чтобы всецело предаться любимому наслаждению, должен был заметить на лице человека проблеск легкого, но живейшего довольства. Иначе и быть не могло: близость наслаждения и удовольствие приготовлять его себе собственными руками должны вызывать приятное ощущение, не утомляющее притом внимания умственного центра, занятого, может статься, совсем иным.
Второй элемент, входящий в весьма сложное удовольствие курящего, – это вкус, который при курении трубки ограничивается одной дымной эссенцией; при наслаждении же сигарой вкус получает еще ощущение смолы, напитанной расходящимися в ней частицами табачных листьев. Попеременное вкушение то горечи, то ароматной смолы образует сотни комбинаций, вполне изведанных только утонченными курильщиками. Но вообще во время курения нервы как вкуса, так и осязания находятся в состоянии приятного возбуждения, настоящей распущенности чувства, и человек без еды «вкушает».
Осязающее чувство, развитое в губах и мускулах зева, тоже участвует в усугублении удовольствия попеременными легкими движениями, необходимыми для втягивания дыма, для задерживания его во рту и для испускания его вон.
Обоняние тоже немало участвует в этом удовольствии, хотя и наслаждается им в гораздо меньшей степени, чем первые два чувства. Оно, во всяком случае, необходимо курильщику. Знакомый мой, о котором говорилось выше, находит в трубке громадное наслаждение, хотя он вовсе лишен обоняния и отчасти вкуса.
Запах приносится к ноздрям дымом, вылетающим изо рта, но он может переходить из зева и прямо в нос посредством внутренних отверстий ноздрей.
Умеющие выпускать струйки дыма из носа испытывают при этом приятное раздражение слизистой оболочки носа и забаву довольно странной игры.
Чувство зрения приносит со своей стороны некоторую долю удовольствия курящему, насколько забавляет его вид и медленного прогорания табаку, и вылетающих изо рта дымовых струй, то стелющихся по воздуху легкими облачками, то быстро исчезающих в атмосфере кругом. Припомним тот несомненный факт, что люди вообще весьма неохотно курят в потемках, когда единственным утешением глазу бывает огонек, то ярко вспыхивающий, то еле-еле тлеющий на конце сигары или в глубине трубки.
В наслаждении курения табака участвует физиологическое действие как самого никотина, так и других поглощаемых курящим пахучих элементов, влияющих преимущественно на нервную систему человека и способствующих его пищеварению. Деятельность этих летучих элементов доводит, наконец, организм до некоторого раздражительного прикосновения, не лишенного сладострастия. Новички дела пьянеют и страдают; люди привычные наслаждаются этим чувством опьянения, испытывая, при сильно развитой в них чувствительности, разливающуюся по всей периферии тела особенного рода теплоту и повсеместное ощущение как бы легкого укола. Ветераны искусства не ощущают уже никакого одурения; они чувствуют себя «хорошо», выражая этим словом обычное курящему благосостояние.
Все эти ощущения не заявляют о себе поодиночке, но, комбинируясь между собой и экзальтируя друг друга, они образуют сложное, весьма немалое наслаждение. Совершенно лишними считаю имеющие место в настоящее время препирательства о том, зависит ли удовольствие курящего преимущественно от обоняния, от вкуса или зрения. Ни одно из этих чувств не наслаждается при процессе курения одинаково, но все, как уже сказано, способствуют образованию общего приятного ощущения. Затем от личного вкуса курящего зависит обращение того или другого элемента удовольствия в любимое и главное при нем ощущение. Но элемент, по-моему, объединяющий все эти ощущения и служащий им всем основой и подкладкой, – это сознание того, что курящий «занят», что ничто временно или отвлекает его от труда, или прерывает томительность его праздности; словом, повторяется то же самое нравственное ощущение перерыва и развлечения, о котором говорилось при нюханий табаку. Совершенная праздность невыносима даже для людей самых склонных к неподвижности и косности, а труд утомителен и нравится не всякому. Куренье же табаку составляет желаемое умиротворение совести, соглашение между инерцией и деятельностью, между оскоминой, набитой праздностью, и отвращением от труда. Курящий не работает, но он и не сидит без дела, и совесть наша затрудняется бросать нам в лицо эпитет лентяя, когда мы сидим, в большем или меньшем раздумье, с сигарой или с трубкой во рту. Курители самые вульгарные (а, следовательно, и большинство их) не ощутили ни разу в жизни иного наслаждения при сжигании табаку, кроме удовольствия сознания приличного времяпровождения. Некоторые даже добровольно подвергают себя настоящей пытке, только бы причислить себя к категории курящих и обучиться проводить наравне с ними в безвинной забаве значительную часть тяготящего их дня. Но над подобными неудачниками подсмеиваются настоящее мастера дела – те, которые курят и по правилам науки, и по велениям совести, умея анализировать, с наслаждением людей опытных, источник многообразных наслаждений, сокрытых во внутренности благовонной гаванской сигары.
Во всяком случае, курение табака не заключает в себе для большинства людей ничего патологического. Кому желательно было бы, чтобы и насчет табаку водворили бы на земле нравы древней Аркадии, тот не имеет понятия о людях, или забывает, что человек постоянно образует внутри себя огромную нервную силу, требующую движения и деятельности. Кто хочет указывать пределы этой физической мощи человека, тот силится задержать львенка в плетенке из ивовых прутьев.
Как ни мимолетны удовольствия обоняния, все же они заслуживали бы, казалось, большего внимания от все быстрее идущего хода цивилизации, которая до сих пор не озаботилась доставить чувству обоняния ни одного полного удовольствия. Жалкое употребление табака, вспрыскивание одежд духами и доля, приносимая садоводами выращиванием нескольких пахучих трав, – вот и все наслаждения, которыми Европа угощает не избалованное среди нас чувство обоняния.
На Востоке наслаждения носа менее забыты, и в комнатах богачей сжигаются восхитительные благовония. Но и там эти удовольствия встречаются в весьма элементарном виде; люди и там не додумались ни до забавы обонянием, ни до изобретения какого бы то ни было увеселения органа этого чувства. Надеясь, что образованность будущих времен восполнит этот пробел в жизни человека, я желал бы приподнять на мгновение завесу, отделяющую настоящее от грядущих благ, и указать с некоторой уверенностью путь, по которому пойдет человек, чтобы заготовить наконец некоторые наслаждения забытому среди нас чувству обоняния.
Гармония и мелодия должны отыскаться и в мире благоуханий, как существуют они в области прочих чувств. Можно представить себе инструмент со всевозможными ароматами, заключенными в различных отделениях, из которых опытная рука будет извлекать испускание то одного, то другого аромата. Некоторые клапаны, то открываясь, то закрываясь, будут поочередно выпускать благоухания, производя настоящую музыку благовоний гармоническими аккордами ароматов и слагая из них нечто вроде мелодий «crescendo» и «decrescendo» одного и того же аромата; медленное изведение испарений и быстрота их потоков, аккорды гармонирующих запахов и чередование противоположных станут элементами новой музыки, «подносимой носу», долженствующей получить и свойственные ей одной законы, и собственных, особых исполнителей. Можно, наконец, изолируя одну ноздрю от другой, отыскать новый источник ароматных комбинаций. Никто, думаю, еще не испробовал согласия двух благоуханных нот, изолируя между собою ноздри и поднося к одной розу, а к другой – фиалку. Будут, разумеется, устроены и небольшие инструменты для одинокого, личного наслаждения гармонией ароматов, и другие, громадных размеров, для устроения публичных концертов в общественных залах, где ароматические потоки изливались бы из невидимых тайников. Проносясь мимо «носов» присутствующих, ароматы сменялись бы другими или сливались бы с ними в гармонические аккорды или в мелодии благовоний.
Глава XI. Наслаждения слуха вообще. сравнительная физиология. различие между звуками. Выражения лица. О влиянии наслаждений слуха на человечество
После удовольствий, доставляемых чувством осязания, жизнь человеческая наслаждается всего более удовольствиями слуха. В области физиологии это – факт замечательный, составляющий первое исключение из физиологического закона, управляющего, как мы уже видели, наслаждением вообще. Рассматривая удовольствия, производимые двумя первыми чувствами, мы заметили, что самые сильные наслаждения следуют за утолением сильнейших потребностей, указанных самой природой. Здесь же мы видим, наоборот, обильный источник ощущений, как бы вовсе ненужных ни для поддержания индивидуального существования, ни для поддержания человеческой расы, источник, как бы лишенный роскошных наслаждений. Мы замечали, кроме того, что хотя человек и мог посредством искусства рассматривать до бесконечности предел удовольствий, данных ему природою как естественные последствия физиологических условий его существования, но он не мог изобрести ни одного приятного ощущения нового рода. Здесь же, напротив того, мы видим, что человек, создавший не существовавшую в природе музыку, открыл в себе бесконечные горизонты новых высших наслаждений, приобретая тем навеки искусственную потребность для всего своего рода.
Многие из животных низшего разряда оказываются вовсе лишенными слуха; тем же существам, для которых орган слуха существует в простейших своих формах, он не может представлять иных ощущений, кроме весьма сбивчивых и неопределенных. В породах, стоящих на более высокой ступени животной лестницы, мы встречаем орган слуха, весьма схожий по наружному построению с человеческим ухом, но мы не находим никаких данных для предположений, чтобы простое слуховое ощущение доставляло им удовольствие.
Известно, что некоторые из млекопитающих и даже иные рыбы и пресмыкающиеся умеют отличать разницу между звуками, видимо, находя в них удовольствие и явно выказывая свое наслаждение. Степень умственных понятий как бы вовсе не имеет значения при наслаждении звуками у животных, так как мы видим ежедневно глупого скворца, весело и удачно аккомпанирующего своим пением мелодии органчика, меж тем как умный пес сердито лает, заслышав сладкие звуки оркестра. Более всех животных, за исключением человека, птицы могут наслаждаться ими же производимой музыкой. Некоторые философы, желая указать человеческое достоинство, видят в музыке, созданной человеком, только подражание пению птиц. Как ни велика разница между физиономией человеческой с чертами лица животных, все же мы в состоянии распознавать выражения радости и печали даже во внешности птицы. Кто бы мог, подкравшись к соловью, уследить за движением его во время пения, тот убедился бы, что музыкальные упражнения доставляют птичке немало радости. Внимательным наклоном и движениями крошечной головки, неподвижностью и блеском глазок соловей выказывает, как усердно следит он за собственным пением, любуясь складом своей песни, то шутливо повторяя один и тот же звук, то ухищряясь разнообразить по-своему сочетания вылетающих из его горлышка звуков.
Позднее, анализируя удовольствия слуха, мы убедимся, что главное различие между ними состоит в характере самых ощущений. Теперь же бросим только поверхностный взгляд на условия индивидуальностей и на другие элементы, могущие влиять со стороны на одно и то же звуковое наслаждение.
Большинство людей находят наслаждение в музыке, и немногие остаются вполне к ней равнодушными. Но между такими крайними исключениями, как, например, Кювье, которому приходилось делать над собой неимоверные усилия, чтобы выслушать прелестное выполнение музыкальной пьесы его любимой дочерью и такими музыкальными гениями, как Россини, который, проведя жизнь от самого рождения до смерти в атмосфере гармонии, нуждался в ней как в воздухе, – между подобными крайностями находится несметная толпа с разнообразиями слуха, более или менее чувствительного к наслаждению музыкой. В этом случае людей можно поделить на три категории. Первые могут только наслаждаться музыкой, слушая игру своих собратьев; вторые сами воспроизводят гармонию как более или менее талантливые исполнители; третьи и последние умеют сами создавать гармонию звуков. На высшее наслаждение слухом имеют право одни только творцы музыки.
До сей поры не удалось подметить ни одного видимого признака, по которому можно было бы сразу отличать меломана от профана в музыке, отличать по внешнему взгляду человека, которому одинаково милы и барабанный бой уличного шарлатана, и трели скрипки Паганини, от того, который находит в области музыки новый мир высоких наслаждений. В настоящее время можно забросить без укора совести знаменитую некогда «музыкальную шишку» френологов в ту кладовую минувших заблуждений, где, увы! находится еще так много пустого места для склада и настоящих, и будущих заблуждений человеческого ума. Не вправе люди называть тупоумными тех, которые остаются вполне равнодушными к проносящимся перед ними потокам гармонии. История говорит нам о многих гениальных личностях, не умевших отличить прелесть гармоничного аккорда от простого свистка. Самый поверхностный наблюдатель, наоборот, в состоянии усмотреть посреди талантливых исполнителей музыки и посреди страстных ее любителей людей с весьма посредственными способностями. Но, как бы взамен ограниченности ума многих из своих адептов, наслаждение музыкой находится обыкновенно в тесной связи с чувствительными способностями человека, и мы видим нередко, как люди эгоистические и грубые награждают улыбкой презрения собратьев своих, упивающихся прелестью мелодий.
Женщины способны восхищаться более мужчин музыкальными ощущениями, но они остаются далеко позади, когда дело идет о наслаждении высшими интеллектуальными сокровищами этих удовольствий. Редко достигает женщина высокого наслаждения творчества в музыкальном мире, как в этом убеждает нас перечень известных композиторов.
Человеку и в пору его младенчества уже доступны музыкальные удовольствия, но они, по-видимому, ограничиваются тогда приятными ощущениями слухового органа, еще слабо развитого и могущего в этом возрасте передавать уму только смутные и несвязные звуки. Став юношей, он уже по-своему восхищается сочетанием звуков, но постоянное его развлечение окружающими предметами и неразвитость его умственных способностей еще не позволяют ему вполне наслаждаться удовольствиями, доставляемыми музыкой. В пору высшего развития фантазии и гениальности, в блестящие годы молодости, музыка открывает человеку доступ к тем сокровищам гармонии, которые наиболее способны экзальтировать все высшие мозговые способности людей.
В зрелые же годы, когда свежесть и новизна удовольствий вообще заменяются опытностью и уменьем наслаждаться, то же изменение оказывается и в области музыкальных способностей. Наслаждение музыкой становится спокойнее, но, тем не менее, оставаясь весьма сильным, оно не перестает приводить человека в восхищение. Но когда люди начинают опускаться по жизненному кругу к той земле, откуда взяты, тогда слух начинает тупеть, тускнеет фантазия, и вместе с ней бледнеют для человека и самые наслаждения музыкой.
Действительная родина музыки – несомненно, Италия; уши, менее всего поддающиеся прелести звуков, столь же несомненно, обретаются среди туманов Англии. Для полного развития музыки необходимо ясное небо жарких стран; ей нужны вечнозеленые луга, усеянные пахучими цветами, и нигде притом не взлететь ей так высоко, как там, где она чует возле себя близость законной и любимой сестры своей – поэзии. Иной раз музыка нежной ножкой рискует дотронуться и до снегов дальнего севера, но она коченеет там. Когда же искусство человеческое лелеет ее, как экзотическое растение, в неестественной атмосфере своих теплиц, тогда румянец, разлитый по ее щечкам, бывает ненатурален. Под богатыми складками меховой мантии, напрасно усиливаясь скрыть недостаточность северного вдохновения, искусственно звучит гармония в холодных странах.
Правда, север Европы гордится знаменитостями в деле музыкального творчества, а также нескончаемой вереницей отличных исполнителей, но нигде музыкальные наслаждения не бывают столь распространенными среди народа, как в Италии. Только во Флоренции или в Неаполе простолюдин может распевать арии Россини, Беллини, Доницетти и Верди. Но вне Европы, во всех странах образованного и необразованного мира, везде, где обитает человек, люди, за исключением разве немногих диких орд, наслаждаются собственной национальной музыкой; но звуки эти вряд ли будут по вкусу избалованному европейцу.
Еще при первых зачатках цивилизации был срезан тот прибрежный тростник, на котором производил человек первые попытки сочетания звуков и неслыханной до него гармонии; но никогда, быть может, наслаждения слуха не имели на земле столь широкого распространения, как в настоящее время. Они разрастались в продолжение веков по мере усовершенствования как самого искусства, так и органа слуха; накапливались сокровища творчества музыкальных гениальностей, не перестававшие умножаться и во времена мира, и посреди ужасов войны. Даже среди грома пушек и грохота ружейной пальбы раздается вдохновляющий голос музыки; но является она людям во всей торжественной красе своей только под масличными ветвями мира.
Нет надобности упоминать о том, что музыкальные удовольствия выпадали до сих пор преимущественно на долю богатых и сильных мира сего; но бывает при этом и оценка, уравнивающая в действительности меру наслаждений. Иной раз чернорабочие, остановившись перед уличным гитаристом, наслаждаются всем существом своим; а богач между тем в роскошной ложе своей напрасно силится подавить зевоту, гнетущую его при лучших симфониях Вильгельма Телля или мизерере трувера.
Влияние наслаждений слуха на все способности ума и сердца громадно, и далеко еще не изведана доля их участия в цивилизации всех народов. Великая попытка определить здесь меру и суть этого участия была бы излишней смелостью с моей стороны, так как многие философы трудились над изучением этого предмета. Меня в настоящее время это завлекло бы слишком далеко от намеченного мной пути, но позднее, когда будут анализированы причины музыкальных наслаждений, я позволю себе сказать несколько слов и о влиянии их на развитие способностей той или другой национальности.
Наслаждения, доставляемые человеку слухом, до того разнообразны, что живописец, знакомый с задачей физиономистики, мог бы наполнить целые галереи картинами, изображающими различные моменты этих наслаждений: от впечатлений, производимых то шумными и шутливыми аллегро, то сладостными звуками томления и неги; от радостных раскатов неудержимого смеха до проливаемых в глубоком молчании слез.
Когда звуки, не гармонирующие между собой, производят приятное впечатление, тогда это случается в силу какого-либо воспоминания или какой-либо подмеченной слушателем аналогии с чувствами, его некогда волновавшими; в этом случае приятное выражение на лицах людей относится к их воспоминаниям и не имеет ничего общего с ощущениями слуха.
Как бы ни был приятен простой, одиноко раздавшийся звук, он не может вызвать иного выражения, кроме разлившегося по лицу спокойного внимания: глаза мгновенно становятся неподвижными и уста слегка раскрываются, что, впрочем, замечается при почти всяком наслаждении слуха.
Когда же гармония, начиная расти и усложняться, развивается в звуках, все более и более сильных и нежных, тогда наслаждение, ей вызываемое, налагает на физиономию слушателя оттенок то веселья, то грусти. В первом случае глаза, открываясь шире, становятся лучистыми и ясными, углы слегка открытого рта приподнимаются к щекам, как бы слагаясь в улыбку; когда же, наоборот, человек прислушивается к печальным звукам, тогда углы его рта опускаются, и прищуриваются глаза. Но в обоих случаях физиономия слушателя совершенно изменяется, смотря по тому, вникает ли любитель в свое наслаждение музыкой, анализируя и элементы гармонии, и собственные свои впечатления; в таком случае музыка бывает только орудием для возвышения ума и сердца человека. Когда же музыка служит сама себе целью, тогда, увлекаясь всецело ей, любитель аккомпанирует размеру гармонии голосом, жестом и мыслью, что для многих меломанов становится неодолимой потребностью и главной чертою, характеризующей их наслаждение. Иногда мы аккомпанируем музыке движением головы сверху вниз или из стороны в сторону, иногда покачиваемся в такт всем телом, иногда – только рукой или ногой. Иногда мы бьем такт, ударяя одним членом о другой, или мерно стучим по стоящим около нас предметам. Сидя, слушающий двигает ногами, стоя, он охотнее двигает руками, различные сочленения которой позволяют ему выражать свободнее оттенки или степени своих впечатлений.
Музыка весьма редко вызывает смех, но улыбку – почти всегда; желание же следовать за ее ходом собственными телодвижениями становится столь непреодолимым, что иной раз человек, увлекаясь быстротой ритма, двигается почти всеми своими членами. Первая пляска и была, по всей вероятности, выражением высшего наслаждения при звуках веселой музыки. Радостные восклицания могут доходить, как и случается в театре, до исступления, которое выражается иной раз пожатиями рук и объятиями. Во всех подобных телодвижениях видно желание излить переполненное чувство движениями, жестами.
При музыке же патетического характера все в человеке стремится к сосредоточенности и к экстазу. Редкие и глубокие вздохи облегчают слушающего, и нервная напряженность разрешается иногда слезами, восстанавливая в нем равновесие чувств. Когда наслаждение достигает своей высшей точки, лицо бледнеет, глаза разгораются, по коже пробегает дрожь, тело иной раз цепенеет, как бы в припадке каталепсии, а ум человека находится в состоянии как бы некоего экстаза. Знакомый мне меломан заверял меня, что он чувствует при патетических местах иного концерта, как по всему телу его выступает так называемая гусиная кожа.
Впрочем, этими немногими чертами далеко не исчерпываются все выражения музыкальных наслаждений; картина их оказалась бы полной только тогда, когда были бы собраны в ней все – и благородные, и низкие, и добрые, и злые – чувства, которые могут быть вызваны, в свой черед, дивной прелестью гармонии. Забывая совершенно о музыке, нас опьяняющей, мы уносимся воображением в далекие края, то предаваясь веселым воспоминаниям прошедшего, то омывая слезами дорогие нам могилы минувших радостей. Иной раз музыка влечет нас в водоворот бурной и деятельной жизни, заставляя в другое время вздыхать о прелестях безмятежного одиночества. Мы чувствуем, уступая произволу музыки или скорее внушенному ей настроению ума, то беспредельную любовь, то безграничную ненависть. Но обо всех этих чувствованиях будет подробно рассказано при анализе наслаждений высших чувств; здесь же ограничусь замечанием, что весь спинной мозг содействует нередко удовольствиям слуха, косвенно же в наслаждении музыкой могут участвовать процессы дыхания и кровообращения. Сердце учащенно бьется и производит как бы временную болезнь, сердцебиение; дыхание замедляется и становится трудным; яркий румянец выступает на лице, сменяясь столь же внезапной бледностью; спазматическое движение внутренних сосудов показывает, что даже и железистая система способна принимать некоторое участие в наслаждениях слуха.
Большинство людей сходится в своих понятиях о наслаждениях, состоящих в гармоничном сочетании звуков, но шум и случайно производимые звуки не одинаково ласкают слух каждого. Самое нелепое предпочтение в деле слуха не может влиять на здоровье человека, и потому мы затрудняемся назвать патологическим какой бы то ни было индивидуальный каприз слуховых органов. Впрочем, нравственно-убийственным можно назвать наслаждение, находимое некоторыми в щелканьи пальцами, в похрустывании сочленениями вообще, в визге пилы о железо, в поскребывании вилкой по тарелке и т. п.
Глава XII. Анализ наслаждений слуха и удовольствий, производимых шумом, стуком и гармоническими звуками
Нескончаемые удовольствия, испытываемые людьми при посредстве слухового органа, можно поделить на две крупные категории – те, которые произведены шумом, стуком и т. п., и наслаждения, происходящие от более или менее гармонического сочетания звуков.
Шум или стук, упражняя орган слуха, может производить ощущения, не производя никакой усталости. Незначительность подобного удовольствия усложняется иными обстоятельствами. Так узник, выпущенный на волю после многих лет тюремного безмолвия, жадно прислушивается к гулу и шуму окружающей его деятельной жизни. Так глухой, слуховой аппарат которого только что освобожден хирургом от засорившего его скопления ушной материи, радуется всякому шуму и, с наивностью младенца, производит около себя стук и грохот, чтобы полнее убедить себя в действительности возвращенного ему слуха. Но, кроме этих исключительных случаев, шуму радуются только в ребячестве, когда ушам еще не наскучили впечатления стука и грохота. Так, посреди детской, полной шума, гама и восклицаний, невыносимых для взрослых, младенец наслаждается, производя вокруг себя настоящие опыты ощущений и изыскивая в мире слуха обильные для себя источники удовольствий.
Некоторые стуки, упражняя слух, давая ему отдых, бывают приятны благодаря мерному и резкому повторению одних и тех же звуков. Нет, полагаю, человека, который не занял бы двадцати минут в жизни усердным постукиванием концами пальцев по столу, или, сидя перед пылающим огнем, не постукивал бы щипцами о железную решетку камина, или не ударял бы нетерпеливо концом ноги о пол в течение нестерпимо долго длящегося разговора. Эти наслаждения мерными звуками легли, быть может, в основание самой музыки; в настоящее же время они составляют связующее звено между удовольствиями двух вышеозначенных категорий.
Сильный и резкий шум, внезапно раздавшийся посреди всеобщего безмолвия, производит нередко приятное впечатление сотрясением, сообщаемым органу слуха. К ощущениям подобного рода принадлежат свист локомотива, ружейный выстрел, звук лопнувшей в вышине ракеты, одинокий звук колокола, замерший в пространстве, тяжесть, брошенная с высоты в воду, и т. п.
Иногда ощущение становится приятным по специальному и необъяснимому характеру шума или стука, поразившего особенным образом наши нервы. К этому последнему разряду принадлежат самые таинственные и странные удовольствия слуха. Упомяну здесь только о пересыпании зерна из одной меры в другую, о быстром разрыве полотнища бумажной материи, о выворачивании вверх дном тачки с песком, о шелесте листьев в тишине леса; о журчании воды, о вое ветра, о раскатах грома, – оставляя в стороне бесконечные впечатления шума и треска, производящие более или менее приятные ощущения. Ежели бы удалось кому-либо подметить молекулярное движение ощущающего нерва или воспринимающего центра, тогда могла бы быть уяснена таинственная связь между подобными ощущениями. Нам отказано пока в удовлетворении этих невинных удовольствий.
Стук может стать приятным – когда, не изменяясь в сути своей, он изменяет степень силы, возвышая или умаляя мало-помалу степень своего напряжения. В этом случае причина нашего удовольствия не скрыта от нас: она состоит в привлечении к звуку продолженного и донельзя усиленного внимания. Стоит припомнить впечатление, производимое стуком удаляющегося или приближающегося экипажа или локомотива, или содрогание колеблющегося металлического прута. Когда шум умаляется постепенно, тогда ухо наше жадно ловит замирающие звуки, как бы испытывая этим напряжением чуткость собственного слуха.
Другое удовольствие состоит в противоположности двух следующих друг за другом звуков, разнящихся по сути или по силе своей, или по тому и другому сразу. Так, бешеный стук кузнечного молота, ударяющего то по наковальне, то по раскаленному железу доставляет нам удовольствие, подобное отголоску эха, к которому мы потому именно прислушиваемся охотно, что оно интересует нас обменом двух аналогичных, но не вполне сходных звуков.
Радости высшего разряда, доставляемые нам внезапностью шума или стука, происходят не от большей или меньшей приятности самого впечатления, но от живости образов или идей, возбуждаемых ими в уме нашем. Слух в подобном случае служит только орудием мысли, и удовольствие вполне принадлежит области ума и сердца.
Так, некоторые бурные звуки, как, например, шум кузнечных мехов и сильные удары кузнечного молота, будят нас к деятельности и призывают к энергии; медленный же и монотонный звук часового маятника или журчание воды склоняют человека к спокойствию и отдыху; шелест и шепот листьев или всплеск озера о песчаные берега внушают чувство томной, необъяснимой неги, а внезапное шуршанье шелкового платья может навести на сладострастные мысли. Случается, что звук разбитого в смежной комнате сосуда вызывает в нас смех: так мгновенно и так привычно восстает в воображении фигура субъекта, озадаченного неловкостью приключения. Но источники подобных ощущений так многоразличны, что составление им перечня было бы уже порядочным и бесполезным трудом. Напомню только, что наслаждения, доставляемые внезапным шумом, могут достигнуть иной раз высшей степени человеческих ощущений. Пусть читатель сам представит себе узника, осужденного на смерть и несколько часов уже работающего над замком своей тюрьмы; пусть вообразит себе несчастного в то мгновение, когда щелканье сломанного замка заявляет ему о том, что цель его достигнута и что путь для него свободен.
Анализ удовольствий, доставляемых гармонией звуков, чрезвычайно затруднителен и требовал бы глубокого знания музыки. Можем представить здесь только весьма легкий очерк подобного труда.
Простое сочетание двух или одновременно раздающихся, или следующих друг за другом звуков уже доставляет некоторое, хотя и весьма элементарное музыкальное удовольствие, которое может достигнуть значительных размеров по самой природе обоих звуков и по темпу, регулирующему и гармонию, и мелодии. Сопоставление немногих противоречащих между собою звуков способно внушить чувство упоительной грусти, если только ноты не взяты в минорном тоне. Вот почему мы находим приятность в несложной песне крестьянина, в звуках цампоньи, свирели и в медленно-протяжном звоне колоколов. Сочетание некоторых весьма низких нот может внушить нам ощущение внезапного ужаса, не лишенного, впрочем, и некоторой приятности.
Музыкальный темп может сам по себе изменять удовольствие, доставляемое немногими нотами, то возводя их в высшую степень веселья, то располагая слушателя к размышлению и грустному раздумью. Весело-учащенный звон праздничных колоколов может, замедляясь, стать монотонным и печальным.
Повторение одной и той же ноты заключает в себе элемент, способствующий удовольствию слушающего, особенно когда это повторение производится в конце музыкальной идеи. При подобном повторении музыка, казалось бы, улетая от нас, повторяет свое последнее «прости».
Пауза может иной раз произвести изумительный эффект; она мелодически совершенствует собою аккорд, потому ли, что дает отдых слуху, изнывающему от избытка впечатлений, или, наконец, потому, что минутный роздых возбуждает в слушателе желание новых звуковых потоков. Когда же бывает, что целый оркестр, выразив сокровища гармонии, внезапно останавливается среди вызванной им бури наслаждений неги и сладострастия, тогда слушатели остаются недоумевающими, смущенными, объятыми чувством какого-то почти сверхъестественного страха, который возбуждает зараз и желание продлить молчание, и желание, чтобы скорее прервалось почти тягостное уже настроение. Случаются в концертном зале дурни, которые сразу поканчивают с невыносимым для них недоумением, разрешая его громом рукоплесканий.
Самый обильный источник наслаждений скрывается в ничем не объяснимой натуре звука. Одна и та же нота, сорванная со струн арфы и вызванная ударом по коже барабана, производит, как известно, впечатления весьма различные.
Совершеннейшим из музыкальных инструментов считается горло человеческое. Это – оживленная машина; гармония сообщается, выходя прямо из вдохновенной души, без посредства тех внешних орудий, которые так сильно калечат наши наслаждения музыкой. Но главная причина, почему так дорог и мил нам голос человеческий, состоит в той симпатии, которая связует человека с человеком: мы любуемся голосом певца потому, что он нам – «свой», потому что это – наш, человеческий голос. Удивляясь искусству артиста, мы незаметно для себя платим дань удивления и тому механическому орудию, на котором он выводит чудеса искусства. Голос же человеческий, вышедший из вдохновенной груди, долетает до слуха нашего во всей наготе своей, еще согретый дыханием человека, еще трепещущий его жизнью. Звуки баса вызывают вообще ощущение торжественности; высота же голоса возбуждает в душе слушателя чувства приязни и любви, представляя воображению картины изящные и нежные.
Начиная громовыми басовыми нотами нашего Мазини, голос которого выходил, казалось, из глубокой и звучной пещеры, и кончая страстными звуками, вылетавшими из горлышка покойной Малибран, представлен неизмеримый путь, уставленный всевозможным разнообразием голосов, более или менее мелодичных и звучных, обозначаемых общими названиями. Контральт, сопрано, баритон, бас – все это различные имена для разнообразия живых инструментов.
После человеческого голоса роскошнейшие звуки летят с трепещущих струн фортепиано, которое наряду со своими собратьями по звуку, фисгармонией и органом, обладает двумя ключами, при помощи которых фортепиано может комбинировать гармонии и мелодии звуков в сто раз более, чем другие инструменты.
От фортепиано до барабана тянется целый арсенал инструментов, более или менее совершенных, но могущих служить выражением человеческого чувства и открывать людям некоторые из тайн музыкального мира.
Вероятно, была бы возможна полная физиология каждого инструмента.
Чем более всякий инструмент имеет поклонников, тем менее он дает знать о механическом происхождении своих звуков. Музыка кларнета, по принятому выражению, «воняет деревом». Среди звуков флейты слишком слышно бывает усиленное дыхание. При игре же на скрипке слишком часто вспоминается вид «кричащей струны». Великие исполнители смеются над подобными недостатками, победив их силой собственного искусства и умением вызывать из них чистые и чарующие звуки.
Но самые сокровенные тайны музыкальных наслаждений сосредоточены в творчестве – в той мысли, которая заправляет порядком аккордов и нот, открывая людям новые области гармонии. Законы акустики определены чисто математическим путем, и всякий, знакомый с контрапунктом, может уже составить музыкальный аккорд. Но гений только способен угадать неизвестные до него источники гармонии, созидая мало-помалу из немногих нот и простейших аккордов мысль, способную умилять и возвышать целые поколения людей. Всем доступны буквы азбуки, все имеют возможность составлять из них слова и фразы, но только одному Данте предоставлено было могущество создать из них чудные комбинации «Божественной комедии». И Беллини мог через посредство доступных всякому нот создать свою «Норму» и ей открыть как бы новый мир мелодии и чувств.
Кто никогда в жизни не нашел в уме своем нового, своеобразного аккорда, тот и представить себе не может, каким образом возникали «идеи» в голове Россини, который «думал музыкой», и самая богатая фантазия не может угадать процесса мышления в неизведанной ей области. Как в обыденной речи, так и в музыке мысль зарождается в виде идеи или чувства, но здесь и начинается разница. Мысль, переходя в слово, облекается в определенные и условленные формы; «идея» же, облекаясь в роскошную одежду музыки, сражается неясными и неопределенными образами.
Слово – это стенография мысли, музыка же – язык чувств. Мыслящий ум и чувствующее сердце не делят между собой элементов, к ним относящихся, но оба живут в одной и той же атмосфере, не допускающей резко определенных граней; вот почему музыка, будучи фотографией мыслей и чувств, становится в действительности всемирным языком.
Изображение предмета всегда красивее, чем бывает он в действительности, так как к естественной его красе придана еще красота человеческой фантазии. Вот почему несложная идея и простой аффект, переданные на язык музыки, переносят в высшие сферы, переходя как бы из среды общественной в мир мысленной аристократии Можно бы выразиться смелым оборотом так: музыка – это поэзия мысли, а стих – музыка слова.
Элементы, разобранные здесь поодиночке, сливаются в музыке и, комбинируясь на тысячи и тысячи ладов, сообща образуют сложные и разнообразные радости музыкальных наслаждений.
Опера в музыкальном мире – это апофеоз всех наслаждений слуха, истинный праздник уха. В ней «идея» переведена на языки всех инструментов, во главе коих стоит человеческий голос, и все они сливаются в общий концерт, составленный из тысячи гармоний и тысячи мелодий.
Только в опере может «идея» маэстро найти свое полное осуществление и явиться во всем величии мысли и в блеске внешней формы. Только в опере может композитор назвать себя поистине блаженным, ибо всесильным жезлом своим он извлекает потоки упоительных наслаждений.
В опере мы испытываем в продолжение немногих часов все прелести музыкального мира, упоительную нежность медленно-сладостных звуков и бурю страстных аккордов, и бархатистые звуки контральто, и спазматическую прелесть высоких нот скрипки, и торжественное молчание, делящее надвое строй музыкального мира – словом все сокровища, которые могут быть вызваны из неиссякаемой почвы звуков.
Глава XIII. Наслаждения зрения вообще. Сравнительная физиология. Отличительные черты. Выражение лица. Наслаждение патологического свойства
Начав труд свой анализом простейшего из чувств, того, который первым проявляется в младенце, – чувства осязания, мы заметили, что ощущения наши все более и более усложняются элементами понимания, благодаря развитию которого чувства становятся все менее и менее «чувственными», принимая значение только орудий высших сил. В осязании удовольствие, как мы видели, оказывается местным, не выходя из узких пределов ощущения. В чувстве вкуса наслаждение уже слегка возвышается, но степень этого возвышения так ничтожна, что остается едва заметною. Обонянием арена наслаждений слегка расширяется, и удовольствие начинает весьма незначительно выступать из области чистого ощущения. В области слуха усложнение становится гораздо более заметным и наряду с ощущением становится уже сердечным чувством, так что нет возможности отрешить одно от другого, не насилуя природы и не уничтожая самого удовольствия, которое, начинаясь в звуковых нервах, охватывает все мозговые способности человека.
В области зрения мы наслаждаемся еще более сложными и более умственными удовольствиями, которые, не оставаясь почти никогда в пределах ощущения, сообщаются с быстротою молнии умственным способностям, приводя их к немедленной деятельности. Слух, казалось бы, более отвечает сердечным ощущениям; зрение же составляет «чувство ума». Факт этот, составляя самую таинственную часть мозговой деятельности, необъясним, но мы можем понимать или скорее ощутить его значение, сравнивая нашу радость при виде любимого лица с наслаждением, ощущаемым нами, когда заслышим внезапно звуки любимого голоса. В первом случае ум сочувствует ощущению, которое, по духовному свойству своему, отвечает возникшей идее или возбужденному образу. Во втором же случае мы растроганы всем существом своим, и «чувство приязни» пересиливает в нас мышление. Играя словами, можно бы сказать, что слух ума и слух зрения – сердце.
Некоторые животные одарены зрением более острым, чем зрение человека, который не мог бы, подобно кондору, увидать с вершины Чимборасо овцу, пасущуюся у ее подошвы. Но так как умственные способности сильно содействуют развитию зрения, то можно, не боясь ошибки, сказать утвердительно, что зрение доставляет гораздо более удовольствий людям, чем дает оно остальным животным.
Индивидуальные различия, встречавшиеся в зрении человеческом, зависят, разумеется, от большего или меньшего совершенства зрительного аппарата, но еще более разницы полагает между людьми степень умственного развития, которое содействует ощущениям зрения, обостряя обращенное на них внимание. Близорукий не может восхищаться ни линиями перспективы, ни зрелищем, открывающимся с высоты; дальнозоркий же весьма мало пользуется прелестями окружающего его микрокосма. Оба этих недостатка влияют не так значительно на уменьшение удовольствия глаз, как недостаток в умственных способностях; но самый обиженный близорукостью человек, не видящий ничего вне обхвата руки своей, может при помощи микроскопа насладиться большими удовольствиями в продолжение нескольких часов, чем испытывал в течение всей жизни объехавший полмира рассеянный глупец.
Женщина гораздо менее мужчины наслаждается чувством зрения. Она слишком легко развлекается обилием предметов, и ей, кроме того, слишком противен, по условиям ее умственной организации, всякий анализ ощущений. Женщина при виде нового ей предмета охотно останавливает внимание на блеске облика, мужчина же в тот же самый промежуток времени уже обежал умом своим целый мир образов, сравнений, обобщений и мысли.
В первое время своего существования человек видит, но он не умеет еще «смотреть». Когда младенец останавливает на чем-либо свой блуждающий и неосмысленный взор, новость ощущения, заменяя неразвитость умственных сил, все-таки приносит ему некоторое наслаждение, хотя еще весьма легкое и незначительное, усиливающееся по мере возраста. В ребяческие годы свежесть чувства мало-помалу притупляется обилием виденных предметов, а это сокращает пределы видимого человеком горизонта; но удовольствия зрения, тем не менее, совершенствуются мозговым развитием. В этом возрасте, однако, все удовольствия зрения – еще вполне чувственные. В молодости перевес иных способностей и обилие теснящихся около юноши забав отнимают часть того внимания, которое необходимо для полного наслаждения зрением и которое дается человеку только в зрелом возрасте, когда он успел уже овладеть хладнокровием, необходимым для анализирования предметов. Когда же глаза начинают терять зоркость свою, перед ними стелется и густеет туман, заволакивающий вокруг человека тот мир, с которым ему вскоре предстоит проститься. Зрение представляет большее обилие наслаждений в излюбленных природой странах, где солнце не перестает улыбаться красотам земли. Богатый человек наслаждается своим зрением более, чем бедняк, так как многие зрелища оплачиваются деньгами. Глазам нашего поколения предоставлено гораздо более удовольствий, чем зрению отцов наших, так как цивилизация, не переставая расширять пределы нашего кругозора, изобретает все новые и новые наслаждения для чувства зрения.
Влияние этой массы удовольствий действует благотворно на людей, совершенствуя как зрение их, так и само понимание, и не переставая обогащать новым материалом великолепную пинакотеку человеческого воображения.
Глаз «смотревшего» в продолжение жизни видит гораздо более чем глаз сонливого, проводящего часто существование в полудремотной праздности, другую же часть – в непроизводительности не интересующей его работы. «Смотреть» и «видеть» – это два совершенно различных фазиса зрения. Один и тот же предмет производит в разные времена впечатление весьма различно, но только на зрение человека, способного уловить оттенки собственных ощущений. Привычка всматриваться, приучая к наблюдательности и к анализу, готовит ум к строгой и совестливой внутренней обработке предметов. Свойства окружающей нас обстановки чувства и мысли, стоящие в более или менее близком к нам отношении, способствуют складу нашего ума и помогают избранию физического пути. Так, ежедневный вид полей и сельских занятий придает ясность и свежесть уму, располагая его к удовольствиям тихим и безыскусным. Постоянное созерцание произведений великих художников развивает в нас любовь к прекрасному. Уверяют, что красота жителей Каррары, славящихся изяществом телосложения, происходит от того, что на глазах этого народа вырабатывались в продолжение веков статуи художниками, стекающимися и теперь со всех сторон света на родину тончайшего мрамора. Причину подобного явления следует отыскивать в законах, управляющих способностями умственными и потому сюда не относящимися.
Физиология людей в минуту наслаждения чувством зрения часто выражает обилие умственных наслаждений, тесно связанных с процессом зрения, который, предоставленный сам себе, выразился бы следующей весьма несложной мимикой: лицо принимает выражение внимания, затем взор становится неподвижным, шея (а иногда и все тело) наклоняется в сторону заинтересовавшего предмета. Когда же, наоборот, мы анализируем ощущения, доставляемые зрению предметом весьма сложного свойства, тогда мы окидываем испытующим взором весь видимый кругозор, останавливая взгляд то на одном, то на другом предмете в отдельности. Полуулыбка часто сопровождает акт зрения, нередко прерываемый восклицаниями, вызванными неожиданностью или удивлением. Нередко смотрящий откидывается слегка назад, складывая вместе ладони рук и притягивая их к груди, что вообще составляет жест, характеризующий удовлетворение зрения. В апогее же радости человек откидывает голову назад, слегка покачивая ею со стороны в сторону, и даже иной раз потирая от удовольствия руки. Вспоминаю, как в избытке наслаждения я даже поцеловал микроскоп, доставивший мне массу удовольствий.
Всматриваясь в живое лицо или в фигуру, его изображающую, мы непроизвольно складываем иной раз черты собственной физиономии в некое подобие поражающего нас образа. Так, при виде Геркулеса Кановы всякий приободряется, выражая осанкой и гнев, и силу; при виде же мертвой синьоры во флорентийском Санта-Кроче лицо невольно принимает вид соболезнования и горя. Но все выражение смотрящего обыкновенно концентрируется в быстроте неуловимой и необъяснимой мимики глазных нервов. При виде группы людей, разглядывающих картину, можно почти всегда определить степень вкуса и наслаждения каждого зрителя. Нетрудно бывает отличить пронзительный и быстро анализирующий взгляд художника от взоров любопытного дилетанта, который, блуждая по картине робкими и нерешительными взглядами, прислушивается внимательным ухом к разговорам вокруг себя, чтобы, выслушав общественное мнение, моделировать по нему свои восторги и ожесточенную, быть может, критику. Чтобы определить чувства толпы, любующейся картиной, следует прежде всего принять во внимание национальность зрителей, пол их, темперамент, возраст и т. п. Предположим, что перед картиной сошлось множество людей с равносильными ощущениями. Женщина заплачет там, где мужчина только вздохнет. У человека нервного дрогнут от ужаса все черты лица, между тем как лимфатик останется неподвижен и нем. Ребенок вскрикнет и подпрыгнет; старый же человек, опершись на свой посох, будет стоять неподвижно перед растрогавшей его картиной. Неаполитанец «зателеграфирует» от восторга руками, между тем как чопорный англичанин не высунет подбородка из накрахмаленного галстука и не вынет рук из кармана.
Глава XIV. Об удовольствиях зрения, происходящих от новизны ощущений, и о математическом очертании их
Незнакомый предмет всегда возбуждает любознательность; разве что отвратительное в природе или оскорбляющее прирожденное нам чувство изящества бывает лишено увлекательной прелести новизны. Удовольствие бывает тем сильнее, чем менее сходства представляет новое зрелище с издавна уже знакомыми предметами. Все возвышающее эту прелесть новизны называется интересным, любопытным. Но младенец только тогда может вкушать подобные удовольствия во всей их простоте, когда он начинает присматриваться, чтобы ближе ознакомиться с тем миром, для которого родился. Для остальных людей наслаждения зрения почти всегда усложняются умственными элементами, например, любознательностью, пристрастием к невиданному, диковинному и различными чувствами, свойственными той или другой личности.
Количество предметов само по себе может возбуждать удовольствие, упражняя или скорее заинтересовывая особенным образом чувство зрения. Одиноко стоящее тело посреди громадного и пустого пространства привлекательно действует на нервы зрения. Численность предметов, сразу и нежданно представших глазам нашим, бывает тоже не лишена приятности. Это все – простейшие из тех удовольствий глаза, которые зависят от математических очертаний тел, и их не следует смешивать с теми, где численность является делом уже второстепенным и служит как бы орудием удовольствий. Мы привыкли видеть стул с четырьмя ножками, и при виде стула с шестью мы улыбаемся, дивясь, почему ему прибавлены два лишних члена.
Объем тела (т. е. и чрезвычайно малое, и громадное) производит на нервы приятное впечатление новизны. Всякий, прогуливающийся в первый раз по морскому берегу, бывает поражен впечатлением необъятности глади и шири, простирающихся у ног его, ежели только фантазия не предвкусила заранее это наслаждение, представив воображению картину моря в еще более громадных и невозможных размерах.
Расстояние предметов само по себе почти никогда не интересует нас, но возбуждая, оно приносит удовольствие. Серия предметов однородных может доставлять приятные ощущения, различающиеся между собой по тому, состоит ли порядок их сопоставления из парных или непарных чисел. То же самое можно сказать и об отношениях между собой различных частей одного и того же тела. Первая и простейшая степень симметрии состоит из сопоставления двух тел, да и вообще тел парных между собою. Симметрия, составленная из непарных чисел, составляет уже удовольствие более сложного порядка, для которого необходимы три предмета или три геометрических элемента одного и того же тела.
Численность составляет только второстепенный элемент геометрических пропорций, и хотя бы предметы стояли изолировано в каком-либо порядке, мы чувствовали бы потребность соединить их воображаемыми линиями, строя из них настоящие фигуры. Не замечая собственного умственного процесса, мы находим симметрическими и правильными тела или систему тел, когда определяющая их мысленная линия составляет правильную геометрическую фигуру. Простейшие удовольствия, доставляемые нам симметрией, бывают произведением самых простых геометрических фигур, т. е. линий или параллельных между собой, или стоящих друг к другу перпендикулярно, это, например, треугольники, ромбы, квадраты, многоугольники и все фигуры, составленные из прямых линий. Новые комбинации удовольствий возникают из фигур, из круга, эллипса, параболы или из комбинации между собой прямых и кривых линий. Переходя от плоскостей к кубу, находим удовольствия, производимые кристаллизованными телами или искусственным подражаниями кристаллам, так как многие предметы представляют в грубых очертаниях тела с правильно и симметрично расположенными поверхностями; так, например, дома, книги, части стола, стульев представляют разновидные призмы. В лампах, чашах и бутылях усматриваются сегменты сферы.
Лучшие из удовольствий, производимых симметрией, относят к умственным элементам высшего начала. Начало это, называя предмет прекрасным, судит о том, сообразен ли порядок его частей с их назначением и отвечает ли предмет тому окончательно идеалу, который уже сложился в нашем понимании.
Мы имеем различные идеи и чувства. Громадность кругозора человеческого доказывают, с одной стороны, стекла микроскопа, посредством которых мы разглядываем инфузории не крупнее десятитысячной доли; с другой стороны – это труба телескопа, которая дозволяет нам видеть миллионы таких созвездий, в сравнении с которыми Земля наша оказывается не более песчинки.
Виденные при одинаковых обстоятельствах предметы, близкие и дальние, производят на нас впечатление весьма различное: близкий предмет внушает нам желание рассмотреть его, полюбить и усвоить; тело, находящееся в неизмеримом от нас отдалении, возбуждает удивление и как бы некоторого рода остолбенение. Близкий предмет подлежит рассматриванию, далекий – созерцанию. Первый интересует нас, второй поражает неожиданностью.
Форма предметов способна сама по себе интересовать нас геометрическими своими элементами, которые в связи с численностью, с объемом и расстоянием могут образовать приятную для глаз симметрию. Благодаря внутренней своей организации человек способен находить красоту только в предмете, вполне отвечающем «типу», который он носит неизменяемым в уме своем от самого рождения до гробовой доски. Симметрия – источник обильных наслаждений для нас, берущих свое начало в геометрическом построении тел. Художнику дозволено находить новые комбинации порядка и меры, но он не в силах удалиться от неизменного и строго научного типа, указанного человеческой природой. Никому не приходило в голову ни доказывать, ни оспаривать вечные законы симметрии, так как подобный труд был бы совершенно напрасным. Законы эти запечатлены неизгладимыми чертами в мозгах наших как неотъемлемый элемент их организации. Никто, впрочем, не в состоянии доказать, почему вид сферы приятнее действует на зрение наше, чем вид бесформенной массы, так же как нет возможности доказать, почему дважды два – четыре. Гипотезы, могущие при этом возникнуть, всегда останутся только более или менее хитрыми рекламами, служащими утверждению принципа. Численность входит необходимым элементом в приятность симметрии, так как она не может существовать без подлежащих исчислению частей.
Геометрия почти вовсе не касается существ одушевленных, хотя в человеке, совершеннейшем из созданий животного мира, находятся еще элементы геометрии, и их можно отметить точками и прямыми линиями.
Несмотря на наслаждение наше симметрией, существуют и неправильная красота, и эстетика беспорядка; это доказывает, что в весьма сложном механизме способностей человеческих, где элементы то сливаются, то затушевываются, могут происходить тождественные результаты из причин совершенно противоположных. Все это должно бы служить нормой для некоторых философов, которые желали бы упростить то, что весьма сложно, и измерить неизмеримое, перенося в широкое поле философскую задачу о квадратуре круга.
Глава XV. О зрительных наслаждениях, происходящих от физических условий тел
Математические очертания тел образуют собой как бы остов того материала явления природы, который дает пищу зрительным наслаждениям. Но сама по себе математическая форма предметов производит на смотрящего лишь слабое и неопределенное впечатление. Для того, чтобы представление о наблюдаемом теле приобрело живость, надо, чтобы к идеальной форме тела присоединились и черты его физического характера.
Смотреть, как движется тот или другой предмет, есть своего рода наслаждение, хотя и весьма несложное. В этом случае предмет, нами наблюдаемый, то и дело меняет свое место относительно тел, его окружающих, а мы, следуя за ним глазами, упражняем своеобразно свою зрительную способность: каждый новый момент приносит нам новое впечатление, тождественное предыдущему, и такое впечатление в нас возобновляется постоянно. Если видимое движение привлекает нас тем напряжением внимания, которое оно от нас требует, очень быстрое движение может нравиться лишь недолгое время; когда оно скоро прекращается, то резкий переход от сильного упражнения чувств к полному их успокоению рождает в нас удовольствие контраста. Напротив того, движение, длящееся слишком долго, утомляет нас своим видом. Движение может ласкать наши чувства своей непрерывностью или своим постоянством. Предмет, нимало сам по себе не занимательный, становится приятным для зрения, если, внезапно появившись, он исчезает, и мы начинаем ожидать его нового появления. Нас привлекает и такое движение, которое, будучи однообразно, при этом то замедляется, то ускоряется; но чтобы найти в нем приятность, надо обратить на него значительное внимание. То же самое можно бы сказать и обо всех вообще видах наслаждения, но в особенности это касается наслаждений не очень сильных. С другой стороны, смена различных движений или соединение вместе многих может тоже доставлять нам известное удовольствие; это мы испытываем, например, при посещении шелко– или бумагопрядильных фабрик: единовременное вращение стольких колес и катушек вместе с дружным движением стольких рабочих рук энергически привлекает к себе наше внимание и поражает нас не без некоторой приятности. Вообще говоря, все удовольствия зрения, проистекающие от движения предметов, почти всегда осложняются той или другой мыслью, которую они рождают в смотрящем. Движение медленное и монотонное склонно наводить уныние, тогда как оживленное движение рабочей толпы в какой-либо мастерской, естественно, будит в нас энергию и поощряет нас к деятельности. Одним словом, впечатления, получаемые нами через органы зрения, действуют на нас совершенно так же, как и все прочие чувственные аффекты.
Разные степени света, даже будучи лишены всякой цветовой окраски, уже дают пищу разнообразным зрительным наслаждениям; свет есть существенный элемент тьмы, и мы нуждаемся в нем так же сильно, как в воздухе и пище. Всякий здоровый телом и духом человек просыпается при дневном свете с чувством удовлетворения и отрады; основным элементом такого чувства бывает радость при виде солнечного луча, будь то луч прямой, отраженный или преломленный. Долго переносить потемки можно лишь в бессознательном состоянии сна или в болезненной истоме, а также при больных или утомленных глазах, или же когда грусть заставляет искать тишины и уединения. Во всех остальных случаях свет дает нам жизнь и радость, и мы пользуемся им так долго, как только может вытерпеть наше зрение. Когда судьба заводит нас в глубь рудника и мы стремимся обратно к выходу при туманном и дымном мерцании фонаря, то велика бывает наша радость увидеть снова свет небесный: с восторгом вдыхаем мы свободный и чистый воздух.
Наслаждения, которые мы находим в действии света различествуют смотря по тому, какой это свет – исходящий ли прямо от солнца или сообщенный другим светилом. Свет первого рода мы способны выдерживать лишь до известного предела, и гораздо охотнее наслаждаемся мы мягким светом луны, склоняющим нас к раздумью и меланхолии. Если свет не резок, то предметы, подверженные его действию, интересуют нас и ясностью своих очертаний и, сообразно характеру такого освещения, таинственным, загадочным своим видом.
Нельзя лучше расположить себя к размышлению как уединившись в комнате, обстановка которой тонет в полумраке. Как прелестны меланхолические радости сумерек! А мирный и зыбкий свет полной луны воспет уже по достоинству всеми поэтами. Впрочем, и яркий солнечный свет богат бесчисленными удовольствиями для нашего зрения; надо только, чтобы залитые им пространства перемежались скоплениями мрака и тени; тогда и самый сильный блеск становится сносным. Нельзя без вреда для глаз смотреть в упор на солнце; но хорошо любоваться на сияющие звезды и на искры раскаленного железа, когда они брызжут с наковальни из-под молота кузнеца. Удовольствие, доставляемое видом ковки железа, бывает живо и порывисто; наслаждение уже не так сильно, когда свет разгорается мало-помалу или долгое время остается неизменным у нас перед глазами. Всего приятнее видеть ослепительный свет рядом с непроницаемым мраком, и зрелище тем красивее, чем дробнее и многочисленнее светлые места. Такого рода ощущения можно испытать во время ночной бури, когда огненная черта молнии прорезает тьму, или когда внезапно прорвавшийся на свободу луч месяца проливается на землю серебряным дождем. Того же рода приятное ощущение овладевает нами, когда из темных покоев мы вступаем в зал, освещенный множеством свечей.
Контрасты умеренно освещенных пространств представляют для нашего зрения массу разнообразных наслаждений; соединение вместе разных степеней тени может иметь поразительный эффект даже и без содействия цветовой окраски. Уже простая тень, бросаемая каким-либо телом, привлекает нас тем сравнением, которое нам приходится делать между призрачным следствием и его вполне реальной причиной: бесцветная тень, распростертая на плоской поверхности, являет собою нечто весьма причудливое. Игра теней сообщает особую привлекательность многим зрелищам природы и очень способствует эффектам живописи.
Краски прибавляют прелести наслаждениям зрения, но их следует счесть уже роскошью в действии природы на наши глаза; мы отличаем предметы один от другого даже и тогда, когда они отражают разные степени света, не разнясь в окраске. К наиболее простым наслаждениям этого рода следует отнести вид поверхности, окрашенной всего одним цветом, который может нас привлекать как внутренним своим достоинством, так и своею живостью. Мы любуемся цветом даже и тогда, когда лишь часть предмета бывает в него окрашена. Говоря о цветах, наиболее ласкающих взгляд, следует прежде всего назвать красный, синий, зеленый и желтый. Разумеется, личные вкусы могут в этом случае бесконечно разнообразить характер наслаждения; так, не мало людей предпочитают цвета неопределенные: серый, фиолетовый, бурый или даже белый и черный, которые совсем не являются цветами. Отдельные цвета нравятся нам преимущественно своей живостью; более редкий случай, когда нас привлекает в них крайняя их бледность. Яркость придает красоту цветам первоначальным, тогда как цвета неопределенные и смешанные выигрывают от умеренности оттенков. В первом случае, мы наслаждаемся живостью впечатления, во втором воображение наше увлекается таким представлением, которое хотя и слабо, но все же возбуждает наше внимание и мягко упражняет наш рассудок. Цвета доставляют нам наибольшее удовольствие, когда мы соединяем их в известные соотношения. Всего проще можно достигнуть благоприятного соединения цветов через их сочетание: так, зеленое хорошо с красным, белое – с черным, синее – с красным, голубое – с серебром, красное – с золотом; но самые поразительные эффекты происходят от соглашения множества красок в гармоничные аккорды. Мелодия красок гораздо беднее элементов наслаждения, чем их гармония. Поясним это примером: если взгляд наш, утомленный продолжительным путешествием среди снега, останавливается, наконец, с отрадой на зеленеющих лугах, то выносимое нами из этого впечатление бывает по большей части так легко и безотчетно, что память наша весьма редко его сохраняет. Отражение света способствует увеличению зрительных наслаждений, доставляя нам те ощущения, которые нам приятны, потому что они редки. Сюда относятся блеск металлов и своеобразное блистание драгоценных камней. Другие подобные тому наслаждения находим мы в преломлении световых лучей, которое можно наблюдать в семи цветах радуги, а также смотря на природу через окрашенное стекло, когда все предметы являются нам в необходимой окраске. Тела полупрозрачные, пропускающие через себя свет, дают нам тоже случай к наблюдению приятных явлений; здесь удовольствие состоит в неопределенности ощущений, как это бывает, например, когда огонь лампады заключен в тонкую мраморную лампочку.
Эти физические элементы зрительного наслаждения часто встречаются совместно и подкрепляют друг друга, давая пищу весьма сложным и привлекательным ощущениям; приятность ощущений зависит при этом от гармонии, господствующей в их соотношениях. Вот несколько примеров: нам нравится смотреть, как падает снег, потому что взгляд наш охотно следит за множеством легких снежинок и любуется их быстрым падением и яркой их белизной. В произведении удовольствия участвуют здесь и математический элемент числа предметов, одновременное поражающих наше зрение, и физический элемент их движения, и живость их окраски; каждому видоизменению в цвете, движении, числе снежинок отвечает и перемена в степени испытываемого нами наслаждения. Мы любим смотреть, как локомотив проносится у нас перед глазами; нам нравятся и чрезвычайная быстрота его бега, и ряд постоянно сменяющих друг друга однообразных движений; наш взгляд бывает заинтересован и блеском пламени в раскаленной печи паровоза, и клубами пышущего из трубы его черного, густого дыма, и, наконец, длинной вереницей летящих за ним вслед вагонов. То же самое относится и к бесконечному множеству иных зрелищ, которые бывают нам приятны потому, что в них соединяются элементы разных привлекательных для нас ощущений – чрезвычайность, новизна и т. п.
Глава XVI. Об удовольствиях зрения, зависящих от развития нравственных сил
Участие, принимаемое умом и сердцем в удовольствиях зрения, настолько существенно и необходимо, что о нем приходится упомянуть здесь, несмотря на то, что, строго говоря, ему вовсе не место в анализе пяти человеческих чувств.
Предмет, остановивший на себе наши взоры, возбудив в них приятное ощущение, усиленно влечет к соучастию в удовольствии в ту или другую из высших умственных способностей, приглашая их либо мыслить, либо чувствовать. Но случается, что воля наша останавливает полученное ощущение на полпути его к высшим сферам, на той именно грани, где кончается область простого чувства и где начинаются ум и высокое чувство, заставляя ощущение как бы колебаться между двух областей нашего внутреннего мира. Сознаем мы в этот момент одно только ощущение зрения, не допустив еще мышления и как бы оставаясь в состоянии созерцательного экстаза, не чувственного, не интеллектуального, но имеющего нечто общее с элементами обеих этих сил; имени этому состоянию дать невозможно, так как в нем не начинались ни мысль, ни слово.
Несмотря на таинственность и неопределенность этого состояния, оно бывает двоякого рода, готовясь вырисоваться точнее и облечься либо в мысль, либо в чувство, лишь только напряженность ощущения, поборов временную пассивность, вступит в область ума или сердца. Так, случалось не раз остановиться во время прогулки перед растением, стоящим на повороте двух дорог. Самое ощущение формы, как весьма простое, возбуждает в нас интерес, и, однако, мы продолжаем смотреть на растение с грустно-сладостным спокойствием, не чувствуя в эту минуту ни любви, ни ненависти и не возбуждаясь этим зрелищем ни к самомалейшей мысли. Так в другие времена мы смотрим улыбаясь, на младенца, спящего в колыбели, не чувствуя при этом ни малейшего влечения приязни и не упражняя ум свой никакой мыслью. В подобные минуты в нас встает какое-то гармоническое излияние сердца, соединяющееся с ощущением глаз, какая-то мысль, не получившая формы и оставшаяся в нас в выжидательном и невыраженном еще положении. Это – чрезвычайно тонкий психологический факт, для уловления которого в самих себе требуется немало наблюдательной силы и не мало опытности. Тем не менее он достоверен, и всякий может наблюдать его в самом себе. Во всяком случае, это ощущение весьма мимолетное, и редко можно встретиться с ним во всей его полноте.
Многие предметы возбуждают в нас своими физическими и математическими свойствами внезапную и примитивную идею, становящуюся источником удовольствия. Симметрия и пропорциональность внушают идею порядка и спокойствия, и мы с истинным благодушием останавливаем на них наши взгляды. Вид беспорядка и сумятицы, представляя глазам нашим нечто смешное и забавляя нас контрастом между виденным и типом совершенства, сохраняемым в глубине души каждого, внушает нам ужас, не лишенный и некоторой приятности. Описание смешного найдет себе место в отделе анализа тех умственных удовольствий, к которым оно принадлежит. Что касается впечатления красоты, порождаемое иной раз недостатком симметрии или порядка, то источник его можно только предугадывать, определить же его нет возможности. Оно поражает, быть может, резким неподчинением существующим правилам; оно нравится, может статься, смелостью своего проявления в природе или искусстве, а смелость и сила во всех своих формах всегда имеют в себе нечто грандиозное. Беспорядок в распределении неодушевленных предметов нравится нам преимущественно тогда, когда он сопровождается движением, так как вид движения среди хаотического беспорядка представляет некоторое подобие жизни. Как бы там ни было, но традиционный беспорядок съестной лавки влечет к себе сильнее, чем упорядоченное раздавание хлеба в булочной. Величественный хаос ревущего у ног наших океана – более великолепное зрелище, чем вид стоячей воды пруда.
Необъятность некоторых предметов внушает мысль о величии мироздания и о собственной нашей ничтожности; контраст этот бывает приятен нам, когда он усложняется мыслью о том, что мы, создания малые, можем, однако, обнять зрением своим неизмеримый горизонт видимого. Обозревая с морского берега громадное протяжение вод и видя как небосклон сливается с ним в туманной дали, мы наслаждаемся верным подобием «бесконечного». Блуждая удивленными очами по необозримому вместилищу вод, мы ищем грань или твердую точку, на которой могли бы остановить усталый взгляд. И вот среди этой необъятной пустоты, смутившей было наши обычные понятия, появляется парус далекой лодки или корабля, призывая нас вновь к ощущениям жизни и радуя нас двойным наслаждением: подобием бесконечного и симпатией к появившемуся среди моря живому существу. Это – основные элементы удовольствий, испытываемых при виде моря; эти ощущения могут служить базисом для построения великолепных сочетаний радостей ума и сердца.
«Крайне малое» тоже внушает мысль о бесконечном, так как малый мир не имеет видимых пределов, как и само небо. Удовольствия, испытываемые в этом направлении, составляют главную прелесть микроскопических изысканий. Действительно, странно пристрастие наше ко всему крошечному. К нему, по-видимому, присоединяются в уме нашем идея слабости и желание взять его под свою защиту и охрану даже тогда, когда предмет неодушевлен. «Крошечное» внушает желание овладеть им хотя бы на минуту; мы охотно берем его в руки и, рассматривая с интересом, невольно складываем черты лица в некоторое выражение симпатии и сочувствия. Это странное удовольствие проявляется в нас тогда только, когда предмет имеет настолько определенный вид, что составляет сам по себе обособленность. Угловатый осколок скалы, как бы ни был он мал, не возбуждает в нас того же чувства, как круглый и гладкий камушек. Обрывок пера или пушинка вовсе не производят в нас впечатления цельного пера. К подобным удовольствиям (разумеется весьма ничтожным) присоединяется иногда и приятность осязания.
Движение способствует удовольствию зрения многими из своих элементов. Будучи существенным симптомом жизненности, оно прежде всего напоминает собою симпатию ко всему одушевленному. Когда напряженное движение бывает следствием человеческой изобретательности, то мы радуемся ему как проявлению общей нам физической или нравственной силы. Когда же, наоборот, движение естественно, тогда оно внушает нам мысли более скромные и изящные, исключая те случаи, когда нам самим удалось отыскать движение там, где оно не бросалось в глаза.
Естественное движение производит удовольствие двоякого рода, смотря по тому, перемежается ли движение, чередуясь с отдыхом, или продолжается безо всяких перерывов. Первое вселяет в нас вообще чувство сладостной грусти, второе же, наоборот, представляет нам грандиозный и печальный образ бесконечного. Приливающая к берегу трепетная волна, разбивающаяся о камни, отливающая от нас, чтобы снова подползти к нашим ногам, напоминает обычные круговороты жизни: день, начинающейся по исходу ночи, отдых, следующий за утомлением, смех – за слезами, радость возвращается за горестью разлуки и т. п. Медленное же и непрерывное течение воды в реке призывает к созерцанию, которое бывает приятно только по грациозности идей, ими возбуждаемых. Как бы ни играла, протекая у ног наших, речная волна, все же она уходит, и ей нет возврата; вздымающаяся волна, ниспадая, течет далее; за ней вслед бежит другая, возвышаясь и исчезая; лист, падающий с дерева в воду, уносится течением, и, не утомляясь, волна убегает за волной. Это зрелище посредством элементов своих образует грозную формулу бесконечности и представляет живое подобие «вечного»; идея, порождающая в человеке желание вечности слишком необъятна для нас, минутных гостей на земле. Самоубийца, стремясь к реке, чтобы в ней покончить жалкое бытие свое, возвращался бы вспять охотнее, ежели бы вместо неумолимо текущих вод реки, никогда не идущих обратно, его бы встретило спокойное колебание озерной поверхности, мерно бьющейся в плоских берегах, с приливом и отливом чередующихся волн.
Самый свет различием своей напряженности может производить нравственное влияние. Силой ярких своих лучей свет возбуждает к жизни: слабый и неопределенный, он клонит человека к неге и грусти. Слабый, но дрожащий свет бывает особенно привлекателен, чему служит примером то полное неги спокойствие, которым обдает нас светило ночи.
Цвета имеют довольно значительное влияние на нравственную сторону зрительных удовольствий. Мы называем веселым «красное» с его оттенками, «лазоревое» и «зеленое», а «черное» и «серое» – печальными, белый же цвет – чистым и девственным. Факт этих названий, встречающихся у всех народов, сильнее всего доказывает умственное свойство зрительных ощущений. Каждый из нас имеет любимые цвета; я, например, страстно люблю лазоревый. В жарких краях люди вообще предпочитают яркие цвета. Там, где солнце редко улыбается, люди вообще любят облекаться в цвета невзрачные и темные. Негритянские племена до страсти любят цвета, режущие глаза. Цвет бывает приятен иной раз по воспоминаниям, связанным с ним. Изгнанник способен плакать при виде национальной кокарды.
Существа одушевленные привлекают наши взоры по сродству их с нами и чем более оказывается в них с нами сходство, тем приятнее становится нам вид их.
Хотя в растениях трудно отыскать что-либо нам сродное, мы относимся к ним с более теплым вниманием, чем к предметам из ископаемого мира; растения сильно участвуют в наслаждениях зрением, способствуя им таинственным, необъяснимым образом, вовсе не отвечающим их физическим свойствам. Узник, нашедший травинку в расселине камней за решеткой своего окна, радуется своей находке гораздо сильнее, если бы ему попался там красивый камушек. В растении нас всего более интересуют цвета его, так как жизнь сказывается в нем во всей роскоши форм и окраски. Цветок интересует нас иной раз не менее животного, но красота его форм и великолепие цветов способствуя нашему наслаждению, вовсе не составляет главного элемента удовольствия, им доставляемого. Самый скромный полевой цветок радует нас более, чем роскошный, искусственно сделанный из фарфора или воска, потому что он живой. Вот почему надобно полагать, что таинственная симпатия связует нас с нужными созданиями таинственного мира.
Животные могут нравиться нам только тогда, когда они не пугают нас своим зверством; но и таковые могут, в известных условиях, доставлять своего рода удовольствие зрению. Мы любуемся ягуаром за стеклами музея; тигр нравится нам, когда мы ограждены от него железной решеткой клетки. Другие животные веселят наши взоры яркостью красок, живостью движений, странностью своих форм. Иные внушают нам приязнь, другие служат нам. Дикие звери нравятся нам силой и крепостью своих мускулов. Создания с холодной кровью веселят глаза наши едва ли более, чем предметы неодушевленные; но те, в жилах коих течет горячая кровь, вызывают видом своим обычное нам чувство приязни ко всему живому. Чтобы убедиться в этом, каждому стоит вспомнить то холодное чувство, с которым смотрят люди на рыб, плавающих в пруду парка, и ту симпатию, с которой поглядывает каждый на воробушка, прыгающего по дороге.
Животное, интересующее нас более всех других, – несомненно, человек, потому ли, что он действительно великолепнейшее создание в мире, или потому, наконец, что он собрат нам по естеству нашему. Я не раз удивлялся красоте форм и благородству телодвижений, характеризующих человека! Но вид человека возбуждает в нас еще то естественное чувство приязни, которое легло в основание общественности между людьми. Удовольствие смотреть на человека усложняется еще степенью того чувства приязни, которое мы ощущаем к увиденной нами особе. От горячего взгляда матери, любовно смотрящей на грудного ребенка, и до того рассеянного взгляда, которым мы встречаем вовсе не интересующую нас личность, есть много степеней. Ежели бы фотография способна была уловить мимику взгляда, мы имели бы в картинах полную постепенность людской приязни и всей глубины внутренней человеческой жизни, выраженной тем или другим взмахом его ресниц.
Великая радость бывает при встрече человеческих глаз! Увидав человека, мы можем осмотреть его с головы до пят, но ежели он удалится, не взглянув на нас, то мы остаемся чуждыми друг другу, и вызванное в нас человеком ощущение останется в узких пределах нашего «Я». Но ежели мы встретились с ним глазами хотя бы на мгновение, то мы уже внутренне приветствовали друг друга обычным молчаливым приветствием человека человеку. Эта таинственная передача чувств глазами может иметь место только между существами одного рода, и хотя бы взгляд наш и повстречался с глазами любящей нас собаки или нашего верхового коня, удовольствие осталось бы при этом чувственным и бледным. Но человек, сверкнув очами, тем самым говорит с человеком, и чувства обоих, взглянувших друг на друга, сходны с ощущениями двух солдат, встретившихся на военном посту и передавших друг другу «пароль и отзыв». Как здесь, так и там ощущения одинаковы: оба на мгновенье почувствовали себя членами одного и того же войска.
Анализ того, что происходит между четырьмя встретившимися глазами, стоил бы сам по себе долгого и тщательного изучения и терпеливых изысканий, которые бросили бы яркий свет на физиологию нравственных ощущений. Здесь мы можем заметить только, что удовольствия подобного рода как относящиеся к отделу чувствительности будут рассмотрены нами отдельно.
Зрительное ощущение может еще быть приятно по воспоминаниям, вызванным его проявлением. И в этом случае окажется верным феномен, о котором упомянуто выше. Увидав с вершины холма белое пятно вдали, изгнанник, возвращающийся на родину, признает в нем родительский дом и смотрит на него с восхищением, ничего еще не вспоминая и не помыслив ни о чем. Он не отвращает взора от дорогого ему предмета, колеблясь между простым ощущением дома и заключенным в нем миром воспоминаний, еще не открывшимся; он останавливается, проливает слезы и продолжает «смотреть» на предмет, становящийся ему все милее и милее, хотя дом вовсе ни в чем не изменился. Так нравственное значение предметов усиливает до чрезвычайности доставляемое ими удовольствие. Вид тополя наполняет невыразимой радостью сердце европейца, не видавшего в продолжение многих лет ни одного дерева, кроме араукарий и пальм. При виде деревенской пряхи иной солдат заливается слезами, вспомнив и старую мать, и веселые россказни около семейного очага. Что до меня касается, то я не могу видеть крылечка, выходящего на поросший травой двор. На траве такого дворика меня учили ходить, там я отыскивал насекомых и божьих коровок и провел там годы детства, лучшие годы моей жизни.
Преобладающая в каждом из нас страсть заставляет находить приятность в предметах, относящихся к ней, что до бесконечности разнообразит наши удовольствия. Сибарит с умилением смотрит на откупориваемую бутылку, покрытую почтенной пылью времен; библиофил дрожит от радости, завидя на полках книгопродавца недостающую в его библиотеке книгу. Предметы, иногда самые отвратительные, могут стать источником живейших радостей. Естествоиспытатель несет, возвращаясь с прогулки, никчёчную улитку и с наслаждением прячет ее под замок своей шкатулки.
Анатом оставляет свое дело и, отбросив нож свой, радостно всматривается в смердящий и отвратительный труп, восхищаясь новой отысканной им нервной нитью.
Глава XVII. Об увеселениях и забавах, основанных на удовольствии зрения
Комбинируясь между собой, элементы удовольствий, уже изученные нами в чувстве зрения, могут составить наслаждения весьма сложного рода. Чтобы анализировать здесь таинственные и неизведанные радости ума и сердца, входящие, как мы видели, в область пяти простейших чувств, я вынужден был насиловать природу вещей. Теперь я должен сказать еще несколько слов об увеселениях, основанных на этих наслаждениях. Разнообразие бесконечных зрелищ не утомляет взора, некоторые же образы до того привлекательны, что мы не перестаем находить их вечно новыми и прекрасными. Ощущения, ими производимые, не всегда тождественны между собой, так как время изменяет и обстановку их, и внешние условия их проявления, и даже процесс самого чувства.
Свод небесный представляет нам одно из великолепнейших зрелищ в мире, и им всегда и вечно будет восхищаться человек, живущий в подлунном мире. Светило ли дня ходит по небу в лучезарной своей красе; ночь ли застилает его своим плащом, усеянным созвездиями; бродят ли по ясной лазури волнообразные мягкие облака; сталкиваются ли в его пространстве грозовые тучи при бесконечном сверкании молнии; рисуется ли там фантасмагория радуги или магический калейдоскоп сумерек; подернут ли весь небосклон непроглядной завесой темной ночи, – небо во все времена открывает зрению целые миры удовольствий. Небо – это вечно готовое полотно, на котором величайший из живописцев, природа, рисует широкой кистью и грозно– величавые картины, и шутливые образы игривой своей фантазии. Эта картина, носящая на глубине фона вечную перспективу миров, неизмеримых, как само пространство, балует глаз игривыми образами волшебного фонаря, проносящимися по ее прозрачной поверхности. Кому любопытно понять причины удовольствий, доставляемых нам видом этих чудес, тот пусть снова заглянет в только что пройденные главы.
Вид природы составляет едва ли не большее из наслаждений зрения, доставляя множеству людей лучшие радости жизни. Созданное человеком открывает другое поле удовольствий, но наслаждение искусственным не может выдержать сравнения с теми радостями, которые возбуждает в нас сама природа.
Лучшие произведения великих художников оказываются, при сравнении их с делами природы, служившими им моделью, тем лишь, чем бывают гербарии сушеных растений в отношении к живым цветам. Простейшие между тем удовольствия доставляются верным подражанием той же природе искусствами и в особенности двумя главнейшими из них – живописью и ваянием.
Анализ удовольствий живописи весьма интересен, но здесь можно сделать только некоторые указания на обилие и чрезвычайное разнообразие их. Главный интерес, возбуждаемый произведениями этого рода, – в удовольствии видеть подражание природе, столь близкое и точное, что глаз может обмануться им и заставить ум приятно дивоваться тому, как мог человек немногими красками навести на плоскость образы, столь схожие с действительным видом предметов. Вид виноградной кисти, не привлекающий сам по себе ничьих внимательных взоров, будучи удачно передан полотну, удивляет и веселит глаза зрителей в продолжение долгих лет. Изображение одушевленных предметов довольствуется по большей части подобным действием на глаза и умы людей. Настоящая живопись идет далее, переходя ко второму, более поразительному элементу наслаждений, т. е. к удовольствию видеть, как художник уловил в совершенстве один из моментов природы в его летучих и скоропреходящих проблесках и доставил людям, таким образом, возможность наслаждаться, имея постоянно перед глазами или то, что случается весьма редко, или что бывает где-либо вдалеке. В ландшафтах уловлены бывают и как бы застывают на полотне и сверкание молний, и плеск волны. Изображающий лицо человеческое точно так же останавливает и увековечивает на своих картинах людские страсти, ухитряясь уловить даже вскидывание разъяренного взгляда и полный неги робкий взор любви. Искусство иной раз соединяет в узких пределах одной и той же картины многочисленные образы красоты, совершенствуя их и возвышая до степени, не встречающейся в природе. Художник, рисуя орнаменты, соединяет в них все элементы симметрии, рассеянные здесь и там, по области природы, созидая из них новые изящные и грациозные формы. В настоящее время человек может при помощи искусства осмотреть, не выходя из дома, все страны света и, кроме того, он может расстраивать свое сердце зрелищами и нежнейшей приязни, и ужаснейших преступлений. Он может успокаивать взор на изображении тихо спящего ангела или содрогаться при виде кровавых битв. Чувственным наслаждениям живописью много содействует внимание, доводимое до анализа картин, а также и любовь к коллекциям, к приобретению, – словом, тщеславие во всех его видах.
Ваяние доставляет нам немало наслаждений, схожих с таковыми, доставляемыми живописью, кроме обаятельной силы красок, всегда отсутствующих в произведениях скульптуры. Здесь наслаждение оказывается более чувственным и менее умственным, так как в ваянии на воображение действуют уже не образы, а только формы предметов, и фантазия уже не находит себе пищи в том, что так схоже с действительностью.
Архитектура, чеканка и всякое искусственное подражание неодушевленному доставляют наслаждение подобного же рода, но заключенное в более тесные пределы. Наслаждение вообще бывает тем сильнее, чем более зритель имеет сам расположение к данному искусству.
Профан «видит», дилетант «смотрит», но только художник может отождествить свою мысль с мыслью великого художника и воплотить ее в себе. Все трое идут, правда, одной и той же дорогой, но останавливаются они на совершенно различных стадиях пути. Можно себе представить, как восхищался, как содрогался даже великий Канова при созерцании Венеры Медицейской; между тем Деви, пройдя вдоль знаменитейшего музея, остановился бы перед одной из статуй и, вероятно, сказал бы: «Что за прекрасный кусок углекислой извести!»
Калейдоскоп, панорама, стереоскоп и т. п. сходные с ними забавы основаны тоже на увеселении зрения и радуют нас столько же разнообразием форм, сколько разнообразием впечатлений.
Фантасмагория, забава мало известная, могла бы достичь довольно поразительных эффектов. Зритель погружен в глубокую тьму, внезапно прерванную появлением лучезарной точки, которая, из-за малого своего объема, кажется нам сияющей в бесконечной дали. Но точка увеличивается, она растет, приближается, принимает определенные формы и, наконец, как бы лезет прямо на зрителя. Фигура, грозящая броситься на зрителя, должна, разумеется, изображать что-либо, способное привести в ужас. Затем фигура снова начинает удаляться и наконец исчезает в поглощающей ее мгле.
Микроскопы, телескопы и зеркала, увеличивающие предметы, могут забавлять нас новизной зрелища. Плоские зеркала, верно отражая предметы, тоже веселят людей при новости ощущения, но они радуют нас, отражая собственную нашу особу, весьма интересную для каждого зрителя. Но в этом случае удовольствие почти всегда усложняется чувством, так как зеркало, кроме особы нашей, зачастую отражает наше тщеславие и наш эгоизм. Эти радости, в сущности, весьма невинные, легко прощаются женщинам, которые проводят утренние часы в тиши своей туалетной лаборатории, чтобы выйти из нее еще более прекрасными и обольстительными.
На удовольствии зрения основан еще фейерверк, потешные огни, не без примеси и некоторых удовлетворений слуха. Сила света, блеск окраски и быстрое движение огненных фигур – вот элементы, составляющие красоту потешных огней. Но забавы, добываемые пиротехникой, бывают усложнены нравственными элементами зрения; чтобы убедиться в этом, стоит вспомнить белизну света бенгальских огней, вызывающую впечатление безмятежности, связанной с движением и силой. Потешные огни, взятые в массе и приведенные к формуле, передающей физиологическое их значение, служили бы лучшим выражением народного веселья, внезапностью своих проявлений, бурными своими порывами, сверканием ракет, трепетанием всего огненного пространства и взрывами хлопушек и гранат. Вот почему не обходится без них почти ни один сельский, церковный праздник, не обходится и величавое торжество коронации земного владыки. Но в селе довольствуются взрывом дюжины невинных хлопушек и взлетом нескольких некрупных ракет; для второго же торжества требуются дворцы, объятые пламенем, и пускаются в ход все чудеса современной пиротехники.
Иллюминация – это тот же фейерверк, построенный на более простом основании, возбуждающий более тихие и более продолжительные радости. Нравственное значение иллюминации тоже основано на физиологическом значении света. Горный житель заявляет о празднестве своем, зажигая огни, которые блестят высоко на вершинах гор, как бы на одном уровне с небесными светилами. Горожанин освещает свои пиры и танцы потоками света, льющимися с великолепных канделябров и блестящих люстр. Свет, под разными своими видами, обожаем жителями Востока. Свет собирает около очага, камина или костра людей всех наций и всех сословий. Свет радует человека, порождая между тем своего неизменного спутника – тепло.
Удовольствие зрения участвует еще во множестве увеселений весьма сложных, о которых будет сказано ниже. Танцы, театры, охота, рыбная ловля и все увеселения, великие и малые, начиная от механической куклы до всемирной выставки, – все это празднества, которые преподносятся чувству зрения, открывая ему необъятный кругозор удовольствий, не имеющий до сих пор ни пределов, ни грани. Искусство не истощило еще комбинаций в этом направлении элементов, уже нам известных, и человеческая изобретательность не дошла еще до Геркулесовых столбов.
Ежели бы завтра кто-либо дал оптике такой же толчок, какой дан был науке бессмертным Галилеем, – на человечество полился бы новый поток нескончаемых удовольствий. С одной стороны, нам удалось бы, наконец, усмотреть конечные молекулы тел; с другой стороны, мы проникнули бы зрением в новые миры, управляемые новыми законами движения. В один день состарились бы на целый век современнейшие труды по микроскопии и астрономии. Человек стал бы доволен собой. Так случается всегда: материалы, собранные тщательным изучением и терпеливой наблюдательностью отцов, бывают сразу разрушены и рассеяны потомством. Но на свежих развалинах никогда не дремлющей науки вечно действует квадрант зиждителя и вновь все разрушает молот мнимо вандальской руки.
Глава XVIII. О наслаждении пьянством, о влиянии пьянства на отдельных лиц и цивилизацию
Весьма трудно определить, даже и с приблизительною точностью, как велико на земном шаре общее число людей, предающихся удовольствию опьянения. Еще труднее найти на свете страну или местность, где бы пьянство совсем не было известно. Богатый англичанин разгоняет свой сплин прекрасным хересом и портвейном, которые выписывает он из Индии, чтобы наслаждаться их нежным ароматом. А житель Камчатки жует между тем сухую корку гриба-мухомора (Amanita muscaria) и на утро, после безумной ночи, выпивает собственную наркотизованную урину, чтобы продлить свое блаженство. Потомок инков пьет мутную чичу, странный, но здоровый напиток, на поверхности которого всплывает вонючее деревянное масло и в состав коего входит, вместо дрожжей, человеческая слюна. Татарин приводит себя в опьянение своим любимым кумысом – питьем из перебродившего кобыльего молока. На Востоке едят, пьют и курят опиум. В Боливии и Перу фабрикуются пилюли коки. Если где-либо, в каком-либо отдаленном уголке света, еще есть дикое племя, не знакомое со спиртными напитками и наркотическими ядами, то, будьте покойны, цивилизация не замедлит проникнуть к нему и навязать ему алкоголь под всеми его видами и со всеми его последствиями.
Слыша эти факты, скептик пожимает плечами и находит, что сражаться с ними нечего. Человек, говорит он, создан для наслаждения, и совсем не беда, если он находит себе дешевые удовольствия. Моралист хмурит в этом случае брови, вспоминает о первородном грехе и проклинает человека как существо, насквозь пропитанное пороком. Один лишь философ никого не клянет и не отделывается смехом: он ищет в самой человеческой природе основные причины порока и добродетели; он вполне убежден, что без знания не может быть действительного решения данного вопроса, и что одно лишь знание может сделать желаемое решение практичным и полезным. Надо знать, что, собственно, такое наше тело, из какого именно теста мы вылеплены.
Человек заставил бродить сок виноградной лозы и стал собирать капли, сочащиеся из головок мака; им руководил при этом тот же инстинкт, который помог ему найти хинное дерево в ущельях Кордильер и жемчужину на дне моря. Когда человек передает с кровью новый порок своему потомству, то и здесь действует один из законов природы, а именно закон наследственности; добро и зло переходят от одного поколения к другому подобно звонкой монете, которая, как ни изменяется в форме и ценности, а все же без устали странствует, переходя из рук в руки.
Пьянство есть временное безумие или экзальтация одной или нескольких способностей, коренящихся в столбе нашего спинного мозга, и происходит от введения в наш организм некоторых субстанций. Все вообще опьяняющие вещества производят на нас приблизительно одинаковое действие и дают нам сходные по характеру наслаждения. Чем бы мы себя ни опьянили, с нами происходит в главных чертах следующее: в нас прежде всего возникает чрезмерное сознание собственного существования, и это сознание стремится взять верх над всеми остальными нашими ощущениями. На первых степенях опьянения жизнь представляется нам более обыкновенного полной и чувственной; мы приходим в состояние внутреннего довольства и спешим пользоваться жизнью при содействии здоровых сил своей натуры и веселого задора, приобретенного искусственно. Далее многие способности чувства, мысли, движения начинают покидать свой нормальный уровень, и затем, вместо покоя и апатии, коими отличалось наше первоначальное состояние, мы начинаем испытывать чрезвычайное возбуждение. Этот период опьянения может разниться у разных субъектов по степени и свойству, но у всех, однако, он носит характер лихорадочной деятельности. На первых порах мы еще были в силах наблюдать признаки деятельной жизни, которою поглощены наши способности, но позднее чрезмерная и беспорядочная экзальтация разнохарактерных наслаждений охватывает наш духовный мир подобно урагану. Смутный трепет, дикий восторг – вот чем выражается в это время наше состояние; элементы добра и зла прорывают в нас все свои естественные преграды и перепутываются между собой в неистовстве разнузданной вакханалии.
Другая и притом характерная черта того удовольствия, которое мы находим в опьянении, – это оригинальная метаморфоза, постигающая нашу память. Грациозный эффект, под воздействием которого мы подпадаем, заполоняет собой обширные области нашего ума и сердца, стремясь исторгнуть из них все докучные заботы о настоящем, все печальные размышления о будущем, все тягостные воспоминания о прошедшем. Столкновение и нагромождение всевозможных элементов умственно-нравственной деятельности, стремительность мысли, которая, вырываясь наружу, беспорядочно злоупотребляет орудием слова, – все это образует в нас такой вихрь или водоворот, что сознание наше едва может схватить настоящее и уже отказывается различать прошедшее от будущего. Так увлекающий нас быстрый и веселый танец не позволяет нам ни различать окружающие нас предметы, ни даже видеть ту русую кудрявую головку, которая в другое время дорога нашему взгляду.
Полное исследование области явлений, сопровождающих опьянение, с троякой точки зрения – философии, гигиены и нравственности – есть пока еще только нелегкая задача; что меня касается, то я берусь лишь наметить некоторые линии в плане того дворца, на месте коего разбита ныне моя палатка. Во всяком случае, кто задумает создать натуральную историю пьянства, тот сделал бы разумно, поделив ее на три части, сообразно трем родам опьянения; я разумею опьянения: алкоголическое, наркотическое и кофейное.
Алкоголь, извлеченный из веществ посредством брожения и дистилляции, не сразу проникает в сокровенные области нашего организма; прежде всего мимоходом он доставляет удовольствие нашему органу вкуса и в этом заключается значительная часть его достоинства. Алкогольные жидкости, будучи введены в желудок, немедленно поглощаются потоком кровообращения, который стремит опьяняющий элемент алкоголя в нервные центры и разносит его по всей сети чувственных нервов, покрывающей изнутри наше тело; результатом является охватывающее нас чувство бодрости и благополучия, а это усиленное пользование жизненной силой приводит нас к порогу еще большего наслаждения. Если увеличить дозу потребленного спирта, то возбуждение возрастает и начинает сказываться в веселом и благодушном настроении; мы начинаем говорить скорее и больше, замечаем в соотношении предметов, нас окружающих, чрезвычайные и малоприметные особенности, судим о вопросах общественной жизни, не принимая во внимание их обычных условий… Мы бываем в это время оптимистами, подобно большинству людей, вполне здоровых телесно и душевно. Степень напряжения, а главное, характер нашей умственной деятельности значительно при этом изменяются: потребность высказаться, поощряемая порывистым накоплением в нас идей и образов, делает нас более сообщительными, более любящими общество, более добрыми… Я говорю о правиле, а не об исключениях; не спорю, что есть люди, которых вино делает мрачными, зложелательными, придирчивыми. К счастью, таких обиженных субъектов немного и, что меня касается, то я сильно сомневаюсь в нормальности состояния их спинного хребта. Следует признать несомненным тот, всегда доступный проверке наблюдением, факт, что алкоголь обыкновенно затрагивает в нас наиболее великодушные струны, и что люди, находящиеся под его влиянием, бывают особенно чувствительны к аффектам сердца.
Когда, выпив вина чрезмерно, вы становитесь наконец совсем пьяны, ваши мускулы, которые сперва было порывались производить резкие телодвижения, делаются, напротив того, вялыми и отказывают вам в своей службе. Впечатлительность ваших чувств все более и более при этом притупляется, изолируя вас от внешнего мира; вы впадаете в смятенное безумие мысли и живете уже исключительно внутри себя. Удовольствие чувствовать себя временно другим человеком уступает в вас место потемкам дремоты, которая закрывает вам двери внешнего мира, а равно и собственного вашего духовного святилища; одним словом, вы утрачиваете сознание жизни. В последнем периоде опьянения воля человека долго борется с черными тучами, заволакивающими со всех сторон его умственный горизонт, и дремота его нарушается при этом, лишь яркими проблесками безумия, подобно тому, как молния прорезает порой мрак ночи. Это состояние имеет в себе нечто преступное и отталкивающее, потому что выражает собой агонию человеческого ума и достоинства; наслаждаться им может лишь человек с низкими инстинктами, или же такой несчастный, кто, злоупотребив жизнью, погубил в себе благородные качества, данные ему природой.
Наркотическое опьянение отличается, в действии своем на человека от опьянения алкогольного. Кроме того, оно и само по себе действует на нас разно, смотря по тому, каким веществом бывает произведено; но всегда и неизменно оно дает нам удовольствия неизмеримые, страшные, опасные… Только с помощью порочной привычки можно найти приятность в противной горечи опиума и в едкой горечи коки; нельзя, следовательно, требовать от наркотизации тех удовольствий вкуса, кои доставляет нам алкоголь. Наркотические субстанции тяжело воспринимаются человеческим организмом, и требуется известный срок времени, чтобы между вами и внешним миром начала, подобно занавесу, простираться некая неосязаемая преграда. Вскоре вы уже смутно видите все вас окружающее, подобно тому, как бывает виден огонь сквозь алебастровую лампаду; вы осязаете предметы, как осязали бы стекло сквозь шелковую перчатку; вы думаете, как можно бы думать в полусне во время жаркой сиесты под тропиками. Первая степень наркотизации отличается чрезмерным сознанием внутренней жизни, доведенным до высшего предела благополучия и облеченным в нерушимое спокойствие. Это – кайф восточного человека; это – лампада, которая сама чувствует свое горение и радуется тому, что горит вдали от ветра.
Наркоман – такой же оптимист, как и пьяный человек; докучные заботы обыденной жизни не могут ниоткуда ворваться в ту замкнутую и непроницаемую область, где он наслаждается блаженством; внешний мир для него не существует, так как он пребывает вне действительности и не нуждается в выражении кому-либо своих чувств. Напротив того, он становится тем более неподвижным, чем совершеннее становится его кайф. Я производил опыт этого рода над самим собой и никогда не забуду, как под влиянием коки провел в полной неподвижности несколько часов, не пошевелив ни одним мускулом, не открыв ни разу глаз. И это был не сон. Я чувствовал себя совершенно неспособным чего-либо пожелать, так как по тогдашним моим ощущениям ничего не могло быть лучше того состояния, в котором я находился.
Наибольшее наслаждение, какого можно ждать от наркотических средств, достигается с появлением галлюцинаций. Мы должны их увидать волей-неволей по мере увеличения дозы потребляемого вещества. Нет фантазии довольно пылкой, нет пера довольно бойкого, чтобы описать то несметное множество и ту бесконечную пестроту образов, которые возникают в безжизненном и туманном хаосе временной слепоты наших закрытых глаз. Внезапно являясь нам, эти образы то сменяют друг друга с быстротой панорамы, движимой паром, то тихо чередуются у нас перед глазами, подобно картинам волшебного фонаря, движимым спокойною рукой. Поместите в калейдоскопе самые грандиозные сцены природы и самые смешные измышления карикатурного юмора, самые суровые портреты исторических личностей и самые причудливые изображения насекомых, самые яркие цвета радуги и самые пестрые из римских мозаик, самые прелестные цветы и самые невообразимые фигуры чудовищ… Одним словом, все лучшие и все ничтожнейшие, все великие и все микроскопические элементы творения! Теперь приведите в движение ваш калейдоскоп по законам новой, смелой, неслыханной эстетики! То, что вы видите, есть лишь слабое подобие фантасмагории, которую произвели бы в вас шум и кока. Я испробовал на себе оба эти средства и положительно вас заверяю, что большего наслаждения я не испытывал, да и предположить не могу. Понять, что могут дать нам наркотические вещества, не подвергнув себя их действию, почти невозможно. Представьте себе, что кто-либо прожил некоторое время в таинственной стране, преисполненной всего, что только есть в природе самого великолепного, цветом и формой и затем вынужден был внезапно покинуть этот блаженный край; что вне этой минувшей жизни он чувствует себя умирающим или уже умершим… Лишь такой человек мог бы, оставаясь в здравом рассудке, вообразить себе действие наркотизации. О жертвах этого рода опьянения, обратившегося в страсть, рассказывают диковинные вещи. Был такой случай, что женщина вполне порядочная, образованная, умная, мать семейства, имела несчастье познакомиться в Сальте (в Аргентинской республике) с употреблением коки; плачевный результат сказался в том, что особа эта покинула все свои сердечные привязанности, а также привычки семейного круга и обеспеченной жизни для того, чтобы, запершись в деревенской лачуге, предаться там всецело таинственным прелестям боливийского безумия. Китайские рабочие, когда им отказывают в обычной порции опиума, кидаются вне себя к морскому берегу в надежде, что волна прилива поглотит их невыносимые терзания вместе со злополучной жизнью. Вот из таких примеров становится наглядным, что разумеют англичане под словами «enchained», «fettered», «enslaved», коими они обыкновенно живописуют потребителей опиума.
Несомненно, что галлюцинации, хотя бы они длились и не долго, действуют пагубно на жизнь человека, значительно сокращая ее продолжительность. Когда во рту у нас находится пилюля коки, то стоит лишь проглотить два-три раза выделяющуюся из нее жижу, чтобы по желанию возобновить в себе прекратившиеся видения. Cocuero (потребитель коки) прерывает и восстанавливает в себе таким образом роскошное зрелище, коим наслаждается, наполняя более или менее продолжительные интервалы спокойствия кайфа; это неестественное спокойствие служит, следовательно, как бы фоном картины.
Наиболее бесстрашные любители наркотических эффектов не довольствуются ни блаженством кайфа, ни галлюцинациями, но делают шаг далее, достигая этим путем безумия, которое бывает поистине ужасно. Вспоминаем ли мы о нем, испытав его сами, видим ли его в других – оно равно преисполняет нас страхом, так как потрясает весь физический и нравственный мир человека, подпавшего под действие своей пагубной страсти. Когда причина опьянения, прием коки, то, независимо от степени наркотизации, сознание наше продолжает бодрствовать, и этим удовольствие удесятеряется.
Наркотические вещества кофейного свойства (caffeia) – кофе, чай, гуарана, шоколад и другие, еще более слабые возбудительные, редко производит в нас такое состояние, которое бы равнялось полному опьянению. В этих исключительных случаях результат зависит обыкновенно как от особой нервозности потребителя, так и от количества потребленной субстанции. Самое большее, чего можно ждать от кофе и других ему подобных веществ, – это судорожный подъем физических сил, благодаря коему вы начинаете смеяться без достаточной причины, то и дело двигаться и выражать множеством странностей тот избыток впечатлительности, который охватил вас подобно огню, разгоравшемуся от искры. Такова обыкновенная форма кофейного пьянства. Я испытал ее два раза в течение моей жизни, а именно выпив однажды одну за другой пять чашек крепкого кофе, и потом, когда в Америке мне пришлось как-то выпить большую чашку лучшего перуанского шоколада. Всякий знаком с действием кофе, но немногие умеют отличить и определить разные степени благополучия, им доставляемого. Величайшее удовольствие этого рода состоит, по-моему, в быстрой и скоропреходящей экзальтации ума и чувства, которая, начавшись с простого и мутного ощущения благополучия, может развиться до размеров конвульсивного и фосфорического возбуждения всей умственно-нравственной системы.
Алкогольное опьянение сохраняет свой физиологический характер только на первых своих ступенях. Начиная с Платона, который говорил, что вино наполняет дух наш бодростью, и Плиния, по словам которого, «вино само по себе – средство, оно питает кровь человека» (vino aluntur sanguis calorque hominum), все философы и поэты, кроме разве нескольких ипохондриков и больных, состязаются в превознесении редких достоинств виноградного сока. Что касается лиц, которые рады были бы присоединить свой голос к похвале вину, но которых останавливают в этом случае делающие им честь деликатные сомнения, то для них у меня есть в запасе мудрое слово св. Хризостома: «Винное пьянство является делом рук дьявола» (Vinum Dei, ebrietas opus Diaboli est). Это слово одним резким и уверенным штрихом разделяет между собой две соседние области: области физиологических и патологических явлений.
Часть вторая. О наслаждениях сердечных чувств
Глава I. Общая физиология наслаждений чувства
Самые сладостные и самые утонченные из чувственных наслаждений наполняют сердца людей радостью, доходящей иногда до безумия; они усеивают путь человеческий вспышками неимоверного счастья, но они не в силах излить благотворные влияния на все существование или составить единственное счастье жизни. Можно бы собрать все чувственные удовольствия в один чудный аккорд, в грандиозную оргию наслаждений, но этот пир чувственности не мог бы продлиться долее нескольких часов, и в ткани нашей жизни он мог бы фигурировать только как вотканный в нее драгоценный камень. Только сердечное чувство способно распространить около себя атмосферу нескончаемых радостей и излить гармонию во все протяжение жизни. Наслаждения чувств, более яркие и более бурные, могут на пути нашем манить своими пламенеющими факелами, но светильники эти бледнеют и меркнут перед чистым светом вполне затмевающего их сердечного аффекта. Чувственные наслаждения не могут помочь нам побороть превратности судьбы, они не могут устоять против напора физических страданий; истинное же чувство способно внушать улыбку на одре болезни и даже среди агонии смерти возвысить нас до апофеоза человеческого достоинства.
Чувственные наслаждения – это искры, сверкающие по всей атмосфере жизни, но не оставляющие за собой ничего, кроме пепла и дыма. Радости же чувствительности наполняют все существование как дивная гармония, как благоухание, не знающее ни образа, ни пределов и стремящееся по всему нашему пути незримыми волнами и сладостными колебаниями.
Истинное чувство – это цветок столь прелестный и столь нежный, что анатом, смело приступающий к анализу всего существующего, не дерзает поднимать убийственного ножа своего на его благовонные лепестки; это – цвет, взросший в теплой сердечной среде, легко сжимающийся под напором леденящего ветра интеллекта человеческого, и в руках того, кто осмелился бы приступить к нему с анализом и изучением, не осталось бы ничего, кроме сухих листьев на завядшем стебельке, или трупа без жизни и движения. Сама наука, всегда готовая крошить и резать все живущее, чтобы только подсмотреть тайны жизни среди пораненных ей трепещущих от боли фибр, – неумолимая наука принуждена уважать чувство как святыню человека, должна довольствоваться легким прикосновением к нему руки, чтобы осязать и счесть ритм его тихого и сладостного биения. Решаясь на некоторую профанацию всеобщей святыни, ученые едва решаются измерять чувство и взвешивать его на своих весах. Но горе тому, кто осмелился бы пойти далее!.. Покончив со святотатственной работой своей, он нашел бы засохшим и помертвелым собственное нравственное свое бытие, как тот анатом, который, захотев изучить тайну жизненности, вонзил бы нож в собственное сердце. Внезапно побледнев, он испустил бы дух с судорожной улыбкой ужаса на искаженном лице, и никогда человечество не простило бы ему святотатственной попытки, и развеяло бы по ветру самый прах его.
Многие великие люди не раз уже блистали перед современниками заостренным ножом анализа, внушая человечеству невольный трепет ожиданий, но ни один из них не дерзнул поднять руки на чувство, не заслужив тем проклятия всех людей.
Не имея возможности произвести анализ чувства, постараюсь, однако, начертить его образ несколькими линиями, могущими впоследствии направлять нас при изучении наслаждений нравственного мира.
Если при изучении уже рассмотренных нами наслаждений, мы и не были в состоянии определить самой сути ощущений, входящих в состав их, тем не менее мы всегда могли проследить ход их проявления от исходного пункта до внешнего выражения самого ощущения. Теперь же, наоборот, мы вступаем в весьма неопределенную область изысканий с намерением изучать силу, но не видя вовсе органа непроизводящего. Чувственные наслаждения, как мы уже видели, зарождаются в нервах ощущения; мозговой же центр только способствует превращению полученного впечатления в определившееся ощущение. Здесь же, наоборот, наслаждения исходят из тех невидимых стран, географическую карту которых не сумел бы начертать ни один философ; оно начинается в поле, по которому ни усилия идеалистов, ни дерзкие гипотезы поклонников материализма не могли проложить ни одной тропы; наслаждения чувств наших берут свое начало там, где на все времена и годы сияет надпись «неведомые края».
Как бы то ни было, система ганглиозных нервов составляет непременную часть клавишей чувства, что доказано не в силу какой-либо научной аксиомы, но сознанием всего человечества. Любящий или ненавидящий не сознает притом никакого ощущения в своем мозгу, он не чувствует утомления в членах после припадка сильнейшего гнева, но сосуды его сотрясены силою аффекта и в сердце происходит агония страданий.
Состав всех языков человеческих указывает на истину весьма громадных размеров: слово, обозначающее главный сосуд кровообращения, служит повсеместно и синонимом чувства. Какая, собственно, специальная функция назначена в процессе чувства подреберному сосуду с его различными центрами – абсолютно неизвестно. Всего вероятнее, впрочем, что начало аффекта кроется все же в мозгах и оттуда только отражается на ганглиозную сеть нашу. Невежество наше в этом случае столь глубоко и упорно, что нет даже возможности предложить на этот счет гипотезы, имеющей хоть тень правдоподобия.
Сознание наше – этот первый учитель в деле физиологической философии – указывает на громадную разницу, существующую между ощущением, чувством и идеей. При изучении первого мы можем следить за отправлением функции шаг за шагом и, желая оформить абстрактное ощущение в мире мышления, мы изображаем его в виде таинственного обмена между внешним миром и сознанием нашим, как телеграфная корреспонденция, ставящая нас в сношение со всем внешним миром. Стараясь, наоборот, составить конспект чувства и силясь отыскать характер, общий всем проявлениям аффекта, мы признаем, что это – эманация, зачинающаяся внутри нас и стремящаяся распространить себя извне. Она составляет как бы отголосок на приветствие от вселенного мира, полученное нами посредством чувств. Ощущение составляет непрерывную нить или ток телеграфных искр. Чувство же, наоборот, исходит неопределенной и неразгаданной эманацией из глубины нашего «Я» составляющей смертную силу и остающейся в неопределенном состоянии, пока ум не оформит ее и не положит ей границу. Когда возникает внутри нас это нравственное облачко, мы сознаем присутствие его под видом внутреннего ощущения, которое колеблется в нас особенным, свойственным ему образом, происходящим от передвижения элементарных интеллектуальных сил. В виде пояснения можно бы прибавить, что чувство составляет в нас как бы вторичное ощущение веселого рода, которое относится к ощущению чувственному как электрический индуктивный ток относится к простому. Сознание докладывает нам, во всяком случае, об изменении или модификации в самой сути эманации аффекта и потому-то на нас влияют так разнообразно не только чувства ненависти или любви, но и гордыня во всех крайних своих проявлениях. Другая, весьма существенная разница состоит между ощущениями и чувствами. Первые соединяются, но не могут сливаться; чувства же привязанности, долетая до нас, хотя бы и из отдаленнейших пунктов мира, сливаются иногда в одной атмосфере любви, сочетаясь притом различно и бесконечно модифицируя друг друга. Так, когда мы рассматриваем прекрасный цветок и вместе с тем слышим музыкальные звуки, ощущения как зрения, так и слуха являются в нас единовременными, но не слитными. Когда же, наоборот, мы с нежностью глядим на лицо спящего младенца и вместе с тем чувствуем себя польщенными только что слышанной нами возвеличивающей нас похвалой, то ощущаем наслаждение весьма сложное, состоящее из двух весьма различных чувств, которые, модифицируя одно другое, привели нас к одному и тому же результату.
Самым элементарным феноменом аффекта бывает та эманация, которая внезапно проявляется в нас вслед за ощущением, не составляя, впрочем, всей области чувства. Таинственный исходящий из нас ток ищет точки опоры извне, или, скорее, он ищет зеркало, в котором мог бы отразиться, и, нашедши его, притекает снова к центру сознания, но возвращается он уже изменившимся по сути и по форме своей, производя притом новое и более интенсивное впечатление. Так, вид страдающего человека внезапно порождает в нас любовное чувство сожаления, которое, понуждаемое естественным желанием экспансивности, выражается в нас взглядом, передающим наполняющее нас чувство. Если это выражение признанного чувства затронуло приятным образом присущую нам потребность благотворительности, то в подобную минуту мы ощущаем одно из простейших наслаждений чувствительности. Но ежели взгляд наш, проникнув до сердца страждущего, стал ему понятен, тогда увлечение наше отражается в нас уже иначе; оно усложняется условиями чужого чувства, радостью, что нас поняли; как бы новым элементом, его возвысившим или придавшим ему новые совершенства. Новое – это нравственное отражение попадает иной раз в ту же самую точку, из которой изошло первоначальное чувство, и тогда эманация нашей приязни не изменяется в сути своей, а только усиливается от сочувствия ему извне. Но иногда, при подобном возвратном движении, оно вызывает в нас совершенно новые чувства. Так, когда, преисполненные любви, мы спешим в объятия друг друга и вместо ожидаемых ласк видим себя осмеянными и оттолкнутыми, собственное чувство благосклонности возвращается к нам обратно, но с придачей уязвленного в нас самолюбия, которое, возникнув внезапно, страдает невыносимо, изгоняя из сердца первое чувство приязни и любви. Как ирритация чувствительного нерва возбуждает рефлективное движение мускула, так некоторые аффекты, будучи приведены в движение, немедленно возбуждают в нас иные новые чувства. Ход и развитие чувства состоят из нескончаемого сцепления подобных, весьма усложненных нравственных рефлексов, к которым присоединяется нередко и сам процесс мышления; тогда мысли служат возвышению чувства, и наоборот.
В простейших случаях исходящая из нас эманация чувств обращается или к чему-либо, живущему в нас самих, или к предметам неодушевленным, и возвращаясь к нам обратно, остается в сфере собственной личной деятельности нашей. В более же сложных аффектах всегда участвуют по крайней мере две личности, которые передают поочередно друг другу ощущения свои. Ощущения эти то модифицируют, то изгоняют друг друга, образуя сложную повесть страданий и радостей человеческого чувства. Рассматривая сердце и его отправления с подобной точки зрения, мы видим, что оно составляет действительно как бы чувственный аппарат, приводя его в слияние со всем нравственным миром, и будучи той присущей нам силой, которая, вступив в свойственную ей сферу действия, может возносить и умственные силы до крайней высоты.
Наслаждения чувствительности можно разделить на две главные категории. Первые бывают произведением простого физиологического отправления, действуя независимо от модификаций, придаваемых чувству отражением их. Этого рода наслаждения случаются, когда чувство относится к неодушевленным предметам или к самому человеку. Так, эгоист, смотрящий на неодушевленный дорогой ему предмет, сосредоточивает чувство в самом себе. Некоторые из аффектов этого разряда достигают более высокой степени, относясь или к особе отсутствующей, или к воображаемой личности. Наслаждения второй категории более многочисленны и достигают более высокой степени совершенства, происходя не без участия второго лица или из тесного сближения двух, по крайней мере, однокачественных и сродных между собою аффектов. Чувство, исходя из вдохновенного человека, отыскивает атмосферу, с которой оно могло бы слиться и составить с ней одно целое. Аффект, пока он остается одиноким, не представляет ни образа, ни цвета, ни жизни; приходя же в столкновение с собратом по сути своей, он трепещет радостно и, сообщаясь ему, образует полный гармонии и нескончаемых восторгов концерт, заставляющий сладострастно волноваться оба породившие его сердца.
С чувством происходит то же, что бывает со светом, который не принимает видимого образа и не выказывает своих сокровищ, могущества и силы, пока не встретит предмета, его абсорбирующего, отражающего его. Свет пролетает необозримые пространства небесного свода, оставляя их темными и холодными, но, встретив на пути своем предмет не более булавочной головки, останавливается на нем, играя в нем тысячами лучей и распространяя жизнь, скрытую в его лучезарной груди. Это уподобление свету может послужить нам для обнаружения еще новых тайн чувства. Как в природе существуют тела, вечно испускающие свет и никогда не принимающие его извне, так бывают души, которые, будучи преисполнены любви, распространяют около себя гармонии собственного чувства, ни разу не затрепетав радостью от приязни, к ним обращенной.
Слабый луч, достигающий до них от сродных, но далеких душ, не в силах бывает пробить лучезарного ореола, их окружающего, и они проходят жизнь как солнце, ведущее за собой планеты.
И наоборот, существуют такие души, которые привыкли впитывать в себя свет, исходящий из других сердец, не отразив от себя никогда ни одного теплого луча. Как планеты, они всю жизнь греют себя и освещают свой путь лучами иных светил. Светила же, неспособные ощутить ни злобы, ни презрения, шествуют по пути своему покорно и спокойно, обронив иной раз на планету светлую слезинку печали о том, что не встречается светил, способных согреть и их сердца ответными потоками света и тепла. Вечная повесть об эгоизме и происходящей от него сердечной боли могла бы быть вся передана уподоблениями из мира оптики. Людские сердца могли бы быть разделены на четыре разряда: на белые, всегда отделяющие от себя свет, черные, все в себя абсорбирующие; на прозрачные, небрежно оставляющие лучи света проходить мимо, не освещая ни себя, ни других, и, наконец, на серенькие, поочередно то отражающие свет, то поглощающие его в себе. Последняя группа бывает, разумеется, многочисленнее всех прочих.
Две вышеобозначенные категории чувств можно бы подразделить еще на две, чтобы упомянуть еще о двух видах радостей подобного же рода. Наслаждения первой категории вкушаются человеком, довершившим дело по внушению тех лучших чувств своих, которые требуют себе удовлетворения наравне с чувственными и интеллектуальными потребностями нашей природы. Наслаждения же второй категории состоят в радости при виде таковых же дел, совершаемых другими людьми во имя тех же благородных чувств. Таким образом, один и тот же аффект может доставить нам четыре стадии наслаждения, различные по сути и форме, но носящие на себе печать одинакового происхождения. Приведем пример: осознанная нами возможность доброго дела уже наполняет сердце радостью и мы уже наслаждаемся возникшей при этом душевной эманацией. Обнаруживая аффект наш взглядом, полным сожаления, испытываем более сложное наслаждение, увеличенное отражением сочувствия другой души. Присутствуя при выполнении благородного дела другим, мы испытываем сами сладостный трепет сочувствия и наслаждаемся вновь проявлением в себе того же чувства. Если, наконец, жертвуя, так или иначе, собой, мы не только дарим несчастного сочувственной слезой, но и помогаем и утешаем страждущего брата, тогда сердце наше оказывается вполне удовлетворенным, и мы наслаждаемся радостью чувства, нашедшего себе деятельный исход и доверие. Все добрые чувства, способные производить наслаждения вполне физиологические, открывают нам эти четыре источника чистейших радостей, и ежели бы иссяк один из них, нам следовало бы немедленно усомниться и исследовать побуждения свои и чистоту производящего их аффекта. Недостаток одной из этих градаций истинного чувства указывает на изгнавший его патологический аффект. Только при отвратительнейших проявлениях нравственной патологии морбидное чувство может дать человеку все эти четыре разновидности наслаждений. В обычных условиях жизни человек может порадоваться совершенному им недоброму делу, но нет возможности, чтобы он радовался собственному бесчестию; еще менее может он наслаждаться видом злого дела, совершаемого другим. Психологический факт этот весьма утешителен: он доказывает, что зло есть не непременное условие нравственной жизни, но истинный недуг человечества – выкидыш его, уродливый во всех элементах, его составляющих.
Пределы чувства очерчены весьма определенно, и грани, отделяющие его от области чувственной и умственной, как бы многочисленны ни были пути, служат для их общения. Область сердца определена сознанием всего человечества, и путник, переступающий из холодных обителей ума или из теплых чувственных наслаждений в пламенную область сердечного аффекта, чувствует внезапно перемену климатических условий. Границы чувства и его наслаждения, следовательно, определять не приходится.
Начну описание свое с простейших наслаждений чувства, восходя до более сложных и высоких в наиболее естественной их градации, начиная от чувства к нашему «Я» и восходя к любви ко второму лицу. Словом, я постараюсь проследить тот долгий путь, который ведет от себялюбия к наслаждениям мученичества, от эгоизма к способности жертвовать собой. На патологических же наслаждениях сердца я остановлюсь недолго, из боязни задеть вопросы слишком опасные и глубокие. Для юноши возможно внести факел истины в мрачную область зла лишь на мгновение; только старцу, умудренному опытом, прилично изучать при помощи микроскопа все построение язв нравственного мира, тщательно записывая болезненный их ход.
Глава II. О физиологических наслаждениях, порождаемых любовью к самому себе
Любовь к самому себе – одно из самых простых и элементарных свойств человека; она побуждает нас ограждать себя от всякой неприятности и добывать себе все, что составляет приятность жизни. Развиваясь, это чувство подходит под многие наименования, но в элементарном, первобытном виде своем оно уже находится в человеке и тогда, когда в уме его не сложилось еще ни одного понятия; оно существует в младенце при исходе его из материнской утробы и присуще было ему, может статься, еще до появления его на свет. Оно не оставляет человека до последнего его издыхания; оно не перестает вопиять и в груди мученика на костре, встречающего смерть с улыбкой.
Упражнение в этом чувстве (или, скорее, удовлетворение его) происходит независимо от нашей воли и познается сознанием только в тех случаях, когда любовь человека, к самому себе доходит до чрезвычайных размеров. Трудно определить наслаждения, доставляемые любовью к самому себе, так как эти радости проявляются уже в человеке тогда, когда и само существование этого аффекта еще не замечено им и не осознано.
В первую пору жизни в нас вовсе не существует способности к глубокому размышлению, и сознание в это время еще не умеет анализировать своих впечатлений. В молодости же все чувства к себе самому бывают заглушены голосом страстей, бьющих через край из глуби юношеской души, страстей, которые в эту пору жизни увлекают внимание человека вне сферы его внутреннего наблюдения. Позднее, когда в людях поулеглись уже жизненные бури, сквозь зыбь утихающих сердечных волнений сознание начинает заглядывать в глубь того чувства, которое и прежде составляло неотъемлемую часть всех нравственных побуждений юноши. Только при совершенном затишье страстей бывает возможно вкушать те наслаждения себялюбия, которые в минимальной степени своей вовсе не имеют ничего болезненного.
Как все физиологические наслаждения вообще, так и радости себялюбия представляют собой феномен естественного рефлекса, путь которого весьма краток как от точки отправления к центру, так и обратно. Все чувственные точки нашего тела непрерывно сообщают Центру как о внешних, так и о внутренних своих впечатлениях, которые, объединяясь в сознании, образуют сложное ощущение жизни. Стараясь образно передать суть элементарного наслаждения себялюбием, прошу читателя представить себе, с одной стороны, зеркало нашего сознания с отражением в нем процесса жизненности, с другой стороны – внутреннее наше чувство, смотрящее на него с наслаждением и вполне естественной любовью. Это отражение рисуется весьма бледно и ложится неопределенными тенями, так что достаточно малейшего колебания, чтобы отвратить от него наше внимание. Само изображение, однако, не исчезает никогда; оно, напротив того, составляет тот фон, на котором впоследствии вырисовываются дальнейшие видоизменения аффекта чувства себялюбия.
Наслаждение отражением собственного бытия требует, следовательно, сосредоточения в самом себе, так как малейшее невнимание заставляет исчезнуть летучий облик из глаз наших. Вот почему человек, наслаждающийся чувством любви к себе, всегда кажется погруженным в самосозерцание, едва дозволяя себе улыбку: это первый признак начинающегося общения с себе подобными. Но чуть только примут черты его лица выражение интенсивного наслаждения, чуть только продержит человек лишнюю секунду взор свой на тихом озере собственного сознания, любуясь своим изображением, как он уже оказывается скользнувшим по пути к эгоизму, и наслаждение его уже перестает быть безвинной радостью.
Здесь представляется весьма интересный феномен аффекта, который, усилившись хотя бы слегка, совершенно изменяется в сути своей; аффекта, оттенившегося в сознании столь легко и воздушно, что его едва возможно бывает отличить от того фона, на котором он вырисовывается. Чувство это проявляется, однако, одиноким в весьма редких случаях, и сознанию трудно бывает тогда уловить его мимолетный образ. По большей части оно усложняется движениями ума и сердца, которым оно доставляет своим присутствием новую пищу. Когда, например, мы наслаждаемся зрением, ощущением или мыслью, в нас проявляется иной раз себялюбивое поползновение радоваться тому, на что смотрит наше «Я», потому что и слушающий, и мыслящий – все та же собственная, дорогая нам единица. Все чувства, которые в нас зарождаются и не простираются за пределы нашей личности, находят в первобытном чувстве себялюбия широкое поле для своего собственного развития. Так, все радости тщеславия, славолюбия и стыдливости составляют те нити, у которых сплетена нескончаемая основа любви человека к себе самому.
Наслаждение это бывает более по вкусу мужчинам, чем женщинам. Любовь к себе – естественный и непосредственный эффект нашей организации и составляет непременное следствие индивидуальности. И потому в той самой области, где наше «Я» старается подчинить себе всё, противником этого всепоглощающего чувства себялюбия является в нас другое чувство, столь же естественное и первобытное, – чувство общественности, т. е. любви ко второму лицу, во всей простоте и элементарности этого чувства.
Глава III. О наслаждениях эгоизма
Будучи одним из самых распространенных недугов нашей расы, эгоизм заражает в виде эпидемии целые поколения всех национальностей и всех времен, и это заставило некоторых психологов предположить, что себялюбие составляет в наше время как бы непременное условие homo sapiens. Эгоизм принимает бесконечно разнообразные формы, но в сущности своей он остается одним и тем же, под всеми видами собственного «Я». Проницательный взгляд наблюдателя усматривает его и под богатым плащом лицемерия, и под корой грубейшего цинизма. Эгоизм стремится наложить печать свою на все жизненноважные для человека вопросы. Он подкрадывается, скользя на цыпочках, как тать, а затем, вторгнувшись во внутреннюю совещательную храмину человека, он властно и нагло заявляет там о своих правах. Когда совещаются в человеке великодушные его стремления с целью сподвигнуть его на самопожертвование или подвиг, темноликий гость входит той потаенной дверью, всегда открытой себялюбию в сердцах людей, и молча, с леденящей улыбкой, садится бок о бок с лучшими началами души. Нагло вступая в совещание, он нередко кладет свою, тяжелую, как свинец, руку на весы судилища и, перевешивая чашу обязанности и долга, произносит властным голосом домохозяина свое могучее «veto» над лучшими стремлениями человека.
Все высшие, лучшие способности человека, все его любящие стремления вступают иной раз в священный союз между собой ради исключения ужасного гостя из своей среды. Для защиты совещаний своих они ставят стражами и честь, и великодушие сознание долга, и все самые неподкупные чувства человеческие. Но, внезапно появясь, эгоизм прельщает или обманывает сторожей и садится невидимкой среди совещающихся начал. Разум тогда начинает доказывать, что страшного гостя и не бывало в собрании, и величавый синклит, спокойный от сознания собственной правоты, верит обманчивым речам. Но дух зла мгновенно ухватывается за перо, уже готовое подписать решение; перо колеблется, дрожит, проводя лишь неясные черты, а эгоизм нагло выставляет напоказ лицо свое, усмехаясь циничным и леденящим смехом.
Наслаждаться чувством себялюбия начинаем мы только тогда, когда чрезмерная любовь к себе побуждает нас расширять и как бы вздувать значение собственной цифры, столь дорогой нам единицы, в ущерб численной стоимости общественной цифры. Эгоист таким путем доводит до минимума ту долю дани, которую он обязан платить обществу, т. е. ближнему, приберегая для себя всецело лично всю капитальную сумму блага и при первых стадиях недуга самолюбия, и позднее, предаваясь уже беззаветно себялюбию и обычно решая в свою пользу все вопросы, которые внутреннее чувство наше приносит на обсуждение долга. Эгоист вовсе не думает признавать себя таковым. Но в высшей степени своего развития эгоизм распоряжается уже открыто и смело; человек, им зараженный, сознается уже, что любит самого себя более всего на свете, беззастенчиво начиная обводить около своей особы всевозможные траншеи и редуты, чтобы, по возможности, изолировать себя и свои интересы от общения с другими людьми. Эгоиста вскоре окружает особенная, ему одному свойственная, атмосфера, и нет в мире брони непроницаемее этой вонючей атмосферы крайнего себялюбия. Она возникает из гниения внутри человека всех лучших его стремлений и благородных помыслов, уже вымерших в эгоисте и переставших тревожить его покой. И тогда-то, с высоты им созданной внутренней твердыни, эгоист начинает холодно смотреть полумертвыми глазами на остальной мир с его волнениями и страданиями.
Эгоизм в идеальности своего апогея – в сущности, недуг довольно редкий. Им болеют иной раз и гениальные люди, когда, поднявшись путем анализа до идеальных сфер, они кладут сами себе руку на сердце и говорят: «Не бьется!» Но подобные явления до того редки, что их следовало бы хранить в музее как образцы нравственных уродств.
Анализируя окружающую нас толпу обычных эгоистов, мы находим их до того монотонно-жалкими, что глаз невольно стремится отдохнуть на анализе более привлекательных личностей. Толпа обычных эгоистов состоит из людей пошлых, постоянно делающих неимоверные усилия над самими собой, стараясь перемочь себя, чтобы доходить до пожертвований, смешных и жалких по своей ничтожности. Эти люди, называющие себя честными потому только, что они ничего не крали и никого не убивали, и понятия не могут иметь о том, что спазмы оскорбляемого чувства или ряд ежедневных мелких терзаний далеко перевешивают на весах человеческих страданий ущерб, нанесенный заведомым вором. Эти люди полагают и будут полагать до самой своей смерти, что они могут заплатить за всякое нанесенное ими страдание, и что для них есть возможность подписать под всеми нравственными счетами свое «уплачено». Эти люди отвратительны по той ограниченности, с которой они осмеливаются любоваться собой, несмотря на умственное свое ничтожество; по той дерзости, с которой они пускаются философствовать по-своему, доказывая, что все то дозволено человеку, что не подлежит каре законов; по святотатству, наконец, с которым они дозволяют себе цинично насмехаться, сами находясь в грязи посредственности, тем смехом, который едва ли позволяет себе человек, достигший до высоты гения Гёте и ему подобных.
Эгоизм, будучи сам по себе чувством морбидным, произведенным гипертрофией физиологического аффекта, не в силах предоставить человеку здоровых или полных наслаждений. Но человека болезненно радуют та любовь, которую он ощущает к самому себе, и та заботливость, которой он окружает драгоценную свою особу. Он остается, однако, весьма недовольным, когда замечает, что и другие люди испытывают подобные же наслаждения эгоизма. Эгоиста, напротив того, радует щедрость в других – не из-за сочувствия внезапно возникшего братолюбия, а потому, что в великодушии и щедрости других он видит многоценный запасной капитал, к которому ему можно будет прибегнуть в минуты невзгод (только тогда, разумеется, когда есть возможность избежать всегда страшных для него чувств благодарности). В себе эгоист обожает себялюбие, в другом же человеке эгоизм кажется ему чем-то нестерпимым и невозможным. Эгоисту случается даже поощрять чувство щедрости в другом человеке и заботливо растить его в себе подобных, но все это делается с той мыслью, чтобы великодушие ближнего стало для него деревом, на которое со временем обопрется он сам, и из которого он нещадно станет вытягивать жизненные соки.
Наслаждения себялюбца в пассивном состоянии этого аффекта ограничиваются созерцанием собственной особы, причем он может часами любоваться, как любая кокетка, отражению в зеркале сознания своей дорогой личности, то ведя с ней шутливую беседу, то обмениваясь с ней странными и смешными нравственными ужимками. Эгоист не спускает умственных глаз со своего изображения, лаская его с материнской любовью, целуя его с восторгом любовника, обнимая его с нежностью друга, чувствуя к нему уважение сыновней любви и, наконец, чествуя его в душе своей как величайшего из людей.
К ногам все того же идола он приносит весь запас фимиама, приносимого природой для многих и многих алтарей. В самые блаженные минуты жизни он остается погруженным в самого себя, не прерывая вечной беседы с самим собой и едва решаясь бросить взгляд на мир, его окружающий. Он боится потерять из виду хотя бы на минуту драгоценное свое «Я», и потому избегает шума и движения; он спешит спрятаться в раковину свою при малейшем ветре, который, по словам его, угрожает самому его существование. Лицо его всегда носит отпечаток блаженного покоя, потому что от смеха или от движения лицевых мускулов могло бы, потревожив его, потратить часть той жизненной силы, которую бережет он паче всего на свете. И за всем этим он несчастен, как тот скряга, которому он уподобляется.
Природа сотворила человека и снабдила его силами для борьбы общественной жизни; она одарила его избытком внутренней теплоты, чтобы он мог временами зажигать огни, распространяющие широко вокруг него и жар, и свет; она наградила его способностью производить иной раз непомерную затрату своего огня и сил. Эгоист же, наперекор природе, скупится своим топливом, беспрерывно вымеряя и взвешивая данный ему запас, и, наконец, поделив его на мелкие обыденные дольки, он зажигает ради одного себя свой еле теплящийся огонек, дающий больше дыма, чем света и теплоты; усаживаясь одиноко около крошечного костра своего, он желал бы по возможности концентрировать на себе самом все его лучи. И вот, продрожав всю жизнь от недостатка внутреннего тепла, он умирает, замерзая, не истощив еще запаса припасенного для него топлива и не испытав ни на одно мгновение великой радости зажженного костра ради всех.
Себялюбие, как уже было сказано выше, рождается одновременно с человеком, и только в зрелые годы жизни оно разрастается до дерзости и до избытка своих вполне патологических наслаждений. Горе человеку, ставшему эгоистом в двадцать лет! Если он – посредственность, он отвратителен; при гениальном же складе ума он ужасен, и вид его грозит бедами в будущем. Молодой себялюбец внушает и отвращение, и страх; циничный же смех, слетающий с уст, едва оттененных пухом первой юности, заставляет содрогнуться всякого человека с благородным строем мысли.
Начавшиеся с возмужалостью человека наслаждения себялюбия не перестают расти в нем до преклонных лет; к старости же они становятся явлением почти физиологическим. Жизненный светоч дрожит в руках старца, и кто не простит ему, когда он, ухватясь за угасающий светильник обеими руками, старается раздуть его собственным дыханием, заботливо устраняя всякого, кто хотел бы воспользоваться его лучами? Эгоизм в эту пору принимает личину любви к жизни, и старец долго борется со смертью, которая, порхая около еле теплящегося огонька, внезапно гасит в нем светильник жизни.
Не стоит и упоминать о том, что наслаждения эгоизма более свойственны мужчинам, чем женщинам. Нелегко определить, когда себялюбие преобладало сильнее между людьми – в наши ли времена или в древнем мире. По довольно распространенному мнению, поколение наше гораздо себялюбивее своих отцов, и морбидный недуг эгоизма все больше возрастает в нас с прогрессом цивилизации. Но люди всех веков, негодуя на современников, считают их недостойным отродьем своих предков. В таком случае мы были бы в настоящее время скопищем животных, трусов и подлецов, что, к счастью, вовсе не отвечает действительности. Эгоизм вовсю процветает в Англии.
Глава IV. О наслаждениях, в которых участвуют отношения и к первому и ко второму лицу. Стыдливость
Те отношения наши к своему «Я», о которых говорено выше и которые в нас начинаются и в нас заканчиваются (т. е. физиологический аффект любви к себе), усиливаясь до чрезмерности, превращаются, как мы видели, в эгоизм. Оба же эти чувства по ограниченности области, ими занимаемой, не представляют людям разнообразия наслаждений. Переходя от личных аффектов, замкнутых таким образом в сфере собственной личности, к аффектам, производимым на нас внешним миром, встречается нечто среднее, т. е. чувства, которые, за неимением более точных терминов, я позволю себе назвать чувством смятения, так как к впечатлениям нашим как единицы или первого лица примешаны здесь еще впечатления, испытываемые другим или вторым лицом. К подобным чувствам принадлежат и стыдливость, и бесконечное разнообразие чувств, называемых то самолюбием, то честью, то славолюбием, то тщеславием, честолюбием или гордыней. Во всех этих чувствах сознание отражает все тот же образ наш, но уже подчинившийся влиянию чуждых аффектов. Это определение станет понятнее при изложении специальных случаев аффекта.
Из этих сложных или смешанных феноменов самым близким к нашему самоощущению оказывается стыдливость. В младенце еще не проявилось стыдливости, и он справляет, например, естественные нужды свои со всей наивностью своего неведения. Позднее, когда проявляется в нем первый признак разума, дитя начинает осознавать необходимость прикрытия некоторых частей своего тела. Почему ему приходится делать это различие между собственными членами, не изведано и мудрецами. Для женщины поле, защищаемое стыдливостью, бывает шире, и она ревниво скрывает от посторонних глаз и грудь свою. При изящном развитии этого чувства лицо женщины вспыхивает румянцем стыдливости не только тогда, когда открываются взорам округленные очертания непокрытой спины или розовой кожи ее пяточки, но даже и тогда, когда кружевной ворот ее рубашки, высунувшись невзначай, покажется из-за скромного убранства рук или шеи. Колено женщина укрывает ревнивее, чем локоть или плечо, потому что колено ближе находится к половым органам. Иная женщина скорее согласится показать всю ногу в цветной штанине, чем допустить, чтобы между платьем сквозила ее белая сорочка, этот последний покров стыдливости.
Для проявления чувства стыдливости не требуется даже присутствия другого лица. Стыдливая особа прикрывает себя и в совершенном одиночестве, не допуская даже до собственных глаз ничего неприличного.
Некоторые ученые, желая профанировать непонятное для них чувство, заверяют, что стыдливость происходит в нас единственно от привычки носить одежду, при этом они называют стыдливость смешным и жалким порождением цивилизации. Не следует ли причислить этих мудрецов к тем безумцам, которых хотелось бы заверить, что никогда люди не ходили на четвереньках из-за того только, чтобы так или иначе уничтожить ненавистное им понятие о достоинстве человеческом. Если бы и оказалось несомненным фактом сказание о том, что первый человек не устыдился наготы своей при виде первой женщины, все же остается весьма согласное с нашей природой предположение, что при дальнейшем развитии ума и сердца в том же человеке зародилось чувство стыдливости, передаваемое с тех пор из рода в род и ставшее наследственным свойством всего человечества. Множество животных выказывают уже некоторые зачатки стыдливости, скрывая от любопытных глаз перипетии своей любви. Привычка бывает отличным орудием для усовершенствования сил, уже присущих человеку, вызывая их от состояния дремоты сна к деятельности и жизни, но никогда и нигде не могла привычка сотворить небывалые в человеке свойства; и ежели бы человечеству суждено было прожить на земле еще миллионы столетий, то и тогда была бы возможность связать первобытное свойство его природы со всевозможным его развитием в настоящем и будущем.
Стыдливость, кроме того, имеет своё разумное основание («raison d\'etre») в самой себе; ее можно бы назвать ухищрением природы, стремящейся придать прелесть акту физической любви, который при беззастенчивом и публичном отправлении оказался бы отвратительной пошлостью.
Природа как будто желала украсить лучом поэтических чувств акт механически-бестиальный, принося естественное чувство целомудрия в жертву любви.
Удовлетворяя в чем-либо чувству стыдливости, человек ощущает наслаждение, подобное тому, какое производит в нас переход от холода к теплу. Невольно умиляешься, воображая себе, как, выйдя из воды и торопливо укутавшись в простыни, девушка стыдливо озирается пугливым взором; чувствуется невольный сладостный трепет при одном воспоминании о выходящей из купальни стыдливой Венеры Кановы. Наслаждение стыдливости нередко выражается на лице смехом, когда внезапно исчезает страх оказаться перед другими в неприличном обнажении.
Изящность подобных наслаждений бывает по большей части принадлежностью нежного пола, служа ему драгоценнейшим из украшений. Стыдливость нравится людям даже в своих крайних, почти болезненных проявлениях, так как она всегда бывает признаком нежности и великодушия. Меня пугает женщина, заглядывающая в глаза мужчины, или девушка, не покрасневшая от страстного пожатия юношеской руки, и в душе своей я невольно уподобляю ее цветку, лишенному благоухания.
Чувство стыдливости в апогее своего совершенства всегда усложняется элементами из умственного мира, радуясь не только целомудрию телесному, но и чистоте мысли, образов и всех предметов физических и нравственных, которым доступно приличие и неприличие форм.
Ум тонкий и пытливый мог бы найти свое употребление в изучении тех модификаций, которым различие времени и разнообразие цивилизации подвергают присущее человеку чувство стыдливости; нас же, к несчастью, подобное исследование увлекло бы слишком далеко от цели настоящего труда. Укажем только на то, как обширно было бы поле подобного изучения, напомнив, что между жителями Таити, которые не стесняются присутствия путешественников во время приношения обычных жертв богу любви, и чопорными англичанами, которые не дерзают при людях упоминать о брюках, существуют мириады национальностей более или менее стыдливых, как, например, женщины амузго в Центральной Африке, которые с ужасом отвергают возможность снять хотя бы на минуту фрак свой, прикрывающий части тела между спиной и бедрами, не укрывая остального тела.
Этими немногими словами я хотел только начертать неопределенные и неясные мировые грани таинственного чувства, которые, по-моему, можно бы обозначить именем физического уважения человека к самому себе.
Глава V. О наслаждениях, происходящих из чувства собственного достоинства и чести
Как физическое изображение нашего бытия, отраженное в сознании, возбуждает в нас непроизвольный аффект любви к самому себе, таким же точно способом нравственный образ наш, рисуясь в том же зеркале, вызывает в нас более высокое чувство. При виде сети нравственных сил нашего сердца, приведенных в гармоническое целое, мы чувствуем свои достоинства и радуемся им наедине с собой. Когда этот нравственный образ отражен во всей его простоте, человек может созерцать его в собственном сознании, не чувствуя ни унижения, ни гордыни; но трактуя его серьёзно, как сосуд всего человечества, он обязан оберегать его даже в условиях опасности самой жизни.
Мы наслаждаемся, когда, оглядев образ, отраженный совестью, чувствуем себя достойным имени своего как человека, и это наслаждение составляет чувство неопределенное и невыразимое, сложившееся из многих элементов.
Едва научившись читать в книге собственной совести, мы начинаем сознавать за собою обязанности, выполнение коих оказывается более или менее затруднительным. И мы чувствуем свое призвание к великодушной борьбе, в которой должны побеждать могучих врагов силою нашего мужества и неодолимого терпения. Вдали расстилается перед нами величавая нравственная панорама, в конце которой и добродетель, и слава ожидают победителя, чтобы увенчать его заслуженными лаврами. Мы ощущаем тогда неуяснимое чувство, в котором борются и страх, и ужас с желанием победы, и, содрогаясь, окидываем нашим внутренним взором и силы свои, и длину предстоящей нам арены. Если чувство трусости и лени одолеет нас в начале поприща, тогда, сознавшись в собственном бессилии, мы отказываемся сразу от всякой борьбы, сами убивая в себе ощущение собственного достоинства и совершая этим путем некоторого рода нравственное детоубийство. И зачем человек проводит жизнь, не ощутив в себе ни разу чистейшей радости собственного достоинства?
Когда же, пробыв некоторое время в нерешимости, собравшись с силами на долгую и трудную борьбу, мы решаемся испытать свои силы в надежде остаться победителями, чувство собственного достоинства возникает в нас во всем величии нравственной простоты, становясь на всю жизнь верным нашим боевым товарищем.
Благородное чувство это никогда не входит в сделку с врагом, старающимся совратить его и софизмами, и прелестью забав. Забыв о присутствии небесного посланца, верного товарища в борьбе со злом, неутомимым противником, не перестающим напирать на нас, мы уже собираемся уступить, войдя в какую-либо постыдную сделку с совестью; но тогда верный друг наш внезапно возвышает свой властный голос и разрывает договор, нами подписанный. Чувство внутреннего достоинства может умереть с нами на поле битвы, но оно никогда не изменит человеку. Мы сами иной раз, желая избавиться от пререканий докучливого товарища, святотатственно поднимаем на него убийственную руку. Иногда же, будучи не в силах сносить долее тяжести беспрерывной борьбы и склоняясь к покою и отдыху, мы внезапно затыкаем правдивые уста союзника, желая, чтобы он замолчал хотя бы на время и дал бы нам обняться с прельстившим нас врагом. Напрасные ухищрения: достоинство наше не умолкает, но вопиет в нас еще сильнее после изменнической с нашей стороны попытки.
Радостями, доставляемыми этим чувством, могут насладиться весьма немногие неутомимые борцы, не оставлявшие ни на минуту поле нравственных битв, и павшие даже, не запятнав ничем своей совести.
Но большинство людей насчитывают в перипетиях борьбы своей со злом столько же побед, сколько и поражений, и чувство собственного достоинства в них носит, однако, на себе следы многих ошибок и поражений. В иных людях чувство это еле живо; оно изуродовано и обезображено и уподобляется ветеранам, оставившим один или два члена на полях наполеоновских сражений.
Удовлетворения чувству собственного достоинства водят за собою целый круг спокойных и продолжительных радостей, образующих около человека атмосферу благостной гармонии и покоя. Радости эти сияют обычным спокойным и приятным светом; они загораются в человеке ярким блеском, освещая ему путь во времена несчастий. В подобное время они оказываются настоящим фондом, которым несказанно утешается человек. Это – премия, которой добродетель награждает последние дни человека на земле.
Чувство это, хотя бы в зачатке, находится во всех людях, но оно вообще до того нежно и спокойно, что тусклая совесть некоторых не в силах бывает отразить чистоты и прелести его для человека.
Чтобы прийти на помощь этому недостатку, присущему некоторым людям, природа создала еще запасной нравственный фонд, который, будучи менее идеального свойства, может быть доступен и более огрубелым сердцам. Она вложила в нас чувство чести.
К чистой и прозрачной субстанции собственного достоинства она привнесла некоторую дозу самолюбия, придав ей таким образом окраску, бьющую в глаза самого слабого умственного зрения. К чувству достоинства достаточно применить двойное отражение, т. е. выразить его предварительно в зеркале общественного мнения. И вот к чистейшему образу собственного достоинства нашего примешивается нечто более грубое, нечто пластичное, почти осязаемое, и мы, приняв это обратное отражение в зеркало совести нашей, начинаем чувствовать его живее и интенсивнее. Честь – это одно из самых трудноопределяемых понятий, так как слово это само по себе служит только неким «mezzo termine» («половинчатый оттенок»), представляя изображение «mezzo tinte», созданное природой только ввиду слабости нравственного зрения человеческого.
Человек с возвышенной душой не сотворит ничего низкого, опираясь на одно лишь внутреннее чувство собственного достоинства, которому честь служит синонимом. Будучи изолирован от остального человечества с его мнением и одобрением, он из уважения к собственному отражению в одинокой, личной своей совести и из нежелания возбуждать упреков со стороны внутреннего своего союзника, не унизит ни на линию мерило своей нравственности.
Человеку посредственному необходима бывает помощь всего человечества, т. е. поддержка общественного мнения, ввиду которого он в силах был бы не ронять собственного достоинства. Для него необходимо страшное пугало бесчестия, без которого он сложил бы оружие при первой ошибке.
Человек с высокой душой видит святилище открытым и божество без покрывала. Для человека же души более низкой необходима обстановка чудес и гласности. Ему требуется, чтобы все человечество протрубило ему, что за той богатой манией, которую он подносит к губам своим, действительно находится божество, которому невозможно сопротивляться безнаказанно.
Поступая, как следует, такой человек только слепо повинуется неведомой ему силе, которая, пригибая его к земле, не дает ему глянуть выше; он повинуется отражению, одно имя которого приводит его в трепет.
Такой человек только суеверен; преданным религии собственных убеждений бывает только тот, кто руководствуется лишь чувствами собственного достоинства.
Удаляясь таким образом от первобытного типа совершенства, честь начинает мало-помалу приближаться по свойствам своим к самолюбию, отождествляясь наконец с тщеславием. Утолщаются стены святилища, а божество в нем, постепенно умаляясь, вовсе исчезает от взоров человека. Люди чести, никогда не допустившие себя до низости, остаются, однако, совершенно чужды живому и сладостному трепету собственного достоинства. Они бессознательно приняли кодекс чести, составленный еще до их рождения; они всю жизнь слепо обожали незнакомое им божество.
Видимые законы, регулирующие наслаждение как достоинства, так и чести, идентичны, так как по тождественности своей природы оба не допускают ни ущерба в себе, ни обиды; законы эти бывают, следовательно, отрицательного свойства. Ни достоинство, ни честь человека не допускают сделок со злом, так как уступка в этом смысле была бы для обоих равносильна смерти. Оставаясь незапятнанными, оба горят тихим и спокойным светом, вовсе даже и не сознаваемым до тех пор, пока опасность не вызывает их на бой; тогда они выступают ревностно, опираясь на алтари свои. Наслаждения чести всегда более дурного свойства, так как, будучи раздражительнее брата своего, он любит ежеминутно нападать. Достоинство вступает лишь раз в сражение, честь любит стычки и в большинстве битв ведет партизанскую войну.
Влияние обоих этих чувств распространяется на всю жизнь, и на пирах их добродетель бывает первым и лучшим гостем. При чтении летописей человечества нельзя не заметить, что подвигами героев мы обязаны удовлетворению этих чувств. Перелистывая архивы собственной памяти, всякий вспомнит радость, доставленную ими. К счастью, честь бывает мертвой буквой лишь для немногих.
И мужчины, и женщины одинаково способны чувствовать собственное достоинство и честь. В женщине выражение этих чувств более умиляет душу, так как нравственное мужество в связи с физической слабостью внушает всегда сочувствие и уважение.
Первые наслаждения подобного рода могут быть испытаны и в детстве, но во всем своем спокойном величии они проявляются только в последующих годах. Это – радости всей нашей жизни; но для большинства людей они заканчиваются с юношеским возрастом. В возмужалости наши враги возрастают и в силе, и по количеству, и если в это время ослабнет в нас чувство собственного достоинства, падение его неминуемо. Некоторые личности, сумевшие и смолоду окружить себя нравственной броней, сохраняют внутреннее достоинство до конца своих дней.
Выражение этих чувств на лице прекрасно передает нравственную суть их. Когда человек ощущает собственное достоинство или чувство удовлетворенной чести, он гордо поднимает голову, как бы погладывая с сожалением на нравственную низость, копошащуюся у его ног. Человек в подобные минуты охотно скрещивает на груди руки, как бы готовясь к бою и самозащите. Но по большей части наслаждения эти так спокойны и бесстрастны, что и тогда даже, когда вся душа человека наполнена чувством невыразимого счастья, лицо его не выражает ничего особенного. Подобные чувства отражаются разве что в глазах.
Чувство собственного достоинства не терпит патологических наслаждений. Оно витает в слишком возвышенных нравственных слоях, чтобы до него могла донестись зараза себялюбия. Но человек, который, украсив себя купленными галунами, рисуется перед зеркалом со словами: «Теперь во мне удовлетворено чувство собственного достоинства!», нагло лжет перед самим собой, профанируя священное для человека слово. Торжествует не достоинство его, а тщеславие.
Нравственная патология чести богата многими морбидными проявлениями, для излечения от которых вряд ли достало бы больниц на земле. Поединок (дуэль) – одна из самых наглых профанаций этого чувства, и радости, им доставляемые, вполне преступны. Мы ежедневно имеем перед глазами самые смешные и уродливые проявления самолюбия, бессовестно гуляющего по свету под личиной чести. Наслаждения ложной чести трудно бывает отличить от радостей тщеславия и, потому следует определить как можно точнее это чувство. Сложилось оно из непоколебимого и всегда неизменного чувства собственного достоинства и из того, что может сиять всеми цветами радуги, из того общественного мнения, которое готово измениться с каждым новым поколением. В этом втором элементе сложного чувства и должно искать причину всех морбидных проявлений чести.
Глава VI. О физиологических наслаждениях самолюбия
Отражаясь в зеркале сознания, образ интеллектуальной части внутреннего существа нашего вызывает к жизни одно из самых могучих и многообразных свойств человека – присущее ему чувство самолюбия. До какой степени ни доходило бы в нас чувство собственного достоинства, оно не обращается никогда в свойство преступное. Всякая победа, одержанная человеком в области сердца, увеличивает его достоинство, и мы, будучи существами свободными, вполне отвечаем за каждое нравственное изобретение и за каждый нравственный недостаток свой. Но при выработке умственных сил многое зависит больше от случайностей обстановки жизни, чем от собственных усилий человека: вот почему считается дозволительным преувеличивание в собственных глазах своей интеллектуальной стоимости, не подвергаясь притом упрекам в преступной гордости.
Между отражениями в сознании как нравственного образа нашего, так и изображения в нем наших интеллектуальных сил существует капитальное различие: первый не может быть отражаем иначе как во всей своей целостности и полноте, второе же может отражать поочередно, одно за другим, многообразие стороны своего многоугольника, комбинируя притом различно линии его и углы. Малейшая царапина чести, например, безобразит все отражение нашего внутреннего достоинства, потому что оно составляет нечто неделимое и целостное. Но в интеллектуальном мире дело происходит иначе; мы можем, например, радоваться вполне законно музыкальным познаниям своим, даже и тогда, когда сознание наше отражает образ грубейшей невежественности. Наслаждения внутреннего достоинства оказываются более чуткими, восприимчивее наслаждений самолюбия; первые, имея источником сердце, в нем же и отражаются; последние же достигают сердца, зарождаясь в области ума. Кого сразу не поразит очевидность подобного различия, тот может представить, наслаждение, доставляемое сознанием, с удовольствием сознавать умственные свои способности. Первое чувство порождает в сердце чувство внутренней гармонии и теплоты, второе впечатление оказывается более идеальным и холодным, как всякое чувство, в котором преобладает умственное начало.
На чувство собственного достоинства можно, как сказано было выше, смотреть как на чувство первобытное, склоняющее человека ко всему доброму. Самолюбие же, побуждая человека к изысканию правды и красоты, становится главной движущей силой в сложной машине человеческой цивилизации. Всесветный гений только мог бы действовать, побуждаемый к труду одной властью преобладающего в нем интеллекта; прочие же люди прилагают руку к созиданию общественного здания, побуждаемые различными двигателями, из которых сильнейшим всегда бывает удовлетворение собственного самолюбия. Каким было бы теперь человечество, если бы оно лишено было могучей, не перестающей побуждать его, двигательной силы самолюбия? Оно и теперь блуждало бы, пожалуй, скопищами жалких, невежественных зверей… Природа, как известно, приложила громадное наслаждение к выполнению самых высоких целей своих. Так, с функцией деторождения она связала чувство полового сладострастия, так и к функции цивилизации, не менее необходимой и неотложной, она присоединила нескончаемые радости, удовлетворяя самолюбие. Вообразим себе человека, когда он, поборов первое затруднение, ощутил впервые, что счастье его победы компенсирует утомление от потраченных сил, и тем познал новый для себя источник наслаждений. Природа, щедрая и вместе с тем бережливая в дарах своих тщательно уравновешивает усталость человеческую со следующими за ней радостями, желая чередованием их двигать равномернее и быстрее дело общественной цивилизации. Без подобного ухищрения природы человек удовольствовался бы навсегда легкодоступными ему наслаждениями чувств и вовсе не пускал бы в дело тех сил, которыми он снабжен и которые не могут действовать без утомления.
Простейшие наслаждения самолюбия ограничиваются удовлетворением этого чувства как силы, в нас начинающейся и в нас заканчивающейся. Элементарное удовольствие это доступно бывает и животным; в занятиях же человека оно участвует от колыбели до могилы. Предоставленный самому себе, младенец неутомимо работает ручонками и ножками, пододвигая себя к близлежащему предмету и не переставая производить всевозможные усилия, пока, ухватясь за него, не испытает того простейшего из удовлетворений самолюбия, которое состоит в удачном выполнении собственной воли. Элементарнейшие, необходимые для жизни процедуры достигались нами в детстве с живейшим удовлетворением самолюбия, хотя, разумеется, мы не помним ни того торжествующего взгляда, с которым мы подносили в первый раз ложечку к собственному рту, ни совершенного блаженства первого перехода через комнату.
Все элементарные жизненные приемы, изучаемые в детстве, перебывали поочередно источниками величайших наслаждений для нас. Кто может вспомнить, например, тот торжествующий взгляд, с которым он подносил ложку к собственному рту, или то блаженство, с ощущением которого он медленно и искусно переставлял ножку за ножкой, и, перешедши наконец всю ширину детской, бросился в объятия восхищенной матери? Такой изумительный переход не только казался нам в то время, но и в действительности был для нас делом высшей механики, и успех в нем льстил нашему самолюбию, которое может быть удовлетворено только победой над затруднениями.
Чем больше труда, тем интенсивнее бывает идущее за ним наслаждение. И ребенок, подхвативший в первый раз брошенный ему волан, и автор, способный подписать слово (sic!) «конец» под книгой, стоившей ему многих лет усиленного труда, испытывают радость, почерпнутую из одного и того же источника; но степень наслаждения этих людей, разумеется, не одинакова.
Подобные, сосредоточенные в самом человеке, наслаждения обнимают, однако, далеко не весь мир самолюбивых радостей. Самолюбию, для полного его удовлетворения, необходимо бывает и одобрение извне. Это отражение деятельности нашей, извне получаемое, порождает в нас новый вид самолюбия, называемого уже то жаждой одобрения, то соревнованием.
Новому аффекту этому предоставлен весьма узкий физиологический предел, перейдя который, он извращается уже в тщеславие и славолюбие. Человек может безнаказанно скрывать в глубине собственной души пучину самой ярой гордыни, но гордыня эта становится делом жалким и смешным, коль скоро малейший луч ее пробивается в наружный мир под видом мелкого тщеславия. И это различие весьма справедливо, так как в первом случае никто не страдает от затаенной нами гордыни; во втором же случае задето бывает самолюбие других.
Жажда одобрения утоляется не по мере стоимости совершаемых нами дел и не в соразмерности со степенью победы нами собственной лени, а по численности одобряющих людей и по достоинству подносимых человеку похвал.
Желая людского одобрения и похвал за поступок вполне естественный и не стоивший нам ни усилий, ни труда, мы вступаем в область самого смешного из недугов человеческих – в область непростительного тщеславия. Увлекаясь самолюбием, мы выпиваем иной раз до дна чашу похвал, вовсе не соразмерных заслугам нашим; напрасно пробует разум отказываться от похвал, отзывающихся подобострастием и лестью; мы доказываем себе с жалким искусством, что, может статься, мы, и сами того не сознавая, в действительности достойны похвал, расточаемых нам с такой любезностью и добродушием. Лесть – контрабандист весьма пронырливый и хитрый. Сам Катон не устоял бы перед его вкрадчивостью, ежели бы ему поручена была стража человеческих сердец с обязанностью восклицать ежеминутно: «Прочь! Сюда не допускаются льстивые слова!» Досмотрщиков, умеющих ловить этого контрабандиста, следовало бы награждать не только золотой медалью, но и титулом людей поистине великих.
Самолюбие как самое чуткое и раздражительное из сердечных чувств наших пребывает весьма редко в полном и вожделенном здравии; оно переходит то и дело от легких заболеваний к периоду более или менее медленных выздоравливаний. Но так как все мы вообще подвергаемся, временами этой эпидемии, то люди относятся довольно снисходительно к периодическим нравственным недугам подобного рода как к чему-то столь же неизбежному в обществе, как насморк в зимнее время. Когда же случается человеку доводить себя до совершенного здоровья в деле самолюбивых помыслов, тогда он начинает разглагольствовать о своем смирении и скромности, пока не впадет в еще горький порок гордыни.
Наслаждения самолюбия бывают основаны на ходячем курсе стоимости каждого, а это – такая монета, ценность которой изменяется с малейшим дуновением ветра, словно следуя колебанию курса худшего из банков. При оценке своих трудов мы по большей части рассчитываем на стоимость их на рынках общественного мнения, почему и впадаем ежеминутно в ошибки, всегда страдающие преувеличением. Когда же приходит время насладиться человеческой похвалой, мы, напротив, переполняемся страхом перед людским суждением. Предвидеть приговор толпы невозможно. Ежели в данный момент не находится в районе того или другого рынка никакого выдающегося труда, тогда произведения наши, хотя бы и посредственный, поднимается в цене. Когда же соработниками и соперниками являются высокие умы, тогда толпа проходит безучастно мимо наших произведений, не замечая сравнительных их достоинств.
Эта шаткость людских суждений объясняет множество загадочных явлений и много крупных и мелких тайн в жизни как индивидуумов, так и целых наций.
Становится понятным, почему человек в действительности великий бывает раздражителен от гипертрофии чувства весьма второстепенного, т. е. самолюбия.
Становится понятным, почему человек, посредственно одаренный умственными силами, охотно изолирует себя из людской среды, симулируя философский стоицизм ради того только, чтобы ему удобнее было распускать свои павлиньи перья в кружке ничтожных личностей.
Понятно, почему огонек, блеснувший в веке обскурантизма, кажется иной раз людям звездой первой степени. Но являются промеж людей и такие светильники, которые способны просвещать и греть и посреди целого моря света.
Физиологические радости как самолюбия, так и людского одобрения ценятся выше мужчинами, чем женщинами и в годы совершенной зрелости более, чем в юности или дряхлости. Они разнообразят и увеселяют жизнь отдельных личностей и, становясь главными факторами цивилизации народов, они готовят новые источники наслаждений для потомства и грядущих веков.
Выражение этих наслаждений не богато разнообразием; будучи спокойными по природе своей, радости эти избегают гласности и охотно скрываются от чужих взоров. Блеснут на мгновенье глаза необычным весельем, уста же складываются в молчаливую улыбку самодовольствия и гордости. Выражение это усложняется иной раз веселым потиранием рук, невольным, едва заметным прыжком, радостным восклицанием или иным телодвижением. Каждый из нас может в этом случае заглянуть в собственную галерею воспоминаний и вытащить из нее, себе на утеху, ту или иную картину прошлого.
Мы все имеем внутри себя довольно богатые в этом отношении пинакотеки, которые ревниво оберегаем от глаз профанов, и правильно делаем; в глубине этих музеев скрывается немало безобразных и смехотворных образов.
Глава VII. О наслаждениях отчасти патологического свойства, порождаемых жаждой славы и честолюбием
Самолюбие, опускаясь понемногу до чувства внутренней гордости и до жажды людского одобрения, может, наконец, превратиться, нисходя едва заметными градациями, в бешеную страсть к похвалам и лести. Градации эти бывают столь постепенны и бесконечны, что, бессознательно опускаясь по ним, человек вовсе не замечает, как под влиянием аффекта он переходит грань добра и оказывается в области злого начала. По пути его возникают, наряду с неясными и не вполне определившимися образами, две колоссальные фигуры, привлекавшие к себе испокон веку удивление человечества, не замечавшего в большинстве случаев, что пьедесталы обеих стоят уже в широком поле нравственной патологии. Имя им – честолюбие и слава. Заставляя сердце гениальной личности биться страстными порывами, они нередко готовят тем самым пагубу для всего человечества.
Поставленный в самом начале жизни у средоточия путей нравственного развития, человек, объятый славолюбием, кидает на их протяжении беглый, алчный взор и, оглядев наскоро собственное сознание, соразмеряет свои силы с длиною предстоящих путей и сразу пролагает себе свойственную ему тропу, ведущую к бессмертию и славе. Но мало бывает на свете счастливцев, способных обнять в одно мгновение и собственные умственные способности, и потребности своего века, и пространство лежащих перед ними путей.
Такие люди бросаются вперед очертя голову, и с быстротой телеграфной искры они бегут по тропе, уготованной для них природой. Но едва ли не все, коим дано право стремиться к славе, начинают бросаться с одного пути на другой, будучи поставлены на лучеобразном соединении научных путей. Взорами своими они окидывают все разнообразные дороги, и в дерзновении молодого гения им хотелось бы идти по всем сразу или пробежать по всем поочередно.
Пройдя немного по тропе, они обращаются вспять, находя ее или слишком длинной или чересчур узкой, и в безумной ярости проклинают природу, положившую слишком короткий срок человеческой жизни. Измучившись бесполезными пожеланиями и напрасной борьбой с самими собой, они бросают последний взгляд сожаления на недоступные им пути и молчаливо идут по избранной наконец дороге.
Стремления к славе дозволительны только гению; в устах же человека посредственного они звучат профанацией и отзываются цинизмом. Величие этой страсти должно отвечать объему и силе того ума, который руководит ей. Если бы страсть эта доходила в гениальной личности и до фанатизма, то, сжигая человека, ее ощущающего, она все же сверкнула бы ярким блеском над человечеством, светя ему хотя бы на одно мгновение. Уже не раз гений полагал себя добровольной жертвой на алтарь человеческого просвещения, сжигая самого себя, но светя людям. Гений сам зажег себе костер и угас; но человечество, видя путь свой, освещаемый этим солнцем, сделало несколько шагов вперед и затем вновь остановилось, ожидая новых жертв и проявлений нового светозарного луча.
Да, толпы людей, образующих человеческую семью, шествуют по земле словно нити слепцов, идущих ощупью впотьмах, придерживаясь рукой за оплоты, ограничивающие и пространство, и время, в котором они рождены. Целое поколение составляет лишь формулу, в которой все цифры начертаны под один уровень, имеют одинаковый образец и разнятся только своей ценностью. Но когда среди них проявится личность вполне гениальная, тогда взоры всех обращаются к нему, заимствуя от него и свет, и теплоту, и он освещает путь людям и понуждает их идти вперед, даже бежать, чтобы в несколько мгновений возместить потерянное жизнью. Пока сияет гений, человечество бежит к нему. Когда же огонь иссяк и закатилось солнце, формула изменяет свой вид, и человечество бредет иной дорогой.
Сияя как солнце, наслаждение славой покупается весьма дорогой ценой; оно разрастается сильнее в сердце уже пожилого человека. Цивилизация с ее условностями способствует развитию этой страстишки, так как по капризности своей она находит на складах вечно изменяющейся моды новые наряды для разнообразия одеваемой им куклы. Предполагаю, однако, что и в самом раю грехи тщеславия были уже в ходу, и что в самый день суда мужчины еще станут спорить о местах, а женщины не отстанут от вечного желания пленять и нравиться. Радости тщеславия скрываются людьми столь успешно, что выражение их малозаметно. Иногда разве блеснет в глазах несдержанный порыв крайнего удовлетворения и просияет все лицо тщеславного. Но в большинстве случаев он умеет прекрасно сдерживать удовлетворение своей страсти, и только запершись в собственной комнате, потирает от удовольствия руки, смеется, глядя в зеркало, и, наконец, предается живейшему наслаждению и производит ряд нелепых гримас и прыжков, жестикулируя, разговаривая сам с собой и распевая веселые песенки.
Едва вступает гений на проложенный им путь, как тысячи врагов бросаются ему навстречу. Предубеждение, зависть и невежество стараются ставить ему преграды на каждом шагу, но он все преодолевает и мужественно идет вперед. Этого мало ему, бешено алчущему хвалы, рукоплесканий и всенародного торжества, ему предстоит безлюдная дорога и одинокий долгий путь, во время которого ничей хвалебный голос не оживит в нем духа и ни одна рука не поддержит его с сожалением и не укажет ему на бессмертную награду, ждущую его вдалеке. В молчании и одиноко шествует он, пока, наконец, в нем самом зарождается сомнение о том, не сбился ли он с пути и не говорит ли он на языке, никому не понятном. Остановившись в нерешимости, он допрашивает себя, въяве ли и не в горячечном ли бреду он совершает путь свой. Наконец, он ищет новых сил в сознании своем, которые отражают мышление его во всем величии таланта и гениальности, и он мужается и бодро продолжает жизненный путь.
Жажда славы весьма часто утоляется лишь при конце жизни; иной же раз слава кладет желанный венец свой на холодный труп или на могилу, уже сделавшуюся достоянием бесчувственной археологии. Жизнь, посвященная славе, уподобляется иной раз немногим лавровым листьям, разбросанным по лучезарному фону нескончаемых надежд.
Светоч хотя бы и минутной славы проливает свет по крайней лучезарности своей на долгие годы лишений и нищеты. В минуты славы человек возвышается над самим собой и, подняв сердце на уровень с величием своей мысли и цели, он с высоты умственной сферы своей наслаждается дивным зрелищем своих видений.
Бред вдохновенного восторга не в состоянии выразить всей полноты этих радостей, которые, желая излиться во все стороны, не находят для себя ни слов, ни знаков по скудости средств нашего организма. Гении, однако, не удовлетворяется и этими мгновениями высшего апофеоза и, следя за игрой богатой фантазии, бредит о еще большей славе и о торжестве еще более великолепном. Как жадный ростовщик, он перебирает умственные способности свои, рассчитывая, какой они еще могут дать процент.
Если в руках славы имеется одна лишь мантия, которую она может набрасывать на плечи гениальных личностей, то честолюбие, напротив того, бережет на своих складах плащи, сшитые по всевозможным меркам и могущие приспособиться ко всевозможным мозгам. Страсть эта не столь чиста и не столь грандиозна, как любовь человека к славе, и в ней кроется не один элемент болезни. Слава метит на бессмертие и, измеряя умственным взором собственное величие, вовсе не помышляет о сравнительной мелочности других, будь это окружающие ее свиньи или львы. Славу охотно представляют себе в виде человека, упорно погрузившегося в созерцание небес и собственного бессмертия. Честолюбие же можно изобразить в виде человека, сидящего на холме, смотрящего на толпы людей внизу и усмехающегося при мысли, что стоит ему только сбросить обломок скалы, чтобы привести всех в смятение и ужас.
Жаждущий славы желает бессмертия и не хочет иной хвалы, кроме заслуженной; честолюбивый же человек пускает в ход все чужие мелкие и крупные страсти, предубеждения людские и низость человеческую, только бы возвысить себя выше других; ему абсолютно безразлично, на каком престоле он распускает свои павлиньи перья на седалище из мрамора или из грязи. Другое капитальное различие между наслаждениями славы и радостями честолюбия состоит в том, что первые могут быть испытаны во всей чистоте своей и в одиночестве кабинета, вторые же сияют в водовороте деятельности и власти. Честолюбец может даже расточать благодеяния, но только в виду собственной пользы. Во всем жизненном обиходе своем он бывает мономаньяком, в нем живет и преобладает одно только свойство, которому рабски подчиняются и служат все остальные умственные его способности. Он бывает и щедр, и эгоистичен с одинаковым равнодушием. Он то верен данному слову, то не держит ни одного обещания; он то суеверен на словах, то высказывает крайний скептицизм; он выставляет себя безразлично то благодетелем человечества, то палачом. Если помешавшийся таким образом на честолюбии и доходит до желаемой высоты без преступления, то это не может быть поставлено ему в достоинство, так как возвысившее его общественное мнение поставило его в необходимость быть честным и порядочным человеком.
Во всяком случае, общественная речь – этот безапелляционный решатель стольких вопросов – считает честолюбие страстью нейтральной, чем-то средним, витающим вечно на грани добра и зла, к которому всегда следует приставить прилагательное, чтобы определить его нравственное значение. Так, говорится «благородное честолюбие» и «честолюбие преступное».
Радостей честолюбия бывает достаточно, чтобы наполнить собой все нравственное существование человека, возмещая все прочие наслаждения жизни. Страсть эта еще неутомимее славолюбия и приравнивается иной раз не только к сумасшествию, но и бешенству, успокаиваясь только под могильной плитой. Честолюбец спазматически радуется первому коснувшемуся его почету, но отдыха и успокоения он затем уже не знает; он оглядывается по сторонам, чтобы высмотреть, не скрывается ли в тени какой-нибудь соперник; он бежит вперед, сжигая пространство, шествуя вначале пешком, затем – на лошадях, а потом – уже при помощи парового движения. Локомотив его бежит со всей силой бешеных паров, и нет топлива, которое бы удовлетворило желанной быстроте. Он кидает в печь машины целые поколения людей и, в вечном страхе, чтобы огонь не угас под его котлом, он ввергает в него лучшие свои чувства – дружбу, любовь и, наконец, собственное достоинство свое. Иногда рушится его бешено пущенный локомотив, и он бывает поражен его осколками на середине своего пути. Израненный и умирающий, он бродит по развалинам, расспрашивая, не разошлась ли о нем по свету дурная слава, и не может ли он устроить и новые машины, и новый разъяренный бег. Ежели бы Наполеону удалось стать владыкой Европы, то и тогда он не умер бы удовлетворенным.
Слава и честолюбие – это страсти, возникающие с первыми проблесками разума и кончающиеся с жизнью. В юности они сияют живыми лучами, но с годами свет их постепенно меркнет. Наслаждения их бывают почти исключительно достоянием мужчины; но когда женщина становится достойной славы, она возвышается до нашего уровня.
Во все времена и во всех странах люди бывали мучениками славы и честолюбия. Гений может создать около себя новую цивилизацию, но он не подчиняется условным ее законам; честолюбие же разрастется бешенее среди столкновения интересов, борьбы тщеславия в бурном водовороте людских скопищ. Болезнь эта, естественно, должна развиваться быстрее в Лондоне и Париже, чем в горах и захолустьях Швейцарии или американских дебрей.
Глава VIII. О более сложных удовольствиях самолюбия. Философия наград и премий
Со всеми нашими наслаждениями тесно связано удовлетворение самолюбия, и я рискну сказать, что для мира нравственного оно бывает тем же, чем клетчатка для мира физического. Вот почему так затруднителен анализ человеческих страстей при отделении самолюбия от остальных аффектов.
В связи с удовлетворением самолюбия чувственные наслаждения устраивают разнообразие игр и увеселений. Обед или бал редко обходится без того, чтобы гости не представляли из себя разнообразие всех видов самолюбия, да и само пиршество дается часто ради удовлетворения тщеславия хозяина, около которого группируются образчики крупной и мелкой гордыни во всех ее видах.
Наслаждения более благородными чувствами и трудом более интеллектуальным тоже всегда имеют неотлучным товарищем самолюбие, которое не отстает от них, как тень, и в наиболее невинных случаях утешает и себя, и их одобрением людей. Любовь к ближнему и любовь к наукам редко встречаются в человеке без той или другой примеси к ним самолюбивых наслаждений; и, найденные где-либо в абсолютной чистоте, они должны бы быть выставлены в музее добродетельных редкостей. Но и тут могла бы оказаться ошибка, подобная ошибке химиков, долго считавших элементами весьма сложные вещества. Эта шутка вышла из-под моего пера не для вызова усмешки на устах циника, так как она истекает вовсе не из недостатка веры в нравственность человеческую. Но человек носит с собой несовершенство своей природы, и первобытный грех заставляет чувствовать различным образом разложение свое при всех делах наших, начиная от создания тюрьмы до устроения человеком благотворительного заведения. Ежели бы мы были совершенны, то не чувствовалась бы потребность в небесном блаженстве.
Награды и разные премии могли бы составить естественную группу сложных удовольствий самолюбия. Если исключить те награды, которые удовлетворяют чувство собственности и другие, еще менее благородные побуждения, то все прочие относятся более или менее к утехам самолюбия. Начиная от мальчика, который считает прогулку наградой за решение трудной задачи, и кончая законодателем, назначающим премию, может быть, еще и не существующую, тому, кто согласится повиноваться кодексу, им составленному, человек всегда употребит нравственное ухищрение, чтобы облегчить или сделать возможной работу, оказывающуюся затруднительной или неприятной. В этом случае мы сознаем нашу слабость, и, чтобы творить добро, сами ставим себе приманку награждения.
Едва мы вышли из материнской утробы, ухо наше усиливается еще уловить неопознанные им звуки, первые проблески разума усиливаются сложить мысль, а мать уже успокаивает ребенка словом «Стыдно!» или указывает на старшего брата, достоинство которого состоит в том, что он уже не ревет. Тогда сердце наше уже начинает биться неосознаваемой еще радостью самолюбия, и, поборов себя, мы приносим жертву и делаемся достойными награды. Безмерное честолюбие Александра Македонского затрепетало жизнью, может быть, еще в пеленках.
Будучи детьми, нам приходится откладывать игры и нескончаемые радости свободы, чтобы усаживаться за рабочий стол; нежными ручонками нашими мы должны ухватить перо, этот ужасающий нас инструмент, и начинать уже жизнь усилий и труда. Тогда мы отказываемся от налагаемой на нас работы и плачем; но между нами и трудом становится посредником всеулаживающее орудие – самолюбие наше, и поставляемая нам приманка всегда находит в нас волчий, неутолимый голод. И тогда-то обещание похвального нам слова заставляет нас согнуть шею под нежеланное ярмо, и мы находим себя несказанно счастливыми, когда видим, что в конце испачканной страницы, нередко испещренной каракулями, выведенными нашей неопытной ручонкой, стоит желанное слово «хорошо». С этой поры все воспитание как ума, так и сердца уподобляется искусному ужению рыбы или древнему сказанию о лекарстве, подслащенном медом; словом, о деле приманки и удочки.
Истратив треть жизни, чтобы стать деятелями при огромной общественной фабрике, мы с сожалением усмехаемся, вспомнив о громадной ценности, которую мы некогда придавали похвальному слову или награде, вовсе не сознавая, что при этом мы в смешном виде описываем свое положение и в зрелых годах. Удочка все еще колеблется перед нашими глазами, и рыбак переменил только приманку, искусно приноравливая ее ко вкусу взрослого и к объему вечно голодного его желудка. Прежде всего манила нас мать обещанием похвалы и ласки; затем – учитель с похвальным листом и золотообрезной книжкой; а там приманку держит уже общество с его рукоплесканиями кафедры и пергаментами дипломов со знаками отличия и лавровыми венками; вкусы меняются, но всю жизнь тянется одно и то же зрелище рыбака и рыбки, приманки и удочки.
По этому поводу можно бы написать целые тома любопытных наблюдений, и анализ радостей, испытываемых человеком, получившим знак отличия, заслуживал бы долгих и печальных строк. Прибавлю только, что и те люди, которые отлично умеют взвешивать стоимость приманок и насмехаться над ошибкой, кончают, однако, тем, что сами легко попадаются на крючок, для них удачно приспособленный. Счастливы те, что остаются спокойными в тихих водах своих; они могут хохотать от души при виде рыбок, смешно и жалобно попавших на удочку.
Глава IX. Патология самолюбия. Наслаждения собственной гордыней
Всякий раз, когда нам случается заглядеться на умственный наш образ, отраженный в зеркале сознания, мы испытываем удовольствие небезвинное и становимся на время гордецами.
Это вновь зародившееся чувство смешивается при первой степени своего развития с самолюбием и потому может еще быть зачислено в состав благородных чувствований; когда к нему можно еще приставить одно из добрых прилагательных, тогда оно обозначается словом, не переводимым на русский язык, – «furezza», «furte». Слово это обычно употребляется для обозначения высшей реакции собственного достоинства.
Гордец чрезмерно и не по справедливости радуется, глядя на самого себя и на дела свои и, творя над собой свой собственный суд, называет себя великим, великодушным, едва ли не божественным.
Он то любовно созерцает весь нравственный свой облик и видит в себе человека выдающегося и великого, то вглядывается подробно в одну из сторон собственного многоугольника, заявляет о себе как об отличном художнике, о превосходном ораторе или о божественном поэте. Испытываемое им, при постоянном самосозерцании, наслаждение может достигнуть высшей степени, быть чувством вполне патологическим только в отношении нравственности, так как оно противно чувству правды и притом принижает все человечество вообще.
Гордыня всегда возбуждает смех, так как она соединяет силу натяжки с величием пожеланий, приравнивая в отвратительном карикатурном виде правду ко лжи, великое к малому. Гордыня производит на зрителей впечатление ходящего на ходулях карлика или театрального тирана, который стоит на том, чтобы его и вне сцены называли «величеством». Ежели бы подобное карикатурное самовозвеличивание было шуткой, то над ним можно было бы только посмеяться; но ведь и наше самолюбие существует и обижается узурпированным превосходством, и возмущается против него, и чувствует незаслуженное страдание.
Выдающиеся умы умудряются иной раз улыбаться только чужой гордыне, но это бывает потому, что они не допускают образ гордеца далее умственной области своей. Прими они его к сердцу, они все же почувствовали бы легкий укол, хотя бы не более булавочного.
«Радости гордыни не могут быть ощущаемы умом, не отягченным гнетом семидесяти четырех лета», – как выразилась одна итальянская знаменитость, так как радости эти достигаются только посредством фальсификации и как бы не относятся к интеллекту. У гордеца всегда представлена к глазам трубка с увеличительными стеклами; когда он сравнивает себя с другими, разглядывая себя, он видит образ свой увеличенным в миллион раз. Глядя же на прочих людей, он держит трубку навыворот, прикладывая сторону объекта к собственным глазам, и потому люди кажутся ему крайне малыми в сравнении с дорогим ему собственным образом. Этот блаженный человек никогда не признает собственной ошибки, и никто не в состоянии убедить его, что он глядит на все с обратной стороны. Он защищает заблуждение свое со всем упорством невежества, потому что ему отвратительна мысль увидать себя малым, а других – в увеличенном виде; и он продолжает наслаждаться блестящей оптической игрой, так несказанно его забавляющей.
Глава X. Патология жажды одобрения. Наслаждения тщеславия
Не усложненная иными свойствами, гордыня охотно остается замкнутой в самой себе, но, разрастаясь, она невольно показывается из-за прорех лопнувшей на ней одежды и выливается наружу. Когда же она возвращается обратно в свои картонные чертоги, в еще более смешном и безобразном виде, тогда люди прозывают ее тщеславием, которое стоит к гордыне в том же отношении, в каком жажда человеческого одобрения находится к самолюбию. Тщеславие, выставляя себя перед людьми, естественно придает себе цену, требуя похвал, а иногда и венков.
Гордыня – свойство весьма простое по своей сути; тщеславие же, напротив того, будучи усложнено всеми элементами общественности, представляет целый арсенал всевозможных орудий и более или менее смешных форм. Бесчисленных типов тщеславия и употребляемых им орудий имеется немало в сокровищах литературы, где они скучены как бы в громадном музее. Обязанный описать в немногих строках все проявления этой страсти, я принужден, ради стройности и краткости, поделить их на три категории: на тщеславие физическое, нравственное и интеллектуальное.
Первым видом тщеславия оказывается пристрастие к тому физическому образу нашему, отражением которого мы можем любоваться в сознании других людей, т. е. потребность возбуждать удивление к физической красоте своей. Эта страсть мелочна, но весьма требовательна и своенравна; она составляет испокон веков исключительную принадлежность прекрасного пола, сделавшего из нее свой кумир. Следовало бы стать женщиной хотя бы на несколько минут, чтобы вполне разоблачить непроницаемые тайны этой страсти. Надеемся, окажется где-нибудь смелая личность из женской среды, готовая поведать нам о нравственных наслаждениях, доставляемых женщинам умением принарядить себя и искусством ловко и изящно натянуть при людях благовонную перчатку, приберегая, на крайний случай, выразительный страстный взор. Ежели прекрасный пол задумает казнить ее за профанацию собственного святилища, тогда мы, мужчины, радостно откроем ей гостеприимное убежище в сфере нашего умственного кружка.
Физическое тщеславие бывает причиной большинства их мелких грешков, в которые мы бессознательно впадаем ежедневно. Услыхав похвалы глазам, волосам и даже одеянию нашему, мы всегда ощущаем некоторое удовольствие, хотя и сами смеемся подчас тем похвалам и той стойкости, с которой охотно мирится наше самолюбие. Это удовольствие естественно и невинно, особенно когда похвала эта исходит из уст другого пола. По естественным законам самец и самка любят нравиться друг другу внешним видом своим и превосходить друг друга прелестью своих форм.
Но виновность возрастает, когда употребляются некоторые ухищрения для прикрасы особы и для доставления себе тех похвал, которые так дороги нашему сердцу. Природа влияет на подобные наслаждения гораздо сильнее, чем на воспитание, и утехи тщеславия начинают нас забавлять с самого раннего детства. Еще в детстве можно заметить разницу в детях обоего пола в отношении тщеславных помыслов. Мальчик кричит, играет и буянит, вовсе не думая о том, обращают ли на него внимание окружающие, но девочка, одевая в присутствии людей свою куклу, искоса поглядывает по сторонам, подмечая выражение глаз присутствующих и стараясь придать каждому движению своему ловкий и красивый вид. Этот простой, бросающийся в глаза, факт разоблачает заветную тайну обоих существ, определяя нравственную формулу людей разных полов.
Этот обыденный порок людей не приносит сильных наслаждений; тщеславие начинает радовать людей своими не безвинными, но интенсивными утехами, только став полной, обуревающей всего человека, страстью. Женщина, тщеславная по преимуществу, изучает старательно себя, все движения свои и каждую черту лица, стараясь извлечь наибольший процент из капиталов, данных ей природой, и скрыть, по возможности, недостатки своей особы. Рассеянная по природе своей, она умеет придать себе самую острую и неустанную наблюдательность; нетерпеливая и словоохотливая по привычке, она жертвует целые часы ради туалета и просиживает целые дни перед зеркалом, изучая искусство мимики и изящное движение губ. Она бывает вполне вознаграждена за эти жертвы и лишения в ту минуту, когда, вступив в ярко освещенную гостиную, она видит устремленные на нее взоры и слышит похвалу и удивления присутствующих. Тогда она краснеет, робко опуская глаза, кровь приливается к ее щекам не от возбужденного в ней чувства стыдливости или скромности, но от усилия скрыть в себе радость, переполнившую в эту минуту все ее существо. Она не забудется ни на одно мгновение, и, подходя нерешительными шагами к стульям, предлагаемым ей поклонниками, она не перестает обращать усиленное внимание на каждое движение свое, на каждый изгиб стана. Оглядываясь робко вокруг себя, она не забывает ничего из искусств, изученных ей перед зеркалом, от робко опущенных ресниц до взора, исполненного мгновенной страсти. В великодушии своем она не оставит без внимания ни одного из окружающих ее обожателей – ни юношу, как бы он ни был безобразен, ни старика, несмотря на дряхлый его вид. Ежели, по невольному увлечению, ей случится остановить на ком-либо взор свой дольше того, чем дозволяет никогда не дремлющий в ней рассудок, то она немедленно исправляет сердечную ошибку, перенося безразличный взор свой с одного на другого из ожидающих от нее приязни и добродушного внимания. Там же, где она намерена поразить более глубокими ранами, она представляется равнодушной и даже надменной, и поочередно, то играя взорами, полными томления и сдержанных вздохов, то взглядами бурной страсти, она забавляется то радостью, то ужасом жертвы, повинующейся ее малейшему знаку.
Ежели вам случится когда-либо увидеть заведомо тщеславную женщину, не нарядной и даже как бы небрежно и беспорядочно одетой, осмотрите ее пристально, с головы до ног, и будете убеждены, что ни один волосок не лег случайно, и что ни одна складка искусно помятой одежды не сложилась сама собой.
Прядь волос положена на свое место искусной рукой; пуговица, выскользнувшая из своей петельки, расстегнута преднамеренно, для того, чтобы подметивший беспорядок, обратил внимание на сокровища, спрятанные от глаз; и долго длилось внутреннее совещание о том, которую именно из пуговок следует оставить незастегнутой. А затем следует припомнить, что тщеславная женщина не перестает украшать себя, даже когда она одна, и, чувствуя приближение смерти, она все еще ищет позу красивую и изящную.
Женщина умеет изобретать новые утехи своему тщеславию, но и мужчина иной раз не отстанет от нее в этом отношении, с той только разницей, что, предаваясь тщеславию, он гораздо виновнее женщины. Мужчина, постучав в дверь гостиной, поправляет себе усы, бросая последний взгляд в карманное зеркальце, чтобы удостовериться в том, что прическа его сохраняет еще искусно устроенный пробор, придающий ему вид вдохновенной гениальности. И мужчина смеется насильственно, чтобы показать свои зубы необычайной красоты; рука мужчины, заслуживавшая похвалы знакомых, оставляется иногда на столе, где ее присутствие вовсе не требуется. Даже тот, кто уже вкусил обаяние славы, и тот не презирает иной раз мелких удовлетворений тщеславия и, симулируя в одежде циничную небрежность, радуется тому, что на него смотрят на улице, едва ли не указывая на него пальцами. Случалось не раз, что возвеличенный славой человек останавливался перед зеркалом, чтобы привести свои волосы в живописный беспорядок и вкривь застегнуть пуговицы жилета.
Нравственное тщеславие бывает менее определенно в своих формах, хотя оно в действительности так же изобилует наслаждениями и носит такую же печать виновности. Сначала человек радуется похвалам, расточаемым достоинствам его души, преувеличивая впоследствии достойность добрых дел своих, производя их ради одной похвалы, доходя постепенно до лицемерия в деле чувства. Всякому аффекту человеческому, доброму или злому, бывает присуще тщеславие. Бесконечны градации от добра к злу, мы можем легко отличить в деле тщеславия ровно как грань между здравыми и болезненными побуждениями собственной души. Человек, который бросает серебряную монету нищему, радуется удивлению зрителей и испытывает не физиологическое, а весьма нездоровое душевное наслаждение. Нездорово и сердце того, кто оставляет на столе своем письма, полученные им чуть не за месяц, в надежде, что случайный гость примет эту массу конвертов за сумму его ежедневной корреспонденции; человек этот столь же виноват, как и первый. Родным братом этих слабостей человеческих оказывается и тот, кто с ужасом отворачивает глаза от курицы, зарезываемой для его же стола, и тот, кто не хочет, чтобы его звали графом, бросая с презрением, чуть ли не под стол, герб своей семьи и рода.
Формы тщеславия можно обозначить тремя разрядами: первый обнимает все уродливые и скаредные привычки, роняющие в человеке чувство собственного достоинства и чести, и все качества, обезображенные рахитическом недугом честолюбия, остановленного в своем развитии; второй разряд содержит все подвиги лицемерных благодеяний и притворно-великодушных стремлений. Состав третьих, наконец, относится всецело к миру более или менее поддельной чувствительности, заставляя человека наслаждаться мыслью, что его считают чувствительным, изящно нежным во вкусах и во всем существе своем. Этот последний род тщеславия всего более свойственен женщинам и особенно смешному разряду мужчин, считающих себя одаренными высокими и нежными ощущениями потому только, что им противен запах табака и что лицо их бледно и худощаво. Но, под каким бы видом ни проявлялось нравственное тщеславие, оно в действительности бывает отвратительнее всех прочих принимаемых этой страстью образов. Она возмущает людей мелочностью и низостью своих приемов, профанируя человеческое чувство и заставляя его служить подлейшим целям. Физическое тщеславие побуждает наблюдателя хохотать иной раз от души, при виде наивных уловок этого вообще карикатурного влечения, заинтересовывая даже зрителя художественной отделкой своих хитросплетений. Вообще это мелочная страстишка, вовсе не претендующая на скипетр или венец мелочность приемов, которой вполне отвечает пустота целей. Нравственное же тщеславие, наоборот, никогда не возбудит в наблюдателе откровенного добродушного смеха, так как наружные проявления его, всегда уродливые, симулируют и профанируют сердечное чувство, оскорбляя тем достоинство всего человечества.
Ум наш проявляет также свойственное ему тщеславие, и всякая похвала, несоразмерная с действительной интеллектуальной стоимостью нашей, способна возбудить в нас радости не вполне безвинные. Когда человеку удается вызвать, теми или другими сцеплениями уловок, людское поклонение, он становится лицемерен умом, как другие бывают лицемерны сердцем.
Эти уродливые наслаждения вполне аналогичны тем удовольствиям, которыми пробавляется нравственное тщеславие; хотя проявления их хладнокровны, но они бывают не менее скаредны и мелочны в своих ухищрениях. Здравый людской смысл обозначил мелочность подобных приемов презрительными прозвищами – «гордыбачение», «кичливость», «ломание», «кривляние», «самолюбие» и т. п. Нравственный философ хладнокровно заносит их в число субъектов, подлежащих клиническому осмотру, но, вникая в изгибы собственного чувства, он находит нередко и в себе самом ряд мелких прегрешений такого же рода, с аналогичными следовавшими затем угрызениями совести. Человек, способный производить на свет кипы рифмованных страниц, считает себя поэтом и, таская всюду в кармане излияния собственной гениальности, отягощает ими первого встречного. Наслаждения этого человека можно смело назвать патологическими. Автор, небрежно оставляющий на письменном столе последнюю статью свою, полузабытую под кипами брошюр и не имеющую, быть может, ничего, кроме первого заглавного листка, ощущает преступную радость обманщика, когда случается кому-либо из посетителей увидать драгоценный труд, по-видимому, так скромно скрытый от постороннего глаза. Ученый, загромоздивший свою комнату немецкими, английскими, испанскими или греческими книгами, хочет заставить людей предполагать, что он может читать их. Он ухищряется забыть до полудня свою лампу зажженной на письменном столе среди кучи книг в надежде, что случайные посетители пойдут на грубую удочку этой мнимой учености и возвратятся домой в полном убеждении, что ученый муж томился всю ночь над научным трудом. Сочинители, мелкие и крупные, простят мне это разоблачение сокровенных тайн тщеславной их политики, ввиду того, что содержание моей книги требует от меня примеров и из литературного мира; спустившись в глубь собственной совести, они убедятся, что я выводил примеры свойственного им тщеславия с крайней сдержанностью и не разоблачал самых неимоверных проявлений их тщеславия. Я, со своей стороны, охотно простил бы им все подобные патологические наслаждения, если бы они искупали подобные провинности действительной стоимостью своих произведений.
Все тщеславные удовольствия, разбитые здесь на три категории, составляют, в сущности, одно чудовищное произведение все той же жажды людского одобрения, усугубленного болезненностью стремления. По большей части они комбинируются различным образом в одной и той же особе. Человек тщеславный решается культивировать специально одну из трех разветвлений обуявшей его страсти только в том случае, когда она обещает принести ему более обильный плод. Тогда он решается жертвовать двумя худшими ветвями для того, чтобы избранный отпрыск мог разрастись роскошнее; в выборе же руководит человеком как собственный произвол, так и общественное мнение. Будучи растением многолетним, тщеславие изобилует соками и пускает новые ростки около срезанных ветвей; когда же оно делается высоким, одиноким стволом, около корня выбегает целая семья многочисленных отпрысков, покрывая растение целым венцом. Так, после долгих и многотрудных внутренних совещаний женщина находит, что ни ум, ни сердце ее не обещают ей многого, и что ей выгоднее будет предаться специально физическому тщеславию; тем более что в свете, ее окружающем, красота оценивается охотнее, и что толпа, могущая встретить ее и рукоплесканиями, и свистом, вознаградит ее скорее за сладострастный поворот стана или за нежный изгиб ножки, мелькнувшей из-под платья, чем за высочайшие сокровища ума и сердца.
Тщеславие во всех его видоизменениях всегда гибельно для сердца, которое, истомясь, вымирает окончательно. Растение, согнутое и срезанное рукой садовника, никогда не поднимется до гордо-величавого роста; развиваясь рахитично-болезненно, оно становится бесплодным. Женщина, желающая нравиться многим, не способна любить одного, и когда человек просит у нее дара сердца, она уже не находит его, искрошив его массе обожателей… Иной раз, склонившись на просьбы поклонника, вместо обезображенного ей сосуда подает она ему сердце из papier mache или из каучука, обманывая им близоруких людей. Взамен других достоинств подобные сердца бывают по крайней мере выносливы и не легко поддаются обветшанию и старости. Упаси Бог от подобных сердец!
Эти радости вкушаются во всяком возрасте, кроме, разумеется, тщеславия физического, которое должно покончить с молодостью, если не хочет быть осмеянным мальчишками.
В состоянии совершенного покоя или нервной апатии малейшее усугубление ощущения может уже составить удовольствие, и наоборот, т. е. когда чувство уже находится в состоянии нервной напряженности, тогда для произведения приятного чувства потребна бывает крайняя интенсивность ощущения. Если бы мы пребывали в мире вечной гармонии, то только дивная или сверхъестественная музыка могла бы доставить нам наслаждение; точно так же и наслаждения зрением перестали бы существовать для нас, если бы сразу могли быть представлены взорам нашим все предметы мира сего. Когда же, напротив, чувство поражено в нас до боли, самое прекращение страдания составляет уже благо, тождественное с наслаждением.
Глава XI. О физиологических наслаждениях, доставляемых чувством обладания собственностью
Хотя некоторые философы, слепившие себе идею о человеке в глубине собственных мозгов, и хотели уверить нас в том, что чувство собственности не свойственно человеку и что оно составляет в нас одно из жалких произведений цивилизации, слова «моё» и «твоё» имели, однако, громадное значение на языках всего мира, и физиология их разнообразных применений могла бы стать историей всего человечества. Младенец, едва совладавший с произношением полудюжины слов, ухватывается за конфетку, защищает ее от шутливых нападений и кричит, заливаясь слезами: «Моё!» Во всем мире толпятся люди, желающие распространить на возможно большее количество земных благ все то же заветное слово «моё»! Сколько уловок и тайн сокрыто в спряжении грозного глагола «имею». Отнимите у мира идею собственности – и все узы общественности впадут в презрение. Попробуйте осуществить утопию коммунизма, и люди, любящие и уважающие друг друга, уподобятся стае волков, раздирающих друг друга над окровавленной добычей. К счастью, бред философов способен привести в исступление только незначительную долю людей, но он не в силах ни пошатнуть вечных законов естества, ни остановить ход нравственного мира. Если дикари еще не ведают разницы между глаголами «приобрести» и «украсть», если они все еще бродят по лесным чащам без приюта и без собственного жилища, то все же они знают в совершенстве употребление слов «моё» и «твоё», и каждый из них прекрасно умеет заметить свою собственность, лишь только задумает грубый товарищ выхватить из рук его плод, поднесенный им к зубам. Да ежели бы и существовало на земле племя, в словаре которого не оказалось бы этих слов, то идея собственности все же присуща им, хотя бы еще в неясной и неопределившейся форме. И петух, защищающий сераль свой от нападений соперника, чувствует уже, быть может, по-своему, что «моё» и что «твоё», не умея, разумеется, составить себе отвлеченного о них понятия.
Чувство собственности понуждает нас к отыскиванию, награждая нас за труды сознанием имения. Но физиологический аффект удовлетворяется в нас только тогда, когда к собственности присоединяется еще право обладать ей и когда мы можем заявить права свои перед лицом остальных людей. Тогда, при помощи этого последнего слова, мы налагаем как бы невидимую печать свою на предмет, становящийся нам с этой поры дорогим и любезным. Свойство нашей личности как бы переходит на вещь, нам принадлежащую, и она начинает уже блистать в глазах наших отражением нашего собственного «Я», сияя восхитительным и сладостным для нас светом. Каждый из нас может легко сопоставить впечатление, производимое на нас видом чужой собственности и взглядом на предмет, нам принадлежащий. В первом случае мы рассматриваем (иногда и не без пожеланий), во втором же случае мы созерцаем с теплым чувством, доходящим до аффекта привязанности и любви.
Простейшее наслаждение чувством собственности состоит в обращении внимания на то, что уже принадлежало нам в силу наследия, еще тогда, быть может, когда мы еще не могли иметь понятия о подобном аффекте. Тогда мы утешаемся сознанием богатства, обозревая довольным взором более или менее обширную часть кругозора нашего, наслаждения собственностью весьма бледны и холодны в подобном случае, так как им не могли предшествовать пожелания, и мы были уже собственниками, не сознав еще себя людьми. Глагол «иметь» доставляет всего более радостей человеку, когда, по более естественному порядку вещей, ему предшествовали времена усилий и домогательств, и степень наслаждения собственностью всегда более отвечает степени предварительных пожеланий, чем действительной стоимости предмета.
Библиоман, отыскивавший в продолжение долгих лет редкий недостающий его библиотеке экземпляр и завидевший его на запыленной полке антиквара, испытывает радость более жгучего свойства, чем тот монарх, который, позевывая от скуки, получает известие, что где-то вдалеке войска его обогатили его владения новой обширной областью. Удовольствия самолюбия присоединяются нередко к сознанию собственности, и мы охотно показываем знакомым вещи, состояния в нашем обладании.
Бедняк, получивший неожиданную подачку, весело бежит по улице с рукой, опущенной в карман, побрякивая доставшейся ему серебряной монетой. Прислушиваясь с восхищением к ее серебристому звяканью, он перебирает, в воображении нескончаемый строй своих давних пожеланий и предвкушает всю прелесть их выполнения. Он бежит, улыбаясь, с видом несказанного торжества, задавая затрещину мимоходом одному приятелю и покровительственно подшучивая над другим, внушая каждому из них какую-то неясную надежду на радость, ждущую их всех впереди. Знакомые бегут ему вослед, кричат ему, окружают его, поднимают на руки и несут его, слегка покачивая; бедняк, оглушенный криками друзей, сбивается с толку и наслаждается на мгновенье всем блаженством собственника-богача. Но на этом блаженном мгновении мы и покинем его; когда же позднее, образумившись, он решится выдать друзьям бедную монетку, долженствующую залить жажду всей этой толпы, тогда товарищи бросают его со смехом, и он, возвратившись к горькому сознанию прежней нищеты, довольствуется одиноко выпитой чаркой, оплаченной его же грошами. Банкир корпит накануне Нового года над громадной книгой своей и, с трудом высчитывая действительный баланс своего дома, колеблющийся между получением и долгом, доходит наконец до желаемой блаженной цифры финала, показывающей миллион прибыли. Он бросает перо и, осматривая обстановку своего кабинета, находит его внезапно слишком тесным и слишком невзрачной всю обстановку своих покоев. Он не видит вовсе и не осязает самых денег: он созерцает в воображении тяжелые мешки с золотом, из которых высыпаются блестящие монеты. Поддается и он потребности перечесть все, когда-либо осаждавшие его пожелания, и, предаваясь радости, он громко вскрикивает: «Победа!» Но толпа желаний все растет… он мысленно уже опорожнил заветные мешки, а между тем не выполнена еще и половина зародившихся в уме банкира планов… И вот он, смолкнув, мечтает о новых спекуляциях и новых прибылях, рассматривая вновь нескончаемое поле своих отчетов.
Наслаждения, доставляемые человеку благородными металлами, до того сложны, что им следовало бы посвятить целые страницы подробного анализа. В число их входит и чувственная радость при виде блеска серебра и золота, и безвинное удовольствие потрясать деньги в горсти, взвешивая бесцельно их на ладони, и безвинное поигрывание рукой в мешке с дублонами, и звук выброшенной на стол пригоршни. Затем приглашаются к пиру поочередно все чувства созерцания, и всем им обещается не малая доля наслаждений. Наконец трудам золота улыбается и сам строгий интеллект человека, погружаясь, в свою очередь, в свойственные ему мечты, представляя себе и святилища новых библиотек, и заатлантические поездки, и сладость новых научных опытов.
Всё «наше» может доставить нам наслаждения, довольно однообразные по своей сути. Но высшее и более утонченное наслаждение состоит в приобретении небольшой вещицы, способной улечься на ладони и быть спрятанной в карман. Местоимение «мое» как бы возвышается тогда в степени, становясь чем-то сравнительным или превосходным, и чувство собственности удовлетворяется в нас способом, наиболее отвечающим его природе. Когда предмет велик и мы не можем носить его при себе, то, несмотря на то, что он, несомненно, «наш», мы чувствуем, что он легко может, так или иначе, стать собственностью иного хозяина. Маленькая же вещь, способная укрыться в пригоршне, становится как бы частью нас самих и «нашей» по преимуществу. Богатый ребенок, получающий от отца собственный свой садик, радуется новому приобретению, но выражает это чувство довольно холодно; когда же тому же самому ребенку дарят красивую золотую вещицу, он смеется, прыгает от радости и, повертев ее во все стороны, прячет в карман или бежит к своему шкапику и заботливо запирает на ключ свое сокровище. Прибавлю в заключение, что движимое имущество гораздо ближе нашему сердцу, чем недвижимые владения, которые если и возбуждают в нас более сильные наслаждения, то это бывает не по чувству собственности, а ввиду и будущих наслаждений, и надежд увеличить и украсить их доходами дом свой. Кому не совсем понятно различие между двумя наслаждениями, тот пусть вообразит себя собственником – хозяином то доходного виноградника, то прекрасного камня, и затем пусть сопоставит в душе своей оба впечатления.
Деньги соединяют в себе и спокойное, спекулятивное наслаждение недвижимой собственностью, и пластические живые радости обладания движимым имуществом; они остаются неизменными, если мы предпочитаем сберегать их в шкатулке; а между тем они властны доставлять нам разнообразие наслаждений собственности, если мы решимся пустить их в бурный водоворот жизни. Деньги – материальная формула для двух глаголов, наиболее дорогих человеческому роду: она заключает в себе и возможность иметь, и силу властвовать. Это – вексель, уплачиваемый предъявителю в каждой стране и во всякое время; это – драгоценная вещица, способна зажечь в нас в одно мгновение трепетный огонь всевозможных пожеланий.
Золото представляет наиболее сжатый экстракт благ земных, который в наименьшем объеме может представить человеку квинтэссенцию всех радостей – формулу, могущую обнять все комбинации пожеланий. Человек, которому принадлежит богато отделанный самоцветный камень, наслаждается им ради него и через него, и расставаясь с ним, теряет только самый предмет. Но луч света, исходящий из червонца и отражающийся в сознании нашем, бросает нескончаемый свет во внешний, окружающий нас мир; луч этот становится как бы зеркалом, в котором мы видим пляшущими и смеющимися все жизненные радости, манящие нас на пир свой; и это зрелище нравственной перспективы видоизменяется при каждом мгновении ока, смотря по направлению, придаваемому пожеланиями нашими калейдоскопу фантазии.
Наслаждения чувством собственности свойственны людям всех возрастов, но они становятся оживленнее с той минуты, когда человек начинает спускаться вниз по параболе. В счетной книге юности слово «дано» всегда преобладает над выражением стяжания, но в старости и даже в более зрелом возрасте баланс книги оказывается в совершенно обратном смысле. Цивилизация придает все более и более значения слову «стяжать», увеличивая число радостей, доставляемых именем; коммунизм же благ становится все более и более уродливой утопией, чем более человечество близится к старости и одряхлению.
Женщина вообще менее озабочена собственностью, чем мужчина, и она почти не имеет вида спряжения глагола «иметь» в единственном числе; ее стремления в этом случае концентрируются к заботам о собственности первого лица во множественном числе, и при спряжении глаголов она охотно изменяет глагол «иметь» на более свойственное ей «дать».
Влечение этих удовольствий бывает благотворно только тогда, когда они держатся в чрезвычайно суженном круге, указанном физиологией свойства, и тогда они бывают весьма драгоценным двигателем цивилизации человечества. Нескончаемое количество людей, работая ради собственного обогащения, передают потомству драгоценные сокровища открытий и изобретений!
Общее выражение стяжания может быть представлено в виде алчного неподвижного взгляда и сжатой, не выпускающей взятого руки.
Глава XII. О наслаждениях чувств отрицательного свойства
Когда уменьшается или прекращается в нас какое-либо болезненное чувство, тогда внезапное проявление облегчения составляет уже само по себе наслаждение, которое назовем здесь отрицательным, потому что без предшествовавших страданий не существовало бы и наслаждений облегчения. Число подобных наслаждений бесконечно и потому некоторые философы заверяли (весьма, впрочем, ошибочно), что всякая радость проистекает из прекращения страданий и зла. Заблуждение это становится очевидным при малейшей наблюдательности.
Потребность в чем-либо и аффект усиленного желания не всегда бывают источником страданий для человека, напротив того, они часто приводят к наслаждению. Время, протекающее между начавшимся пожеланием и удовлетворением его, бывает в большинстве случаев временем весьма приятным; томительным и болезненным оно становится только тогда, когда мы начинаем уже отчаиваться в достижении цели или когда, при весьма сильной и неотложной потребности, случайные обстоятельства длят минуты тягостного ожидания. Множество наслаждений, однако, выпадает на долю без предварительных страданий и не вызваны никакими пожеланиями.
Так, например, находясь в состоянии совершенного покоя, не нарушаемого ни малейшим пожеланием, мы внезапно усматриваем цветок, радующий нас красотою своею, или, столь же внезапно, ухо наше бывает поражено звуками дивной гармонии; оба чувства в подобную минуту ощущают наслаждение, не обусловленное никакою потребностью и не происшедшее вовсе от утоления страданий. Наслаждения наши проистекают из множества разнообразных источников, и кто желал бы навязать радостям человеческим иго самосозданных теорий, тот жестоко обманывал бы себя, уродуя притом самую природу вещей.
Наслаждения, называемые отрицательными, в отличие от радостей иного происхождения, носят имя, им отчасти не свойственное. Проистекая действительно от прекращения страданий, они, тем не менее, составляют положительное благо и ощущение вовсе не безразличное, но весьма приятное, потому именно, что оно следует за ощущением отвратительным и невыносимым.
Наслаждение, как уже было говорено выше, состоит из усугубившегося или, скорее, усовершенствовавшегося ощущения, не способного длиться долго; вот почему невозможно вообразить себе его образно, в виде прямой линии. Большее или меньшее его значение изменяется по случайному или временному состоянию физиологической чувствительности ощущающего.
Глава XIII. О сложных и патологических наслаждениях, вызываемых чувством собственности
Между различными сложными формами наслаждений, вызываемых чувством собственности, наиболее распространенным является удовольствие собирать. Стремление это, постоянно усиливаясь, может обратиться наконец в настоящую страсть, местонахождением которой, по мнению френологов, служит орган, близкий к жизненному Центру.
У некоторых животных мы тоже встречаем чувство собственности и стремление к собиранию как бы в форме ненормально развитого инстинкта, удовлетворение которого, видимо, доставляет им удовольствие. Многие из них, как, например, сороки, собирают и прячут различные предметы, которые не могут служить им пищей и вообще быть полезными. Почти то же мы видим у некоторых людей, у которых страсть к собиранию принимает едва ли не столь же неосмысленную форму, как и у сороки. Они собирают на своих столах, полках и в ящиках всевозможные предметы и, постоянно озабоченные их приобретением, не преследуют при этом никакой определенной цели. Инстинкт, о котором мы говорим, не составляет, однако, достояния лишь ограниченных умов: многие люди, выдающиеся по своему развитию, одержимы этой страстью, хотя и смеются над ней от всего сердца. Стремление к собиранию зарождается в человеке с первых дней его детства и коренится, несомненно, в самой природе вещей. Я, например, уже в самую раннюю пору моей жизни начал составлять с большим увлечением коллекцию красивых камушков нашего двора, хотя не имел еще никакого понятия о минералогии. Позднее я принялся наполнять целые ящики различными насекомыми, не будучи энтомологом; затем дошла очередь до растений, которые я сушил между страницами своих учебников. Возмужав, я стал собирать коллекцию старых монет, раковин и химических веществ. В настоящее время я сделался библиоманом и надеюсь остаться им еще долгие годы. Не скрою также, что несколько лет тому назад, я был настолько легкомысленен, что собирал бобы различных цветов и находил большое удовольствие в пересматривании своей коллекции.
Когда стремление к коллекционированию обратилось уже в настоящую страсть, то природа собираемых предметов влияет лишь косвенно на удовольствие, доставляемое соединением отдельных единиц в целую серию. Величайшее наслаждение заключается в этом случае в самом процессе собирания, удовлетворяющем известную психическую потребность. В некоторых случаях коллекционер-фанатик, заключенный даже в тюрьму, найдет средство удовлетворить свою страсть, собирая крошки хлеба, паутину, песчинки, попадающиеся в пище, кости и т. д. Нужно прибавить к тому же, что самое удовольствие коллекционирования почти всегда осложняется той наклонностью, которая невольно рождается в нас к предметам наших исследований и научных занятий. Такого рода наслаждения испытывают ботаники, минералоги, нумизматы, библиофилы и множество самых неутомимых исследователей-специалистов.
Удовольствие коллекционирования зарождается при отыскивании первого предмета, долженствующего послужить основной единицей коллекции и приобретение его есть, вместе с тем и первая радость его начинающейся страсти. Первая монета, положенная в шкатулку, дает жизнь нумизматической коллекции, точно так же, как первая книга, одиноко стоящая в обширном библиотечном шкафу, с нетерпением ожидает своих собратьев. Поэтому удовольствие собирания коллекции заключается главным образом в самой перспективе, которую рисует себе любитель, и ограничивается, собственно говоря, почти одними надеждами. Специфическое наслаждение коллекционера начинается, однако не ранее, как с того момента, когда к основной единице его коллекции присоединится следующая. С этого момента каждый новый предмет, обогащающий коллекцию, заставляет его сердце вздрагивать от радости, и он с возрастающей нежностью обходит взглядом первый предмет и длинный ряд его сотоварищей. Мало-помалу ряд этот все растет и растет и ставит, наконец, коллекционера в приятную необходимость классифицировать, занумеровывать, составлять каталоги и приобретать шкатулки и ящики для своих сокровищ. Целый мир наслаждений переживается им в эти минуты: долго рассматривает он какой-нибудь новый предмет своей коллекции, чистит и охраняет его и, наконец, налюбовавшись вдоволь, с улыбкою невыразимого блаженства он кладет его на место, выбранное после долгих размышлений. Пусть обожаемые им предметы состоят из раковин, сухих трав, насекомых или даже различных сортов паутины – все же не станем смеяться над ним: человек этот поистине счастлив и заслуживает уважения. Вдали от мирского шума он собрал в своей коллекции драгоценные плоды долгих поисков; он видит перед собою музей дорогих его сердцу воспоминаний и пережитых радостей. Раковина, которую он почтительно держит в руках, – великодушный подарок друга; паук, которого он рассматривает с таким восторгом, послужил ему предметом научной монографии, получившей академическую премию; этот засохший цветок гербария был сорван им в продолжение длинного путешествия по горам и невольно напоминает ему о приятных часах, проведенных в это время вместе со старым товарищем, которого уже нет в живых. Все его ученые занятия как бы воплотились в этих коллекциях, каждый предмет которых для него – друг, говорящий таинственным и ему одному понятным языком. Сколько раз терпеливый коллекционер, огорченный житейскими невзгодами, позабывает все свои горести и разглаживает морщины на своем лице, показывая новому посетителю свои заветные сокровища; с наивной болтливостью рассказывает он ему бесконечные истории своей коллекции, посвящая гостя в тайны невинных хитростей и неутомимых поисков, доставивших ему редкую монету или ученый манускрипт. Как часто в минуту горького разочарования, очутившись в кругу любимых им предметов, он рассеянно открывал одну из своих шкатулок, и что же – один взгляд на какую-нибудь вещицу воскрешал в его памяти давно забытые радости и утехи. На лице его снова появлялась улыбка, и он начинал наслаждаться будущим, думая о доведении до конца своей коллекции, составляющей цель его стремлений, мечту всей его жизни. Итак, повторяю еще раз: будем уважать этого человека, так как он ищет наслаждения в невинных радостях. Что же касается самой сущности испытываемого коллекционером удовольствия, то я, так самоуверенно присвоивший себе право описания всех человеческих радостей, должен отнести этот род наслаждений к разряду чисто физиологических.
Нужно заметить, что многие предметы собираются, однако, людьми вполне свободными от неутомимой страсти к коллекционированию. Немало богачей наполняют свои дома всевозможными вещицами и безделушками, делая их похожими на настоящие магазины. В оранжереях этих господ мы видим целые леса самых причудливых и безобразных растений, привезенных из Австралии и Китая и попавших оттуда к ним в палаты или вследствие своей редкости, или по совету садовника, убедившего хозяина, что без этой причуды нельзя обойтись в его высоком общественном положении. Удовлетворение подобных мелких прихотей способствует, впрочем, развитию промышленности и торговли и не причиняет никому вреда. Собственно же патология страсти к собиранию главным образом обнимает собой предметы одной категории, процесс накопления которых далеко не так невинен и навлекает на страстного любителя порицание общественного мнения, создавшего для него нарицательное имя скупца.
Собирание монет может быть вполне безупречно, когда коллекционер видит в них лишь историческую ценность. Наоборот, скупец отдает предпочтение монетам современных образцов и оценивает моральное значение того, что им собрано исключительно по последнему биржевому курсу. Он неравнодушен к империалам, всегда предпочитает золото серебру и скрывает собрание своих монет от глаз дилетантов, резко отличаясь в этом отношении от всех истинных коллекционеров. Впрочем, в этом отношении он поступает довольно благоразумно, так как ни одна отрасль коллекционирования не имеет такой массы дилетантов. Можно даже сказать, что предметы, им собираемые, составляют как бы всеобщую специальность, и каждый далеко не равнодушно относится к коллекции чеканного золота и серебра, состоящей из красивых пиастров, империалов и испанских дублонов. Вся разница заключается только в том, что скупец любит видеть деньги в положении покоя и потому «арестовывает» их в своих крепких сундуках; другие же, наоборот, любят пускать их в обращение и наблюдать за удивительными оптическими обманами, производимыми золотом в моральном мире на пути своего быстрого и блестящего течения. Да и, действительно, каких только причудливых и волшебных видений не порождает золото! Сначала на отдаленном горизонте наших надежд появляется как бы блестящая точка и медленно колышется в туманной дали. Призываемая нашим восторженным поклонением, она начинает понемногу приближаться. Все ярче и ярче блестит эта звезда и, появившись наконец перед глазами, обдает нас целым морем света. Тогда, ослепленные яркими лучами, мы бросаемся вперед, на свет, как люди, лишенные зрения; мы запускаем жадные руки в лучезарную массу и разбрасываем вокруг целые мириады блестящих искр. Придя наконец в себя от волшебного сна, мы хотим завладеть этим заманчивым источником света, но уже поздно: звезда медленно удаляется от нас и, постепенно ослабляя силу своих лучей, становится снова светящейся точкой на окраине горизонта. Оттуда, как полярная звезда, никогда не покидающая небосклона, будет она лить свой свет, указывая путь людям, не сумевшим найти себе лучшего компаса. Моральная жизнь золота, как и жизнь одного дуката в нашем кармане, может быть выражена во всей своей сложности в подобной фантастической картине. Мания к обладанию, сначала едва зародившаяся и нерешительная, постепенно крепнет, развивается и достигает громадных, гигантских размеров. Мы едва на мгновение любовно касаемся этого золота, и оно снова бежит от нас в другие, жадно ждущие его карманы, чтобы, в свою очередь, улизнуть и оттуда.
Только один скупец любит останавливать течение этого наиболее непостоянного и подвижного элемента и мешает ему продолжать те оптические обманы, которые уже многим успели вскружить голову. Представление, которое он составляет себе о золоте, нельзя назвать ни фальшивым, ни преувеличенным; охваченный страстью к обладанию, он стремится воспрепятствовать его передвижению, посадить дикого зверя в клетку. Для него монета – живое существо; он ведет с ней долгие и таинственные беседы, он любит ее нежно и страстно, как друга, как возлюбленную, и поклоняется ей как божеству силы и мощи.
Моралисты и поэты всех времен и национальностей находили в скупости богатый источник для своего вдохновения. Источник этот и до сих пор еще далеко не иссяк, так как скупость, достигая высших своих пределов, разрушает все моральные и интеллектуальные стороны человеческой природы и представляет философу материал для самого тонкого анализа, а поэту – наиболее причудливые и оригинальные фразы. Скупец, достигнув высших пределов своей страсти, доволен, что нашел божество, которому может слепо поклоняться; он счастлив, что среди ледяного холода своих желаний ему удалось найти еще одно живое, не окоченевшее чувство, которое он, как дорогое растение, будет воспитывать и лелеять, и испытывает блаженство, ощутив в себе присутствие страсти, способной возбудить в нем волнения юношеских восторгов.
В пылу своего увлечения он считает легкой всякую жертву в честь своего божества, и если бы нашелся старьевщик, пожелавший приобрести его обветшавшее и износившееся сердце, то он с удовольствием продал бы его за копейку, чтобы прибавить хоть что-нибудь к своим заветным сокровищам.
Я не буду касаться никаких частностей, чтобы не затрагивать снова тех вопросов, о которых мне уже приходилось говорить, и ограничусь лишь изображением в самых общих чертах природы болезненных наслаждений, порождаемых скупостью.
Скупец всегда стар, и если мы и встречаем иногда человека, одержимого этой ношей, еще с не поседевшей головой и свежим лицом, то это явление исключительное, нимало не нарушающее общего правила. Прежде чем предаться этой страсти, человек уже много перевидал и видел, как одна за другой скрылись звезды, освещавшие его лучшие годы, оставив на темном горизонте жизни лишь слабый светоч, сулящий ему те бесцветные радости, которыми он не хочет удовлетвориться. Тогда он становится скупцом и, собрав разрозненные обломки своего нравственного мира, воссоздает из них пьедестал для нового божества, вызванного им из его мрачного царства. Кумир, которому он поклоняется, хладен и бездушен, и лишь слабый отблеск огня, еще тлеющего в жалком нравственном мире, послужившем ему основанием, оживляет его мертвенные черты. Скупость – это стремление к стяжанию, достигшее состояния болезненного бреда, постоянно поддерживаемого новыми жертвами и горячим пылом страсти; это труп, одетый в пурпур и отогретый у пламени очага. Мания эта соединяет в себе ожесточенное упорство старости, не выпускающей из своих костлявых пальцев то, что раз в них попало, с пылом страсти и с жаром юношеских желаний. Ее можно уподобить звезде, освещающей остаток жизни, которая блестит тем сильнее, чем ближе она к закату. Человек, перевидав в течение жизни столько звезд на своем небосклоне, поддавшись этой мании, уже не видит ничего более, как только одно одинокое светило, и, держась до тех пор в своих наслаждениях культа политеизма, становится вдруг ярым делисом.
Страстью к стяжанию заражаются в большинстве случаев больше мужчины, чем женщины. Я не могу сказать утвердительно, было ли в древности число скупцов больше, чем в настоящее время. Торговые ремесла сильно предрасполагают к этому недугу, и пристрастие к золоту, в котором справедливо обвиняют евреев, может быть легко объяснено тем, что национальность эта в течение уже долгих веков занимается исключительно куплей и продажей. Конечно, жизнь дает много блестящих исключений из этого правила, которые способны даже внушить совершенно обратный взгляд на этот вопрос.
Влияние этой страсти на человека в высшей степени пагубно, и самые благородные чувства погибают в полярном климате, где свободно развивается скупость – это самое северное из известных нам растений моральной флоры, за исключением разве эгоизма, ее достойного собрата.
Лицо скупца почти всегда спокойно и только изредка промелькнет на нем холодная улыбка, или резкий смех искривит его холодные черты. Вся мимика подобного маньяка ограничивается почти исключительно игрой глаз, наслаждающихся блеском золота, и дрожанием рук, осторожно прикасающихся к драгоценному металлу.
Глава XIV. О патологическом наслаждении, проистекающем от ошибочного употребления в моральной грамматике притяжательных местоимений
Человек, совершающий подлог нравственного договора, заменяя словом «мой» все другие притяжательные местоимения, называется вором. Оскорбление, нанесенное чувству собственности в лице законного владельца, невольно ощущается и всеми членами общества, которое обвиняет похитителя в преступлении.
Когда воровство совершается с одной корыстной целью то похитителю, вынесшему всю тяжесть борьбы с чувством долга и с другими, более или менее многочисленными ощущениями, сама победа зла над добром уже не доставляет ни малейшего самоудовлетворения. В этом случае неприятное ощущение насилия, произведенного над собственными благородными чувствами, не только уравновешивает, но даже превосходит самое удовольствие незаконного завладевают и порождает в похитителе равнодушие или сожаление. Только у вора, прошедшего длинный путь порока, навык к преступлению почти заглушает внутренний голос добра и он достигает возможности наслаждаться похищением чужой собственности, чудовищно извращая, таким образом, основное понятие права, вошедшее в кодекс даже самых нецивилизованных народов.
Но в некоторых редких исключениях, вор начинает даже с первых шагов своей деятельности испытывать наслаждение. В этом случае он действует под влиянием патологической потребности, которая явилась последствием примитивного болезненного чувства, в нем зародившегося и требующего для себя простора и жизни. Под влиянием этой ненормальности своей нравственной природы человек еще с первых дней детства начинает таскать игрушки своих братьев, книги товарищей и т. д. Застигнутый на месте преступления, такой субъект испытывает страх, но не раскаивается и, сделавшись ловчее, с большей осторожностью предается своей мании. Но так как и вор по инстинкту должен постоянно бороться с чувством добра, существующим в каждом человеке, хотя бы даже в зачатке, то он начинает обыкновенно с кражи предметов самой ничтожной стоимости, чтобы по возможности довести до минимума угрызения своей совести. Позднее он становится менее разборчивым в способах удовлетворения своей преступной страсти и таскает съестные припасы, книги, различную утварь, предметы роскоши; словом, ворует с большим удовольствием все, что только попадется под руку. Пройдя, таким образом, школу воровства, он невольно останавливается перед кражей денег как единственного предмета, к которому его чувство собственности еще сохранило какое-то инстинктивное уважение. Может показаться, что право собственности более священно по отношению к самой мелкой монете, чем к драгоценнейшему предмету, так как для перехода от вещей к деньгам от новичка-вора требуется много опытности и смелости в борьбе с угрызениями своей совести, которая становится в этом случае гораздо более несговорчивой, чем при первых опытах его профессии. До какой степени этот переход затруднителен, можно судить уже по одному тому, что многие люди, родившиеся с настоящим воровским инстинктом, не могут просто утащить чужую копейку, но спокойно крадут предметы всех остальных категорий. К сожалению, однако, эта преграда ненадолго задерживает большинство из людей, предавшихся последнему пороку, и, раз перешагнув через нее, они обыкновенно неудержимо стремятся по избранному пути и погибают благодаря близорукости судов и своей гениальности в изобретении замочных отмычек.
Элементарное наслаждение, доставляемое каждым воровством, совершенным под влиянием инстинкта, заключается в противозаконном удовлетворении стремления к стяжанию и стремления к захвату с помощью ловкости предмета запертого и охраняемого. Собственно же главнейшая часть удовольствия, испытываемого вором, состоит в злорадном наслаждении успехом, достигнутым в низком деле, и в том, чтобы провести врага, бдительно охраняющего свое добро. Поэтому наслаждение это тем сильнее, чем труднее была кража и чем выдержаннее и скрытее был маневр, пущенный в ход любителями чужой собственности. Вор-артист доволен только тогда, когда ему удастся среди белого дня на глазах толпы с ловкостью фокусника незаметно вытащить какой-либо предмет из кармана соседа и, совершив свой подвиг, самодовольно взглянуть вслед спокойно удаляющейся жертвы, ни мало не подозревающей о нарушении ее прав собственности.
Простая форма наслаждения, пример которой мы только что привели, может служить прототипом для более сложных форм, испытываемых вором под влиянием чувства самолюбия, любви к борьбе или жажды крови.
Теоретическая мания к воровству может, как всем известно, совмещаться с самыми благородными чувствами до тех пор, пока она не перешла на практическую почву. Я знаю одного юного медика, который с большим удовольствием таскает из карманов своих друзей носовые платки, записные книжки и т. д. и от всей души хохочет, когда, насладившись вдоволь недоумением своих жертв, он возвращает похищенные у них предметы. Эта мания, конечно, не мешает ему быть одним из прекраснейших людей, которых я когда-либо знал.
Страсть к воровству, к счастью, представляет спорадическую болезнь, не имеющую в себе ничего заразительного; недуг этот появляется то там, то здесь среди обоих полов во всех странах света, не следуя в этом отношении никаким законам и правилам. Цивилизация, так или иначе, может влиять на число воров по профессии, но статистика дилетантов этого искусства всегда останется вполне независимой от нее. Эти враги собственности – «художники» – появляются среди нас как гении и, развиваясь самобытно, иногда достигают в своем искусстве весьма опасной степени совершенства.
Когда присутствие посторонних его не стесняет, вор часто смеется, от души вспоминая свои подвиги, ухмыляется и самодовольно потирает руки; впрочем, физиономия такого субъекта почти всегда сохраняет при этом известный отпечаток злорадства, доказывающий болезненность самой мании. Часто карманник передразнивает и насмехается над обокраденной им жертвой, стараясь представить себе в забавном свете свою проделку, которая, оскорбляя добрые чувства человека, должна бы заставить страдать неразвращенного субъекта.
Глава XV. Привязанность к вещам
Привязанность к вещам есть чувство первого лица, по своему характеру родственное и сближающее его с чувством «ты». Поэтому подобная привязанность представляет собой как бы естественную ступень, ведущую от эгоизма к расположению и сочувствию. Мы одни лишь действуем в этом чувстве активно, становясь неравнодушными к изображению, служащему отсветом нашей собственной жизни.
Наша любовь к неодушевленным предметам всегда порождается их моральным значением. Предмет в высшей степени интересный по своим физическим свойствам, может поражать наши чувства, но мы не полюбим его до тех пор, пока он не возбудит в нас симпатию. Мы можем испытывать большое удовольствие, осматривая богатейшие коллекции чужих или своих собственных музеев, не чувствуя при этом однако никакой привязанности к картинам и минералам, которыми мы любовались с таким наслаждением. В этом случае мы или испытываем только желание сделаться собственниками какой-нибудь вещи, или уже наслаждаемся ее обладанием; и в том, и в другом случае мы расположены к привязанности, но еще не любим предмет, и удовольствие, нами испытываемое, порождается лишь чувством собственности.
Наслаждения, проистекающие из этого чувства и из привязанности к вещам, весьма схожи, но далеко не тожественны, в чем мы легко можем убедиться, сделав даже поверхностное наблюдение над своими собственными ощущениями. Достаточно, например, сравнить удовольствие, которое испытываем мы, любуясь только что подаренным золотом, с удовольствием иметь перед глазами мелкую монету, принадлежащую дорогому для нас существу. В первом случае степень удовольствия измеряется одной ценностью монеты, во втором же предмет имеет исключительно моральное значение, и жалкая копейка становится сокровищем, когда она способна вызвать в нашем сердце образ любимого лица.
Привязанность к вещам никогда не бывает непосредственным чувством: ее специфический характер проистекает от способа, которым вызывается в нас это чувство. Каждый предмет представляет из себя как бы зеркало, отражающее самые разнообразные образы. Всего чаще, рассматривая какой-нибудь предмет, мы останавливаем свое внимание не на его физических качествах, но на тех моральных образах, которые он невольно в нас вызывает. Иногда, однако, мы останавливаем свои мысли между предметом и чувством, в нем отразившемся, и, блуждая умственным взором между границами миров, идеального и материального, наслаждаемся тем смешанным и неопределенным ощущением, о котором нам уже пришлось сказать несколько слов в главе об удовольствиях, порождаемых зрением.
Одной из самых простых причин нашей привязанности к предметам служит их многолетнее нахождение перед нашими глазами или в нашем соседстве. В этом случае предмет невольно является памятником прошлого, так как наши радости, горести и слава, имея его своим постоянным свидетелем, как бы запечатлели в нем наш собственный образ. Такого рода привязанность мы чувствуем к нашему дому, креслу, столу и ко всем неразлучным товарищам нашей жизни. Внутренние ощущения, порождаемые этой привязанностью, настолько слабы и безмятежны, что часто остаются нами почти незамеченными. Радость, ими доставляемая, носит на себе характер отрицательный, так как мы начинаем испытывать ее лишь после того, как долгая привычка к невзгодам заставит человека искать источник утешения даже в этих мелких ощущениях. Таким образом, мы в продолжение многих лет можем постоянно сидеть в одном и том же кресле, не видя в нем ничего, кроме дерева, набивки и материи. Но стоит нам в результате какого-нибудь случая его лишиться, как внезапно в нас проявится горячая привязанность к нему и мы, почти со слезами на глазах, будем припоминать моральную историю этого бедного изодранного кресла. Если нам удастся возвратить его, то этот неодушевленный предмет как бы оживляется в наших глазах; с какой любовью мы снова ставим его на старое место, садимся в него и, самодовольно поглаживая его рукою, принимаемся за свои старые думы. С этой минуты кресло становится нашим другом, к которому мы привязываемся тем сильнее, чем больше о нем думаем. Кажется, чем большее число раз отражаются в нашем сердце проблески расположения, тем самые предметы, их вызывающие, становятся нам дороже, и наша привязанность к ним возрастает. Действительно, между тем, как один предмет, находясь в течение многих лет у нас на глазах и ни разу не вызвав в нашем воображении морального образа, остается нам вполне чуждым; другой, наоборот, в какой-нибудь час способен возбудить в нас самую горячую привязанность и сохранить ее на долгие годы.
Кажется, что все предметы способны воспринимать на своей внешности почти фотографически верный отпечаток каждого чувства. Смотря на эти изображения с известной точки зрения, мы можем читать повести нашей душевной жизни. Для многих язык этих изображений остается совершенно непонятен, и они не умеют разобрать целую историю радостей и горестей, отчетливо начертанную и на старом кресле, и на увядших цветах засохшего букета. Это неумение пользоваться окружающими нас предметами для воспроизведения в своей памяти истории пережитой жизни нельзя считать доказательством притупленности чувств. Мы встречаем многих великодушных людей, посвятивших себя на пользу ближних, которые не любят окружающие их предметы; между тем эгоисты, невозмутимо проходящие мимо человеческих страданий, чтобы только не вынуть рук из теплых карманов, не знают пределов в выражении своей привязанности к какому-нибудь жалкому стулу или столу и готовы обнимать их от избытка чувств.
Для того, чтобы предмет мог сохранить на себе отпечаток чувства, нужно или чтобы само моральное явление отличалось большой живостью, или чтобы оно отразилось в нем значительное число раз. Таким образом, стоит только какой-нибудь вишневой косточке хотя бы раз побывать во рту нашей возлюбленной, и она уже получает способность вызывать в нашем воображении дорогой нам образ; между тем бледная картина наших ежедневных занятий должна тысячи и тысячи раз отразиться в нашем кресле, прежде чем на нем запечатлеется моральный облик, который уже более не изгладится. В первом случае живость самого морального явления вознаграждает недостаток во времени.
Из всей домашней утвари постель должна бы наиболее всего носить на себе отпечаток жизни ее собственника: здесь рождается человек и умирает; здесь передается потомству наследие жизни, здесь люди и страдают, и наслаждаются, здесь они и любят и предаются размышлениям; здесь человек проводит, во всяком случае, не менее трети жизни… И что ж? Постель в действительности составляет один из наиболее прозаических из предметов всей домашней обстановки нашей. Тайна этого вполне достоверного факта объясняется весьма легко: лежа в постели, мы всего менее упражняем внимание, и жизнь наша в продолжение сна похожа на временное замирание нашего сознания, вспыхивающего лишь временами и столь же мгновенно угасающего среди непробудной тьмы сна и сновидений. Кроме того, ложе наше изменяется беспрерывно по форме и составу своему, так как более мягкие его покровы теряют во время стирки отпечаток вашей нравственной особы. Как изображение предмета рисуется тончайшим слоем на пластинке фотографа, так и нравственный образ чувства, налагаясь на неодушевленное, едва задевает одну линию его поверхности; достаточно бывает слоя лака или легкой окраски, чтобы уничтожить на памятниках как народностей, так и отдельных лиц следы начертанной на них повести, читаемой сердцем людей. Один лишь ум может проникнуть тогда острым взором сквозь грубейшие наслоения и все-таки прочесть нравственное сказание в самой глуби составных частиц предмета. И вот, смотря на ложе наше, мы холодно вспоминаем все связанное с ним, все былое жизни, перебирая его в памяти без трепета и умиления; сердце наше, как уже сказано, затрагивается лишь тем легчайшем слоем, который налагают чувства на предметы близкого употребления. Лакировщик и прачка – враги этой летучей фотографии сердца; святотатственной оказывается рука, которая дерзнула бы белить или раскрашивать почерневший от времени памятник былого, как и рука, которая напомадила бы локон, сокрытый в медальоне в продолжение многих лет.
Мы бываем привязаны к предметам еще иным путем; созерцаем в них отражение дорогих нам личностей и сохраняем их ради связанных с ними воспоминаний. Локон волос, письмо, засохший цветок вызывают вновь давно забытый трепет любви; осколок же мрамора или гранита возбуждает горячее чувство удивления к памяти героя. Вместе с нравственным обликом восстают в памяти и сами черты дорогих сердцу личностей – словом, все чувства общительности.
След страданий, запечатлевшийся тем или иным образом на предметах, придает им тоже немалую цену в наших глазах, доставляя особенного рода наслаждение. Горсть земли, взятая с кладбища, где почивает мать, становится иной раз святыней; иногда платок, смоченный кровью убитого, делается предметом чуть ли не страстного поклонения и любви.
Таким же путем и умственная часть нашего бытия налагает фотографическое изображение свое на близкие нам предметы, согревая их притом всегда лучом сердечного чувства. Ученый бывает страстно привязан к своим книгам; нумизмат рассматривает не без восторга свою коллекцию монет; малаколог не расстанется без сердечного разрыва с собранными им раковинами моллюсков; но холодный отпечаток ума всегда усложняется, притом более теплым чувством любви к науке – чувством, принадлежащим уже к области сердца.
Предаваясь подобным наслаждениям, человек становится расположенным к анализу своего внутреннего мира и к спокойным наслаждениям чувствами сладостными и нежными. Злоупотребления же привязанности ко всему вещественному приводят к развитию себялюбия.
Патологическая область этих наслаждений начинается, следовательно, с той минуты, когда человек начинает чрезмерно предаваться им. Обычный эгоист, не сумевший развить в себе ничего духовного, прилепляется сердцем к тем безжизненным предметам, которые всегда верно и слепо напоминают ему отражение его собственной персоны, не имея возможности ни изменить ему, ни удалиться от него, хотя бы на мгновение, без собственной его на то воли, а главное, не требуя от него ни тени самопожертвования. Вещественные предметы покладисты и он позволяет себе любить их восторженно, не боясь того, что так страшно всякому эгоисту, – обязанности выразить на деле свою привязанность. Старики, всегда склонные к проявлениям эгоизма, начинают иногда предпочитать окружающие их вещи более или менее близким им людям. Когда приязнь к вещественному начинает наводить нас, таким образом, на мысли, не лишенные преступности, мы вступаем уже в область патологических чувствований.
Выражение приязни к вещам и наслаждение, ей внушаемое, соответствуют свойству тех предметов, которыми они возбуждены в нас и потому они изливаются то признаками удивления на лице, то слезами умиления, то ласками, относящимися к связанным с ними воспоминаниям.
Глава XVI. О наслаждениях, происходящих от любви к животным
Предметы неодушевленные не в силах дать нам ничего, кроме вложенных в них впечатлений наших же чувств ума и сердца, материализованных и обусловленных пластической природой самих вещей. Когда же нашим взорам подлежат существа, полные жизни, когда луч от них на нас отраженный, доходит до нас более теплым и более очевидным образом, тогда мы ощущаем удовлетворение наипростейшего чувства общественности – чувства, в котором большая доля принадлежит первому лицу, т. е. собственной нашей личности. Существа, наиболее отдаленные от нас по природе своей, как, например, моллюски, пресмыкающиеся и насекомые, интересуют нас все же более предметов неодушевленных. Мы, положим, и направим на них часть сердечной теплоты своей, но они не в состоянии принять ее, и чувство возвращается к нам застывшим, едва согретым соприкосновением своим к существу, одаренному жизнью. Мы в действительности можем повлиять нравственно и на животных низшего разряда посредством наводимого на них страха, но, становясь в такие отношения к одушевленному существу, мы не можем ожидать, чтобы излившийся из нас эффект возвратился бы к нам обратно усложненным чем-либо или возвышенным. В некоторых исключительных случаях человек будто бы страстно привязывался к муравью, рыбе или таракану, но в обстоятельствах, которые выказывали, что эффект его немногим отличался от прилепления к неодушевленным предметам.
Животное не в силах привязаться к нам, ежели в нем не находится никакого сродства с нашим естеством, хотя бы оно состояло только в общности горячей крови. Тогда только направление взоров наших начинает встречаться с направлением глаз животного, и луч, нисшедший из сердца нашего и обратившийся на него, может возвратиться к нам, усложненный прибавкой к нему чуждого нам элемента. Когда ласкаемая нами канарейка еще не различает нашего голоса и не выражает еще нам никакой любви, мы все-таки уже радуемся сочувственным движениям живого существа и наслаждаемся им. Когда же впоследствии животное начинает отличать наш голос от других звуков и взглядывать на нас, поворачивая к нам головку, мы чувствуем, что мы поняты, и ощущаем действительно чувство взаимного сочувствия со вторым лицом. При этом акте сочувствия мы все еще остаемся наиболее деятельным лицом, но уже и та крошечная доля участия, которую принимает живое существо в чувстве нашем, придает ему характер общественности, резко отличающийся от холодных наслаждений нашего одинокого «Я», более теплые радости, сопровождающие слово «мы», хотя бы это было бы с птичкой. Обоюдные чувства приязни мало-помалу усложняют друг друга, наслаждение все растет и наконец превращается, в общении с домашними животными в действительное чувство любви. И вот собака, признавая наши заботы, лижет нам с благодарностью руки, вскакивает нам на колени и выказывает всевозможным образом свое наслаждение нашим присутствием; а лошадь ржет от радости, заслышав издали наш голос. При этом обмене взаимных ласк не следует ожидать равновесия обоюдных чувств или полного возврата благодарности со стороны животного; в большинстве случаев приходится довольствоваться драхмой возвратного чувства за потоки излитого нами на животное признания, но люди бывают счастливы и тем, что нашли употребление избытку собственного аффекта. Поэтому мы умеем любить и канарейку, зная притом очень хорошо, что восторженная песнь, которой она приветствует наше появление, относится, в сущности, вовсе не к нам, а к тому лакомству, которое птичка привыкла получать из рук наших. Мы дружески ласкаем и журавля, который готов улететь завтра и оставить дом наш, когда он перестает быть приятным для него жилищем. Во всяком случае, приязнь наша возрастает и убавляется по мере выражаемого нами сочувствия животным и по обилию той любви с их стороны, которая в редких случаях превосходит и нашу привязанность к животным, и тогда мы остаемся в долгу у собственного пса или коня своего.
Главное наслаждение, служащее основанием всем радостям, доставляемым нам сближением нашим с животными, состоит в сочувствии, связующем между собой все существа, одаренные жизнью; в этом – простейшее выражение чувства общественности (ежели только это слово не профанируется в применении его к собаке или к журавлю, назвав их вторым лицом). Из-за недостатка другой взаимности люди разговаривают иной раз с птицами, с собакой своей или лошадью, изливая перед ними свои горести и радости своей жизни, как солдат на войне рассматривает за неимением зеркала лицо свое в ведре воды. Нам необходимо бывает видеть в чем-либо отражение нравственной и интеллектуальной личности своей, и вот, заключенные в тюрьме, мы беседуем хотя бы с крысой; свободные же и счастливые, мы изливаем привязанность свою в душу обожающей нас женщины.
Любовь к животным выражается людьми и в положительном, и в отрицательном смысле. Так, одна и та же птичка может доставить нам двоякое наслаждение; мы можем ласкать первую пойманную нами птицу и гладить ее в руке нашей, заключая ее в тюрьму, окруженную заботами и любовью, и, напротив того, мы можем наслаждаться, высвобождая ее из когтей коршуна.
Любовь к животным – чувство весьма слабое, и мы легко жертвуем привязанностями подобного рода более высоким интересам жизни. Чувство это вовсе не мешает нам самим быть и плотоядными животными, и губить миллионы шелковичных червей для роскошного шелкового платья. В некоторых случаях, однако, любовь к животным может возрасти до страстности. Кто не знавал человека, привязанного к собаке? Кто не видал страстного любителя птиц? Эта охота доставляет многим главную утеху жизни.
Эти наслаждения бывают доступны всем возрастам и людям обоего пола и всех стран, но не все одинаково способны предаваться им. Многие из нас не испытали в продолжение жизни ни малейшего пристрастия к собаке, как бы она ни была развита, умна и расположена к привязанности, а между тем подобные люди оказываются вовсе не лишены сочувствия к страданиям себе подобных. Но люди эти считают только человека сродным себе существом и вне собственной породы своей не способны видеть ничего, кроме пригодных для пищи быков, дичи, ими убиваемой, легко разводимых червей и всяких животных. Женщина же, наоборот, простирает пределы любимого ей мира до крайних пределов животного царства, мы часто можем видеть, как она высвобождает мошку из сетей паука и переносит ее в более безопасное место. В это время она вся трепещет от чувства оказанной защиты слабым и угнетенным, полюбив мгновенно крошечное бытие, бьющееся в ее руке, и, следя глазами за полетом бедной мушки, она посылает ей вслед эманацию теплейших пожеланий. Как часто насекомое, утопающее в ручье, заставляет женское сердце трепетать действительным чувством ужаса, и для женщины бывает истинным наслаждением забота о его спасении; старик вообще легче привязывается к животному, чем юноша, весь еще преданный отыскиванию взаимности у людей.
Бывает ли пристрастие к животным признаком сердечной доброты или эгоизма? Вот один из вопросов, часто возникающих у нас.
Некоторые горячо придерживаются того мнения, что человек, восторженно любящий свою собаку, выказывает тем чувствительность и привязчивость своей души; другие же, наоборот, с ужасом вспоминая о жестокой и сварливой старухе, страстно привязанной к скворцу своему или канарейке, утверждают положительно, что любовь к животным бывает признаком полнейшего эгоизма.
Анализируя это чувство, можно усмотреть степень эгоизма, которая, как неизбежная тень, сопровождает лучшие движения нашего сердца. Охотник до птиц, любящий доставляемое ими удовольствие, запирает их в клетку, женщина же, одаренная более нежным чувством любви, нередко выпускает их на свободу.
Наслаждения эти никогда почти не бывают простыми радостями; к ним всегда присоединяются удовольствия поимки, обладания и все прочие разнообразные формы удовлетворения самолюбия.
Птицы, полные движения и горячих порывов, глубоко заинтересовывают наше внимание, и любовь к ним бывает похожа на любовь к младенцу. Как часто, видя прыгающего у ног наших воробушка, мы спешим ему вослед, как бы желая разгадать жизнь, скрывающуюся в этом крошечном, горячем тельце, и приобщить себя, так или иначе, к внутреннему бытию этого маленького существа.
Приязнь наша к более крупным млекопитающим изменяется по личному характеру животного, так как здесь развитие интеллигенции обрисовывает уже нравственную индивидуальность каждого. Аффект, влекущий нас к общению с ними, менее жив в своих внезапных проявлениях, но более страстен, чем пристрастие наше к птицам. Интересует нас в них, уже не красота внешности или грация приемов и движении, сколько интеллигентное общение, отвечающее нашей о них заботливости. Безобразнейшая дворняжка может иной раз возбудить более живую приязнь к себе, чем красивейшая из глупых английских собачонок.
Привязанность к животным может быть усложнена теми же самыми элементами, которыми привлекают нас к себе и неодушевленные предметы. Так, некоторые увлекаются уходом за канарейками потому только, что одна из них увеселяла своими песенками болезненность его раннего детства, и вид этих птичек приводит ему на память и мать, и отцовский дом. Другой не может без удовольствия видеть ворону, так как ему пришлось принести сотни ей подобных на алтарь физиологических опытов и наблюдений. Третий не может завидеть петуха без некоего прилива сердечной благодарности, так как тот случайно разбудил его в то самое мгновение, когда он спал и его хотели ограбить. Один мой знакомый, наконец, всегда приветствовал вид шелкового кокона особенным блеском взгляда и умилением сердца, так как этому драгоценному китайскому переселенцу он был обязан всем богатством своего дома.
Причина, разделяющая привязанности к животным на два столь противоположных стана защитников и врагов, состоит в том, что оба стана смешивают две разновидности этого чувства. Люди с нежными и великодушными чувствами могут любить и животных, но оставляют при этом лучшую долю своей любви братьям по естеству; к дальним сродникам своим из животного мира они ощущают только чувство любовного покровительства, и вот эти-то люди в особенности любят защищать животных от наносимых им обид и притеснений. Другие, напротив того, став эгоистами по преклонности лет или по своей природе, избегая тех сердечных привязанностей, за которыми может последовать нестерпимая для них потребность благодарности, предаются всецело страстной привязанности к собаке, кошке или канарейке и достигают безумной к ним привязанности. К этому второму разряду охотников до представителей животного царства принадлежат безумные и нетерпимые холостяки в париках, утешающиеся нюханием табака и тому подобным, заставляющие собак и кошек целовать и лизать себя, профанируя в среде животных подобие лучших чувств человеческого сердца. Эти страстные охотники до животных любят их с полным эгоизмом; и, укладывая собак своих на мягкие пуховики и укачивая котов на коленях своих, они с яростью в глазах давят жалкое насекомое и хладнокровно смотрят на удар, наносимый мясником в лоб убиваемого быка, потому что они способны к величайшей жестокости к животным, не принадлежащим к возлюбленному их сералю. Посреди этих двух разновидностей записных любителей животного мира – тех людей, которые любят их физиологическим, естественным образом и тех, которые привязаны к ним патологически-болезненно, находится толпа наслаждающихся удовольствиями и того, и другого разряда, страстно возлюбив какое-либо животное и ненавидя всех прочих неповинных тварей.
Выражение всех этих наслаждений не носит определенного характера, так как к животным можно обратиться со всевозможными видами сочувствия и любви. Можно, играя с ними, и улыбаться, и хохотать, и устроить с ними себе беседу, и напевать им песни, и потирать себе руки, и поплясывать около них. Ласка рукой бывает самым естественным выражением любви к животным. Поцелуй бывает выражением здравого чувства только тогда, когда он посылается издали, и всего чаще тем животным, которые не способны отвечать тем же, т. е. птицам; в этом случае нет прелестнее картины, как вид двух розовых губок, играющих с носиком канарейки. Во всех других случаях поцелуй, данный животному, служит признаком болезненности чувства, и я смело бросаю упрек тем женским устам, которые марают себя поцелуем собачьей слюнявой морды. Пусть рот подобной личности не удостоится никогда поцелуя себе подобных. Словом, все чувства общительности способны налагать на предметы свое отражение, и аффект наш в подобных случаях может достигать необычайной степени, доставляя нам весьма сильные наслаждения. Неспособность читать при виде предметов собственных воспоминаний написанную на них повесть всегда служила признаком эгоизма и пошлости сердечной. Ежели позволительна бывает усмешка над человеком, не могущим расстаться без сердечных слез с собственным стулом, то нет возможности сочувствовать тому, кто не умеет прочесть ни единого слова на памятнике сердечной своей привязанности.
Глава XVII. О наслаждениях чувством благоволения
Начав с наименее сложного из аффектов, т. е. с любви человека к самому себе, мы перейдем к аффектам более сложным; бросив беглый взгляд в бесконечную и таинственную область самолюбивых стремлений, мы коснулись любви и к неодушевленным предметам, и к животным – любви, в которой еще преобладает всецело участие первого лица. В настоящую минуту, по естественному ходу дела, нам предстоит заняться любовью к людям, и перед нами открывается наконец нескончаемый кругозор действительной любви, где ярко сияют высшие радости сердца. Здесь чувство дышит горячо и бурно; и вот колеблется уже в руке перо, желавшее, подчинившись неумолимо-холодным велениям разума, спокойно начертать повесть человеческого чувства; но к этому исследованию сердечных гармоний трудно приступить без радостного трепета и страха. Если при анатомическом исследовании сердечных наслаждений задрожит нож в моей руке и ежели во мне при этом заговорит сильнее голос сердца, чем строгое заключение ума, то пусть читатель простит невольное увлечение. Даю слово, что позже, когда блеснет уж седина в волосах моих, когда морщины избороздят мой лоб, я снова примусь за анализ тех же самых чувств, и тогда рука моя будет вернее зондировать фибры сердца, и нож мой вонзится глубоко и смело! Горе юноше, способному анатомировать сердечное чувство без трепета и без капли холодного пота на челе.
Будучи животным, предназначенным для жизни общественной, человек связан общими узами с себе подобными, – и вот природа снабдила его прирожденным чувством, затмевающимся во время бури страстей, но всегда готовым вспыхнуть снова, как только рассеются тучи с человеческого небосклона. Это чувство собирает едва ли не всех людей таинственной телеграфной нитью в одну целую сеть, так что всякое сотрясение, приданное одному человеку, колеблет всю человеческую массу. Горы и моря будто прерывают эту цепь, которая тянется с одного конца земли до другого, и ненависть народностей друг к другу и монархов грубо разрывает эту цепь. Но эманация, исходящая от страждущей или торжествующей народности, от племени, приниженного или идущего в гору, стелется, за недостатком естественных телеграфных путей, порванных насилием человеческим, – стелется медленно, но ровно и спокойно по земной поверхности и все же успевает соединиться в свой черед с тем вечно живым потоком жизни, который испускает семья человеческая, разросшаяся по нескончаемым своим ячейкам.
Иной раз искра гения, сверкнувшая где-нибудь на далеких берегах Азии, идет много столетий по долгому пути своему, но, наконец, все-таки сообщается всему человечеству. На земле не затеряется ни один нравственный ток; он сообщается нам и рождением и воспитанием и сливается таинственным, непонятным для нас образом: и завоевания Александра Великого, и падение Римской империи, и войны крестоносцев. Колебание, начавшееся в Вифлееме чуть не двадцать столетий тому назад, еще и теперь распространяется по ветру. Бурными ли порывистыми скачками, нечувствительным ли движением спокойных токов, малейшее потрясение среди людей сообщает колеблющееся движение всей человеческой семье. Встреча этих трепетных эманаций, столкновение их или сличение и составляют нравственное бытие человеческой расы. В крупных центрах общественной машины, где рабочие теснятся, работая как в муравейнике, искры сыплются непрерывно и, распространяясь по сети железных дорог и телеграфных линий, призывают жителей обоих полушарий к водовороту бурной жизни. До отдаленных колоний эманации, поднявшиеся с этих вольтовых столбов современной цивилизации, доходят медленно и в ослабленном уже виде, не производя уже ни искр, ни сотрясений. Но мало-помалу растет и множится сила электрического столба; телеграфные нити, по которым пробегает мысль человеческая, не перестают размножаться, и уже скоро мы будем в состоянии заставить биться нашею жизнью сердца дикарей Патагонии и Микронезии.
Так или иначе, одно и то же чувство связываешь всегда и везде, человека с человеком вечным узлом людских симпатий. Аффект этот, хотя бы находясь еще в неясном и неопределенном виде, составляет тот общий фон, на котором вырисовываются самые страстные привязанности людей между собой; этот общий фон редко случается видеть в простоте его неопределенной окраски, и сердце человеческое всегда отпечатывает на нем тот или другой более живой и сложный образ. Два человека, встретившись в глуши непроходимых лесов, насладившись этим сближением, удовлетворяют простейшей потребности аффекта ко второму лицу – чувству, которое можно бы назвать человеческим или общественным аффектом. Но это наслаждение редко остается в первобытной несложной простоте своей: колебание, приданное встречей обоюдному чувству, вызывает немедленно другие аффекты, которые или изгоняют первый, или еще более укрывают его. Так, если двое людей, встретившись, пугаются друг друга, то чувство самосохранения превозмогает все радости свидания, и они расходятся, готовясь к самозащите. Если, наоборот, две встретившиеся личности владеют одним и тем же языком, то они, входя в общение друг с другом, присоединяют к удовлетворенному чувству общественности еще умственное наслаждение от обмена мысли.
Это первобытное чувство может быть удовлетворяемо двояким образом – пассивным или активным наслаждением. Аффект общественности бывает удовлетворен в нас всякий раз, когда мы словно уделяем долю нашей жизни другому человеку; всякий раз, когда мы, например, сообща рассматриваем один и тот же незнакомый нам предмет. Таинственное участие этого чувства во всех наших радостях выражается собирательным словом «общество» (compagnie), но определить точное значение этого слова весьма трудно. Как во всех телах находится скрытым какой-либо невесомый элемент, так во все наши наслаждения входит необходимым элементом аффект общественности; при самых обособленных, по-видимому, наслаждениях мы все же непроизвольно чувствуем и наслаждаемся в сообществе образа, находящегося вне нас. Себялюбец силится обособить себя от всех людей, но он все же остается членом общества, сообщаясь с которым, он должен и страдать, и наслаждаться. Изолированный человек может существовать физически, но не нравственно; потому что совершенно физиологический человек социален и живет сообща в семье человеческой, как бы ни избегал он ее.
Находясь вблизи своего собрата, человек чувствует его присутствие и, несмотря на него, непроизвольно входит с ним в некоторое общение. Предположив существование человека, лишенного всех внешних чувств, кроме ощущения вкуса, представим себе его сидящим за обедом вместе с другими лицами: он чувствовал бы все-таки близ себя присутствие себе подобных и радовался бы их сообществу. Он не видит и не слышит товарищей своих, но знает, что, находясь в присутствии себе подобных, наслаждается их обществом.
Чувство общественности не имеет определенного характера, пока оно находится только в состоянии пассивной способности, но оно принимает определенный образ, переходя в деятельную силу. При переходе этом оно принимает характер, общий всем аффектам ко второму лицу. Эгоист и гордец способны действовать со страстью и увлечением для удовлетворения любимой страсти, но они всегда ставят себя целью своих деяний; человек же, любящий, так или иначе, собрата своего, видит удовлетворение в радости, вне его находящейся, наслаждаясь видом чужих наслаждений и радуясь веселью, доставленному им другому человеку.
Между наслаждениями активного и пассивного рода, доставляемыми чувством человеческой общественности, оказываются еще чувствования смешанные. Они служат как бы переходным звеном между теми и другими, из них самая определившаяся форма состоит в наслаждении чужой радостью и в сострадании к горю другого человека. Можно подумать что первое, т. е. наслаждение чужой радостью, доставляет наслаждение более эгоистическое, чем второе, т. е. сострадание чужому горю; но, вникая глубже в обычные людям чувства, мы нередко удостоверяемся в совершенно противном. Здесь могучим двигателем является самолюбие, которое, извращая естественный порядок вещей, побуждает нас печалиться чужой радости и радоваться чужому страданию. И вот для наслаждения чужим счастьем становится необходимым возбуждать более горячее чувство общественности, могущее изгнать из человеческого сердца возмутившееся было в нем самолюбие. Когда же мы видим страдания ближнего, тогда удовлетворяется вполне то самое скрытое в глубине души злобное эгоистическое чувство; его изгоняют, но оно все же занесло свой яд в душу, медленно уступая состраданию слабому и холодному, не ведущему к какому бы то ни было самопожертвованию. Чтобы человек способен был радоваться чужому счастью, ему необходимо ощущение сбавить нечто из собственной индивидуальности не только на один уровень с собой, возвысив его, хотя бы временно, над собой. А это бывает многим не по вкусу. Человек, являющий сострадание, напротив того, ставит себя непроизвольно, а иногда и бессознательно, выше страждущего собрата и с этой воображаемой высоты своей опускает на него лучи сердечного сожаления как некий драгоценный дар. Аффект переходит в движение, когда страждущему оказывается помощь; но в этом случае сожаление, всегда остающееся в области теории, переходит уже в благодеяние и благотворительность.
Сожаление – самое распространенное из всех аффектов, обращаемых ко второму лицу; основанное на присущем всем людям чувстве общительности, сострадание покидает сердце человеческое только тогда, когда это сердце заражено уже эгоизмом в самых его отвратительных и чудовищных размерах. Но и отчаянный эгоист, никогда не сделавший бескорыстно доброго дела, и тот дозволяет себе иной раз взглянуть на страдальца со слезами жалости на глазах. Это наслаждение жалостью почти уже не заключает в себе ничего печального в подобных менее благородных своих проявлениях сострадания, в которых оно почти всегда бывает сопряжено с удовлетворением собственного самолюбия. Но и тогда, когда сожаление зарождается в великодушном сердце, и тогда ощущается наименее грустное и горькое из всех страданий человеческой души.
Наслаждение, возникшее в нас чувством сострадания, проявляется в идеальной форме своей, когда в театре или при чтении книги мы сочувствуем актеру или небывалому романическому герою. Тогда, при совершенной невозможности помочь несчастному, совесть не претит нашему удовольствию, и мы всецело предаемся чувству сострадания, удовлетворяющему и чувствительности, и себялюбию нашему.
При проявлении чувства сострадания лицо принимает выражение страдания, что и объясняется составом самого слова.
Глава XVIII. О наслаждениях чувством общения. О радостях гостеприимства, благодеяния и принесения жертвы
Некоторые философы проводят различие между любовью к людям и чувством постоянного к ним благоволения. Но в действительности это – проявление одной и той же силы. Обе могут существовать и как внутреннее чувство, и как могучий двигатель человеческих деяний.
Мы радуемся сближению с себе подобными; присущее нам желание общения удовлетворяется сердечными эманациями, проступающими к нам от окружающих нас людей; впитывая их в собственную душу, наслаждаемся тогда чувством блаженного покоя. Когда же аффект, производимый в нас подобными впечатлениями, доходит до большей интенсивности, нас начинает охватывать сильнейшее стремление открыть другим людям сокровища собственного сердца, и мы невольно заявляем о находящейся в нас силе любви, готовой удовлетворять нужды других и, так или иначе, доставить им удовольствие. Эта потребность экспансивности образует весь философский смысл тех употребляемых нами в наших отношениях учтивых и ласковых выражений, которыми мы заявляем людям о нашем к ним расположении: к ним принадлежат поклоны, ласки, поцелуи и весь громадный запас внешних демонстраций, любезностей и приветствий, со всем разнообразием их физиологических и патологических форм. При неожиданной встрече двух личностей среди лесной глуши первым выражением приятного удивления с обеих сторон был, вероятно, обоюдный поклон, затем последовало дружеское пожатие руки – обычай столь же древний, как и само человечество на земле.
Если две повстречавшиеся таким образом личности пойдут далее одной дорогой и на пути их окажется, предположим, колючий терн, и один из путников нагнется и отбросит вредный куст, чтобы идущий сзади не повредил себе ноги, то другой, заметив такую услугу товарища, ответит на нее улыбкой благодарности и признания.
Так мог установиться первый и несложный обмен взаимных любезностей между людьми; первому из путников удалось при этом привести в дело специальный аффект, другому выпало на долю и первое заявление чувства благодарности.
Гостеприимство составляет уже более сложный способ удовлетворения чувства общественности; оно должно было возникнуть в душе при первом обособлении людей по очагам и семьям. Заставляя нас принять усталого путника, гостеприимство побуждает нас выразить свое расположение нежнейшей о нем заботливостью. Эта услуга человека человеку не зависит ни от возраста или пола, ни от кровных или племенных уз. Вот почему гостеприимство оказывается как бы прирожденным дикарю, для которого оно замещает все проявления благотворения и филантропии, на которые распадается впоследствии это единственное чисто человеческое чувство. Это простое выражение социального аффекта пережило цивилизации и всякие строи человеческой жизни.
Находясь в доме, одиноко стоящем в поле, всякий хозяин спешит с радостью отворить дверь путнику, застигнутому бурей, являя таким образом акт гостеприимных услуг, которые радовали древних праотцев. В крупных городах нищий, стучащийся в дверь нашу, должен часто уходить с мелкой монетой, ему брошенной, и нередко – с укором подавшего; тем не менее и эти города продолжают дело человеческой любви, и все тому же первобытному чувству гостеприимности они обязаны основанием своих странноприимных приютов и благотворительных учреждений.
Гостеприимство составляет весьма сложную формулу, заслуживающую более близкого и более глубокого изучения, так как в ней содержится множество разнообразных способов выражать на деле ту приязнь к людям, которая прирожденна всем нам.
При встрече двух людей кратчайшим выражением обоюдного удовольствия бывает поклон со всеми его видоизменениями. Мы, правда, кланяемся или снимаем шапку и при виде человека, ненавистного нам или презираемого нами, но в таком случае притворный привет принадлежит к области аффектов патологических, а мы в настоящее время всецело заняты выражением чувства истинной общественности.
Приветствуя человека наклоном головы, движением руки или поцелуем, мы осведомляемся у него о его ближних и о делах его, и, вглядываясь ему в лицо ласковыми взорами, мы сочувственно ему улыбаемся или печалимся с ним. В разговоре двух людей может проявиться целый мир сердечного наслаждения как следствие потребности общения. Говорящий читает в глазах собеседника рефлекс собственных речей и, встретив отблеск хотя бы минутного участия, становится более готовым к улыбкам и менее склонным к печали. Слушающий же наслаждается теплотой собственного сочувствия и, не переставая следить за нитью рассказа, говорить и отвечать взорами и выражением лица; оба сливаются на время чувствами в чудный аккорд, ежеминутно изменяющийся и по быстроте темпа, и по музыкальности звуков, но всегда восхитительный для человека, понимающего значение обмена чувств и мыслей. Поток страстных и бурных речей сменяется медленными звуками голосов, дрогнувших от умиления; глубокие вздохи чередуются не менее красноречивыми минутами обоюдного молчания; за веселыми раскатами смеха следует спокойное выслушивание тихого рассказа. И во все это время взор собеседника следит за устами говорящего: то взволнованно, то спокойно, то сияя тихой радостью, то отуманенные слезой участия, они впивают в себя во время беседы излияние сочувственной души. Иной раз люди, случайно встретившиеся, с сердцем, переполненным глубокого чувства, сразу понимают друг друга и, расставаясь навсегда, крепко жмут друг другу руки с чувством, полным дружелюбия и приязни.
Часто бывает достаточно одного слова или взгляда, чтобы погрузить два сердца в сладостный восторг негасимой любви: так два потока сбегают, ярясь и пенясь, с противоположных гор, но встретившись, дружно текут, вливаясь в тихое озеро. Если возможно без профанации сердечных чувств облечь в формулу, взятую из мира физического, радость двух людей, утоляющих оживленной беседой потребность свою в общении, то я уподобил бы разговор их с обменом двух нравственно разнородных электрических токов и сказал бы, что наслаждение разговором порождается стремлением к взаимному уравновешиванию двух противоположных элементов, ищущих сближения между собой и окончательного слияния.
Когда, будучи удручен печалью, один из собеседников бывает успокоен словами другого, тогда ему оказано действительное нравственное вспоможение: им получена та словесная милостыня, которую называют утешением. Наслаждения же того, кто, утоляя собственную потребность общения, утешает собрата, бывают весьма различны и по степени, и по самой сути своей. Эгоист, не сочувствующий нимало печали товарища, произносит, однако, по обязанности общежития, несколько холодных и общих фраз, не стоивших ему ни напряжения ума, ни жертвы временем; эгоист возвращается домой с едва приметным легким чувством удовлетворения законов учтивости, не требовавшим сердечных чувств общения. Но человек великодушный, тронутый печальной повестью собрата, крепко жмет руку страждущего, с энергией и умилением в голосе внушая ему надежду и ободрение; такой человек переполняется бесконечной радостью, потому что, произнося свое «надейся!» и он дает самому себе слово сделать все возможное, чтобы утешить и ободрить несчастного. Одно слово иной раз, одно немое пожатие руки облегчает уже накопившуюся в сердце грусть и делает навсегда друзьями малознакомых между собой людей.
Дружелюбно принятый под гостеприимный кров хижины дикаря или королевского дворца, все равно, рассказывает о своей более или менее печальной судьбе; хозяевам удается облегчить его страдания, и здесь оказывается уже вполне удовлетворенной потребность человеческая в общении с другими; здесь и утешили, и оказали благодеяние. Вынимающий колючий терн из ноги брата, или защищающий его от нападения, или подающий пищу голодному делает, таким образом, первый шаг по пути благодеяний, ощущая притом чистейшее и живейшее наслаждение чувства общественности, выказавшегося уже не словом, а делом; выражаясь иначе, он наслаждается любовью к ближнему. Это высшее из наслаждений жизни соразмеряется и с радостью облагодетельствованная, и с теми усилиями, которыми обусловлено благодеяние; степень комбинации этих двух необходимых элементов всякого доброго дела придает ему ту нравственную оценку, градации которой разнообразны до бесконечности. На нуле этого термометра нравственной оценки мы встречаем эгоиста, которому случайно, без труда и пожертвований, удалось дело полезное и который бесконечно радуется тому, что так дешево заслужил благодарность людей и попал в благодетели человечества. В этой радости себялюбца едва ли участвует аффект общественности, и наслаждение его принадлежит всецело к области тех аффектов одиноко стоящего первого лица, о которых говорено выше.
Поднимаясь выше этого нуля по линии достоинств, мы находим те благодеяния, которые, выполняясь с непомерными усилиями, но с весьма малыми жертвами со стороны раздающего, всегда усложнены примесью самолюбия. Поднявшись еще на несколько градусов, мы видим примесь тщеславия и самолюбия весьма уменьшенного; благодетели довольствуются здесь добываемой ими премией благодарности. На высшей же ступени этой лестницы добра находится уже то чистейшее радование, которое соразмеряется единственно с величием самопожертвования и находит себе награду в себе самом, т. е. всецело в сердечном наслаждении дающего. Немногие доходят до подобной чистоты и величия намерений, но чувства этих немногих сияют так лучезарно, что светом их озаряется все человечество, которое радуется присутствию в своей среде этих ангелов, возвышающих человеческое достоинство, униженное в лице уродов эгоизма и подлости.
Весьма труден анализ самопожертвования, и невольно дрожишь, приступая к нему. Трудясь над неблагодарной задачей, исследователь слышит циничный шепот эгоиста, не перестающего шипеть ему на ухо, что в самопожертвовании вовсе нет достоинства, что человек творит добро только для того, чтобы вкусить высшее наслаждение, или предпочитаемое всем другим по особенному устроению его мозговой организации. Но этот смех, эти софизмы не отвлекут физиолога от его труда; он знает, что среди трепещущих фибр человеческого сердца отыщется ему удостоверение, что истина – всегда к добру и что философия никогда не окажется врагом нравственности.
Человек, приносящий себя в жертву для счастья других, действительно испытывает громадное наслаждение, но не эта финальная радость бывает целью его деяний; ему предстоит страшный путь, путь Голгофы и ее страданий, прежде чем достигнет он тех наслаждений, которые бывают всегда наградой победителя. Сердце человека забилось жалостью при виде страданий ближнего, и он готов для его спасения броситься в пучину бед, но между им и бездной восстает эгоизм. Это – страшнейшее из нравственных чудищ; оно залегает на его пути и, указывая на бездонную глубь, сверкает перед очами его страшнейшим из своих орудий – любовью к жизни. Он смущен и, приостановившись, заливается слезами; он молит небо, чтобы оно возобновило для него чудо, свершившееся в битве Давида с Голиафом. И вот он победил гиганта и раздавил его, но свирепа и жестока была битва, тяжки были наносимые раны; и когда затем он начал подавать руку помощи страждущим, тогда он предварительно утер пот усталого чела и утолил кровь душевных язв, чтобы, получая вспоможение, страдалец не чувствовал тягости благодарности, считая услугу благодетеля делом легким и естественным, а не результатом борьбы и уязвлений. Надо думать, что в эти минуты невидимый ангел налагал целительный и сладостный бальзам на его раны, и он наслаждался высочайшей из радостей, данных человеку; но он не искал этой награды: он стал только достоин ее утех, сокрыв от людей лицемерием геройство, тяжелую и долгую борьбу собственной души. На похвалы окружающих он ответил бы с простодушием истинного величия: «Я выполнил только долг свой». Пусть окажется справедливым слово, что люди иной раз творят добро из жажды высших наслаждений, – что в том нужды? Пусть только все человечество ищет подобных радостей, и настанет тогда рай и на земле! Но, тем не менее, и тогда будут избранные души продолжать свою борьбу и преодолевать свои страдания, становясь и тогда самоцветными камнями, украшающими глиняный кумир человечества. Людям же посредственным не следует приходить от того в уныние: найдутся жертвы, приноровленные к силам и душевным средствам каждого; и тем, которым не суждено улыбаться посреди агонии мучений за благо человечества всегда возможно провести лишний бессонный час ради пользы брата, заставляя хотя бы на минуту умолкнуть вопиющий в них голос себялюбия.
Из всех сердечных наслаждений радости самопожертвования бывают выше и полнее. Все подлежащие нашему рассмотрению чувства общественности способны привести к жертвам, всегда и везде составляющим чистейшее и величайшее выражение всякого сильного аффекта. Человек, доведший себя до принесения себя жертвой на алтарь сердечного чувства, представляет самое поразительное зрелище нравственного мира; при виде его мы имеем сразу перед глазами всю повесть человеческого сердца. Если мы бы могли поставить перед собою какой-нибудь телескоп или микроскоп, мы могли бы единовременно измерять собственную ничтожность с громадностью нравственного горизонта, перед нами лежащего. Хотим ли мы или нет, мы все же становимся соучастниками или хотя бы трепещущими зрителями страшной борьбы, непрестанно происходящей в нравственном мире, борьбы добра со злом, не переставая всю жизнь дрожать от страха за участь любимого борца. Вид чувства, поборовшего эгоизм, составляет самое грациозное зрелище из всех проявляющихся нам панорам нравственного мира. Отъявленный эгоист не знает иных радостей этого рода, кроме весьма бледных наслаждений общежития и так называемые «общества». Другие же, напротив того, умеют радоваться всю жизнь, посвящая ее благодеяниям и самопожертвованию.
Чувство благоволения к людям на словах и в деле не налагает на лицо человеческое иного отпечатка, кроме выражения спокойствия и ясности. Но иногда наслаждение стремится выразиться во всем существе нашем, и тогда усилием геройского лицемерия человек скрывает радость в своем сердце, дабы облагодетельствованный не мог предположить в нем ни борьбы, ни победы над собой, а видел бы в благодеянии только простую и весьма естественную передачу средств. Но обычные подвиги самопожертвования придают лицу нечто ангелоподобное, особенный характер, по которому с первого взгляда познается человек всегда благоволящий и щедрый.
Чувство общественности не может вовсе переходить в область патологий; изменяя природе своей, оно тем самым перестает и существовать. Но иногда оно может, присоединяясь к вредоносному аффекту, доставить людям некие болезненные наслаждения. Человек сохраняет чувство общественности и среди степей, и среди многолюдных городов, в трактирах и среди оргий, так же как и в одиночестве кабинета, и в залах филантропических собраний. И потому кутящий способен наслаждаться обществом себе подобных, убийца же иной раз радуется, совершая свое преступление не в одиночку, а в обществе своих сотоварищей.
Щедрость тщеславного, похвалы низких людей и предательские ласки бывают только личиной чувства; наслаждение же следует только за удовлетворением великодушной сердечной потребности. Некоторые выражения, переданные нам обычаями древних поколений, вошли в непременный состав языков и наречий. Таким образом искренний и великодушный человек, принужденный иногда произносить обычные своему языку лестные слова, невольно комментирует ими низкие чувства своих праотцев.
Глава XIX. О наслаждениях дружбы
Чувство общественности, одинаково обращаемое нами на всех людей, доставляет нам, при одинаковых нравственных и физических условиях, наслаждения весьма различные, смотря по тому, насколько симпатичен нам внушающий его человек. Не умея объяснить себе причины нашего увлечения, мы иногда при первом взгляде на человека чувствуем особенное удовольствие, находя его красивым и любезным, чувствуя к нему невольное влечение и ощущая потребность выказать ему приязнь и стать к нему по возможности ближе. По большей части, подобная симпатия двух личностей зарождается с обеих сторон; взглядами они уже передают друг другу нравственный образ свой, радуясь обоюдному пониманию. Тогда наслаждение, порожденное лицезрением, заставляет желать частых и долгих свиданий; люди стараются встретиться, разговориться, и становятся друзьями.
Всегда присущее нам чувство общественности может оживиться на время, доставить нам минуту наслаждения и снова возвратиться к обычному состоянию покоя. Так, погруженные в глубокое научное раздумье или в созерцание необычайного зрелища природы, мы слышим иной раз голос нищего, просящего милостыню. Чувство общественности, возбужденное слуховым ощущением, заставляет нас открыть кошелек, и, подавая монетку нищему и читая на лице его выражение благодарной радости, мы на мгновение наслаждаемся. Но искра радости тут же мгновенно потухает в нас, и, продолжая прогулку свою, мы не чувствуем себя ни в малейшем нравственном общении с человеком, участь которого была облегчена нами. Но ежели и на следующий день мы заслышим на том же самом месте жалобный голос нищего, то мы, открывая снова кошелек, почувствуем уже некоторое начало аффекта; искра радости может уже стать током, и мы представим себе облик нищего и его благодарный взор с чувством приязненности и удовольствия. И нищий, со своей стороны, сумеет распознать в той милостыне след теплого аффекта, а не леденящего влияния тщеславия; он станет приветствовать издали приближение ваше, с улыбкой адресованной вам, знакомой и уже в некоторой степени вам дорогой. Как ни скоротечны и ни поверхностны эти связавшие вас отношения, повторяясь, они, однако, могут привести к чувству приязни и к некоторого рода дружбе.
Сочувствие и оказание обоюдной приязни – вот два источника дружбы, которую, по сути ее, можно бы назвать обоюдным обменом теплейших чувств общественности.
Когда двое людей не перестают обмениваться искрами социальных радостей, тогда искры эти, перейдя в непрерывный ток, составят атмосферу любви, обнимающую оба существа. Тогда любящий человек начинает жить отчасти двойной жизнью и, неся в себе образ друга, чувствовать близ себя сердце, которому передается каждый трепет его собственной души.
Обычная людям мания приводить к единству разнообразное и упрощать сложное привела к тому, что философы, желая отыскать основание чувства дружбы, спорят о причинах, ее обусловливающих. По мнению одних, для сближения двух друзей необходима полная идентичность всего нравственного бытия; по заверениям других, людей склоняет к дружбе противоположность их характеров и темпераментов. Третьи же, наблюдавшие более усердно людей, окружавших их, предполагают, что друг должен быть дополнением своего друга, и что свойства обоих, суммированные в одно целое, должны составить гармоническую единицу, более или менее совершенную. Стоит осмотреться около себя, чтобы видеть, что дружба между людьми проистекает из самых разнообразных источников, и что, любя простор и свободу, дружба бродит по широкому полю обителей человеческих, рассеивая богатые дары свои и на сходных между собой людей, и на людей весьма противоположного нрава.
Не все, разумеется, люди способны подружиться; необходимы до некоторой степени и близость возраста, и подходящая степень чувства и ума. Возраст составляет наиболее непременное условие; годы приносят столько изменений в бедной природе нашей, что и мы сами могли бы едва признать самих себя, если бы перед глазами нашими могло дефилировать и наше младенческое «Я», и «Я» юношества, и «Я» зрелых лет и старости. Люди разного возраста говорят по большей части языком непонятным друг для друга, они идут разными жизненными тропами и живут под сводами различных небес. Чтобы понимать друг друга, старик и юноша должны соблюдать правила перспективы и соблюдать дистанцию, а друг любит иметь друга близ себя, держа его за руку и прижимая его к своей груди.
Как возраст, так и нравственное или умственное расстояние может поставить непреодолимую преграду чувству дружбы. Взаимное влечение может осилить это последнее препятствие. Обаятельная сила гения может мало-помалу приблизить к себе человека, затерявшегося без этой помощи в толпе посредственных людей; теплая эманация, которою дышит любящее сердце чувствительного человека, согревает понемногу и притягивает в благоуханную атмосферу своего сближения холодного циника, который до тех пор шествовал одиноко по менее утоптанным дорогам.
Вот один из наиболее дивных и совершенных образов сближения друзей: человек с широким и возвышенным сердцем, вовсе не подозревающим величия собственной души, видит вдалеке ярко горящий светоч, освещающий все вокруг себя. Присущая всем жажда света понуждает и его стать ближе к сиянию гения; любуясь и не завидуя, он радуется проникающим в его мозги ясности и свету, но, не ощущая усталости, не замечая и в области собственного ума сокровища, ему дотоле неизвестные, и вот он возвышает собственную себе оценку и радуется ей. Он не остается, однако, принимающим только, но становится обильно одаряющим нового друга, осыпая его всеми богатствами своего сердца. Как ни светло, ясно и блистательно сияет на земле умственный светоч, он горит, однако, холодным пламенем, и тот, кто потрясает в пространстве умственным факелом, озаряя пути людей, сам иной раз дрожит от леденящего внутреннего холода. И он бесконечно радуется, ощущая соприкосновение нескончаемой сердечной теплоты и, обливая друга светом, согревается и любит. Гения увлекает в области собственного мышления сердце, удержанное дотоле в пыли недоверием к себе и глубиной излишнего смирения. Чувство же, вливая в себя яркий луч ума, радуется и дивуется тому, что и оно может глядеть на сияние света, не мигая умственными очами. Гениальность, обнимающая в лице друга сердечное чувство, – вот действительный и полнейший апофеоз дружбы человеческой.
Для существования подобной дружбы необходимо сердце, переполненное столь грандиозными чувствами, что к нему не могла бы вовсе приступиться зависть; необходим ум столь обширный и великий, что простодушие друга не в силах было бы вызвать в нем улыбок сожаления.
Дружба порождается иногда аккордом двух живых страстей, устремленных к одной и той же цели. Продумав немало над задачей жизни, ученый избирает себе собственный, более или менее обособленный путь; он спешит по нему, нахлобучив на глаза шапку и не видя ничего впереди, кроме своей цели; он торопится, трудясь в поте лица своего, и внезапно наталкивается на собрата по труду и по цели. Оба великодушны, притом и зависти не бывает места среди людей, всецело преданных достижению одной цели; они с горячностью пожимают друг другу руки и становятся друзьями. Ассоциация труда, братство мысли и мнений, служба под веянием одного и того же знамени – вот достаточные причины для возникновения дружбы. И все подобные случаи дружбы легко группируются в один и тот же отдел. Самая противоположность между характерами и темпераментами иногда побуждает людей к дружественному сближению. Великодушный, но вспыльчивый находит в терпеливом друге добровольную жертву вспышкам своего гнева. Придирчивый и страстный охотник до спора полемизирования, ненавидящий притом противоречие субъекта, радуется присутствию близ себя уступчивого и спокойного друга. Человек же вполне щедрый и великодушный льнет иной раз к эгоисту, радуясь возможности переливать обилие сердечного чувства в пустоту его души, обожает кумир и алтарь, на котором можно воскурить переполняющее его обилие фимиама и сердечных ласк. Много фолиантов можно бы исписать на эту тему. Все книги, рассуждающие о сердце человеческом и о пристрастиях его, многотомные ли трактаты или легкие брошюры, – все равно; все подобные сочинения – только фрагменты великого предстоящего человеку труда; это – камушки и осколки той величавой мозаики, которую никто до сих пор не мог еще разгадать.
Заканчивая эти немногие слова о возникновении дружественных отношений между людьми, скажу, что главным и первым условием дружбы бывает взаимное понимание друг друга. Нет надобности, чтобы становились вполне идентичными образ мышления и чувства дружащих; необходимо, чтобы существовало соглашение в интегральной части человеческих мнений, составляющих как бы основу нравственных убеждений. Друзья могут спорить между собой до бесконечности о расположении орнаментов, но главный план здания должен быть установлен одинаково. Проспорив до бесконечности о рискованнейших мировых теориях, способных ниспровергнуть колоссальные построения идей, оба друга должны быть в состоянии пожать друг другу руки и сказать: «Мы оба с тобой – люди честные!» Обременив друг друга едкими выговорами и даже обменявшись обидными словами, друзья бывают способны заявить себе от полноты души: «Мы любим друг друга с прежней горячностью, и поколебать нашу дружбу не могут никакие бури, никакая непогода».
Происходя из одних и тех же причин с обеих сторон, дружба обоих может быть весьма различна. Умственное величие гораздо менее способно возвысить дружбу, чем сердечная теплота, и одно по крайней мере из двух сердец должно биться от постоянного наплыва горячих чувств, способных не уменьшиться и не охладеть от первого столкновения между друзьями. Между двумя людьми, одинаково великими, но бессердечными, дружба не может иметь места; между личностями же с любящим горячим сердцем пламя дружбы может гореть, распространяя сильный и блестящий свет. Во всех видах и формах своих дружба всегда остается чувством благородным и высоким; профанируемая устами многих, дружба, однако, никогда не бывает уделом низких и развращенных душ.
Эгоисты не способны к дружбе, но иногда им прощают друзья узость души их, ввиду широты их умственного кругозора. Фантасмагория гениального себялюбца и вечная игра воображения принимается друзьями за сердечный привет, и люди льнут иногда и к холодной душе умственного эгоиста.
Наслаждения дружбы неисчислимы; хотя они и носят на себе особенный отпечаток, но они в сущности своей только продолжение общечеловеческого чувства благосклонности и приязни. Наслаждение, объединяющее все меньшие радости дружбы как бы в одну общую атмосферу покоя и счастья, состоит в сознании своей неодинаковости на земле, и только в счастье жить двойною жизнью и ощущениями другого человека и собственной нравственной деятельностью отражаемого в сердце друга. С той самой минуты, когда две личности пожали друг другу руки, малейшее движение одного отдается в душе другого соучастника в каждом стремлении и деле; живя, таким образом, жизнью, общей обоим, они невольно вдыхают в себя эманацию двух сознаний. Эта общность идей и аффектов придает удивительную прелесть самым заурядным, обыденным занятиям, совершаемым вдвоем. Дружба в этом случае, исполняя дело искусного маляра, покрывает все предметы блестящим лаком, при помощи которого оба друга видят улыбающийся образ свой. Из этого источника сближений происходят все те мелкие утехи, которые составляют как бы насущный хлеб дружбы.
Спокойные, но очаровательные наслаждения эти, придавая необычайную привлекательность течению всего дня, заставляют нас относиться равнодушно к тем мелким булавочным уколам, которыми изобилует жизнь каждого человека. От первой зевоты, которая при пробуждении знаменует начало его радостного дня, до последнего потягивания усталого человека, заканчивающего утомительный, но бесполезный день, всесильная помощь друга не перестает утешать, забавлять нас и доставлять всевозможное развлечение скучающему другу. Иной раз приятель прерывает грустную думу нашу дерзким, дружеским щелчком, или развеивает горе шуточной с нами борьбой, или, внезапно принимая на себя роль ментора и родной матери, приказывает нам прогуляться с ним и посмеяться его смеху. Кто может исчислить все те самоцветные дорогие камешки, которыми утешаются на пути своем двое друзей, пребывающих вдвоем, среди теплой атмосферы чувства, окружающей и изолирующей их от остального мира? Кто опишет нескончаемые радости разговора, длившегося до самой зари; беседы, для которой никто не изобретал ни тезисов, ни аргументов, и в которой проводится перед мысленными очами весь мир сердечных чувств и воспоминаний; беседы, в продолжение которой друзья и вздыхают, и смеются, и молча смотрят друг на друга, приподнимаясь для расставания и снова присаживаясь для новых излияний?
Если бы, записывая здесь повесть о наслаждениях человеческих, мне предстояло бы наполнить ими не страницы тонкой книжки, но целый ряд томов, то и тогда самую толстую из них я посвятил бы описанию неисчислимых радостей дружбы, и перо мое, поверьте, не остановилось бы ни на минуту за недостатком материала; скажу здесь, не боясь обвинения в легкомыслии к самонадеянности, что я наслаждался в продолжение жизни такими несметными сокровищами дружбы, о которых человек может только мечтать! О, милые друзья мои, примите здесь живший привет мой! Приязнь ваша была для меня лучшим и благостным цветком на пути жизни; сохраните мне, умоляю вас, вашу прежнюю любовь! Дружба ваша послужит мне путеводной звездой, указывающей мне путь добра и чести, поддерживая меня в вечной жизненной борьбе. И ежели я и в последний день мой окажусь еще достойным пожатия вашей руки, то я скажу, что жизнь моя не протекла напрасно.
Кому случилось испытать хотя бы одно из сильнейших наслаждений дружбы, тот будет до старости лишь вспоминать о подобных минутах с сердечным умилением. Чье сердце не затрепещет снова, представляя себе отблеск избранного брата, разлученного с ним на долгие годы громадным пространством морей и внезапно, неожиданно представшего перед ним целым, невредимым и полным горячей, прежней любви? В эту минуту не забытые еще последние объятья снова охватывают грудь и все воспоминания былого. Глаза вперяются во взоры друга, но между ним стоит, как туман, пелена горячих слез. Уста дрожат и не могут произнести ни слова, сливаясь в один могучий, нескончаемый поток. Руки обнимают друга, прижимая одно к другому два трепетно бьющихся сердца. Раздаются и вздохи, и смех, и сдержанные рыдания, речи без смысла и стройности… но нужды нет! Сладостный бред таких мгновений подобен временному безумию радости и целой бури страстей. Кто не любил таким образом, кто не испытывал столь сильного бреда нравственной горячки, тот пусть поверит мне на слово, пусть не сочтет сие описание радости дружеского свидания слишком преувеличенным или неверным.
Второе; может быть, сильнейшее наслаждение дружбы состоит в утешениях, ей подаваемых во времена невзгод и отчаяния, хотя на языке философском подобные наслаждения и причисляются, как только утоляющие страдания, к наслаждениям отрицательного свойства.
Человека захватила в водоворот свой одна из обычных житейских бурь, ладью его, напрасно боровшуюся с напором волн, отбросило на утес, и он выброшен на камни среди морской пучины. Человек потерпел полнейшее крушение. Нет нужды знать, откуда дует ветер, сокрушивший его ладью и разорвавший его паруса.
Была ли то людская зависть или просто решение жестокой судьбы? Чужое ли вероломство сгубило его или разгар собственных страстей?.. Не все ли равно?.. Но он лежит, истерзан, недвижим, чувствуя, как спазмы жгучей боли въедаются в мозги костей, как на одинокой отчаянной голове его встают дыбом волосы… Но чья же рука, бережно подняв отчаянного, согревает сокрушенного на собственной груди? Чей жалостливый лик, нагнувшись над несчастным, успокаивает в нем мало-помалу агонию взволнованных страстей и усыпляет горюющего на коленах своих, улыбаясь ему как мать, убаюкивающая первенца в его ребячьей колыбели? Друг прислушивается к судорожным вздохам спящего и сторожит его дыхание. Друг пишет проснувшемуся слова любви и утешения…
Одних наслаждений дружбы бывает иногда достаточно, чтобы люди в отчаянии снова привязались к жизни и, излечившись от горького недуга уныния, снова предались труду и новой деятельности. Когда сердце наше стало равнодушным ко всем людям без исключения, когда мы начали уже ценить людей по мере выгод, им нами доставляемых, тогда действительно пора нам приступать к похоронам собственного сердца. Оно помертвело в нас, оно окончательно мертво, и ничто земное уже не в силах воскресить его.
Мелкие радости дружбы могут наполнять и услаждать существование младенца и отрока, но высшие утехи ее свойственны только юноше, человеку в зрелых летах и старику. Дружба горячее чувствуется во время жизненной весны, но и старец, сохранивший до дряхлых лет теплоту собственной души, может наслаждаться узами нежнейшего чувства.
Женщина менее мужчины способна насладиться сокровищами дружбы, так как владычествующая над ее душой любовь мешает ей любить подругу с полным жаром сердечного чувства.
Дружба доступна людям всех возрастов и всех стран. Образованность может изукрасить ее блестящими придаточными условиями, увеличивая численность мелких утех ее, но она не имеет ни малейшего влияния на высшие наслаждения дружбы, которая основана всецело на теплоте сердечной, и независима бывает от богатства и изощрения умственных способностей.
Наслаждения дружбы выражаются теми же самыми чертами, которые можно бы усмотреть в описании других чувств приязни и благоволения, только черты эти дышат более живой окраской. Отличительной чертой дружбы было бы выражение спокойствия, дышащего страстностью.
Вглядываясь в водоворот событий, все человечество рукоплещет торжеству победителя, а пронзительный свист циника заглушается этим громом рукоплесканий; достоинство же человеческое записывает новое имя в книгу, в которой так много страниц и так мало еще слов. Чувство общественности удовлетворяется весьма разнообразно, начиная от дружеского пожатия руки и кончая жертвой мученика, но, всегда благородное, оно разгорается собственными наслаждениями, возвышающими человека до неутомимой жажды все более и более высоких радостей. В сокровищницах чувства общественности имеется много и медных, и серебряных, и золотых монет, приноровленных к разнообразию карманов и пригоршень. Среди большинства наших обыденных дел, в часы бесед и трудов наших, мы можем зарабатывать гроши подобных радостей, а иной день случается каким-нибудь фактом благодеяния заслужить плату и серебром. Под золотом мы разумеем здесь те редкие подвиги самопожертвования, выпадающие на долю немногих только благодетелей человечества. Иначе: мы начинаем дело общественности приятностью бесед; затем следует сила подаваемых другим утешений, услада добрых дел и наслаждение самопожертвования.
Женщина, без сомнения, более наслаждается чувством общественности, чем мужчина, так как природа одарила ее более широким сердцем взамен меньшей доли полученных ей мозгов; природа, доверив ей обязанности матери, посвятила жизнь ее радостям самопожертвования. Редкий мужчина способен войти по вышеозначенным нами ступеням нравственного термометра, не влача за собой громадного дутого пузыря; помимо самолюбивых мыслей ему случается часто приносить себя в жертву, но он требует при этом, чтобы костер, его сжигающий, горел сильным, ярким и видным пламенем. Женщина же, наоборот, умеет совершать в безмолвии и темноте высочайшие подвиги самопожертвования, мужественно перенося целую массу мелких уколов и крупных страданий без мучительного вздоха и внутренней гордыни. Жизнь бедной работницы бывает иногда более долгим и более высоким мученичеством, чем краткая агония неповинной жертвы, падающей под ударом палача с восторженной мыслью на устах.
Чувство общественности способно радовать нас во все периоды жизни. Даже младенец прекращает свой одинокий, неистовый рев, видя приближающегося к нему человека, и старец на смертном одре своем еще чувствует утешение при виде плачущих около него знакомых и родных. Но лучший цвет жертв человеческих приносится в молодости.
Главное различие в наслаждениях чувством общественности состоит в тех различных степенях эгоизма и приязни, к которым способна каждая личность человеческая.
Изо всех чувств общественности дружба всего крепче придерживается области мышления, и в высших своих выражениях она всегда старается сохранить вид достойного спокойствия. И это весьма естественно, так как по законам природы дружба составляет роскошь жизни как обоняние в среде внешних чувств, а не непременное условие жизни. Бывают люди, достойные наслаждаться дружбой, но между тем не имевшие никогда друзей по случайно сложившимся обстоятельствам их жизни или по собственной воле. Судьба земных владык достойна сожаления в этом отношении, так как им редко выпадает случай отыскать себе друга среди свиты их окружающей.
При встрече дружба выражается объятиями, поцелуями и пожатием рук. Пожимая руку друга, мы могли бы, казалось, вернее выразить наше чувство, сохраняя притом присущее ему достоинство. Поцелуй приветствие слишком чувственное для выражения дружбы, и его следовало бы сохранить для наиболее важных случаев. Сделавшись холодной, обыденной формулой, безразлично заменяющей поклон, поцелуй всегда кажется нам явлением неуместным и патологическим. Я понимаю значение поцелуя только тогда, когда он бывает необдуманным выражением мгновенного, горячего чувства.
Наслаждения дружбы никогда не могут перейти в область чувств патологических, так как этому чувству неизвестно заболевание. Злодеи, низкие люди и все им подобные амфибии более или менее отвратительного вида, копошащиеся где-то в осадках общественного строя, и любятся, может статься, между собой, но до сей поры язык наш еще не выработал слов и выражений, приличных подобной приязни. Верно только то, что для обозначения любви между подобными существами нет возможности профанировать святое слово «дружба».
В некоторых, хотя бы весьма редких случаях стоящий всякого презрения человек, несомненно, может ощущать приязнь к людям себе подобным, но здесь открывается вопрос, требующий еще глубокого изучения. Осталась ли живой и здоровой какая-либо фибра в сердце преступника, дающая ему возможность любить, или, наоборот, не бывает ли аффект злодеев между собой совершенно иного свойства, и не следует ли ему носить совершенно иное наименование?
Есть ли надобность упоминать здесь о том, что многие из похваляющихся многочисленностью друзей своих, сами вовсе не испытывали дружбы? Они, правда, кланяются многим и многим пожимают руку; но снимание шляп и пожиманием пальцев не обратишь человека в преданного друга, и ласковым словом нет возможности возбудить чувства. Ежели подобная иллюзия может доставить великое удовольствие, то пусть их, не стесняясь продолжать обманывать себя. Мой совет им был бы остерегаться тщательно несчастий и неудач, так как при первой невзгоде, спустившейся на их плечи, вся эта толпа мнимых друзей мгновенно превратится в людей, снимающих только шапки и пожимающих руки.
Глава XX. О наслаждениях любви
Сильнейшая и самая жгучая из страстей наших, возникающая в тропической области сердца в течение самых пылких и самых светлых годов нашей жизни по преимуществу называется любовью. Зарождается ли оно среди бури вулканических извержений, теплится ли оно долго, таясь, в глубине сердца и испаряясь затем благовонным облаком, чувство это достигает стремительности порывов, под велением которых хрупкая машинка человеческая судорожно дышит, трепещет и содрогается, угрожая как бы немедленным мгновенным разрушением. Простое и первобытное, как и все колоссальные силы природы, любовь, кажется нам соединением лучших элементов всех человеческих страстей, представляя единовременно и преобладающее насилие первобытного порыва, и разнообразную роскошь искусственных и блестящих форм. Природа, видимо, оказала этому человеческому аффекту полное пристрастие. Ему одному дала она и негу чувственную, и порывы бурной страсти, и красивейшие орнаменты мысленной силы. Прелестнейшие цветки сердечных наслаждений, лучшие перлы ума и самые опьяняющие чувственные ароматы должны, по велению природы, быть приносимы в жертву этой страсти. Ни одна другая страсть не обнимает, таким образом, всей тройственной области человеческого естества. Но всего этого было мало: самые противоположные элементы, обреченные, казалось бы, на вечное столкновение, сливаются у алтаря любви в полнейшую гармонию, и, забыв ненависть, они подают друг другу руки, чтобы сообща преклонить колени перед богом любви. При этом богопочитании всем человечеством мирятся между собой и нега чувственности, и самые изящные из воздыханий сердца; братаются здесь и нестерпимейшие затребования грубейшего эгоизма, и самые великодушные сердечные порывы; здесь, сливаясь, встречаются и жгучие волны тропической страсти, и леденящие струи хладных полюсов ума. Он, бог этот, становится абсолютным владыкой над всеми разнородными подданными своими; как неумолимый деспот, он требует слепого повиновения и сверканьем взора повелевает приношение ему страшнейших жертв, чтобы только он почувствовал всю неодолимую мощь своего бытия, чтобы продолжал он сам гореть пламенем, его породившим и его сжигающим; он, не колеблясь, поверг бы в прах все мироздание.
Говорить вкратце о наслаждениях любви, которым следовало бы посвятить целые фолианты, покажется не только странным с моей стороны, но и смешным предприятием. Я собираюсь набросать несколько очерков из физической географии того мира, описание которого не было бы вполне исчерпано и сотней томов. Я постараюсь указать на то место в пространстве, где обычно блистает это солнце, и провести ту линию, по которой оно совершает свой обыденный путь. Мир любви я мог бы показать вам только сквозь стекло телескопа; сам я не мог бы перенести вас в те небесные области и дать вам почувствовать под вашими ногами раскаленность его почвы. Горе мне, если бы я начал анализировать здесь свойства этого солнца и класть под бедный микроскоп свой составляющие его элементы: жизни моей не хватило бы для выполнения подобного предприятия. Представьте же себе, сколько уже сокровищ извлекали и до сих пор все художники мира, все поэты и все философы, которые черпают из неисчерпаемых родников любви, а между тем обильная почва их оказывается едва затронутой общими усилиями всех этих много потрудившихся людей; когда же покажется уже иссякшая золотоносная жила, и тогда еще гениальная личность сумеет открыть новые и новые наслоения нравственных сокровищ.
Кто подумает, что этими моими недомолвками я хочу лишь замаскировать собственную неспособность, тот пусть спросит у женщины, любившей или еще любящей, нашла ли она в литературных произведениях и в прочитанных ей бесчисленных романах верное описание любви? Она скажет вам, улыбнувшись, что по книгам разбросано несколько отдельных искр, высвободившихся из глубокого вулкана, но что нигде и никогда не была еще напечатана верная повесть той любви, которая грызет ее сердце. Вы можете потратить много лет вашей жизни на тщательные наблюдения, изучая и книги, и людей; когда же вы вздумаете сообщить миру сокровища ваших открытий, тогда какая-нибудь женщина, скромная и смиренная, едва умеющая читать, сделает вам меткое замечание и научит вас многому, заставляя вас краснеть за ваше невежество. Я не хочу стать в такое позорное положение; целостность моей книги не пострадает от этого пропуска. Проведу, как обычно, демаркационные линии свои, очерчу свои круги и свои ячейки, но оставлю их пустыми, начертав над ними несколько скромных надписей.
Женщины, читающие мою книгу, вольны упрекнуть меня в невежестве, но им невозможно укорить меня в самонадеянности. Их наставления принесут мне пользу: я надеюсь составить впоследствии отдельную монографию любви.
Как бы ни был необъятен запас образов, которым располагает любовь, нож философа сумеет сорвать маскирующие ее одежды, срезать покровы ее и обнажить скелет, лежащий в ее основе. Да, суть и основание любви все же состоит во взаимном влечении полов ради приведения материи к жизни и воспроизведения новых особей. Участие чувства в этом феномене и составляет невещественную любовь, могущую достигнуть до такой силы и высоты, что люди, объятые ею, в состоянии окончательно забыть о финальной цели своих стремлений. Эта забывчивость простирается у многих до отрицания того, что, в сущности, сближение полов составляет действительную и непременную цель любви; при этом полагают, что сделанное мною выше определение любви унижает это чувство. Это – одно из тех предубеждений, которые, будучи обусловлены более страстностью, чем рассудком, приводят людей к заблуждению. Определенность никогда не может унизить сущности предмета; правда разоблачает и окончательно изобличает; она выставляет на вид уродливость, но никогда не может сотворить недостатка, которого не было раньше. Сочетание полов вовсе не составляет действия грубого или низкого, будучи выполнением естественного закона, а вместе с тем – и проявления прекраснейшей из жизненных сил; только человек мог изуродовать и унизить этот феномен любви проституцией нравственного его начала. Человек может любить, и любить страстно, чистейшей платонической любовью, не помышляя вовсе о прелести последних объятий, не ведая даже того, что открыло людям видение добра и зла, но все же, в естественном порядке вещей, любовь его будет бессознательно основана на понятии о поле и о воспроизведении себе подобных. Любовь возможна только к особи иного пола и только в возрасте, способном к деторождению; это одно уже показывает, где источник аффекта. Из отпрыска одного и того же растения искусный садовник может воспитать побег, приносящий обильный плод, и ветку многоценную, которая истощает жизнь свою, произращая цветы и листья.
Каждая из ветвей, однако, будь она изукрашена листьями и цветами или удручена обилием семян, одинаково исходит из одного и того же корня, составляя часть одного и того же растения. То же бывает и с любовью: при обычном своем течении, она дает нам вместо зеленых листьев чистейшие радости свои; вместо цветов – поцелуи и ласки; плоды она срывает при полном развитии своих наслаждений. Как дерево растет высоким и стройным, не давая ни цвету, ни плодов, так и любовь способна озарять теплыми своими лучами людей, никогда не изведавших содроганий чувственной любви. Дерево, тем не менее, сотворено природой для передачи семенами жизни другим особям, а пламень любви зажжен в сердцах людей ради того, чтобы они передавали теплоту жизни следующим за ними поколениям. Это сравнение может быть доведено и дальше. Как растение не покрывается цветом и плодами, так и любовь может довольствоваться вечнозеленой красой листьев, т. е. платоническими утехами. Когда любовь достигла плодов своих, тогда природа выполнила свое назначение, и оба должны бы подлежать одинаково замиранию и смерти, но и тому, и другому суждено бывает еще долгое существование благодаря щедрости провидения.
Наслаждения любви так велики и сильны, что они одни могли бы изукрасить всю жизнь и сами по себе стать целью существования. При чистоте помыслов они зарождают в сердце сцепление благородных чувств, приносящих фимиам и дань нескончаемых своих радостей одному и тому же божеству. Влияние любовных наслаждений нет возможности определить с точностью, так как оно изменяется сообразно с многоразличными изменениями видов любви. Наслаждения эти, однако, вообще приводят человека к эгоизму, будучи нескончаемо дороги ему. Человек пугается при мысли временного их лишения и защищает сокровище свое с упорством истинной ярости.
Таким образом, люди, не будучи злыми, переступают иногда границу обязанностей и, увлекаемые как бы некоей манией, повергают лучшие и святейшие чувства свои, встав на пути их бешеной скачки. Но здесь мы уже вступаем в область аффектов патологических.
Любовь чаще всех других чувств умеет распределять дары свои неравномерно и оказывается то щедрой до безмерия, то крайне скупой.
Все могут проводить время более или менее приятно с особами иного пола, но далеко не все умеют любить. Чтобы испытать на себе силу этой страсти во всем физиологическом ее совершенстве, необходимо почувствовать в собственном сердце силу и пламень любви; ими обладают, однако, далеко не все люди. Чтобы насладиться высшими радостями этого чувства, следует вкушать их крупными приемами. Как женщина, так и прочие любители этого высокого наслаждения выпивают по большей мере чашу любви одним медленным глотком, пьянея только раз в продолжение всей жизни, и позднее, полюбив, может быть, еще раз, они изливают на какое-нибудь создание только последние капли аффекта. Другие же, наоборот, будучи скаредами по самой природе своей, вечно сосут по каплям из чаш и кубков и, размельчив до бесконечности дозу любви, неделимую по самой сути своей, наслаждаются ей в приемах чисто гомеопатических, что в действительности равняется для них совершенному отречению от божественного напитка. Эти скареды или ростовщики в деле любви любили, по заверениям их, до сотни раз, сохраняя в запыленных архивах своих несметное количество надушенных писем, излияний судорожной любви и шкатулки, переполненные локонами и засохшими цветами. Но люди эти, поверьте, не любили вовсе. При рождении нашем природа снабжает нас единственным кубком, полным нектара любви, и чтобы опьянеть от него, необходимо бывает выпивать его сразу. Кто же делает вид, будто испивает из него и частыми приемами, и вместе с тем крупными приемами, тот поступает как кабатчик, разбавляя водой священную влагу любви. Заверяют, что все люди слеплены будто из одного и того же теста. Существуют, однако, на земле не то гении, не то уроды любви, которые умудряются любить не раз и не два, и всегда с одинаковой горячностью.
Любовь, выражаясь на лице человеческом, принимает всевозможные виды. Почти все картины, хранящиеся в музее дружбы, годны и для изображения любви, только с придачей им более горячих оттенков. Всем известно, какими легкими ударами кисти умеют художники превратить снежное небо Сибири в пламенное сияние тропического небосклона. Поступите так же и с образами любви и дружбы. Радости любви никогда не могут перейти в область чувств морбидных из-за излишней силы этих чувств. Чтобы возвысилась самая любовь, ей следует оставаться неразлучной с чувством обязанности и сохранения собственного достоинства, тогда она может дойти до крайней высоты, становясь лишь величавей и красивее от все более и более высокого полета. Наибольшее условие этого распределения составляет пол любящей личности. Только женщина способна доходить до высших степеней этого наслаждения, и ей же суждено испытывать самые жестокие спазмы любовных мучений. Страсть эта для нее бывает первым идолом жизни и нередко – последним для нее кумиром. Весь мир и нежнейших, и сильнейших чувствований и сложная тайна всех ее стремлений – все обращено к этому центру и все из него исходит для нее. Она почти никогда не допрашивает себя о цели собственной жизни, так как для нее для наполнения целой вечности достаточно одного чувства любви.
Трепетные опасения стыдливости, строгие для нее законы общественного мнения, стеснительные привычки семейного круга – все становится преградой на пути ее любви; сила увлечения преодолевает все; боязливая сначала, она затем полна осторожности и, наконец, доверившись и уступив силе любви, она бросается, увлекаемая порывом бурной страсти, и предается требованиям сердца. Страстное и умилительное зрелище представляет женщина, когда, слабая и робкая, она превращается огнем любви в мощную распорядительницу собственной судьбы. Кто видел женщину, горячо и сильно любящую, и сумел понять ее, тот не станет уже никогда презирать пол, к которому она принадлежит и который достоин быть поставлен наравне с мужчиной по крайней гениальности женского сердца. Пусть мужчина владеет скипетром, но и на женскую главу пусть наденется венец, и пусть они делят между собой владычество над миром; он – владыка по уму, она – владычица по чувству; ему – холодный север; ей – пламенный юг.
Люди любят во времена зрелости и возмужалости. Наслаждения любви до четырнадцати и после пятидесяти лет бывают только бледной тенью прекрасного или игрой фантазии. Прекраснейшие цветы любви срываются только во времена юности, когда люди приступают к ним с сердцем еще девственным и с неизвращенными еще сокровищами сердца.
Любят люди всех времен и всех стран, но цивилизация, полагаю, облагораживает наслаждение любви, дает ему изящество и красоту.
Глава XXI. О наслаждениях родительского чувства
С той самой минуты, когда в утробе женщины шевельнется жизнь иного существа и она впервые насладится счастьем материнского чувства, до того времени, когда при виде детей и внуков, окружающих постель ее в последние минуты жизни, она еще раз насладится любовью, женщина вкушает во всем протяжении жизни радости собственной, никогда вполне не высказанной любви, наслаждаясь притом каждой жертвой, более или менее крупной, ей приносимой.
Чувство это дышит таким величием страсти и таким несомненным духом святости, что величайший из циников, дерзнув оскорбить улыбкой или шуткой какое-либо из его проявлений, сам ужаснулся бы гнусности подобной профанации и собственного кощунства. Тот, кому горький опыт жизни развил ум в ущерб сердца и лишил навсегда способности проливать слезы над чьей-либо бедой, и тот иной раз почувствует дрожащую на ресницах непрошеную слезу при воспоминании о прощальном слове матери и о последнем грустном взмахе ее платка в минуту расставания. Великий писатель наш, тот самый, который погиб в водовороте политических событий, говорил: «Горе тому, кто не в силах уже восстановить в воображении облика собственной матери!» В этих немногих словах указаны высота материнской привязанности и святость отношений к ней.
Человек становится «физически» отцом только в силу нескольких более или менее сладостных мгновений, женщина же приобретает право называться матерью не минутами летучих наслаждений, но длинной и тяжелой цепью физических страданий и мук. Право любить и страдать она оплачивает спазмами скорбей; пальмы будущих самопожертвований она удостаивает жертвой, принесенной ею. Будущий венец наслаждений она покупает муками деторождения. Свята и высока здесь таинственная сила все превозмогающей любви. Здесь связаны неразрывными узами и радости, и скорби в одну общую область совместного бытия. Сотканная из горестей и наслаждений, как бы из света и тьмы, перед нами возникает картина столь дивной святости и красоты, что при взгляде на нее мы уже не в силах сетовать на равновесие в ней и радостей, и скорби.
Само страдание, набрасывая свой скорбный плащ на облик радостей матери, только обрисовывает прелесть очертаний, возвышая их идеальный вид. Чем больше страдает женщина, становясь матерью, тем сильнее гордится она этим названием, тем с большей страстью привязывается она к рожденному ею ребенку, тем более наслаждается она счастьем матери. Это удивительное сопоставление горестей и счастья, непонятное уму, ощущается сердцем и, видя его, невольно радуешься принадлежности своей к семье человеческой. В тех сборищах, где преобладает общественное мнение, мужчина слышит лишь собственный свой голос, присуждая сам себе и похвалы, и награждения, и преимущества, и почести. А женщина между тем страдает и борется с обыденными работами, умоляя небо дать ей и способность, и силу для борьбы с жизнью. Воскурив у ног ее фимиам первой страсти, мужчина приучает себя к мысли о ней как о завядшем уже цветке, едва ли не отказывая ей в праве считать себя существом ему равным. Но ей нет нужды в том, что приходится ей садиться как бы на более низкой ступени в делах жизни; нет дела ей до того, что властная нога хозяина может во всякое время опереться чуть ли не о голову ее. Ей достаточно материнского чувства, согревшего ей трепетную грудь, и высоких радостей ежеминутных самопожертвований. Дав жизнь новому существу, пропитав его в продолжение девяти месяцев собственной кровью, она наконец видит его живым; целуя, она называет его милым детищем своим и в повторении этих слов находит живительную прелесть, понятную только сердцу матери.
Не берусь описывать здесь всей глубины материнского чувства. Наброшу только несколько линий, по которым желающий может угадать главные очертания аффекта, проявление которого поделю здесь на три жизненные эпохи. Пусть матери простят мне это подведение их интимных чувств под категории, профанирующие, по-видимому, поэзию их душевного чувства.
Первая радость матери начинается с той минуты, когда ей зачат человек, и заканчивается отнятием младенца от грудей ее. В эту первую эпоху, еще полную чарующих наслаждений взаимности, трепет любви супружеской сливается с обаятельным проявлением нового для человека чувства, которое, как могучий отпрыск, возникший на сильном дереве, растет и крепнет с каждым часом с необычайной силой.
Женщину, щедрую по самой природе, не могли бы удовлетворить только эгоистические радости любви, ни наслаждения жарких объятий и вот в ней зарождается чувство, которое дозволит ей наконец излить на другое существо все неисчерпаемые сокровища самопожертвования, великодушия и затаенной силы любви. Чувствуя себя матерью, она спешит делиться радостным открытием с другим, который до тех пор был лишь возлюбленным ее и мужем, теперь же становится отцом, законным защитником неведомого, но горячо уже любимого ей создания. С этой блаженной минуты становятся обоим милыми и дорогими все жертвы, заранее приносимые ожидаемому незнакомцу, все планы, проектируемые ради него вдвоем; высокорадостными становятся все перипетии мелочных опасений, надежд и соображений. И, наконец, среди спазматических страданий, налагаемых таинственными велениями природы, является новое существо, новый житель мира; он жив и здоров и подает надежду, что смерть долго-долго еще не прикоснется к крошечным его членам. Невообразимо радостная улыбка озарила лицо, еще сохранившее следы едва миновавших пыток; она служит выражением того нескончаемого блаженства, которым переполнено в эту минуту сердце молодой матери. Женщина-мать в полном смысле этого слова, мать законная, мать счастливая. Как сладко звучит для нее в первый раз это магическое слово! Да, повторяю, мать всегда законна, и если в эти торжественные минуты это почетное наименование вызовет на ее лице краску стыда, то, какая бы тому ни была причина, она все же виновна и заслуживает осуждения. Смейся, счастливая мать! Много времени у тебя впереди, чтобы оплакивать и свою, и его будущность. С криками восторга обнимай теперь и покрывай поцелуями без числа созданьице, которому ты дала жизнь, и пусть при первом крике своем он жадно прильнет устами к твоей трепещущей от радости груди! Женщина может быть виновата в любви своей, но не виновата в том, что стала матерью. Да не постыдится она этого имени во всю жизнь! Святая обязанность, к которой она призвана природой, смывает всякий стыд с ее лица. Священное право каждой женщины – показывать всему миру создание, которому она дала жизнь: «Смотрите! Вот оно, мое дитя!»
Я не намерен вызывать румянца стыдливости на лица удостаивающих труд мой благосклонным своим вниманием. Но они сами должны сознаться в глубине души, что кормленье грудью, когда оно не сопровождается болезненными явлениями, всегда служит им источником живейших наслаждений. Часть этих наслаждений принадлежат к разряду более или менее чувственных, облекаясь вместе с тем и в теплое свойство самого ощущения. Можно сказать, что при кормлении грудью переживается ощущение страсти нежного поцелуя, служащего выражением любящего чувства. Все написанное здесь мной представляет лишь подобие скудному стенографическому отчету о пламени красноречивой речи; это – набросок карандашом, скопированный с картины, полной колорита и жизни. Не могу распространяться обо всем этом долее, чтобы не выйти из рамок намеченного мною труда.
Нескончаема была бы моя книга, если бы я описывал все мелкие радости, испытываемые матерью в первое время после рождения младенца.
Всякая о нем забота, всякая ласка ему, всякое предупреждение его желаний является для молодой матери новым наслаждением. Она думает только о своем ребенке; она живет им; о нем она мечтает и говорит, и часто в величие своей озабоченности она забывает и о том, что как супруга она сохранила право на иные наслаждения.
Как очаровательны те открытия, которыми утешается мать посреди долгих своих наблюдений и тех опытов, которые она производит над крошечным существом, обязанным ей жизнью! Да, она действительно становится тонким и даже ученым наблюдателем, хотя и не всегда верным исследователем истины. Все явления, на которые мать смотрит своим далеко не равнодушным взором, невольно вырастают в ее глазах, и она, с очаровательной наивностью полного убеждения находит задатки великого и прекрасного в тех туманных проблесках разума, которыми время от времени освещается слабый ум младенца. Смотрите! Он в первый раз улыбнулся матери, он внезапно прекратил плач свой, когда она нагнулась над его колыбелью; он пролепетал какой-то членораздельный звук, и мать старается объяснить его значение со всей запальчивостью неопытного филолога. Ребенок прислушивается внимательно к игре органчика в табакерке или с ожесточением вырывает страницы из книги.
Разве это не показывает наглядным образом, что из младенца вырастет новый Россини, или что он станет вообще человеком науки?
Сколько прелести в этих заблуждениях, сколько очаровательной наивности в бесконечных самообольщениях материи. Можно с уверенностью сказать, что если бы сбывались все предсказания матерей, то все человеческое общество составляло бы академию великих и ученых людей.
Второй период материнской опеки простирается от отнятия ребенка от грудей, его питавших, до передачи его в руки учителей. С первой минуты этого времени и до последней мы можем приметить постепенную утрату страстности со стороны матери, но затем – и постоянно возрастающий интерес к делу воспитания.
Физическая сторона материнской любви получила свое удовлетворение; новый член человеческой семьи родился и достиг того возраста, когда он сам уже может отыскивать себе пищу. В минуту рождения младенца мы видели в матери смешение животной и человеческой природы; теперь она – уже только человек. Радости матери стали менее бурными и менее пламенными, оставаясь столь же живыми и разнообразными. Как путешественник-географ неутомимо открывает новые местности в неизведанных еще краях, так мать ежеминутно радуется новым открытиям в душе своего ребенка, встречая их возгласами, общим языком всех народов. Собственный ребенок составляет для нее новый мир, в котором она беспрерывно открывает новые страны, новые реки и горы, строя в воображении своем самые очаровательные воздушные замки; эта новая вселенная ее так жива, так тепла и так миниатюрна, что она не перестает сжимать ее в объятиях своих, бурно осыпая ее бесконечными поцелуями и ласками. Да, ежели бы человек, достигнув возраста полного понимания, мог припомнить горячность хотя бы одного из этих поцелуев, то у него, наверное, никогда бы не хватило духу оскорбить чем-либо ту, которая могла его так целовать.
Дав собственному созданию жизнь физическую, мать сообщает ему и нравственное бытие, рассеивая в душе его первые семена нравственного, религиозного и умственного воспитания. Сколько бы можно было описать здесь наслаждений, сколько сосчитать улыбок, сколько нежных выговоров и взрывов любовного негодования! Но время дорого, места мало, а для описания всех людских наслаждений нужны целые библиотеки томов. Всякий шаг человеческий, как бы возвышен или как бы низменен он ни был, способен стать, при известных условиях, источником наслаждений.
В последнем периоде радостей своих матери приходится доверять умственное воспитание сына чужим людям, не переставая, однако, следить за ним издалека со всем требовательным вниманием истинной любви. Восторги матери при получении сыном награды возрастают с течением времени, пока наконец детище ее не положит лаврового венка к ее ногам. Эти наслаждения видоизменяются по мере способностей детей. Мать довольствуется иной раз доказательством простой честности детей своих, настолько же, как бы наслаждалась она блестящими успехами рожденного ей гения. Она улыбается обыденным добродетелям сына так же восторженно, как приветствовала бы всемирные рукоплескания, раздавшиеся над его головой.
Но хотя мать и наслаждается счастьем и славою детей как собственным своим достоянием, тем не менее она никогда почти не требует от них взаимности и обмена чувств. Всегда великодушная, она считает высшей для себя наградой успехи своих детей на избранном ими поприще. Подарив человечеству добродетельных матерей, честных граждан или великих мужей, она чувствует себя вполне удовлетворенной. Когда же на самопожертвование ее ответом было или равнодушие, или грубейший эгоизм, когда посвятившая детям всю жизнь свою, ничего себе не желавшая кроме их счастья, беззаветно-преданная мать видит себя оставленной на произвол судьбы и одинокою в мире, тогда она жалуется, быть может, на несовершенство сердца человеческого вообще, но не винит она никогда и не клянет детей своих и, следуя за движением их в водовороте жизни, она продолжает любить их по-прежнему, прибегая к ним немедленно, коль скоро несчастья или неудачи жизни заставляют их нуждаться в помощи, в бесконечном сочувствии материнского сердца – этого капитала, не ведающего банкротства, капитала, на который всегда можно рассчитывать. Уязвленное порывами самой наглой неблагодарности, окоченевшее от слов, полных презрения и укора, уязвленное всем, что может быть в человеке, чувство любви в сердце матери возрождается постоянно из пепла жизненных надежд своих, оставаясь вечно нежным, вечно трепещущим и вечно готовым на великодушие всепрощения и щедрость любви.
Только мать способна всецело жертвовать самолюбием, перенося всевозможные обиды; она одна может жертвовать сильнейшими и благороднейшими чувствами и, не смотря на постоянное попирание ногами обманутых надежд своих, снова, без горечи, готова нести утешение и помощь преступному сыну, обвинявшему ее и произнесшему над ее головой проклятия и угрозы. Случится виновному сыну страдать и плакать – и мать бежит, чтобы заботливо стереть выкатившуюся из глаз слезу, утешить наболевшую душу. Когда же исчезла в ней способность выражать чувства свои словами, и тогда при ней остается, до самой смерти ее, способность соболезновать детям и с ними вместе переносить и страдания. Ежели и в кругу знакомых ваших найдется счастливая мать – любуйтесь, читатели, восхитительным зрелищем благополучия: но ежели ведома вам где-либо несчастная мать, достойная по делам своим лучшей участи, преклонитесь пред ней, как пред святыней, как пред отблеском божества на земле.
Мать, увенчанная многочисленными отпрысками, одновременно наслаждается всеми радостями родительского чувства. Иной раз в утробе трепещет жизнь нерожденного еще малютки, а на коленах у нее покоится младенец, недавно лишь отнятый от материнских ее грудей; взоры ее меж тем, устремлены с любовью на столик, около которого учатся подростки-сыновья и занимаются рукоделием дочери-красавицы; мысль ее уносится далеко, туда, где ее первенец стяжает, быть может, лавровые венки. Существуют матери, которые, оставаясь всю жизнь в семейной тиши, не позавидовали бы престолам земных владык и, счастливые в глубине своего гнезда, выспрашивают с наивным любопытством, за что люди иной раз клянут земную жизнь? Блаженны сердца подобных женщин, и пусть они до конца жизни сохраняют в целости веру свою в семейное счастье! Пусть им навсегда останутся неизвестными те пресмыкающиеся, которые слишком часто пытаются разрушить счастливое гнездо; пусть они останутся навсегда в неведении тех зол, которые сокрыты в тайниках семейных скрижалей.
И отец любит создание свое, находя обильный источник наслаждений в аффекте, связующим его с существованием собственного ребенка: но весьма редко и, можно сказать, почти не случается, чтобы отец любил так же сильно, как мать. В этом несомненном факте нет ничего поразительного. По естественному ходу вещей страсти бывают тем сильнее, чем значительнее бывают функции, к которым они относятся. Женщине доверена забота о сохранении жизни младенчеству – естественно было придать ей и изобилие материнских чувств. Муж должен был быть не только помощником жены в священном деле сохранения жизни общей семьи, но он (по преимуществу и в большинстве случаев – он один) обязан доставить сыну социальную индивидуальность; но все это дело второстепенной важности, и для него вовсе не нужна бывает горячность материнского сердца. В наслаждениях отцовским чувством бывает много изящества и силы; его украшают утонченные цивилизацией орнаменты и сердца, и ума, но в них не окажется никогда той жгучей лавы, которая всегда готова брызнуть из сердца матери, как из вечно готового для извержения вулкана. Здесь, т. е. в любви женщины, преобладает одно из самых необоримых потребностей человеческого бытия. Любовь отца, наоборот, принадлежит чуть ли не к роскоши сердечных чувств, и чтобы следовать естественным порядком одно за другим, поколения не имеют потребности в чувствах со стороны родителя. Материнская любовь замечается почти у всех животных, аффект со стороны отца встречается весьма редко в мире бессловесных, составляя в этом случае явление удивительное и часто весьма трогательное.
За исключением упомянутых выше чувственных наслаждений, составляющих всецело принадлежность матери, все нравственные радости любви к детям могут быть распределены равномерно между обоими родителями. Но одинаковые наслаждения, перенесенные из теплой атмосферы женского сердца в более умеренный климат, среди которого бьется сердце мужа, подвергаются некоторым изменениям; это перемещение дает понятие о разнице между чувствами обоих родителей, тождественными по сути своей, но весьма различными по степени и форме. Словом, это – одно и то же растение, но выращенное под различными небесами. Отцы почти всегда больше привязаны к дочерям, и в этом они правы.
Наслаждения родительскими чувствами, призывая к жизни новые обязанности со стороны мужа и жены, возвышают в человеке и чувство собственного достоинства, и все другие благородные чувства человечества. Не раз случалось, что новое значение, приданное человеку рождением ребенка, заставляло его изменять образ жизни; став отцом, он понял, что будущность его не составляет уже достояние его одного, и что для жизни явилась новая цель, хотя бы только в образовании данного ему природой сына, добродетельного и счастливого гражданина. Женщина, сохранившая было в первые времена замужества юношеское легкомыслие, становится, сделавшись матерью, вдумчивой и серьёзной. Во всех движениях ее замечается вновь приобретенная сдержанность, выделяющаяся на фоне ее прежнего живого и подвижного характера. Умилительно смотреть на это внезапное превращение супругов.
В наслаждении любви родительской скрывается столько самоотверженности и силы, что они не могут служить только для счастья нескольких часов жизни; они не только заставляют уста родителей слагаться в мимолетную улыбку нахлынувшего счастья; нет, они распространяют некий сладостный аромат на всем протяжении жизни; они способны утешить навсегда волнения от неудач и горя и вырвать человека из однообразной тины пошлых и пустых привычек. Наслаждения эти покупаются ценой труда и самоотвержения; они освещают отблеском своим лучшие из человеческих аффектов, придавая отцу в собственных его глазах значение и вес. Мысль, что человек может быть полезным для собственных детей, что он до некоторой степени отвечает перед людьми за благополучие семьи, способна придать смысл жизни самому отчаявшемуся из земных существ. Много несчастных останавливались на краю бездны, в которую готовились броситься, вспомнив о том, что на них лежат обязанности отца или матери. В эти мгновения полнейшего отчаяния их осеняет сознание того, что желание смерти равняется в их случае полнейшему эгоизму и что жизнь для них является святейшим долгом; затем настает почти всегда блаженная минута раскаяния и решимость вступить на путь добра и пользы.
Цивилизация может возвысить эти наслаждения до утонченной изящности, но она не в силах бывает уничтожить то основание их, которое должно проходить без изменения в продолжение веков и чередования поколений. У некоторых диких племен наслаждение чувствами матери заканчиваются обязанностью выкормить ребенка; нравственная же идея отцовских отношений существует у них только в зародыше этого чувства.
Но и благородный аффект родительской любви может быть обращен в «болезненное чувство. Отец наслаждающийся зачатием в душе сына собственных более или менее порочных стремлений или даже поощряющий их развитию, в действительности наслаждается преступной радостью. Мать, употребляющая во зло естественную привязанность к ней ребенка, чтобы внушить ему отвращение ко всем окружающим людям, надеясь подобными ухищрениями обратить всю детскую любовь только на себя одну, – подобная мать наслаждается преступно. В обоих случаях к порочной радости ведет вовсе не излишество родительской любви, но совсем иное, нездоровое чувство, которое, присоединяясь к наслаждению, сообщает ему свою злобу. Будучи благородными и великодушными сами по себе, сердечные увлечения наши никогда не могут заболеть пороком, но, унижаясь до союза с другими страстями, они меняются вместе с наименованием и в самой сути своей.
Глава XXII. О наслаждениях, проистекающих из сыновней, братской и родственной привязанностей
Чувствуя концентрированные на себе лучи родительской привязанности, дети не могут не являть и со своей стороны признаков приязни, отвечая неким трепетанием любви на такое обилие чувства. Но сердце сына, как бы оно ни было любвеобильно, редко бывает в состоянии оплатить столь же горячими лучами за обилие поглощаемых им с детства света и душевной теплоты. Мне известны случаи, когда сыновья платят родителям сотнями доказательств любви и дружбы на каждый луч сердечного с их стороны аффекта, но подобные феномены проявляются весьма и весьма редко, и их следовало бы сдать в указанный мною выше архив сердца вместе с другими, подобными им редкостями. Отцы и матери вообще обожают детей своих, а сами бывают только любимы; родители всегда бывают щедры на доказательства любви своей и нередко доходят до неразумного излишества. Сыновья же, по большей части, бывают только справедливы; они экономны в деле чувства и доходят иной раз до скаредности. Это не должно пугать, и не от чего приходить тут в негодование; не следует и обвинять меня в пессимизме или отчаянном взгляде на эти отношения. Это – естественный закон природы, носящий в самом себе и основание, и причину своего возникновения. Жизнь поколений должна быть поддержана во что бы то ни стало; вот почему природа доверила ее всепревозмогающему аффекту сердечных чувств отца и матери. Когда, народившись к жизни физической, особи человеческие вошли, посредством воспитания, в строй нравственных существ, тогда отец и мать достаточно подошли по отношению к делу естества, и жизнь человечества могла бы идти своим путем и без возникновения каких бы то ни было чувств взаимности со стороны детей. Сыновняя любовь существует, однако, становясь иной раз чувством весьма сильным и страстным, готовым на всевозможные пожертвования, но со всем тем любовь эта не перестает быть делом роскоши, необходимым только в видах нравственной эстетики. Пусть обвинят меня в клевете на человеческое чувство, пусть упрекнут меня в цинизме; можно всегда отрицать теории, но нет возможности отвергнуть реального существования факта. Много было говорено об обязанности любить родителей своих, и заповедь эта стоит в нравственных кодексах всех народностей. Никогда почти и нигде не упоминалось, наоборот, что родители обязаны любить детей своих; об обязанности этой забывается при своде человеческих заповедей. Поставить людям в обязанность любить детей своих равнялось бы приказанию им дышать.
Но это вовсе не дает повода моралистам падать духом. Мы одарены природой разнородными способностями, составляющими роскошь жизни, и способности эти, тем не менее, высоки и благородны.
Не будучи необходимым элементом физического существования людей, музыка, однако же, как искусство божественное проливает на жизнь их обилие живейших наслаждений. То же можно сказать и о сыновней любви, которая, не будучи условием жизни для сменяющихся поколений, составляет одно из самых сладостных для человека чувств. Не подлежа законам живой материи, оно стоит на твердом основании в таинственной области добра, истины и красоты. Не будем обольщать себя несбыточными надеждами и думать, что воздадим когда-либо родителям столько же любовных искр, сколько сами получили от них в течение жизни. Нет, долгов наших в этом отношений мы не уплатим никогда; каждому из нас придется остаться навеки неоплатным должником перед отцом своим и матерью, хотя бы мы и были миллионерами, в деле сердечных чувств.
Когда со временем родятся и у нас дети, тогда, в свой черед, воздадим им не выплаченный нами долг отцам и станем, в свой черед, теми кредиторами, которым тоже не будет уплачено вовек.
Когда родители стоят на одинаковом уровне нравственного превосходства и когда мы одинаково обязаны им обоим нашим благополучием, тогда, хотя бы мы и любили обоих с одинаковой силой, чувства наши к ним остаются весьма различными. Привязанность к матери всегда горячее и дышит всегда той, отчасти чувственной задушевностью, которую можно ощущать, но определить которую невозможно. К отцу же чувства наши не всегда бывают возвышеннее и разумнее и в них сильнее элемент уважения и благодарности. Мать мы нередко продолжаем до старости лет любить с экспансивностью ребяческого возраста; отца мы и в детстве любим по большей части со спокойной сдержанностью возмужалого сердца. В беседах с матерью мы и плачем, и высказываемся; с отцом же мы рассуждаем, спокойно улыбаясь.
Кто не знавал матери, тот едва ли может себе представить все прелести душевных наслаждений того, кто с малолетства радовался ее присутствию, того, кто с ней рядом сиживал на ребяческой своей скамейке, на стуле подле нее – юношей и на кресле – возмужалым уже человеком. Ежели только варварское злоупотребление обычаями цивилизованного мира не выхватило вас из семейного гнезда, лицо матери должно представляться вам в грезах и воспоминаниях как светлый облик первого живого существа, прислуживавшего вам и покрывавшего вас бесчисленными поцелуями; когда, роясь в глубине своей памяти, вы усиленно стараетесь рассмотреть носящиеся там неясные и туманные образы былого, тогда вам рисуются семейные картины, где на первом плане колеблется еще юный, может быть, облик вашей матери; вам вспоминается ребяческое горе, замолкнувшее при ее появлении, или какая-либо громадная радость, испытанная на ее коленах, или пережитая в ее объятиях. В ком сохранилось настолько ума и сердца, чтобы не сознавать себя вполне безумным или бессовестным, тому должно грезиться все это в минуты сердечного умиления. Разматывая далее клубок ребяческих своих воспоминаний, человек усматривает уже более ясные образы былого: он видит себя на коленях матери, которая с указкой в руках усердно сообщает ему зачатки высшего и опаснейшего из знаний человеческих; вспоминая это первое обучение, чувствуешь, кажется, как теплая рука матери скользит по волосам или играет кудрями младенческой головки. Помните ли вы обильные награды, распределяемые этой самой рукой с столь бесконечным снисхождением? Помните ли первые уроки гимнастики, когда она учила вас переступать с ножки на ножку, придерживая вас вдоль спинки мягкого дивана? Помните ли, как, играя с вами, она присаживалась на пол, чтобы стать ближе к вам, или весело хохотала, резвясь с вами на мягком дерне лужаек сада?
Если память ваша не сохранила младенческих впечатлений, по легкомыслию вашему, или по жесткости вашего сердца, – прибегните к менее далеким воспоминаниям. Если, по близорукости душевной, вы не припоминаете мелочей обыденной жизни, вспомните более крупные события. Не припомнится ли вам какое-либо ребяческое горе, заставившее вас неутешно рыдать или бросаться на пол в пароксизмах детского отчаяния? Не припомните ли бурю душевных невзгод, мгновенно затихнувшую при появлении матери? Я, кажется, еще чувствую горячие, учащенные поцелуи матери на моих щеках, слышу нежные звуки ее голоса, вижу улыбку ее, когда она, грозя пальцем, заставляла меня смеяться с непросохшими еще слезами на глазах. Я вспоминаю многое. И церковный полумрак во время всенощной, и внезапный страх, напавший среди сна, и гнев и злые шутки сверстников, – и всю ту нескончаемую повесть и горестей, и радостей детства, среди которых образ матери всегда являлся утешителем и другом. Научив меня говорить, читать и писать, т. е. вручив мне первые орудия, сделавшие меня сотрудником общественного труда, она указала мне путь, ведущий к славе, повторяя, что лучшим доказательством любви к ней будет мой первый лавровый венок… Бросаю однако перо, заметив, что вместо того, чтобы представить здесь страницу из физиологии человеческих наслаждений, записываю здесь отрывок из собственной жизни…
Не следует забывать отношений к отцу. Вы должны любить его: и он когда-то сиживал около колыбели вашей, и он участвовал в ребяческих играх ваших; он должен войти в рамки ваших детских воспоминаний уже по тому одному, как его ежедневно ждали домой в определенный час радовались его приходу и ощущали пустоту во время его отсутствия. Вам помнится, как весело выхватывал он вас из объятий матери или из среды товарищей, как прижимал он личико ваше к своему бородатому или колючему лицу; позднее вам вспоминаются не совсем приятные минуты: строгий вид отца и выговоры, и наказания… Бедный отец! Нельзя не любить и не уважать его; может статься, он работал в течение долгой жизни, чтобы вам предоставить радости более удобного и более легкого существования!.. Он скупился, может быть, для себя самого, чтобы стать щедрым для вас… Но ежели бы этого не было, то – вспомните! – он дал вам жизнь и имя ваше. Ничто не озаряет таким ярким светом лицо отца, как слава собственных его сыновей. Мать способна любить до безумия и обыкновенного сына, довольствуясь, во всяком случае, счастьем быть матерью человека с благородным сердцем. Но мужчина радуется роли отца только тогда, когда может гордиться сыном, и когда, опираясь на руку юноши, он слышит похвалу ему.
Как ни многочисленны бывают наслаждения, доставляемые любовью к родителям, их все же можно подвести под две категории радости – пассивные и доступные всем и каждому, когда человек довольствуется сердечным чувством любви к родителям, радуясь здоровью их и благосостоянию.
Наслаждения доставляются в этом случае простым удовлетворением чувства, добываются без утомления и жертв со стороны детей. Но высшие и благороднейшие радости проистекают из других, более деятельных сторон сыновней любви, которая стремится доказать на деле силу, ее одушевляющую. Сюда относятся подарки, сюрпризы, доставления родителям удобств жизни и, наконец, принесенные в пользу их жертвы. В этих строках немного слов, но все они указывают на целый мир щедрых, высоких и утонченных радостей, способных украсить и преисполнить только радостью взаимное существование как родителей, так и детей. Следует дать описание некоторых драгоценных камушков из этой коллекции.
Горькая судьба принудила нас проводить жизнь вдали от отца и матери. Кругом – свирепая зима, а календарь указывает на приближение привычного для семьи праздника, ради которого собирается издавна вся семья. Нас, находящихся за многие сотни миль от родного гнезда, никто не ожидает, а свирепость зимы не допускает, казалось бы, и мысли о дальнем пути. Но смелая поездка задумана давно. Вы бросили на время дела свои и спешите домой. Время рассчитано до тонкости, и в ту самую минуту, когда дорогая вам семья усаживается около обеденного стола, вздыхая, может быть, об отсутствии далекого, любимого сына; вы влетаете внезапно в комнату, бросаетесь в объятия отца, душите мать поцелуями…
Счастливый случай или скорее результат долгих трудов и лишений позволил вам наконец располагать небольшой суммой денег. К концу осени вы пишете матери, до страсти любящей путешествия, что вы намерены увезти ее и чтобы она готовилась посетить с вами Флоренцию…
Вы находитесь далеко от всех своих, в чужой земле и в чуждой вам обстановке. Писем вы давно не получали и горестно дивитесь небывалому и необъяснимому молчанию. Вы отправляетесь в сотый раз на почту, только для того, чтобы вспомнить обычную проформу, перестав уже надеяться на получение письма. С видом полнейшего равнодушия, но с душевным трепетом вы спрашиваете писем из Италии… Ответ удовлетворителен; письмо получено… оно в ваших руках… вы пробежали его глазами… о радость!.. мать пишет о скором своем приезде… чтобы свидеться с сыном, она проехала уже вдоль всего материка Европы…
Наслаждения чувствами этого пункта не ограничиваются, однако, театральными эффектами нежданных, судорожных свиданий. Бывают в проявлениях этого чувства наслаждения молчаливые и тихие, бывают трепетные наслаждения, не мешающие грустно-сладостному настроению духа…
Читатели мои, вы теперь еще носите, быть может, имя сыновей и дочерей, но может быть, вы уже давно лишены этого счастья, и тогда вы, ощущая в сердце небывалую пустоту, чувствуете, как дороги были сокровища, которых вы лишились.
Сыновья вообще бывают сильнее привязаны к матери; дочери же, наоборот, более склонны окружать нежнейшими заботами отца. В различии этих отношений кроется неразгаданная еще пока психическая тайна, тщательный анализ которой снабдит, вероятно, летописи человеческого сердца многими и драгоценными страницами. В настоящее же время я могу только сказать следующее: будь мне предложено изобразить живописными картинами два момента из высших наслаждений любви к родителям, я поручил бы художнику начертать на первом полотне сына-юношу, читающего в разгаре славолюбивых надежд первый, еще неизданный труд свой матери, которая, опустившись в кресло, ловит со взором, полным восторга и умиления, каждое слово, слетающее с милых ей и для нее всегда уст. Вторая картина моя представляла бы старика, опирающегося на руку дочери, заботливо и любовно заглядывающей в дорогое ей, утомленное от прогулки лицо отца.
Братья, обязанные жизнью одним и тем же родителям, связаны зачастую между собою чувством, возникшим не в силу необходимого закона природы, движущего сердцем матери, не в силу нравственного закона, обязательно влияющего на отношения детей к родителям; они связаны чувством, исполненным то тихих и спокойных радостей, то трепета великодушных стремлений, то сладостных ощущений неизменной приязни, стелющейся, как некий благоуханный аромат, по всему жизненному пути сестер и братьев. Братья, ежели можно так выразиться, друзья прирожденные, обладающие общей сокровищницей воспоминаний и пережитых вместе радостей и страданий; вот почему они живут, до некоторой степени, общей им всем нравственной жизнью. Идея общности и единство происхождения налагают на них характеристическую некую печать, которая, делая их членами одной общей всем им школе чувств, делает их восприимчивыми к впечатлению одного и того же рода событий. Сознание общности крови, сказать по правде, принадлежит более к области идей, чем к области личного ощущения или чувства. Случается же иной раз, что братья, разлученные с детства течением неблагоприятных обстоятельств и встретившись в жизни как люди чуждые друг другу и даже вовсе незнакомые, чувствуют или взаимное отвращение, или даже ненависть, или просто полнейшее друг к другу равнодушие и голос крови не сказывает им ровно ничего о близком между ними родстве. Бывают в подобных случаях исключения, но они не нарушают справедливости общей мысли.
Как дружба между посторонними людьми, так и взаимная любовь братьев между собой питается аналогией чувств и мыслей; в глазах одной и той же семьи аналогия эта бывает естественным следствием общности организации.
Все физические и нравственные элементы, обуславливающие наслаждения дружбы вообще, одинаково влияют и на радости братской любви, когда она, не ограничиваясь узкими рамками обязанности и долга, доходит между детьми одних и тех же родителей до идеала дружеских отношений.
Но хотя бы брат и боготворил иной раз брата, и хотя бы сестра и была в действительности восторженно привязанной к сестре своей, братская любовь достигает идеального совершенства своего только во взаимных отношениях между братом и сестрой.
Братья, как и все люди вообще, не страдая вовсе излишеством нравственной силы, не стремятся изливать ее аффектом, составляющим не потребность существования, а только роскошь жизни. Да притом братья, избирая каждый отдельный жизненный путь, нередко теряют друг друга из виду. Сестры же могут зачастую становиться соперницами, сталкиваясь между собой в деле тщеславия или любви, ежели только огромная разница в возрасте не делает подобные столкновения невозможными; но и там, где сестры остаются в полном согласии и любви, и там замужество, эта вожделенная цель каждой женщины, разлучает сестер чуть ли не навсегда.
Но брат и сестра созданы самой природой как бы для взаимной приязни. С раннего детства брат видит около себя ласковое существо, готовое вынести при случае от прирожденного ей друга и вспышку внезапного гнева, и слишком явно выраженное сознание превосходства; он находит близ себя, при самом вступлении в жизнь, сродное ему создание, умеющее подчас оказать и легкое сопротивление произволу брата, но вовсе не желающее вступать в борьбу с ним – словом, при самом начале пути своего он видит около себя ангела, всегда скорого на помощь в деле и на утешение в печалях. Притом же в отношениях между братом и сестрой не бывает места самолюбию, и потому между ними всегда возможен хотя бы и вовсе неровный обмен сюрпризов, приношений и более или менее щедрых пожертвований.
По большей части брат находит в своей сестре друга, полного уступчивости и внимания, всегда готового выслушивать и бесконечные иеремиады брата, и докучливые его россказни о его безынтересных и нередко даже смешных подвигах; находит друга, принимающего к сердцу всякое горе брата и всякую приключившуюся с ним невзгоду. Для нее брат – любимое существо, к которому она привыкла с раннего детства посвящать ту нужную заботливость и те услуги, в оказании которых женщина полагает счастье жизни. Но впоследствии, когда другой станет кумиром ее жизни, тогда сестра не забудет того, кто с детства был для нее милейшим созданием.
Братская любовь составляет принадлежность всех возрастов; лучшие же из ее наслаждений начинаются тогда, когда над человеком пронеслось уже бурное время молодости. В зрелом возрасте или во времена дряхлой старости родители бывают уже преданы забвению, ибо смерть уже лишила человека и многих из приятелей и друзей его и трепетания любви уже замерли давно на кострах, оставив в сердце человека лишь горсть более или менее теплой золы. И благо тому человеку, который в эту леденящую пору жизни в состоянии бывает броситься в объятия сестры или брата, чувствуя при этом, что к груди своей он прижимает сердце, не перестававшее биться горячей к нему любовью.
Брат и сестра как осколки некогда многочисленной семьи свили себе где-то позднее гнездо; он зарабатывает средства, она лелеет его с заботливостью матери: от укромного гнезда этих людей веет ароматом изящно-высоких наслаждений. Озабоченный делами жизни, брат находит, однако, время посещать ежедневно одиноко живущую сестру, и этих искр непотухшей братской любви достаточно бывает, чтобы осветить до гробовой доски существование обоих стариков. Идея единокровности, собрав в одно гнездо действительных членов семьи, привлекает иногда к радушной обители множество других, не далеких по крови существ, т. е. родных и родичей. Когда приязнь, соединяющая между собой сродников, не бывает подновлена ни чувством взаимного уважения, ни дружбы, приязнь эта, держащаяся в точных пределах родственных обязательств, висит уже на тончайшем волоске, могущем разорваться внезапно, от первой вспышки гнева и от холодного веяния милых враждебных интересов. Когда же, наоборот, человека любят и уважают за личные достоинства, тогда эти чувства почтения и любви заимствуют от сознания родства и единокровности окраску более живого и теплого чувства, налагающего характерную печать свою на сборища и увеселения, которые в ином случае были бы только выполнением обязанностей общежития. Постараюсь пояснить эти рассуждения примером, взятым из жизни семьи человеческой.
Чувство, связующее между собой дедов и внуков, составляет одно из самых почтенных уз родства. Старец связан с младенцем цепью аффекта и служит посредником между обоими; аффекта, образующего и общий между ними узел, и лестницу чувств и мыслей, идущих от одного к другому. Здесь три поколения, слившись в одну семью, дышат атмосферой, общей как родителям, так и детям. Это составляет поистине одну из наиболее поэтических комбинаций человеческого, одну из наиболее художественных групп, образованных где-либо сплетением многоразличных чувствований нашего сердца.
Дядя и племянник, пожимающие друг другу руки, составляют другую, не менее восхитительную группу. Здесь обмен чувств благородства, щедрых воздаяний и взаимоуважения, сливаясь с сознанием единства крови, рисуют картину, полную достоинства и глубокого знания. Отходя далее от общего гнезда и от корня его происхождения, встречаем немало родственных и более или менее друг другу знакомых и близких; но истинную связь между ними составляют все же сближения, зависящие от личного выбора и личных более или менее теплых чувств.
Тем не менее эманации, более или менее теплые, отделяются от многоразличных ощущений сродства и случайного сходства и, сливаясь в одно целое, образуют ту теплую атмосферу общих стремлений, называемую любовью родственной; это – аккорд, составленный из гармоний различных инструментов. Собираясь вместе, родственники невольно совершают обмен сердечных благоуханий, наслаждаясь чувством семейности и сродства. В подобных случаях необходимым условием сборищ бывает отсутствие каких бы то ни было затаенных чувств озлобления и ненависти. Эти оттенки родственного аффекта до того хрупки и нежны, что мельчайшее дуновение враждебного ветра может сдуть их, и малейшее столкновение может уничтожить всю прелесть общения. Приятны бывают те семейные празднества, где собирается все гнездо, где присутствуют все члены широко разветвившейся семьи в восходящей и нисходящей линиях. В подобных случаях и без присутствия приязни, более или менее страстной, или каких-либо нежных чувств ощущается наслаждение при виде стольких индивидуумов, таинственно связанных общностью происхождения, и сердце каждого невольно трепещет от весьма наивного и чистого удовольствия.
Наслаждения семейные – то же самое, что в деле существования хлеб и вода. Мы вовсе не сознаем наслаждений, доставляемых этими питателями жизни человеческой; отсутствие же их бывает весьма и весьма чувствительно, и только при недостаточности их мы сознаем действительно всю громадность их значения в жизни. Все вы счастливые, имеющие где-либо семейный кров или родственное гнездо, где вам возможно бывает отдохнуть, хоть на время, от жизненных непогод; умейте пользоваться близким, насущным счастьем, а главное, забудьте скорее о тех мелких уколах самолюбию вашему, о тех микроскопически малых противоречиях, которые заставили было вас возненавидеть блаженную и тихую пристань семейного круга. Учитесь любить и быть любимыми! В области семейной жизни сокрыты несказанные сокровища; там предстоит вам и выполнение обязанностей, и пользование правами, там ждут вас нескончаемые наслаждения, обычные спутники благородных чувств и мыслей. Вспомним древнюю поговорку: «Не ходи далеко за тем, что у тебя под рукой!» Словом, не злоупотребляй значением жизни.
Кроме тех многоразличных форм первичного чувства людского общения, о которых много уже говорено, существует еще много других, хотя бы менее определенных видоизменений его, о которых следует упомянуть здесь, так как и они бывают, в свой черед, источниками разнообразнейших для нас наслаждений. В человеке нас интересуют иной раз характерные черты, придаваемые ему возрастом. Вид младенца, например, сразу возбуждает всеобщее к нему сочувствие. Всякому доставило бы удовольствие покачать его, пощекотать его крошечную ладонь, так или иначе прикоснуться к его округленным членам. Вид человечка столь крошечного, столь еще неосмысленного, столь грациозного в его передвижениях производит в нас какое-то нравственное щекотание всех единовременно возбужденных способностей ума и сердца.
Неопределенность ли будущего этого микроскопически малого создания, предположения ли на этот счет внезапно пробуждают интерес зрителей – неизвестно; верно только то, что присутствие младенца бывает для каждого источником живых и разнообразных наслаждений. Ежели случилось кому-либо из читателей посетить клинику знаменитого профессора, хирурга Порто, тот не забудет никогда удовольствия, написанного на лице этого великого мужа, когда он заигрывает и шутит с детишками, доверенными их родителями смелому искусству его хирургического ножа.
Красота юноши, без каких-либо отношений к его полу, интересует каждого уже одним видом его силы, которой дышит вся его фигура. Примитивный аффект, возбуждаемый человеком-юношей, бывает выражением весьма естественного сочувствия каждого из нас иль наилучшему экземпляру линнеевского homo sapiens. Сверкание молниеносных очей, гибкость и живость его движений, внезапное потряхивание волнистыми кудрями – вот элементы удивления нашего к человеку вообще, каков ни был проявляемый им тип красоты. Сложное понятие о красоте человеческой составляет продукт интеллигенции, а только сердце участвует в сочувствии нашем при виде юноши.
Когда старец не изуродован нравственными или физическими недостатками, вид его не внушает нам ничего, кроме живейшего к нему сочувствия. Объятые священным страхом, мы вспоминаем при виде его о всемогуществе времени и о слабости сопротивления, оказываемого ему природой человека. В виде старца сосредоточены бывают для нас и самые дорогие сердцу человеческому и самые страшные для него воспоминания; он – символ для нас и течения долгой жизни, и неминуемого приближения смерти. Это – монумент из живого мяса, и вид его сосредоточивает в себе уважение к памяти былого с естественным сочувствием к виду человека вообще. Неопределенный луч, дрожащий в глазах старика, и серебро его седин всегда возбуждали во мне такой прилив уважения, что мне всегда хотелось снять шапку перед каждым из встречающихся мне по пути подобных памятников уже почти дожитого существования. Старец честно поживший – явление святое на земле. Описав выше наслаждения материнской любви, я не упоминал больше о влиянии других проявлений чувствительности на жизнь людей. Не говорил я ни о выражении, налагаемом ими на лицо человеческое, ни о многочисленных искажениях нравственных чувств. Не хотелось мне повторять без конца одно и то же. Попробую хоть раз избегнуть вечных повторений.
Составивший себе ясное понятие о наслаждениях примитивным чувством и наслаждениях социального аффекта вообще постигнет и без моей помощи все наслаждения, доставляемые прочими аффектами человеческого сердца. Радости одни и те же, все они заключаются в наслаждении «любить» и «возбуждать к себе любовь», в сознании благотворения и в сознании получаемых благодеяний. Каждое нравственное чувство, однако, придает наслаждению особенный характер, словно налагая на него печать свою, как бы некий фабричный штемпель. Так, одну и ту же помощь можно оказывать и незнакомому вовсе человеку и задушевному другу, и матери, и любимому существу, и брату или сестре. Во всех этих случаях человек наслаждается одинаково сознанием совершенного доброго дела, но чувство, сопровождающее в этих случаях выполнение долга, окрашивает наслаждение особенным оттенком, изменяя степень и самую суть его природы.
Наслаждение выразится на лице человеческом всегда одними и теми же чертами, но чувство скользит по лицу широкой кистью своей и придает картине совсем иной оттенок и совершенно иное значение.
Я должен здесь снять с себя обвинение. Меня укорят в пробеле, оставляемым мною относительно супружеского счастья. Но в тех случаях, когда супружество не основано на меркантильных условиях и на биржевой сделке, оно составляет всю ту же любовь, и мне приходится отсылать читателей к тем главам, где я говорю о чувствах дружбы и себялюбия. Когда закончен будет мой труд «О физиологии страданий», читатель, ознакомившийся с обеими книгами, усвоит себе всю повесть этого гражданского и религиозного союза, этого непременного и законного заболевания любви.
Глава XXIII. О наслаждениях, доставляемых чувством уважения и почитания
Одним из самых возвышенных чувств, украшавших века цветник нашего сердца, является чувство уважения к людям великим и славным, возвышающимся над толпой изяществом сердечного аффекта или превосходством нравственных сил. Чувство это, в зависимости от образа своего проявления, может носить различные семена, но оно всегда и везде остается чувством возвышенным, способным утешить человека наслаждениями высшего разряда.
При меньшем развитии этого чувства, люди не переступают границ холодного удивления, и наслаждение является нам от отражения на душу нашу чувств красоты, справедливости величия и добра, блестящих в делах высокоуважаемых личностей.
Выполняя сами какое-либо доброе дело, мы наслаждаемся чувством, начало и основание которого лежат в собственной нашей душе; когда же мы смотрим на доброе дело со стороны, оно только временно отражается в совести нашей, вызывая в ней ответный луч чувством восторга или удивления к поступкам других. Естественный феномен этот физиологически повторяется в совести большинства людей, но в области патологии зеркало совести тускнеет от дуновений тщеславия и эгоизма, и оно не только утрачивает способность отражать дела великих людей, но отвечает на яркий свет, ими проливаемый, лучами зависти и злобы. Мало-помалу оно вообще лишается способности отражать что-либо, кроме крайнего равнодушия. Луч, отражаемый в нашей совести, видоизменяется и по количеству вмещаемого им в себе света, и по численности вызываемых им представлений. Так человек, сразу поразивший нас каким-либо делом высокого ума, возбуждает к себе восхищение, могущее доходить до боготворения, если только молниеносен и ярок поразивший нас луч истины и красоты. Но удивление при виде подобных проявлений высшей интеллигенции может вызвать отражение луча яркого, но всегда холодного; лучи же, распространяющие около себя дело добра и милосердия, доходят теплее и мягче до сознания людского и заставляют существенно колебаться сердца, которые при этом и восхищаются, и уважают, и начинают даже любить.
В обоих случаях чувство удивления и восторга всегда бывает чувством вполне благородным, так как ему приходится побороть противодействие эгоизма и тщеславия; и мощное, всепоглощающее во многих людях понятие о значении собственного «Я» должно уступать здесь место удивлению к другому лицу. Исполняясь восхищением к другому, человек тем самым признает превосходство этого другого над собой и являет своим уважением как бы знак подданичества и пересиливает собственное тщеславие и признает слабость свою. Но так как и эгоизм составляет необходимый элемент человеческого существования, грешащий только излишеством своего развития, то против чувства уважения к другим в человеке всегда борется инстинкт собственного эгоизма, уступающий шаг за шагом требованиям уважения. Люди непомерной душевной гордыни не уважают никого, но и они бывают, однако, принуждены силой истины выразить удивление и восторг; хотя в глубине сердца они этого не признают. Когда же и в их затемненную гордыней совесть проникает море света, тогда они злостно закрывают глаза пред его лучами. Для таких людей уважение и восторг останутся навсегда мертвой буквой.
Некоторые умеют платить дань должного уважения только людям, разлученным сними громадностью пространства, или, что еще лучше, бездной, которая отделяет смерть от жизни. Их не пугает только превосходство людей далеких или уже ушедших из жизни; гордецы эти нередко заключают все честолюбивые домыслы свои в границах своей области, своего города или даже только своего села.
Но, к великому нашему утешению, существует немало людей, которые, не будучи сами великими, умеют удивляться всему высокому на земле; людей, которые, не переступив сами граней добра и обыденных обязанностей, плачут, читая сказание об Аттиле Регуле или любуясь современными им самим подвигами великодушия. Не мало мужей истинно великих умели выражать уважение личностям, стоящим на более высокой ступени совершенства, охотно служа смиренными спутниками этим лучезарным для них светилам. Таким людям не чужды все наслаждения, проистекающие из чувства уважения со всеми его подразделениями. Мы разделим здесь все формы восторга и удивления на две равные категории.
Дань удивления, отдаваемая нами людям, уже не освещающим мира своими лучами, может переходить в некий культ, в действительное обоготворение, но в подобных наслаждениях гораздо более участвует ум, чем сердце. Наслаждаются люди уважением и к современникам, и к великим людям античного мира. Все подобные наслаждения могут быть соединены в одну категорию, напоминая о спокойном свете луны, бросающем на землю свет свой, но не греющим ее этим светом.
Другие наслаждения – более горячего, более яркого свойства, более сходные с солнечным светом. Здесь человек, возбуждающий восторг, не отдален от нас, и распространяющийся от него свет влияет на нас непосредственно, возбуждая и страх, и радость.
Мы ощущаем близость великого человека, восстанавливающего честь человечества, приниженную толпой пошлых и глупых людей; мы прислушиваемся к его голосу, впивая в себя свет, исходящий из лучезарных его очей.
Кому не дано было в жизни подобных минут, тот может вообразить себе блаженство их ощущения, если только, не лишенный высших свойств ума и сердца, он когда-либо жаждал и для себя венца славы. Излишними описаниями боюсь профанировать здесь одно из высших наслаждений жизни.
К этой второй категории наслаждений принадлежит счастье, ощущаемое при виде чужого доброго и великодушного дела. Наслаждения эти видоизменяются по степени достоинства самого дела, но они всегда согревают душу, ощущающую их. Теплоту подобных радостей я сравниваю только с таинственным чувством тепла, ощущаемого нашей рукой, опущенной в гнездо только что вылетевшей птицы.
Немногие из нас могут возвышаться до горных степеней самопожертвования, к которым они не перестают стремиться по причине высоты собственного духа и ради удовлетворения требований утонченного в них чувства. Им приходится жить среди душной и зловонной атмосферы эгоизма, влияния которой они не могут избегнуть, ни бросаясь в водоворот деятельной жизни, исполненной волнений и тревог, ни даже оставаясь в святилище собственной семьи.
Они, вероятно, не раз уже пробовали бросаться в умилении сердечном навстречу человеку, прославившемуся добротой своей, но их всякий раз ожидало разочарование при виде только строгого выполнения долга, что для подобных существ кажется только гранью, отделяющей людей от порока, а вовсе еще не тем, что они называют добродетелью. И вот, посреди безотрадной жизни, проводимой этими избранниками небес, этими болящими сердцем, случится им наткнуться на доброе дело любви и самопожертвования, или прислушаться к рассказу о подобном деле, или прочитать трогательную о нем повесть. Тогда эти бедные цветы, привыкшие держать свернутыми венчики собственного сердца в холодной температуре окружающего их эгоизма, развертывают с трепетной радостью благовонные лепестки свои и наполняют благоуханием благих дел атмосферу, их окружающую. Затем они снова и немедленно закрывают свои венчики с чувством религиозной сосредоточенности, наслаждаясь в сердце вполне утешившим их лучом истинного света и теплотой жизни, им сообщенной. Если на эти бедные строки мои упадут взоры того или другого из этих избранников небес, надеюсь, что они простят мне скудность моего описания, заметив, что в сущности я угадал всю прелесть их скромных наслаждений.
Как все другие чувства, так и уважение к людям способно к многоразличным наслаждениям. Все чувства и все способности нравственного мира могут участвовать в их произведении. Вид драгоценного автографа может вызвать и трепет наслаждения; даже слепой человек может заплакать от радости, прикасаясь к обители обожаемого им великого мужа. Чувствующий гармонию, завещанную миру великим Россини из глубины его могилы, ощущает при звуках этой музыки еще более, может быть, сердечного уважения к его личности, чем наслаждений чувством слуха. То же самое можно сказать и о человеке, который в первый раз читает автобиографию, оставленную великим мужем для утехи современных ему людей. Иногда наслаждения, проистекающие из иного источника, пропитываются всецело некоторым благоуханием уважения. Как время, пролетая над предметами, придает им особенно дорогое значение, так и чувства уважения, затронув легким и трепетным крылом своим все привязанности людей, сообщает им таинственно-высокое наслаждение. Так можно любить и быть особенно преданным благодетелю своему; но ежели благодетель этот отличается почтенною старостью и несомненными достоинствами ума и сердца, то приветствие ему и поцелуй его руки производятся с чувством трепетного наслаждения.
Всего отраднее бывает тот культ, который воздает человек семидесятилетней матери, или великому мужу, уже дряхлому и ветхому, но все еще по временам дающему знать о прежней высоте своего духа взором, полным огня и вдохновения.
Наслаждения эти способствуют развитию прочих благородных чувств, усмиряя внутреннюю гордыню людей и возводя тщеславие до степени благородного честолюбия; так что, не имея довольно нравственных сил, чтобы быть самим великими людьми, они, по крайней мере, становятся достойными понимать их. Случалось, что дань уважения, воздаваемая гениальной личности, указав человеку на благородную цель в жизни, дозволяла и ему самому пожинать и себе лавровые венки.
Эти наслаждения, как сказано выше, не могут стать достоянием всех людей, и каждый из нас испытывает их по-своему. Некоторые люди могут бывать в обществе, где собраны светила нашего времени, не ощущая притом ни душевного волнения, ни всепоглощающей радости; другие же, наоборот, бледнеют от радостного волнения, прикасаясь только к автографу Гёте или Наполеона.
Женщина, несомненно, более мужчины наслаждается подобными радостями. Они сильнее поражают нас в юности, чем в лета более зрелые, и влияют более на нецивилизованные народности и в особенности на племена севера Европы. Мы ничего не можем сказать с достоверностью о том, умели ли древние более нас почитать великих людей своего времени; но по крайнему убеждению моему, цивилизация повлияла благотворно и на увеличение этих наслаждений.
Выражение их получает различную окраску, смотря по тому, относятся ли они к области ума или сердца. В первом случае лицо человека, преисполненного почтения, выражает всегда сдержанность, взоры бывают устремлены со вниманием и все прочие черты несут отпечаток смирения и удивления, доходящего до неподвижности изумления. Ко всему этому присоединяются иной раз более или менее гласно, восклицания, почти набожное складывание ладоней и покачивание головой. Когда же, наоборот, мы поклоняемся перед делами щедрости и великодушия, тогда физиономия становится живее, подвижнее складываясь в светлую, исходящую от лица улыбку. Когда человек достигает высшей степени этих наслаждений, на глаза его навертываются слезы, доходящие иногда до вздохов и рыданий; но это умиление, эти слезы бывают всегда излиянием сладостно восхищенного чувства. Кто хоть один раз, будучи зрителем доброго дела, был в состоянии не удержаться от подобного умиления и подобных слез, тот не способен уже никогда совершить низкое или злонамеренное дело.
Физиономия, во всяком случае, изменяется, в зависимости от условий, приводящих нас к заявлению почитания и уважения. Мы можем боготворить Гумбольдта, но лицо наше примет тот или другой оттенок уважения, смотря по тому, слушаем ли мы в эту минуту рассказ о его жизни, читаем ли страницу из его бессмертного «Космоса» или созерцаем его собственными очами. О патологии этих радостей мы можем сказать весьма немногое, так как чувство столь благородное может стать преступным только в случае полнейшей профанации. Но и тогда заблуждение оказывается со стороны ума, а не сердца. Уважением можно злоупотреблять так же, как и всеми чувствами, если, например, мы оказываем почитание людям недостойным, или не по мере истинных заслуг.
Мы видим людей, проводящих большую часть жизни в изумлении и с благоговейно сложенными перед кем-либо руками. Эти люди, разумеется, не имеют ни малейшего понятия об истинных наслаждениях чувств высокопочитания, жуируя по-своему несвязными и бледными вспышками слепого боготворения.
Но самая отвратительная проституция чувства случается тогда, когда злорадные и гнусные люди любуются великостью преступления и наглостью порока. Цинизму злодея, напевавшего песенку при входе на плаху, радовался уже не раз подобный ему преступник, который, скрываясь в толпе, должен был бы, казалось, проливать слезы и по возможности приносить плоды покаяния.
Глава XXIV. О наслаждениях любви к Родине
Природа, распределив свои богатства далеко не равномерно по лицу земли, желала, чтобы род человеческий не сосредоточивался на каком-либо его пункте и не подвергал бы себя таким образом риску постоянных распрей и взаимного самоуничтожения. Чтобы достигнуть этой цели наиболее простым путем, она прибавила к сокровищам человеческого сердца еще чувство любви к Родине, заставив лапландца привязаться ко льдам своим и тюленям, а нагого негра – к раскаленным своим пустыням и львам. Хотя эта цель сама по себе не лишена весьма серьёзного значения, однако любовь к отечеству имеет другое, еще более важное назначение. Сущность отечества состоит в том, чтобы обособить каждую национальность в тех пределах, где они зажигают очаги свои, побуждая людей к ожесточенной борьбе всякий раз, как честолюбие одного человека или интересы многих потребуют вторжения иноплеменных полчищ в пределы чужой страны.
Стремление к абсолютной истине заставляет меня признаться в реальности этого несомненного факта. Любовь к отечеству служит могучим двигателем к разрешению многих вопросов, обращающих на себя внимание человечества. Чувство это одинаково влияет и на мир добра, и на всю область зла; оно способно бывает вызвать самые благородные деяния и самые ужасные преступления. Только в последнем случае чувство это является уже весьма искаженным, сильнейшим недугом. Если в деле умственных заключений существует и абсолютная истина, и истина практически только верная, то сердце человеческое не ведает подобных размышлений; для него всегда существовала и вечно будет существовать одна только святая истина. Истина немногословна, и в настоящем случае достаточно будет нескольких слов, чтобы представить понятие о мире этого рода наслаждений. Тот поймет нас, кому знаком этот мир для того же, для кого он совершенно чужд, был бы мал и целый том доказательств и рассуждений. К сожалению, есть много людей, для которых любовь к отечеству остается лишь пустым звуком, ничего не говорящим сердцу. Им все равно, называются ли они французами, итальянцами, англичанами или турками, так как они вовсе не чувствуют громадного различия, существующего между этими понятиями, и они весьма охотно причислили бы себя к той стране, где оказалось бы менее горя и где живется веселее.
Бывают, впрочем, примеры, что люди, привязанные и к родине до глубины души в продолжение многих лет, а иногда и целой жизни, не имели случая насладиться этой любовью и убеждались в существовании самого чувства только после ряда непрерывных страданий, так что и небольшая доля последовавших затем наслаждений была поглощена морем горечи и разочарований. К мелким радостям, порождаемым чувством любви к родине, нужно отнести и наслаждения, испытываемыми при чтении о геройских подвигах соотечественников наших и о славе нашей Отчизны. Мы радуемся, слушая, как восхваляют нашу страну; радуемся, встретив соотечественника на чужбине, или заслышав там, и неожиданно, звуки родного языка. К этой категории можно причислить и наслаждение, ощущаемое нами, когда случается показывать иностранцу прелести нашей страны, и т. д.
Сильные радости покупаются самопожертвованием, и человек, трусливо охраняющий собственную особу от всяких бед, не в состоянии ни ощущать, ни даже понимать наслаждения этой любви.
Мы уже видели в других случаях, что величайшие из радостей жизни добываются не иначе как путем мужественной борьбы и самого геройского терпения. Любовь к Родине представляет наиболее разительное подтверждение истины этих слов. Вы жестоко ошибаетесь, полагая, что человек, родившийся богачом, испытывает наслаждения, составляющие удел труженика, добывающего себе избыток труда в поте лица своего. Ошибающийся таким образом доказывает полнейшее незнание человеческого сердца. Если хочешь наслаждаться – трудись! Наслаждения столь же редко попадаются человеку по пути, как и потерянные прохожим деньги, в остальных случаях их приходится добывать ценою труда и, нередко, даже ценой скорбей и горя. Множество людей несчастны только потому, что не имеют мужества и силы для добывания счастья.
Глава XXV. О наслаждениях, проистекающих из удовлетворения религиозного чувства
Приступая к этой главе, я долго медлил; с одной стороны, меня смущало выполнение составленного мной плана, с другой – я сознавал всю важность и деликатность предмета, и перо мое нерешительно колебалось в руке моей. Я сознавал, что вопрос этот по самой своей сути не может поддаваться усилиям тщательного и глубокого анализа, что он может подлежать только краткому очерку и не может быть изображен в деталях; сущность вопроса может быть скорее угадана, чем уяснена.
Моя борьба с этими разнообразными силами побудила меня избрать средний путь и, употребляя геометрический термин, путь диагонали, по которому я и намерен следовать, трактуя об этих старейших вопросах философии. Нужно, однако, заметить, что, безусловно, прямая линия существует только в воображении математиков; в действительности же такая линия никогда не была проведена ни в физическом, ни в моральном мире, и беспощадный анализ при помощи микроскопа делает ошибки очевидными. Во всяком случае, пусть люди, затерявшие осколки шатких верований или никогда, может быть, и не обладавшие верой или желающие убить ее в себе ввиду мелочного тщеславия и худо понятого личного интереса, – пусть весь этот разнокалиберный сброд не обольщает себя надеждой отыскать в этих моих строках новый материал для ироний и шуток. Не для них пишу я книгу свою, а для людей ума и сердца.
Явившись на свет, человек, окинув жадным и пристально-внимательным взглядом весь окружающий его мир, обращает наконец взоры свои на самого себя; на лице его проявляется улыбка самодовольствия, но ненадолго, так как он чувствует себя неудовлетворенным. Обращая взоры к небу, он старается отыскать там что-либо великое, услышать оттуда отклик на то простое религиозное стремление, которое он ощущает в своем сердце во всей его чистоте. Человек этот ищет точки опоры для внутреннего своего мира, он ищет там ответ на волнующие его чувства. И если пробудившийся в нем самом таинственный голос или ответ, внушенный ему извне, успокоит его душевное волнение, если получится ответ на внутренние его запросы, то он испытывает наслаждения, проистекающие из простейшего религиозного чувства, без какого-либо влияния на них элементов физического и нравственного мира.
В нынешние времена женщина, глубоко огорченная непостоянством земного счастья и удрученная скорбями жизни, ощущает живую потребность в посещении храма Божия. Там, простершись ниц перед алтарем на холодных мраморных плитах при тихом мерцании лампад и свеч, она жарко и долго молится; затем она исповедуется и принимает в себя пречистое тело Христово. Она выходит из храма, глубоко взволнованная и трепещущая; все существо ее переполнено невыразимым блаженством, и в эти мгновения она испытывает одно из самых сложных наслаждений, на которое влияют тысячи самых разнообразных элементов нравственного и интеллектуального мира.
Между этими двумя образами, составляющими противоположные крайности, лежит мир более или менее сложных и необъяснимых наслаждений религиозным чувством. Как ни различны бывают между собою эти наслаждения, но они имеют всегда одну общую черту, один общий колорит, роднящий их между собой и состоящий в общих веяниях в душе их религиозного чувства. Бледный или более-менее густой и яркий оттенок этого общего для всех них цвета свидетельствует о той степени участия, которое принимает религиозное чувство в образовании самого удовольствия. Как ни слаб бывает тон этой окраски, но он, однако, всегда существует, и некоторые философы, старавшиеся объяснить религиозное чувство как результат гармонии или счастливого сочетания уясненных уже ими элементов, жестоко ошибались и, видимо, не сумели или не желали подметить этот характерный признак. Религиозное чувство есть основная сила, присущая и необходимая физиологической природе образованного человека; она существует независимо от потребности верить, радоваться и надеяться. Ощущения, доставляемые нам органами чувств, и интеллектуальные способности наши, сочетаясь самым разнообразным образом с этим основным религиозным чувством, варьируют до бесконечности форму и силу порождаемых им наслаждений; сущность же их, повторяю еще раз, заключается в известном порыве нравственного чувства, в таинственном и пленительном излиянии сердца, чувствующего, но не рассуждающего. Ум человеческий может доказать истину религии, но он не в состоянии восполнить недостаток самого чувства, в силе которого и заключается, собственно, вся сила рассматриваемых нами наслаждений.
Из всех пяти чувств один только вкус не имеет никакого влияния на наслаждения, порождаемые религией; что же касается остальных, я решительно скажу, что даже осязание в связи с религиозным чувством дает несколько простейших комбинаций наслаждения. Так, например, холод, испытываемый молящимся в глубине подземной церкви или лежа, распростертым на мраморных плитах храма, невольно присоединяет ощущение физической дрожи, наполняя чувством наивного восторга наше сердце.
Несомненно, что из всех пяти чувств слух наиболее способствует тому, чтобы украсить обстановку наслаждений, порождаемых религиозным чувством; это весьма понятно так как ощущение звуков достигает почти непосредственно до области человеческого сердца, меж тем как зрение направляет сперва полученные им сведения в мастерскую человеческого ума. К звукам, оказывающим немалое влияние на религиозные наслаждения, следует отнести неясный и таинственный шум и зарождающиеся внезапно и постепенно угасающие звуки церковных колоколов. Припомните, как в выси сводов храмов глухо отдаются медленные шаги и как вторят им надгробные плиты; припомните таинственно прерывающийся шепот молитв, читаемых по четкам, и перезвон колоколов во время angelusa. В ряду звуков, носящихся по церкви, от сдержанного шума шагов до дивного созвучия песен, заключается все то, что от века порождало восторженное чувство и бывало не раз воспето поэтами; все то, что вдохновляло фантазии великих людей и приковывало внимание даже неразвитого уха. Музыка доставляет живейшее наслаждение слуху религиозного человека: воплощая в себе величие ее вдохновляющей идеи, она овладевает при помощи послушных ей инструментов религиозным чувством целой толпы, заставляя молящихся пылать одной общей им верой и сливаться в одну общую молитву. Орган является инструментом, наиболее подходящим к тому, чтобы оглашать церковные своды дивной гармонией, но великие гении сумели создать новые области для духовной музыки, которая нисколько не уменьшилась в силе своего влияния при исполнении ее сотнями инструментов в обширной и роскошной зале театра. Те, которые дрожат от восторга, слушая восхитительные образцы духовной музыки в операх Россини, Беллини и Верди, согласятся, конечно, что в эти минуты можно молиться и любить Бога, хотя и находишься в партере или ложе. Во всех сложных наслаждениях, проистекающих из сочетания какого-либо наслаждения с религиозным чувством, степень участия последнего бывает весьма различна. Часто чувство это до такой степени слабо, что почти совершенно поглощается силою ощущения, и самое наслаждение, порождаемое сочетанием, сохраняет только легкое благоухание религиозности. В самых горячих наслаждениях, наоборот, религиозное чувство является могучим и полновластным двигателем, для которого все остальное служит лишь великолепной одеждой, возносящей его еще выше в области всего великого и прекрасного. Тогда взоры наши уже не устремляются ни на темные очертания сводов, ни на трепетное пламя лампад и свечей храма, слух наш уже не прикован к величавым переливам звуков церковного органа; в эти минуты религиозное чувство, испытываемое нами среди гармоний цветов и звуков, не принимает определенных форм, всецело оставаясь в области нашего духовного мира. Да, тот, который хоть один раз в жизни пережил такое торжественное мгновение, может смело утверждать, что ему знакомо одно из величайших наслаждений сердца.
Великое множество чувств способно соединяться с религиозными стремлениями сердца, образуя как по существу, так и по форме своей самые пленительные сочетания. Но я остановлюсь только на тех из них, которые могут уяснить нам все другие комбинации, обойденные пока молчанием.
Любовь к человечеству во всех своих проявлениях имеет наибольшее право влиять на наслаждения, порождаемые религиозным чувством. Влияние это лишает наслаждения, если оно слишком индивидуального характера, могущее в некоторых случаях оказываться зловредным, и наоборот, возвышает их до степени совершенства, если оно удовлетворяет возвышенным стремлениям человеческой души.
Я замечу при этом, какая передо мною открывается обширная область. Хотелось бы, взлетая на крыльях зла, или хотя бы ползая как муравей, измерить и начертать ее пределы. В настоящее время я имею возможность приподнять лишь край священной завесы, приглашая читателей моих бросить взгляд на дивную, стелящуюся перед нами панораму. Различная степень гармонии между религией и нравственностью может служить мерилом совершенства самого религиозного культа и определяет естественный ход его исторического развития и назначения. Гармония эта достигает своего высшего совершенства в религии истинного Бога и дает нам возможность постигать тайну будущности человечества. Поэтому всякий, читая эти строки, может сказать: «Я – человек религиозный, так как я – человек нравственный; я честен и справедлив, потому что я религиозен».
Человек, поборов свою собственную нравственную немощь после того, как долго сокрушался о несовершенстве всех человеческих дел и предприятий, вдруг чувствует прилив моральных сил, начинает молиться и надеяться и ощущает живую потребность излить Богу свою душу, которая начала постигать величие Его промысла. Внутреннее трепетное чувство побуждает его ответить, так как он чувствовал, что какой-то голос говорил ему. Тогда он идет в храм и, падая ниц, лобызает священные изображения, украшает цветами и драгоценными каменьями алтари церкви и раздает милостыню нищим, толпящимся у храма. Всем этим он как бы дает ответ Богу, голос Которого он слышал в глубине своего сердца, но еще лучшим ответом является помощь болящим и скорбящим и прощение обид врагам нашим. Звон колокольчика, раздающийся среди богослужения и призывающий молящихся положить свою лепту в пользу неимущих, есть прекраснейшее выражение этой высокой идеи милосердия, которая вместе с добродетелью благоухает как драгоценнейший фимиам на алтаре Божьем. Если христианство вознеслось на такую недосягаемую высоту над всеми другими религиями, то главнейшим образом потому, что оно кроме правил веры учит нас и любви к ближнему, и милосердию. В этих двух началах заключается все величие культа истинному Богу; он составляет тот громадный шаг к самосовершенствованию, в котором преуспело человечество благодаря евангельскому учению.
Все второстепенные чувства, порождаемые частными видоизменениями духа общественности, могут в соединении с религиозными стремлениями создавать самые возвышенные и сложные наслаждения. Человек, утешающий своего друга и подкрепляющей его силы мыслью о высокой награде, ждущей его на небесах, испытывает наслаждение, проистекающее от двойного сочетания, образующегося из религиозного чувства и чувства дружбы. Когда мать заставляет своего ребенка, набожно скрестив руки, произносить молитву, она испытывает невыразимое блаженство, видя, как на лице его отражается смесь наивного неведения с теплой детской верой. Радость, переполняющая в эти мгновения ее сердце, не имеет наименования, но проистекает от сочетания двух наиболее возвышенных человеческих чувств.
Любовь к отечеству в соединении с религиозным чувством способна вызывать самые живые наслаждения, доходящие до энтузиазма. История прошедших веков дает тому наглядные примеры; в наши времена весьма немногие испытывают подобные наслаждения, и, конечно, в этом приходится винить лишь само молодое поколение.
Надежда есть постоянный спутник всех религиозных наслаждений, это – звено, соединяющее настоящее с будущим, это – узкий, но надежный мост, перекинутый через бездну, отделяющую веру от разума. Сначала, когда глаза наши только начинают прозревать истину, мы видим, что отдаленный горизонт наших желаний соединяется с настоящим мостом веры. Позднее, постепенно, камень за камнем, время разрушает это сооружение, пока наконец между настоящим и будущим не образуется ужасающая пустота, которую уже нечем заполнить. Тогда среди развалин моста остаются целыми лишь слабые остатки его остова, как бы одна основная связь, основная нить, составляющая душу всей постройки. Это – нить надежды; она служит телеграфным проводником наших желаний, путеводителем нашей жизни. Ржавчина разума разъедает этот остаток остова, холодный цинизм и подтачивает его связи, но он все еще не разрывается окончательно. Нередко самоубийца грубо разрывает всякую связь между противоположными берегами пропасти, но даже и тогда, среди полутьмы меркнущего разума, он видит, что связь эта восстанавливается сострадательной мудрой рукою… Ум имеет громадное значение в религиозных наслаждениях, главнейшим деятелем которых является вера. Всякая умственная работа, направленная к постижению какой-либо религиозной цели, обладает известной привлекательностью, которая является результатом удовлетворения потребности нашего духовного мира. К этому ряду наслаждений относятся удовольствия, доставляемые чтением священных книг, писанием религиозных сочинений и произнесением проповедей и речей духовного содержания.
Если бы потребовалось представить все радости, доставляемые религией, во всей их совокупности, то я бы сравнил их с картиной, изображающей удовлетворение религиозного чувства; главнейшие фигуры этой картины составят тогда группы различных человеческих привязанностей; эффекты света и тени будут результатом изобретательности ума, раму же, более или менее роскошную, образуют из себя различные наслаждения, доставляемые органами чувств. Основным колоритом картины неизменно будет служить чистая вера.
Если такую картину сочтут неудачной, если она грешит только туманностью, то я не беру ее назад и не раскаиваюсь в этом; сюжет ее сам по себе неясен и неопределен, но вид ее очарователен; он открывает нашим взорам среди стелющегося тумана рассвет начинающегося утра.
Наслаждения, доставляемые религией, имеют громадное влияние на моральные способности человека и на судьбу его жизни; предоставляю другим обсуждать этот сложный вопрос, который, конечно, не может быть исчерпан в немногих страницах. Замолкая, я устраняю таким образом недостаток, которого иначе мне не удалось бы избегнуть, а именно говорить много, но неосновательно.
Я решаюсь утверждать, не боясь впасть в ошибку, что женщины более мужчин наслаждаются радостями, доставляемыми религиозным чувством, и что вообще наслаждения эти имеют более живой характер в старости и в детском возрасте нашей жизни.
Не берусь решать вопрос, мы или наши отцы были впечатлительнее к религиозным наслаждениям, а также не желаю определять, в какой стране земного шара, среди цивилизованных или диких народов, эти наслаждения достигают высшего своего развития. В настоящем случае я не нахожу весов, которые бы служили мне для примерного взвешивания человеческих наслаждений.
Внешний облик религиозных наслаждений представляет замечательные образы, увековеченные величайшими художниками в образцовых произведениях живописи, ваяния и мозаики. Картины и статуи, так же как и книги, передают чувства и мысли минувших поколений. Самые прекрасные художественные образы религиозных наслаждений представляют экстаз человека, стремящегося к небесам, священный восторг, вырывающийся наружу во время жаркой молитвы, и слезы надежды и радости, текущие из глаз его. Вздохи, трепет, голос, прерывающийся от волнения, и сдержанные, хотя и выразительные движения составляют главнейшие элементы этих художественных образов. Когда религиозное наслаждение является результатом избавления от сильной горести, оно представляет собой прекраснейшее выражение полного удовлетворения и самой животрепещущей радости; заменяя скрывшуюся печаль, чувство это, как целебный бальзам, изглаживает все следы сердечной невзгоды.
В жизни отдельных индивидуумов религия имеет различное значение. Для некоторых она почти вовсе не существует, для других же является одним из последних вопросов жизни, последним запасным ресурсом, к которому прибегают лишь после того, как все источники легких земных наслаждений уже исчерпаны. Несмотря на это, религия, величаво-великодушная к человечеству, всегда прощает людей, ее забывающих, и не упрекает в низости тех, кто, пренебрегая ей в долгие годы счастья, в дни горести снова прибегает к ней за заступничеством и поддержкой. Она всегда готова с состраданием прижать к своей питающей груди как невинного, так и виновного. Несмотря на это, неистощимые сокровища религиозных наслаждений вполне изведаны только немногими избранными. Для них религия является неразлучным спутником всей жизни и, проводя целые дни у ее ног, они имеют достаточно времени, чтобы насладиться видом каждой драгоценности, украшающей ее великолепный царственный наряд. Эти истинные сыны Божии сохраняют среди горестей безмятежное спокойствие, среди же радостей не предаются безумному ликованию; с доверием смотрят они на будущее, чувствуя себя в безопасности под охраной всеблагого промысла.
Религиозное чувство в своей первоначальной чистоте столь возвышенно и благородно, что само не может вызывать болезненных наслаждений; соединяясь же с чуждыми ему элементами, чувство это порождает иногда и удовольствия, имеющие патологический характер. Приведем здесь несколько примеров такого рода наслаждений.
Человек, находящийся в церкви и обращающий более внимания на благолепие, чем на самую молитву, несомненно, грешит. Священник, произносящий слова Евангелия и сосредоточивающий свое внимание не на величии идеи, в них заключенной, а на красноречии самих выражений и на том эффекте, который производит в церкви его изящная дикция, испытывает наслаждение болезненного характера. Виновен также и тот, кто, нарушая обязанности к семейству или обществу, украшает храм Божий роскошью, не отвечающей духу христианского учения. Ханжа, думающий только о земной жизни и в своих молитвах поминающих лишь самого себя, совершает важный проступок против духа христианского учения, так как для него сама религия является как бы апофеозом эгоизма. Почти то же самое нужно сказать и об индийском факире, приносящем себя в жертву своему богу, так как наслаждение, им испытываемое, безусловно, болезненно.
Глава XXVI. О любви к борьбе
Основной материал нравственного фонда, присущего каждому человеку, сплетен из столь неисчислимого количества фибр и узлов, что решительно невозможно определить, состоит ли узел, взятый для анализа, из перепутавшихся между собой извилин одного и того же фибра или же он составляет произведение многих весьма различных элементов. Искусная и терпеливая рука напрасно трудилась бы над неблагодарным трудом, и весьма часто анатом, расположившись уже отдыхать, догадывается внезапно, что вместо анализа и по деления им произведены лишь простые разрывы и разрушения. Здесь невозможно бывает применение какого бы то ни было метода или избрание какого-либо определенного пути, и часто усмотренная через микроскоп точка оказывается при дальнейшем исследовании стечением сотен самых разнородных линий. Так бывает, например, с философом, когда он усиливается изучить силу, влекущую человека к борьбе; он недоумевает сначала о том, состоит ли она лишь из момента действий иных способностей или составляет сама по себе первичную силу, имеющую в себе самой причину возникновения. Но так как при выполнении предпринятого мной дела мне вовсе нет надобности выслеживать ход естественных линий, поделивших между собой области ума и сердца, и так как мне предстоит здесь лишь описание разновидностей человеческих наслаждений, то решаюсь считать здесь любовь к борьбе первичной силой, снабженной природой собственными от жизни требованиями, и потому владеющей собственным циклом наслаждений.
Человек способен бороться со всевозможными силами, действуя мускулами в борьбе против мускулов – чувствами противодействуя чувствам, идеей сражаясь с идеей других. В его власти объявить борьбу и природе, и человеку, и самому себе, и, вырвав у врага пальму победы, насладиться одной из интенсивнейших радостей человечества. Борьба чувств и мысли составляет феномен, происходящий в области чисто интеллектуальной, и потому наслаждения, из него проистекающие, должны быть изучаемы как результаты напряжения воли человеческой.
С первого взгляда эти слова могут показаться парадоксом или пустой игрой слов, и потому признаю необходимым выяснить справедливость их значения.
Одно упражнение мускулов порождает иногда в человеке наслаждение в силу победы над препятствием. Но наслаждение это происходит всецело из чувства осязания, внутренние же чувства человека не получают при этом ни малейшей отрады. Во множестве других случаев потребность борьбы возникает в нас самовольно, и мускулы тогда бывают только орудием внутренней деятельности; наслаждения при этом принадлежат всецело к циклу нравственных утех, т. е. они проистекают из силы, входящей в области внутренних аффектов.
Случается, что мускулы, утомленные излишним напряжением, доносят об ощущаемой в них боли, но охота к борьбе не усмиряется, и мы продолжаем бороться с яростью и наслаждением. Болезненно поражено бывает в нас чувство осязания, но чувство испытывает наслаждение, превышающее в эту минуту силу временного страдания.
Любовь к борьбе развивается в нас по большей части не иначе как под напором внутреннего чувства, вызвавшего его к жизни. Миролюбивейший из людей дает сначала посильный отпор, но затем он начинает уже бороться с полной яростью, находя в себе самом непознанную им дотоле силу. Если любовь к жизни и к собственности бывает серьёзно задета нападением врага, то сила происходящего от того страдания преодолевает небольшое удовольствие удачной борьбы, и последнее уже не ощущается; уверенность же в победе и пламя возбужденного мужества могут заместить болезненное чувство величия наслаждения и обратить борьбу в наслаждение. Пример тому можно видеть в шуточной борьбе двух друзей, напрягающих все силы, чтобы повалить один другого. Удовлетворение мускульного чувства, а вместе с тем и самолюбия способны увеличивать, при этом наслаждение, но интимная характерная черта подобных наслаждений состоит всецело в удовлетворенном чувстве любви к борьбе.
Если подобные наслаждения почти не встречаются в жизни иначе, как при содействии им иных чувств и специального чувства удовлетворенного самолюбия, то они, тем не менее, внедрены в человеческий организм. Кто не хочет признавать в людях присутствия подобного двигателя, тот пусть допросит собственное сознание и дознается сам, не бывали ли с ним минуты, когда он ощущал непреодолимую потребность бороться, побороть препятствия, ощущать около собственного тела присутствие двух сжимающихся рук, и силой освобождаясь от их натиска, потребность и поразить кого-либо, и почувствовать, в свой черед, на себе самом чьи-либо мощные удары.
Упоминая о наслаждениях борьбы, припомним здесь пример физической силы, всегда одинаковой по свойству своему, принимающей, однако, весьма различные образы, смотря по тому, чья рука руководит ее направлением. Понуждающая сила пара всегда и везде одна и та же и изменяется только в степени давления. Руководимая миролюбивым пахарем, она поднимает новь его полей, подчиняясь же власти иных людей, она мечет смертоносные ядра в станы врагов; она двигает невзрачный поток бумажной массы и она же способна сдерживать напоры ревущих вод океана. Способ применения силы так важен, что в деле теоретических исследований она привлекает к себе все внимание, оставляя иногда в забвении громадность самой силы, которая, оставаясь смиренно-утаенной, служит нравственным ядром, около которого могут группироваться феномены, по-видимому, весьма различные.
Редко встречаемое в неусложненном виде пристрастие людей к борьбе усугубляется по большей части присоединением к нему иных мотивов второстепенного значения, комбинацией, в которой та бывает зачастую главнейшим составным элементом. Случается, и этому примитивному чувству подчиняться другим двигателям при наслаждениях весьма разнородного свойства. Охота, гимнастические упражнения и война – вот те формулы наслаждений, где любовь к нанесению ударов бывает главнейшим стимулом борьбы. Страсть к приобретению, честолюбие и упражнение мускулов бывают элементами, которые, в связи с желанием борьбы, составляют попарно бесчисленные физические соединения.
Наслаждения эти, когда они остаются в границах физиологических чувств, усиливают волю, увеличивая крепость мышц. Осмеливаюсь предположить, что они могут способствовать атрофированию подлых и недостойных увлечений, возвышая в человеке мужество и усиливая деятельность прочих лучших свойств его сердца. Главное различие в пользовании этими наслаждениями состоит в разнице индивидуальных организаций.
К бою, разумеется, стремятся охотнее люди сильные и рослые, чем те бедные смертные, которых природа снабдила мышцами бескровными и тощими вместо мясистых мускулов, в которых бьется у здоровых субъектов горячая кровь. Но и в этом случае является бездна исключений; весьма часто отвратительная трусость находится в связи с громадным излишеством мускулатуры. Любовь же к борьбе может доходить до страсти в теле человека с мышцами тощими и бледными.
Женщины, дети и старики меньше любят наслаждения какой бы то ни было борьбы, чем люди зрелого возраста и юноши, которые, находясь в разгаре жизненных сил, естественно, желают померяться с противодействием равной им силы. В странах наименее образованных храбрость ценится выше и дает человеку большую сумму наслаждений. В крупных же центрах цивилизации целая жизнь проходит, не требуя от человека ни телесной отваги, ни каких-либо напряжений мускулатуры.
Отцы наши боролись охотнее и чаще и более нас восхищались борьбой. Признаки, характеризующие эти наслаждения, выражаются иногда весьма заманчивыми чертами. Трусливая женщина, пугающаяся появления мыши, тем не менее любуется выражением величавой силы, одушевляющей Геркулеса, вышедшего из-под резца Каноны, также знаменитой статуей гладиатора. Сами трусы удивляются иной раз доказательствам чужого мужества, хотя и стараются осмеять его перед людьми, думая насмешками заставить забыть собственную низость души.
В зрелище открытой и благородной физической борьбы есть действительно что-то возвышающее и оживляющее дух человека. Развитие мускульной силы по всему телу, пламенный блеск очей, энергическое напряжение лицевых мышц и губ, крепко стиснутых как бы для того, чтобы сдержать внутри человека грозящую вырваться из него могучую силу, – все это говорит об излишестве жизненности, о присутствии бурной и победоносной мощи.
Патологические проявления этих наслаждений неисчислимы; они могли бы быть сгруппированы в весьма интересную книжку. Здесь могло бы быть концентрировано значение всех подобных наслаждений – и римского цирка, и боя быков, и петушиного боя, и множества из жестоких охотничьих игр, и все дитя забавы людских побоищ.
Ужасающее игрище войны, причиняющее столько страшных зол, становится источником столь обильных и живейших наслаждений, перечень которым я и не хочу, и не могу приводить здесь, оставляя их пока в облаках, разделяющих оба стана – как физиологических, так и патологических проявлений. По этому вопросу у меня сложилось спокойное убеждение и твердая в него вера, но чувствую себя еще не в силах изложить ее в немногих чертах. Юноша, даже и в том случае, когда ему откроется истина путем долгой и многотрудной борьбы, не всегда имеет право безнаказанно пустить ее в мир, как бы поднося сам себе, единоличным решением вопроса награду незрелых еще похвал. Ему следует хранить драгоценную истину в святилище собственного сердца; он обязан лелеять ее в продолжение многих лет как любезное ему чадо; он должен доводить ее до совершенной зрелости глубоким и спокойным размышлением и в тиши келейной благоговеть перед открытой им истиной, как перед одной из святынь человеческих. По прошествии многих и многих лет дозволит он себе обнаружить тайну собственного открытия и вымолвить людям: «Истина найдена мною справедливой и доброй; явилась она мне при свете яркой юношеской фантазии, но я закрепил ее в горниле многих лет терпения и непреклонного умственного анализа. Она чиста…»
Глава XXVII. О наслаждениях, проистекающих из чувств справедливости и долга
Мы рассуждали до сих пор о наслаждениях, проистекающих из аффекта, обращенного человеком на самого себя или на других, но всегда имевшего пунктом отражения какое-либо живое существо или личность воображаемую. Теперь же, наоборот, мы становимся лицом к лицу к таинственным чувствам, относящимся или к некоей идее, или к нравственно неизменному образу, всецело воспринимаемому нами в суть нашего организма, выработанному всем ходом гражданской нашей жизни; образу, о существовании которого дает нам знать собственная совесть. До сих пор все было ясно, и если некоторые анализированные нами предметы оказывались или бледными и тусклыми, или сокрытыми в сумрачном полусвете, то видимы были, по крайней мере, очертания, определявшие индивидуальность их. Глазам нашим представлялось до сих пор обращенное или на нас самих, или на другого человека чувство, которое, нашедши нравственную поверхность, его отражающую, порождало наслаждение. Мы видели как точку отправления луча, так и то место, куда снова падал этот возвратившийся обратно луч. Теперь же, напротив, мы видим силу существующую и необходимую, но которая, возродившись в нас, направляется к области неизведанной и не подлежащей исследованию нашему, чувствуемой, но не видимой нами. Мы чувствуем внутри себя силу, которая влечет нас ко всему справедливому, всему прекрасному, ко всему истинному; но если бы мы вздумали определять точнее эти слова, обозначая им грани и угадывая причины их значения, тогда мы начали бы блуждать в пустынях метафизики, где человек для уяснения существующего факта изобретает несуществующие теории и, запутываясь все более и более в сетях диалектики, обманывает себя самого и тех, кто воображают, что понимают его. По счастью, там, где недоумевает разум, начинает подсказывать человеку неподкупное сердце. Философы снабдили мир многими определениями – что справедливо и что несправедливо; они написали уже тысячи книг для определения точных граней между этими двумя противоположными мирами, но сердце всегда чувствует без словопрений и без колебаний сомнения все, что справедливо и что несправедливо на земле; оно пронесло без изменения через пучины веков ту чуткость выбора, которая всегда сумеет отличить добро от зла. Горе людям, если бы могла когда-либо отупеть эта сердечная чуткость! Если бы разумом только возможно было начертить ландкарту нравственного мира, мигом ниспровергнуты были бы пограничные столбы, разметаны были бы в пользу личных интересов рвы и насыпи арен людских, и человек назвал бы дозволенным себе все, что ему приятно.
Чтобы не удаляться слишком от заданной себе программы, я скажу только, что все прекрасное, доброе и справедливое составляет область идей, имеющих отголосок в сердце человека. Область этих идей невозможно затронуть враждебно, не нанося ран и однородной с ними области человеческого чувства. В светлой повести обо всем прекрасном и истинном более участвует ум, чем сердце, и потому о проистекающих из них наслаждениях будет сказано после, при анализе умственных сил; наслаждения же, порожденные чувством добра и справедливости, должны быть отмечены здесь же. Пусть простят мне читатели неопределенность приводимых мной очертаний ради нежности образов, подлежащих здесь карандашу моему; бледность колорита будет отвечать идеальному и неопределенному описываемому мной предмету.
Мы все чувствуем справедливое и доброе, ощущая потребность справедливо творить добро, и потому всякий раз, как выполняется нами дело добра и справедливости, мы ощущаем живейшее наслаждение, которое усложняется нередко как удовлетворением самолюбия, так и радостью одержанной победы. Те же чувства удовлетворяются и при вспомоществовании добрым делам другого лица, и даже при всяком известии о выполнении доброго дела другим.
Чувство справедливости удовлетворяется во всей несложности своей, когда мы совершаем справедливый акт, не стоящий нам никакой жертвы. В таком случае в нас не происходит ни малейшей борьбы, не удовлетворяется никакого самолюбивого чувства, происходит простое и ничем не усложненное удовлетворение чувства, которое, как и все прочие, заявляет нам требования свои. Судья освобождает невинного, не принося актом его оправдания ни малейшей от себя жертвы; тем не менее, он чувствует при освобождении обвиняемого живейшее чувство радости. Весьма редко, однако, наслаждение бывает результатом одного удовлетворенного чувства справедливости; наслаждение в этом случае весьма быстро сообщается и другим сердечным аффектам. Так в упомянутом выше примере, избранном нами именно ради его несложности и простоты, к чувству удовлетворенной справедливости немедленно присоединяется и удовлетворение общественного чувства, т. е., выражаясь иными словами, любви к ближнему. Если же, увидев путешественника, окруженного разбойниками, мы спасаем его рискуя собственной жизнью, тогда мы испытываем наслаждение весьма усложненного свойства, так как им получили удовлетворение четыре из присущих человеку аффекта, а именно: сознание справедливости, любовь к борьбе, аффект социальный и, наконец, личное самолюбие.
Чувство долга, собственно говоря, составляет только модификацию того же чувства справедливости. Удовлетворение этого чувства всегда и во всяком случае доставляет наслаждение. Удовлетворяя справедливость, можно не раз одержать победу без усилий и напряжения; выполнение же долга всегда предполагает развитие силы, всегда требует усилий и борьбы. Человек, привлекаемый к доброму делу внутренней неодолимой силой, не борется и потому легко срывает победный свой лавр. Но редко встречаются подобные люди; еще реже попадаются добрые дела, которые возможно выполнить без некоторых усилий и без личного для себя ущерба. Нам предстоят довольно часто добрые дела, но они всегда стоят перед нами на некоей возвышенности. Мы с удовольствием смотрим на путь, ведущий в гору, но наши ноги поднимаются на возвышение как-то лениво и неохотно, и под гору мы, вероятно, шли бы гораздо охотнее. Но весьма часто мы предпочитаем, чувствуя слабость сил, спускаться в гостеприимные улыбающиеся нам долины; туда чуть ли не силой влечет нас магия, ласкающая наши ручки; снизу призывают нас льстивые, нежные голоса. Вот здесь-то и должен бы был явиться перед нашими глазами строгий облик «долга». Долг вовсе не оказывается щедрым раздавателем живых наслаждений, но дорога бывает сердцу человека теплота тех сладостных утешений, о которых уже говорено мной в главе о самопожертвовании. Повторяю здесь мной уже высказанную мысль и не стыжусь при этом многократных повторений; мысль эта и повергает ниц человека, и поднимает его на горные высоты, она и огорчает, и сама же немедленно утешает; это – идея, над значением которой следует поразмыслить.
Та путаница слов, та неопределенность выражений, в которую мы впадаем поневоле, когда речь идет о таинственных областях человеческого сердца, указывают постоянно на недостаточность словесных сокровищ наших. Слова на языке человеческом бывают в действительности только значками для людей, неточными передатчиками мысли, могущими указать только на некоторые из признаков неделимого предмета и проводящими; наконец, только неясные линии по атмосфере свободного и невидимого мышления нашего. Философы и синонимисты объяснят до точности различие, существующее между словами «справедливость», «доброта» и «долг», но толкованием своим они устраивают людям небывалый картонный мир. Все, что справедливо, то принадлежит к области добра; все то, к чему обязывает долг, то справедливо, что повелевает совесть, то все и справедливо, и хорошо. Неужели не очевидным становится здесь тот вечный круг нравственного «космоса», тот свод небес, которому нет ни начала, ни конца? Изучайте значение круга; истинно говорю вам, нравственная геометрия эта обнимает собой всю повесть мироздания.
Наслаждения справедливости и долга весьма сильно влияют на счастье жизни и, удовлетворяя нашим чувствам в настоящее время, готовят нам благополучие и в будущем. Этими наслаждениями обильна сама скорбная жизнь, так как человек всегда и везде может удовлетворить требованиям справедливости и выполнить то или другое из обязанностей своих. Люди же, одаренные как наибольшими сокровищами денежных средств, так и богатством ума и сердца, отягчены бывают и большой мерой нравственных обязательств; справедливыми же и добрыми должны быть одинаково все личности, сознающие собственную нравственную индивидуальность. Радости эти, будучи спокойными и полными сознания достоинства, не налагают на лицо наслаждающегося ими иного выражения, кроме минутного блеска, вспыхнувшего в очах, и светлой улыбки спокойного самодовольствия.
В минуты высшего наслаждения чувством исполненного долга человек вздыхает иной раз глубоко, полной грудью, и есть выражение блаженства в его сверкнувших радостью глазах, а между тем прочие черты лица его еще несут следы страдания и только что выдержанной внутренней борьбы. Вид подобного блаженства может изобразить только великий поэт или великий художник, философ же, собрав все элементы этого наслаждения с величайшей точностью, с ужасом видит в руках своих только безжизненный и бесформенный скелет. Высшая истина в связи с высшей поэзией могут одни изобразить точно анатомически верную картину нравственных наслаждений и всю прелесть дышащей наслаждением жизни; но весьма редко бывает душа поэта соединена в одной и той же личности со способностями и трудом философа. Ежели бы мог оказаться в мире подобный человек, его следовало бы боготворить как некое божество.
В некоторых редких случаях чувство справедливости может заболевать недугом ума или сердца и, совершая проступок вполне преступный, человек способен радоваться ему как деянию вполне справедливому и прекрасному. В некоторых случаях нравственного уродства человек, выполняя указания личных выгод и собственного честолюбия, вырисовывает, однако, из себя героя и вопиет во всеуслышание: «Выполняю долг свой!» Когда же не внутреннее сознание стыда покрывает маской лицемерия лицо уличного героя, когда искажение истины является лишь следствием невинно зарвавшегося невежества, тогда удивленным глазам нашим предстоит самая смешная из карикатур нравственного заблуждения.
Глава XXVIII. О наслаждениях надежды
Говоря о наслаждениях религиозного чувства, я упоминал уже о чарующих обаяниях надежды. Удивляюсь, как я мог не упоминать на страницах этого труда чаще о силе и прелестях надежды, так как чувство это сопутствует в течение всей жизни человека, сопровождая, шаг за шагом, все его радости и страдания, будучи неотлучной тенью всего испытуемого им в жизни. Надежда светла и радостна, как само солнце; невидима как воздух, освежающий нам грудь, она влияет благотворно на все дела и на мышление людей.
Надежда не составляет отдельного, примитивного в человеке чувства; это – не самобытная сила, исходящая из определенного пункта из какой-либо известной точки отправления. Она бывает произведением суммы аффектов, результатом напряженных желаний наших, страстно колеблющихся на пути своем к цели; словом, надежда – один из любопытнейших сложных феноменов нравственного мироздания. И от теплых областей сердца, и с холодных, оледенелых окраин ума одинаково несутся облака туманных надежд; легкие и быстрокрылые, они играют и вьются, уносясь к высотам еще неизвестных областей. Невещественные, как пожелания, стремительные, как потребность, они несутся как аромат сердечного аффекта, ищущего себе в пространстве сочувствия и братства; это – влияние интеллектуальной мощи, отыскивающей себе парус, с которым можно бы ей пуститься в неизведанную даль.
Своевольно и необузданно, как первый шаг юноши, пожелание взвивается сначала порывисто и бурно, не справляясь с указаниями компаса, не нюхая воздуха в пространстве, не ведая иной раз и самого пункта, к которому примыкает излюбленный им путь. Нетерпеливое и смелое, ему бы только уноситься ввысь; только бы наслаждаться прелестью свободного передвижения, взлетая выше и выше, без оглядки и сомнений. Но не все пожелания долетают до вожделенной, цели и вообще они не умеют летать по линии прямой и верной.
Дымчатые облака туманных и своенравных надежд, поднявшись быстро к высшим атмосферным слоям, внезапно останавливаются, дрожа и колеблясь в эфире, как в пустом пространстве. Там еле дышат благовонные зефиры, как бы в вечной дремоте; они подхватывают людские пожелания на лазоревые крылья и тихо реют с ними, колеблясь и трепеща, не давая им ни подняться до поднебесья, ни пасть в бессилии на землю. Вот это-то мягкое убаюкивание чувств и мыслей и составляет то веяние надежды, до которого доходят все людские страсти; это – то блаженное поднебесье, где наши пожелания вечно вьются, витая между бездною и небом, в ожидании смерти или жизни.
Читающим эти строки известны эти страны; всем нам случалось следить нетерпеливым взором за изменчивыми очертаниями летающих там грез, за гармоническим передвижением того, что зовется надеждой; у всякого из вас колеблется там свое, заветное облачко; все вы, волнуясь, следите за стаей легкокрылых пугливо-трепетных туманов, реющих там, в безбрежном эфирном океане. Да, это – море без воды и берегов, но, тем не менее, ужасны в нем бывают и мертвое его затишье, и сила внезапно поднимающихся бурь; облака наших желаний, эти клочки невесомого тумана, едва вышедшие из области надежд, подвергаются недугу страха, морской болезни, царящей в этой области таинственного океана. Времени от времени облачко, давно уже витавшее в одном и том же воздушном слое, не ниспадая долу и не в силах будучи подняться, внезапно падает, пускаемое леденящей волей человека. Тогда прекращается веяние легкокрылых надежд, и страдание заступает здесь вместо наслаждений. Благотворный луч солнца, случается, пронизывает теплотой своей стремглав ниспадающее облачко, и оно, снова дохнувшее теплом и жизнью, снова устремляется в высь бесконечности; так пожелания людские, то вздымаемые лучом счастья, то отражаемые треволнениями жизни, носятся между надеждой и страхом и альтернативами возвышения и упадка наполняют все существование человека. Случается, но весьма редко, что пожелание, затрепетав от напора внезапных надежд, взвивается бодро и метко, сразу достигая вожделенной цели.
Среди всех этих передвижений, витая пожеланиями в туманной атмосфере метеорных, более или менее туманных, проявлений, человек проводит большую часть жизни, то наслаждаясь живейшими радостями, то вынося пытки жестоких страданий. Вот легкий, едва очерченный набросок нескончаемого неизведанного мира; позднее, если судьба сохранит мне жизнь и силы, я попробую составить опыт нравственной метеорологии и вместе с тем запишу летопись человеческих надежд и опасений.
Главная, чарующая прелесть надежды состоит преимущественно в том беспрерывно колеблющемся движении пожеланий наших, чего-то выжидающих, чующих ежеминутно близость цели и вечно готовых ухватиться за нее. Первую степень наслаждений в этом направлении можно уподобить положению стоячего облачка, медленно трепещущего на одном и том же месте, ожидающего ветра, который, охватив его, унесся бы в желанную даль. Так многие из завистливых пожеланий человека, появившись смолоду на его небосклоне, пребывают всю жизнь на одном и том же пункте, вечно колеблясь и дрожа, но не падая и не возвышаясь. Все существование человека сводится иной раз к выслеживанию любимого облачка и к ожиданию, что вот-вот поднимется откуда-нибудь ветерок и взлетит с ним над бесконечными невзгодами долгой и тоскливой жизни.
Высочайшее из наслаждений испытывается тогда, когда пожелания наши, трепещущие от наплыва внезапных надежд, сразу доносятся к вожделенной цели. В быстроте этого полета столько наслаждений, что перо дрожит теперь в руке моей при одном воспоминании о прелести таких мгновений: спокойно нежась на мягком ложе дивных облачков, мы свободно дышим в атмосфере горных стран, то поглядывая на покинутые нами низменные юдоли, то впиваясь очарованными взорами в дальние горизонты, все шире и шире раскрывающиеся перед нами. Полет наш между тем становится все быстрее и быстрее, ускоряясь ровным, безмятежным ходом и вызывая яркий румянец на щеках воздухоплавателя, который ухватывается наконец за вожделенную цель с восторгом спазматического наслаждения. Наибольшее, может быть, из всех радостей человеческих ощущается тогда, когда уповаемое становится действительностью, т. е. когда последняя из вибраций надежды сливается с первым трепетом удовлетворения.
Другой источник наслаждений возникает из переменного чередования взлетов его и ниспадений, из беспрерывных перипетий страха и надежды. Для некоторых людей бури, вызываемые таким образом, неопределенностью этих треволнений, и составляют главную прелесть наслаждения; иные искусственно и преднамеренно охлаждают и конденсируют облачка свои с тем, чтобы, внезапно сгустившись, они начинали бы опускаться стремглав и вновь подниматься от вновь навеянной на них теплоты. Эта игра нравственной аэронавтики не всегда оказывается, однако, безопасной. Дерзкий воздухоплаватель, сгустив поддерживающее его облачко, с ужасом видит иной раз, как потухают одна за другой искорки, приготовленные им для подогревания собственных надежд и пожеланий, и он опускается ниже и ниже, летит стремглав в бездну отчаяния и безнадежности.
Нет возможности описать здесь все разнообразие этих нравственных перипетий, и потому выберу наугад несколько образцов, могущих напомнить людям о тех теплых мгновениях, переживаемых при переходах от страха к надеждам и от страданий к радости. Мы получаем письмо, давно нами ожидаемое, но в получении которого мы начали уже отчаиваться. Не только почерк адреса нам знаком, но и почтовая марка возбуждает надежду, что конверт этот прислан любимой, обожаемой нами рукой. Эта надежда вызывает улыбку радости на устах, спирая дыхание в груди; мы смотрим на письмо, не дерзая сломать печати. Здесь скрывается уже подписанный, быть может, приговор, здесь запечатано решение нашей судьбы. Сгорая от нетерпения, мы боимся; мы вертим конверт дрожащими руками, вглядываясь в буквы адреса, желая предугадать по очертаниям их, по форме и верности печати, по складкам и величине листа расположение духа писавшего для нас строки. Наконец мы собрались с духом, и печать сломана; лист развернут; жадные взоры глянули на содержание и снова поднялись, и мы стоим, соображая и комментируя содержание письма… К чему бы распространяться так долго, если бы оно содержало отказ, к чему так долго строчить пустые утешения?.. В эти немногие минуты все оказывается для нас пыткой и все утешает нас; в одно мгновение грудь нашу сжимает и расширяет спазм радости и горя, не имеющий названия на языке человеческом.
Между отчаянием и блаженством простирается громадный пустырь. Надежда робко засевает здесь зеленеющую тропу, узкую в начале, но становящуюся все шире и просторнее, пока, наконец, тропа не разовьется в цветущую, вечнозеленую луговину, в настоящий рай земных наслаждений. Постепенность проявлений надежды нескончаема; она что ни час меняется и в виде своем, и в объеме; так чутка бывает она ко всем изменениям атмосферы. Все люди питают надежду, но не найдется в мире и двух человек, обладающих одинаковым капиталом надежд и упований. Иной считает себя миллионером в деле надежд, другой скупо высчитывает свои копейки. Иной рассчитывает фонды свои с получкой ста процентов на единицу, другой извлекает из сотни едва полушку прибыли. Процентом или прибылью надежды бывает доставляемое ей наслаждение, но так как случаются капиталы, не способные вовсе доставлять процентов, так бывает и надежда, не доставляющая наслаждений, потому что на крылья их наложено судьбою слишком много гирь и тяжестей. Обладателю подобных надежд приходится пожирать капитал свой, измеряя его затребованиями голода и скупыми расчетами скудных средств. Затратив, таким образом, личный капитал свой, человек бывает вынужден прибегать к милосердию людей, весьма щедрых на подавание надежд. В этом отношении все бывают мягкосердечны и милостивы; все спешат поделиться своей лептой в пользу ближнего. Если же вам противны посох и сума нищего, то идите, продайте последнее одеяние ваше и купите себе сладостное достояние надежд. Лавок, где продаются надежды, нескончаемое множество, и нет недостатка в ростовщиках, способных снабжать ими, развешивая их на фунты, на унции, на граны; надежды размеряются и по карману покупающего, и по качеству продаваемого товара, и по стоимости его на рынки общественного доверия. Но этого мало:
гнусные продавцы надежд не только богатеют низкой торговлей своей, но еще и подделывают доброкачественность продаваемого ими товара, надувая легковерных покупателей. Проклятие на них и на их головы!
Когда же человек уже лишен возможности купить себе запас надежд, или когда он не хочет унизить себя до подобных сделок, тогда он готов на самоубийство. Можно существовать без наслаждений, можно продолжать жизнь и посреди страданий, но чтобы жизнь была терпима, человеку необходимо иметь в руках вексель на будущие радости, вексель хотя бы на полушку, хотя бы подложный и обманчивый. Этим векселем становится для нас надежда.
Надежда бывает противоядием для всех страданий; она служит целительным бальзамом для всех язв нравственного мира. Только бы добыл себе человек запасной капиталец надежд – и жизнь становится ему не в тягость. Множество людей считают себя богатыми, сохраняя в шкатулках пуки векселей, могущих, однако, потерять всякую стоимость, по несчастию или по неверности банкиров; точно так же многие из нас считают себя счастливыми, когда в руках их – много векселей, много бумаг, запечатанных печатью надежд на грядущее обилие наслаждений. Мы умираем счастливыми и с улыбкой на устах, хотя бы во всем продолжении жизни и не успели превратить в звонкую монету ни одной из мнимых этих ценностей. Некоторые экономисты проповедуют во всеуслышание недоверие к бумагам и вексельным счетам, советуя употреблять фонды на покупку недвижимых имуществ, а не бумажных ценностей; я же предполагаю, что, при невозможности добыть себе звонкой монеты, лучше уж утешать себя бумажками, хотя бы и неоплатными. Работают же негоцианты на средства занятого ими капитала, почему же и не жить людям, пробавляясь в жизни капиталом надежд, хотя бы и несбыточных? Чтобы вступить в жизненный театр, необходимо иметь в руках что-либо для умилостивления или удостоверения привратника, указывающего место людям, толпящимся у дверей. Привратнику этому можно предъявлять и аттестат на гениальность, и подложный на нее диплом, и мешок с золотом, и банковский билет колоссальной стоимости. Надежда – банкир весьма неблагонадежный, но, наряжаясь в пышные одеяния поэзии и подвергнувшись хирургическо-пластическим операциям фантазии, она может сойти за величавую владычицу банкирского мира. Мне случалось видеть, как смелый шарлатан проходил на первые места при помощи собственной изобретательности. Нетерпеливо продежурив у дверей жизненного сценария, он решался, наконец, ударить привратника, из глаз которого посыпались при этом искры. «Проходите! Проходите!» – забормотал он, кланяясь чуть не до земли. Ослепленный ударом он принял искры за рассыпавшееся перед ним золото; золоту же он привык показывать первейшее из лучших театральных мест. Ежели неправдоподобной кажется такая глупость моего привратника, то люди поверят мне на слово, когда узнают, что лицо, которому доверены распределение мест и иерархия власти, называется «общественным мнением». Не могу сказать с достоверностью, на чью долю выпадает более надежд – на долю мужчины или женщины. Будучи подвержена большей мере земных скорбей, женщина, казалось, имела бы большее право и на избыток надежд. Но самое право – вовсе не вексель на предъявителя, уплачиваемый везде и во всякое время, хотя и подписан он богатейшим из банкиров и хотя стоит на нем поручительство религий и нравственности. Единственные правовые векселя, всегда и везде подлежащие уплате, – это векселя, визированные могуществом и силой.
Человеку свойственно надеяться во все времена жизни, но в особенности люди бывают склонны к надежде во времена ранней юности. Абсолютное недоверие не исключает, однако, надежду из сердца человеческого; по теории, это похоже на парадокс, на деле, однако же, это оказывается несомненно существующим фактом.
Человеку свойственно надеяться во всех странах мира; люди всегда надеялись до сих пор и вечно будут надеяться, так как надежда для жизни человеческой столь же необходима, как еда, питье или самый воздух.
В некоторых случаях выражение надежды ложится на лицо человека весьма определенными чертами, меж тем как в других случаях она оставляет мало следов на внешности. Наслаждения, происходящие от второй из богословских добродетелей, горят иной раз медленным и неярким пламенем, иногда же она выбрасывает, наоборот, жгучие и блестящие искры. В этом последнем случае присутствие надежды, в сердце человека озаряет лицо его резко определившимся выражением. Самым характерным признаком надежды, или скорее упования, бывает взгляд, обращенный на небо, и все выражение лица, проникнутое святой уверенностью и полное таинственного восторга. Обычное выражение упования не может быть обманчиво. Очи, возведенные к небу, указывают на возвышенность пожеланий, всецело устремленных к невидимым странам, открываемым для нас верой, остальные же черты лица выражают трепетную радость и скорбь, уже сменяемую ожиданием грядущих наслаждений; словом, все лицо носит верный отпечаток испытываемого человеком сердечного чувства.
Выражение этого чувства на физиономии изменяется смотря по цели, к которой бывают устремлены желания в зависимости от человека. Надежда иной раз придает нежно-розовый колорит наслаждениям иного чувства. Так юноша, останавливаясь перед изображением великого человека или его памятником, сосредоточивается умом, краснея при мысли, что и ему, быть может, достанутся такие же лавры, и такой же мрамор станет со временем подножием его изваяния. Друг, сидя близ кровати больного друга, жадно впивается в черты лица пришедшего медика, стараясь прочесть в них приговор, более или менее благоприятный, и, успокоенный взглядом или словом, обещающим помощь и выздоровление, начинает надеяться и дышать радостнее и свободнее. Проявление радости на лицах обоих юношей должно быть весьма различно. В первом случае славолюбие затрепетало надеждой на удовлетворение, во втором заколебалась таким же образом затронутая надеждой струна дружбы. Одинаково случайно вызваны были оба выражения аффекта, и отразился он в обоих случаях на юношеских лицах.
Не могу и не хочу допустить, чтобы надежда могла когда-либо стать чувством болезненным, даже и тогда, когда она происходит от избытка жизненных сил, от действительной роскоши прозябания. Некоторые философы прозывали ее продажной прелестницей, другие – нравственным заболеванием сердца; но нет возможности подписаться под приговором, начертанным пером, обмакиваемым, вероятно, в мрачном сосуде уныния и пессимизма. Надежда всегда была и вечно будет для меня ангелом-утешителем, поддерживающим нас и самыми заблуждениями своими; ангелом, всегда грешащим только избытком сердечного чувства. Если вы пробовали заблуждениями надежды заменить приговоры ума, то вы сами жестоко ошибались, так как дело надежды – чувствовать, а не рассуждать.
Дело надежды, этой законной дщери сердца, – поддерживать и возбуждать, лечить и излечивать язвы жизни. Уступая стремлениям, бешеным и дерзким, вы можете добежать до самой окраины бездны, и тогда надежда может только любовно закрыть вам глаза, чтобы вы заранее не мучались пытками смерти в глубине провала. Руководясь на пути своем пытливостью разума, вы не достигли бы страшной окраины. Надежда не могла выйти из обычного круга действий и не в силах была заменить напряжений человеческого ума; она могла лишь жалостливо скрыть от вас скорбь последних предсмертных терзаний. Не кляните же ту жалостливую, терпеливую подругу человеческой жизни, которая одна тем более льнет к людям с обычной ей лаской, чем сильнее страдает человек.
Последний лохмотник перерывает кучу сора не без надежды отыскать в ней драгоценный камень или сокровище, утерянное проходившим мимо вельможей; и убийца не перестает надеяться. Все наши чувства, и добрые, и злые, способны бывают затрепетать под вечным повсеместным веянием надежды.
Глава XXIX. О наслаждениях, вызываемых патологическими чувствами, по самой сути своей
При быстром обзоре наслаждений, доставляемых чувствами, мы уже не раз встречались здесь с удовольствиями болезненными и предосудительными, но патологический характер их вовсе не был непосредственным излиянием примитивного аффекта, а только случайным следствием какой-либо погрешности в мере, или в ошибочности принятого чувством направления.
Сам по себе аффект доброкачествен, но он уродлив по нравственной болезненности или искалечению. Так, как уже замечено выше, благородное честолюбие принимает иной раз облик мелкого и жалкого тщеславия, так и весьма законное чувство любви к собственности превращается мало-помалу в страсть к похищению и краже. Но в этих и подобных случаях терпеливый взгляд наблюдателя всегда сумеет угадать под разнообразием форм заболевания и под корой отвратительнейшего искалечения самую суть болезни и отыскать ее происхождение. Но, к несчастию, болезни сердечных чувств не оканчиваются подобным изуродованием доброго, по сути своей, аффекта. Он происходит часто от ненормального развития элемента болезненного начала и от происхождения порочного чувства. Я не чувствую в настоящее время ни силы, ни желания входить в отвратительные подробности, но и не излагая перед читателем картины нравственных язв, обезображивающих этот отдел госпитальных наслаждений, я, однако, приглашу читателя заглянуть на мгновение в нравственный лазарете, где дышится воздухом удушливым и зловонным, воздухом нравственных недугов.
Ненависть представляет одну из наипростейших форм порочного начала чувства, обладая таким арсеналом одежд и прикрытий, что при разнообразии принимаемых ей видов трудно бывает распознать тождественность природы во всех проявлениях более или менее злобного чувства. Характер, всегда присущий всем видам этого чувства, состоит в постоянной радости погибели другого, но причины, возбуждающие ненависть, до того различны, что они полагают громадное различие между ее проявлениями, изменяя часто и само семя злого аффекта. Так, некоторые обиды, наносимые самолюбию, побуждают к зависти, которая, в сущности, есть та же ненависть, обращенная на чужое превосходство. Но всего более видоизменяет ненависть, – то количество преступного чувства, к которому способен человек. Обида, возбуждающая в одном вспышку мимолетного гнева, зажигает в другом человеке пламя неукротимой ненависти и жгучего желания мести. Одно и то же унижение может вызвать слезы досады из глаз одного и покрыть мертвой бледностью бешенства щеки другого, воспламеняя его сердце неукротимой яростью.
Что бы ни служило первоначальным мотивом ненависти, это чувство, как и всякая иная страсть, предъявляет человеку требования, удовлетворение которых и доставляет наслаждение. Гнев – эта искра ненависти, воспламенив сердце человека вполне честного и благородного, доводит его до некоторых более или менее ярких проявлений; он застучит, пожалуй, неистово ногами, разразится страшными проклятиями или начнет рвать и ломать предметы, попавшиеся ему в руки во время вспышки мимолетной ярости, – но и все. Волны внезапной бури всегда стремятся обрушиться на какое-либо препятствие, разбиваясь или о корабль, или о прибрежные скалы.
Ненависть иной раз вытесняется из сердца другими, более благородными чувствами, иногда же злая страсть, не будучи сама довольно сильна для нанесения обиды противнику, все же радостно улыбается при виде приключившихся с ним невзгод. Когда же человек доходит до более глубокой ненависти, когда сердце в нем ноет и сгорает от накопившейся в нем злобы, тогда накипевшей страсти бывает необходим более деятельный исход, и человек, совершая преступление, ощущает при том варварское наслаждение удовлетворенной в нем потребности. Человек бывает тогда способен улыбаться при виде бед, причиненных его же клеветой, как способен он бывает любоваться агонией врага, пораженного несчетным количеством ударов.
Пробегите глазами по всему пространству, идущему от злой забавы мальчишки, находящего наслаждение в мучениях несчастного пойманного им муравья, до злодеяния убийцы, ощущающего отвратительное наслаждение в погружении окровавленных рук своих в трепещущие внутренности жертвы. Пусть читатели сами составят себе, таким образом, понятие о злодеяниях, сокрытых в несобранных еще анналах ненависти и злобы человеческой.
Все люди, кроме разве некоторых блаженных душ, носят в себе зародыш ненависти, атрофируемой сызмала другими, более благородными, вытесняющими его чувствами, и зародыш злобы едва дает знать время от времени о своем существовании. Но это не мешает прорываться этому чувству наружу и изливаться потоком мгновенной горячей лавы, по большей части не наносящей никому вреда. Более или менее безвинные формы, в которые развивается этот не вполне задушенный зародыш злобы, разрешаются или вспышками внезапного гнева, или порывами постоянного злобствования к тому или другому принципу, или ненавистью к нравственным уродам, проявившим себя в истории, или, наконец, манией поддразнивать людей и досаждать им ради шутки и собственной забавы.
Во многих личностях, отличающихся посредственным умом и сердцем, ненависть не порывается из души ни пламенем, ни даже искрами; она только невыносимо и постоянно чадит, распространяя около себя атмосферу зловония и мрака. Эти люди, весьма несносные для окружающих, не совершают ни одного действительно преступного дела, но они вечно переполнены чувством досады и вечно готовы облаять своими бешеными устами всякий луч света, прерывающий, так или иначе, ток их полусонного мышления. Каждый из моих читателей знаком, вероятно, с одной или двумя личностями, подходящими под это указание.
Из форм, принимаемых ненавистью, остановлюсь здесь на одной из наиболее безвинных – на злобе, доставляющей людям громадное число преступных наслаждений; говорю о весьма распространенной в мире страсти причинять людям нескончаемый ряд мелких досад забавы или шутки ради.
В первых своих проявлениях мания досады выражается охотой мучить животных. Дилетант в деле этой мелкой злобной страсти подергивает собак за уши и хвост, дразнит лошадей и волов более или менее жестокими уколами, ошпаривает иной раз мимо идущих кошек, веселясь бесконечным рядом подобных упражнений. Усугубляясь, страсть эта заставляет своих адептов нападать и на человека, производя над ним сцепление более или менее для него несносных шуточек, играя вообще около людей роль шмелей или назойливых мошек – несноснейших, как известно, из всех созданий нашей планеты. Когда же досаждения и шутки не переходят меры приличия, их, по моему, следует переносить терпеливо и снисходительно, прощая от души более или менее искусным изобретателям их, так как эти несчастные ощущают в себе как бы зуд болезненной материи и постоянную потребность в подобных, в сущности, безвредных наслаждениях. В ребячестве подобные люди не раз переносили и колотушки товарищей, и всевозможные наказания, и все-таки не отказывались от дорогой для них страсти причинять людям досаду и дразнить окружающих.
Всмотритесь в лицо человека, терпеливо стоящего у окна с легонькой пустой тростинкой в руках; он выслеживает переход через улицу хорошего своего приятеля. Он стоит, сосредоточившись в самом себе и улыбаясь мысли о заготовленном им себе наслаждении. Посмеиваясь и разговаривая сам с собой, он едва ли не трепещет от радости, укрываясь за гардиной и ожидая приближение друга. Завидев вдали приятеля, идущего вдоль улицы с осанкой, полной приличия и горделивого достоинства, шутник захлебывается от радости, едва сдерживая в себе сердечный трепет. Рука его поднимается, холодная струя воды летит из окна на голову проходящего друга, и лицо шутника, зарумяненное удачей, высовывается из-за гардины окна, заливаясь хохотом и приветствуя с ног до головы облитую жертву свою. Я знавал людей, хохотавших до слез при удаче шутки подобного рода.
Прочитав эти строки, какой-нибудь охотник до подобных досадливых издевательств над людьми, пожалуй, обидится за включение обычных ему милых увеселений в главу «О ненависти и злобе человеческой». Пусть снесет он укор мой; я не в состоянии изменить или модифицировать мое мнение на этот счет. Охота досаждать, хотя бы и не причиняющая, в сущности, действительного вреда, все же остается безнравственным делом, будучи наслаждением, основанным на страдании другого лица. Когда жертва наша не сознает желания укола с нашей стороны и не выказывает досады своей, когда ей удается скрыть от глаз наших и болезненность своего испуга, и свое страдание, тогда мы гораздо менее радуемся удаче шутки своей и даже вовсе не чувствуем от нее никакого наслаждения.
Радость забавника бывает, как известно, тем сильнее, чем болезненнее выказывается испуг противника и чем смешнее бывает положение пойманной шутником жертвы. Можно ли после этого отрицать преступность подобных диких наслаждений?
К понятию о ненависти мы причисляем множество весьма разнообразных элементов, из которых некоторые граничат уже с преступностью; другие же, наоборот, приближаются к самым благородным и великодушным порывам человеческого чувства. Бывают ненависти почти извиняемые по грандиозности целей своих и стремлений, как, например, ненависть национальная, и наоборот, бывают озлобления, дышащие таким ничтожеством и мелочностью, что оказываются уже только жалкими и возбуждают в людях смех. К этим последним, простите меня еще раз, относится и охота дразнить и возбуждать досаду.
Наслаждение еще менее невинное состоит в охоте убивать животных. Мания разрушения проявляется в легкой форме, в желании людей сломать, изрезать и разрушить что-либо. Обуреваемый этими страстями человек (впрочем, может быть, и весьма почтенный) останавливается охотно на полдороге, чтобы раздавить попавшееся ему под ноги насекомое; набалдашником своей трости он сбивает во время прогулки головки лучших цветов полевых растений и с бешеным удовольствием обнажает от листьев ветки деревьев. Но при большем усилении этой страсти неодушевленные предметы уже не удовлетворяют жажды разрушения, и тогда-то мы начинаем с наслаждением давить безвинных насекомых и с восхищением обрываем, одно за другим, крылья бабочек. Мания истребления доходит иной раз до бешеной страсти; человек, которому поручено зарезать целое стадо овец, покончил бы с первым бараном при полном спокойствии и равнодушии; других он начал бы резать с наслаждением и, став мясником по увлеченно-личной страсти, он начал бы под конец резать и четвертовать, трясясь от неги сладострастия, бешено и страшно скрежеща зубами. Мне самому случилось быть однажды свидетелем нечто подобного. Юноше нежных чувств, нрава мягкого и доброго, пришлось зарезать на моих глазах с полдюжины кур. Он принялся за неприятную выпавшую на его долю задачу спокойно и равнодушно, хотя и без видимого отвращения. Не будучи привычен к делу мясника, он непроизвольно подверг первую жертву долгой и мучительной агонии, и спазматические издыхания жертвы неприятно смутили его; за вторую экзекуцию он принялся дрожащими уже руками и невольно приостанавливался, вглядываясь в перипетии агонии, и вот, наложив на жертву окровавленную руку, он жадно прислушивается к конвульсиям предсмертных мук. К убиению третьей птицы он приступил уже с жестокостью во взгляде и с видом полного наслаждения; наконец, вышедши из себя, он, трясясь от ярости, набросился на последние жертвы и бешеными ударами ножа своего начал резать, бить и рвать более или менее живое мясо, так что последняя курица была уже буквально искрошена в куски. Убийца стоял между зарезанными и еще трепещущими трупами и жадно перебирал в руках горячие, еще дымящиеся внутренности. Он наслаждался наслаждением варвара, и я, смотря на него, испугался его вида. Он сознался мне потом, что вид крови ослепил его, и что в эти минуты он охотно зарезал бы сотню подобных животных. К исповеди своей он прибавил еще, что в это мгновенье на него напал непонятный для него прилив половых сладострастных чувств. Я придаю весьма важное значение этому факту, так как он может указать на некоторые еще неизвестные нам физические и анатомические отношения между инстинктом в мозгу, приводящие к убийству и обладающие способностью зарождаться. Тем более что описания взятия городов во время войны указывают, что во время жесточайшей резни необузданное сладострастие всегда присоединяется к бесчеловечию; много рассказывают очевидцы о том, как запах и пары проливаемой крови слепят умы осаждающих, превращая человека в ужасающее и отвратительное животное.
Даже и та форма ненависти, которая называется местью, имеет свои мелочные неповинные наслаждения, в доказательство чему напомню читателю то сладостное для него мгновение, когда он давит ногтем блоху, упившуюся его кровью.
Влияние наслаждений ненависти и всех подобных ей чувств пагубно для человека. Если физиологическое наслаждение не причиняет зла, то порочное удовольствие всегда носит в себе собственное себе осуждение. Даже в лучшие моменты преступного наслаждения злом, привнесенным другому, человек не перестает ощущать внутри себя таинственное смущение, уничтожающее всякую в нем радость. Плеск взволнованных внезапно вод, смущая прозрачность их, застилает на время глубь человеческого сознания, но при первом затишье человек видит снова всю порочность свою, в неумолимом зеркале совести и раскаивается немедленно в преступном своем наслаждении. Боль от угрызений бывает так жестока и невыносима, что человек снова начинает мутить воду новыми проступками, чтобы только не читать ничего в книге собственного сознания. Иной раз, не сумев затемнить светлого зеркала, не перестающего отражать обвиняющую истину, он закрывает в отчаянии собственные очи, занося на них обоюдоострый нож софизма и самообольщения. Тщетно и жестоко это ухищрение – совесть дает себя чувствовать многоразличными путями; нашедши загороженной одну тропу, ведущую к нашему сердцу, она немедленно избирает себе другую и, так или иначе, всегда достигает вовремя, чтобы еще и еще раз прочитать нам приговор свой.
Женщина имеет меньше поползновений насладиться чувствами ненависти, потому ли, что она вообще чище душой, или потому, что она лучше умеет распоряжаться собственными помыслами. Мужчина, захотевший превзойти женщину в деле побед любви и жертв, был бы только смешон, как тот, кто, не имея возможности стать королем, мирится с положением мужа королевы.
Ненависть горит более сильным пламенем во время преобладания в человеке юношеских сил. Хотя успехи цивилизации и усиливаются вытеснить ее из мира, пламень ненависти будет возгораться постоянно, пока существует человечество на земле. Чем более времени дремлет на земле этот вулкан, тем страшнее бывает его извержение; тем же самым пламенем, которым иссушает он жизнь одного человека, он может при страшном взрыве извержения испепелить и целые страны, засыпая народы и города потоками жгучей лавы. Не напрасно и не случайно создала природа ненависть; чувство это подлежит собственным законам, направляясь к положенным ему целям; но я, по крайней юности своей, не берусь в настоящее время записывать здесь страшное летописание злобных дел. Кто желает прочесть хотя бы некоторые из страниц этой ужасной повести, тот пусть вчитывается в исторические сказания, а главное – пусть наблюдает около себя сердца людей. Люди ненавидели до сих пор всегда и везде, и впредь будут они ненавидеть во все времена и годы.
Выражение наслаждений ненависти носит на себе свой собственный отпечаток; уродливо-гадкая под влиянием зависти клеветы, и подозрительности, ненависть в некоторых случаях налагает на лицо отпечаток страстности, не лишенной некоего величия.
Если читатель когда-нибудь был в палате, где великие художники нашей родины оставили столько следов своей гениальности, то воображение может легко представить ему какой-либо из виденных там высокоужасных и ужасающе-прекрасных образов. Бывают мгновения, подобные сверканию молнии, мгновения, где страсти, пламенея сами, как бы приносят себя в жертву всепревозмогающему злобному аффекту, и весь мир нравственного человека вспыхивает сразу, как бы исчезает с грохотом, подобным громовому удару. У ненависти бывают нередко такие взрывы.
Мелкие и безвредные вспышки ненависти весьма наивно выражаются иногда на лице человеческом, придавая ему вид хитрого злорадства. Саркастический смех бывает неизменным спутником подобных удовольствий, так как представление о глупо-смешном положении противника лежит по большей части в основании этих злорадных наслаждений.
Глава XXX. Об отрицательных наслаждениях чувства
Всякое страдание, ощущаемое нами в области сердечных чувств, способно уменьшением или прекращением своим порождать в нас наслаждение того же свойства, как и то, которое при анализе радостей внешних чувств мы называли отрицательным. Описание наслаждений подобного рода должно бы идти рука об руку с анализом тех страданий и горестей, которые, определяя меру отрицательных наслаждений, объясняют и самую суть их. Посвящая им легкий очерк, мы поневоле оставляем здесь громадный пробел, могущий быть пополненным только горькой повестью, называемой физиологией страдания.
Живописец мог бы до некоторой степени заменить описание подобных чувств изображением фигуры, указывающей внешним своим видом на главные черты, характеризующие аффект; она держала бы весы, на чашах которых тяготели бы с одной стороны страдания, а с другой – наслаждения, находящиеся в распоряжении аффекта. В спокойные минуты наслаждения уравновешиваются здесь страданием, и стрелка остается неподвижной. Но едва успеет рука своенравной судьбы или всемогущее мановение страсти сбросить драгоценный камушек с чаши наслаждений, как равновесие утрачивается, и весы, внезапно колыхнувшись, резко ударяются чашей страданий об основание свое, заставляя чувство болезненно мучиться долгим шатанием своим из стороны в сторону. Чем чаще случаются убыли в чаше наслаждений, тем резче и грубее нарушается равновесие и тем очевиднее становится внезапный перевес страдания и горя. Когда же благодетельная рука спокойно возвратит пластинке наслаждений взятую с нее драгоценность, или же заменит ее сокровищем одинакового значения, тогда равновесие восстанавливается, и стрелка, возвращаясь к покою, производит ряд сладостных вибраций чувства этого кольца, на котором висит и движется все построение весов.
Да простит мне читатель неопределенную туманность этого сравнения! Недостатки и неточности его не уменьшат достоверности факта, им изображаемого. Аффект, болезненно затронутый, порождает страдание; он же между тем способен доставить человеку и высшую степень наслаждения, коль скоро милостивая рука начнет врачевать и свеженанесенные, и уже застарелые раны, хотя бы чувство при этом и не ощущало положительных наслаждений и наслаждалось только прекращением страдания. Бывают пытки столь усиленные и страшные, что одно прекращение их уже производит наслаждение и сладострастное чувство, доводящее иногда страдальца до исступления радости. Иной раз счастливая случайность, залив освежающей волной невыносимое страдание, возбуждает не только наслаждение, но, переполнив им душу, заставляет его изливаться на все окружающее. Поэт и художник могли бы с успехом набросать картину подобных минут, и мы, при свете их гениальности, поняли бы, может быть, всю чудную прелесть чередования света и теней и уразумели бы сразу всю громадность их. Но философ способен только к анализу и описаниям, и вот он, записывая, с одной стороны, повесть страданий, а с другой – восторги наслаждения, указывает на неизмеримое расстояние между этими двумя противоположными мирами. Представив себе всю бездну этого расстояния, мы можем вообразить себе всю силу аффекта, спазматически охватывающего человека в ту минуту, когда громадное страдание, устремляясь через бездну небытия, бросается в объятия столь же громадного наслаждения, и, сливаясь, оба образуют аккорд необъятного блаженства. Как при взаимных объятиях двух существ человеческих сверкает между ними, как молния, луч дивного сладострастия, а вместе с тем творится ими новая жизнь, так из подобного совокупления скорбей и радостей развивается глубочайший спазм наслаждения и вместе с тем зарождается молниеносная искра, способная бросить свет на тайны природы и на законы миров.
Величайшие феномены, величайшие силы природы зарождаются от столкновения и соединения двух противоположных элементов: полюса положительного и отрицательного, добра и зла, силы притяжения и силы центробежной, силы наслаждений и силы страданий… И здесь-то начинается область умственного творчества. На этом широком поле холодный разум подает руку поэтическому чувству, и затем оба дивятся тому закону дуализма, повесть о котором могла бы стать «физиологией космоса».
Из среды всех чувств, ограничивающихся областью первого лица, отрицательными радостями богаче всего бывают себялюбие и любовь к собственности.
Неожиданное выздоровление после продолжительной болезни, внезапное освобождение от гнетущего страха за себя и свою жизнь или приобретение вновь утраченного богатства – вот примеры отрицательных наслаждений, доставляемых людям себялюбием и сродными ему аффектами.
Обиды, наносимые себялюбию, оставляют за собой след горечи; они столь глубоки и долги, что внезапно последовавшее за обидой наслаждение не в силах бывает сгладить врезавшееся впечатление страданий. Глубоко оскорбленный человек уподобляется улитке, которая повсюду тащит за собой свой вонючий и липкий след, попадая при каждом новом повороте в эту оставленную за собою грязную дорожку. Так и оскорбленный, перебирая жизненные воспоминания, не может не упоминать о пагубном для него пятне, уменьшенном и убеленном, но не вполне стертом временем. Кому пришлось сносить обиды и молча глотать оскорбительные для него поношения, тот никогда не забудет этих тяжких для него минут, как бы высоко он ни поднимался впоследствии по лестнице общественных почестей. Для такого человека бывают мгновения, когда он охотно поменялся бы местами с ремесленником, никогда и ни перед кем не склонявшим своей головы и никогда не имевшим случая стыдиться человеческого имени.
Все чувства, имеющие отношение ко второму лицу, могут доставлять нам сильнейшие из наслаждений отрицательного свойства. То друг возвращается в объятия наши после долгой и мучительной для нас разлуки; то мать вновь благословляет нас со слезами радости на глазах после непродолжительного с ее стороны негодования и гнева; то, возвращаясь на родину после долгого изгнания, мы с восторгом целуем землю родного края. В этой области отрицательных наслаждений случаются радости столь живые и столь сильные, что иной раз человеку желалось бы подвергнуться снова жесточайшим страданиям, чтобы только снова вкусить восторги облегчения.
Отрицательные наслаждения чувства составляют сладостный бальзам, всего отраднее врачующий болезни и невзгоды бедного человеческого сердца. Иная жизнь завяла бы преждевременно, если бы яркий луч солнца не прерывал от времени до времени мрак, вечно отуманенного небосклона, и если бы тот или другой благодетельный луч не освещал на мгновение это беззвездное небо. Но сверкнувшей по небу молнии, осветившей и согревшей пространство, бывает достаточно, чтобы вознаградить человека за многолетний мрак и за стужу целой жизни, зажигая в человеке искру надежды; молния уже тем самым помогла ему переносить бремя существования. Бывают случаи, когда подобные мимолетные утехи обездоленной и горькой жизни кажутся бедному страдальцу лишь злой пародией на счастье или даже насмешкой и оскорблением. Весьма неверен и несправедлив подобный взгляд на утешения, блеснувший издалека. Помогая нам мириться с жизнью, эти мимолетные проблески светлых надежд дают человеку возможность достигать на земле пальмы и мученического венца… Надежде всегда следует верить на слово; она добросовестна и всегда верна сама себе.
Отрицательные наслаждения всегда проявляются обильнее в жизни женщин, обреченных судьбой на большую меру страданий. Женщина может, однако, похвалиться тем, что если собрание доступных ей наслаждений не особенно богато крупными радостями, то в нем все же найдутся драгоценности и самоцветные каменья, которых не бывает и следа у мужчин, этих эгоистов по призванию. Спазмы нравственного сладострастия доступны только людям, достаточно уже пострадавшим в жизни; человеку же без сердца недоступно бывает и само страдание. Здесь, как и всегда, наслаждение покупается ценой утомления, и покупать его приходится зачастую ожесточенной борьбой с препятствиями.
Возраст, так же как и условия общественной жизни, времени и тех стран, где наиболее страдают люди, представляет обильную почву для пользования отрицательными наслаждениями. Но, описывая их подробнее, я рискую впасть в бесконечную область человеческих страданий и заблудиться в ней окончательно, так как нет возможности анализировать наслаждения, не упоминая о страданиях и наоборот (vice versa). Когда же, наконец, изобретут то чудное увеличительное стекло, при помощи которого можно будет провидеть суть вещей, не вонзая в них своего анатомического ножа?
Выражение отрицательных наслаждений бывает весьма разнообразно, и единственным характеризующим их признаком служит отпечаток изумления на лице испытывающего их и смешивание на нем страдания и радости. Нам уже случалось указать на чарующую прелесть той физиономии, на которой два противоположных элемента изгоняют друг друга, и ум при этом виде невольно мечтает о гармонии, происходящей из уравновешивания контрастов, любуясь единовременно и эстетикой беспорядка, и красотой упорядочения, и тогда, несмотря на всю жадность и неразумие свое, подобный аффект никогда не становится смешным.
Часть третья. О наслаждениях ума
Глава I. Общая физиология умственных наслаждений
Чем дальше мы продвигаемся вперед в деле анализа нравственного человека, начав с разбора простого ощущения и заканчивая рассматриванием высшей силы умственного творчества, тем гуще становятся туман и сумрак того горизонта, на котором должны вырисовываться предметы, подлежащие описанию и анализу. Образы эти являются столь неясными и неопределенными, что зрение наше не видит иной раз ни того, откуда они приходят, ни куда идут, и не в силах бывает выяснить себе особенность каждого предмета.
В области внешних чувств мы уже видели много неразгаданного и таинственного, но ход явлений там был более или менее известен. Мы видели, что тело наше «затрагивает» нас, то собственными молекулами, то лучами света, то звуками; словом, доносит до нас «нечто», что принимается нами к сведению.
В области сердечных чувств мрак более сгущается на подлежащем исследованию горизонте, но там все еще есть нечто доступное нашему пониманию. Там силы, из нас исходящие, направляются к пункту физическому или нравственному; там веют теплые испарения, которыми наше «Я» отвечает на голос природы. Но при переходе от чувств самых сложных к самой простой операции ума мы чувствуем себя в совершенно ином мире и под небом еще более туманным и непонятным. Совесть, насколько она сознает операции ума, не в силах уже руководить нами ни при изучении этих операций, ни при познании их причин и источников. В начале внутреннего анализа мы могли употреблять ум свой для изучения того, что хотя и связано с ним, все же находится вне его области. Теперь же ум наш должен изучать самого себя и наше «Я», налюбовавшись видом здания и прилежащих к нему садов, видом собственных владений и облекающих его одежд, оказывается наконец лицом к лицу с самим собой; заглянув в зеркало собственного сознания, он удивляется себе, не чувствуя возможности ни сообразить черт собственного лица, ни опознать самого себя. Многие не сознают этого факта во всем продолжении жизни, не будучи способны ни изолировать себя из среды внешнего окружающего их мира, ни, вырвав себя хотя бы на минуту из сферы обыденных чувствований, увидать в зеркале сознания свое «Я», стоящее одиноко и без прикрытия перед тройственным царством человеческой природы. Но здесь следует установить еще одно различие. При помощи неустанного и терпеливого внимания человек может рассмотреть, одну за другой, все грани своего умственного многоугольника, анализируя поодиночке все очертания собственного ума; он властен изучать таким образом и память, и разум, и фантазии, но он видит при этом только органы и орудия, но не видит всей общности механизма и не в силах охватить пониманием единства человеческого. Велением сильной воли, как бы лучом, внезапно в нас сверкнувшим, мы властны приостановить в себе на мгновение ход нравственного бытия, заставив умолкнуть в себе и воспоминания, и собственные думы, и изобретения людей; и вот тогда-то мы способны бываем осознать свое «Я» простым и неусложненным, наблюдая таинственную точку, составленную из сплетения всех нравственных и физических сил. Точка эта – нечто неделимое, и она может предстоять сознанию только в образе внезапно сверкнувшей перед ним молнии.
Огромный шаг сделал бы человек, если бы, ввиду трудностей, представляемых изучением собственного ума, он умудрился бы всецело изолировать себя от двух прочих сфер своей природы или, по крайней мере, если бы оказалась временная бездна между интеллектом его и чувством. К несчастью, не только не существует вовсе подобной пропасти, но и грань между ними покрыта одной и той же растительностью; так что отыскать ее почти невозможно. Напрасно философы усиливаются проводить здесь свои шнуры во все стороны, чтобы искусственно поделить различные области нравственного мира; они обманывают только самих себя, указывая на несуществующие в действительности грани. Как пограничные таможни и межевые столбы, так и нити, проводимые философами, не в силах сотворить небывалых делений; одна только природа может провести очертания географической карты нравственного мира. Изломавший круг и вдребезги разбивший сферу производит разрушения и порчу, он не в силах уже восстановить разрушенного им, но он охотно строит демаркационную стену из обломков сломанного.
Находясь в цветущем саду сердечного аффекта и чувствуя на самом себе смягчающее действие сладостной его атмосферы, мы можем смело определить, что обретаемся в области чувства, но напрасно стали бы отыскивать стену, ограждающую окраины очаровательного сада. Если же, руководясь охлаждением температуры или изменением растительности, мы вздумаем отправиться от центра окружности, чтобы отыскать пункт, где кончается сердце и начинается ум, тогда мы уподобляем себя собаке, потерявшей след зайца, с лаем бросающейся во все стороны, возвращающейся на собственный след свой и все-таки не находящей желаемого.
Становится холодно; перейдена уже грань области ума… цветы кругом еще указывают, однако, на сферу тепла и чувства… Здесь еще слишком тепло: мы все еще находимся в садах сердечной области; но это – уже не то; кругом – уже березы и сосны… Так слишком часто блуждают исследователи на гранях ума и сердца: идеальные чувства (т. е. чувства, порождаемые идеей и к идее обращенные) составляют звено, соединяющее трепетания сердца со стремлениями мозга. Истина составляет идею, и описание наслаждений, ей доставляемых, должно, следовательно, быть включено в серию интеллектуальных радостей; но мы можем чувствовать истину, и любовь ко всему истинному становится чувством.
Во всяком случае, я не обязан представлять здесь географический очерк ума человеческого, довольствуясь, как уже сказано было выше, описанием наслаждений, проистекающих из напряжения интеллектуальной силы. Не приписывая ни малейшей важности порядку, в котором произойдет это описание, я употребляю его только как руководящую нить, чтобы не заблудиться в предстоящих мне дебрях.
Ум наш сильно участвует во всех наслаждениях, содействуя им многими из весьма разнообразных элементов своих, а главное, необходимым для них условием внимания. Мы редко бываем обязаны уму какими-либо несложными первичными наслаждениями, не имеющими других источников, кроме интеллекта. Ум – это неустанный, строгий и редко улыбающийся деятель; развеселясь, он, видимо, черпает наслаждение из какого-либо опьяняющего чувства. Бывают люди, которым никогда не выпадало в удел иной интеллектуальной радости, кроме области осмеяний, совершенно обособленной от других и доступной едва ли не всем и каждому. Только чрезвычайно развитая способность ума может сама по себе, без содействия чувства, доставить наслаждение. Во всех других случаях, когда ум наш доходит до напряжения, способного произвести наслаждение, порождается, напротив того, чувство болезненное, хотя бы в виде утомления. Многие предаются, правда, науке с наслаждением; но оно происходит по большей части из смеси благородного или низкого, возвышенного или пошлого чувства, способного обратиться и в славолюбие, и в суетное тщеславие, в искание личных выгод и в выполнение обязанности. Весьма немногие бывают в состоянии испытывать наслаждение чисто интеллектуальное.
Не удивляйтесь же, что наслаждение ума, эта треть собственно мировых наслаждений, займет в труде моем так мало страниц.
Умственные наслаждения, находясь в полной чистоте своей или с едва заметной окраской примешанного к ним чувства, могут, однако, доходить до высшей интенсивности, сами по себе обусловливая счастье целой жизни. В сокровищнице их хранятся и самые спокойные, и самые бурные радости, и тихий пламень, способный осветить сиянием своим течение целой жизни, и молнии, озаряющие в один момент будущность человека. Характерной чертой этих наслаждений бывает не только недоступность их печалям, но и нередко спасение человека от невзгод жизни. Наслаждения эти составляют неделимую собственность и личное достояние человека, не делая его вовсе виновным в эгоизме; хранимые в святилище ума, они всегда готовы явиться на первый зов, во все времена и возрасты жизни, оставаясь верными человеку и среди изменений политического мира, и среди утрат сердечных, и даже, иногда, среди разочарований преклонных лет. Умственные наслаждения обращены к благородной и великодушной цели, и согретые дыханием нежные чувства образуют один из видов счастья, наиболее подходящих к идеалу совершенного блаженства человеческого.
Но для блаженства этого наслаждения ума должны быть согреты и проникнуты горячим чувством; легкое, еле теплящееся чувство только омрачает светлую чистоту умственных радостей. Во всем же совершенстве своем они сияют уже на развалинах сердечного аффекта и внешних чувств; и человеку, ставшему мучеником собственного мышления, люди охотно прощают убиение в себе сердечных чувств напряжением творческой силы. Человек мысли и умственного труда убивает в самом себе и любовника, и отца, и гражданина, и даже сына, и друга; но взамен всего он отыскивает истину, которая, освещая и современные ему и будущие поколения, сторицей выплачивает за него ту дань, которою он был обязан человечеству. Убив в себе сердце, он вместе с ним уничтожает источник лучших жизненных наслаждений и пламенных чувств, оставаясь, тем не менее, человеком честным, доводящим себя иногда и до мученического венца. Имея постоянно в виду цель высокую и стремясь к ней трудом опасным и рискованным, могущим погибнуть от малейшей рассеянности или от внешнего потрясения, он, находя неудобным для себя своенравное биение сердечной машинки, выбрасывает ее за окно, как выбросил бы он собачку, беспокоившую его своим лаем. Только бы мозги его оставались способными работать, набрасывая на бумагу мысль за мыслью; он охотно согласился бы бросить и себя самого в то драгоценное горнило, где вырабатывается его мышление. Все это дозволяется только гению. Обыкновенный человек, заглушающий в себе биение сердца ради успехов научного своего труда, совершает святотатственное дело. Пусть он станет Бэконом или Гёте, и только тогда люди окажут снисхождение его эгоизму и странностям.
Глава II. О наслаждениях, проистекающих из напряженного внимания, из потребности знания. Патологические наслаждения любопытства
Внимание не составляет непосредственного свойства нашего ума или прирожденной нам специальной силы; оно обозначает лишь временное состояние нашего ума, всецело обращенного на деятельность того или другого труженика, постоянно занятого работой в таинственной мастерской нашего интеллекта. Внимание – это тот пристальный взгляд ума, в отсутствии которого сознание теряет способность отражения, а память утрачивает все свои воспоминания. Его можно сравнить с бдительным оком хозяина, без надзора которого работник работает вяло или же вовсе прекращает работу. В обычном состоянии своем ум не перестает видеть, т. е. настолько примечать все окружающее, насколько ему нужно для восприятия ощущений и прочих феноменов нравственного мира. Далее ум начинает смотреть, увеличивая вниманием силу существующих уже наслаждений и возбуждая новое там, где ощущение не вызывает страдания. В более редких случаях ум, не только смотрит, но еще и углубляется в рассматриваемые предметы, созерцая их и вникая в них острым взором своим: так возникает размышление, эта высшая степень внимания. Новизна и суть предметов побуждают нас к различной степени внимания и размышления; наслаждение же происходит соразмерно степени умственного напряжения.
Представьте себе министра, пересматривающего кипу докладов, давно ожидавших пересмотра. Он отбрасывает иные, сразу поняв, что это – докучливые письма вечных попрошаек, или обычные отчеты, бесполезная формалистика. Он видел все это, но не обратил на это внимания.
Новый почерк других и сопряженная с ним некая таинственность привлекают к себе его взоры; он смотрит на них, ощущая при этом наслаждение сильно напряженного внимания. Если затем перед его глазами появляются бумаги еще более таинственно-заманчивого вида, то он углубляется в них, и внимание обращается в размышление, вызывая тем еще большую степень удовольствия.
Мне могут заметить, что внимание в этом случае становится продуктом любопытства, которое, в широком смысле слова, отвечает и жаждет знать; с этим я вполне согласен. Но в этом сложном уже наслаждении участвует и внимание, которое само по себе не бывает почти никогда причиной самостоятельных наслаждений, выступая необходимым элементом во всех удовольствиях людей.
Пребывая лично настороже в ожидании материалов, притекающих к нему беспрерывно как из внешнего, так и из внутреннего мира, ум наш познает их и, сделав над ними условную пометку, вносит их в протокол свой. Эта умственная процедура составляет феномен распознавания. Ум нередко находит громадное наслаждение в этой работе, наиболее элементарной из всех действий интеллектуального механизма, так как, не переставая помечать и записывать, он наслаждается деятельностью не утомительного для себя упражнения.
Представьте себе ум наш, занимающийся в своем небольшом кабинете рассматриванием притекающих к нему со всех сторон ощущений, и вы поймете сразу наслаждения принятия к сведению, наблюдения и приобретения знаний.
Когда, из-за недеятельности ума, заправляющего делом, работа идет вяло, все наслаждение ограничивается новостью воспринимаемых предметов. Следуя указаниям природы, вложившей в нас потребность подобных упражнений, и зная уже по опыту удовольствие, доставляемое ими, мы желаем все новых и новых сведений, т. е. становимся любопытными. Исправляющий должность протоколиста, ум наш с нетерпением поглядывает на входную дверь, нетерпеливо требуя от привратников (т. е. от внешних и нравственных чувств наших) новых материалов для пометки и записи. Иногда здесь отдается предпочтение многочисленности и новизне предметов – и тогда здесь преобладает наслаждение принятия к сведению; в другой раз все добытое вносится в реестр, со спокойствием полного распознавания, и тогда в уме происходит удовольствие наблюдения.
Наслаждаясь принятием к сведению, ум окидывает беглым взглядом предмет и, пометив его пером своим, сдает в другое ведомство. Но при удовольствиях наблюдательности ум наш обдуманно кладет перо свое за ухо, созерцая подлежащий наблюдению предмет. И наконец ум, жаждущий познания, не только помечает и записывает предмет, но еще, желая сохранить его образ, берет его бережно обеими руками и передает его памяти, этому усердному нашему архивариусу. Этот последний факт представляет процедуру не легко уловимую, но усмотренную человеком, она становится для него совершенно понятной. Хорошая память не всегда необходима человеку, желающему наслаждаться процедурой приобретения знаний; недостаточным оказывается и простое удовлетворение жажды знаний. Наслаждение происходит именно в ту минуту, когда протоколист передает полученный им доклад архивариусу. И тогда, когда память, изменяя своей обязанности, выбрасывает депешу в кучу ненужных бумаг, наслаждение, тем не менее, уже оказывается испытанным.
Ум протоколиста не всегда одинаково бывает занят как рвением к наблюдательности, так и жаждой сведений, выполняя иногда свое дело только как печальный долг и прерывая его зеванием и дремотой. Иногда же, наоборот, ум, пожираемый жаждой знаний, бывает недоволен рвением самых деятельных привратников, не могущих утолить его бешеную жажду знания. В обоих случаях уплатой за дело всегда бывает наслаждение и оно всегда соразмерно интенсивности и совершенству труда. Возраст протоколиста сильно влияет на условие наслаждений. Иной в годы юности сбивает с ног привратников, требуя от них неимоверного труда и исписывая сам чуть ли не по целому тому в день; позднее же, в более зрелые годы, тот же самый ум становится тщательным и спокойным наблюдателем, предпочитая вписать в реестр свой меньше, но зато вполне опознанное им количество предметов.
Наслаждения как духа наблюдательности, так и жажды труда, составляют основную и необходимую часть всей прелести научного дела, которое, как труд весьма сложный, не может быть определено одним общим для него словом. Труд этот, в обширном своем значении, составляет приложение ума человеческого к изысканию всего «истинного», «прекрасного» и «доброго»; вот почему он обнимает собой три различные сферы, имеющие каждая свой собственный небосклон, свои планеты, своих спутников; изложить его здесь вполне, на немногих назначенных ему страницах, нет возможности.
Мания приобретения знаний – дело прекрасное, но, к несчастью, страсть эта бывает нередко принадлежностью умов весьма посредственных. Она ограничивается иной раз охотой пожирать и обращается наконец в болезненный голод, заставляющий человека проглатывать все без разбора, невзирая на грозящую ему опасность несварения желудка. Голод этот можно бы назвать отрочеством или юностью любви к науки, если бы страсть к приобретению сведений не служила бы сама для себя целью для подобных личностей. Иные, наоборот, скучивают в памяти своей знания для того только, чтобы впоследствии разобрать и усовершенствовать добытое, и в этом случае, как бы ни было неразумно и жадно стремление человека к познаниям, оно все же никогда не доходит до смешного. Как бы то ни было, приобретение знаний вообще может всегда стать источником обильных наслаждений и одним лучом доставляемого им человеку блаженства оно способно возместить ему все утраты и удовлетворить его самолюбие. Для приобретения всякого знания необходимо признать себя учеником, т. е. человеком, стыдящимся своего незнания в отношении людей или книг. Но подобная ломка собственного самолюбия оказывается невозможной для некоторых людей, которым никогда поэтому и не бывает вполне доступно удовлетворение жажды знания. Другие не способны достигнуть этого наслаждения, утомляясь трудом, несоразмерным с их способностями. Тот, кто, достигнув высот Монблана, чувствует себя утомленным, не в силах уже бывает насладиться зрелищем, открывающимся с горных вершин, так как самое наслаждение подавлено в нем ощущаемой им истомой. Так ученик, хромающий, потеющий и плачущий по дороге к знанию, не в силах уже любить науку, проклиная ее и не видя в ней ничего, кроме одной из жалких необходимостей жизни.
Люди наслаждаются весьма различно приобретением знаний, глядя по самому различию изучаемых предметов.
Обожающий математику зевает при чтении исторического труда, лингвист скучает, выслушивая до конца самый интересный химический реферат, и т. д.
Наслаждения научным трудом видоизменяются, наконец, по условиям находящимся и вне нас, и в нас самих; но всесильным элементом, определяющим меру подобных радостей, бывает степень собственного нашего доверия к науке и ее целям.
Иной, повторяя символ своих научных верований, насчитывает в нем такое обилие предметов надежды упования, что просто обмирает от волнения при известии что где-то в Новой Гвинее отыскано новое насекомое в семь линий величиной. Человек же, ограничивший символ своих научных убеждений до минимума, способен, зевая, выслушать уведомление об открытии новой части света. Жалкие люди эти продолжают, однако, приобретать знания и довольно усердно останавливаются при этом ежеминутно с возгласом: «Ну, что же далее?»
Жажда познания может продолжаться и до самых преклонных лет, сохраняя притом юношескую наивность первых времен жизни. Дух же наблюдательности, наоборот, всегда бывает принадлежностью лет зрелых и всегда носит на себе отпечаток некоего старчества. Страсть к приобретению знаний может быть соединена с умом весьма мелким и посредственным; наблюдательность же всегда указывает на некоторое умственное превосходство.
Патология умственных наслаждений всегда почти бывает произведением чувства, направившего ход умственного труда к порочным целям. Интеллект в области нравственного мира всегда остается подчиненным сердцу, будучи сам по себе только безответным орудием, способным и оплодотворять сердечную область, и иссушить ее навсегда.
Нравственная стоимость умственного труда измеряется, следовательно, аффектом, его вдохновляющим, и труд этот сам по себе не способен заслужить ни наград, ни наказаний. Так обстоит дело в отношении к миру нравственному. Умственное наслаждение может стать болезненным, не будучи преступным, когда оно бывает продуктом способности уродливой по непропорциональности своей, или когда оно становится чем-либо вразрез к чувству вечной истины и красоты. Словом, наслаждения ума делаются иной раз патологическими, оставаясь, однако, неповинными сами по себе. Наказание в этом случае должно падать на чувство, так как ум никогда не бывает виновным.
Пример, способный уяснить эту мысль, всегда перед нами. Можно приобретать знание, небезопасное для нравственности, и можно смотреть с истинным наслаждением на ход порочного дела, но в обоих этих случаях болезненность эта придана здесь чувством. Человека пожирает охота разузнать о делах ничтожных и мелких и наблюдать за их ходом; словом, он может предаться страсти любопытства, страсти болезненной, хотя и не всегда еще преступной, если она безвинна в отношении нравственного чувства; но недуг этот может перейти и в искажение нашей нравственной организации.
Любопытство – легкое заболевание ума, под гнетом которого дух наблюдательности, свойственный человеку, и жажда познаний обращаются в судорожную похоть, всецело устремленную на узнавание подробностей ненужных и пошлых, и в беспрерывный внутренний зуд, побуждающей человека чесать ум свой самыми жалкими сведениями. Мелкая страсть эта, не выходя никогда из пигмейских пропорций своих, становится требовательной, как избалованный ребенок, своенравной, как недовольная женщина, и назойливо-неотвязчивой, как мошка. Это чувство более свойственно женщинам, но и среди нашего пола в любопытных людях не чувствуется недостатка. Это заболевание ума столь незначительно, что в большинстве случаев оно сходит у людей за проявление полного здравия. Любопытству легко прощают, когда оно не доходит до грубых форм обычной между людей деликатности в обращении и до разглашения познанных ими тайн. Оно, наравне с честолюбием, бывает чувством нейтральным, т. е. и не добрым, и не злым по сути своей, способным иной раз заслужить имя научной любознательности, а в другом случае – мелочности, недостойной мужского ума; оно может стать проявлением и благородных, и низких свойств человека.
Наслаждения этой мелочной страсти остаются вообще ничтожными; обычные ей радости не только не удовлетворяют ее, но удовлетворениями ей, как уколами, доводят ее до порывов бешеной требовательности. Люди заболевают этой страстью во всякое время и во всех возрастах, но что касается до нее самой, то она вечно носит на себе отпечаток ребячества и скудоумия.
Глава III. О наслаждениях, вызываемых упражнением мысли
Деятели, работающие в нашей великой умственной мастерской, объяты столь неукротимой жаждой деятельности, что при получении ощущения немедленно ввергают его в круговорот умственной машины, получая его обратно уже в виде готового понятия. Этот прелиминарный труд необходим, в виду следующей за ним работы. Все поступающее в эту великую мастерскую, – посредством ли докладов чувств, прибывающих к нам из внешнего мира, или посредством совести – этого министра внутренних дел наших, – все должно быть немедленно превращено в понятие. Чтобы стать понятием, идеей, всякое ощущение, будь оно произведением домашним или докладом извне, должно быть немедленно заключено в крепкий футляр, способный предохранить возникшую идею от испарения и сделать ее осязательной для близоруких работников нашей мастерской. Футляр этот – слово; это – более или менее прозрачное вместилище, дающее понятие об окраске субстанции, т. е. о цвете той идеи-родоначальницы, которая заключена в нем. При первобытном своем проявлении, идеи столь нетверды, летучи и бесцветны, что работники могли бы легко пропустить их мимо рук, не умея отыскивать их по мере надобности. Слово необходимо для идеи, как чаша для жидкости. Это – закон природы и продукт необходимости. Как предмет не может существовать без облекающего его пространства, так и понятие, не облеченное в слово, не было еще отыскано никем. Для усовершенствования искусства мыслить следует обратить стекло чаши в вещество столь тонкое и прозрачное, чтобы нельзя было отличить сосуд от заключаемой в нем субстанции, но как чаша все же должна существовать, так и нет возможности мыслить без слов. Мы можем взлетать чувством до произвольной высоты, не употребив ни единого слова и не проведя ни малейшего стенографического знака, способного стать выражением чувства нашего или наслаждения, нас опьяняющего. Когда же дело идет о соображении мысли самой мелкой, тогда поневоле приходится прибегать к склянке слова.
Нужно, чтобы материал этого сосуда был тверд как стекло, хрупкость которого могла бы иной раз обусловить утрату жидкости, сохраняя остальное в первобытной чистоте. Но, к несчастью, таинственный материал склянок этих до того бывает легко проницаем, так мягок и эластичен, что понятия, высачиваясь из них, смешиваются между собой, а самые чаши, переходя из рук в руки, утрачивают точность своей первоначальной формы. Стенки чаши дозволяют иногда понятно смешаться с субстанцией другой идеи, порождая таким образом полнейшую кутерьму в уме. Жаль бывает иной раз бедных работников, одуренных громадной массой прибывающего к ним материала и принужденных обращаться с улетучивающимися жидкостями и трудиться над заключением их в вместилища из материи нетвердой и хрупкой. Смутившись и недоумевая, работники эти не в состоянии уже отличить ни сосудов один от другого, ни жидкостей, проходящих беспрерывно через их руки, и продолжают свою непроизводительную работу, покачиваясь из стороны в сторону от крайнего утомления.
Когда, выработавшись в понятие, ощущение заключено уже в оболочку слова, тогда все это передается в мастерскую высшего разряда, где изо всей этой массы понятий начинают комбинироваться суждения и мысли. Изучавший логику, знает, что этот последний труд подлежит непреложным законам, устранить которые невозможно, не впадая в заблуждения. По несчастью, бедные деятели этой последней категории часто ошибаются и, вместо того, чтобы располагать идеи по порядку, намеченному правдой, этой вечной симметрией внутреннего мира – они ниспровергают порядок правильного построения, проводя лишь неправильные и уродливые начертания. Мне приходится, однако, ограничиться здесь описанием одних наслаждений, получаемых работниками великой мастерской за свой труд ради которого они постоянно напрягают все свои силы, энергией, достойной лучшей участи.
При операциях умственного труда, бегло очерченных мною, возникает немало наслаждений, всегда соразмеряемых с затруднениями самого производства. Фабрикация понятий и суждений почти равняется ручному труду ремесленника, и потому производство их не доставляет обильных наслаждений. В начале жизни ощущения производят, быть может, столь сильное и живое впечатление на ум младенца, что он радовался бы, может быть, несказанно, наслаждениям от первых движений в мозгах своих. Более живые и более известные наслаждения начинаются, однако, лишь тогда, когда суждения, сцепляясь между собой в массе размышления, исходят из нее в виде еще новых суждений и новых понятий. Здесь начинается действительное производство мысли; и хотя бы здесь и не происходило еще действительного творчества, преобразование сырого материала в великолепные произведения искусств, вникая в мышление человека, мы все-таки любуемся как бы некоей творческой силой. Прошу читателей не обвинять меня в материализме. Сравнения с фабричным производством служат мне только средством яснее и удобнее изобразить ход таинственно-отвлеченного мышления. Из новых понятий вторичного производства комбинируются новые суждения, которые, приходя в соприкосновение с новыми рассуждениями, составляют новую серию высочайших понятий, квинтэссенцию мысли.
Процессам этой дистиллировки понятий не положено ни счета, ни пределов, и где закончится дело мастерской, неизвестно. Некоторые умы довольствуются во всем продолжении жизни серией идей первого производства, до которой дорабатываются долгим и тяжелым трудом. Другие же весьма деятельные мастерские принимают за материал первой своей обработки понятия уже четвертой или пятой серии и, сделав, таким образом, громадный скачок, доходят до обрабатывания мыслей столь эфирных и трансцендентальных свойств, что едва бывает возможно отличить их от фона, на котором они вырисовываются. Во всяком случае, из понятий и суждений, искусно прилаженных цементом логики, устраиваются более или менее прекрасные мозаики, находящие себе цену на базарах мира.
Таковыми бывают произведения ума нашего – поэзия, литература, философия и науки; все эти продукты человеческой интеллигенции продаются на торжище общественного мнения; они покупаются ценой благородных металлов, лавровых венков и премий. Иные фабриканты мысли работают только ради собственного наслаждения и чести фабрики; бывают несчастные, которым приходится продавать свои произведения другим фабрикам мысли, уже добывшим себе имя и славу.
Весьма сложная двигательная сила, заправляющая мастерской, называется мышлением; процессу мышления всегда присуще мелкое, свойственное ему наслаждение составлять понятия и идеи, суждения и мысли. Все люди думают, но не все наслаждаются мышлением. Оно слишком утомительно для одних, для других – совершенно невозможно из-за беспорядочного хода фабричного дела в их мастерской. Иные, состоя во главе весьма деятельного умственного производства, не умеют, однако, наслаждаться ходом дела из-за недостатка спокойствия в собственном уме, неспособном к тихому созерцанию передвижений таинственного механизма; такие люди способны бывают радоваться только крупным открытиям или достижению цели через посредство умственных сил. Умственный труд для них только средство для достижения богатства и славы; радости же мышления для них недоступны.
С умственным трудом связано столько наслаждений, что человек может усладить ими всю жизнь свою, утешая себя ими во всех невзгодах, обуревающих его. Приходится оставить этот предмет нерасследованным в надежде возвратиться к нему позднее, с новыми силами.
Прибавлю только, что акт мышления, независимо от его целей, составляет сам по себе одно из высших наслаждений жизни. Прибывая со всех сторон, ощущения, едва коснувшись сознания, немедленно превращаются в понятия; пущенное в ход движение начинается стройно и правильно, и трепетание новых струн уведомляет о вступлении в дело нового механизма; здесь понятие, толкнувшись в дверь хранилища воспоминаний, вызывает внезапно новое, исторически сложившееся понятие; здесь от комбинации нескольких суждений загорается новый луч света.
Свет, освещающий мастерскую, начинает переливать цветами радуги, сияя и по пружинам машин, и по лицам работников: это – дело фантазии, встряхнувшей калейдоскоп свой и сверкнувшей по всей камере новой отысканной ею комбинацией цветов. Но вот наполнил камеру оглушающий говор мастеровых, старающихся сообща и сразу определить новое понятие. За бешеными ударами молота и визгом петель воцарилось мертвое молчание: размышление сосредоточило лучи света, приостановив все прочие работы, и труженики примолкли, выжидая впотьмах и поглядывая с нетерпением на искры, вылетающие по временам из-под горнила, где, быть может, вырабатывается в эту минуту та или другая гигантская машина.
Не думайте, что я преувеличиваю наслаждение и поэтизирую его. Не все люди мысли описывают одинаково процесс своих наслаждений, но все, предаваясь мышлению, чувствуют радость, плохо подлежащую описанию, находя в ней неисчерпаемый источник вечно новых наслаждений.
Многие из талантливых или даже гениальных личностей бывают увлечены силой собственного мышления, и со взорами, вечно устремленными на избранную ими цель, вовсе не смотрят на пробегаемую ими тропу. Другие не любят останавливаться на мелких радостях жизни и, погрузившись в соображение высших мировых идей, не дают себе времени думать над тем, что они думают. Чтобы уметь вполне насладиться непосредственным наслаждением собственного интеллектуального труда, следует приучить себя к терпеливому отмечанию пройденного нами пути; следует стать господином, а не рабом собственной мысли. Словом, следует совладать с трудной задачей спокойствия посреди движения, невозмутимости – посреди напряжений труда.
Из всех производителей продуктов интеллигенции всего более наслаждаются мышлением своим философы и литераторы, всего менее – ученые. Эти последние бывают, преимущественно не фабрикантами мысли, а покупателями результатов чужого мышления.
Влияние мыслительных наслаждений полезно. Они не только дают человеку счастье, но еще возбуждают в нас желание достигнуть блаженства и, возвышая нас над средой прочих людей, почти всегда заставляют нас стремиться к пламенным наслаждениям честолюбия и славы. Кто в деле мышления умеет достигнуть истинного сладострастия, тому уже должны казаться бледными и скучными все прочие наслаждения ума, и он начнет уже пренебрегать более или менее опасными наслаждениями сердца.
Наслаждение несложным и простым актом мышления выражается на лице блеском очей и устремлением взоров к небу; иногда же, наоборот, ум скрывает в глубине своей силу наслаждения, не допуская ничему выразиться на чертах лица. Можно ощущать болезненное наслаждение и тогда, когда ум порождает лишь безрассудство и бред фантазии. Но при здоровом сознании истины и красоты ум неспособен насладиться мыслью уродливой или пошлой; наслаждение в нем начинается только тогда, когда мастеровые трудятся в нас усердно и быстро и когда продукты внутренней мастерской нашей вполне заслуживают одобрение двух строгих и неумолимых судей нашей совести, т. е. сознания вечной истины и красоты.
Глава IV. О наслаждениях, происходящих от упражнения слова
Мы уже видели, как каждое понятие, едва сложившись в уме, немедленно влагается в приличный ему футляр слова, без которого оно не могло бы свободно ходить по рукам работников великой умственной мастерской нашей. Храниться в архивах памяти понятие может и под видом таинственного стенографированного знака, и речи, высказанной или записанной, или одного более или менее несовершенного способа передачи людям собственных мыслей. В физиологическом отношении все подобные феномены мышления принадлежат к одной и той же функции ума, способной упражнением доставить много различных наслаждений.
Речь как функция отчасти содействует ходу мышления, в сферу которого необходимо входит и работа облечения мысли словом, но это последнее наслаждение проходит часто незамеченным, пропадая всецело в следующем за ним более веском труде, т. е. в наслаждении, ощущаемом человеком при образовании более сложных понятий из логических комбинаций. Мыслящему человеку необходимо слово, но его иногда заменяет несовершенный, едва заметный значок, при помощи которого мысль продолжает сверкать как молния, не обращая внимания на служащий ей стенографический знак. Ум наш способен разбирать дьявольски неразборчивый почерк, когда дело идет о домашнем производстве. Когда же, наоборот, дело идет о передаче своих мыслей другим, тогда приходится облекать их в необходимо точные слова, приводя их в должный порядок и заботясь о верном их произношении; труд оформления мысли равняется в этом случае труду первой фабрикации понятий, требуя иной раз со стороны говорящего еще большего к себе внимания; вот почему мы испытываем наслаждение, когда речь наша производится легко и бегло.
Наслаждение, испытываемое нами при высказывании своих мыслей, дело весьма сложное, возбуждаемое всегда элементом, исходящим из области сердечных чувств, т. е. из той жажды общения, которую может удовлетворить обмен человеческой мысли. Самолюбие, однако, бывает не без влияния на желание наше высказать результаты собственного мышления. К разряду чисто интеллектуальных наслаждений принадлежит чуткое наблюдение над таинственным переходом образовавшегося понятия в выраженное нами слово, что составляет уже, само по себе, живой источник наслаждений… Мы становимся в эту минуту как бы на самую грань между внешним миром и таинственно-действующей в нас мимолетной лабораторией, и, поглядывая непрерывно назад, чтобы уследить за тем, не иссякает ли внутри нас мысленный ток, мы единовременно восторгаемся величаво-плавным ходом речи, исходящей стройно и звучно из уст наших. Мы усматриваем место происхождения мысли и видим то, к чему обращена она; но между идеей и облекающим ее словом стоит бездна, недоступная нашему исследованию, хотя мы и перепрыгиваем ее ежеминутно и с крайней для себя легкостью. С другой стороны, люди, умеющие говорить, невольно любуются беглостью, с которой ум их избирает наиболее элегантное и красивое облачение мысли своей, между всеми одеяниями, находящимися к ее услугам; оживленные и обрадованные этим сознанием удачи, мы единовременно ведем и мысль, и речь свою с вечно новым наслаждением.
Хотя слово составляет только одну из форм мышления, приноровленную к нашему несовершенству, оно имеет столь сильное влияние на идеи наши, что нередко весь ход их подчиняется слову. Среди увлечения речью в уме нашем часто возникают сотни мыслей, которым суждено было спать вечным сном, если бы механическая функция словесной речи не вызвала бы их случайно к жизни; вот почему в удовольствии беседы участвует и чрезвычайное оживление при этом мыслительных сил говорящего. Личности, которые, вовсе не подходя под тип людей посредственных, совершенно не бывают в состоянии уследить хотя бы на минуту за ходом собственного мышления при помощи одной только стенографии ума; им необходимо произносить слова или записывать их, чтобы придерживаться нити мыслей или чтобы слагать что-либо новое. Существует шуточное выражение «говорить, не думая»; вернее можно было бы сказать о некоторых людях, что они не умеют иначе думать, как вслух.
В большинстве случаев в наслаждениях говорящего участвует и удовлетворенное чувство осязания, состоящее в том упражнении мускулов, которое необходимо для выговаривания слов. Люди, как всем известно, наслаждаются при выговоре некоторых особенно звучных сочетаний слов, и некоторые из языков человеческих прельщают нас пластичностью ударений, приятно щекочущих наши чувства. Владеющие многими языками в совершенстве бывают в состоянии определить род наслаждений, доставляемый им разговором на каждом отдельном наречии – на французском, немецком, английском или итальянском.
Подобные люди ощущают едва ли не чувственное удовольствие, когда им удастся подметить чутким ухом какое-нибудь звучное ударение, ускользнувшее от внимания других людей: в удовольствии этом самолюбие иной раз не играет ровно никакой роли.
Сама по себе функция говорения не доставляет обилия радостей, но в связи с другими операциями ума она представляет нам одно из высших человеческих наслаждений как результат образованности человека и свойственного ему дара красноречия.
Для некоторых людей самый подбор слов и приведение их в нечто стройное составляют задачу столь многотрудную, что речь, как телеграфная передача мышления, то и дело прерывается, мешая человеку наслаждаться способностью данного ему слова. Другие же, наоборот, гораздо лучше владея искусством речи, чем способностью молчаливого мышления, беспрерывно угощают себя удовольствием устного изложения мысли, то вступая в споры, то рассказывая, но, во всяком случае, бесконечно наслаждаясь собственным словоизвержением.
У женщин нить, связующая производство мысли со словесным телеграфом, видимо, короче, чем у мужчин, и слова, быстро пробегая пространство, толпятся у них на языки, вытесняя друг друга. Большинство женщин выговаривают слова как бы скачками, выбивая их словно искры, бешено сыплющиеся с язычка. Иные женщины не умеют сформулировать ни единой мысли, не увлекаясь желанием угостить ей немедленно того или другого слушателя под видом всегда готовой на их устах речи. Все, что в людях этих слагается и доброго, и злого, и законченного, и неполного, немедленно становится общественным достоянием посредством неумолкающего говора. Но хотя потребность говорить и ощущается сильнее женщинами, чем мужчинами, я вовсе не утверждаю, чтобы они более нас умели наслаждаться способностью речи, так как, мало обращая внимания на слова свои и злоупотребляя ими на каждом шагу, они утрачивают отчасти достоинство этого дара.
Старец по большей части наслаждается более молодого удовольствием говорить.
Глава V. О наслаждениях памяти
Память – одна из наиболее изведанных способностей нашего ума. Не буду обращать здесь внимания на подразделения ее философами; они охотно бы принялись крошить убийственным ножом своим и мельчайший атом, если бы только могли добыть его. Хотя грани этой способности весьма определенны и точны, сущность ее, тем не менее, остается чем-то таинственным и неизведанным. Обязанный касаться здесь только наслаждений, доставляемых нам памятью, я удовольствуюсь уподоблением ее фотографической пластинки, поставленной против сознания человеческого. Все ощущения и все понятия, притекающие к сознанию, как из внешнего мира, так и из области собственных мозгов наших, вырисовываются на чувствительной пластинке памяти картиной более или менее ясной, смотря по большей или меньшей яркости нравственного света, освещавшего предмет в момент его отражения. Пластинка эта подразделена на мелкие отделы, столь же бесчисленные, как и разряды предметов, ей воспринимаемых, так что ощущения зрения накладываются здесь одно на другое, чувство наслаивается на чувство и понятие на понятие. Но это еще не все; чудным и дивным оказывается то, что все скученные таким образом картины, не перемешиваясь между собой, составляют тома, где каждая страница хранит свой отдельный отпечаток. На эти великолепные творения нравственной фотографии как время, так и собственная воля человека влияют весьма различно. Время вообще заставляет бледнить изображения, сложенные в кладовой нашей памяти, стирая их понемногу и предоставляя очищенное ими место новым впечатлениям. Чем ярче озарен был образ запечатлеваемого предмета, тем прочнее и его изображение, и наоборот. Некоторые из нравственных проявлений бывают освещены до того слабым светом, что изображения их исчезают весьма быстро, не оставляя по себе ни малейшего следа. Бывают, наоборот, неизгладимые страдания, образ которых никогда не сотрется с таинственной фотографической пинакотеки нашей памяти. Воля довольно сильно способствует задержанию впечатлений в памяти; привлекая внимание ума к тому, что отражается в сознании, она углубляет на громадной пластинке проводимые на ней черты. Воля человеческая бывает способна, усилив напряжение внимания, оживить цвет уже поблекший и сохранить в памяти готовое исчезнуть из нее навсегда.
Вот почему мы (иногда – сразу) можем вызвать понятие или образ, а в другое время долго трудимся над умственной работой, отыскивая что-нибудь в своей памяти. В первом случае ум наш находит сразу отыскиваемый рисунок, запечатлевший его как следует и на принадлежащем ему месте; во втором же случае нам приходится долго рыться среди страниц вышеупомянутых томов, прежде чем удается напасть на рисунок, начертанный не на своем месте или столь легкими чертами, что его с трудом можно отличить от других ему подобных. Это уподобление мое, несмотря на все его несовершенство, привело бы нас к более глубокому изучению памяти, но оно слишком удалило бы меня от моего предмета. Со временем, быть может, мне удастся доказать, что сравнение это вовсе не столь неудачно, и что, следуя указанной здесь нити, можно, при терпеливом исследовании, составить настоящую физиологию памяти.
Наслаждаться памятью можно весьма различным образом, смотря по тому, что составляет предмет воспоминания, – произведения ли ума, впечатления ли чувств или памятование сердечных проявлений.
При фотографировании понятий сердце почти вовсе не участвует, входя в дело только в виде второстепенного двигателя; наслаждение же состоит всецело в энергической гимнастике ума. Люди испытывают удовольствие подобного рода, упражняя память изучением языков, исторических фактов и научных познаний вообще.
Наслаждениям этим часто способствуют утехи самолюбия, всегда польщенного проявлениями силы и успеха. Там, где упражнения памяти не требуют ни малейшего напряжения, там всегда отсутствует и наслаждение, которое, наоборот, может достигнуть высочайшей степени там, где громадная память дозволяет производить чудеса умственной гимнастики. Ограничиваясь областью ума, наслаждение остается холодным, пока его не согреет то или другое удовлетворение самолюбивых чувств. Мы чувствуем иной раз что-то вроде приятно-мирного покачивания в уме, когда, пристально вглядываясь в огромные фолианты памяти, стараемся отыскать затерявшееся в них воспоминание. При находке искомого мы всегда ощущаем в уме нечто вроде скачка; затерявшееся было понятие выскакивает внезапно и фазу появляется в полном ясном составе, а не выделяется понемногу из тумана. Даже и тогда, когда мы уже чувствуем, что затерянное готово отыскаться – и тогда мы еще ничего не видим. Между появлением в памяти уже очевидного и еще невидимого предмета в памяти не существует никакого mezzo-termine. Даже при усилиях вспомнить слово или иную форму понятия (цифру или т. п.) мы все же получаем в уме ощущение некоего сотрясения, двинувшегося в уме механизма. Припоминание никогда не является под видом рассеивающегося внутри нас тумана.
Известия, доходящие до нашего сознания при посредстве чувств, запечатлеваются на пластинке памяти весьма таинственным образом, и потому само перелистывание драгоценных фолиантов представляет для человека особенно заманчивую прелесть. Понятия, как уже было сказано, врезываются в память стенографными, всегда однообразными значками, ощущения же, наоборот, наслаиваются на пластинке неопределенно-туманными тенями, в виде неясной игры света, образуя в памяти обаятельные для человека очерки нравственной перспективы.
Сами по себе воспоминания ощущений составляют нечто среднее, но они приобретают громадное значение, когда служат точками опоры для воспоминаний сердца, которое одно не способно бывает провести в памяти ни малейшего очерка. И действительно: никто из нас не в силах вызвать в себе изображения аффекта, и приходится разыскивать его в памяти, в связи с каким-нибудь образом, подлежавшим чувству; так, святое для нас воспоминание восстает в памяти наряду с образом чудного сада или под видом очертания обожаемого лица. Ни ненависть, ни любовь, ни честолюбие не могут возникнуть в памяти без помощи чувственного образа. Во всех подобных случаях при составлении величавой галереи воспоминаний человеческих невидимая и лишенная образности эманация сердца должна была улечься в памяти в связи с тем или другим материальным проявлением чувственного мира.
Все чувства наши отдают должную дань воспоминаниям, но им всегда присущ элемент наслаждений, проистекающий исключительно из работы мышления, которая воскрешает в памяти, тени того, что было в жизни.
Стоя на меже между будущим, заставляющим содрогаться от вечного напора ожидания и надежд, и миром былого, всегда готового пожрать грядущее, мы теснимся на узкой площадке, составляющей предел настоящего, сдерживая от тесноты и движения самое дыхание свое. Велик простор времени и места нашей жизни, и, воскрешая в воображении образ дорогих существ, оживлявших некогда весь пройденный нами путь, мы вновь читаем повесть любви или дружбы; мы и сами воскресаем вновь, в виде младенцев или юношей, в мире давно уже не существующем: словом, мы снова присутствуем при трепетно-торжественном представлении собственных радостей и собственных страданий.
Кому не ведомы сокровища былого и радость собственных воспоминаний, тот лишен навсегда одного из самых светлых наслаждений, способных потрясти нравственное существо человека до самого его основания. Самые мелкие радости жизни разукрашиваются и возвышаются в глазах наших, переходя в тот мир воспоминаний, где фантазия облекает все блестящим своим плащом. Это таинственное явление доступно наблюдению каждого человека. Иные наслаждения, едва замеченные нами в действительной жизни, воскресают в воображении со всей прелестью воспоминания. И, наконец, даже жесточайшие страдания наши, когда их приходится выгребать из колеи, давно уже нами забытой, и когда они уже достаточно окаменели от иссушающего действия времени, могут возбуждать в нас при воспоминании впечатления грусти, не лишенной сладостного чувства. Ученый наставник мой, профессор Пиньяка, говаривал, что, перелистывая воспоминания былого, он живее ощущает впечатление пережитых им страданий, чем впечатление радостей данной минуты. Но это – факт исключительный, встречающийся у немногих личностей. Все, прошедшее через горнило пространства и времени, очищается и украшается в глазах наших; усопшие кажутся нам краше живых, образы отдаленного приятнее того, что доступно и близко; все, перешедшее в область истории, кажется нам поэтичнее современного. Память сохраняет нам лишь весьма неясные очертания былого, и фантазия, пополняя пустоту, покрывает полустертые временем абрисы лучшими из украшений своих. С другой стороны, все трепетно-неопределенное, все угадываемое, а не очевидное, получает в наших глазах особую привлекательность. Да и самое наслаждение составляет, может статься, только ряд трепетных колебаний…
Наслаждения памяти весьма способствуют улучшению в нас этой способности. Злоупотребления же его иссушают в нас способность умственного производства, скучивая в кладовой мышления такой излишек материала, который не оставляет в ней свободным ни одного сантиметра пространства для работы мысли.
Бывают среди нас ученые, никогда не подумавшие ни о чем, что не было бы ими где-либо вычитано. Но и подобные личности не бесполезны для общества, если только они умеют извлекать из материала, ими поглощаемого, достаточное количество желудочного сока. Желудок их, однако, не выносит иной раз количество задаваемой ему работы, и они не раз и не два торжественно заболевают явным несварением пищи – болезнью, от которой излечить их не оказывается никакой возможности.
Наслаждения памяти бывают всегда обусловлены степенью ее вместимости; человек зрелого возраста ощущает их живее, чем юноша или отрок. Перебирая собственные воспоминания и наслаждаясь ими, мы оживляем в себе способность к фантазии и вместе с тем воспитываем в себе то поклонение пришедшему, которое всегда бывает принадлежностью умов изящно-утонченных и благородных. Но эти же самые наслаждения могут, однако, существовать и в связи с эгоизмом самого отвратительного свойства, так как живость впечатлений наших зависит более от умственного развития, чем от изящества сердечных чувств. Наслаждаться сокровищем памяти долженствовали бы всего сильнее старцы, так как они, несомненно обладают более обильным запасом воспоминаний. Случается и обратное: юноши, располагая более пылкой фантазией, нередко наслаждаются прелестью воспоминаний своего еще недавнего прошлого.
Глава VI. О наслаждениях фантазии
«Кто дает мне могучее слово», способное изобразить наслаждения, которыми фантазия дарит избранников, осчастливленных ее постоянным сожительством? Но нет возможности достойно описать заманчивую прелесть этой владелицы человеческого мышления, способной слиться со всеми элементами нравственного мира. Присутствие ее ощущается всегда и везде, и потому люди не в силах бывают определить нравственной ее индивидуальности. Я, со своей стороны, отказываюсь определять суть фантазии; значение самого слова не подлежит спору; определить же природу ее невозможно, т. е. мы не в силах решить с некоторой достоверностью, образует ли она отдельное, первобытное свойство природы нашей, или составляет только момент или форму мышления. Наслаждения, ей доставляемые, носят, однако, столь характерный отпечаток, что вполне заслуживают отдельного описания.
Если мы уподобили память архивариусу, или хранителю дел, а сознание наше – зеркалу, отражающему предметы, то фантазию нельзя не назвать художником, их украшающим. Фантазия не выпускает из рук палитры с яркими красками, проворно и смело налагаемыми посредством волшебной кисти на все окружающее. Будучи страстной любительницей всего яркого и пестрого, она не переносит вида сероватых оттенков суровой действительности и чувствует неодолимую потребность немедленно замалевывать их слоем радужных колеров своих. Она прикасается волшебной кистью столь же охотно к придорожному щебню, как и к вершинам колоссов альпийских, к крыльям воробья, как и к гриве царя лесов, одинаково украшая все, до чего дотрагивается. Некоторых людей фантазия доводит до настоящей мании описывать все попадающееся им по пути, так что каждое ощущение, отразившись в зеркале их сознания, немедленно облекается в какой-то праздничный наряд.
Для подобных личностей не бывает ничего индифферентного, и малейшие предметы, проходя мимо них, светятся, как сквозь стеклышко волшебного фонаря.
Размалевывая все широкой кистью, фантазия одной рукой исправляет дело художника, а другой пронзает каждый предмет творческим своим жезлом, вызывая из него снопы блестящих искр и аккорды гармоничных звуков. Под этим двойным прикосновением предмет фантазии, как бы ни был он обыкновенен и мал, украшается новым радужным оттенком и, начав стройно колебания, распространяет около себя гармонию и свет. Эта волшебница умеет извлекать несметные сокровища сердца при виде полузасохшего розового лепестка и целые фолианты всевозможных вдохновений, затронув магическим жезлом своим ржавый гвоздь железной двери; она воспроизводит трогательную повесть былого, заставляя людей, по произволу своему, то плакать от умиления, то смеяться до слез. Для фантазии не бывает ничего бесплодного или бесполезного; она способна отыскать в каждом предмете или золотоносную руду, или нравственное сокровище, и из песчинок создать себе пирамиду или чертог.
Люди бывают одарены фантазией весьма различно. В некоторых мозгах она оказывается способностью столь слабой и неопределенной, что людям этим приходится святотатственно хвастать полнейшим ее отсутствием, уподобляясь человеку, который во всеуслышание называл бы себя евнухом. Фантазия иногда ограничивается наведением широкой кистью розоватого оттенка на все окружающее; в другие времена она веселит человека некоторого рода оптической игрой, комбинируя в его уме представление настоящего с призраком и воспоминаниями былого, схороненного в его памяти. Когда ум наш подмечает отношения, связующие два понятия, он начинает наслаждаться ассоциацией идей; главный элемент наслаждения состоит тогда в удовлетворении способности наблюдения.
Комбинации калейдоскопа могут дать нам некоторое понятие о наслаждениях фантазии. Из осколков и обломков воспоминаний прошлого, смешавшихся с представлениями текущих фактов, фантазия умеет комбинировать целые картины, открывающие нам чудные перспективы нравственного мира. Элементы художественной красоты могут здесь слагаться во всевозможные образы.
Несколько наслоившихся оттенков и небрежно набросанных линий являют нам образ стройной изящной красоты; позднее мы смотрим с изумлением на смелые очертания фигур колоссального размера; мы любуемся затем на мелкие зигзаги тончайших орнаментов, голова наша кружится иной раз при виде картины, на которой все элементы нравственно перепутаны в величаво-ужасный хаос. И все эти картины, следуя одна за другой, чередуются в нашем воображении по мере того как фантазия потрясает перед нашими глазами свой нравственный калейдоскоп, способный обнять чуть ли не полмира. Высшие наслаждения фантазии испытываются тем, кто, скомбинировав все тонкости и ухищрения искусства, представляет миру уже готовые продукты творческой силы, в воспроизведении которых участвовали дивные оптические игры, и панорамы, и диорамы, и фантасмагории, и калейдоскоп, усложнившиеся еще в воображении дивными контрастами теней и света.
Человек не имеет возможности переступить ни на одну линию известного узкого предела, стесняющего его от самого начала веков, и не в состоянии создать в своем воображении ни единого элемента творчества, не проявившегося ему посредством внешних его чувств; словом, он не в состоянии представить себе предмета совершенно нового. Он может только сопоставлять между собою ряд комбинаций, столь смелых и непредвиденных, что они являются как бы результатом действительного творчества. Но до таких смелых полетов фантазии человек доходит не иначе как в состоянии той нравственной горячки, которую люди называют то гением, то бешеным бредом. Горячка эта вызывает в уме человека такую бурю сладостных наслаждений, что их можно приравнять уже к сладостному трепету сердечной страсти. И тогда-то, поднявшись выше тревог земной жизни, мы бываем готовы оттолкнуть ногой тот ничтожный атом, к которому мы прикованы, чтобы он исчез в глуби бездны и оставил бы нас витать в заоблачных мирах. В подобные минуты нам мнится, что мы в состоянии захватить в объятья все мироздание и, превратив мир во прах внезапным столкновением оставаться самим изумленными и одинокими посреди хаоса развалин и разрушения.
Иной раз, поднявшись к высотам небесным, в экстазе собственных мышлений мы, кажется, уже летим через пространство небытия и, доходя до граней мира, наслаждаемся гармонией трепетно идущих мимо нас светил, влачащих за собой фалангу планет. В другое время, не отделяясь от земного своего обиталища, мы переносимся воображением во времена грядущие, изображая себе новые утопии из мира цивилизации и научного прогресса. Фантазия рисует перед нашими глазами снежные вершины Чимборас, и мы видим, как человечество грядущих поколений просверливает грозную твердыню, обращая ее в жерло, пустое от верху ее до самого основания. Гигантские машины обнимают горную громаду железной проволокой в миллионы километров длины, а жерло между тем наполняется несметной массой молниеносных препаратов. Готово страшное орудие. Готов и снаряд для извержения: это – гигантских размеров бомба, в глубине которой схоронено сказание о судьбах всей жизни человечества на Земле; около ядра обвита платиновая проволока длиной во все протяжение пространства, отделяющая Землю от Солнца. Все живое и разумное покинуло заранее южно американский материк, а великие пиротехники, обратившие в огнестрельное орудие громаду Чимборас, уплывают далеко в море, увозя на палубе своего корабля конец электрической нити, сообщающейся с основанием горы. Блеснула искра, раздался ужасный взрыв. Взорванные Анды распались в прах, и обезумело от ужаса человечество, на всей поверхности земного шара! Сотрясение разрушило башни Пекина и разломило вечную кору лапландских льдов. Но между тем бомба долетела до поверхности Солнца, и металлическая нить, перелетев пространство, открыла Земле общение с тем громадным светилом, которому она служит спутником. Обитатели Солнца разломили таинственное ядро; после многих и долгих изучений они доходят до смысла письмен, в нем заключенных. Затем они просверливают одну из солнечных гор и, в свою очередь, метнув к нам бомбу, сообщают нам сказание о себе и о своих судьбах. И вот две нити оказываются проведенными между Солнцем и Землей, и электрический телеграф свободно ведет переговоры двух миров. Сеть телеграфных нитей не перестает размножаться, жители остальных планет обмениваются известиями, и все мироздание начинает жить одной, общей для всех, жизнью…
Могут ли эти бедные наброски некоторых из проявлений фантастического мира указать на нескончаемую ширь этих наслаждений? Число их бесконечно, форма разнообразна. Скажу только, что мир наш до крайности сероват, и что одна только фантазия способна изукрасить его чудной игрой открываемых ей перспектив и оптических обманов, симулируя нескончаемую даль из предметов, находящихся собственно у самых глаз наших.
Фантазии часто обвиняют в обольщении и обмане; но с этим же самым укором можно обратиться и к надежде, и на столь же несправедливом основании. Кому угодно считать все то, чем утешает нас фантазия, действительно существующим и реальным, те пусть обвиняют в лживости фантазию, этого чудного живописца, никогда не выдававшего картин своих за копию с действительности. Заблуждается в этом случае разум наш, слагающий себе понятия по данным существующего. Фантазия тешит нас яркостью своих красок, но она вовсе не неволит нас принимать мечты за действительность; своеобычная до крайности, она часто колеблется на границах горячечного бреда и потому вовсе не способна ни рассуждать, ни заменить собой логически критерий – ум, необходимый каждому человеку. Будучи всегда одинаково легкомысленной, своенравной и прелестной, она остается верна самой себе; словом, она везде оказывается прелестной бешеной шалуньей. Когда, что случается весьма редко, необузданность фантазии соединена в людях с твердой волей и с умом, склонным к анализу, тогда люди эти иногда бросаются стремглав в пучину фантасмагории этой шаловливой дурочки, но затем, опомнившись, они снова заковывают бешеную фантазию, и, улыбнувшись, снова усердно принимаются за обычное им созерцание правды истинной, т. е. природы и ее дел.
Они остаются владыками собственной фантазии, порабощаясь ей иногда на минуту, подобно тому, как взрослый иной раз дозволяет себе детскую шутку.
Вечная борьба между разумом и фантазией – вот удел всех более или менее великих людей. Обе эти нравственные силы бывают неразлучными спутниками истинно великих мужей, но в их умах фантазия всегда становится к разуму в сыновья или в ученические отношения.
Наслаждения фантазии предпочитают уединение многолюдству, так как одиночество всегда способствует развитию и живости представления, между тем как водоворот общественной жизни всегда отвлекает человека от созерцания картин собственного изображения. Неудобство этих наслаждений состоит в том, что человек, привыкнув к их очарованиям, теряет уже вкус к простым зрелищам действительного мира, стоящим всегда ниже уровня картин, рисуемых кистью волшебницы. Во время своих путешествий я никогда не читаю описания тех мест, куда лежит мой путь, остерегаясь полета собственной фантазии и зная, что действительность всегда окажется ниже картин, рисуемых моим воображением. Еще несноснее для меня вид рисунков зданий или памятников, мною еще не осмотренных, так как воспоминание об этих рисунках всегда портит ничем не заменимую прелесть первого впечатления. Что же касается видов природы, то, по-моему, книги бывают здесь еще опаснее картин, не дающих вовсе никакого понятия о красоте их и величии. Во всей природе я нашел до сей поры только два зрелища, превосходившие в моих глазах и описания поэтов, и представления о них собственной моей фантазии: это виды Альпийских гор и моря. Среди произведений искусств мои ожидания превзошли только дворец дожей в Венеции.
Фантазия, заправляя всей областью нравственного мира, вольна влагать в свой калейдоскоп и образы сердечных чувств, которые по яркости, свойственной всему фантастическому, могут заставить нас ошибиться в действительной реальности аффекта, существующего только в изображении. Так люди, одаренные живостью фантазии, часто обольщают себя уверенностью, что в их груди бьется сердце нежное и великодушное, так как они умеют мастерски описывать пыл нежных и могучих страстей. Может быть, они в минуты вдохновенья и чувствуют все то, что думают, но пламя, вздутое силой фантазии, ежеминутно рискует быть потушенным гасильником воли; огонь же чувства никогда не может быть задут каким-либо дуновением со стороны ума. Человек может соединять с пламенной фантазией сердце совершенно черствое. Фантазия, будучи свойством ума, может приспособить себя к внешним выражениям чувства, но по сущности своей она не имеет ничего общего с истинным аффектом сердца.
Наслаждения фантазии проявляются всегда живее в юности и среди мужского пола. Что же касается влияния климата и времени на эти наслаждения, то вопрос этот по запутанности своей требовал бы предварительного анализа всех умственных способностей, и потому я не имею возможности разрешать его в настоящее время. Скажу только, что фантазия в этом отношении проявляет две отличительные разновидности, делясь на южную и северную. Первая проявляет себя во всей роскоши форм своих среди народов Востока, вторая же, наоборот, выказывается во всей эфирной чистоте своей в Германии. Осмеливаюсь сказать утвердительно, что наслаждения фантазии достигают совершенства своего в Италии, так как здесь фантазия соединяет роскошь восточного колорита с трепетной гармонией севера.
Человек, наслаждающийся фантазией, отличается в большинстве случаев ярким румянцем лица и светлостью взора. Он по временам опускает веки, чтобы отрешиться от впечатлений внешнего мира и всецело предаться созерцанию того нового мира, в котором он пребывает. В случаях фантастического бреда он бешено бегает по комнате, сопровождая воображаемые им действия соответственной жестикуляцией. Вздохи, слезы, радостные восклицания и спокойствие мнимого бесстрастия могут одинаково служить выражением более или менее бурных ощущений. Лучшим врачеванием для фантазии, возбужденной до крайней степени, могут служить изыскания положительных истин и сухое изучение наук. Я долго сдерживал свою фантазию, суша ее сильными приемами статей о химии и микроскопических наблюдений. В то время я должен был изучать мир действительности, и сумасшедшая шалунья отвлекла бы меня от ученья. Теперь я снял ее с цепи, но на всю жизнь я обуздал ее философией. Байрон, говорят, изучал армянский язык ради обуздания своей фантазии.
Глава VII. О наслаждениях воли
Всем известно, что такое воля, и потому я не нахожу надобности излагать здесь полного ее определения. Чувствую себя обязанным распространяться здесь только о наслаждениях, проистекающих из этой высшей способности ума человеческого.
Проявление воли не всегда бывает наслаждением. Весьма часто оно является только необходимым актом в сложном интеллектуальном процессе, и тогда наслаждение, им порождаемое, само по себе так слабо, что остается незамеченным и невольно поглощается радостью, являющейся последствием всей совокупности предшествовавшей умственной работы. Таким образом, приступая к прогулке или к началу какой-либо умственной работы, решаясь на добро, мы проявляем действие воли, проходящее для нас незамеченным, и преобладающий в нас в это время процесс умственного труда поглощает проявление воли как необходимый момент сложного феномена. В том только случае, когда воле приходится достигать значительного напряжения ради преодоления серьезного препятствия человек, обратив наконец внимание на этот момент умственной процедуры, испытывает некоторое наслаждение. Но так как всякое решение воли оказывается вставшим между силой и противодействием, между желанием и его целью, то наслаждение редко бывает чистым наслаждением только одного принятого решения. К нему обыкновенно примешивается ощущение или предшествующего ему, или следующего за ним элемента. Предположим, например, что нас будит заведенный нами с вечера будильник. Резкий и неприятный звук, внезапно прервав сладкий сон наш, заставляет еще сильнее чувствовать блаженство отдыха, и мы невольно соблазняемся и снова смыкаем веки. Но чувство долга и любовь к труду уже бодрствуют, усиленно призывая нас к работе. Мы остаемся несколько мгновений в состоянии нерешимости, под влиянием охвативших нас противоположных сил, и, наконец, преодолев свою слабость, вскакиваем, радостно восклицая свое победоносное «хочу»! Радость в приводимом примере проистекает, несомненно, от проявления воли, но нельзя отрицать, что к наслаждению в этом случае примешались удовлетворение самолюбия и любовь к труду.
Наслаждения воли связаны таким крепким цементом с элементами других радостей, что нет возможности произвести над ними отдельный анализ. Занимая центральное положение на грани трех областей нравственного нашего мира, они, принадлежа по природе своей к разряду интеллектуальных сил, распространяются иногда по областям и внешних чувств, и сердца. Стремление к борьбе и любовь к науке во всех своих видах бывают всего теснее и чаще связаны с наслаждением проявления человеческой воли.
В чем бы ни заключался проявившийся акт энергии, он всегда и неизбежно бывает усложнен борьбой и победой; здесь почти никогда не отсутствует наслаждение, всегда сопровождающее столкновение двух сил и радость преодоления. Когда воле нашей приходится вооружаться против нас самих, тогда, в случае победы ее, торжествует самолюбие, при воздействии же нашей воли на других честолюбие вознаграждается успехом. Наслаждение повелевать самому себе состоит и в акте проявления собственной воли, и в чувстве самоободрения, вызванном в нас удачей. Удовольствие повелевать другими ограничивается в большинстве случаев упражнением собственной воли и удовлетворением честолюбия. Все чувства, как добрые, так и злые, могут платить дань этим наслаждениям, не будучи для них впрочем делом необходимости. Мы можем приказать себе совершить действие, не имеющее никакого отношения к делу нравственности, и чувствовать притом истинное наслаждение, и даже радоваться, побеждая волю других людей, без всякой притом прибыли для нас самих.
Удовольствия, порождаемые исключительно силой воли, можно считать суровым наслаждением, как бы оковывающим железным обручем естественные движения сердца. Направленная на добро, воля эта может довести человека до великих дел, так как она растет от упражнения, стремясь превозмочь все препятствия и ища все новые усилия. Сегодня мы повернули эту рукоятку, заправляющую страстями нашими; завтра мы возобновим движение, повторяя его еще и еще; наконец, человеку случается дойти до страстного увлечения выполнять трудные дела снова и снова, чтобы чувствовать это господство свое над собственными страстями. Для людей с железной волей бывают минуты, когда они, чувствуя себя бесконтрольными владыками собственных сил, желали бы сжать в один кулак сердце свое, а в другой – мозги, испытывая при этом холодное наслаждение при мысли, что одним пожатием руки они в состоянии и задавить в себе движения сердца, и, если хотят, дать ему вздохнуть полной жизнью; они могут задавить свою мысль и снова пустить ее в ход, доведя ее до бурной и произвольной деятельности.
Не употреблять во зло свою железную волю весьма трудно бывает для людей, одаренных мощной и всепревозмогающей умственной силой. Начать зловредную гимнастику воли человек может иной раз проявлением самого невинного упорства; покончить дело насилия можно проявлениями крайнего деспотизма над собой и другими. В подобных случаях человек становится бешеным обожателем, маньяком собственной силы, и, забывая, что воля – только орудие для достижения добра и истины, он делает самое проявление воли уже целью своих усилий. Он изобретает ряд самых необычайных усилий, предпринимая над собой самые смелые подвиги нравственной гимнастики, задумав произвольно располагать к себе сердечными движениями любви и ненависти, отдохновения и труда проявлением в себе порока и добродетели. Эти атлеты воли, направляя к единственной цели самообладания всю развивающуюся в них нравственную силу, могут доходить до необычайного величия как по пути добра, так и по пути порока. Управление собственным умом ограничивается для них всецело подчинением всех страстей и желаний одному принципу, деспотически распоряжающемуся всеми способностями, посредством первого визиря своей воли. Все чувства должны оставаться безмолвными и бесстрастными, на строго назначенных им местах, ожидая решения из уст верховного владыки – жить им или умереть. В этом полнейшем деспотизме воли, до которого весьма редко доходит ум человеческий, есть что-то поражающее, заставляющее наблюдателя вздрогнуть от удивления и ужаса.
Начав говорить о патологических наслаждениях человеческой воли, следует закончить здесь ее очертание одним из наиболее распространенных заболеваний воли – упрямством. Во время этой болезни человеку свойственно усиленно напрягать силу воли для весьма мелких и незначительных целей. Несмотря на вразумления обязанности и здравого смысла, уговаривающих его изменить упрямую волю свою, он продолжает выполнять свое хотение. В удовольствии упрямца всегда участвуют наслаждение борьбы и порочное удовольствие самолюбия. Упрямство, во всяком случае, бывает изуродованием силы благородной и громадной, соединенной с невежеством и тщеславием. В некоторых формах своенравия, весьма свойственных женщинам и детям, главным двигателем бывает злоупотребление собственной воли. Капризы эти отличаются от других свойств того же рода мелочностью и крайне ничтожным характером своим, выражаясь рядом смешных перепалок с окружающими, мелких ссор, вызванных по большей части желанием потешить себя чужой досадой.
Физиологические наслаждения воли составляют принадлежность мужчин – как молодых, так и зрелого возраста. Предполагаю, что способность к ней дорастает до более полного и сильного развития в странах дальнего севера. Главную разницу между ними полагают, однако, особенности индивидуальные. Иные люди никогда в жизни не испробовали чистых удовольствий воли, другие, напротив, с особенным вкусом предаются наслаждению «хотения», угощая себя им ежедневно, в приемах более или менее крупных. Можно стать великим человеком, не испробовав над другими людьми железной власти своей воли; но всякий, обладающий этой силой в известной степени ее развития, не лишен некоторого превосходства над прочими людьми, возвышаясь над ними чем-либо в смысле добра или порока.
Выражения воли не разнообразны во внешних проявлениях своих; каждый знак, каждый звук голоса и каждый жест выражают напряжение внутренней силы и энергию повелевания. Сжатие губ и сжатие зубов достаточно выказывают иной раз силу внутреннего наслаждения, заставляя бледнеть человека, от усилившегося в нем биения сердца. В другое время человек, готовясь к заявлению всесильной воли, стучит ногой или скрещивает руки на груди; невольное движение мускулов всегда сопровождается холодно блеснувшим взором.
Глава VIII. О наслаждениях при изысканиях правды
Понятие о правде и физиологический ее анализ настолько затруднительны и недоступны, что вековые усилия человека не могли дойти до точного определения этого понятия. Напрасно пытался бы я повторять так часто уже неудавшуюся попытку и потому удовольствуюсь описанием здесь наслаждений человека в поисках правды.
Истина, несомненно, образует понятие, но вместе с тем мы столь же несомненно и чувствуем ее; она, следовательно, занимает в нравственной организации нашей место как в области сердца, так и в сферах ума.
Мы лучше всего замечаем эту сложность ее природы, когда, будучи неприятно поражены ложью, мы внезапно чувствуем, как проясняется лицо наше и как сердце наполняется радостью при разыскании истины. Наслаждение это может быть сопряжено со многими побочными элементами, но основанием радости всегда бывает в подобном случае удовлетворение чувства правды, освободившейся от удручавшего ее впечатления лжи.
Чистые наслаждения правдой почти всегда бывают отрицательного свойства. Во всех прочих случаях удовлетворение чувства правды сопряжено с другими наслаждениями, среди которых весьма трудно отличить долю удовольствия, доставляемую открытием истины.
Во всяком интеллектуальном труде, начиная с чтения и кончая творчеством, отыскание правды всегда бывает первым элементом наслаждения, но оно едва дает себя чувствовать при усиленном напряжении мысли и осиливается славолюбием и другими, менее видными двигателями души человеческой. Так, когда при отдавании отчета в нашем поведении мы признаемся в неприятной истине, мы ощущаем иной раз наслаждение, в котором любовь к истине усложняется любовью к борьбе, самолюбием и тщеславием. Всеми открытиями нашими мы удовлетворяем прирожденное нам желание правды, но к радости нашей не может не примешаться самолюбие под тем или другим видом.
Кто задумал бы еще раз испытать затруднения при определении правды, тому пришлось бы изучать отдельно каждую из двух ее составных частей: правду умственную и правду нравственную.
Люди не перестают твердить о том, что существует одна только правда, и в этом повторяется грубейшее заблуждение наше. Со временем я постараюсь доказать это; а пока кладу камушек на своем пути, чтобы указать на место, где скрыта обильная руда, недоступная для меня в настоящее время, когда мне приходится метить предпринятый мной быстрый обзор наслаждений.
Ложь – это порочное заболевание истины; заблуждение же, напротив того, бывает только невинным ее аффектом. Солгавший, поражая прирожденное человеку чувство правды, всегда ощущает в душе более или менее сильную боль; даже и в тех случаях, когда люди наслаждаются неправдой, наслаждение бывает в них или следствием желания обмануть кого-нибудь, или необходимостью спасти путем лжи себя самого. В случаях весьма редких, когда человек лжет не ради самозащиты, а единственно по инстинкту примитивного зла, чувство истины бывает поражено в нем злейшим недугом, способным сделать для него приятными неправду и ложь.
Один из своеобразнейших видов заболеваний в человеке чувства правды состоит в стремлении его надуть и тем доставить себе патологическое наслаждение. Для некоторых (к счастью немногочисленных) людей страсть к надуванию доставляет некоторого рода потребность, и они предаются ей ежеминутно, теряя притом всякое чувство собственного достоинства. В забаву эту входит всегда порядочная доля мелкого злобствования и того разжиженного чувства ненависти, о котором я уже упоминал, когда речь шла о стремлении досадить. Измышление надувательства составляет самый приятный момент наслаждения для охотников подобных забав. Они доходят иногда до художественности в подобных измышлениях, ухищряясь отлить такую пулю, которая могла бы поразить наибольший круг обманутых ей жертв.
Глава IX. О наслаждениях чтения, компиляции, творчества и умственной работы
Упоминая здесь о наслаждениях, сопровождающих всякую работу ума, я уже указывал на происхождение их и на самую их суть, не останавливаясь, впрочем, на более сложных формах, принимаемых ими от комбинации их между собой. Всякий интеллектуальный труд требует в большинстве случаев глубоких исследований человеческого ума, с которыми нет возможности ознакомиться на немногих страницах этого чисто описательного моего труда. Впрочем, в немногих уже сделанных здесь указаниях на физиологию умственных наслаждений найдутся все те элементы, группировка которых влияет на образование утех чтения, научных и литературных трудов и наслаждений творчества. Несколькими слегка наброшенными линиями я постараюсь определить классификацию умственных наслаждений.
Как жажда познаний, так и самое удовольствие изучения лежат в основе утех чтения, которым сильно способствует и приятность деятельного упражнения ума. Физиологически полный анализ чтения мог бы определить сущность всех этих наслаждений, так как удачный состав библиотеки способен дать пищу всем аффектам и всем интеллектуальным силам человека. Даже чувственные наслаждения, и те могут отражаться в сознании под видом нравственных образов; посредством чтения мы нередко видим, слышим и осязаем, не употребляя в дело ни глаз, ни слуха, ни рук. Для многих людей удовольствие чтения ограничивается избавлением от томящей их скуки, наслаждением, следовательно, чисто отрицательным, между тем как для других чтение составляет одно из лучших употреблений времени, одно из величайших увлечений жизни. Неутомимыми чтецами всегда становятся люди, одаренные устойчивой и цепкой памятью, отыскивающие в чтении случай упражнять свои силы беспрерывным разбором добываемых из книг материалов. Юноши бывают более пристрастны к чтению, чем старики, и потому в зрелых летах такие личности становятся людьми весьма начитанными, но не достигают сильного развития мозга.
К наслаждениям чтения можно отнести и слушание научных лекций, и посещение музеев, кабинетов редкостей и т. п.
Страсть к деланию заметок на полях книги, к выписке выдержек и собиранию цитат бывает источником не менее теплых и устойчивых наслаждений; спокойному умственному упражнению способствует в подобных случаях и любовь к собственности в виде инстинктивной страсти ко всяким коллекциям.
Некоторые люди до того увлекаются охотой выписывать цитаты, что и читают уже только ради утоления этой потребности. Наслаждения эти более свойственны старости; когда же они проявляются в более юных годах, они всегда служат доказательством или слишком раннего благоразумия или ослабелой памяти. Я знавал юношу, предававшегося с детства страсти делать записи; впоследствии он завел себе тетрадь под заглавием «Библиографический архив», куда и вносил суждения свои о прочитанных им книгах; была у него и другая книга под названием «Литературная мозаика», куда он неутомимо выписывал места, его особенно поразившие. Юный старец этот, с которым впоследствии я, может быть, познакомлю своих читателей, заносил в особым образом составленный им протокол все письма, полученные им с детских лет. Поделив, таким образом, всю свою жизнь на унции и граны, он, по всей вероятности, напечатает когда-нибудь все собрание свое, взвесив мелочные наблюдения свои на крошечных нравственных своих весах.
Живейшее наслаждение умственного труда, несомненно, составляет творчество. Озарит ли наш ум неожиданный луч света; подметит ли терпеливый умственный взор искорку где-либо среди глубокой темноты – минута первого открытия всегда очаровательна. Мне не следует рассказывать здесь о подобных мгновениях: в столь раннюю пору жизни это могло бы показаться профанацией. Кладу здесь камушек, в виду будущей мозаики, и смиренно умолкаю.
Наслаждения наблюдениями и мелкими открытиями составляют ту привлекательность естественных наук, которая может наполнить собой все существование человека. Наслаждения эти спокойны; их не могут возмутить ни страсти молодости, ни бури политического мира.
Изменяя в руках своих формы материи, человек испытывает одно из самых своеобразных и первобытных удовольствий, наслаждаясь им как художник, как механик и техник. Вся интеллигенция при этом акте как бы переходит в руку, которая приводит, таким образом, материю в прямое общение с умом, ее видоизменяющим.
Все подобные наслаждения можно собрать в одну группу, назвав все их пластическими наслаждениями; все они зависят от действий интеллигенции в связи с чувством осязания. Произведению пластических наслаждений всегда содействует зрение. Кто хотя бы один раз видел эластическое движение одухотворенной кисти в руке художника, тому кисть эта должна казаться чем-то живым; и ум артиста, переходя через нее, как бы обратил ее в нерв, посредством которого материя, изменяя беспрестанно вид свой, передает обратно уму трепет оживляемого им создания.
Наслаждения математикой могут составить другое подразделение радостей. Человек, глубоко изучивший математику, чувствует в себе чарующее сознание неизменяемого навеки, порядка вещей и механизма незыблемых отношений, законы которых ему вполне известны. Внезапно поражающее его открытие искрами, подновляющими пламя ощущаемых им наслаждений, и уверенность в обладании истины кладет на его радость печать неотъемлемой жизненной награды. Он имеет право называть себя самым самоуверенным деятелем великой умственной фабрики.
Чтение, компиляция и творчество соединяются между собой, чтобы содействовать наслаждению философского и литературного труда, в котором почти всегда отсутствует элемент пластический и математический.
Наслаждения наблюдательности в связи с небольшой долей пластических упражнений составляет увлекательную прелесть трудов анатомических, физических, математических и применений врачебного искусства. Пластические удовольствия в соединении с математическими радуют сердца инженеров, архитекторов и механиков.
Ежели бы мне нужно было разделить весь умственный труд на два отдела, я поделил бы его на труд философский и пластический. В первом были бы соединены все труды, имеющие отношение к миру книг и понятий. Во втором я бы сгруппировал все, что занято числом, материей и формами. Наслаждения этих двух отделов весьма различны и редко соединимы. Литератор может быть и философом, а философ, кроме того, может еще быть поэтом и историком; но математик или механик весьма редко способны выражаться стихами или блистать красноречием в прозе. У весьма немногих homosapiens все способности ума могут существовать в одном мозгу; но и в подобном случае один отдел способностей всегда оказывается преобладающим над другим. Гёте захотел быть естественником, но ботаники редко упоминают теперь его имя; Галлер был поэтом, но стихи его забыты; Галилей был литератором, но статьи его едва известны, и то лишь людям ученого мира. Лейбниц, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Вольтер и некоторые другие охватывали необычайным умом своим большую часть знаний человеческих, но велики они были далеко не во всех науках и искусствах.
Между элементарными наслаждениями ума, производимыми упражнением одной только способности человека, и теми весьма сложными удовольствиями, которые приводят в действие все разнообразие умственных наших сил, находим группу более простых и как бы вспомогательных увеселений ума, составленных из наслаждений анализа, синтеза, сопоставлений и сравнений и всех видов умственных операций, необходимых для упражнения мышления. Не могу распространяться здесь и об этих наслаждениях, не вошедших в программу настоящего труда моего; приходится указать читателям на будущий мой труд «Естественную историю ума», который, может быть, мне удастся выполнить впоследствии.
Глава X. О наслаждении смешным
Назвав «смешным» все безболезненно-уродливое, мы объяли бы этим определением весьма малую долю тех предметов, к которым применяется это слово, исключили бы множество вещей, входящих в область «смешного». Много бывает уродств, не причиняющих вовсе боли и не возбуждающих в нас проявлений смеха. Множество, наоборот, других предметов, заставляющих нас хохотать до упада, не носят на себе ни малейшего признака уродства. Желая упростить что-либо или составить чему-нибудь точное определение, философы всегда принимаются урезывать предмет. Философские определения бывают часто похожи на те фрагменты великой мозаики природы, из которых ученые выкраивают анатомическим ножом своим хорошенькие медали, складываемые ими в музее своих произведений, тогда как определение должно бы быть только грубым значком, начертанным на самих предметах ради обозначения топографического положения камушков в мозаике, связывающей их цементом общности.
Уподоблю здесь чувство смешного некоему щекотанию ума и сердца, которое, поражая внезапными весьма легкими покалываниями некоторые из чувств человеческих, производит в них сразу тот необъяснимый зуд, которому мы и обязаны телодвижениями смеха.
Во всех трех областях человеческого естества происходит некоторого рода щекотание. В области внешних чувств щекотание производится малейшим затрагиванием нервов, посредством осязания; в областях же ума и сердца его производиться все «смешное». Как физическое щекотание производится от мелких и быстрых потрагиваний нервов, так и все смехотворное, производя мысленное щекотание, внезапно и быстро сопоставляет два аффекта, или два понятия, или сталкивает чувство с понятием. Как ощущение щекотки может быть возбуждено иной раз причиной донельзя малой и не отвечать в другое время на возбуждение весьма сильное, так и «чувство смешного», своенравное и неразгаданное, как осязание щекотки, разражается иной раз хохотом, как бомбой, при виде самых индифферентных предметов; а в другое время оно молчит и дремлет при виде самых смехотворных карикатур. Наконец, ежели все это недостаточно указывает на аналогию, существующую между щекотанием физическим и непонятным зудом смеха, прибавлю еще, что к обоим чувствам этим одинаково впечатлительны бывают как женщины, так и дети. Может статься, что восприимчивость к обоим впечатлениям уравновешивается в людях вообще, но, признаюсь, мной произведено еще слишком мало опытов в этом отношении, чтобы я мог привести этот факт в виде общего закона.
Смешное бывает порождено внезапным сопоставлением двух аффектов; так проблески мелочного тщеславия и проявления болезненного самолюбия могут возбудить в нас взрыв неудержимого хохота, потому что все это представляет уму нашему нравственный образ, резко противоположный присущему в нас изображению добра и красоты. Более резкое столкновение перешло бы уже в чувство болезненное, так как подобная борьба может мелким раздражением уязвить и произвести невинный зуд смеха. Бывают случаи, когда достаточно щекотания одним аффектом, без сопоставления каких-либо контрастов и без проявления той или другой уродливости, чтобы заставить нас смеяться до слез. Когда мы собираемся, например, сыграть шутку с приятелем, мы посмеиваемся заранее, сами с собой, возбуждая в себе мелкими раздражениями чувство легкого невинного злобствования, которое и порождает в нас смехотворный зуд. Уродливый образ осмеянного приятеля рисуется, может быть, тогда в воображении нашем, но он вовсе не необходим для возбуждения смеха, для вызывания которого достаточно бывает и одной мысли о забавной шутке.
Самый обильный источник «смешного» находится в понятиях, связанных со зрением, вызывающих в чувстве красоты легкое покалывания, не поражая его неприятным образом. Карикатурные произведения природы и искусства могут составить целый арсенал смехотворных предметов. Слух тоже способен доставить нам немало наслаждений подобного рода; остальные же чувства едва ли могут позабавить нас чем-либо подобным; а менее всего – чувства, близко подходящие к осязанию. Смешное принадлежит по сути своей к миру нравственных проявлений ума и сердца и потому всего легче возбуждается ощущениями чувства наиболее идеального, т. е. зрения, и всего реже – наиболее материальным из чувств – осязанием.
Ошибки, раздражая в нас слегка сознание истины, становятся иной раз смешными, в особенности когда ошибки эти бывают не нашего произведения. Воздействие их на нас должно происходить внезапно и оказываться чем-либо сравнительно новым и неожиданным для нас. Быстрота и новизна впечатления особенно способствуют развитию элементов смеха, возбуждая его иногда и без содействия иных двигателей. Точно так же, как смех при физическом щекотании бывает только при содействии внутреннего легкого возбуждения нервов; так, чтобы рассмеяться при виде карикатуры или неуклюжего увальня, необходимо особенное нравственное возбуждение, не составляющее принадлежности всех людей и во все минуты жизни. Некоторые избранники бывают одарены такой чуткой впечатлительностью ко всему смешному, что легко отыскивают его везде, заставляя его брызгать из всякого предмета, как из таинственного источника.
Но иногда это «смешное», отыскиваемое подобными людьми во всем, оказывается свойством болезненным, могущим влиять только на судорожно настроенные нервы их; при особенном же складе ума они действительно вызывают свежие источники смехотворной силы, способные вызвать нравственный зуд смеха и в самых строго настроенных личностях. В мире литературы и художеств бывают мастера на произведение и вызывание смехотворного, из которого умеют извлекать и хлеб насущный, и даже славу.
Наслаждение смешным не может доставить человеку счастья на всем протяжении жизни, но, отвлекая мысли его от забот житейских, оно разгоняет скуку и украшает жизнь как бы легкими блестками мимолетных наслаждений. Охотники до всего смешного разыскивают его иногда со страстным увлечением, как ради употребления времени, так и ради легкости добывания подобных наслаждений. Злоупотребление ими делает человека вообще легкомысленным и пустым. Все, способные к более высоким наслаждениям мысли и чувства, не гоняются за подобными удовольствиями, увеселяясь «смешным», когда оно само попадается им по пути, или когда они находят его у себя дома.
Общественное мнение может употреблять смех в виде страшного орудия и воспитания, и наказания. Осмеянием можно убивать и человека, и даже порок в целом сословии. Физиология смешного может стать богатейшей рудой для философа, способного открыть в ней новые, еще не отысканные золотоносные жилы.
К подобным увеселениям, как уже сказано выше, бывают менее чувствительны люди зрелого возраста и мужчины. Чуткая подвижность чувств женщины и ребенка делает их наиболее способными поддаваться нравственным щекотаниям. Изо всех же народов земного шара француз всего более чуток ко всему смешному, вот почему смешное стало для него делом торговли и даже предметом вывоза. Во Франции смешное фабрикуется на всевозможные вкусы и по всевозможным ценам, его вывозят за границу, в те страны, где люди не умеют смеяться, где они смеются с усиленно-напряженным чувством, как в Германии и Англии.
Особенное выражение наслаждения смешным оказывается в самом движении смеха, проявляющемся на лице человеческом весьма разнообразно.
Наслаждение смехотворным может стать чувством болезненным, когда оно основано на страдании другого лица. Смеющиеся при падении человека посреди улицы или любящие услаждать себя всеми мелкими невзгодами, весьма чувствительными при усложнении их насмешками, всегда радуются наслаждениям порочным.
Воздействие на нас всего смешного производится иногда с быстротой молнии, и добрейший человек в мире не может иной раз удержаться от внезапного раздражения и смеется, когда дело нравственности требовало бы серьезного лица или даже выражения негодования.
Мы не виновны, испытывая зуд смеха, при виде страдальчески-смешного, но наша виновность начинается выражением подобного чувства. Можно находить урода смешным, но без крайней жестокости, и вообще нельзя смеяться ему в лицо.
Глава XI. Об отрицательных наслаждениях ума
Отрицательные наслаждения ума проходят по большей части незамеченными, так как интеллектуальный труд не причиняет страданий, способных породить наслаждение уменьшением или прекращением своего напряжения. Невзгоды, переживаемые человеком во время умственного труда, происходят преимущественно от неуверенности и сомнений, т. е. от заболевания веры, и потому двигатель их следует отыскивать в сердце. Когда же с новой верой наступает спокойствие, долго и мучительно обуреваемый сомнениями ум всецело охватывает наслаждение отрицательного рода, проистекающее из источника сердечного.
Бесчувственный человек и верит, и перестает верить, не ощущая при этом ни наслаждения, ни страдания и, дошедши до самого разнузданного скептицизма, он способен завидовать тем блаженным людям, для которых еще возможна вера, похваляясь поэтически-интересным, по его мнению, несчастьем своего безверия. Но в действительности он не ощущает в своем сердце ни малейшей пытки, и вера, если бы ей возможно было нахлынуть откуда-либо в его душу, не нашла бы в ней ни зияющей раны, ни язвы для врачевания. Любовь к достижению истины, будучи аффектом сердечным, может одушевлять человека с умом весьма посредственным, способным к открытию новых истин, и наоборот, находится иногда, только в виде зародыша, в великом муже, способным извлечь потоки научных истин металлургических формул своих, устроенных им только ради упражнения мощных свойств своего ума.
В других случаях наши интеллектуальные силы причиняют нам страдания косвенным путем, когда мы доходим до своих целей с великим и усиленным трудом, или когда мы вовсе не достигаем их. Тогда обида, наносимая самолюбию в связи с учением, произведенным неудовлетворением умственной способности, может породить в человеке довольно сильное страдание. Когда же в подобных случаях затруднение сглаживается или трудность оказывается побежденной, тогда мы ощущаем умственное наслаждение отрицательного свойства.
Когда человек страстно любящий чтение, долго лишен книг, он кидается с наслаждением на первую попавшуюся ему книгу, будь это разрозненный том самого глупого романа.
Так живописец берется с восторгом за кисть и палитру, с которыми он был разлучен на некоторое время; так возвратившийся из дальнего путешествия хирург ухватывается с живейшей радостью за свой операционный нож, готовясь вновь начать с ним свой умственный труд над человеческим телом. Все эти страстные деятели слова, художества и наук испытывают при подобных случаях наслаждения, которые оставались бы им чужды, если бы радости их не предшествовал более или менее краткий период страданий и лишений. Постоянный закон всякого наслаждения состоит в том, что интенсивность его зависит от толчка или сотрясения, данного им ощущающей силе. Нет возможности перейти от высшей степени боли к наименьшему наслаждению без спазма сладостного чувства. Но когда бы то же самое чувство застало нас в состоянии совершенного покоя, оно было бы нам едва ли приятно, или даже оставило бы нас совершенно равнодушными к его проявлению. Закон этот, впрочем, оказывается верным только тогда, когда и наслаждение, и боль принадлежат к одному и тому же роду чувств. Во всех остальных случаях страдание делает нас, напротив того, менее чувствительными и восприимчивыми к наслаждению. Так, измученный зубной болью не в силах ощутить наслаждение при виде дивных картин природы. Но он же испытывает истинное наслаждение при малейшем облегчении одуряющей его боли, хотя бы это облегчение и представлялось состоянием весьма болезненным для человека вполне здорового. Здесь мы встречаемся лицом лицу с удивительным фактом, полный анализ которого могло бы представить только изучение страдания.
Я удовольствуюсь здесь только легким на него указанием. И наслаждение, и страдание, будучи фактами весьма положительными и несомненными, составляют по сущности своей понятия только относительные. Если бы человек был способен находиться в сладострастном упоении вечных объятий, тогда состояние покоя чувств он называл бы страданием. Если бы человек вечно сносил титанические муки, страдания зубной или головной боли показались бы ему наслаждением.
Синтез
Глава I. Естественная история наслаждений
В первой части этой книги я изучал наслаждения, следуя методу, принятому наукой: я придумывал не существующие в действительности деления, резал и делил то, что в природе составляет целое. Если при выполнении предпринятого мной анализа ничего не порвал и не уничтожил из элементов, подлежавших здесь научному моему ножу, мне удастся восстановить каждый из них на своем месте для следующего затем изучения этих областей нравственного мира и составления общего им синтеза.
В этой второй части моего труда мы можем насладиться зрелищем деятельной и живой природы, и, возносясь над широким нравственным миром, открытым для человека, мы увидим разбросанными по плодоносным полям и по зеленеющим скатам те же самые цветы, которые мы срывали в течение только что законченной нами экскурсии. Изучив, таким образом, цветы жизненных садов и наполнив ими гербарий этой книги, мы осмотрим места, их растившие, и моменты их роста по выходе из семечка.
Но хотя бы я и жаждал до бесконечности простора и дальних горизонтов, все же я не чувствовал бы себя способным начертать здесь всей естественной истории наслаждения и составить действительного синтеза великой мировой мозаики, со всеми украшающими ее орнаментами.
Немногие изучения, которыми я заканчиваю эти страницы, могут представить только неоконченные фрагменты здания, только слегка набросанный план того, что создать я не в силах. Я отчаялся бы в себе, если бы не сознавал значение предпринятого мной труда и, представив читателю некую фигурку из терракоты, осмелился бы радоваться его завершению. Впрочем, я был бы, может статься, счастлив, не сознавая собственного заблуждения.
Разнообразные наслаждения, исследованные мной одно за другим, почти никогда не существуют порознь, но, комбинируясь между собой, составляют более или менее сложные формулы. Некоторые наслаждения, точно определенные, носят отдельные наименования, и каждое из них могло бы стать предметом особого физиологического изучения; в состав их входит такая бездна нравственных и физических элементов, что они составляют как бы живой осколок человеческого существования; между тем как существование одинокое, как бы оно ни было сильно и многозначительно, представляет повесть только одной из фибр сердца человеческого.
Начертав здесь описание всех подобных группировок, я представил бы повесть наслаждения в ее кипучей деятельности, – но труд мой все бы оставался трудом аналитического, так сказать, синтеза, в составе которого ясно отражалась бы деятельность анатомического ножа. Не следует предполагать, однако, чтобы в труде умственном человек мог достигать того совершенства, которое рисуется ему в чудном бреду фантазии. Здесь не существует абсолютного анализа, равно как не бывает и синтеза, вполне достойного этого имени. Как бы широко я ни изучал сути наслаждений, все же труд мой оставался бы делом анализа, так как наслаждение не может существовать одиноко, и человек, который рассматривал бы его в отдельности от законного брата его – страдания и от тысячи других физических и нравственных элементов, его усложняющих, не выполнил бы ничего, кроме труда чисто аналитического. Но зачем унывать! Мы способны умом своим заглянуть за пределы материального мира, но мы не в состоянии включить весь космос в один громадный синтез. Когда, взлетев над пространством миров и поднявшись умом до области чистого понимания, мы опускаемся, чтобы отдохнуть, сомкнув концы круга, мы не в силах бываем свести вместе оконечностей неопределенной линии иначе как посредством недоступной уму тайны. Мы смыкаем умственный круг свой в смиренном сознании собственного неведения.
Для изложения естественной истории наслаждений следовало бы предварительно расположить их в те группы, о которых уже говорено мной, и затем составить некоторые правила для их измерения. Можно бы, например, сопутствовать наслаждению во всем течении человеческой жизни, исследуя видоизменения его по климату страны и по возрасту людей. В этом случае была бы описана повесть наслаждений человека от колыбели и до могилы, Можно бы обнять еще более широкое поле для исследований своих, изучая наслаждение во времени и в пространстве, рассматривая его и во всевозможных странах, и в различные эпохи жизни человечества до наших дней. Признав существование общественных сословий, мы могли бы говорить о различии наслаждения по профессиям. Можно изучить его в связи со степенью умственного развития и с утонченностью чувств каждого; можно описывать его и в глуши уединения деревни, и в водовороте столичной общественной жизни. Все это было бы хождением по различным путям, пролегающим по одной и той же стране, ведущей к одной общей им цели. Но подобно тому, как торные дороги, как бы ни были они широки, все же занимают только малую долю той области, по которой проходят, так, путешествуя по дорогам областным и проселочным, по шоссе, от столицы в столицу и по тропе, проложенной крестьянином из одной деревни в другую, мы все же можем составить только топографическую картину местности.
Не имея здесь возможности идти иначе как по одному пути, я избрал сначала путь анализа как дорогу более извилистую и путь более продолжительный, дозволявший мне останавливаться по временам на наиболее интересных для меня пунктах. Теперь, на прощанье с вами, читатели, я приглашу вас полюбоваться со мною великолепным путем синтеза, который величественно и прямо ведет кратчайшим путем к цели.
Глава II. Синонимы понятий о наслаждении
Понятие «наслаждение» обладает весьма обширной терминологией, посредством которой могут быть выражены все модификации феномена в отношении как интенсивности, так и самой сути его проявления. Предоставляю лингвистам разыскивать в богатой сокровищнице человеческого слова все наименования, даваемые наслаждению, на языках всех стран и всех народов. Я же, со своей стороны, удовольствуюсь здесь указанием на богатство в этом отношении собственного нашего (итальянского) языка. Оставаясь и здесь верным своей программе, я не справлялся ни со словарями синонимов, ни с мнениями ученых, и допросил только собственное сознание правды и то общественное соглашение, которое мы называем народной речью.
Слово «наслаждение» выражает ощущение, легче поддающееся формулированию словом, чем точному определению понятия. Не заключая в себе ничего такого, что могло бы охарактеризовать понятие, слово это может одинаково применяться ко всем видам человеческого удовольствия, и для более точного его определения приходится сопоставлять ему прилагательное или иное слово, характеризующее его свойство. Но по мере того как человек начал нуждаться в иных вокабулах для выражения более высоких степеней приятного чувства, само слово «наслаждение» стало применяться к ощущениям менее интенсивной степени или к менее возвышенным и благородным проявлениям удовольствия. Вот почему говорится «чувственные наслаждения», или «наслаждения плотские» и т. д. Вообще слово это продолжает выражать общность всех тех разновидностей наслаждения, которые уже исследованы мной в этой книге.
Иметь к чему-либо вкус составляет ту весьма мелкую степень наслаждения, которая, как удовольствие весьма живое и отчасти чувственное, вращается в мире наших чувств и обозначает наслаждение наименее интеллектуальное; в области же сердца выражение это относится к наиболее пошлым элементам чувства. В понятии, отвечающем этому выражению, всегда преобладает нечто пластическое, напоминающее о столкновении сердечного чувства с миром физическим, ощущения осязания чего-то полуфактического, полунравственного.
Увеселение – слово, применимое к впечатлению всего приятного вообще. Оно предполагает наслаждение спокойное и продолжительное, не лишенное, однако, некоего оттенка чувственности; оно представляет понятие о сложности нескольких ощущений, и потому его нельзя применить к одному какому-либо разряду удовольствия. Это слово неопределенное и нейтральное по преимуществу.
Услада (diletto) – выражение, указывающее на один из элементов приятного ощущения, как бы производя над ним некий анализ. Его употребляют для обозначения действия чувственных или сердечных наслаждений. К области ума оно почти неприменимо.
Веселье (letizia) изображает наслаждение хотя и спокойное, но весьма живое; слово это применяется более к сердечному расположению, чем к характеру однократно поразившего ощущения; оно почти исключительно относится к обозначению состояния благодушия и общественности; оно почти всегда выражает радость, общую для многих людей одновременно.
Услаждение (compiacenza) – слово редко употребляемое, но великолепное, составляющее уже само по себе анализ чувства. Будучи принято в самом широком смысле, оно выражает чувство, состоящее как бы из двух моментов: из получения прямого ощущения и из отражения в сознании увеселяющего себя этим ощущением. Человек, услаждающий свою душу, как бы раздваивается в минуту наслаждения на две личности; одна прямо наслаждается, а другая как бы поздравляет ее с полученной усладой. Вот почему слово это всего приличнее наслаждениям самолюбия, в которых источником наслаждений оказывается отраженный в сознании нашем собственный нравственный наш образ. Но даже когда мы наслаждаемся чужим счастьем, раздвоение личности все же существует, так как в минуту услаждения мы переносим в себя усладу чуждого нам сознания.
Удовлетворение (la soddisfazione) указывает лучше всякого другого слова на приятность достижения цели и на прекращение напряжения желаний. Всякому наслаждению этого рода должно было предшествовать усиленное, более или менее долгое пожелание; удовлетворен человек только тогда, когда в нем улеглось жгучее чувство потребности. Радость эта спокойна, так как ей восстановлено внутреннее равновесие, и мы при мысли об удовлетворении невольно представляем себе образ только что наполнившейся пустоты. Слово это более всего уместно там, где говорится об утолении язв обиженного самолюбия.
Утеха (il conforto) выражает приятное чувство, испытываемое нами среди страданий, которое утомляется на время какой-либо утехой, не искореняя его всецело. Чувство это почти всегда бывает нравственно– и радостно-отрицательного свойства, представляя картину того или другого наслаждения, борющегося со страданием и отчасти его побеждающего.
Утешение (la consolazione) составляет высшую степень утехи в приемах усиленных и учащенных. Утешением страдание или вовсе изгоняется, или доводится до сносного минимума. Состоящее всегда в связи с миром чувств и идей, слово это представляется воображению в виде ангела, утирающего слезу. Не было бы страдания – не существовало бы ни утех, ни утешения. Чисто физическую боль не утешают.
Чувство довольства (la contentenza о il contento) отвечает особенному состоянию сердца, производящему в нас чувство живое, но продолжительное, обозначающее степень наслаждения более высокую, чем то, которое происходит от удовлетворения. Довольный человек находится на пути к счастью, не достигая его, однако, вполне.
Веселость (la allegria) – тоже чувство довольства, выразившееся более живым и шумным образом, хотя не всегда обладающее большим запасом увеселений. Веселость – это приятное общее настроение духа, при котором сердце искрится, извергая в виде блестящего фейерверка накопившееся в нем наслаждение. Это – довольство, юношеское и облеченное в кокетливо-веселый наряд. Веселость не может продолжаться вечно и даже в тех весьма редких случаях, когда она составляет обычное настроение человека, она все же состоит из бесчисленного количества отдельных вспышек, между тем как довольство составляет естественный свет, ровно и спокойно исходящий из живого светильника.
Благодушие (uon umoro), или счастливое расположение духа, составляет переходную ступень между довольством и веселостью. Его можно уподобить огню, кротко и ярко светящемуся, прерываемому от времени до времени светлыми, вылетающими из него искрами. Слово это обозначает обычное человеку состояние, не производимое цепью наслаждений, но располагающее, однако, людей ко вкушению всевозможных благ.
Радость – это наслаждение, облекшееся в лучший весенний наряд свой, пляшущее посреди цветистого луга, звучно и весело ударяя в звонкий тимпан. Можно бы назвать ее довольством, принявшим более небесный образ и нарядившимся в самые яркие одежды. В действительности же радость блеснет иной раз и скроется, обратившись в мигающую нам издалека точку. Это – красивый бенгальский огонь, которому пристало одевать румянцем щеки юноши. Радости старческих лет бледны и немощны и по большей части недостойны этого имени; они покрывают лицо старца искусственными, не свойственными ему румянами.
Ликование (il guibilo) доводит чувство радости до бурной и шумной степени, достояние по большей части толпы или многолюдства. Это – довольство праздничное, обуревающее сразу множество лиц. Это – веселость, надевшая наряд вакханки.
Восторг (il gaudio) – это радость общественная, доходящая своим совершенством до чистейшей области умственных наслаждений. В высших своих проявлениях это земная радость, коснувшаяся пределов небесного мира.
Исступление (il tripudio) – сумма бурных, беспорядочных ликований, переходящих в судорожное настроение умалишенных, – настроение, охватывающее народные массы и переходящее в состояние нравственного опьянения.
Очарование (la delizia) составляет наслаждение весьма сложного рода, заключающее в себе и чувственные элементы сладострастия и эфирные радости сердечных чувств. Беру смелость одинаково назвать очарованием и самое идеальное и нужное проявление сладострастия, и самую пластически-материальную радость сердечных чувств.
Сладострастие (la volutta) – это чувственное наслаждение, доводящее в человеке до спазматического трепета чувствительные в нем фибры, переводя их по степеням всевозможных ощущений; в переносном же смысле сладострастью придают значение чистейшие наслаждения ума и сердца, когда они доходят до высшей степени интенсивности. Вне своего точного, прямого значения слово это ставится формулой для выражения необъяснимого; оно обращается в великолепную мантию для прикрытия неведения и бессилия человеческого. В сущности, сладострастие – только весьма краткая линия для обозначения наслаждения, вполне чувственного.
При слове «блаженство» (la felicita) трепетно бьется сердце всякого человека. Люди стараются доказать истинное значение его в мире действительности. Принятое в физиологическом смысле, блаженство составляет великую степень довольства, ощущение чудной гармонии, распространяющейся по всему организму объятого им человека.
Человек, которому в течение действительной жизни редко удается присесть хотя бы на низшую ступень самоудовлетворения, старается теоретически достигнуть какого-то апогея неземного счастья, созидая для него метафизическое понятие о верховном блаженстве. Мы представляем себя восхищенными, до настоящего экстаза наслаждений, не имеющих ни образа, ни формы, в которых нас поддерживает полнота неземных радостей, не могущих найти себе выражения ни звуком, ни словом, ни знаком. Слово «блаженство» употребляется только в виде гиперболы или шутки; в действительности же слово это может быть применено только к радостям небесного мира. «Щекотание», «восхищение», «восторженность» и «опьянение» – вот термины, обозначающие различные степени наслаждения, внешние признаки которых переданы этой терминологией, образами, взятыми из вещественного мира.
Все эти определенные нами термины можно разделить на два порядка, распределенные по тому, выражают ли они действительное состояние человека или временное, мимолетное условие его жизни. Чувство первого порядка похоже на искры и доходит, по постепенной градации, до смысла слов «утеха», «утешение», «удовольствие», «услада», «веселье», «радость», «ликование», «восторг» и «исступление». Вторые светятся как огонь, к ним причисляются «услаждение», «удовлетворение», «довольство», «благодушие», «веселье», «счастье» и «блаженство». Но все они, как искры, так и постоянные огни, составляя мысленный пиротехнический аппарат, согревают и светятся элементами наслаждения, естества таинственно-примитивного, около которого можно кружиться с ножом исследователя, но в суть которого нельзя вонзить этот нож ни на одну линию.
Глава III. Выражение наслаждений
Нам приходилось уже рассматривать нескончаемую вереницу выражений, которыми привыкли обозначать разнообразие наслаждений. В настоящее время нам остается только изучить физиономию как самого феномена, так и входящих в его состав элементов.
Феномен наслаждения состоит в проявлении силы, которая, изливаясь от пункта своего первоначального развития ко всем фибрам тела, привлекает к содействию все затронутые ей системы организма. Таким образом мы сознаем собственные наслаждения; на лицах же собратьев и из телодвижений животных, этих дальних родственников наших, мы тоже можем читать испытываемые ими радости. Ощущаемые признаки удовольствия составляют как бы остов, или анатомический скелет физиономии наслаждения, на котором, как на неподвижно-однообразном грунте, нравственные элементы, участвующие в выражении феномена, рисуют живую физиономию человеческого лица. Это сделанное мной вполне искусственное различие отзывается метафизическими тонкостями, но оно пригодно мне в настоящую минуту, для удобного изучения всей симптомологии наслаждения.
Анатомическими элементами для некоторых выражений наслаждения служат нервы и мышцы, движущиеся весьма разнообразно, смотря по токам, приходящим к ним как от нервов периферии, так и из нервных центров. Движения ощущения, характеризующего приятность, не существует; специфическое свойство подобного ощущения слагается из соучастия и согласования разнообразнейших элементов. Наслаждение может одинаково выразиться и смехом, и слезами, вздергиванием кверху углов рта или совершенной неподвижностью губ, непонятной сумятицей разнузданных телодвижений или состоянием полного спокойствия. И, несмотря на все это, мы можем мгновенно брошенным на человека взглядом понять все бесконечные градации его улыбки и сразу подметить луч света, едва сверкнувший в глазах его из-под скрывавшей их завесы слез. Здесь, как и во многих других нравственных проявлениях, сознание едва успело отразить в своем зеркале образ едва очерченный, едва подмеченный и еще не определенный мысленным оком, и однако мы можем уже заставить отразиться этот самый образ в сознании другого человека при помощи стенографии слова и телеграфа взглядов.
Бесконечная серия наслаждений может быть едва ли не вся выражена движением ока и блеском внезапно сверкнувшего взора. От присутствия живых, интеллектуальных радостей глаза открываются шире, движение их становится быстрее и свободнее, и взор блестит ясно-сияющим светом; от более же интенсивных наслаждений чувственного сладострастия очи становятся томными, взгляд делается нерешительным и неподвижным, пока наконец не скрывается вовсе под опущенными, отяжелевшими от избытка наслаждений веками. Аффекты самого утонченного свойства бывают выражены нескончаемыми градациями глазных движений то кверху, то книзу, то влево, то вправо, и наблюдатель дивится тому, как в пространстве нескольких едва заметных линий может вместиться едва ли не вся необъятная галерея страстей человеческих; эти крошечные, едва заметные движения способны передавать и любовь, и ненависть, и переход от злобствований и зависти к всепрощению, и огонь неугасимой страсти и полный холод равнодушия. Глаз в одно мгновение передает картину, на изображение которой художнику пришлось бы потратить несметное число часов, а философу – проработать дни и ночи, для анализа как самого феномена, так и механических орудий, способных воспроизводить его в столь короткое время и с такой силой.
Глаз содействует выражению удовольствия даже выделением слез, которые весьма редко не дрожат на ресницах человека в минуту глубоко прочувственной им радости. Слеза, сбегающая со щеки матери, когда она радуется спасению выздоравливающего сына, химически составлена из тех же самых ингредиентов, как и слеза, выкатывающаяся из глаз повара, когда он обжигает перья цыпленка; вытекая из одинаковой железки, обе принимают одинаковый вид и цвет. Но слеза матери сияет таинственно-нравственным светом, который, отразившись в сознании окружающих, потрясает сердца радостью, вызывая нередко на глаза зрителей слезы сочувствия.
Способ изъявления радости слезами весьма интересен, и его проявление всегда возбуждает симпатии зрителей.
Поражает нас, быть может, таинственный факт одного и того же выражения, одинаково отвечающий и радости, и печали; факт этот незаметно переносит наблюдателя в те области чистейшего идеального мира, где встречаются крайние противоположности, дивно гармонируя между собой в нескончаемом круге космоса.
Все мускулы лица участвуют в заявлении внутреннего наслаждения серией бесконечно мелких передвижений, от которых все черты распускаются и как бы расцветают, отвечая чувствуемому во всех сосудах благосостоянию. В стоической неподвижности своей нос остается верен обычаю своему, между тем как мускулы рта работают усерднее всех прочих, поднимая кверху углы губ и образуя улыбку – это наипростейшее выражение наслаждения.
После лицевых мышц мускулами, всего легче поддающимися выражению наслаждения, оказываются мышцы шеи и стана; затем следуют руки и пальцы; всего позднее вступают в дело мускулы нижних конечностей. Все это относится, разумеется, к общему правилу, не касаясь исключений, всегда многочисленных в деле выражения аффекта. Одним из самых элементарных выражений удовольствия является потирание рук, всегда служащее признаком веселости и приятного расположения духа. Более усложненными изъявлениями удовольствия бывают прыганье, пляска и множество других, еще более необычных и редких, выражений внутреннего удовлетворения. Дэви, как всем известно, до того был обрадован открытием поташа, что принялся плясать посреди своей лаборатории. Сотрясения и подергивания сухожилий тоже иногда служат выражением некоей степени сладострастия, но это выражение может легко довести человека до судорожных и конвульсивных движений.
Игрой мускулов, наиболее характеризующей удовольствие, бывает смех; он состоит из более или менее продолжительного выдыхания воздуха, во время которого диафрагма находится в положительно конвульсивном состоянии. К этому основному факту присоединяются в большинстве случаев сверкающий блеск глаз, движение лицевых мускулов и сотрясение и колебания всего туловища. Более скромный и сдержанный смех выражается усилением улыбки, т. е. поднятием еще более кверху углов губ, причем рот раскрывается, выказываются зубы и слышится однократное, более или менее шумное, выдыхание воздуха. Когда выдыхание повторяется и углы рта начинают то подниматься, то опускаться в конвульсивном передвижении, тогда хохот переходит в истерику; выдыхание затрудняется и бедные брюшные сосуды так сильно потрясаются от действия на них диафрагмы, что хохочущий человек ухватывается за живот руками, чтобы хотя бы отчасти умерить в нем волнение. Иной раз во время сильного хохота мы бываем принуждены налечь животом на стол, на стену или на что-либо другое неподвижное, чтобы хотя бы немного облегчить волнение кишок, бурно бьющихся о стенки живота. Кровообращение затрудняется, лицо краснеет от напора крови, глаза слезятся в силу механического давления… Хохот, доведенный до высшей степени пароксизма, может даже угрожать жизни. Меньшим последствием неумеренного хохота может быть недержание мочи или временная боль в животе, но пароксизм неудержимого хохота может довести и до апоплексии мозга, до аневризма сердца или до разрыва какого-либо сосуда.
Личности откровенно-великодушные предаются хохоту легко и свободно, или смеются иной раз с восторгом увлечения, между тем как хохот эгоиста сух и лишен всякой гармонии. В хохоте слышится иной раз пещерный звук или отголосок барабанной кожи; смеются люди и звонко, и глухо, натянуто и скупо или простодушно и весело. Сардонический смех со всеми его разновидностями произведет всегда болезненное, вызывающее в окружающих чувство раздражения, а не веселости сочувствия.
Действуя отчасти механически, смех производит на человека и чисто нравственное влияние. Находясь в благодушном настроении, мы легко и по малейшему поводу заряжаемся смехом и охотно участвуем в общем хоре, когда люди разражаются дружным хохотом.
Смех, вызванный в нас самой ничтожной причиной, иногда даже физическим впечатлением щекотания, продолжается иногда долго по невозможности остановиться, потому ли, что мы смеемся сами над собой и над беспричинностью собственного смеха, или просто потому, что не в силах сразу бываем прекратить напор нервного тока. Во всяком случае, веселый хохот оказывается столь же полезным, в области нравственного мира, как и «чихание» в области физических ощущений; и тем, и другим в машине мозгов производится благодетельное сотрясение, способствующее дальнейшему ее ходу. Искусственно возбужденный смех прерывает иногда печальное раздумье. После внезапного взрыва этой блестящей шумихи мы сбиваемся на минуту с преследуемой нами тропы и, озадаченные, мы не умеем уже связать снова нити прерванных смехом печальных мыслей, и поневоле обращаем процесс своего мышления в более приятную сторону.
Вздох тоже может иногда стать выражением приятного чувства, симптомом сладострастного блаженства или избытка сладостных впечатлений. Вздох восстанавливает в человеке утерянное им равновесие неожиданно-судорожным движением, действующим подобно смеху, но только облегая нервное напряжение более медленным и более тихим образом.
Выражение одного и того же наслаждения бывает весьма различно по различию индивидуальных организмов; возраст, пол и другие жизненные условия могут тоже довольно сильно влиять на образ человеческих чувств.
Нервные, раздражительные субъекты чувствуют наслаждение сильнее, чем люди более отупелых чувств, и выражают его в более живых формах. Нервы их приходят в колебание от малейшего впечатления, и потому им доступно бывает восхищение микроскопически малыми наслаждениями, область которых навсегда закрыта для множества других людей. Мимика людей нервных может иной раз казаться утрированной, так как подобные личности постоянно выражают более, чем чувствуют в действительности. Индивидуальные особенности характера и странности приемов часто мешают наблюдателю верно угадывать степень наслаждения каждого. Так, хохот причиняет иным людям страдание или производит в них мучительную реакцию бесчувствия; другие же, наоборот (например, женщины легкомысленные и легкого нрава), смеются громко и звучно, завидя пролетавшую мимо них муху, хотя нервный строй их вовсе не обнаруживает ничего особенно чуткого и нежного.
Система женщины легко пресыщается небольшим количеством нервной субстанции, которая, усиливаясь высвободиться быстрее, напрягает всю мускульную систему. Вот почему наслаждения рисуются на физиономии женщин более яркими картинами. Мужчины же, наоборот, вбирают в себя материал, необходимый для наслаждения, более спокойно и медленно и потому не требуют столь частых и спешных освобождений от гнетущего их напряжения. Крайняя впечатлительность нервной системы женщин делает их способнее и к пролитию слез, и ко взрывам смеха, так что в сердцах их последние лучи замирающего страдания нередко сталкиваются с зарей уже наступающего для них наслаждения.
Детский возраст способствует выражению открытого и широкого смеха во всей безмятежной простоте детского чувства. Лицо юноши носит нередко отпечаток бурных радостей жизни; зрелый возраст сохраняет выражение спокойного удовлетворения; интеллигентная же улыбка, оживляющая по временам старческие черты, указывает на умственные наслаждения, почерпаемые человеком из мира воспоминаний.
Южане выражают свое удовольствие более откровенным и более экспансивным образом, чем жители севера; жесты и восклицания их менее сдержаны; веселье их шумнее и похоже на радость женщин и детей. Итальянец охотно поет и пляшет в веселые минуты жизни; англичанин же при одинаковом настроении принимается со спокойной, обычной ему улыбкой за чашку грога.
Художественная сторона наслаждения высказывается в идеальной своей красоте только на лицах людей вполне образованного класса или в чертах тех весьма редких личностей, которые сумели, по необычайной широте умственных способностей, достигнуть одним скачком до того развития, до которого остальные люди доводятся и путем долгого воспитания, и естественным влиянием на них наследственности. Некоторая сдержанность в выражении наслаждения нравится людям, льстя тщеславию их; она особенно приятна там, где мы оказываемся только зрителями чужого наслаждения.
Удовольствие сопровождается иной раз приемами обычного людям лицемерия, когда человек, по тщеславию или в видах личного интереса, скрывает степень наслаждения, могущую, по его мнению, нанести урон той доли уважения, с которою люди относятся к наложенной им на себя личине мнимого бесстрастия. Изо всех выражений человеческого лица легче всего сдерживается то, которое зависит от движения мускулов; всего же труднее бывает скрыть сверкание взора человеку, сердце которого трепещет от радости; необычайная живость глаз в подобных случаях резко контрастирует с неестественным спокойствием остального лица. Самый смех, сдерживаемый сильным напряжением воли, вырывается на свободу неудержимым хохотом, когда побуждение к нему проявляется внезапно и неожиданно; смех разражается в виде пальбы, мгновенно облегчая человека от накопившегося в нем избытка нервной силы. Иногда человек, силясь скрыть от людей обуревающее его наслаждение, симулирует страдание, но в таком случае естество человеческое оказывается изуродованным и природа мстит за свое извращение, унижая виновного до грязи самых низких чувств и лишая его того человеческого достоинства, отсутствие которого иссушает в нас источник чистых и возвышенных наслаждений.
Радости свои мы можем высказывать утрированным и лживым способом, представляя физиономией своей настоящую патогномию, или выражение лица болезненное и превратное. Патологический характер физиономии может состоять в несогласии между ощущающим и обозначающим его признаком и в особенном элементе, противном общему для всех чувству красоты. Всякий из нас может вспомнить то или другое лицо, хохочущее карикатурно и выражающее веселье своей души столь уродливо, что смех его не возбуждает около себя сочувственного веселья, производя на окружающих болезненное впечатление бестактной тривиальности.
Всем животным дано так или иначе выражать долю доступного каждому наслаждения, но эту радость их мы можем читать в чертах и телодвижениях только тех существ, природа которых представляет некоторое сходство с нашим естеством. Никто еще, полагаю, не мог, всматриваясь в телодвижения рыб или пресмыкающихся, подметить, как выражается ими чувство наслаждения, между тем как при виде порхающей птички, мы ясно видим веселье во всех ее передвижениях, в живости и складе песен и в блеске ее крошечных глазок. Сравнительно необычайная широта дыхательных путей их составляет, по всей вероятности, главную причину этого радования. Млекопитающие, живущие на свободе среди лесов, скрывают от глаз наших свои наслаждения и потому выражения их остаются нам неизвестными; встречая же их иногда, с глазу на глаз, на окраинах их убежищ, мы читаем на физиономии их одно только выражение испуга и страдания; когда же они превосходят нас крепостью зубов и силой мышц, тогда мы, со своей стороны, бываем уже неспособны анализировать спокойно и с некоторой достоверностью физиономии их, которые в данное мгновение могут обозначать и радость победы, и предвкушение предстоящей им приятной пищи.
Можно, однако, сказать утвердительно, что элементарные признаки удовольствия общи всем животным высшего разряда, но смех составляет исключительную особенность человека.
Глава IV. Физиогномия наслаждений. Философия радости
В пространстве, отделяющем факт физического наслаждения от нравственного его выражения, бывает немало смешанных формул, обозначающих переход от одного к другому и пополняющих собою общую физиономию наслаждения. Как главнейшие из этих переходных форм, назовем здесь восклицания и пение.
При высшей степени наслаждения никогда почти не бывает недостатка в восклицаниях, так как они служат выражением того состояния смущения, при котором ум оказывается как бы пришибленным силой внезапно столпившихся к нему ощущений. Но, приведенные к действительному значению своему, восклицания оказываются лишь стенографическими знаками, коими ум усиливается обозначить временное свое состояние, не будучи в силах составить ему определения. В подобные минуты ум не обладает спокойствием, необходимым для анализа внезапно нахлынувших к нему наслаждений, но, не будучи способен и во время обуревания страстей к несвойственному ему бездействию, он заявляет смелой формулой восклицания, что он продолжает существовать и видеть. Вот почему в подобные мгновения человек охотно прибегает к выражению понятий великих, упоминая и о небе, и о звездах, и о самом Верховном существе, присоединяя к ним некоторые слова, которые страшным сочетанием своим и энергией, затрачиваемой человеком ради их произношения, освобождают восклицающего от некоторой доли того напряжения, которым объята вся его нервная система. Вообще восклицания служат выражением всякого непредвиденного и быстротечного наслаждения, искрящегося в человеке, в виде блесток и внезапных вспышек веселья и радости. Во всяком случае, суть понятия, обозначенного восклицанием, отвечает разве только в весьма малой степени значению выражения, которое служит только формулой. Слова «Боже мой!» представляют в устах человека одинаково и верх чувственного сладострастия, и сокрушающий его апогей страдания; все же отличие выражений в подобных случаях и состоит в интонации голоса.
Те наслаждения, которые на предыдущих страницах мы сравниваем с пламенем, обличаются нередко пением, которое в этом случае становится только более упорядоченной и более однообразной формулой восклицания.
Пение составляет естественный переход от самого бесформенного и смутно сложившегося слова к наиболее совершенным выражениям поэзии. Ум уже не находится в состоянии столь полного смущения и удивления, но он все еще неспособен обратить свое сознание в понятие и мысль; вот почему он прибегает к языку музыки, которая по гармоническому составу своему совершенно выражает приятное, но неопределенное настроение человека. Когда пение проявляется звуками, лишенными гармонии и стройности, тогда оно еще более отвечает смутности умственных способностей и преобладанию в нас ощущений; иной раз пение это оказывается столь разнузданным и нестройным, что приближается к бреду горячки, прекрасно указывая тем на сердечную внутреннюю бурю.
Когда же, наоборот, утихают волны и зеркало сознания начинает яснее отражать изображение наслаждения, тогда и само пение становится понятной гармонией.
Профаны в музыке прибегают в подобные минуты к архивам собственной памяти, художники же прибегают к творчеству и силой гения порождают новые потоки гармонии. Находясь в обаянии радости, они нередко схватывают свой кимвал, т. е. спешат прибегнуть к тому или другому любимому инструменту или, предав крылья вдохновенному перу, они набрасывают на бумагу музыкальные мысли, становящиеся позднее источником наслаждений для остального мира.
Начав восклицаниями, мы дошли здесь до музыкального творчества, и находимся, таким образом, уже в области нравственного выражения наслаждений и именно в той части ее, где преобладают умственные силы. Но самое простое и обычное участие ума в деле нравственной физиогномии наслаждения состоит в облечении его в слово.
Испытывая то или другое сильное наслаждение, будучи одни, мы нередко выражаем свою радость словами; не довольствуясь понятием, отраженным в безмолвии собственного сознания, мы чувствуем потребность прислушаться к новому отражению его посредством слуха. Во всех подобных случаях приятное ощущение требует, для полного своего выражения, обработки посредством преобладающего над ним ума, так, чтобы наслаждение стало находящимся уже вне нас объектом, созерцаемым силами интеллекта, со всем спокойствием и отчетливостью холодного анализа.
Мы, по большей части, не довольствуемся уже словом и беремся за перо, чтобы устранить его мимолетность и придать более устойчивости нравственному выражению своего наслаждения. Но это бывает действием не простой, мгновенно поразившей нас потребности, а следствием усложнения многих элементов. Чувствуя наплыв радости и изведав меру умственных способностей своих, мы обольщаем себя надеждой, что оформленное словом наслаждение наше окажется делом, полным и жгучей страсти, и строгого анализа, и потому желаем увековечить все сладостное, испытанное нами. В другое время мы записываем, чтобы в видах мудрой экономии сохранить изображение настоящих радостей для наслаждения ими в дни печали и страдания.
Нередко описание наслаждений увлекает нас силой собственных ощущений, и мы не останавливаемся ни на минуту, чтобы доискиваться причины, нас к тому побуждающей. Тогда перо наше скользит по бумаге, придавая прочувствованным радостям поэтическую форму.
Высотой соображения оно усиливается выразить духовный анализ изучающего себя ума; совершенством формы и обликом гармонии оно хочет выразить бурю страстей, обуявшую чувствительную часть естества нашего. Но этого мало; поэт в величии своего гения увековечивает мимолетный момент наслаждения бессмертным мрамором своих стихов, открывая будущим поколениям вечно новый источник наслаждений.
Ум способен формулировать испытанное им наслаждение бесконечным образом, запечатлевая его и на полотне, и в мраморе. Таким образом, мы можем сообща с художником, уже много лет почившим, улыбаться радостям, веселившим его несколько столетий тому назад.
Изобретение новых игр и новых увеселений может стать формулой, посредством которой мы передаем потомству веселившие нас наслаждения. Глядя на дело с этой точки зрения, мы могли бы сказать, что наслаждение обладает собственным геологическим летописанием и собственной своего рода палеонтологией; можно бы прибавить к этому в виде шутки, что в библиотеках и картинных галереях наших существует множество окаменелостей в виде стихов Берни и фантазий Корреджо и Калло.
Для объяснения смеха простой обозначающей его формулой назову его нервным кризисом, который при неожиданности своего наступления производит конвульсивное движение диафрагмы и других, менее значительных мускулов. Смех – это спасительный клапан, которым машина облегчается от избытка произведенной внутри ее силы. Наслаждение продолжительное может дойти до высшей степени интенсивности, не возбуждая в нас смеха, между тем как наслаждение, гораздо менее сильное способно внезапностью своего проявления вызвать в нас раскаты неудержимого хохота. Наибольшее влияние на смех производит не интенсивность удовольствия, а сама причина его проявления, и потому смех служит естественным выражением особенного рода умственного наслаждения, принадлежащего к области всего неожиданного, странного и смешного. Сладострастное наслаждение иной раз едва способно вызвать улыбку радости на лице нашем, а между тем поверхностный взгляд, брошенный нами на карикатурное изображение, заставляет нас покатываться от смеха. Смех во время чувственного наслаждения наблюдается всегда там, где возрастающий ток наслаждения оказался прерванным более яркой вспышкой, которая, возбудив кризис, нервный перелом, тем свободнее вызывает смех, что организм уже находился в приятном настроении. Странностью смеха оказывается то, что его нередко производят ощущения, лишенные всякого интеллектуального элемента, – как, например, щекотание. В подобном случае феномен ограничивается рефлексом раздражения вполне специфического свойства.
Разновидности смеха происходят от градации его обычных проявлений, начиная от молчаливой, едва мелькнувшей на лице улыбки и заканчивая взрывами хохота. Но в акте смеха проявляются и другие, более существенные отличия. В хохоте женщин и детей слышатся металлические и как бы эластичные звуки, меж тем как к смеху людей полнокровных или подверженных катару примешиваются какие-то жирные и тестоподобные отголоски. Люди блестящего ума смеются острым, тонко звучащим смехом; смех женщины с организацией пылкой и сладострастной выливается бархатистыми звуками, возбуждающими в слушателе легкое дрожание нервов. Будучи само по себе ощущением, наслаждение естественно призывает к соучастию силы сердечного чувства, весьма сродного по существу своему с ощущением.
Человеческая веселость, прорываясь всеми недоступными ей физическими и нравственными путями, легко находит себе исход в чувствах общественности, которые представляют широкое поле для разлития по нему накопившегося в сердце избытка жизни. Сообщая другим наше наслаждение, мы тем самым освобождаемся от нетерпимого для нас долее излишества ощущений, и затем, видя развитие наслаждения в других, мы снова получаем обратный рефлекс их наслаждений. В этом случае можно бы уподобить два веселящихся существа двум предметам, доводимым, мало-помалу, до равновесия. Человек передает товарищу ток собственной веселости, возбуждая в нем проявление радости; товарищ, в свою очередь, воздействует на него столь же благодетельно, и таким образом люди не перестают пересылаться дарами взаимного увеселения.
Но этого мало: наслаждение, доставляемое нами другому, возвращается к нам более усовершенствованным и теплым; радость, отражаемая, таким образом, в нас или вне нас, загорается при каждой подобной передаче более светлым и более ярким лучом. Простое наслаждение усложняется всякий раз чувством доброжелательства. Человек, наслаждавшийся вначале только индивидуальным наслаждением, затрепетал теперь радостью человека общественного, человека, усовершенствованного общением. Вот общая формула, представляющая тайное воздействие на нас наслаждений, разделяемых с другими.
Потребность сообщения нашей радости другим людям, действует в нас так сильно, что мы иной раз спешим сообщить ее неодушевленным предметам; при избытке наслаждения мы смеемся, иногда и разговариваем со стенами, с растениями, с камнями. Мы готовы рассказывать о себе и о своем счастье птицам, собаке своей, коню и т. д. В некоторых (весьма редких, впрочем) случаях мы подбегаем к зеркалу, смеемся собственному изображению, стараясь поделиться избытком нахлынувшего на нас наслаждения. Мы сами были однажды свидетелями этого странного способа излияния веселости.
Такими способами мы, однако, обманываем только природу и не перестаем разыскивать живого человека, который мог бы порадоваться нашей радости. При проявлении необычайно радостного для нас события нам случается бросаться в объятия первого встречного, хотя бы вовсе незнакомого нам человека. Если обнятая нами особа не сразу ответит непонятной для нее радости нашей, тогда мы начинаем обнимать кого-нибудь другого всякого, встреченного нами по пути. Столь экспансивная радость проявляется нередко при народном ликовании немедленно по получению счастливой вести.
Наслаждение при этом непомерно усугубляется, когда радующаяся с нами особа уже занимает особенно дорогое место в нашем сердце; радость в таком случае может доходить до судорожно-бешеных порывов; мы без слов бросаемся в объятия друга или брата, смеясь и проливая радостные слезы, смешивая обоюдные наслаждения в одну атмосферу блаженства и возвышая чувство взаимности до некоего апогея сладостных ощущений.
Но как ни прекрасно наслаждение, разделяемое между двумя любящими существами, чувство общественности, экзальтируемое уже добытой взаимностью, не довольствуется подобными порывами; оно чувствует потребность воздействовать на более широкое поле, могущее обратно повлиять на сердечный пыл его. И вот, вследствие этой жгучей потребности, мы становимся как бы распространителями нравственного пожара; охваченные священным безумием, мы бегаем из стороны в сторону, стараясь зажечь потешные для себя огни светочем, тлеющим в наших руках. Но нас внезапно образумливает более благородное и более возвышенное чувство; мы сразу постигаем нелепость эгоистического стремления заставлять людей радоваться личной нашей радости. Возбуждая в себе естественную потребность благотворительности, мы достигаем наконец того, что окружающие нас лица отражают собою нашу радость во всей ее чистоте. Эти щедрые излияния благотворительности по поводу приключившегося человеку счастья весьма разнообразны и по мере развития в человеке доброго чувства, и по самому объему того кошелька, из которого раздается милостыня. Во всяком случае, все мы оказываемся в минуту счастья более склонными к добру и щедрости; и кто из нас не может припомнить того щедрого подаяния нищему, оказанного при выходе из дорогого нам дома в первый миг блеснувшего нам счастья? Кто не знает, как легко бывает всепрощение после получения счастливой вести? Несчастлив тот из нас, кто не способен найти в памяти своей подобных жемчужин воспоминания! Или заледенело сердце, или оно вовсе не существовало в нем, если за всю жизнь он не способен был к подобным, весьма легким делам благотворительности.
Празднество – следствие какого-либо счастливого события, совершившегося с кем-либо, кто пожелал распространить веселье свое на большее число людей. Первое празднество состоялось, быть может, тогда, когда родился от человечества первенец в глуби азиатских, еще девственных лесов, где первый отец устроил его для первой женщины, ставшей матерью, веселясь с ней по поводу рождения сына. Первое торжество это отличалось, должно быть, грандиозной простотой. В празднике участвовали два любящих друг друга существа сообщавших друг другу веселье своей души. Празднество, вероятно, повторилось при рождении второго детища, и, наученные опытом, праотцы праздновали с большим уже искусством этот день, оживленный, кроме того присутствием третьей личности. По возникновении двух-трех семей праздники приняли новый, еще более веселый вид от сгруппирования людей около тех, кто по праву древности заседал во главе стола.
Затем люди начали праздновать и начало весны, и прекращение проливных дождей, и случай необычайно счастливой охоты, и множество других событий, празднование которых всегда сопровождалось от самой колыбели человечества выполнением религиозных обрядов. Подобные первобытные пиршества празднуются и теперь во всякой семье, усложняясь с течением времени прогрессом как цивилизации, так и испорченностью нравов. Замкнутый весьма тесным кругом дорогих существ, сборища эти бывают очаровательны по своей безыскусственности, когда их созывает приязнь, а не чопорный закон обычая, и когда благородное и высокое чувство гостеприимства не подавляется в них усилиями мелкого тщеславия.
Веселье частных лиц не выходит из круга родственников, приятелей и знакомых; но сильные мира сего, владыки, держащие в руках своих судьбы народов, приглашают чуть ли не целые страны к участию в своем веселье, узаконивая этим как бы и самые радости людские. Но суть празднования везде одна и та же; распределение везде идентично, каждому термину приданы только известный размер и особенная стоимость.
И великие, и малые люди приглашают друг друга на религиозные празднества, сходясь для торжества в одном и том же храме. Празднества эти содержат и религиозный смысл, и имеют физиологически определенную форму, но не дерзну профанировать престиж их, полагая его под неумолимый нож анализа.
Не все удовольствия могут быть обличены характером нравственной физиономии, и многие из наслаждений не имеют вовсе иных очертаний, кроме чувственных. То выражение, которому содействуют сокровища ума и сердца, принадлежит только высшему разряду умственных и сердечных наслаждений.
Наслаждения могут иметь нравственно болезненное выражение и обладать вообще признаками патологического настроения. В иных людях чувства бывают до того отупелыми, что их не может уже возбудить и проявление величайших радостей. Сильнейшим врагом нравственного элемента человеческой физиономии бывает эгоизм, лишающий лицо самой очаровательной черты его, т. е. выражения доброжелательства. Эгоизм до того скупится всякого проявления жизни, что сразу останавливает в себе трепет всякого чувства, начавшего сочувственно, хотя и слабо, вибрировать чьей-либо радости; он скорее согласится искалечить собственное наслаждение, чем дать ход сладостному порыву, могущему завлечь его слишком далеко, подвергая его опасности какого-либо самопожертвования. Эгоист доводит себя до крайней замкнутости и до такого сосредоточения в самом себе, которое дозволяет ему переносить одиноко радостное напряжение нервов и не допускает уделять крохи собственного наслаждения другим. Другие, наоборот, привыкли облегчать себя от нервной напряженности обуревающего их наслаждения, шумно и гласно, как бы выпаливая во всех обуявшую их радость, но экспансивность эта нередко до того истощает кошелек их, что им приходится в более спокойные минуты оплакивать ущерб, невольно нанесенный щедростью, более святым обязанностям. Бывают люди, которые, охваченные порывом внезапного веселья, предаются баснословной, неудержимой расточительности, так что угрожают задушить окружающих потоками неожиданных щедрот, не в силах будучи сдерживать их в пределах благоразумной умеренности. В этих обоих весьма противоположных случаях, нравственный образ наслаждения грешит только излишеством своих порывов, но бывают картины наслаждения, уродливые по тем краскам, которыми они писаны.
Патологические чувства облекаются почти всегда, как и следовало предполагать, внешним выражением неестественным и лживым. Мы уже представляли здесь очерк физической физиономии злостных чувств; теперь мы остановимся на минуту на нравственном их выражении. Наслаждение, добытое порочным чувством, составляет настоящее нравственное зло, порождающее к жизни аффекты патологического рода. Радость чистая созывает на свое пиршество все благородные и великодушные чувства, которые, присоединяясь к сонму со свойственной каждому гармонией, составляют очаровательный аккорд. Порочное наслаждение, наоборот, собирает около себя, по братскому сочувствию, на оргию свою гостей самого возмутительного свойства, которые, столпившись около дома хозяина, улыбаются ему наглым хохотом пошлейшего опьянения.
Так, человек, неистово радующийся удачной клевете, пущенной им в ход на врага своего, смеется ужасающим смехом, и затем, сосредоточив силы ума и сердца, он измышляет новые жестокости, способные возбудить в нем новые наслаждения. Таким образом, могут составляться пиршества патологического свойства, когда человек, веселясь содеянным им злодеянием, ищет себе собутыльников, соглашающихся испивать вместе с ним опьянившую его чашу порока. Случается иной раз, что чистая радость выражается порочным наслаждением: так царица может отыскивать гостей своих в грязи пошлых увеселении. Отвратителен бывает тогда контраст двух внезапно сошедшихся радостей.
Народное празднество, заканчивающееся боем быков или жестокой травлей петухов, бывает всегда пиром патологического свойства. Хотя и существуют еще в Европе народности, находящие наслаждение в подобных мерзостях; они столь же отвратительны, как борьба римского цирка и как те потешные огни, которыми Нерон освещал некогда сады свои. К счастью, эти нравственные заболевания целого народа теряют свои заразительные и зачумляющие свойства при переходе из поколения в поколение, и спесь их едва еще живет в тех кровавых игрищах, которыми еще увеселяют себя жители Мадрида. Само пьянство, может быть, только болезненное выражение не умеющего иначе оформить себя наслаждения.
Глава V. О наслаждениях в жизни человека
Сделав уже набросок тем наслаждениям, которые видоизменяются, соображаясь с возрастом человека и с другими условиями человеческой жизни, мы бросим в настоящее время взгляд на перипетии, через которые проходит наслаждение, с целью подвести к одной физиологической формуле все видоизменения этого феномена.
Предстоящие в жизни человека наслаждения оказываются отчасти уже определенными с момента его появления на свет, сообразно его принадлежности к тому или другому полу. Функцией пола определяется отчасти доступная ему область жизненных радостей, и позднее ни сила упрямой воли, ни гениальный ум не в состоянии расширить ни на одну линию пределы этой области. Но как ни велико влияние полов на области нравственного мира, все же различие между ними состоит только в видоизменениях градации, а не в сути самой природы, и все те умственные способности, которыми так превозносится мужчина, находятся, как известно, и в женщине; все же аффекты, заставляющее трепетать женское сердце, способны волновать и грудь мужчины. Единственное исключение составляют чувства отца и матери, не идентичные у обоих полов.
При одинаковых жизненных обстоятельствах на долю женщины выпадает гораздо меньшая сумма наслаждений. Одаренная более утонченной чувствительностью и более чутким даром впечатленья, она потому обладает большей долей того материала, которым вырабатывается наслаждение, но она великодушна и легкомысленна, и потому ей вечно приходится расплачиваться за наслаждение бездной переживаемых ей страданий. В блеске счастья она вполне умеет наслаждаться; когда же ей грозит беда, она уже не в силах ни защитить себя, ни отстаивать собственной выгоды. Она решается в большинстве случаев выпить чашу горести до дна, склоняя голову перед страданием как перед неизбежной участью всех избранных душ. Она, кроме того, постоянно влагает весь капитал своего счастья в самые шаткие ценности, т. е. в приязнь людей, и колебания, которым ежечасно подвержено человеческое великодушие, приводят ее ежеминутно в невыносимый страх и трепет. Злостные банкротства, жертвой которых они бывают вследствие людского эгоизма, лишают ее мало-помалу всех душевных сокровищ ее и связанных с ними процентов, т. е. тех земных радостей, без которых жизнь столь же невозможна, как невозможна она без воздуха.
Человек, следовательно, родясь мужчиной, владеет большими шансами на земное счастье, чем женщина.
В мире внешних чувств мужчина больше женщины умеет насладиться зрением и чувством вкуса; женщина же глубже выпивает чашу наслаждений любви, и этим восстановляется равновесие между ними.
Главное и постоянное различие состоит в порядке распределения наслаждений между полами, т. е. в отдельной для каждого области аффектов и умственных способностей. Мужчина наслаждается сильнее всеми аффектами, группирующимися около первого лица, а также и всей массой умственных наслаждений; женщине же предоставлена вся сладость истинного чувства, проистекающего из глубины сердца и постоянно ищущего себе точки опоры в окружающих, в сочувственном сердце другого лица. На небосклоне мужских наслаждений сияют, как солнце, все радости борьбы и честолюбия, меньшими же светилами являются здесь радости дружбы и любви, наслаждения умственного труда и вкусовые ощущения. На небесах женщины, как при рассвете дня, так и при его закате, обусловливая там свет и тьму, блестят созвездия любви и материнских чувств, бросая только свой отблеск на второстепенные малые планеты наслаждений, осязания и сердечных чувств приязни. Случается, весьма редко, чтобы кругозор мужчины или женщины мог обнять сразу обе обозначенные гемисферы. Мужчина в подобном случае, оборвав все лавры славы, вспоминает, что и ему дано сердце, и начинает любить со всем пламенем великодушной страсти. Женщина же, случается, не переставая быть подругой и матерью, обвивает себе голову бессмертным венком, купленным ценой напряжения ее умственных сил. Но весьма редко бывают подобные проявления умственного и нравственного превосходства как с той, так и с другой стороны; и в жизни каждого человека почти всегда замечается преобладание одного или другого порядка наслаждений. Когда же одна и та же личность обнимает обе сферы, тогда, по большей части, одна из них согрета яркими лучами жгучего солнца, другая же едва освещена холодным лунным светом.
После влияния особенностей пола всего сильнее действуют на образ и меру человеческих наслаждений условия прирожденного ему организма. Здесь уже нет места ни объяснениям, ни спору. Повсеместная чувствительность, отличная в каждом индивидууме, делает его более или менее способным к восприятию ощущений; преобладание же одного чувства над другим развивает в человеке потребности, удовлетворение которых и составляет наслаждение.
Многие делаются в этом отношении настоящими мономаньяками. Чем более упражняется отличительное свойство организма (а, следовательно, и отучающее ему наслаждение), тем более обусловливается и растет специальность человека, так что в конце концов он делается уже нечувствительным к тем наслаждениям, которыми он пренебрег ради предавания себя вполне излюбленному наслаждению. Мономания доводит иной раз до того, что человек, ей отдавшийся, начинает ненавидеть великое наслаждение, хотя и вполне безвинное, но не входящее в цикл обычных ему удовольствий.
Большинство людей бывает одарено вообще всеми способностями, но так, чтобы ни одна из них не могла стать преобладающим свойством человека; вот почему обыденные в мире удовольствия сводятся к общему мерилу посредственности.
Люди редко бывают озабочены отыскиванием формулы наслаждений, отвечающих их личным потребностям: они зачастую берут у фармацевта дозу наслаждения, заготовленную для общего употребления. Некоторые, наоборот, доходят до смешной изысканности при выборе все же безразличного для них наслаждения, решившись наслаждаться по рецепту той или другой литературной знаменитости прошедших времен. В свое время, быть может, рецепт как нельзя лучше отвечал потребностям эксцентрично устроенного желудка, но в настоящие дни он оказывается вполне несовременным, и вот мнимо наслаждающемуся приходится улыбаться среди мучений удовольствия, не отвечающего личным его потребностям и действующего на него как отрава. Это, разумеется, случай исключительный, общественное же мнение вообще, шарлатанствуя по-своему, сходно продает пошлым людям известные рецепты удовольствий, приноровленные к спросу текущего времени.
Хотя мерило наслаждений и приблизительно установлено полом и условиями человеческой организации, мерило это подвержено, однако, бесчисленным модификациям, совершающимся в нас во время жизненного пути.
Мы начинаем наслаждаться чувствами своими с первых дней нашей жизни, но, при тогдашнем бессилии внимающей способности, ощущаем их весьма слабо. Память не в силах привести нам ни одного яркого ощущения, поразившего нас в эти первые времена жизни; но, тем не менее мы, не можем сомневаться в том, что они и существовали, и так или иначе выражались во времена первой юности.
Не умея еще улыбаться, младенец выражает, однако, при сосании свою радость и свое благосостояние спокойным складом очертаний, хорошо известным каждой матери. Двигаясь вперед по жизненному пути своему, человек-младенец наслаждается все более и более, но в это время он все еще находится на одном уровне с животными, которые могут чувствовать наслаждение, не умея составить себе понятия ни об одном сладостном чувстве.
В нашем младенчестве свежесть незатронутых ощущений пополняет недостаток тех высших способностей, с помощью которых человек умеет впоследствии находить источник наслаждений из самых незначительных впечатлений. Это было уже выше замечено нами, когда речь шла о наслаждениях чувственных. В младенчестве, наоборот, механический процесс жизненности происходит столь живо и усиленно, что одно сознание существования уже оттеняет колоритом радования все моменты этого возраста, и на фоне этого общего благосостояния могут свободно вырисовываться все более яркие радости жизни. Всякий раз, как нервная система находится не только в полном благосостоянии, но и в состоянии легкого раздражения, наслаждение вызывается малейшим ощущением, малейшим упражнением той или другой способности ребенка. Вот почему здоровое дитя почти всегда весело. Наслаждение, впрочем, всегда под рукой, в этом возрасте и ребенку не приходится его разыскивать. Оно почти всегда бывает произведением внешних чувств и специального чувства осязания, обусловленного мускульными передвижениями сердечных, еще неопределенных чувств и весьма умственных второстепенных способностей.
Умственный труд редко увеселяет человека в раннюю пору детства, так как, по слабости интеллектуального развития, в это время всякое напряжение умственных сил слишком утомительно для ребенка и не порождает наслаждения. Дети в большинстве случаев учатся только по обязанности или ради доставления удовольствия родителям и учителям.
Человек наслаждается более всего в пору юности, когда он равно способен прижимать к усиленно бьющейся груди своей и яркие быстротечные наслаждения первых лет, и более степенные удовольствия зрелого возраста. Исключения, разумеется, мы оставляем в стороне. Юноша может стать самоубийцей; он иной раз проклинает жизнь, называя надежду обманувшей его прелестницей, но все же он – сравнительно богач, задыхающийся от избытка внутренних сокровищ. Он доказывает собой печальную реальность той истины, что «нет счастья человеку, недостойному счастья».
В то время, когда все ему улыбается, когда он властвует в мире наслаждений, когда вся природа готова, кажется, убаюкивать его счастьем, когда всеобщее сочувствие возвышает юношу до самых небес, он осмеливается зевать и улыбаться презрительно– циничной улыбкой. Находясь, по возрасту своему, в апогее счастья, он дерзает святотатственно-неблагодарно «примиряться с жизнью». Знаю, что факт проявления подобных чувств в пору молодости не беспричинен, но здесь – не место ни анализировать его, ни рассуждать о мотивах его проявления. Знаю только, что это было всегда и что это всегда будет.
Юность – время самых пылких наслаждений, и тому, кто проклинает ее, злоупотребив ее наслаждениями, приходится в более зрелые годы оплакивать попусту растраченное время и силы, употребленные в молодости на опасную игру.
Молодость приносит с собой новые наслаждения в то время, когда мы и без того можем вкусить радости всех времен жизни, но в эту пору мы менее всего способны видеть в умении наслаждаться искусство или науку. Мы стремимся в это время и вправо, и влево, то носясь над поверхностью вещей, то уходя чрезмерно вглубь, не соразмеряя ни бездны перед собой, ни ограниченности собственных сил. Только бы бороться нам!.. Только бы побеждать!.. Биться бы нам только с чем-либо, и сносить удары!.. Только бы восторгаться нам, в огне ли зажженных нами же костров или посреди плавучих льдин севера – все равно! Только бы чувствовать нам собственную жизнь и наслаждаться ею!
Первой потребностью кажется нам тогда поддерживание внутри себя тлеющего в нас огня, только мог бы он вырваться на простор через какой бы то ни было клапан… Все остальное безразлично для нас в первую пору юности.
Внутренние силы ищут себе выражения то сжиманием железных мускулов, то наводнением мысли невозможными предприятиями; то они клокочут, освобождаясь из клапана бешеных страстей, то ищут подвига, углубляясь в пучину долгих и опасных изучений.
Человек, который в двадцать лет не расточал никаких сил и не доходил ни до каких крайностей, не бывал юношей и никогда не будет им.
Но посреди обуревающего его стечения всевозможных радостей юноша никогда почти не анализирует своих чувств. Он стремителен и насильствен во всех проявлениях собственной воли. Оборвав лепестки цветка или поласкав глазами страницы книги, он выпускает из рук цветок и бросает о землю недочитанную книгу, устремляясь внезапно в водоворот света, ласкаясь и толкая, желая и сорвать, и сломить, и приостановиться на чем-либо навсегда. Высоко бывает иной раз безумие молодости, великодушны его бессмысленные утопии! Какое множество благословений и проклятий могут нестись вслед этому физиологически и временно безумствующему человеку! Если продлятся во мне жизнь и сила, то я когда-нибудь опишу повесть подобного безумия.
Природа оградила человека пределами расточительности, и когда кровь начинает бить менее стремительно в его висках и когда утомление долгим бегом начинает замедлять его шаги, тогда он утирает пот с разгорячившегося лба и осматривает топографии местности вокруг себя. В подобный момент человек чувствует зрелый возраст. Годы и телесная сила могут расширить грани физических сил, но они бывают бессильны на определение нравственного возраста. Эпохи эти иногда и сходятся, но не всегда.
Отрок бывает способен злоупотребить первыми проблесками скороспелого ума, встать на десятом году жизни перед поприщем, открытым юношеству; он, осмотревшись около себя, способен начертить себе путь жизни до начала действительного бега, и таким образом он может стать экономным, даже скупым, не побывавши вовсе расточительным. И вот человек становится зрелым, не вкусив наслаждений юности; отказавшись от них, он в двадцать лет уже вполне принимает осанку зрелого возраста.
Но, в какие бы то ни было годы получил человек преимущества зрелости, – двадцати ли, сорока ли лет, – он равно видоизменяет не только форму, но и саму суть своих наслаждений, обращая всю сумму их в недвижимое имущество. В юности люди предпочитают судорожное веселье биржевой игры, только бы достаточно велика была условленная ставка; юноша идет без страха навстречу банкротству и разорению. Сегодня юноша – нравственный миллионер, завтра он будет лишен последней копейки. В этом ужасном колебании страшных подвижных качелей ему чудятся движение, безумная радость, жизнь – и юноша доволен.
Зрелый человек, напротив того, довольствуется и в нравственном мире тремя или четырьмя процентами, только бы верен был отвечающий за них залог. Он влагает капиталы свои и в дом, и в земли, выплачивая притом дань всевозможным страховым обществам, страхуя дом свой от огня и посевы от града. То недвижимое имущество, которым столь дорожит человек зрелого возраста, – это чувства семейной любви, это тихие вдохновения славы, прелести ученого труда, аффекты, концентрированные в значении первого лица, и другие тому подобные капиталы, о которых уже достаточно говорено мной в этом труде.
Когда зрелый человек приближается к старости, он начинает чувствовать оскудение наслаждений, он чует скорое исчезновение их, несмотря на все экономическое распределение этих богатств своих, и вот он начинает скупиться наслаждением. Он выбирает их из рук доверенных лиц; он сам становится управителем и кассиром собственных имуществ, желая все видеть и размерять собственными глазами; он сосредоточивает в себе все силы наслаждения, заботливо сторонясь всякого, кто кажется ему прихлебателем чужих удовольствий. Он, собственно, прав в этих распоряжениях своих, так как те нравственные фонды, которыми он так злоупотреблял в молодости, оказываются крайне истощенными. Сдержанность зрелого возраста поправила было состояние его финансов, но время, против которого не существует страхования, грозит разрушить дома его и засушить его поля. Для наслаждения старцу уже не остается ничего, кроме дорогих сердцу воспоминаний и бледных радостей, зорко оберегаемых в искусственно нагреваемых им теплицах.
Человек, здоровый умом и телом, не становится несчастным с наступлением старости; колеблясь уже на ветхих ногах своих и едва будучи в силах улыбнуться иссохшими устами своими, он все еще восторженно привязан к жизни и любит ее до безумия. Что ни говорите, но при виде такой страстной привязанности человека к существованию невольно подумаешь, что в жизни нашей больше радости, чем горя.
Если бы требовалось формулировать все перипетии человеческих наслаждений, обусловленных годами и возрастом, мы сказали бы, что младенец, наслаждаясь первой свежестью ощущений, испытывает бездну мелких, но весьма живых удовольствий. Юноша наслаждается самыми бурными и как бы вулканическими радостями жизни, не умея ценить их по достоинству. Зрелому возрасту дана тихая отрада удовлетворения и покоя; старцу же предоставлена только утеха последнего долгого взгляда на все то, что готово навеки исчезнуть из его глаз.
Сумма наслаждений состоит в ребячестве, в распоряжении природы, и мы свободно наслаждаемся процентами с нее, не заботясь об ее сбережении. При достижении юношеских лет сама природа заявляет нас совершеннолетними, и мы, вступив сразу в распоряжение всеми богатствами своими, становимся щедрыми и расточительными, до полнейшего безумия, подвергая крайней опасности состояние нравственных финансов наших. От разорения нас спасает зачастую чрезвычайное богатство наших сил. Дошедши до зрелого возраста, мы начинаем заботливо собирать осколки собственных имуществ, тщательно приберегая оставшиеся крохи. К старости же все мы становимся скупы на наслаждения.
Здоровье сильно влияет на суть наших наслаждений. Болезни, производящие положительное страдание, урезывают наслаждения людей и по количеству, уменьшая способность впечатления и тем делая человека неспособным к наслаждению мелкими, обыденными радостями жизни. Иногда же, наоборот, болезненное состояние, обостряя способности к впечатлению, заставляет нас еще более дорожить телесным благосостоянием, обращая внимание наше на наслаждение, производимое внутри нас сознательным ощущением механизма жизни. Во всяком случае, болезнь вызывает в нас отрицательные наслаждения – как выздоравливания, так и возвращения к полному здравию.
Глава VI. Нравственная топография наслаждений
Среди вопросов, возникающих по поводу синтеза и естественного описания наслаждений, не последнее место занимает вопрос о распределении наслаждения по различным наслоениям общественного мира. Вопрос этот, вовлекая нас в рассуждения о темах практической философии и политической экономии, мог бы занять собой страницы целого тома; притом мелкие судьбы отдельных личностей затребовали бы от нас массу терпеливого и долгого наблюдения. Но здесь, как и всегда, я могу только указать на существующий пробел, обозначая с точностью его очертания, и затем, измерив его глубину, идти далее по предназначенному себе заранее пути.
Хотя обещания будущей жизни и сопряженных с ней вознаграждений могли бы отчасти утешить всех страждущих и бедствующих на земле, принужденных поддерживать безрадостную жизнь, едва зарабатывая себе право на существование болезненным и упорным трудом, тем не менее мысль, что деньги и только они одни служат мерилом всех земных наслаждений, грозили бы подрыть со временем все основания общественной жизни. Наиболее богатый человек был бы в таком случае и наиболее счастливым, и тому, кто родился без надежды на собственную, унаследованную им копейку, оставалось бы только проклинать свою жизнь и отчаиваться в благости провидения. К счастью, дело обстоит вовсе не так: на земле существует много радостей, не подлежащих купле и не приобретаемых на миллионы всех Ротшильдов. Все наиболее дорогие человеческому сердцу наслаждения доступны всякому, и если случай распределяет их иной раз со своенравным лицеприятием, то, во всяком случае, судьба выдает их людям вовсе не в обмен на деньги и не на вес золота. Умственные наслаждения бывают доступны даже нищему, если бы они давались бедняку с удвоенным для него трудом – они приносят ему все-таки много радости. Гений – не принадлежность того или другого сословия; он, к счастью, не может, как все прочие блага жизни, передаваться людям по наследству. Созерцание природы, наконец, доступно всем.
Перебирая все эти условия счастливой жизни, доступные бедняку, я вовсе не отрицаю существования крайних несообразностей в распределении наслаждений по различным слоям общественного мира. На долю богатых выпадает, несомненно, более средств к наслаждению. Но, вступая сразу в очарованный круг земных благ, богатый хватается, естественно, за наиболее интенсивные наслаждения, что делает его позднее неспособным к восприятию устраненных им в начале целого ряда мелких, но весьма сладостных жизненных утех. Когда злоупотребления жизнью, к которым так склонны люди богатые, утомили их силы, когда ими уже сорваны лучшие из тепличных цветов, тогда богачи оказываются уже неспособными радоваться виду полевых цветов, столь прекрасных, однако и душистых. Бедняк же, наоборот, оказывается при рождении своем среди печальных и бесплодных степей, не дающих ничего, кроме сорных трав. Чтобы проложить себе дорогу и идти вперед, ему приходится трудиться в поте лица своего; но по пути для него не существует таможен и ничто не становится ему поперек избранной им дороги. И окажись в бедняке искра гения, будь он снабжен природой крепким заступом сильной воли, он смело подступит к теориям и сорным травам, вырвет их мощною рукой и поспешит дальше. Он может пронестись над степью прирожденной ему нищеты, достичь вечно зеленеющих равнин довольства и, может статься, проникнуть в роскошные теплицы богачей. С окраин долгого пути ветер навевает ему благоухание каждого цветка; красота цветов все возрастает с каждым изгибом проложенной им тропы, все плодотворнее становятся окрестности и мягче климат достигаемых им стран.
Долог путь, ведущий от опаленной степи бедности до выращенных в теплицах тропических растений богатых людей; так долог, что редко удается одному человеку пробежать в течение жизни все его пространство. Но во время долгого пути бедняка не перестает утешать мысль о достижении крайней цели, и это составляет ту надежду вдохновляющей силы, которой лишен бывает богач от самой колыбели.
Состояние безбедности и довольства считается положением, представляющим наиболее шансов к достижению счастья. Человек, родившийся в этой блаженной среде, еще не слишком далек от бедности и может, особенно при помощи хорошего бинокля, сразу обозреть все ужасы ее бесплодной почвы, и затем он может оценить по достоинству безмятежный покой тех жирных равнин, среди коих он родился; с другой стороны, близость к богатству возбуждает в нем надежду достигнуть со временем ее роскошных чертогов и насладиться в свой черед их прелестями; и если случай или собственные достоинства доставляют ему входной билет в теплицы богача, никто лучше его не сумеет насладиться их изяществом. Бедняк, достигнув роскоши, не всегда оказывается счастливым; напротив того, он бывает нередко ослеплен и ошеломлен ею, обычная же ему отупелость внешних чувств мешает ему притом наслаждаться тонким изяществом радостей, приличных новым его приобретениям.
Человек может быть счастливым во всех слоях общества, но бедняк редко наслаждается своим счастьем, так как все выстраданное им и вечные труды делают его иной раз неспособным наслаждаться многими из тех удовольствий, непременными условиями которых бывают спокойствие и тишина. В руках богача находятся все средства к достижению блаженства на земле, но, по склонности своей злоупотреблять ими, он должен обладать особенным политико-экономическим гением, чтобы не утратить своих прав на счастье, а подобный талант бывает уделом немногих. Наоборот, человек, рожденный в умеренном поясе «золотой посредственности», может быть счастливым на земле без особенных затрат ума или таланта, не претендуя на гениальность и не владея особенно высокими правилами нравственности. Это – аксиома, столь же древняя, как и сама земля, и ее несчетно раз уже повторяли как философы, так и поэты. Повторять ее не к чему: в нее надо верить, и верить от всего сердца. Богач, родившийся в теплице, не может выйти из нее, не подвергнув себя опасности простуды; оставаясь же всю жизнь в ее пределах, они зевают там и умирают с тоски. Нам, только людям блаженного среднего сословия, предоставлен весь путь в блаженную обитель, и если, после долгого странствования по жизненным дорогам, нам удается проникнуть, уже в зрелом возрасте, в более теплые сферы, мы не чувствуем, заверяю вас, ни малейшего жара. Вам всем, прочитавшим мою книгу, желаю на прощанье такой же участи. А пока, поверьте мне, всякий надеющийся приобрести богатство, чтобы стать счастливее, не ошибется в своих расчетах, так как богатство – дело вообще хорошее.
Каждая из человеческих профессий обладает одним, ей свойственным, циклом наслаждений, в состав которого входит как наслаждение, специально характеризующее занятие, так и ряд меньших, второстепенных, связанных с ним приятных ощущений. Описание удовольствий, сопряженных с каждой отдельной профессией, было бы трудом довольно любопытным. В труде этом недоставало бы, впрочем, элемента страдания, которое, сплетаясь с наслаждением и накрепко сплачиваясь с ним, представляет физиологическую формулу условий всякой общественной жизни.
Отделив здесь, при описании человеческих профессий, наслаждения от страдания, мы напрасно бы предались только мании анализа и испортили бы тем одну из лучших картин, изображающих нравственного человека. Я принужден, следовательно, отказаться от синтеза, который, при неполноте изображения, мог бы быть только вновь анализом, отлагая до будущего времени, наравне с другими бесчисленными предприятиями, предполагаемый мной естественный очерк страданий и радостей, свойственный каждой профессии.
Пока могу начертить здесь только легкий перечень главных отделов этого труда.
Можно бы составить несколько разных, более или менее естественных классификаций человеческих профессий, употребляя то или другое мерило для обозначения линии перспективы.
Здесь я намереваюсь поделить их по сущности наслаждений, преобладающих в каждой профессии.
Наслаждение чувством осязания встречается обильнее в ремесленном труде и художествах, к нему относящихся. Всего чаще испытывает их ваятель.
Легкие вкусовые наслаждения всего чаще встречаются в профессии врача и повара.
Громадное различие впечатлительности носовых органов разно у разных людей; до сей поры ни одна профессия настолько не повлияла на наслаждение обонянием, чтобы видимо более или менее утончить это чувство.
Учителя музыки и исполнители-артисты должны, естественно, наиболее пользоваться наслаждениями четвертого чувства.
Наслаждение зрением ощущается сильнее путешественниками, микрографами и живописцами.
Наслаждения почестями составляют принадлежность всех вообще профессий, но ими чаще всего пользуется военное сословие.
Наслаждения славой служат наградой всем деятелям общественной фабрики, но чтобы стремиться к их достижению, необходимо стоять уже довольно высоко на ступенях общественной лестницы.
Честолюбие, со всеми его второстепенными подразделениями, доступнее тем, кто принадлежит к списку владык земных, министров, канцлеров, камергеров и т. п.
Наслаждение собственности живее ощущается банкирами, негоциантами и землевладельцами.
Натуралисты и специалисты во всяком отделе наук наслаждаются по преимуществу собиранием всякого рода коллекции.
Любовь к родине должна бы доставлять наиболее пламенные наслаждения лицам военного звания.
Религиозные наслаждения должны бы быть всего более доступными священникам.
В наслаждениях чувства благоволения должны бы участвовать медики, учителя, священники и директора общественно-благотворительных учреждений.
Наслаждения борьбы всего более выпадают на долю солдат, охотников, адвокатов, медиков.
Очарования надежды всего чаще награждают те профессии, где обилие труда не вознаграждается скудностью заработка.
Наслаждения ненависти и грабежа бывают достоянием людей, подлежащих тюремному заключению и веревке палача.
Все профессии, где умственные работы, так или иначе, доставляют хлеб насущный, пользуются притом радостями умственных наслаждений. Не имею возможности входить здесь в большие подробности.
Все не поименованные здесь наслаждения общи всем человеческим профессиям; самые же профессии так слабо влияют на развитие этих наслаждений, что воздействие их не подлежит вовсе никакому наблюдению. Более точное определение их заняло бы притом немало страниц этого труда.
Глава VII. Физическая география. Этнография наслаждений
Горсть вылитых в одну форму людей, разбросанных по поверхности земного шара, образовала немало национальностей, резко отличающихся друг от друга как по природе своей, так и по обычаям. Предполагалось, что на подобное преобразование человеческих масс всего сильнее действует различие происхождения; другие, наоборот, придают в этом случае происхождению значение весьма второстепенное, уступающее медленному, но постоянному влиянию климата и условий страны. Что касается нас, то нам в настоящую минуту достаточно одной уверенности, что климатические условия, влияя более или менее сильно, запечатлеваются на людях чертами, передаваемыми по наследству следующим поколениям.
Если влияние холода и жара, равнин и гористых мест способно видоизменять чувства и мысли людей, то наслаждение, тем более как феномен, происходящий от сгруппирования многих элементов, должно подлежать весьма сильному влиянию страны и климатических ее условий. Изучая в этом направлении разнообразие наслаждений, можно бы на этом основании составить настоящую физическую географию, на первоначальные элементы которой мы можем сделать здесь только несколько указаний.
В странах дальнего севера холод и непогода способствуют сближению людей, удерживая семьи взаперти по домам; вот почему семейные радости и наслаждение одинокими размышлениями и чтением более развиты на севере, чем в жарких краях. Только на севере можно увидеть людей, добровольно посвящающих всю жизнь бледным наслаждениям научного мира. Наоборот же, в странах, где вечно блещет горячее солнце и где вечно сияет ясное небо, до такого самопожертвования могут доходить только личности гениальные. Вот почему холодные обитатели севера никогда не будут в состоянии оценить по достоинству жертву, приносимую науке учеными наших южных стран. На юге художество и поэзия покрывают чудной своей манией все чувственные наслаждения, которые сияют на юге особенно ярким блеском вечной юности.
Наслаждения, относящиеся к трем царствам природы, встречаются в пространстве всех поясов земного шара, но каждое из них может развиться до свойственной ему жизненной полноты только при условии приличного ему климата. Вечные наслаждения метафизики, а также и тихие радости семейных аффектов доходят до высшего апогея своего только там, где «ветви пихты сгибаются под тяжестью кристаллизованных туманов». Перенесите подобные наслаждения в область менее сурового климата, и вы изуродуете самую природу их, и они явятся чем-то неестественным, тоскливо-утомительным. Бурное неистовство чувств и пламень жгучей страсти могут развиться только в области жаркого пояса, этой родины чувственных наслаждений; перенесите подобную страсть на север, и она поневоле примет там жалкие размеры растений, взлелеянных в наших теплицах.
Можно вообще сказать, что в холодном климате протяжение наслаждения преобладает над его интенсивностью, между тем как в жарких краях оказывается отношение совершенно обратное. На севере наслаждение становится тихо сияющим пламенем, которое при медленности своего сгорания описывает длиннейшую параболу. У нас же, наоборот, радость пожирается людьми как бы в виде блестящих искр или громоносных лучей. Таков вечный закон, заправляющий проявлениями физической и нравственной жизни. Зрелый возраст, осторожная разумность, спокойствие мужского пола, эгоизм и множество других элементов, худых и добрых, царствуют поблизости полюсов. Под тропиками – вечное царство молодости, щедрости, страстных увлечений, сердечных чувств и женщин. Там преобладает пространство и время; здесь – полнота жизни и интенсивность страсти.
Сырость почвы, возвышение ее над поверхностью моря, ровная или гористая поверхность страны должны, так или иначе, обусловливать сущность всякого наслаждения, но разрешение этой проблемы предоставлю будущим авторам.
Более обильным полем для философских изучений представляется распределение наслаждений по различным группам, на которые распадается разбросанное по земле человечество. Описание форм наслаждения среди различных масс отвечало бы очерку нравственной и физической физиологии этих рас, так как наслаждение приноравливается к организации каждой национальности точно так же, как мясо одевает формы остова; различием степени своего развития наслаждение в этом случае проявило бы относительную силу тех свойств, сгруппирование воедино которых составляет микрокосмос человечества.
Труд этот по необъятности охватываемого им поля издавна манит мое воображение, но он далеко превышает слабость настоящих моих сил. В надежде с запасом более зрелой опытности позже возвратиться к предмету, занимающему нас в настоящее время, я осмеливаюсь пока представить в одной общей картине легкий очерк различных наслаждений человеческих рас и преимущественно наслаждения тех народов, с нравами которых я имел случай ознакомиться во время моих путешествий.
Не намереваюсь оправдывать этнологическую группировку упоминаемых здесь мной народов, столь же несовершенную, как и все подобные классификации, не удостоверяю ни ортодоксальное происхождение народов от корня Адамова, ни дерзкого деления человечества на существа совершенно разнородные. Все деления людей на расы я считаю делом человеческого измышления; разность же происхождения видов людей на земле была только протестом антирелигиозных стремлений.
Ни рас, ни отдельных видов человечества не существует; существуют только семьи; каждая семья, характеризуемая множеством общих ей членов очертания, составляет естественную группу. Основанием же распределения людей на подобные группы бывает построение черепа и более усиленное развитие тех или других умственных способностей и нравственных сил. Этнография находится еще в эпохе Линнея и ожидает своего Жюссие.
Удовольствия, развившись посреди рас, разнятся не только по степени вкушаемого ими наслаждения, но и по способу выражения наслаждений. Расы краснокожих Америки выражают наслаждение свое едва заметными признаками, и европеец едва ли сможет прочесть выражение радости или страдания на их бесстрастно-неподвижных, грязноватого цвета лицах. Лицо негра отличается противоположной крайностью, т. е. чрезвычайной подвижностью личных мускулов; в минуту волнения и радости он выделывает какие-то телеграфные знаки всеми оконечностями собственного тела, вытягивая между тем или скорчивая мышцы своего черного, блестяще-маслянистого лица; смех же негра оказывается шумным гоготанием, доходящим иногда до дико звучащего вопля. В этой расе весьма сильно чувствуется сознание жизненности, и хохот их похож на оживленные крики обезьян, этих самых веселых тварей из животного мира. Обезьяны, как и негры, бывают тем веселее, чем менее каждая особь одарена умственными способностями.
Жалкая тайна природы! Чем ближе животное к человеку, тем печальнее становятся внешние его очертания; человек же, наоборот, заливается более судорожно-веселым смехом, чем более он приближается к образу жизни животных.
Расы, отличающиеся высоким развитием, выражают свое наслаждение богатейшим обилием выражений, но физиономией менее открытой и менее экспансивной. Мускулы участвуют менее в игре физиономии, неподвижность же их заменяется блеском глаз и выражением ума и чувства. Я наблюдал опьянение во множестве европейских стран и у индейцев, среди жителей Южной Америки, и я замечал всегда и везде, что наслаждение высказывается живее и нагляднее в странах, где менее развита интеллигенция.
Наслаждение должно иметь своих историков и свой хронологический порядок. Жизнь, вечно передаваемая одним поколением другому в виде мысленно-эластической монетки, странно модифицируется всякой особой, как наслаждающейся ею, так и ей злоупотребляющей. При настоящем нашем умении чувствовать и мыслить мы дорого платим за заблуждения отцов своих, пользуясь вместе с тем изобретениями древнейших из праотцев наших. Если жизнь, какова бы она ни была, видоизменена переходом своим через пространства столетий, то и наслаждение, будучи моментом одной из его жизненных форм, должно было быть весьма различным в пережитые нашей землей эпохи.
Передаем охотно детям эту непочатую еще богатую руду изысканий! История, бывшая в продолжение столь многих лет только перечнем хронологических чисел или серией рассказов о том, что совершали короли, едва начала становиться страницей из громадной книги человеческой философии. Когда дописана будет эта книга, тогда немалое место в ней окажется занятым повестью о наслаждениях человека на земле.
Я не признаю статистических выводов в деле определения наслаждений. Природа людей не допускает ни двух радостей, совершенно идентичных, ни даже схожих между собой. Сознания человеческие нет возможности поделить на цифры и нельзя слагать из них более или менее правдоподобных сумм. Память наша – это единственное звено, связующее наше вчерашнее «Я» с тем, чем мы будем завтра; не в состоянии представить нам точной фотографии умственного существа нашего, так как мы едва ли бываем способны сличить два момента своего существования.
Когда мы, испытывая во второй раз какое-либо наслаждение, усиливаемся сопоставить его с другим, подобным ему и вчера только испытанным нами, мы пользуемся и памятью настоящего дня, и сознанием настоящего дня, уже далеко ушедшим от того, чем вчера еще были полны и сознание, и память. Кто способен приостановить ход вечного передвижения внутри нас и вечную вибрацию сотни тысяч клеточек и тканей?
Глава VIII. О наслаждении в микрокосмосе оживленной материи. Философия наслаждений
Если бы и существовала возможность определить суть жизни с математической точностью, люди все же не умели бы обозначить с достоверностью той линии, которая должна разделять области живой материи и той, которая лишена жизни. Блаженные личности, мирно покоящиеся за сомкнутыми ими самими твердынями общих определений, согласились бы охотно исковеркать природу и урезать все мироздание, только бы втиснуть то и другое в тесный кругозор своих понятий. Подобные люди не питают ни малейшего сомнения в том, что за пределами мира животных и растений, жизнь распространяет теплые эманации свои еще на громадные протяжения; они, пожалуй, смеялись бы над тем, кто начал бы привлекать их внимание к пределам всего живого, где, условившись сначала в значении понятий и слов, мы могли бы отчетливо обозначить естественные грани этих областей.
Другие люди, наоборот, увлекаемые собственной фантазией и, будучи от природы сторонниками всего того, что идет вразрез с верованиями большинства, считают живым все, что движется, все, что растет и размножается. Предполагая, что нет возможности отказать в присутствии жизни всему сотворенному, они заверяют, что жизнь, изменяясь только по образу и количеству, упитывает все мироздание своими плодотворными соками.
Нас завлекают оба эти поверья не столько силой деспотизма старых традиций и чисто общественного мнения, сколько в силу медленного и непреодолимого влияния собственной нашей организации. В тумане, произведенном в мозгах наших всей этой высшей метафизикой, мы способны, при помощи ухищрения диалектики, защищать оба этих мнения как возможные и даже вероятные, так как заключения разума не идут вразрез ни с одной из них. Жизнь, может статься, вовсе не есть коллективный факт, сведенный к одному понятию только силой умственного анализирующего труда; это может быть только отблеск нашего «Я», брошенный нами на весь окружающий нас мир. Жизненность может быть только бесконечным распространением в неопределенную даль той вибрации, которой полна глина, из которой составлено существо наше.
Попробую придать этой концепции форму, более близкую к миру ощущений: человек невольно разыскивал тварей, наиболее сходных с ним, в основных актах существования и, нисходя за тем все ниже и ниже по градациям естества, он дошел, наконец, до последних из звеньев великой цепи создания, до творений, в которых он не мог уже находить никакого сродства с собой. Чтобы обозначить чем-либо, в виде стенографического знака, эту работу собственной интеллигенции или скорее эту находку мозгов своих, он изобрел концепции жизненности, которая, соразмеряясь со слабостью его понимания, тешила его младенческое самодовольство и затем не давала ему восходить впоследствии до концепций более широких, до космического созерцания явлений естества.
Жизнь, во всяком случае, проникая собою все сотворенное, несомненно, часто концентрируется в том или другом пункте, оплодотворяя данный клочок материи или обособляет его, и он, став индивидуумом, движется изолированно в атмосфере, не связанный с остальным миром ничем, кроме тех сил, которые проникают в него как в часть громадного целого. Чем более выделяется микрокосмос этот из великого космоса, из которого получены им и внешний образ, и жизнь, чем пространнее индивидуальный его горизонт, вечно борющийся с охватывающей его окружностью, тем определеннее формулируется в нем концепция жизни. Сложность организованных сил, сосредоточенных в особи, находящейся в вечном передвижении и в постоянном процессе видоизменения, – вот, быть может, точнейшая формула живой материи.
«Время можно назвать коллективной жизнью мироздания, а жизнь – временным сверканием организованного микрокосмоса».
Хотелось бы, чтобы эти мои мысли остались бы некоей метафизической анаграммой. Я желал бы, наоборот, чтобы они послужили простым и синтетическим выражением долгих моих наблюдений над делами природы: это облегчило бы мне дальнейший путь мой к более понятным изучениям подробностей.
Все существа, одаренные жизнью и чувством, должны наслаждаться. Чтобы доказать это, нам открываются два пути.
Наслаждение заключает в себе самом свою физиологическую причину, будучи жизненным моментом, предопределенным и необходимым; цель же его так возвышенна, что оно, естественно, должно уменьшать его значение в жизни существ низшего разряда. Чем необходимее жизненная функция, чем теснее связана она со скелетом жизни, тем легче бывает проследить ее ход по всем градациям живых существ. Думаю, что одной из таковых функций оказывается наслаждение. Нет надобности, чтобы в данном создании существовали проявления разума или воли, для того, чтобы наслаждение возникало в нем от удовлетворения той или другой потребности; достаточно бывает и того, что создание это имело способность чувствовать. А так как растения чувствуют, то и они способны наслаждаться по-своему. В момент удовлетворения в них той или другой жизненной потребности ощущающий орган должен вибрировать совершенно иначе, чем когда в нем производит изменение какая-нибудь внешняя сила, идущая вразрез с его физиологической функцией и делающая, может быть, невозможным дальнейшее существование растительного органа. Существенная разница между двумя моментами составляет, может быть, главное основание этого феномена и колыбель зарождения простейшего и элементарнейшего наслаждения.
Сжимание мелких листиков мимозы (Mimosa pudica) и вытягивание стеблей loasa, стремящихся окружить зеленым венком, как бы любовным объятием, пышный расцвет женского органа, составляют моменты растительной жизни, проявляющие истинно органическую потребность и способные сопровождаться: первое – страданием, а второе – наслаждением.
Физиология растений еще недостаточно исследована, и потому только люди не приписывают органам растений вибрацию наслаждения. Для констатирования наслаждения в растениях нет надобности предполагать в них существования анализирующего «Я», еще менее того – разума, способного формулировать факт ощущения в понятие. Можно насладиться, не размышляя и не запоминая наслаждений. Эссенциальный феномен, философский момент наслаждения состоит в способности ощутить оба момента; один – сообразный с целью феномена, а другой – идущий в противоположном направлении. Нет надобности здесь и в интеллектуальном сравнении моментов, которое все же предполагало бы существование памяти. Во внутреннем устройстве ощущающего органа лежит все различие между наслаждением и болью, а так как орган этот, видимо, остается в одинаковых жизненных условиях при ощущении того и другого, то он наслаждается и страдает сообразно получаемому им влиянию со стороны внешнего мира.
Если вы отрицаете наслаждение растений только по невозможности доказать их существование, то на это можно возразить тем, что, точно следуя правилам строгой логики, нет возможности доказать и наслаждение лошади или собаки – животных, столь близких к человеку по построению. Нам не раз случалось класть под стекло микроскопа подвергнутую действию химических реагентов лапку лягушки, вдоль которой пробегает ток болезненного сокращения, но мы никогда не могли усмотреть в ней мельчайшего видоизменения материи, и вот почему я нахожу, что мы не имеем права отрицать того, что органы цветка могут ощущать вибрацию наслаждения при получении оплодотворяющей их пыли. В эти торжественные минуты любовного восторга цветы дышат подобно животным. По крайней мере, в них развиваются тогда токи теплорода, а может быть и электричества; почему же удовлетворение сильнейшей из жизненных потребностей не могло бы доставить им наслаждения? Стебли лилий, чуя развитие женских органов цветка, лежащего на поверхности воды, усиливаются подняться к нему. Но и вообще все растения чувствуют влияние света и стараются к нему приблизиться. Пусть кто-нибудь из ботаников станет физиологом растительного мира; пусть разыскивает он в растениях органы ощущения, и он найдет их.
Между ними и нервами животных всегда находится та же разница, какая есть между трахеями и легкими, между хлорофиллом и кровяными шариками, между растительным маслом и жиром; но если существует функция, то должен отыскаться и орган для ее удовлетворения.
Второй доступный нам путь для изучения наслаждения среди живых существ не составляет научно необходимого приема; он может вводить в заблуждение, но по общедоступности своей он оказывается наиболее избитой тропой из ведущих к достижению желаемой цели. Заметив внешние проявления человеческого наслаждения, люди стараются отыскать таковые же в среде животного и растительного мира, и где оказывается нечто подобное, там, по мнению таких изыскателей, несомненно, должно существовать и наслаждение. Суждение это, основанное на аналогии признаков, весьма неверно и шатко, тем более что обычные проявления наслаждений составляют нечто весьма противообразное и в них редко можно найти что-либо существенно характеризующее. Даже человек, владеющий таким общим орудием для выражения своего наслаждения, и тот способен одинаково проливать слезы и от радости, и от горя; он то волнуется и бушует, то столбенеет и молчит, захлебываясь волнами внезапно нахлынувшего на него наслаждения. Как привычка к сравнениям, так и древний, свойственный всему человечеству, обычай делить все на группы и все классифицировать могли бы заставить нас придавать значение не отдельным признакам наслаждения, а агломерации фактов, представляющей формулу, могущую характеризовать то или другое наслаждение; но и здесь люди бывают склонны теряться в неопределенностях и в туманности. Быстро сменяющийся ритм выражений, живость движений, блеск глаз и другие проблески внутренней радости могут одинаково служить выражением весьма разнородных страстей.
Когда же, оставив знакомое нам выражение человеческого лица, мы попробуем углубиться в мир животных, тогда мы бываем не в состоянии прочесть ничего на лицах этих столь дальних нам сродников. Ручаюсь, что самому Лафатеру не удалось бы определить, в чем именно состоит игра физиономии щуки, схватившей в зубы карася, и чем вырисовывается сладострастие насекомого, умирающего среди спазм бесконечно-сладостных лобзаний. Если великий Бранвилль умел мастерски выражать страсти мордами своих четвероногих и перьями птиц своих, то это может служить только новым доказательством того, как способен человек вносить часть собственной души даже в звериный лик, обращая изображения их в отражение самого себя; но и Бранвилль никогда не был в состоянии передать на полотне или на бумаге действительного выражения животных, которые, если бы обладали способностью говорить, вероятно, шепнули бы ему: «Сапожник, суди не выше сапога!» (Ne sutor supra crepidam).
Если наслаждение доступно растениям, то все животные вообще должны непременно ощущать его. Но никогда еще стекло микроскопа не сумело отыскать ганглиозный узел или нерв в тельце монады или вибриона; продолжают ли они скрывать себя от все еще плохо вооруженного глаза, или способность ощущать у них распределена или скорее распущена в однородной массе мякоти, из которой они составлены, неизвестно. Но всякий, изучавший инфузорий, несомненно, имел случай видеть, как они наслаждаются и как они страдают. Элегантная вортицела, вытянувшись во всю длину и ухватив лодочника, допустившего ее до себя слишком близко, сладостно съеживается, с наслаждением переваривая свою добычу; парамеция, за секунду перед тем лениво и медленно поворачивающаяся в чистой воде, нетерпеливо поводит блестящими глазенками, когда ей пришлось копошиться в гастрическом соку лягушки.
Наряду с функциями и органами, самое наслаждение совершенствуется с каждой восходящей ступенью по лестнице живых существ.
Ни одно животное не насладилось в жизни сильнее, чем способен наслаждаться человек. Хотя в нем сознание, без всякого сравнения, более совершенно, некоторые из чувственных наслаждений более развиты в иных животных, но сумма наслаждений все же склоняет весы в его сторону. Охотничья собака, чуя близость зайца, должна более нас наслаждаться чувством обоняния, когда эманации запаха щекочут железки ее обоняющего нерва после длинного перехода по ее носовому лабиринту.
Так, твари более совершенные могут наслаждаться с большей энергией; и если на иных планетах и в иных мирах существуют другие, современные нам творения, то они, вероятно, унаследуют после нас землю нашу, когда она дойдет до периода большей зрелости. Каждый новый орган и каждая новая функция, усложняя ткань существования, порождают новые потребности и, следовательно, вызывают еще новую способность наслаждений. Идеально-совершенным творением было бы то, которое могло бы по произволу, наслаждаться всеми наслаждениями, доступными обитателю земли, или поочередно, или всеми за раз, так что все они, отражаясь в гигантском сознании подобного созданья, могли бы дать ему насладиться всем сотворенным.
Если бы высшее существо могло наслаждаться, то оно наслаждалось бы подобным образом.
Философы до сей поры умели уже провозгласить немало определений наслаждения, обязательно приноравливая их и к развитию собственных сил, и к понятиям текущего времени. Они следовали в этом деле то патологическим путем метафизических определений, то более укромной тропой личных наблюдений.
Попробую наметить здесь несколько подобных определений, начиная от самых материалистических и доходя до самых идеальных, и приводя в заключение ряд самых метафизических воззрений.
1) Наслаждение возникает от затрагивания нервов ощущения.
2) Наслаждение – видоизменение, единственное в своем роде, нервной мякоти.
3) Наслаждение – ощущение, доведенное до сравнительной степени и до температуры жара.
4) Наслаждение – опьянение ощущения.
5) Наслаждение – удовлетворение потребности.
6) Наслаждение – ощущение, испытываемое во время выполнения физиологического акта.
7) Наслаждение – сознание физиологической жизни.
8) Наслаждение – та крайняя цель, к которой стремятся все живые существа.
9) Наслаждение – отрицание страдания.
10) Наслаждение – противоядие жизни.
11) Наслаждение – музыка нервов.
12) Наслаждение – лобзание, даваемое природой каждому созданию.
13) Наслаждение – движущая сила и явная или скрытая пружина всех страстей человеческих.
14) Наслаждение – обман, производимый природой над людьми с целью заставить их, nolens volens, подчиниться ее законам.
15) Наслаждение – макиавеллическая политика Провидения.
16) Наслаждение служит Провидению орудием для приведения человека к апогею совершенства и добра.
17) Наслаждение – тот внутренний аккорд гармонии и мелодий, который происходит от сближения души и тела.
18) Наслаждение – искра жизни, забытая Творцом в грязи материи.
19) Наслаждение – остаток движения, приданного Творцом материи при выпуске ее из рук своих.
20) Наслаждение – мышление Творца при сотворении им плазмы мироздания.Глава IX. Первые очертания эдонтологии, или науки наслаждения. Афоризмы
Эдонтология – это наука наслаждений. Скрываясь то под маской людской стыдливости и лицемерия, то в извилинах личной совести, то посреди учреждений народной цивилизации, искусство наслаждаться оказывается разбросанным по земле мелкими кусками и клочьями, и фрагменты его можно встречать везде, где бы ни проходил одинокий человек или целая народность.
Если люди считают вполне занятием невинным дело разыскивания нравственных наслаждений и распространения их по земле, среди наиболее обширного круга личностей, то нельзя заподозрить в грехе эпикурейских стремлений пламенное желание мое положить начало существованию науки, которой я дал имя эдонтологии (имя, составленное мной из слов греческого корня).
Ненасытная погоня за наслаждением в ущерб всему прочему, предпочтение, отдаваемое ему перед всем остальным, постоянное измышление новых для себя наслаждений и добывание себе всего приятного бывает несомненным признаком более или менее утонченного эгоизма, сбитого повсеместно ума и крайней сердечной испорченности: все это не имеет ничего общего с наукой эдонтологии. Это можно назвать только похотью к наслаждению. Но изучение источников этого ощущения, осведомление об их происхождении и о конечной цели самого наслаждения, анатомические исследования, искусно производимые над его элементами, – все это принадлежит к вопросам как философии, так и политической экономии.
Начала эдонтологии основаны на совершенстве хода нашего умственного механизма, на топографическом положении человека среди мироздания, состоя притом в интимной связи с длинной повестью человеческого сердца.
Если для насекомых существует энтомология как наука, если улитки удостоились малакологии, то почему бы наслаждению, этой полярной звезде всего человеческого, не создать ту науку о себе, которую я назвал здесь эдонтологией? Пока еще не развита и не сформулирована эта наука, я приведу здесь главные ее очертания; это будут афоризмы.
Афоризмы
I.
Наслаждение состоит в видоизменении ощущаемого, а не в самом ощущении.
II.
Как запахи цветка и вкусы не существуют и немыслимы сами по себе, так и наслаждение всегда бывает основано на моменте чувства.
III.
Наслаждение, следовательно, составляет продукт интеллектуального анализа. Так, наслаждение запахом розы составляет ощущение обоняния, помеченное той характеризующей его чертой, одобренной нашим сознанием, которой ум придает значение приятности. Так чернота чернил составляет опознанное умом свойство чернильного орешка.
IV.
Существенный характер, отличающий наслаждение от всякой другой формы ощущения, может быть признан только сознанием, этим судьей, решающим безапелляционно.
V.
Из тысячи элементов, могущих так или иначе модифицировать летучий момент наслаждения, самым влиятельным оказывается мозговой центр. Вот почему одно и то же ощущение может казаться и крайне сладостным, и весьма мучительным, соображаясь с нашим «Я» в минуту его проявления.
VI.
Следовательно не парадоксальностью, а весьма верной физиологической истиной является тот факт, что не существует вообще наслаждений, приятных по самой сути своей. Величайшее страдание способно, в известном случае, стать наслаждением, а самое пламенное наслаждение, в свой черед, – явиться поражающим человека несчастьем.
VII.
Наслаждение во множестве случаев бывает следствием степени ощущения. Одним градусом менее – и ощущение встретило бы полнейшее равнодушие; еще шагом выше – и оно обратилось бы в страдание.
VIII.
При восхождении от равнодушия к наслаждению ступень, на которой человек встречается с последним, весьма различна для тех или других людей. Эдонометрическая лестница наслаждений соразмерна специальной склонности человека к тому или другому порядку наслаждений.
IX.
Чем человек впечатлительнее и интеллигентнее, чем более знаком он с естественными законами эдонтологии, тем свободнее и быстрее встречает он наслаждение, нередко – на начальных еще ступенях лестницы.
X.
Для нежной и благородной женщины достаточно бывает глотка померанцевой воды, чтобы нервы ее поднялись для желаемого веселого настроения. А между тем матросу для выполнения той же цели приходится выпивать целый литр алкоголя, да еще с придачей отравляющей его щепотки перцу.
XI.
Каждой человеческой особи присуща своя лестница эдонтической впечатлительности; притом каждое наслаждение подлежит отдельной, ему одному свойственной, градации впечатлений.
XII.
Каждый из нас способен, при некоторой опытности, измерить силу интенсивности каждого для себя наслаждения и изыскать сильнейшее. Привожу здесь несколько таких лестниц, намеченных мной, по степени впечатлительности типов весьма различного интеллектуального развития.
Наслаждения внешних чувств
Наслаждения сердечного чувства
Наслаждения умственные
XIII.
Наслаждение по времени всегда обозначается параболой.
XIV.
Не существует наслаждений, совершенно идентичных.
XV.
Не может существовать в данном наслаждении моментов одинаково сильных.
XVI.
Чем интенсивнее наслаждение, тем быстрее переходит оно от высшей степени к низшей.
XVII.
Наслаждения более спокойного рода опускаются весьма медленно от высшего кульминационного пункта к низшему пункту параболы, т. е. к состоянию равнодушия.
XVIII.
Элементы, наиболее способствующие развитию наслаждения: утонченная впечатлительность, новизна впечатления, величина потребности и сила пожеланий, высокое интеллектуальное развитие и изощрение внимания.
XIX.
Вышеуказанные элементы влияют на все наслаждения вообще. Каждое имеет, однако, специфические, ему одному свойственные, стимулы и свою, приспособленную к нему, силу угнетения.
XX.
Элементами, уменьшающими вообще силу наслаждения, бывают: притупление ощущений, уменьшение или отсутствие пожеланий, тугость умственных способностей, недостаток внимания.
XXI.
Привычка бывает одним из наиболее сильных двигателей наслаждения. Она вообще более всего увеличивает силу мелких, обыденных удовольствий, притупляя, наоборот, силу более интенсивных наслаждений. Привычка сама по себе может придавать приятность самым впечатлениям, индифферентным.
XXII.
Существует особенная впечатлительность к наслаждениям, не имеющая ничего общего с присущей всем способностью ощущения. С ней не всегда бывает соединена способность глубоко чувствовать страдание. Назову это способностью избирания впечатлений.
XXIII.
Это свойство всего более способствует увеличению в людях силы наслаждений и доставлению блаженства человеку.
XXIV.
Свойством этим всего обильнее одарены французы.
XXV.
Наслаждения могут вытеснять друг друга, они могут укладываться в душе человека как бы слоями, взаимно обусловливая друг друга; они встречаются, сливаясь в сердце, или становятся друг другу поперек дороги.
XXVI.
Существует множество еще неизведанных наслаждений, и человечеству суждено открывать их по мере движения его вперед в деле нравственного образования.
XXVII.
Первыми источниками наслаждений оказываются, во-первых: сознание их твердой цели, так или иначе связанной с порядком мироздания; во-вторых – содействие в делах человека, или первобытных его способностей, или вытекающих из них второстепенных свойств.
XXVIII.
Наслаждение, происходящее из первого источника, обусловливается удовлетворением потребности, необходимо связанной с физической или гражданской жизнью человека: с питьем его или пищей, любовью его или ненавистью, стремлениями честолюбия и т. п.
XXIX.
Из второго источника вытекают наслаждения, вызванные щекотанием, чувством смешного, звуками музыки и т. п.
XXX.
Для объяснения различия, существующего между первым и вторым, упомянутым выше, источником наслаждения, приведу примеры тому и другому. Построив машину, механик наслаждается сознанием ее целесообразности. Любуясь, он начинает замечать, что пружины ее и колеса производят звук, не лишенный приятности, и механик начинает наслаждаться этим новым свойством машины, которая вовсе не была построена с музыкальной целью. Первое наслаждение механика было, таким образом, источником первого порядка, а второе – второстепенного ряда приятных проявлений.
XXXI.
Наслаждение почти всегда увеличивается, когда мы облекаем его в слово, или когда оно отражается, при его посредстве, в сознании многих личностей.
XXXII.
Каждое существо, способное чувствовать, способно и к наслаждению.
XXXIII.
Удовольствия, легко добываемые и доступные каждому, исчерпываясь частым употреблением их во зло, ослабляют силы и души, и тела.
XXXIV.
Животное наталкивается на наслаждение случаем; только человек разыскивает его.
XXXV.
С трудом добываемые труднодоступные наслаждения, обостряют способности людей, пользующихся ими.
XXXVI.
Нравственная сторона удовольствий заключается в искусстве правильно пользоваться наслаждением, направляя его к пользе общественной.
XXXVII.
Безнравственным бывает употребление этого искусства во зло, т. е. в пользу единицы и в ущерб обществу.
XXXVIII.
Религия освящает искусство наслаждений. Она учит людей терпеливо сносить жизненные невзгоды ради достижения вечных благ и вечных наслаждений; она велит платить в настоящем должную дань страданию, чтобы насладиться затем уверенностью в будущем блаженстве.
XXXIX.
Следовательно, как нравственность, так и религия освящают одобрением своим правильно понятое искусство наслаждений.
XL.
Чем благороднее те наслаждения, к которым стремится человек, тем способнее становится он пользоваться высшими наслаждениями.
XLI.
Наслаждение добродетелью и самопожертвованием – это векселя на будущее благо жизни.
XLII.
Низшие наслаждения убивают самую способность наслаждения.
XLIII.
Степень виновности порочных наслаждений всегда соразмерна следующему за ними раскаянию.
XLIV.
Вечная забота людей о доставлении себе наслаждений приводит к утонченному беспутству; отыскивание наслаждений своих в высших областях умственного мира составляет самый краткий и самый верный путь к достижению счастья.
XLV.
Изыскания эдонтологии и книги, рассуждающие о нравственности, должны бы со временем иметь одинаковое значение.
XLVI.
Наслаждения, безобидные для прочих людей, не всегда отвечают идеалам нравственности. Принадлежа к человеческой семье, мы не властны суживать или разрушать капиталы, составляющие общественную собственность, ради прибавления стоимости собственной особы нашей.
XLVII.
Различны виды образованности, разнообразны театральные наряды; но основание всякой образованности, в прошедшем, настоящем и будущем, сводится к известной формуле: «Наслаждайся и способствуй наслаждению других».
XLVIII.
Личности, рассчитывающие на тупость людскую, ставят по пути к счастью горы пустословия, надеясь заградить ими путь к блаженству.
XLIX.
Следуя примеру Христа и велениям совести, мы должны разрушать баррикады, настроенные по пути человечества, людским невежеством и лживостью, разметая грязь, накопившуюся на пути нашем к нравственному наслаждению, этой первой и конечной цели, для которой сотворен человек.
L.
Идеальный тип нравственного совершенства состоит в утолении на земли боли и страдания и во всевозможном распространении наслаждения, посреди всех людей, нарождающихся в подлунном мире. Все остальное – только бред бессильно шатающихся теней.