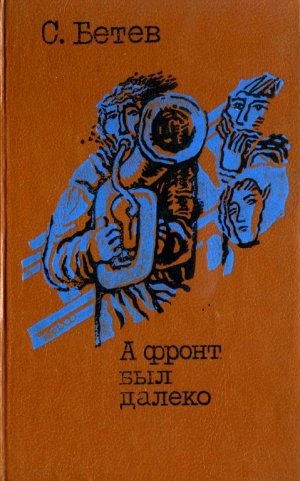
Эта книга, объединившая в себе несколько повестей о маленьком уральском пристанционном поселке, расскажет читателю о тяжелых годах военных испытаний, о тыловых буднях, о готовности людей к каждодневному и великому подвигу, о первозданной, глубинной доброте и самопожертвовании, без которых не было бы Победы.
Своя звезда
1
Когда я был парнишкой, в моем представлении мир состоял из двух половин: понятной и непонятной.
Скажем, наша станция Купавина. Сколько поездов мимо нас проезжало! А пассажиров!
И командиры с петлицами, и моряки с лентами, и городские инженеры в шляпах, и женщины не простые, а в туфлях на высоких каблуках. Говорили — артистки они.
И никто из них не знал, почему наша станция называется Купавиной.
А я знал.
В полверсте от станции было болото. Поздней весной, когда уж везде отходил цвет, я убегал туда перед восходом солнца. Останавливался на берегу. По спине мурашки бегают: не то от страха, не то от ознобистого утренника. А с болота, скрытого толстой кошмой тумана, тянет теплом.
Тишина стоит мертвая. Жутко.
Но высветлеет край неба, и туман лениво отстает от воды, сворачивается в валки. Потом вытягивается в длинные косы и уползает за осоку в камыши.
Тут и брызгает из-за леса первый луч солнца. А за ним другой, третий… Перепуганные водомеры бросаются спросонок в разные стороны, словно нитками пересекают чистины. Сгладится их след, и тяжелая вода, настоянная за ночь на купоросной зелени, засветится неярким сиянием.
Раньше всех на болоте просыпалась старая лягушка. Она долго ворчала. Видно, совестно ей было, что до свету не поднялась и другие из-за нее проспали.
Ох и боялись ее все остальные!
Из-за лягушачьего переполоха я никогда не мог уследить, откуда появлялись трясогузки. Глядишь, они уже стреляют с кочки на кочку, стригут хвостами.
Да и не до них мне было.
Я смотрел на буро-зеленые островки, поодиночке и стайками уплывающие по чистинам в болотную даль. И когда солнце начинало пригревать, замечал, как на одном из них вспыхивал желтый огонек. Сначала один. Потом другой…
Я скидывал штаны. Осторожно ступал в болото и, все глубже погружаясь в воду, шел навстречу желтым огням. Давным-давно, когда я боялся бродить по кочковатой топи, мне казалось, что это солнышко осыпает свой цвет в наше болото. А сейчас забирался в самую середину плавучего островка, выбирал спелую маковку и смотрел, как она, обласканная теплом, отворяет зеленые покрышки и расправляет тонкое золото своих лепестков. Я заглядывал внутрь и видел там дымчатую каплю воды, похожую на те, что остаются после умывания на щеках у моей сестренки Насти.
Купавки!
Проезжие называли их кувшинками, а то и вовсе — лилиями. Но нашенские-то знали, что это купавки! Потому что если бы не так, то нашу станцию никто и не назвал бы Купавиной.
С полной охапкой купавок я спешил на станцию.
Когда останавливался скорый, меня обступали со всех сторон и наперебой просили продать цветы. А я дарил их. И объяснял в придачу, почему наша станция называется Купавиной. Я так увлекался своим рассказом, что стоял, как петух, на одной ноге, поджав другую от волнения.
Мои купавки нравились всем. Меня хвалили, говорили, что я умный и хороший. И даже угощали конфетами.
…Понятная половина мира делала меня большим, сильным и щедрым.
Но была другая.
Когда я сталкивался с ней, то замолкал и терялся. Иногда спрашивал про нее у мамы, но все равно ничего не понимал. Тогда я уходил к сараю, где стояла конура нашей Жальмы. Брал в руки слепого щенка, гладил его и рассказывал про непонятное.
…С утра хромой конюх Степан один-одинешенек поехал за сеном. А вечером, когда заехал в ограду, на возу рядом с ним сидела незнакомая девка. Звали ее Анисьей. На сенокос она убежала из деревни Грязнушки, где жила по сиротству у тетки. Тетка была лютая.
Степан привез Анисью в жены. Рассказал он про все это, пока слезал с воза.
— У каждого — своя звезда, — сказала наша мама и пошла доить корову.
— Какая звезда? — спросил я, догнав ее.
— Своя, говорю, у каждого. Понятно?
— Непонятно.
— Вырастешь — поймешь.
И ушла.
…Я просидел у конуры до самой ночи. В небе зажглись первые звезды. Я глядел на них на все по очереди. Ни одна из них не походила на смирную конопатую Анисью, которую нашел на сенокосе Степан.
«Вот и отгадай, какая у него звезда!» — подумал я и побрел в дом.
А через год, когда у Степана с Анисьей родилась Манька, у нас на путейской казарме стряслась беда.
Путевой обходчик Петро Спирин не пришел с ночного дежурства. Через час его нашли на сто третьем километре. Сначала нашли самого Петра, а шагов через десять — его голову.
Поездом зарезало.
Петра привезли домой в большом брезентовом мешке. Жена Петра — Елизавета — только охнула и ткнулась головой в мешок. Четверо Спириных ребят стояли молчком тут же.
Наша мама в сторонке вытирала фартуком слезы. А когда Елизавета отошла дыхом и завыла, мама сказала, как в прошлом году:
— У каждого — своя звезда.
— Чего? — спросил я.
— Ничего. Не ори, говорю.
В тот вечер я опять сидел под сараем у конуры.
На небе не зажглась ни одна звездочка. Собирался дождь. Да и мне не больно-то хотелось без толку задирать голову.
«Ну, какая звезда может быть у Петра, если ему голову отрезало? И на что звезды спириным ребятам, раз теперь нет у них отца?..»
Щенок тыкался мне в живот холодным носом и скулил.
Дома, когда отец разговаривал с мамой про Петровы казенные похороны да про пенсию, я не стал спрашивать про звезду. «Все это — вранье».
Я с головой залез под одеяло. Но уснуть не мог. Думал, что раз звезда есть у каждого, значит, у меня она тоже должна быть. И мне стало так жалко себя, что слезы сами запросились из глаз.
…Непонятная половина мира делала меня маленьким и слабым.
2
На Купавиной все знали всех.
И про все.
И кто где родился, и у кого в деревне свой дом, и кто крадче крестил ребятишек, и кто из мужиков гуляет, и у кого баба бесплодная, и кто скупой, и кто партийный, и кто в бога верует, и у кого где живет родня.
Все знали. И по секрету про все говорили.
А в нынешнюю весну ни про кого столько разговоров не было, сколько про Ленку Заярову.
У Заяровых этих все перепутано было. Ленкин отец — Макар — пришел на железную дорогу из той же самой Грязнушки, из которой убежала Степанова жена Анисья. А женился где-то в Крыму, на гражданской войне. Приехал в свою деревню с готовой бабой. У них и свадьбы не было. С той поры и в деревне, а потом и на Купавиной звали Заяровых хохлами. Потому что все станционные бабы говорили «че», а Макара Заярова жена — Мария — «шо».
И Ленку тоже звали хохлушкой.
Но она была хорошая. Мне она больше всех девчонок нравилась.
Сойдутся бабы у колонки — разговор про Ленку. Макар мимо мужиков пройдет — и те начинают про нее же судить.
Сначала я думал, что это просто так.
Ленка училась в городе и на зиму уезжала туда к родне. (На Купавиной семилетка была, да и то до последнего класса только пятеро или шестеро доходили.) А когда человека всю зиму дома нет, да потом он приедет, конечно, о нем говорить будут. Тем более про Ленку: до нее у нас еще никто из станционных десятилетки не заканчивал.
Говорили много. А выходило одно: до Ленки Заяровой на Купавиной не бывало такой красавицы.
И еще: доискивались причины, отчего она выросла наособицу. Одни бабы объясняли, что это от городского воздуха и что у Ленки вовсе не красота, а скрытая худоба — оттого лицо и загара не принимает. Другие приходили на Ленкину мать, будто ее кровь отцову перебила. А самые долгоязыкие брякали по задворкам, что она помадами мажется. Иначе вроде человек с лица перемениться не может, а Ленка еще три года назад была такой же, как все станционные девки.
Вот какой зловредный народ находился!
Но я понимал, что все эти разговоры про Ленку — брехня.
…На нашем болоте был сухой островок шириной шага в три, а в длину не больше пяти. По краям его затянуло осокой, на него никто не мог попасть, не изрезавшись. А я знал потайную тропу. Когда немного спадала вода, я забирался на островок и целый день лежал там на солнце. Солнышко греет, а не жарко, потому что кругом вода.
На островке, рядом с кустом смородинника, росла березка. Я заметил ее сразу, когда нашел островок года три назад. Совсем маленькая, она не доходила мне даже до пояса. Ствол у нее был красный, без сучков и липкий. Да и росла она не ровно, а изогнувшись. Жалел я ее, одну-одинешеньку: заблудилась вот, металась навечно среди болота. Боялся я, что ветер ее сломит или град побьет.
Но выжила березка.
Я и не приметил, когда она успела вытянуться над смородиной да еще и перегнать меня по росту.
Нынче долго держалась большая вода.
Пробрался я на свой островок поздно.
Да так и остановился!
Березка выпрямилась и стала еще выше. Ствол ее совсем затвердел и выбелился так гладко, что отсвечивал, будто обернули его лощеной бумагой. Ветки, которые в прошлом году зелеными остались, побурели, и молодые листочки на них подобрались, как один, пристроились друг к дружке густо-густо.
Я стоял и смотрел на березку.
Вдруг листья на ней дрогнули, зашелестели упруго. Да не сухо, по-осеннему, а горячей скороговоркой, шепотом, как живые. Это ветерок невзначай задел березку. Она ответила ему что-то свое и затихла, гордая и сильная.
Я лег на спину и стал глядеть в небо, где едва-едва перекатывались из края в край редкие кучки облаков. Небо было голубое-голубое, бездонное и без берегов. Наверное, оттого, что росла моя березка здесь, на свету и просторе, стала она такой красавицей, какой я сроду не видывал в лесу.
Там, в густоте, посреди гнилого валежника да листвяной прели, березы как-то сразу опускали косы. Кора на них коробилась, ветви опутывала паутина. Казалось, не знали они молодости, а всегда были старыми.
Целый день пролежал я на островке возле березки. Думал, что снова буду встречать поезда и дарить людям цветы, мои купавки. Но если бы кто-нибудь попросил березку, я ни в жизнь не отдал бы ее. Потому что купавок много. Да и хватает их ненадолго. А березка у меня одна. Я сам ее нашел.
…В нынешнюю весну, когда Ленка Заярова окончила десятилетку, я перешел в пятый класс. Я любил Ленку. С первого класса любил. Ленка всегда была лучше всех.
Если бы станционные поменьше сплетничали, а побольше знали…
В прошлом году мы встретились с Ленкой на болоте. Я выбрал самые большие купавки и отдал ей.
— Ой, Санечка! — обрадовалась она. — Какой ты милый!
И обняла меня, как маленького, прижала мою голову к груди.
Я сразу забыл все слова.
— Спасибо тебе, Саня, — сказала еще на прощание.
А я стоял перед ней и хлопал глазами…
Нынче я специально караулил Ленку на болоте. Каждое утро приготавливал самые лучшие купавки.
И вот Ленка пришла.
Я подбежал, взглянул на нее, и язык у меня отнялся. А Ленка улыбнулась мне, вздохнула как-то по-особому, и кофточка белая на ней в обтяжку стала. Я подумал, что, если она обнимет меня, как тогда, я умру на месте.
— Здравствуй, Саня! — сказала Ленка и протянула мне обе руки.
Я вывалил ей всю ношу купавок. В горле у меня застряло.
— Бери все, — едва выдавил я.
И убежал.
Потом я лежал на своем островке. И думал: какие же дуры станционные бабы. Все-то они проглядели. И ничего-то они не понимают.
Но что я мог поделать?!
Ленка окончила десятилетку, а я только перешел в пятый.
3
Когда Степан привез с сенокоса Анисью, она была смирная. А сейчас, когда двоих родила да обжилась в Купавиной, во все лезет.
Вчера, когда мы с мамой шли окучивать картошку, она остановила нас — и давай, и давай:
— Что я тебе скажу, Семеновна!.. Была я в бане, Ленку Заярову видела, руками хлопнула. И какая она статная да красивая! Страсть сказать. Глаз отвести моготы нет. Диву даюсь: за одну зиму выгулялась в невесты!
«Выдернуть бы тебе язык, — думал я. — Деревня! «Выгулялась!..» Как про корову».
— Неужто в девках оставят? Сказывают, осенью опять в город, — квакала Анисья. — Так и завянуть можно. Маменька моя, покойная головушка, говаривала: девке пору пропустить — счастья не видывать.
Я дергал маму за руку, хотел увести прочь. Я ненавидел Анисью. Слова ее жгли мне щеки, казались грязными, как болотная тина.
Целый день я не разгибал спины и срубил тяпкой несколько картофельных гнезд. Рядки получались кривые, и мама ворчала. Я начинал стараться, но у меня выходило еще хуже.
Когда дошли до межи, мама села на траву.
— Ослаб ты что-то, работничек. Давай-ка обедать.
Я запивал хлеб молоком и глядел в сторону. Голова гудела. «Искупаться бы сейчас — в самый раз».
Мама молчала. Только я заметил, что поглядывает она на меня беспокойно, будто я захворал.
— Голова болит? — спросила она и сразу посоветовала: — Долго в наклон не ходи. Отдыхай почаще: кровь к голове не будет приливать.
— А почему Анисья такая бессовестная? — не утерпел и спросил я.
— Ты что это вдруг?
— В баню ходит, подглядывает за всеми…
— Откуда ты взял?
— А про Ленку Заярову? Забыла? Как про корову: «Выгулялась!» — зло передразнил я Анисью.
— Не твое это дело. Про любую невесту говорят.
— Какая она невеста, Ленка-то? — спросил я недовольно.
— Очень даже хорошая. Все женихи на станции на нее одну и зарятся.
— Не невеста она, — упрямо заключил я.
— А кто же?
— Девка. И все.
— Откуда же бабы берутся?
— Не знаю. Мне наплевать.
Я поднялся, взял тяпку и ушел на дальний край огорода. Хорошо, что я так сделал: только заехал, сразу, как серпом, и пластанул первый же куст. Такая паршивая тяпка попалась.
Едва дождался я конца работы. А все равно легче не стало.
Мы уже подходили к дому, когда встретили Варвару Ивановну — жену нашего дорожного мастера Полозова. Она мне нравилась: книжки давала читать и никогда попусту не разговаривала.
А тут вдруг вспомнила Ленку.
— Вот Заяровы и дождались, — сказала она. — Бояркины собираются сватать Ленку за своего Кольку.
— Что вы?! — удивилась мама.
— Сама Бояркина объявила сегодня в магазине.
— Подумать только!
— Неужели отдадут? Учили, учили, и так…
Она не договорила.
Я знал Кольку Бояркина. Работал он в вагонном участке. Здоровый такой и красивый, только руки большие и волосатые. Жили Бояркины в своем доме. Про них говорили, что они богатые.
Если бы про сватовство сказала не Варвара Ивановна, я не поверил бы, конечно.
Настроение у меня совсем испортилось.
Дома я выхлопал штаны, умылся, надел чистую рубаху и побежал к ребятам.
Мы сидели кучей на бревнах возле конторы связи, когда кто-то из парней сказал:
— Глядите, Заяриха-невеста идет!..
Я поднял голову и увидел Ленку. Она шла посередине дороги. На Ленке была та же белая кофточка, в которой она встретила меня на болоте, и темная юбка. Вместо пояса талию туго охватывал лаковый ремешок с модной пряжкой. А главное — шла она в туфлях на высоких каблуках!
Куда там до Ленки проезжим артисткам!
Ступала Ленка легко, будто в каблучках у нее пружинки вставлены. И вся она вроде бы выросла. Голову несла высоко.
Станционные девки волосы зачесывали гладко, по-бабьи, словно их телята лизали. Да еще ленточек в косы позаплетают, а у кого нет — так и тесемки. А Ленка, будто назло всем, косы не заплела, а волосы чуть подрезала. Они перепутались немного и витым хмелем падали ей на плечи и спину. Ленкино лицо в сумерках казалось белым. Я знал, что с улыбкой у нее пробивается румянец и сразу же сходит. Брови темные, в широкий разлет, как два крыла. А глаза ласковые. И вся она — Ленка — ласковая.
Даже шла по-своему. Не давила пятками, а ставила ноги вежливо, словно не по дороге шла, а по дощечке через ручей.
Конечно, от завидок лопаются наши бабы.
Отчего еще?
Ленка даже не посмотрела на нас. Больно ей надо на всех смотреть!
Подождав, пока Ленка отойдет подальше, я предложил ребятам:
— Сбегаем в клуб, узнаем, какое завтра кино.
Но идти со мной никто не захотел. Кино привозили два раза в неделю. Все знали, что завтра пустой день.
Я пошел один.
Клуб помещался в большом бараке с широкой, в три доски, завалиной. На завалине сидело девок штук пять. Перед ними стояла Ленка.
Я задержался возле афиши.
— Ну какой интерес в такой духоте шататься? — не то спрашивала, не то укоряла Ленка девчат. — Вода в Каменушке сейчас теплая. А про Каменную Пасть все врут. Я первая в воду пойду.
Девчонки мялись.
— Решайте, а то одна побегу.
— Пока дойдем, совсем стемнеет, — сказала какая-то из них.
— Ну и что?
И в самом деле наступали сумерки. Я знал, что Ленка от своего слова не отступит. А ну как с ней что случится?
Незаметно отойдя от клуба, я бросился бежать.
Речка Каменушка протекала под железнодорожным мостом за семафором недалеко от станции и была мелкая: брюхом на дно ляжешь — спину видно. А через три километра, в лесу, она делала загогулину, упиралась в высоченный обрыв, разливалась и отворачивала в сторону. В извороте получался мыс. Камни на нем отступали от воды, как будто сгрудил их кто, очистив ровный песчаный берег. Песок как манная крупа.
Напротив мыса и стояла, загораживая полнеба, обрывистая скала. Шириной она была метров сорок, а в высоту — и не узнать сколько. Ели, которые карабкались по ней с боков, казались не больше стерни на поле. Больно страшная была эта скала.
У самой воды каменный обрыв утягивал брюхо в себя, и речка подтекала под него.
Может, конечно, врали, но говорили, что там затягивает под воду. Болтали по-разному: кто клялся, что в скале есть скрытая дыра, а кто божился, что там живет водяной. Оттого скала эта и называлась Каменной Пастью.
Мы не боялись тут купаться, конечно. Но в Пасть не плавали: просто неохота было.
А на песчаный мыс попадали так: переходили Каменушку вброд повыше, шагов за двести, а потом берегом шли к песку.
…Я бежал на Каменную Пасть.
Чтобы дух не захватило, останавливался ненадолго. А потом бежал и бежал.
Добрался в темноте.
Нашел место посреди камней и залег. Поглядел на высокий обрыв, и мне даже боязно стало. Уж больно черным да большим сделался он в темноте. Хорошо, что месяц выплыл из-за тучки. Он осветил скалу и все вокруг.
Серая и грязная днем, Каменная Пасть стала сейчас синеватой и как будто светлыми жилками проросла. Даже не верилось, что она из камня, потому что едва заметно плыла куда-то в сторону…
Зато Каменушка, всегда светлая, стала будто чернильная. Особенно под скалой. Только выше по течению, где лежал галечный плес, она блестела, словно там на дне не простые гальки насыпаны, а сплошь гривенники новенькие.
Передо мной, у груды камней, в которой я спрятался, лежал белый песок, гладкий, как зубной порошок в коробке, когда ее откроешь.
И тут я услышал Ленкин голос. Она шла по берегу и пела. Не слова, а так: «Ля-ля-ля! Ля-ля! Ля-ля!..»
В жар меня бросило. А щеки… будто меня в угли ткнули. Только сейчас я подумал, что Ленка-то ведь взаправду купаться будет! И тут же признался себе, что побежал сюда вовсе не спасать Ленку, а своими глазами увидеть ее, потому что злился на Анисью. И еще понял, что щеки мне жжет стыд.
Ленка шла по песку. Туфли она несла в руках, а босыми ногами оставляла на песке следы.
Я стыдил себя, обзывал самыми последними словами. Конечно, можно было потихоньку уползти, а потом убежать. Но я, наверное, на самом деле потерял совесть, потому что на меня ничего не действовало. Только колотило всего, даже зубы чакали. Я сжал их, вцепился руками в камни и не двигался.
Ленка перестала петь.
Она скрестила над головой руки, взмахнула ими, и кофточка ее, на мгновение задержавшись над головой, упала на песок. Потом коснулась пояса — и темная юбка скользнула вниз… Я увидел ее.
Я всегда знал, что Ленка красивее всех. А вышло, что вовсе ничего и не знал.
Сердце у меня билось. Больше всего в эту минуту я боялся, что Ленка вдруг обернется и увидит меня. Но она не обернулась.
Вышагнув из юбки, она тихонько пошла в воду. Медленно-медленно, словно скользила под водой, брела она в глубину. Заходила в реку наискось, навстречу течению.
— Подлец… Бесстыдник… — шептал во мне чужой голос, а сам я не мигая глядел на Ленку.
И вот уж только грудь Ленкина белела над водой да шея…
Каменная гора качнулась, все поплыло у меня перед глазами.
…Когда я опомнился, Ленки не было.
Я стал искать ее глазами и чуть не вскрикнул: Ленка плавала в самой Каменной Пасти! Она взмахивала рукой, словно касалась мокрой холодной стены.
И ни разу Каменушка не всплеснулась возле нее.
…Я видел потом, как Ленка выходила из воды, роняя с плеч светлые капли, как склонилась над своим бельем.
Когда она выпрямилась, мокрая кожа ее белела, как кора молоденькой березки.
А потом на песке рядом со стежкой старых следов легла еще одна.
Уже далеко-далеко за моей спиной слышался голос: «Ля-ля, ля-ля! Ля-ля-ля!..»
А я все шептал:
— Дура Анисья! Дура Анисья! Дура Анисья!..
Сердце у меня билось часто-часто. Но не от страха.
Теперь я не боялся, что Ленка увидит меня.
Я вылез на самый верх, где лежал большой плоский валун, и лег на него.
Мне даже не было стыдно уже.
Я смотрел в небо, искал звезды и спрашивал у них по очереди:
— Моя?!
И слышал:
— Не твоя.
Потом находил новую:
— Моя?!
— Не твоя.
— Моя?!
— Не твоя…
Своей звезды на небе я не нашел.
Я вскочил на ноги.
Передо мной плыла по синему небу Каменная Пасть, вся глыба утеса, совсем не страшная, совсем не холодная.
— А где моя звезда? — спросил я.
— А-а-а… — ответила гора эхом.
— Ленка — моя звезда! — крикнул я изо всей силы. — Понятно?!
— О-о-о!..
Я бежал по лесу домой. Смеялся над кустами, похожими в темноте на чертей. Перепрыгивал с разбегу тени, неожиданно перегораживающие поляны.
И не смотрел, правильно ли иду, хотя давно потерял тропу.
Я ничего не боялся!
4
Доболтались наши станционные: все по носу получили.
Целый день отец и мать Бояркины вместе с Колькой просидели у Заяровых. Набрали водки и пришли сватать Ленку.
Макар Заяров, и всегда-то не шибко говорливый, сразу отсек:
— Я лично советую Елене учиться. А по другим линиям пусть решает сама.
Партийный он был, Макар Заяров-то.
Но Бояркины тоже упрямые. Ленки дома нет, а они хоть бы что: сватаются и сватаются.
Макар не вытерпел и ушел. Ленкина мать одна против всех осталась. Разговаривала да закуску подавала, потому что выгнать нельзя: все-таки люди не ругаться пришли.
Макар вернулся, а сваты еще сидят.
— Ну, вот что, — сказал тогда Макар, — давайте шабашить. Женитьба — дело полюбовное. Пора застигнет — без нас устроится. — Да и спросил Кольку напрямки: — Ты, женишок, с Еленой-то рассуждал по этому вопросу?
Колька залился краской.
— Нет еще, дядя Макар.
— Тогда ни к чему и водку переводить, — заключил Макар. — Прощайте.
И подались Бояркины веревочкой домой.
Первой мать шла, за ней отец, а позади всех — Колька. По станции он всегда как гоголь вышагивал. А тут его как подменили: шел — озирался, будто только из чужого огорода вылез, где ему в штаны крапивы натолкали. Не хотел, чтобы его люди видели.
Да разве на Купавиной что скроешь! Разговоров про Колькин позор на неделю хватило. А женихи совсем с ума сошли.
Идет Ленка вечером в клуб, а за ней хвост тянется. Возле палисадников идет Колька в новых хромовых сапогах, пиджак внакидку; по другую сторону улицы — сразу двое: помощники машинистов Васька Попов и Васька Петров — Поп с Петром по кличке. Отстанут от Ленки шагов на тридцать, головы отвернут, а все равно видно, куда глаза косят.
Да без толку: Ленка ни разу на них не поглядела. Я все видел.
…Летом на Купавиной почти каждый выходной проходили гулянья.
С утра станционные семьями отправлялись на стадион, к березовой роще. На футбол не смотрели, потому что первая и вторая команды «Локомотива» всем надоели. Да и знали заранее, что победит первая.
Главным образом на стадионе пили пиво, которое привозили в бочках из орса, целый день играли на гармошках и пели песни.
Единственную скамью вдоль футбольного поля каждый раз занимали мы, ребятня. В тот выходной, как только началась игра, на стадион пришла Ленка. Я знал, что она стоит позади, но не оглядывался: еще подумает что-нибудь. Поэтому и не заметил, когда подошел Колька Бояркин.
— А ну, орда! Кыш на землю! — вдруг раздался у нас за спиной его хрипловатый голос.
Мы с ребятами обернулись, но с мест не поднялись.
— Что, оглохли?
Мы видели: Колька выпивший, спорить с ним бесполезно. Уступили. Я смотрел, что будет дальше. А Колька широко повел рукой:
— Садись, Леночка.
Ленка усмехнулась, но на скамейку села. Колька примостился рядом. Только он уселся, по другой бок Ленки пристроились Поп с Петром. Колька покосился на них, придвинулся к Ленке и что-то сказал ей тихонько. Она взглянула на него с удивлением и стала смотреть игру.
Что было потом — не знаю. Только перед самым перерывом Ленка вдруг громко расхохоталась. Я увидел, что Колька красный, как пареная свекла, сидит возле нее и мнет в своих огромных ручищах папироску.
Поп с Петром важно глядели на игру.
— Нет, Коля, — услышал я. — Не смеши людей и не надейся. Пойди-ка лучше спать.
Ленка поднялась и, откинув волосы, направилась к девчонкам, кучкой стоявшим неподалеку. В это время заорали и засвистели. Тайм окончился.
Колька отошел в сторону, облокотился на жерди чьего-то огорода и закурил. Поп с Петром, посоветовавшись, двинулись к нему.
— Огонек есть, Коля? — вытаскивая папиросы, ласково осведомился Васька Петров.
Колька молча подал ему спички. Васька закурил. Выпустив клуб дыма, посочувствовал:
— Слышали, Коля, слышали… Отворот, значит?
— А тебе что?
Колька прищурил глаза. Они стали злыми. Оставив папиросу в зубах, он спрятал руки в карманы. Выпрямился.
— Да ничего, — довольно тянул Васька. — Рожа, выходит, не по циркулю у тебя.
— Может, твою подправить? — Колька перекинул папиросу во рту из угла в угол.
— Бесплатно это, Коля, — добродушно усмехнулся Васька. — Меня не столкнешь.
Васька Петров хоть и пониже Кольки, зато в плечах шире вдвое. Но Колька подошел к нему вплотную и прохрипел в глаза:
— Не стой на дороге, Вася. Хуже будет!
— Бесплатно это, Коля.
— Увидишь.
— Бесплатно, Коля, — с прежним добродушием тянул Васька.
«Хоть бы подрались! Хоть бы подрались!.. — с замиранием сердца думал я. — Как бы ему Васька съездил!»
Меня распирало от желания досадить Кольке еще больше, и, не сдержавшись, я почти крикнул:
— Что? Получил, жених?
Не успел я сделать и шага в сторону, как Колька обернулся и так смазал мне по носу, что у меня дыхание перехватило.
«Хоть бы кровь не побежала. Хоть бы кровь не побежала…» — молил я бога в беспомощности и не мог пошевелиться от боли.
Крови не было.
Поп с Петром даже не подумали заступиться за меня, на что я, откровенно говоря, рассчитывал. Они не торопясь отправились к пиву. А Колька, закурив новую папиросу, по-прежнему облокотился на жерди.
Я видел его огромные ручищи, жирные губы, мусолившие папиросу, и уже не чувствовал боли в переносице.
Отойдя в сторону, я пролез между жердями в огород, сел посреди разросшихся картофельных гнезд.
Палило солнце, кружилась голова, а я вспомнил ту ночь, когда Ленка купалась в Каменушке. Снова увидел ее в лунном свете такой, какой никто, кроме меня, не знал ее. Все понял я тогда: и что такое красота, и что такое любовь, и отчего люди бывают счастливыми, и почему за все это можно умереть. Я вновь пережил то, что стало моей самой большой и священной тайной.
И вдруг я увидел грабастые руки Кольки Бояркина. Представил, как он прикасается к Ленке, и у меня едва не вырвался стон.
Я поднял голову.
Колька по-прежнему стоял, облокотившись на изгородь. Его черный затылок торчал над белым воротом рубашки, выпущенным поверх пиджака. Колька дымил папироской.
Не помню, как я поднялся.
Не помню, как я пошел к Кольке.
Не помню, как вывернул по пути подсолнух с тяжелым, облепленным землей комлем.
Я смотрел только на Колькин затылок.
Когда, размахнувшись-изо всей силы, я ударил его, земля бисером брызнула во все стороны, резанула мне по глазам. Ничего не видя перед собой, я кинулся прочь, перепрыгивая через картофельные кусты. Только миновав огуречники и конюшни, оглянулся.
Погони не было.
Но Колька мог догнать меня, если бы захотел. Поэтому за станцией я свернул к болоту.
На своем островке я перевел дух и, вытянув руку с кукишем, крикнул:
— На-ка выкуси!
Потом я лежал возле березки и мечтал.
Я видел, как Колька, оглушенный ударом, с засыпанными глазами стоит ополоумевший возле изгороди. Слышал даже, как он матерится в бессильной ярости…
Я видел, как, очухавшись, он бросается за мной по огороду, но запутывается в ботве и растягивается на рыхлой земле…
Слышал, как хохочет весь стадион, и Ленка громче всех, когда Колька выплевывает изо рта землю…
Мне было нисколько не жалко, что сегодня не придется поиграть в футбол после матча. Что вечером нельзя показаться в клубе, где будет выступать гипнотизер из города.
Я лежал на своем островке и думал о том, что если бы сейчас меня встретила Ленка, то, наверное, обняла бы.
Не за купавки, а по-настоящему.
5
Несдобровать бы мне перед Колькой Бояркиным, да жизнь в Купавиной перевернулась за один день.
Как шальным ветром дунуло в то утро по станции:
— Митинг! На станции митинг!..
И, может быть, оттого что день был выходной, толпа, собравшаяся к высокому вокзальному крыльцу, казалась непривычно большой. Никто из нас и не думал, что на Купавиной живет столько народу.
Мужики, серьезные, как на работе, стояли возле крыльца, хмуро курили цигарки и редко переговаривались. Бабы, закусив концы платков, боязливо сгрудились позади.
Когда мы пробрались к крыльцу, говорил уже не партийный секретарь Завьялов, а дядя Ваня Кузнецов — самый наш знаменитый машинист, который с весны ушел на пенсию. В уральские края он приехал еще в гражданскую войну. Приехал на бронепоезде воевать с Колчаком, а потом и остался на всю жизнь в Купавиной.
— …Не первый раз нам стоять за себя и за нашу общую жизнь, — говорил дядя Ваня своим глуховатым голосом. — И приказа никакого ждать не надо. Так что, — он обернулся к Заярову, стоявшему возле перил, — пенсию свою я кончаю, пиши меня, Макар, в список добровольцев. Пойду воевать.
Больше речей никаких сказать не успели. Потому что враз заревели бабы. Зато мужики вроде бы вздохнули с облегчением, обступили Макара.
Я со страхом глядел по сторонам, потому что нигде не видел отца. «Куда он запропастился?..» Но только подумал так, как заметил его. Он пробирался через толпу. Потом легко вбежал на крыльцо и спросил весело:
— Не опоздал?
— В самый раз! — ответил ему дядя Ваня и пожал руку. Наш отец хоть и много моложе был, но воевал в гражданскую вместе с дядей Ваней.
Я выбрался из толпы и побежал домой.
— Мама! — закричал с порога. — Наш папа добровольцем записался!
— Добровольцем?..
Я видел, что она вовсе не обрадовалась. Мне даже показалось, что она ничего не поняла.
— Ну да, добровольцем! Пойдет на войну.
А мама не слышала меня.
Она села возле стола на табуретку и долго смотрела в окно, словно меня и не было рядом. И только когда вытерла глаза концом платка, я увидел, что она плачет.
Она все сильнее прижимала платок к глазам, плечи ее вздрогнули. Я подошел к ней, обнял, но она даже платка не отняла. Тихонько отступил.
Вышел на улицу.
«Вот она какая, война-то…»
Над Купавиной, как и вчера, висело горячее солнце. Как и вчера, понурая старая береза стояла посреди улицы, та же крапива росла у оград и куры как ни в чем не бывало искались в дорожной пыли.
Но дома плакала мама.
Я знал, что митинг давно закончился, и не понимал, куда подевались люди.
А потом увидел Ленку Заярову. Она шла под руку со своим отцом, прижавшись к его плечу. Они тихонько разговаривали, и Макар часто улыбался Ленке. Я долго провожал их взглядом. Ленка ростом вышла почти в отца. И шла она с ним, как ровня.
Меня же отец даже не подозвал, когда увидел на станции. Вроде со мной и поговорить нельзя серьезно. А мне так хотелось постоять с ним рядом, когда он записался добровольцем!
6
Будто вымерла Купавина.
На улицах — ни души. Соседи встретятся — не поговорят. А на станции мороженое перестали продавать: не привозят больше.
Не знаю, сколько бы времени так было, да через три дня объявили, что железнодорожников в добровольцы не возьмут: всем выдали бронь.
Но все равно разговоры теперь шли только про войну. Говорили тихо и тревожно, словно завтра придет она к нам. Записавшиеся в добровольцы ходили сердитые, ворчали на домашних да ругались по телефонам из-за броней с каким-то начальством.
Прогремело через станцию несколько воинских эшелонов. И хоть не останавливались они, даже скорости не сбавили, легче стало на душе.
А потом забурлила и Купавина!
С утра до вечера тянулись подводы с новобранцами. На привокзальной площади днем и ночью стояла сутолока, как на базаре. И купавинцы толклись там же, потому что каждый день находили родню или знакомых из деревень.
Иные новобранцы ночевали на телегах не одну ночь, пока дожидались своей очереди на погрузку.
А телеги — и стол, и дом.
С утра на них расстилали скатерти, развязывали узлы, разгружали корзины. Начинали последние проводы.
Мы ходили между подводами и завидовали тем, кто, может быть, через месяц приедет на фронт и успеет повоевать, пока германцев не разбили совсем.
Во всех концах площади наперебой ревели гармошки. Новобранцы выпили в магазине всю водку да, видно, прихватили самогонки. Потом начинали петь песни.
Гармонистов таскали с места на место, раздавали в стороны круг и пускались в пляс. Плясали до упаду, пока не засыпали на телегах мертвецким сном. Спали под палящим солнцем, потные и усталые. И даже во сне с их лиц не сходил не то испуг, не то удивление.
Но подавался на погрузку эшелон, и площадь затихала. Громко и резко врывались в тишину голоса военкомовских, словно кнутом хлестали по оцепеневшей толпе. Обалдевшие вконец, охрипшие от песен, новобранцы тупо сносили обнимки и причитания родни, торопились в свои команды.
Все устремлялось на перрон. Площадь пустела… На ней становилось так тихо, что было слышно, как хрумкают сено и овес понурые лошади.
Проходил час.
Паровозный гудок выдавливал из толпы последний протяжный стон.
А потом часами ползли по станционной улице безмолвные, осиротевшие телеги.
Когда провожали грязнушкинских, конюх Степан, прихватив с собой поллитровку, с утра подался на станцию. Опираясь на трость, подпрыгивая на здоровой ноге, он, как ушибленный воробей, скакал от одной подводы к другой, залихватски хлопал новобранцев по плечам, выпивал водки и лез целоваться.
К полудню он сел на одном месте и жаловался, едва ворочая языком:
— Эх, братцы родимые! Неужто усидел бы я в этом проклятом тылу, кабы — язвить ее в душу! — не распроклятая нога, а? Ить — свята икона! — у меня сызмалетства характер боевой, можно сказать — геройский! Разе здеся мое место? И должность моя небронированная: только бы и оказать себя перед людями! Да, судьба — холява… Выпьем, братцы, слеза душит… — Степан размазывал слезы грязной рукой и заливался навзрыд: — Кости свои хочу положить за Расею!..
И только недели через три затихла мобилизация.
Все чаще останавливались на Купавиной воинские эшелоны.
Вот это — другое дело! Никакого тебе беспорядка. Настоящие красноармейцы, настоящие командиры ехали. На этих можно надеяться.
Но когда я приходил домой и слушал радио, становилось опять тоскливо: наши все отступали и отступали.
И снова тянуло на вокзал, чтобы еще и еще посмотреть, что идут эшелоны на фронт.
7
А фронт был далеко.
И мы, купавинцы, толком про него ничего не знали. Слышали только по радио: отступают наши на заранее подготовленные позиции. Говорили еще, что немцы не сошлись с главными нашими силами.
Может быть, и вправду там, на западе, загодя сделали эти позиции, нарыли окопы да построили укрепления до самой Москвы. А где были раньше главные силы и откуда они шли на немцев, того и вовсе не знали.
«Сталин знает…»
Только война катилась перед нашими глазами пока в одну сторону: через Урал в Россию.
И новобранцев туда.
И эшелоны воинские туда.
Первый раз в жизни увидели целую эскадрилью самолетов — и она туда же.
А оттуда — ничего.
Каждый день ждали из-за Урала поездов. Прямо от людей хотели узнать: какая же она все-таки, война.
Купавина стала людной. Не только станционные собирались на вокзале. Приходили из деревень: кто в надежде своего увидеть, когда на фронт повезут, кто на станционный базар, кто просто — за рассказами.
А война явилась по-своему.
Километрах в пяти от Купавиной, на берегу Исети, в которую впадала наша Каменушка, построили перед самой войной дом отдыха «Металлург». Кто ехал туда отдыхать, сходил с поезда в Купавиной, а тут его ждал автобус.
В тот день на станцию подали сразу несколько автобусов и даже машину «Скорой помощи». Сразу все поняли: неспроста это.
Сначала попробовали расспросить обо всем шоферов, но толку добиться не могли.
Под вечер вся Купавина сошлась на вокзале.
И вот прибыл санитарный поезд.
Запыленный, с проклеенными бумажными полосами окнами, с большими красными крестами на боках, остановился он тихонько посреди безмолвного, запруженного людьми перрона. Даже паровоз не свистнул.
Только милиционер легонько отталкивал передних, негромко просил отойти «граждан» от вагонов к решетке станционного сада. Но его не слушали. Потому что был он наш, купавинский, а многим еще и родня, и никто его не боялся.
Из вагона в середине состава вышел высокий военный с двумя шпалами на петлицах. К нему со всего поезда сбегались санитарки, что-то спрашивали и убегали к своим вагонам.
Тут уж милиционер заорал на людей, как на чужих. А нас — ребятню — так прямо за ворот начал брать. Пришлось подчиниться.
И тогда показались первые носилки.
Сгружали их осторожно. Сначала поставили в тамбуре на пол. Стоявшие на перроне приняли их на плечи, потихоньку выдвинули, так же взяли другой конец, опустили после этого на землю и только потом, перехватившись, понесли, как положено.
Откуда-то из толпы полоснул бабий вой и сразу оборвался. Так и началось… Сколько ни было баб на перроне — все за платки взялись. И девки тоже, как будто и они что-то понимают.
Раненые лежали, будто неживые, потому что не шевелились даже. И только редко-редко кто из них поворачивал голову, и тогда все видели открытые глаза: усталые или взволнованные, но одинаково ни к кому не обращенные и обращенные ко всем сразу.
Я не чувствовал, как меня толкают, а только смотрел на каждого бойца, стараясь угадать, куда его ранило. Но раненых закрыли одеялами, и отгадать можно было только тогда, когда виднелась перевязанная голова или забинтованные, толстые, как бревна, руки и ноги.
Уже загустела темнота, и вдоль перрона зажглись на столбах редкие мутные лампочки, а по немой людской просеке несли и несли носилки с покалеченными людскими жизнями.
…С грохотом влетел на станцию тяжелый воинский эшелон с орудиями. С лязгом затормозил и остановился на втором пути, за санитарным.
Из-под вагонов полезли на перрон солдаты, совсем не похожие на первых, из тех воинских частей, которые промахнули через Купавину в первые дни войны. Гимнастерки на солдатах висели мешками, словно с чужого плеча, да и затянуты они были ремнями не настоящими, а брезентовыми, одеты не в сапоги, а в ботинки с обмотками. С котелками и ведрами в руках они останавливались перед носилками, словно боялись перебежать им дорогу.
Серая тень пала на их лица, ставшие сразу напряженными. С застывшей во взглядах тревогой провожали они каждые носилки, будто под грубыми суконными одеялами скрыты были их собственные судьбы, по-страшному разные и одинаково тяжелые.
Так без кипятка и вернулись они в свои вагоны.
А когда свистнул паровоз и дернул состав, стащили со стриженых голов пилотки…
Другое время наступило для Купавиной.
В старый, заросший полынью железнодорожный тупик, где и рельсы-то давным-давно заржавели, затолкнули строительный поезд. Сошли с платформы тракторы и экскаваторы, переворотили за станцией огороды, уже затяжелевшие урожаем, стали насыпать новое полотно: к десяти старым путям прибавлять еще десять.
Никогда еще на Купавиной не было так тесно от поездов и людей. День и ночь гудел, шевелился вокзал. Теперь эшелоны шли напроход редко. Их скапливалось на станции по три, четыре, пять! Навстречу им ползли санитарные поезда, составы с машинами и станками, по нескольку дней ожидали отправки эшелоны с беженцами.
Солдаты, небритые, грязные, помятые, голодные, бегали по домам, выменивая на белье и мыло хлеб с картошкой. Счастливцам удавалось доставать водку. И тогда, подвеселевшие, на время заглушившие в себе тягостное ожидание встречи с войной, они становились простыми парнями с чистыми и добрыми глазами, улыбчивыми и доверчивыми. Они храбрели даже в разговорах о фронте, о котором сами ничего не знали. Им нравились все девчонки. Солдаты бойчились, хвастались, чтобы завоевать их симпатии, и, если получался задушевный разговор, честно клялись приехать с войны только сюда, только в Купавину.
Слова их западали в самую глубину девичьих душ, нередко натосковавшихся по любви, а еще чаще — уже уставших от собственной разлуки и тревожных ожиданий, которым не видно конца. И случалось, доброта и жалость к солдату оборачивались для девок слабостью, доверчивая ласка — скорой уступчивостью.
И не надо было для этого лунной теплой ночи, тихого густого леска, устланной цветами поляны под звездным небом.
Шинель да земля.
…Солдатам командовали залезать в вагоны. А на Купавиной или в деревне поблизости оставались в слезах девки, которые будущей весной потеряют доброе имя, не получив за свою любовь даже звания солдаток.
Молва состарит их потом раньше времени.
А если солдат и вернется, не с кого будет спросить ему за свою любовь.
Спишется все на войну.
…С июля купавинцам выдали заборные книжки: тридцать дней в месяце — тридцать талонов в книжке. Придет день — выдадут на него хлеб. И все продукты — тоже по норме.
В магазин стали ходить не покупать, а смотреть. Правда, сначала удавалось поживиться в станционном буфете, где для беженцев варили жидкий мучной суп. Иногда мы, ребятишки, подстраивались в их очередь с ведром и доставали супу на всю семью.
В один из августовских дней сошлось на Купавиной шесть воинских эшелонов и два — с эвакуированными. Тысячи солдат, истерзанных дорогой, и сотни стариков, женщин и детей, оглушенных бомбежками. Людское месиво перекатывалось по перрону, выплескивалось на улицу станционного поселка. Возле магазина вытянулся полукилометровый хвост беженцев. Выдавали селедку.
Задние терпеливо ждали. А впереди, у прилавка, ругались и кричали.
Сухого, с разлохмаченными рыжими волосами старика вытолкнули из очереди. Красный от обиды, он орал на кого-то:
— Махал ты! Махал!..
— На каком это он языке? — спросил я Ваньку Казакова, нашего соседа.
— Не знаю. На татарский не похоже вроде…
От старика столь же крикливо — не разберешь ни одного слова — отругивалось сразу несколько человек. Но он упорно взвизгивал:
— Махал! Махал!..
— Может, он цыган? — спросил я Ваньку.
— Рыжих цыган нету.
— Сам ты махал! — услышали мы насмешливое из очереди.
— Да он ругается! — радостно заорал Ванька. — Это он по-своему «нахал» говорит. Заместо матерка!..
Продавщица через головы стоящих у прилавка протянула старику две селедки. Он схватил их, отдал деньги и, сгорбленный, уставший, побрел от магазина.
Всю дорогу он честил неизвестно кого. А на перроне, в толкучке, вдруг выронил одну селедку, поднял ее и заругался еще громче.
— Досада какая! — посочувствовал ему молоденький лейтенант. Он протянул газету: — Заверните, папаша.
— Селедка — это ерунда! — вдруг зло крикнул в ответ старик. — Если бы вы не стояли тут зря, — он ткнул крючковатым пальцем в сторону воинского эшелона, — нам не надо было бы ехать сюда за этой прекрасной селедкой. Да!
И он потряс перед носом лейтенанта селедочным хвостом.
— Не надо нервничать, папаша, — краснея, вежливо сказал лейтенант.
— Что?! — взвился старик.
Лейтенанту бы уйти от него, но их уже окружила толпа.
— Ты, сопляк! — брызгал слюной старик. — Вы слышите, что он говорит!.. Не надо нервничать!.. А почему вы тут стоите? Кто должен за вас воевать? Ты знаешь, что делается там?! Там нас убивают!.. А ты стоишь здесь и целый день даешь мне советы! Вы трусы!
Тоненький побелевший лейтенант онемело стоял перед ним, только ресницы его, длинные и черные, вздрагивали, как от удара, при каждом выкрике старика.
— Будьте вы прокляты! — задохнулся на последнем слове старик.
Глаза его остекленели, в уголках век дрожали слезы. Не глядя ни на кого, несчастный, придавленный своим горем, он поплелся вдоль эшелона.
Кольцо любопытных, жадных до скандалов людей разомкнулось и смешалось с общей массой народа.
А лейтенант, как оглушенный, стоял посреди толпы.
И тут я увидел Ленку.
Она подошла к нему сзади. Глаза ее были широко распахнуты, на щеках густо алел румянец. Ленка несмело положила ему на плечо руку и, когда он повернулся, сказала:
— Не виноваты вы. Все ведь понимают: пробка на станции.
— Спасибо.
Так они и стояли друг перед другом, не зная, что говорить дальше. И только потом лейтенант улыбнулся, глаза его благодарно засветились.
— Знаете, как хочется быстрее туда…
— Знаю.
И они опять замолчали.
Тут как раз объявили отправку эшелона с эвакуированными. На перроне поднялась такая суматоха, что если бы не лейтенант, Ленку бы с ног сбили.
Я совсем потерял их из виду.
Только после отправки эшелона, когда стало посвободнее, я снова увидел их. Они ходили по самой середине перрона, на виду у всех. Ленка даже взяла его под руку, как отца в первый день войны после митинга, так же наклонилась к его плечу и смотрела ему в глаза. Он что-то рассказывал ей, держа в руках сложенную пилотку. И если бы не военная форма лейтенанта, я подумал бы, что Ленка встретилась со своим одноклассником, потому что показался он мне нисколько не старше ее.
Я мог, конечно, подойти к ним поближе и узнать, о чем они говорят. Но мне стало стыдно, что Ленка догадается обо всем. Поэтому остался у штакетника станционного сада и только смотрел.
Уже отправился следующий воинский, на его место прибыл новый, а лейтенант с Ленкой все прогуливались по перрону. Другие уходили в сад, куда-нибудь на скамеечку, в тень. А эти и жары не замечали. Теперь я все чаще слышал Ленкин смех, то громкий и веселый, то тихий, только для них двоих предназначенный. В Ленкином взгляде появилась какая-то новая радость, словно от удивления хорошему, чего раньше она не встречала. И чем больше радость эта заполняла Ленку, тем тоскливее становилось у меня на душе.
Я все время глядел на вокзал, на дверь дежурного по станции: скоро ли он выйдет и ударит в медный колокол.
Но дежурный не показывался.
А когда отправление объявили, Ленка с лейтенантом заговорили быстро, торопливо, будто дня им было мало. И только после того, как Ленка подала ему обе руки, замолкли.
Первый раз опустила Ленка глаза.
Лейтенант сказал ей несколько слов. Она кивнула, не поднимая головы. Он вытащил из кармана гимнастерки маленькую книжечку.
«Адрес записывает», — угадал я.
Лейтенанту кричали из вагона, а он все стоял и боялся выпустить из своих рук Ленкины руки. Как-то неловко пятясь, он подвигался к своему вагону. И только задернули его наверх, услышал я срывающийся голос:
— Лена!..
Ленку словно толкнули. Она рывком шагнула к вагону, протянула руки, и тут я заметил, что в глазах у нее слезы.
— Проводите нас, девушка! — кричали ей солдаты.
— Один перегон!..
Ленку звали солдатские улыбки. Может, она и видела их, но, торопясь за вагоном, говорила только со своим лейтенантом. Она дотянулась до его руки.
И тут же вспорхнула птицей вверх.
Она стала рядом со счастливым лейтенантом, повернулась к перрону, весело засмеялась и махнула рукой:
— Все: на фронт я!..
И такая у нее улыбка была в ту минуту, что я все понял: не насильно взяли ее в вагон, сама поехала Ленка.
Растаял в серой дали дымок паровоза.
Мне захотелось подальше уйти от людей, потому что не мог я больше выносить ни потного запаха перрона, ни человеческой ругани, ни крикливых свистков паровозов, которые привозят и увозят людей в разные стороны, как будто никак уж и нельзя им жить ладом на одном месте.
Я пришел к болоту, когда затухающее солнышко уже село на острые перья камышей и вызолотило их к ночи. Я сел на берегу, обхватил руками колени и смотрел в коричневую воду, густую, теплую и спокойную. Стаи купавок тут и там лежали на ней, похожие на зеленые тряпичные коврики. Но нигде не желтело ни одного цветка: спрятались купавки перед наступающим мраком.
Только солнце любили они.
Болото заметно поддалось жаре. С корней камыши тронула сухая желтизна, а некоторые, как подрубленные, изломались под ветром, уронив черные головы в воду. Не хвасталась больше густой острой щетиной осока, пожухла под зноем, обессилела.
Только моя березка, все такая же свежая и статная, поднявшись над растрепанным смородинником еще выше, глядела с островка куда-то вдаль, будто мало ей было своего болота, а хотелось увидеть весь белый свет. И подумал я, что такой уж характер у березки. Как только вырвется она из тесноты на простор да солнце, то растет и растет, каждый год прибавляет росту. И хоть родилась она среди болота, все равно сродни другим, не отступает от своего характера: растет и радует людей, зная, что не может никуда уйти, творит радость на своем месте.
Пусть гниет болото, всасывает в свое ненасытное дно жирные дудки палого камыша и сладкую зелень осоки, пусть исквакаются до смерти скользкие лягушки, пусть грызут под водой здоровые корни водяные крысы, моя березка выстоит. Потому что корни ее в здоровой земле и глубже, чем у однолеток временных, потому что не красуется она своей красотой, а щедро дарит ее людям, потому что любит высокое небо и зовущую даль.
И если к старости березы опускают косы, то это не от усталости. Они становятся мудрыми. И все время думают.
Думают на лесных опушках возле спелых хлебов; думают возле развилков деревенских проселков; думают по бокам Сибирского тракта, храня в памяти и скорбный кандальный звон, и новые песни людские. Им поверены и мысли одинокого путника, и пахнущее бензином, стремительное наше время несется тоже у них на виду. В знойную пору каждый найдет приют в прохладной тени березы.
И не оттого ли человек, однажды забывший ее когда-то, всю жизнь потом казнит себя за то, что потерял ее.
А она за весь век не обмолвится ни словом.
Молча живет, молча тоскует, молча любит.
8
Купавинцы все еще назначали срок за сроком, когда по радио после главного сражения возвестят о победном наступлении, а сами, не замечая того, уже приноравливались к долгому военному житью.
Заходил в дом солдат — и его садили за стол. Наливали горячей похлебки. Расспрашивали, откуда родом, когда забран, как кормят, тяжело ли… И солдат, отогретый домашностью, отвечал со всеми подробностями, будто не к чужим людям забежал разжиться харчем, а приехал в знакомую соседнюю деревню.
Опростав чашку, не торопясь отодвигал ее, скручивал цигарку и любопытствовал сам:
— Ну, а как вы теперь?..
Уходя, мялся у порога, а потом лез за пазуху и доставал либо кусок мыла, либо пару белья, либо гимнастерку. И как бы ни протестовали против такой платы, оставлял свое хозяевам.
— Нам даром дают, а вам и за деньги взять негде. Не последнее это у меня. Спасибо и… прощайте.
Бабы швыркали носами, насыпали солдату картошки в полу шинели и провожали до оградки.
А мужики по-прежнему допоздна судили про войну, дымили солдатской махоркой, притаптывая окурки солдатскими сапогами. И гимнастерки уже привыкли носить на манер сатинетовых рубах: без ремней, навыпуск поверх штанов. Они уже не ходили смотреть эшелоны: «Может, самим завтра туда…»
Только мы с парнями пропадали на станции. Теперь мы часто ездили провожать солдат, особенно когда ехали танкисты или артиллеристы. Дома про нас и не вспоминали. Разве только наругают, если до ночи не приедешь обратно. Или по затылку попадет.
А за девками стали глядеть.
Даже когда они просто с солдатами под ручку ходили, замечали. Прибежит какая-нибудь со станции домой радым-радехонька, а мать ее с порога за волосы и вытаскает по всей квартире да еще скрученным полотенцем так отходит, что та на неделю про улицу забудет.
Только не помогало это. Да и лупили-то девок больше для соседских глаз. А то скажут еще, что поважают.
Но такого, чтобы поехать с солдатами в эшелоне, еще не бывало.
Как это Ленка не подумала! Ведь знала, что сплетен не оберется потом.
Вернулась Ленка на другой день. Может быть, ей тоже от матери попало, хотя дома ее никогда пальцем не задевали. Но не видно ее было ни на станции, ни на улице, ни в клубе.
Лучше бы ей уж не скрываться. Потому что у некоторых станционных баб такая противная привычка была: за глаза оплетут человека с ног до головы, а встретятся — вида не покажут, без всякой совести улыбаются, даже приятные слова говорят, как будто не они поганили только что.
А сплетня оттого и подлая, что против нее ничего не сделаешь. Она хоть кого изведет. Восстанет человек против клеветы — пустят слух, что ему правда глаза колет; плюнет на все да молча перенесет в себе — скажут, оправдаться нечем. Выходит, опять сплетники правы. А гордый перед грязью головы не клонит, людям прямо в глаза смотрит. Так на него еще больше льют: вроде бы бесстыдные глаза у него, потому что от сраму не отворачивается, не краснеет — отпетая головушка.
И живет человек с больной душой.
Так и про Ленку начали. Сначала шепотом по закоулкам да меж собой через оградку: побаивались Заяровых, потому что Макар в парткоме состоял и слово у него как нож острое — сразу отрежет, скажет, как к стенке поставит.
А потом осмелели, при народе стали болтать.
Анисья из нашей казармы рассудилась как-то в магазине:
— Как я говорила, так и выходит: отправили девку в город на баловство. А там что? Разврат один. — Говорит, а сама вздыхает, будто жалеет Ленку. — Куда это годно? У нас в деревне девкам ботинки только к смотринам заводили, да и то не каждой. А Макар своей еще в школе вовсе туфли на высоких каблуках купил! Да фельдиперсовы чулки! Гуляй, дитятко…
Бабы сочувственно кивали, а то и прибавляли:
— Волосы на городской манер отрезала…
— То-то и есть!.. — подхватывала Анисья. — И платье до колен, все на виду: гляди, кто хошь. Вот и довертелась — людей не стыдно стало. А еще партейные!
— О, господи, прости, что деется на свете! — вставил кто-то вздохом. — Война все…
— Войну нечего приплетать, — окрысилась Анисья. — Раньше тоже бывало, а люди не баловались: жили да терпели.
— И любовь соблюдали.
Это сказала мать Кольки Бояркина, оказывается, и она тут же стояла.
— И то правда, — рассуждала Анисья. — От невест в армию уходили. По три года девки ждали, из дома не выглядывали, а про вечерки и говорить нечего. А тут — пожалуйста: увидела командира на станции, словом обмолвилась и — айда… Вот тебе и грамота вся!
Никто, никто не сказал Анисье поперек ни слова!
А ведь могли бы ей в нос ткнуть. Все не хуже меня знали, что саму-то Анисью Степан на покосе под стогом нашел. И тоже не три года за сеном ездил, а только один день. И какой толк, что встретил ее с долгими волосами да босиком? То же и получилось: утром девкой была, а к вечеру бабой стала. И не с командиром разговаривала, а с конюхом, который не только хромой, а еще и старше ее на десять годов с лишком. За него замуж-то никто не шел раньше. Попробуй отгадай, как они сосватались там, на сенокосе! А тоже, как добрая, в разговоры про любовь лезет Стерва конопатая!
Эх! Если бы не крупу выкупать, ушел бы я из магазина, чтобы не слушать эту болтовню!
— Слава богу, отвел от нас позор: досталась бы Николаю женушка-то, не приведи никому, — слышал я голос Бояркиной. — Правду говорят: с лица-то воду не пить. Была бы хозяйка да детям мать…
— Ой, да что ты говоришь, — опять понесло Анисью. — Ты на руки-то ей взгляни: она и вехотку-то не знает как взять!.. Одно слово: мила доченька…
И вдруг Анисья осеклась, словно прикусила язык. Враз затихли бабы. В дверях магазина стояла Ленка.
— Кто последний? — спросила.
— Я, Леночка, — ласково откликнулась Анисья и заговорила с Бояркиной громче прежнего: — А на базаре-то все с ума сошли: картошка еще прошлое воскресенье пять рублей за ведро была, а в это — десять. А все вакуированные: в драку лезут, любу цену перебивают. И откуда у них столько денег: по мешку привезли… Вы много садили нынче?
— Двадцать соток. А толку-то что? Семьища-то — не сосчитать, и все работники. Им мясо надо.
— Всем мясо надо, — согласно трясла головой Анисья.
Ленка стояла и читала книжку.
На улице собиралось ненастье, небо обложило тучами. Ленка была в синем шерстяном свитере, черной вольной юбке со складками. Разговоров вокруг себя она не слушала, только изредка, когда очередь подвигалась да страничку перелистывала, отрывала взгляд от книжки. И тогда я видел под пушистыми ресницами ее глаза, спокойные и добрые, только потемневшие: глубины в них прибавилось. Лицо Ленки теперь не светилось румянцем, а матовым стало, будто только что умылась она парным молоком.
Видел я и Анисью, хоть и противно мне было смотреть на нее. Она по привычке болтала с бабами, а сама круглыми белыми глазами так и ела Ленку, будто на виду у всех раздевала ее своим взглядом.
Нет! И тогда, да и потом, не понимал я, отчего под одним и тем же ласковым небом, среди одних и тех же устланных цветами лугов и приветливых задумчивых лесов рождаются разные люди: добрые, от которых всю жизнь исходит тепло, согревая других, радость, дающая свет, красота, делающая чище души, и недобрые, в которых таится зло, глухие к дружбе, холодные к не своей мечте, враждебные любым радостям и счастью, если они приходят не к ним.
…У Анисьи сидели дома запертые ребятишки, может, голодные сидели, а она, выкупив крупу, все не уходила из магазина, строчила языком про всякую всячину, пока Ленка, стоявшая за ней, не рассчиталась с продавщицей и не вышла на улицу. А потом сразу выпустила свое жало:
— Вот, пожалуйста: окрутилась в эшелоне, будто лишнее сплюнула. Хоть бы что! Книжечки почитывает…
И поплыла из магазина.
Стояли в очереди и такие, которые не поддакивали Анисье. У некоторых из них девки тоже давно паспорта получили, гуляли с солдатами, про них еще раньше сплетни ходили. А теперь всем в глаза бросилась Ленка. И ни у кого смелости не хватило оградить ее: ведь не ездила же Анисья в том вагоне и не может она ничего знать.
Понимали это. И все равно промолчали.
А Ленка как будто ничего не знала. По-прежнему не появлялась она нигде: ни в кино, ни на танцах. А по станции ползло:
— Чует — опозорилась…
Только я видел ее несколько раз, когда она выбегала из дома к калитке, навстречу почтальону. Станет и ждет. А тот подаст ей газетку и уйдет. Ленка задумается на минутку. И уж обратно не торопится: тихонько идет к крылечку.
А потом видел ее на улице, когда встретилась она с девками. Разряженные, те шли на станцию.
— Ленок! — окликнули. — Что же это ты? Пойдем с нами, новый эшелон пришел.
— Не хочется, — ответила Ленка.
— Пойдем. Дома-то какая корысть?
— Нет, девушки.
И пошла своей дорогой.
А те усмехнулись и отправились. Посмотрели Ленке вслед так, как будто первый раз в жизни загадку отгадали. Даже зависти обычной не было во взгляде: вроде выше всех они стоят, тем более Ленки. Шли — хихикали.
Вот так же, еще совсем глупыми мальчишками, радовались мы, когда безнаказанно вылезали из чужих огуречников. Знали ведь, что пакостили, а все равно героями себя считали. Потому что вовсе не от нужды лазили, а так — и не сказать для чего. Ведь у каждого свой огуречник был. Но то — свой, а здесь чужой, тут вроде бы и огурцы слаще росли.
Ленка не видела и не слышала ничего этого. Как сказала последнее слово, так и пошла без оглядки. Шла по дороге, думала о чем-то своем.
Не показалось мне это. Потому что очень уж спокойная походка была у Ленки. И взгляд такой, словно видела она перед собой огонек светлый. Глаза всегда правду говорят.
Видно, пришло к Ленке настоящее счастье. А оно ведь как золото: можно и грязью измазать его, но она все равно не пристанет надолго, не попортит. Потому что грязь — она и есть грязь: иссохнет, отвалится и в пыль превратится. А золото золотом останется.
…Была бы Ленка бесхарактерной да каялась на виду у всех, может, и утихли бы разговоры. Но никто не дождался этого.
Казалось, Ленка и не нуждалась ни в ком.
Часто-часто, взяв с собой книжку, она уходила в березовую рощу за станционным поселком. Стояла там в одном месте чудная старая береза: ствол у нее рос сначала не вверх, как у остальных, а возле самой земли, будто придавленный, и только потом выпрямлялся. Была эта береза ниже других, но зато ветви раскидывала широко, вольно и лист сбрасывала намного позднее. Ленка садилась на эту березу, как на скамейку, и читала книжку. Иногда книжку опускала на колени, приклонялась к стволу, как к спинке стула, и подолгу размышляла над чем-то своим.
Сентябрь стоял теплый, как лето. И хоть ветер раздел березы, в роще все равно было весело, потому что поверху день-деньской перекатывался из края в край птичий гомон. Он доносился отовсюду, словно разливался вместе с солнечным светом, пронизывая и воздух, и побуревшие редкие косы берез, и землю, осыпанную звенящим хрустким листом. Даже паровозные гудки, долетавшие сюда со станции, запутывались в густом кружеве березовых крон и затихали, бессильные против громкой птичьей радости теплу и солнцу.
Может, Ленка хотела понять, о чем поют птицы?
А может, здесь хорошо думалось над тем, про что люди пишут в книжках?
Или ходила она сюда за радостью? А может, делилась своей?..
Пришло первое ненастье, и Ленку в роще я больше не видел. Не знаю, известно ли стало ей про сплетни или просто дома сидеть надоело, только Ленка по-прежнему начала ходить в клуб.
Казалось бы, все заботы заняла война у людей: и нуждой своей, и урезанным ломтем хлеба, и постоянным страхом перед почтальонами, которых ждали и боялись, не зная, какие вести принесут они в дом. Но живучие сплетни все равно находили для себя место, лезли между дел, отравляя и без того невеселую жизнь. И когда гордая, без покаянной отметины, неуниженная Ленка Заярова появилась на людях, взъерошились неизрасходованной завистью мелкие души.
Даже некоторые станционные парни переменились. Это из тех, которые никогда и раньше с девками словами-то обходиться не умели, а все больше — руками, а к Ленке — так и не каждый подходил близко. А теперь будто выпрямились. Взять, к примеру, Попа с Петром. Прежде они за Ленкой не ближе чем шагов за тридцать тянулись, да и то с иконными рожами. А тут вдруг осмелели: навстречу идут — дорогу заступят, поздороваются — руку тянут, про новости какие-то спрашивают. А Колька Бояркин хоть и не приставал, но ухмылялся так, будто только он один, если захочет, может как угодно Ленку повернуть. Ходил — грудь колесом, словно медаль ему повесили.
Только пыжились парни напрасно. Проходили дни, и хвастливое самодовольство сменялось у них в глазах злостью. Особенно у Кольки Бояркина.
…Молва как змея: шипит, шипит да укусит. Лишь бы случай подошел.
…В нашем магазине с первого дня войны не стало водки. Мужики да парни, которые уже работали, страдали от этого невыносимо. Потом водка изредка стала появляться по норме. Была она хуже мирной — сырцом называлась: говорили, что от нее денатуратом несет. Но все равно в магазине за нее давились, как ненормальные. Теперь даже одиночки женщины выкупали ее для обмена на продукты или на продажу через базар.
А в последнюю субботу привезли вместо водки разливной тройной одеколон. Стоит он дороже раза в четыре, а то и в пять — не каждый купит. Поэтому нормы устанавливать не стали.
И загуляла Купавина так, будто и войны нет.
А вечером все повалили в клуб. Постарше, посмотрев кино, отбыли домой, помоложе остались на танцы под баян.
Колька Бояркин пришел поздно. Ввалился в зал без билета, по блату, только контролершу похлопал по плечу. Оглядел всех, как будто не в клуб люди пришли, а к нему в гости: не попал ли кто без приглашения. И только после этого сел на стул возле стены.
Танцевать Колька не умел. Признавал только танго. Один этот танец и годился для него: переставляй ноги как попало — и ладно. Баянист, подхалим, всегда, как появлялся Колька, следующим танцем танго играл. Пусть хоть подряд, но играл, потому что для баяниста вообще начальства нет. Так было и на этот раз.
Колька поднялся лениво и пошел прямо к Ленке.
— Прошу, — сказал и взял Ленку за локоть.
— В другой раз, — ответила Ленка, освобождаясь. — Я с Давидом иду.
Давид Султанов, азербайджанец, приехал в Купавину по назначению из Москвы работать по железнодорожному строительству всего недели три назад. Высокий, красивый, вежливый. А костюма такого, серого в дорожку, как у него, даже в магазинах никто не видел. На заказ, говорили, сшитый был. И танцевал Давид лучше всех парней.
Ленка с ним и пошла.
У Кольки лицо скривилось от злости.
— Пожалуйста, — осклабился он и, хмыкнув, вышел из зала.
У парней, сидевших на завалине клуба, Колька выпил полстакана одеколона, зажевал луковкой, утерся рукавом — и снова в зал. На следующее танго, пошатываясь, опять направился к Ленке, глядя на нее в упор красными глазами. Ленка побледнела, огляделась мельком, но Давида не было.
— Теперь моя очередь, — ощерился Колька, пытаясь изобразить улыбку.
— Очереди никакой нет, — попробовала отговориться Ленка. — Устала только…
Она даже улыбнулась Кольке.
— Ничего, — протянул он и, как в первый раз, взял ее за руку.
— Нет, нет! — отдернула она руку.
— Брезгаешь?
В зале притихли.
— Фу, какой-то гадостью несет от тебя, — поморщилась Ленка.
— Отвыкла от нашего брата рядового? — Колька скривил губы: — К командирам поближе…
Сразу не стало на Ленке лица: поняла, что последние слова услышали все. Мне, в стороне, и то холодно от них стало.
А Ленка!..
Она пригляделась к Кольке и сказала негромко, с сожалением:
— Какой подлец.
— Да ты не сердись! — нарочито громко куражился Колька. — Не гордый я. Пойдем помиримся… Неужто темного местечка не найдем?
— Уйди.
Но Колька кривлялся все больше.
— До бога высоко, до лейтенанта далеко. А я — вот он. С толку собьюсь, так ты поможешь. Ученая теперь…
— Животное!.. — прошептала Ленка.
Отойдя в сторону, она платочком вытерла руки, будто к чему грязному прикоснулась. Посмотрела на Кольку, как на прокаженного.
А он, пошатываясь на месте, проводил ее налитым взглядом, а потом тряхнул головой, хохотнул и деланно удивился:
— Отвергла, сука! — и, пьяно погрозив кому-то пальцем, заявил: — Но нет! Не будь я Колькой Бояркиным, ежели не уговорю! — И снова к Ленке: — Моя теперь очередь, Леночка!.. Ну, если в вагоне привыкла, то вон там, в тупике, стоит один отцепленный, с сеном. А?
И захохотал громко, нагло, довольный собой.
Появился Давид Султанов. Он не слышал ничего. Но, сверкнув быстрыми глазами, понял, что стряслось неладное, стал вплотную к бешеному Кольке.
— Что ты сказал?
— Чего? — Колька поднял на него блуждающий взгляд.
— Почему оскорбляешь девушек? Извинись!
— Ха! Иди-ка ты! — Колька выругался по-матерному. — Ферт московский.
И шагнул к выходу.
Давид, красный, как перец, проводил его угольным взглядом. Ему, инженеру, драться в клубе, конечно, нельзя было.
— Проводить вас, Лена? — справившись с собой, спросил Давид.
— Нет.
— Ну, тогда успокойтесь. Я так этого не оставлю. И будем танцевать.
— Нет.
И Ленка пошла из зала. Султанов двинулся следом, но возле дверей она остановила его.
— Не надо, — попросила, преодолевая волнение.
Я выскочил из клуба, пересек улицу и по другой стороне, на которой фонари не горели, обогнал Ленку.
Быстро, едва не срываясь на бег, Ленка шла по тротуару. В одной руке у нее белел платочек, а другую она прижала к груди, как будто рана там была. Не останавливаясь, смахивала платком слезы.
Рывком вошла она в свою калитку, вбежала на крыльцо и ждала, когда откроют. Прямая, вытянув шею, как лосиха, смотрела на станцию.
Там, протяжно загудев, отправлялся воинский.
А потом хлопнула дверь.
Я остался в темноте. Меня трясло как в лихорадке.
И вдруг я услышал пьяные голоса. Приближаясь, они на всю улицу горланили старую-старую песню:
Голоса захлебывались, а потом вразнобой начинали песню откуда попало:
Посередине дороги в обнимку плелись Поп с Петром, а между ними — Колька Бояркин. Головы валились им на грудь, они с трудом вскидывали их и после каждого куплета матерились.
«Обнялись женихи. Гады!..»
Меня захлестнула такая ненависть к ним, что нечем стало дышать.
«Нет, это вам не пройдет!» — шептал я и, еще не зная, что делать, крался за ними. У общежития Поп с Петром отвернули. Колька Бояркин отправился дальше.
«Ну, тебе-то уж я задам! Все равно не уйдешь!..»
Я, конечно, не забыл, как Колька ударил меня на стадионе, от одного воспоминания в переносице закололо. Но я шел за ним, надеясь на какое-нибудь чудо, «Вот бы Колька споткнулся да упал…»
Но чуда не было.
Колька дошел до дома. Ввалился в калитку.
Взлаял и смолк бояркинский кобель.
Через минуту зажглось крайнее окошко дома.
Не мигая глядел я через забор, как мечется по занавеске бесформенная тень.
Погас свет.
Я бросился к дороге, нашарил в темноте два подходящих булыжника, вернулся к дому и изо всей силы один за другим запустил их в окно. Со звоном посыпалось в темноту стекло.
Я перескочил на другую сторону улицы, спрятался за старой березой и посмотрел на Колькино окно. Раньше оно отсвечивало в темноте, теперь чернело полой рамой.
Я не стал ждать, когда выбежит на улицу кто-нибудь из Бояркиных. Облегченно вздохнув, пошел домой.
«И Попу с Петром это так просто не пройдет…» — уже увереннее решил про себя.
9
А Давид Султанов устроил похмелье Кольке Бояркину!
В понедельник вызвали Кольку к самому Завьялову — секретарю железнодорожного парткома.
Колька даже комсомольцем не был, поэтому испугался вызова пуще, чем милиции. Пришел в партком с поджатым хвостом, как пес нашкодивший. Фуражку еще на крыльце снял. А как в кабинет дверь открыл да увидел, что там Султанов сидит, вовсе полинял.
Завьялов Александр Павлович приезжий был: чуть ли не из самого Ленинграда! И справедливый — страсть! За два года он ни одного человека в Купавиной понапрасну не обидел.
Уважали его. Если беда приключится у партийного или беспартийного, все равно Завьялов сам придет, поговорит, вникнет во все и обязательно поможет. Но когда он вызывал к себе в кабинет, да еще срочным порядком, через служебное начальство, считай, дознался до чего-то и начнет меры принимать. Тут уж держись!
Колька Бояркин тоже понял, что его не за премией зовут.
Александр Павлович с ним даже не поздоровался, а только встал из-за стола, смерил взглядом и приказал:
— Садись.
Колька прилепился на краешек стула. На Завьялова глаза поднять боялся.
— Ну, рассказывай, — попросил Завьялов.
— Чего? — попробовал отделаться дурачком Колька.
— Рассказывай, рассказывай. А что — сам знаешь. В крайнем случае помогу.
Колька молчал.
— Давид Надирович, напомните ему, — обратился Завьялов к Султанову.
Тут уж и Колька устоять не мог.
— Выпивший я был, Александр Павлович, — выдавил из себя покаяние. — Завелся.
— Что значит «завелся»? — резанул вопросом Завьялов.
— Ну, сказал, значит, что все говорят…
— Что говорят? И кто «все»?
— Не знаю кто, — запыхтел Колька. — Выпивший я был, в общем.
— Хулиган ты!
Сказал, как гвоздь вбил. И прошелся по комнате так, что половицы скрипнули, а у Кольки плечи передернуло. Остановился возле стола, задумался. Только потом заговорил:
— Война идет. Люди себя без остатка работе отдают. А ты лезешь им в душу грязными руками. Что ты знаешь о Заяровой? Что?! Скажи мне.
— Все знают… ездила.
— Куда ездила? Зачем?
— С солдатами…
— Куда, спрашиваю?! Хорошо, с солдатами. Ну и что?
Колька заерзал на стуле.
— Известно что…
— Что известно?! — почти крикнул вдруг Завьялов. Не дождался ответа, передохнул. — Нам известно, что Заярова — комсомолка, отлично закончила школу, подала заявление в институт. Вот что известно! А что знаешь ты? Ну, говори!
— Люди говорят.
— Я спрашиваю, — перебил Завьялов, — что знаешь ты?
— Я с ней не ездил…
В этот миг дверь с шумом распахнулась и, стукнув палкой, в кабинет запрыгнул путейский конюх Степан:
— Щиты для плакатов привез, Александр Палыч! Куда…
— Негодяй!..
Степан перепуганно сдернул с головы фуражку.
— Да не ты! — досадливо махнул на него Завьялов. А потом показал на стул: — Садись. А негодяй — вот!
Александр Павлович перевел дыхание, сел за стол, долго молча смотрел на Кольку.
— Вот что, Бояркин… Мы хороших людей оскорблять не позволим. А ты заруби на носу: не перестанешь атаманить, с работы к чертовой матери выгоним.
— Не имеете права! — вдруг осмелел и занесся Колька. — Не в партии я, не в комсомоле. Не стращайте!
— Выгоним, Бояркин. К чертовой матери выгоним. За пьянство, понятно? А за хулиганство под суд отдадим. — Потом добавил с презрением: — Еще сватался, говорят. Жених… Как же ты жизнь собираешься строить? Для этого, знаешь, надо себя от всякой скверны освободить сначала… Иди.
Как пьяный, вышел Колька из парткома. В глазах одна злость бессильная осталась да страх. Все знали, что Бояркины скупые, как кулаки. Уехали они из деревни от колхоза. И если бы Кольку сейчас выгнали с работы, то и брони конец, а завтра — армия. Для Бояркиных это, конечно, беда.
…Александр Павлович подошел к окну и смотрел вслед Кольке Бояркину, пока тот не скрылся из виду. Повернувшись к Степану, спросил:
— Вот еще какие фрукты водятся, понял?
— Чистый подлец, — определил Степан и встал.
— И ты слышал про клуб?
— Ясное дело.
— Видишь… — Александр Павлович прошелся по кабинету. Заговорил тихо: — Война идет, люди в беде. Дружнее бы жить, помогать друг другу. А тут вылезают вот такие… В душу плюют. Как это понимать прикажешь?
— У них, у всех Бояркиных, вера такая — людям противная, — уверенно ответил Степан. — Скрытые вредители.
— Ну, положим, это ты лишка хватил. Просто жили мы, Степан, и не примечали, что рядом с нами ходят недобрые люди, которые в самый трудный час способны напакостить.
— Точно! — горячо согласился Степан.
— И не один Колька такой… — Александр Павлович вдруг подошел к Степану, взглянул на него в упор и спросил: — А как ты смотришь на такое дело? Вот ты привез мне щиты для агитплакатов. На них призывы напишут: тыл укреплять, фронту помогать, трудности бороть. Сам ты работаешь теперь, можно сказать, день и ночь. А вот Анисья твоя… ведет себя, понимаешь ли, не лучше Кольки.
— Как это?! — опешил Степан.
— Не понимаешь, что ли?
— Да ей-богу! Александр Палыч!.. — Степан даже подпрыгнул, и больная, согнутая в колене, нога дрыгнулась из стороны в сторону.
А Завьялов наступал:
— Какую грязь она льет на Ленку Заярову! И в магазине болтает, и по соседям ходит — везде…
— Александр Палыч!..
— Подло это! Разве ты Макара не уважаешь? И что ты плохого можешь сказать о Ленке его?.. Культурная, образованная, добрая… В каждом поступке человека сначала разобраться надо, понять…
Степан молчал. Ответить Завьялову он уже не мог. Слов нужных ему все равно сейчас было не найти. Он только сочувственно кивал головой.
— Ты ведь, Степан, все и без меня хорошо понимаешь. А вот поговорить с женой, объяснить ей, что она поступает плохо, не догадался или времени не нашел.
— Не знал, Александр Палыч… — виновато признался Степан.
— А сделать это надо, — уже совсем тепло, положив руку на плечо Степана, посоветовал Завьялов.
— Обязательно поговорю.
— Только душевно, Степан. Чтобы она поняла.
— А как же по-другому, Александр Палыч? Знамо дело — поймет. Неужто я своей бабе вопрос разъяснить не способен?
— Вот видишь, и с тобой поговорили по душам… Спасибо за щиты.
— Вам спасибо, Александр Палыч. Бывайте здоровы.
Степан повернул к двери. Больная нога мешала ему сейчас больше, чем всегда: прыгал он тяжело. И на трость опирался сильнее обычного.
«Не зря ли я все это выложил ему?» — думал про себя Александр Павлович.
…Степан Лямин был неграмотный. За получку в ведомости вместо подписи научился ставить каракуль, похожий на вопросительный знак. Зато лекции и политбеседы не пропускал, любил поговорить о политике, считал себя беспартийным большевиком и был убежден, что к Новому году война закончится: «Раньше не успеть — далеко гнать немца обратно…»
Ко всему этому правдивый и на редкость трудолюбивый и добрый Степан любил лошадей, в душе гордился тем, что все годы ходил в ударниках производства и висел на красной доске. Про любого начальника, который уважал его, Степан Лямин искренне говорил: «Голова как у наркома». Выпивал редко.
…Возвращаясь на конный двор, Степан бросил вожжи и не смотрел на дорогу. Серко, не чуя понуканий, не торопясь, размеренно шагал по дороге в знакомую сторону.
Впервые за все годы работы его, Степана Лямина, попрекнуло начальство! Да еще кто? Сам Александр Палыч Завьялов, который недавно в клубе на собрании привсенародно назвал его патриотом Родины! После ухода в армию двух своих товарищей, сказал, товарищ Лямин Степан Митрофанович обязался за всеми шестнадцатью лошадьми ходить один…
«Во как! Справедливый человек. А тут попрекнул… — Степан вздохнул. — И с какого бока?! По бабьей линии… Срам! Да… На конном-то дворе ко мне не подкопаешься. В стойлах как на медпункте: пол — хоть на простыне ночуй на нем, кормушки — игрушки, у каждой скотины своя шпилька для сбруи. А возьми коней — они и сейчас блестят, как довоенные. И духу нет тяжелого, потому как вентиляция соблюдается… Никто не скажет, что Степан Лямин значится ударником зря! Все премии оправдал.
…Лошади, они, конечно, понятливей баб. У них линия ясная — производственная. Поэтому и руководить ими куда сподручней. А баба, она что?.. Свиристелка: трещит целый день, топчется на середе, как недоуздок, а толку — хны!.. Шесток всю жизнь в горшках, ребятишки — в соплях, и у самой брюхо вечно блестит. Тьфу!»
Поставив Серка на место, Степан прошел в дальний угол конюшни к пустым стойлам: лошади из них еще месяц назад были мобилизованы в армию. В одной из кормушек из-под толстого слоя старой трухи вытащил поллитровку и направился к верстаку, на котором чинил сбрую. Из ящика, прибитого к стене, достал жестяную кружку. Пошарив еще, нашел луковку. Выпил.
Из крайнего стойла через загородку на него молча смотрела кобыла Челка.
— Чего глядишь? — спросил ее Степан. — Думаешь, не накормлю? — И, выпив еще, успокоил: — Накормлю.
Подкладывая сено в кормушку, он спрашивал Челку:
— А если баба дура, это как понимать прикажешь? А? Молчишь? Молчи. Сами разберемся.
После Челки побыл недолго у верстака и зашел в стойло к Воронку.
— А что такое душевный разговор, знаешь? — рассуждал, отодвигая плечом морду Воронка от кормушки. — Это, брат, такое разъяснение особое, чтобы на всю жизнь в нутро запало. Во! Только подход нужен особый… Но я найду, не сомлевайся… и великатно будет, и все прочее, что полагается…
К Серку Степан явился уже с бутылкой.
— Так вот, Серко… Испортила мне баба личное дело. А отчего?.. Оттого, что не понимает текущий момент. Со мной посоветоваться, спросить — догаду нет, а своего ума сроду не было. Вот и получился факт, как на плакате возле милиции: «Болтун — находка для врага…» У Александра Палыча голова, знаешь, как у наркома. Думаешь, куда он клонил при беседе со мной? Я все, все понял: моя Анисья — язвить ее в душу! — позорит политический авторитет товарища бригадира пути и члена парткома Макара Заярова. Понял?.. За такие штучки по законам военного времени знаешь что полагается?..
Домой Степан пришел затемно. Долго возился у порога. Только потом тяжело проковылял к столу. Сел сбоку. Анисья тотчас же поставила перед ним чугунок горячей картошки.
— Где это ты оскоромиться успел? — поинтересовалась вкрадчиво, почуяв запах спиртного.
— Успел, — сухо ответил Степан.
— Веселому надо быть, значит, а ты чернее тучи, — уколола с улыбочкой.
— Не с чего веселиться. Жизнь такая.
— У всех одинаковая.
— Нет, не у всех!
— А ты чего это орешь? — Анисья приготовилась к ругани. — Налил глаза, так молчи…
— Это как это так «молчи»?!
Степан побагровел. Положил на стол недочищенную картошку. Чтобы не заорать, начал говорить медленно:
— Ты вот что, послушай-ка меня, Анисья Калистратовна. Сегодня я тебе советы давать зачну…
— Ну, давай, давай…
— Скажи-ка мне, голубка, что это ты про Ленку Заярову на станции народу объясняешь? За что агитируешь?
— Тебя откуда сбросило? — враз потеряла терпение Анисья. — С чего ты в бабьи разговоры полез?
— Ты, Анисья Калистратовна, не вертись!
— Так и есть: ошалел.
Она отвернулась, и тотчас же Степанов костыль со всего маху прилип к ее заду. Присев с коротким воем, Анисья обернулась к мужу и медленно повалилась на колени.
— Кого спрашиваю?! — загремел Степан.
— Из-за потаскухи!.. — жалобно запричитала Анисья. — Меня, родную жену!..
— Все понятно, — с жестким спокойствием заключил Степан и вытянул жену вдоль спины раз, другой… Анисья пятилась на коленках, а он подскакивал к ней и снова доставал ее своим костылем.
— Давай, давай… рассказывай все, что знаешь. Я тебе за все отметки поставлю, — приговаривал он. И вдруг гаркнул: — Молчать!..
Заметно ослабевший, тяжело опустился на скамейку. Отдышался.
Анисья шумно давилась слезами посреди комнаты.
— Ты все это вот как понимай, — начал он тихо. — Сегодня я, можно сказать, с тобой душевно говорю. Ясно? Язык твой поганый я давно знаю, характер твой собачий тоже уж сколько годов терплю. Кабы не ребятишки, давно тебя обратно доставил бы на тот разнесчастный мой покос. Начальство меня уважает — мне бы тройку выделили запрягчи для такого дела. Но это все кутерьма домашняя… А что касается людей, ты их не шевели. Война идет. Она еще горя навалит немало. И ты, поскольку у тебя скворечница под волосами пустая, а язык — ботало, в ихние дела не лезь. Потому что людей судить может только такой человек, у которого совесть настоящая имеется. Как, например, Александр Палыч Завьялов…
Анисья, закусив платок, все еще стояла на коленях, но Степан, распаляясь, не обращал на это внимания.
— Кто пять годов назад дал нам квартиру, когда мы женились? Макар Заяров. Кто добился третьего лета бумаги в свердловскую больницу, когда у Маньки сыпь выступила? Кто ребенка спас от смерти? Макар Заяров. А кто мне премии выписывал, пока я на главный конный двор не перешел? Все он же: Макар Заяров. У него и душа — золото, и голова как у наркома: в партком выбрали. А ты мараешь всю его семью. Агитацию против партийного большевика ведешь. Бараньи твои глаза!.. Как я с ним теперь здороваться должен, скажи? Как людям в глаза глядеть?!
Степан снова вскочил, но Анисья, прижавшись к полу, так громко и жалобно взвыла, что он опустился на место.
— Ладно… Но попомни, Анисья, мой наказ: не мешай жить дельным людям. Лучше добра у них наберись… А характер мой ты знаешь: услышу еще про твои сплетни — душевного разговора больше не жди. Зашибу наодноразки по закону военного времени!.. Вот и все мое постановление.
10
Сплетня подла, а всякая подлость труслива. Ее не пугает равнодушное отношение к ней. Оно, далекое от всяких осуждений, не опасно для нее. Едва заметив хотя бы молчаливое сочувствие, подлость вмиг наглеет. Она бесчестна, поэтому не знает ни самолюбия, ни стыда. Она никогда не рассчитывает на людское одобрение, потому что всегда умышленна в своем зле. Оттого-то и таится она всю жизнь, норовит остаться неузнанной.
И, только столкнувшись с презрением, подлость робеет, получив пощечину, поспешно уползает с глаз.
Присмирели Бояркины.
Отпала охота трепать языком и у других.
Навел порядок Завьялов.
Правда, нет-нет да и вылезал где-нибудь поганый слушок. Но скажут — и осекутся.
А скоро Купавину оглушило такое, что не только соседские, но и свои дела у людей из головы выпали.
На выходе со станции сошел с рельсов тяжелый воинский эшелон. Скорость машинист еще не набрал, но все равно задние вагоны, как пьяные быки, наперли на передние, выдавили из состава и поставили поперек пути несколько платформ с пушками, искорежив и рельсы, и шпалы, и стрелочные переводы, закупорив на станции другие поезда.
Движение остановилось.
Все станционное начальство собралось на месте аварии. Сразу приехали чекисты из линейного отдела, ревизоры из управления дороги и даже кто-то из наркомата.
Стали обследовать.
Скаты у вагонов проверили, все кругом рулетками вымеряли, рельсы не только общупали, а в увеличительные стекла обсмотрели: причину искали.
А купавинцы уж все знали наперед.
При крушениях путь всегда разворачивало во все стороны, шпалы ломало, как спички, рельсы в узлы вязало, а на стыках и накладки рвало. А скаты у вагонов аж на сторону выскакивали.
Кто тут может установить причину? Никто. А виноватого найти полагалось обязательно. И тогда говорили: виноваты путейцы. Вроде бы паровозу неотчего больше с рельсов сойти, как только из-за уширения или сужения пути. Стрелка-то поставлена правильно!..
Так и на этот раз постановили.
А к вечеру арестовали Макара Заярова — путейского бригадира — и дорожного мастера Корнея Платоновича Полозова — мужа Варвары Ивановны. Даже домой сходить поужинать не дали. Обвинили во вредительстве.
Тому, что Макар Заяров и Корней Платонович вредители, конечно, никто не верил.
Только ахнули.
И замолчали. Потому что и раньше за крушение людей садили, и раньше купавинцы не считали их вредителями, а все равно обратно редко кого выпускали.
Так и сейчас. Надеялись, что все обойдется, а веры в добрый исход не было.
Потому и замолкла Купавина, как безъязыкая. Забыли про ругань междоусобную, про сплетни, про брюхо голодное. Знали: вся жизнь зависит от железной дороги, а на ней может случиться такое, чего никто не объяснит.
Даже мы, ребятня, знали про это. Если откровенно говорить, сколько раз я слышал невзначай, как отец матери наказывал:
— Собери-ка, Дуняша, узелок с едой. Сама понимаешь: авария. Вдруг придут за мной: за бригадира я оставался…
У меня мороз по коже, а отец спокойно говорит.
Я снова чувствовал, что мир состоит из двух половин: понятной и непонятной. Но, подавленный общим страхом, боялся и спрашивать об этом.
В те дни последний раз и проклюнулось людское зло. Помню, как Бояркина мать сказала мимоходом:
— Хоть и пристращал Завьялов нашего Николая, а неизвестно еще, чем партийцы занимаются. И Макар, и Корней — оба высоко залетели, да только куда сядут… — И не забыла Ленку кольнуть. — Хоть Завьялов нахваливал Макарову доченьку…
Не договорила, ушла, не дождавшись слова в ответ. Даже Анисья не поддакнула ей. От страха, конечно.
А шепоток опять покрался по Купавиной. И хоть трусливо прятался по темным сенкам, а все равно до людей доходил.
И вдруг в первую же субботу я увидел Ленку в клубе.
Она вошла в зрительный зал после второго звонка, остановилась в проходе на виду у всех, посмотрела в билет и, поправив рукой рассыпчатые волосы, направилась к своему месту. Когда людей побеспокоила, извинилась и прибавила как ни в чем не бывало:
— Чуть не опоздала!..
Потух свет. Я успел заметить только, что дышала Ленка часто, будто долго бежала. И глаза блестели невесело, хоть и улыбка на лице была. А после кино осталась на танцы.
За вечер Ленка не пропустила ни одного танца, выходила по очереди со всеми знакомыми девчонками, с которыми так долго не встречалась.
Колька Бояркин даже не осмелился подойти к ней. С Попом и Петром да другими он уселся в углу. Оттуда то и дело доносился их противный хохот. И тогда все, кто был на танцах, старались незаметно взглянуть на Ленку. Но она не оборачивалась. Только румянец вспыхивал на ее щеках, и она первая выходила в круг.
Домой Ленка шла тоже с девчонками, даже смеялась вместе с ними, когда вспоминали про смешное на танцах. Но мне опять показалось, что невесело ей. Потому что и смех ее и веселость откуда-то со стороны шли. А сама она вовсе не здесь.
И только перед домом кто-то не удержался и спросил:
— Ленка, а с дядей Макаром что?
— С папой?.. — быстро переспросила Ленка, будто не поняла.
— Ну?..
— Да ничего… Была я там. Передачу разрешили. Разбираются…
— Сидит?! — с ужасом спросила та же девчонка.
— Разбираются, — повторила Ленка. А потом, словно стряхнув усталость, добавила беззаботно: — Придет. Куда он денется?..
— Ясно, что придет… — только и могла сказать любопытная.
Больше они не разговаривали. Ленка побежала с дороги к своей калитке. Вслед донеслось:
— В клуб придешь послезавтра?
— Ага! Обязательно!.. — отозвалась Ленка и хлопнула дверью.
Все другие дни Ленка, как нарочно, ходила на людях. Даже в магазин забегала несколько раз, хотя делать в нем было нечего.
Все, кто видел ее, только переглядывались. Но молчали, хоть и вздыхали. Одна Бояркина не могла удержаться. Однажды посмотрела Ленке вслед и сказала с удивлением, вроде бы про себя:
— Счастливая девка! И горя в жизни не увидит. Завидно даже…
Некоторые переговаривались осторожно. Увидят Ленку со стороны и будто ненароком обмолвятся:
— Растишь, растишь детей, а что из них вырастет, неведомо. Может, по дворам пойти придется…
И вроде бы не про Ленку сказали. Но знали: к другой не приложится.
Однако в один день разговоры захлебнулись, осеклись сразу.
Осеклись в тот день, когда пришли из-под ареста домой и Макар Заяров, и Корней Полозов.
Чистые пришли.
Макар — седой. А у Корнея зубы вкривь и вкось повернулись. От нервов, сказывали.
Ходил слух, что помог им Александр Павлович Завьялов. Вроде бы за них свой партийный билет выложить хотел. Потихоньку объясняли даже, что из-за этого своего намерения закрытый выговор получил.
А может, и врали. Хоть и похоже.
Только одно знаю точно: отдохнули Макар с Корнеем по одному дню дома — и опять на работу.
Потому что шла война. И путь надо было содержать в исправности и в порядке.
11
Лили муторные осенние дожди.
Где-то на второй неделе монотонный гул на крышах затих: холодный ветер-дикарь хлестнул по Купавиной со всех сторон, расшиб водяные потоки в сырую, пронизывающую пыль. Даже толстые брезентовые дождевики путевых обходчиков не могли устоять против нее.
И оттого что ненастье затянуло все серой паутиной, воинские эшелоны с закрытыми дверями казались продрогшими. Глухой лязг буферов словно простудный кашель. Гудки паровозов осипли. Перрон без шумной зеленой толпы. Только у кипятилки короткий хвост скрюченных солдат с котелками.
Посмотришь — вздохнешь.
Каждый день я слушал радио и переставлял флажки на карте европейской части Советского Союза, которую отец в первый же день войны приколотил на стене возле моей кровати.
Флажки все отступали и отступали.
Мы уже не бегали на станцию к каждому эшелону: идут, идут без числа на запад, а остановить немцев не могут. Из-за этого время казалось тягостно долгим.
В один из дождливых, слякотных дней от проходящего эшелона эвакуированных отцепили двадцать вагонов, поставили в тупик, а потом объявили по домам:
— Принимать беженцев!
Из домоуправления всем по распоряжению принесли: к кому селить троих, к кому четверых, а к кому и больше. Упираться никто не стал. И раньше неписаный закон стоял, что погорельцев да обворованных мир на себя принимает, а тут еще хуже: война людей совсем обездолила.
А эвакуированные-то оказались из самой Москвы! Как узнали наши про это — совсем притихли: о чем теперь думать?
Поэтому ни у кого слова неприветливого не вырвалось. Все-таки, когда доходило до большого дела человеческого, купавинцы неплохим народом оказывались, хоть дураков и болтунов жило среди них порядочно.
К нам поселили пожилых уже мужа и жену по фамилии Шапиро. Ее звали Александрой Григорьевной, а его Михаилом Самойловичем. Она — дородная, красивая, с черными волосами волнистыми, а он меньше ее ростом, щуплый, седой до одного волоска, с плешинкой и в очках.
Александра Григорьевна с мамой сразу подружились. Сын ихний на фронте был. Александра Григорьевна часто плакала по нему, и мама вместе с ней, хотя и видела его только на фотографиях. В такие минуты Михаил Самойлович становился серьезным. Он вынимал из коричневого ободранного футляра скрипку и начинал играть.
Не мог я выносить его музыки: так разбередит душу, что приходится из дома уходить. Или это инструмент такой: обязательно в думу толкнет.
В последний раз, когда все сидели за столом, а я переставлял поближе к Москве флажки, Александра Григорьевна не вытерпела:
— Ах, боже мой! Боже мой! Неужели это случится?.. Мы в Москве пианино оставили. Если бы знала, сама изрубила бы топором…
И заплакала.
— Шура! — строго сверкнул стеклами очков Михаил Самойлович.
— Что вы, Александра Григорьевна! — только и молвила испуганно мама.
— Не отдадим, — сказал папа угрюмо и с сожалением взглянул на нее.
А потом поднялся, заходил по комнате. Руки за спиной так сцепил, что суставы хрустнули. Знали мы, что в такие минуты он сердитый. А все из-за того, что его в добровольцы не брали.
Михаил Самойлович посмотрел на него и разъяснил извинительно:
— Это нервы у Шурочки.
На окне медленно копились капли дождя, срывались вниз по стеклу, оставляя за собой кривые дорожки.
Казалось, ненастью не будет конца. Людям до злости надоело месить грязь на улице. Но еще хуже было то, что все видели, как мочит хлеба. Деревенские измаялись в поле. Да и хлеб терялся. А картошке предсказывали под снег уйти.
Из деревни же последних мужиков забирали в армию.
Вместе с невеселыми вестями погода давила людей, сгибала в предчувствии тяжелой зимы.
Ветер раздевал березы, рвал иссохший наряд с акаций, сметая все в кучи, устилал осклизлую землю ярко-красным кленовым листом. По утрам у кромок непросыхающих луж хрустела белая ледяная скорлупа, одевалась инеем пожухлая трава, тоскливо ревели в стойлах телята, словно чуяли, что не будет им зимой вдоволь корма и придется идти раньше времени под нож.
Вот в такое мерзлое утро выбежала в белом домашнем платьишке Ленка Заярова навстречу почтальону и приняла от него помятый треугольничек — письмо. Неверными пальцами торопливо развернула его и стала читать прямо на улице. А потом пошатнулась и без крика упала на сырую землю.
Только вытянула от боли шею, и шелковистые локоны крученым хмелем катнулись по земле, подбирая золотые березовые листы.
Бестолково затопталась на месте почтальонка. А потом, забыв про свою сумку, бросилась к дому. Выбежала, пала на колени Мария Заярова, приподняла, прижала к своей груди бесчувственную Ленку, не понимая еще, беда или болезнь нежданная уронили ее замертво.
…Со слабым стоном вернулась к Ленке жизнь. Чужими глазами посмотрела она на мать, хотела сказать, что-то, но зубы, сведенные судорогой, не разжались, выпустили только невнятный, похожий на жалобу звук.
Ленку поставили на ноги, повели к дому.
Шла она странно: не угадывая землю ногами, будто по незнакомому месту в темноте шла.
А к вечеру слегла в постель.
Несколько дней не брала в рот ни крошки, пока не пошла на поправку.
Из дома не выходила.
Только когда выдавался день потеплее, можно было увидеть Ленку в комнате через открытое окно. Сидя на кровати, она смотрела на улицу, равнодушная к людям, к себе и солнцу, зажигающему лес прощальным закатом, еще по-летнему ярким, но уже по-осеннему холодным.
12
Спрашивать да допытываться про других в Купавиной считалось зазорным.
Но такого, чтобы какое-то событие прошло незаметным и без всякого обсуждения, будь оно хоть трижды семейным, стерпеть тоже не могли. Бабы вроде Анисьи да Бояркиной покой теряли, день-деньской толклись в магазине да возле колонок, забыв о ребятишках и скотине, только бы не пропустить случайно оброненного слова или, на худой конец, многозначительного взгляда.
А зачем — сами не знали. Спроси — не скажут.
Наверное, правда: привычка — хуже неволи.
Но бывает коту и на масленке пост.
Никто в Купавиной не услышал про Ленкину болезнь, никто не рискнул примешать к ней грязь.
В другую пору могли спросить обо всем по-житейски саму Марию Заярову. Но она ходила серая от заботы, даже мимоходом не заводила разговоров. К тому же помнили: недавно сами поносили Заяровых за Ленку.
Совесть нечистая спрашивать мешала.
Знали: было письмо. Предполагали осторожно, что пришло оно с фронта. А от кого да с какими вестями — пойди отгадай!
К письмам относились всерьез: война идет.
Брякнешь слово невпопад — не поймаешь обратно. Иной человек, побойчее да поотчаяннее, за обиду не просто словом осадит, а под настроение и хлестнет. А кто и за что таскает на себе синяки, на Купавиной тоже знали не хуже, чем про все остальное, и каждому синяку ставили отметку: правильно или неправильно посажен.
Синяк, он как документ. Да и не скроешь его. Побаивались, одним словом.
Я тоже долго не знал, какая беда сломила Ленку. И не узнал бы, наверное, да случай помог.
Как-то вечером зашла к маме Варвара Ивановна Полозова кофту скроить да засиделась — свету не было. А она первой подругой Марии Заяровой считалась.
Отец и Михаил Самойлович еще не пришли с работы. Женщины сидели в большой комнате. Трехлинейная керосиновая лампа едва освещала стол. По углам комнаты стоял полумрак. Настя спала. А меня через дверь в кухне, да еще на печке, и совсем не было видно.
Разговор шел уже знакомый мне.
Сегодня Александра Григорьевна получила письмо из Томска, куда эвакуировалась со своими родителями Вера — невеста ее сына Романа. Писем в Купавиной от Романа не получали больше трех недель. А Вера писала, что последнее для нее ушло с фронта всего неделю назад. И сегодня, кто бы к нам ни зашел, Александра Григорьевна с мамой всем рассказывали про это, целый день ходили как именинницы.
Но самое главное, в письме к Вере Роман писал, что немцев они остановили и, как только отобьются от них, пойдут в наступление.
Вот и повеселели наши. Потому что своему человеку верили еще больше, чем Совинформбюро. Тем более Александра Григорьевна говорила, что Роман с детства ни в одном слове не врал и лишнего прибавлять привычки тоже не имел.
А потом про Веру стала рассказывать:
— С Романом они дружны давно. Жили в одном дворе, учились в одной школе, вместе ходили в кино и на «Динамо»: обыкновенно все. Поступили в разные институты, но встречались по-прежнему; как бы ничего не изменилось…
Задумалась. А потом на лице появилась улыбка. И заговорила снова:
— Нынче весной мы с Михаилом Самойловичем съехали на дачу: у него ранний отпуск, а я — с ним, конечно. Роман остался в Москве сдавать сессию. Раньше мы расставались только раз, когда он ездил в пионерский лагерь. Но там воспитатели, вожатые, питание — все. А здесь — совсем один в большой квартире. Не выдержала я. Через неделю приезжаю в Москву, захожу домой, почти сталкиваюсь с ним в прихожей; уходит в институт. Смотрю, на нем та же белая сорочка, в которой он оставался. Она единственная у него, из шелкового полотна, очень красивая: для выхода под костюм. Сейчас в чемодане лежит. Спрашиваю: ты не носил ее?
— Носил, — отвечает.
— И такая чистая? — удивляюсь.
— Чистая.
— Но она же глаженая только что!
— Глажена. — И не выдержал. — Не только что, а вчера. Вера постирала. И погладила потом. Не просил я ее об этом.
И покраснел.
Роман не умеет обманывать. Он, конечно, сказал всю правду. И застеснялся. Застеснялся совсем по-новому, впервые в жизни.
— А как ты питался? — спрашиваю.
— Хорошо. Дома.
— Что готовил?
— Все. Вера готовила.
— Вера! Опять Вера! — вспомнила тогдашнее свое удивление Александра Григорьевна. И объяснила: — Верочка Инютина!.. Вы представить себе не сможете. Единственная дочь крупнейшего инженера-физика, студентка музыкального института Гнесиных, хрупкая, с тонкими пальчиками, давно осознавшая свою красоту и власть над мальчишками, в том числе и над моим Романом, девушка, привыкшая к поклонению! Я знала, что у Инютиных живет домашняя работница, так как мать Веры очень больна, и уже давно. Я была ошеломлена так, что могла только сказать:
— Хорошо стирает.
— Она и готовит хорошо.
Роман хотел сказать об этом, как об обыкновенном, но у него не получилось: слишком видна была его гордость за Верочку. И он снова покраснел. Я не сдержалась:
— Лучше, чем я?
— Нет, конечно. Но и не хуже.
— Значит, я теперь уже не так нужна, — сказала я. — Честное слово, мне стало грустно после его слов. Потом спросила: — Могу ехать обратно к папе?
— Да, можешь, — ответил он. — Но помни, что ты нужна, всегда нужна мне. И Вера — тоже.
Александра Григорьевна сказала это ласково. И помолчала. Видно было: вспоминает.
— Я видела тогда глаза Романа. Видела, как он любит меня, как надеется, что я пойму его правильно. И еще поняла: пришла к моему Роману любовь, отныне он будет делить себя на двух женщин… А потом увидела безупречно отглаженный воротничок сорочки, его самого, спокойного, такого же домашнего, как и до нашего отъезда из Москвы, только повзрослевшего, и мне стало спокойно на душе. Все-таки любовь — это удивительно! Мы думали когда-то, что самая красивая любовь была у нас. Оказывается, у наших детей она еще удивительнее. Но самое главное — она делает людей лучше. Правда, лучше. Раскрывает в них совершенно неожиданное. Я убедилась в этом. Верочка в письме успокаивает меня: мама, пишет, я знаю, чувствую, все будет очень хорошо. Вы, пишет, даже не знаете, как хорошо!.. Я верю ей. Очень верю.
В этом месте наша Варвара Ивановна вздохнула.
В комнате наступило молчание, будто там ни души.
— Да, — грустно сказала Варвара Ивановна, — каждая любовь разная…
— А как они, ваши-то? — перебила ее мама, обращаясь к Александре Григорьевне. — Жили по-вольному, что ли? Без закона или как?
Александра Григорьевна смутилась, но ответила:
— Не знаю. И не могла бы их спросить об этом. Все может быть.
— Как же это?
Я слышал по голосу, что мама не понимает ее, но хочет понять.
— Как вам ответить, — рассуждала Александра Григорьевна. — Знаю, верю: любят они друг друга. Значит, все у них так, как нужно. Если любовь ненастоящая, она рано или поздно покажет себя: либо не выдержит времени, либо споткнется об измену и кончится пустотой для обоих. А в любви большой, единственной всегда все образуется. В ней может быть только утрата: человек вдруг остается один. И ему уже не для кого жить. Это самое страшное для того, кто любит. Это как смерть. И по закону или не по закону была такая любовь — это уже не имеет значения. — И вдруг сжала ладонями виски. — Ах! Эта проклятая война!..
— Война, война… — тяжело отозвалась Варвара Ивановна. А потом сказала: — Я верю вам и хочу чужое рассказать. Знаете, что Елена Заярова горячку перенесла? Мать с отцом чуть с ума не сошли от горя. Получила письмо…
Наши сразу притихли.
— Помните летнюю историю с тем лейтенантом? Так вот: парня, лейтенанта этого, которого она проводила тогда, убили в эшелоне при авиационном налете в прифронтовой полосе. Товарищи написали, что он ее очень любил. Умирая, невестой назвал… А потом нашли блокнот, в нем два адреса; женских: матери и Е. М. Заяровой. Вот так и нашли ее. Ох, горе-то какое. Всего день были знакомы…
— Как это много для любви! — горячо сказала Александра Григорьевна и смолкла.
Она не мигая смотрела на лампу, и в ее больших черных глазах отражался мечущийся огонек. Над бровями пролегли глубокие складки.
За тысячи верст от нас шла война, а была рядом, тут, за столом, по-своему пересекала людские дороги: там убивала насмерть, а тут ранила в самую душу невидимыми осколками.
Я до боли прижался затылком к печной трубе и уже не слушал женщин. Я понял окончательно: любила Ленка того лейтенанта. И он любил ее. Сейчас ей, наверное, и в голову не приходит, что где-то рядом есть еще Санька Ялунин, который тоже ее любит. И живой.
Вспыхнул яркий свет. Я закрыл ладонями глаза, чтобы унять резь. Потом слез с печки, оделся и вышел на улицу. Дождался, пока со станции отправился новый воинский эшелон. Он шел, уверенно набирая скорость, все чаще постукивая колесами на стыках рельсов. Все двери заперты, окна — тоже.
Холодно теперь солдатам. Осень.
Я знал, что на войне убивают каждый день. Из этого эшелона тоже кого-то убьют.
Значит, и любовь чью-то. А ведь это уже два человека. Да еще матери с отцами горе. Да братья!
И сразу вспомнил Александру Григорьевну. И слова ее услышал снова:
— Ах, эта проклятая война!..
13
Деревня Грязнушка, что была в двенадцати верстах от Купавиной, вытянулась по одну сторону узенькой, кое-где тронутой тиной речушки, через которую не было построено ни одного моста — везде переезжали вброд. Даже люди переходов через нее не делали, а перебирались на другой берег по камням, брошенным на дно в двух-трех местах.
Спрятав свои неказистые избы от мира за пологим угором, весной Грязнушка принаряжалась. С деревенского берега через каждые десять-пятнадцать шагов в речку гляделись большущие густые тополя. Возле них домишки-то людские казались избушечками. Да и речка-то, наверное, оттого и мелела сразу после половодья, что поила такую несметную артель тополей.
В солнечные дни, когда круглые крыши старых деревьев пробивал свет, речушка, согретая теплом, затихала, очищалась, как стеклышко, и на дне ее видно было каждую коряжку, каждый камень, подернутый бархатным илом.
Только вечерами, когда начинали поливать огороды, примыкающие к берегу, покой здесь на час-другой нарушался звяком ведер да короткими разговорами соседей.
…А когда тополя сбрасывали цвет, над речушкой неделями стоял белый заслон: крупные хлопья тихо опускались на воду, закутывали речку дымчатой пуховой шалью, и речка дремала. Дремала до тех пор, пока однажды не будил ее короткий летний дождик. Тогда она оживлялась, разрывала в клочья свое мохнатое покрывало и уносила его за деревню, в луга, где прямо в воду забегали с берегов густые кусты вербы. Там, запутавшись у них в ногах, и оставался умирать тополиный цвет…
Только тополя да речка знали и хранили в тайне самые заветные людские секреты. Веснами, перешептываясь меж собой, дружно склоняли над бережком свои старые ветки, чтобы понадежнее укрыть молодую любовь. И уж летом угадывали, чью свадьбу будут играть в деревне осенью.
А когда бубенцовый звон свадебных троек выплескивался на улицу деревни, тополиный берег вспыхивал веселым пожаром листопада, напоследок щедро осыпал молодых своим золотым листом.
…Нынче свадеб не было. И тополя, может быть, впервые на своем веку обманувшие в это лето людские надежды, разделись незаметно по первому же ненастью.
…Ленка Заярова с отцом ехала в Грязнушку к бабушке. Большую часть дороги молчали. Ленка, усевшись на телегу с ногами, думала о чем-то своем. Отец не хотел мешать ей. Только возле самой деревни, когда спускались с угора, Ленка заметила с грустью:
— А Грязнушка наша совсем полиняла: тополя стоят черные, а речки так и вовсе не видно…
— Давно ты не была тут, Ленушка, перед зимой. — Макар ответил сразу, как будто ждал этих слов. — Солнце больше не греет, тепло ушло, холод приступил… Зима у порога.
Они надолго замолкли. Уже заехав в улицу с притихшими старыми избенками, Макар вдруг добавил:
— На то весна после зимы и поставлена, чтобы люди всегда праздника ждали.
Ленка не ответила. Она вглядывалась в улицу, отыскивая бабушкин дом.
Дом бабушки Александры ничем не отличался от других. Такой же старый, как все в Грязнушке, в которой со времен железнодорожного строительства не прибавилось ни одной избушки, с деревянной крышей, тронутой зеленоватыми прожилками плесени, он глядел на улицу тремя оконцами. Видно их было только поздней осенью, когда на сирени в крохотном палисаднике не оставалось ни одного листа.
Тогда и в просторной передней, и в маленькой горенке становилось светло, бабушка Александра радовалась с шуткой:
— Не изба у меня, а диво: к людям осень пришла, а ко мне опять весна пожаловала!
Бабушка Александра умела разглядеть и маленькие радости.
За долгую жизнь она выплакала все слезы, каждая напасть оставила на ее сердце рубец. Но потому что это было сердце матери, боль сделала его мудрым и добрым. Ее ослабевшие глаза с годами становились зорче: она понимала все без слов. Макар уехал домой в тот же день. Старая Александра и не пыталась его удержать. Она не была обижена сыновьей нелаской, но с той поры, как сыны поднялись на ноги, они делали все по-своему. Слов говорили мало. И мать, у которой после всех войн остался в живых только один сын, уже давно считала своей последней радостью Ленку — родимую внучку.
А к внучке пришла беда.
…Бабушка Александра знала: молодую боль бередить не надо.
И ждала.
Вечерами на уголке стола, покрытого старой вытертой клеенкой, неслышно шевелился желтый язычок пламени лампы-мигушки. И только время от времени в сумеречной тишине слышалось короткое шуршание, словно неведомо откуда залетела в избу ночная бабочка, — это бабушка Александра пускала веретено, скручивая вытянутую с прясницы куделю. Слабый огонек освещал только бабушкино лицо да древние, в железной оправе очки с треснутыми стеклышками. И если бы не сухие пальцы, меж которых удивительно быстро струилась нескончаемая нить, можно было подумать, что дремлет бабушка.
Но вот стукнула дверь в сенках, открылась дверь в избу, и понизу от порога скользнул сизый хвост холодного воздуха. Словно в низком поясном поклоне, стуча по полу палкой, посреди прихожей остановилась деревенская горбунья Матрена.
— Здравствуй, Александрушка, богородица наша. Шла, шла да и надумала к тебе в избу зайти посумерничать. Да на твою царицу поглядеть: поди, другой раз приедет, а меня уж и не будет. Ведь я же ее, росиночку, в свои руки принимала… Да где она? Матрена повернулась еще несколько раз и, только когда с трудом подняла голову, увидела Ленку.
Ленка, положив под грудь подушку и подперев лицо руками, внимательно смотрела на нее с печки.
— Все еще не спит, звездочка моя! — сразу завела Матрена. — Молодо — бездремотно. Старухам тепло — для костей да покоя; молодым — для сердечных вздохов. А может, сна нету?.. — Спросила и, не дожидаясь приглашения, стала распоясываться. — Сон тоже раз за разом не приходит, когда и звать приходится: лучше всего с наговором пятки сухим веничком похлопать. И бессонье как рукой сымет. Вот этак-то.
Ленка не проронила ни слова.
— Какой еще сон? — спросила с улыбкой бабушка Александра. — Времени-то восьми часов нет…
— А курицы уж давно спят, — резонно осекла ее Матрена. — Здоровый сон не по времени идет, а по вечеру. — И, не останавливаясь, объяснила: — А у Анисимовых сегодня курица петухом запела: никак беда приключится; самого-то уж месяц как в солдаты забрали… Опять же у Агафьи лук нынешний на полатях в перо пошел: не будет летом урожая, сгниет все али не взойдет вовсе…
Веретено в руках бабушки Александры крутилось почти не останавливаясь, а в избе все скрипел и скрипел голос Матрены:
— …Сказывают, на Больном хуторе волки по первой пороше сели скот караулить. В правлении объявили, что за каждую волчью шкуру, либо телушку, либо ягненка в премию давать станут. А бить-то некому — одни дитята остались… Ой-еченьки! Делов-то стало… у Никифоровых вон корова целый месяц перехаживает, наказывали мне, чтобы зашла поглядеть…
Матрена, кряхтя, поднялась со скамейки, взялась за опояску.
— Пойти надо. — Подумала, взглянула на Ленку осторожно, спросила: — А может, попарить пяточки-то, ягодка моя?..
— Нет, не надо, — ответила Ленка.
Пошаркав возле порога растоптанными валенками, Матрена выползла из избы.
Бабушка Александра тихо вздохнула. Ленке показалось, что она хотела что-то сказать, но раздумала. И тогда Ленка спросила:
— Бабушка, а для чего люди живут?..
Бабушка Александра положила веретено на колени, задумалась. Густая сетка морщин на ее лице чуть приметно разгладилась. Ответила не сразу:
— Для жизни — известно. Для чего еще?
— Не понимаю я…
— А ты смекай, доченька. Так оно и есть: для жизни. Вот хоть бы и наши мужики: отец твой да дядья… Всю жизнь не дома прожили, а где-то на стороне политику да правду добывали. Один Макар и остался живой-то, а у двоих и могилки где — не знаю… — Она снова взялась за веретено, на сосредоточенном лице не отразилось никакого волнения. — Или вон у нас в деревне Семен Фролов, безногий-то, живет, знаешь?.. Когда-то ой какой бойкий мужик был! Женился, ребят уж пятерых или шестерых нажил, а был в Перекатовой в гостях да угадал на пожар. Полез в огонь за дитенком, а его придавило. Из Перекатовой-то повезли его на лошадях прямо в Камышлов, в больницу, почитай, верст за сто. Жену-то только потом известили обо всем. Поехала она за ним, привезла домой без обеих ног… Теперь валенки всей деревне подшивает уж пятнадцатый год. Сидит день-деньской в избе один, да еще песни поет. Тоже, выходит, для жизни живет… — Бабушка Александра отложила пряжу. — На веку-то чего только не наглядишься!.. Тебе еще года два было или три, когда у нас тут, в деревне, случай выдался такой, что и старики отродясь не слыхивали. Где сельсовет, знаешь?.. Так вот, в этом доме жил Прокопий Балин. До переворота, да и потом, все в работниках жил, по богатым деревням ходил. Сколотобил деньжишки кое-какие, сам поставил тот дом. Работал от темна до темна. Сам черный от надсады ходил, жену Феклу до черноты довел и дочь не жалел. Только прошло года два, глядим, а Прокопий сам работников нанимать стал. Шибко богатеть начал. Минуло еще лета два, и принялись вводить колхозы. Делов появилось всяких — не перескажешь. И раскулачивать стали. Задумался Прокопий, а потом взял да и пришел в артель сам. Есть, говорит, у меня дом, скотина, а больше ничего не нажил. Хотите, говорит, забирайте все, хотите — оставьте кое-что семье, только желаю я, как и все, в колхоз… Ну, судили-рядили, а потом все же постановили дом ему оставить, а самого принять в артель. Приняли. Работал он год, два… А потом кто-то из баб с Феклой его разругался возле колодца да в ругани-то и пригрозил, что, мол, все одно в бедноту ихнюю, балинскую, никто не верит, что все знают про его кулацкое нутро и про добро тоже. Фекла, конечно, виду не подала, а дома Прокопию-то и говорит, что из колхоза собираются делать им обыск. С того и началось… Оказалось, что Прокопий, перед тем как вступить в колхоз, чисто все добро спрятал в подпечь, вон туда, под шесток, куда мы ухваты кладем. Даже золото было у него… Ну, вот… Решили они ночью все это перепрятать, совсем из деревни собрались увезти. А когда выбрали кирпичи-то да стали вытаскивать, увидели, что все сгнило: и холсты, и шубы дорогие, и польта, и шали, и валенки казанские, и куски материи разной — все как есть сгнило!.. Видно, в поду трещина образовалась и в подпечье сырость попала… Прокопия тут же сразу и хватил паралич. Пока дочь-то, Марья, отца уложила на постель, Фекла забрала банку с золотом и тихонько из избы-то ушла. Марья хватилась, а матери нет. Побежала ее искать. Везде выглядела — нету, а потом сунулась в стайку, а мать-то там уж задавилась. И золота при ней не оказалось: спрятала куда-то перед смертью… А Марья, значит, опять к отцу да и скажи ему в лоб про все: и про материну смерть, и про золото. Совсем и добила его: до утра не дотянул… — Долго молчала после этого бабушка Александра, только потом закончила: — А сама Марья-то в ту же неделю умом тронулась. После в больницу отвезли, с той поры ее никто и не видывал. Поди, и она уж не жива. А красивая была, такой красотой бог оделил — дороже всякого приданого. Вот и все: в одну ночь целая семья кончилась… А крепкий мужик был Прокопий-то!.. А для чего жил?.. Тоже, наверное, думал, что для жизни…
Бабушка Александра поднялась со скамейки, поглядела на стену, где тикали ходики, и заторопилась к печи:
— Заморила я тебя разговорами-то. Давно ужинать пора, а я перебирать взялась…
— Ну, бабушка!.. — запротестовала Ленка.
— Так ведь я уж все рассказала. Чего еще? Все люди для жизни живут. Только по-разному… Вот и Матрена уж век мыкается в деревне. И никто не знает, то ли она мешается, то ли нужна кому. Видно, тоже для жизни живет…
Ленка любила слушать бабушку, простые и понятные ее рассказы. Лились они спокойно, будто людские дела, которые вспоминала бабушка, вовсе и не касались ее. Но проходил день, и Ленка вдруг обнаруживала, что все время думает про себя об услышанном. Все, о чем рассказывала бабушка, как-то неуловимо близко прикладывалось к ее собственным, Ленкиным, думам.
И не могла понять, отчего это: ведь и люди, о которых вспоминала бабушка, были ей большей частью незнакомые, вовсе чужие, да и дела их, по совести, мало интересовали ее. Но мысли, как заблудившиеся, сделав круг, снова и снова возвращались к ним. И тогда бабушкины рассказы переставали казаться простыми.
Все, о чем в них говорилось, происходило в Грязнушке и касалось своих, деревенских: ведь о других людях бабушка ничего и не знала, потому что век свой прожила здесь безвыездно. А получилось так, будто в Грязнушке сошлись человеческие судьбы со всего света: ни один человек не прожил здесь жизнь, похожую на чью-нибудь другую. И если бы Грязнушка была не деревней, а одним человеком, то наверняка не нашлось бы ни радости такой и ни беды, которых бы она не испытала.
Ленка слушала бабушку, и ей казалось, что бабушка и есть та живая Грязнушка, тот единственный человек, в котором сошлись и все судьбы людские, и вся мудрость мирская. Ведь она знала все-все: и как переносить горе, и как сберегать радость, и какое лето наступит после зимы, и как жить для жизни…
Наступил и тот вечер, когда Ленка, решившись как-то сразу, спросила вдруг:
— Бабушка, а как жить мне?..
В первый раз нескончаемая нить пряжи на мгновение замерла в бабушкиных руках. Их взгляды встретились: Ленкин, в котором боль, растерянность и решимость смешались в немое ожидание, и бабушкин — спокойный, прозорливый, с едва приметными искорками волнения. Бабушка ответила:
— По душе, доченька.
Но ожидание в Ленкином взгляде не потухло, оно стало еще сильнее, и тогда бабушка, отложив пряжу, сказала сразу все:
— Только не пускай в душу свою никакой злости. Не пускай, родимая. Лучше помучайся. Боль век не держится, а злость убивает душу на всю жизнь. После горя солнышко греет человека ласковей прежнего, а злость — вечная темь, от нее душа слепнет. И уж никогда не прибьется к добрым людям…
— Какой он был хороший, бабушка!.. — тихо сказала Ленка.
— Значит, счастье это твое.
— Какое же счастье?! Ведь его уже нет!..
Ленка прикусила губу, будто хотела превозмочь себя и удержать слезинки, копившиеся в глазах.
Бабушка не взглянула на нее. С тем же видимым спокойствием проговорила:
— Счастье смерти недоступно. Человеку узнать его надо, а потом оно всю жизнь за собой вести будет. Ты боль перетерпи, а после к сердцу своему прислушайся. И поймешь, что счастливая ты.
Ленка слушала бабушку, а взгляд ее был устремлен куда-то в свою, только ей известную даль. И в слабом мерцании мигушки светились на щеках мокрые следы скатившихся слезинок.
…На один день выглянуло теплое солнышко, и первый рыхлый снег, которым зима для начала прикрыла осеннюю растоптанную землю, прилег поплотнее, а потом, прихваченный свежим морозом, вспыхнул ослепительно по-зимнему, словно за одну ночь чья-то щедрая рука усыпала его бисером.
В полдень, когда солнце забиралось на самый верх неба, Ленка выходила за деревню и шла по какой-нибудь из дорог. Искрящиеся поля слепили ей глаза, она прищуривалась так, что видела свои заиндевелые ресницы, но шла все дальше и дальше, потому что звала дорога, потому что в душу вливалась освежающая радость окружающей чистоты, потому что не чувствовалось больше угнетающей усталости.
Иногда она останавливалась перед строчками звериных следов, то там, то тут пересекавшими первопуток, и долго следила за их петляющими рисунками, стараясь угадать, какие ночные игры скрыла ночь от людских глаз.
В одну из ночей, когда лунный свет пробил занавеску на окне, Ленка тихонько поднялась с постели, оделась, повязала бабушкину большую пуховую шаль и тихо вышла из дома.
Голубая ночь с высоким звездным небом безмолвствовала над Грязнушкой. Привычные знакомые поля за околицей превратились в безбрежные лунные равнины, исчертанные длинными синими тенями от каждого кусточка, от каждой метелки засохшей травы, от каждого бугорка.
Снега спали в стылой пустой тишине.
И вдруг там, где черная лента темноты спаяла землю с небом, вспыхнул огонек. С минуту он разгорался все ярче и ярче, а потом вдруг быстро угас.
В той стороне была Купавина.
Холодной лапой схватила Ленкино сердце жгучая тоска. Там, через Купавину, днем и ночью шли эшелоны на фронт, все ехали и ехали на войну парни в серых шинелях. Еще совсем недавно у каждого из них было так много надежд на будущее и столько дорог впереди, что трудно было выбрать, по какой пойти лучше.
А сейчас осталась одна: туда…
У Ленки заволокло глаза. Она закрыла их, а когда посмотрела на равнину, увидела, что с той стороны, где загорелся и потух огонек, по фарфоровой глади снегов к ней идут серые люди. Они казались совсем крохотными, а когда приблизились, Ленка отчетливо увидела шинели и шапки. Солдаты шли к ней торопливо, без строя, молча.
А потом один из них сдернул с головы шапку и, подняв над головой, весело помахал ей.
Это был он.
Ленка шагнула с дороги навстречу к нему, но… перед ней по-прежнему лежали пустые снега.
…Ленка быстро возвращалась в Грязнушку.
«Туда, туда, туда…» — громко стучало сердце в груди.
«Туда, туда, туда…» — беззвучно повторяли за ним губы.
Знала, что не выживет больше в Грязнушке ни дня. Знала, что умрет, если не будет каждый день видеть этих парней в серых шинелях, которые едут на войну, торопятся туда, как храбрые и честные мужчины, чтобы скорее покончить с этим страшным временем, которое несет людям горе. Утром сказала:
— Бабушка, я домой пойду. Сегодня. Пешком.
— Стосковалась? — спросила бабушка. А потом согласилась, как всегда, просто и спокойно: — Ну и — с богом, доченька.
14
Тайна век не живет.
Один по одному узнали купавинцы и про письмо, и про Ленкину горячку.
И потому что письмо было фронтовое, к которому худого приговорить никто не решился, да и Ленка много пережила, говорили об этой истории редко и с оглядкой, без осуждения, хотя и без сочувствия тоже.
Колька Бояркин приходил в клуб, делая равнодушное лицо, спрашивал девчат, не появлялась ли Ленка. Получив отрицательный ответ, отправлялся искать водку. С бутылкой и со своей закуской усаживался в пустой станционный буфет и пил там в одиночестве.
Тогда, встречаясь, купавинцы объявляли друг другу:
— Колька страдат в буфете…
И хоть говорилось это со смешком, слышалась в словах и какая-то доля правды. Как будто хотели сказать этим: кто его знает, может быть, Колька по-своему и любит Ленку. Может, и страдает тоже по-своему.
Но я в это не верил. Потому что Колька подлец, если, любя Ленку, мог так оскорбить ее в клубе.
Нет, не любил он ее. А пил оттого, что у него пустая душа была. Только вид делал, что переживает. Волки тоже воют, может, от тоски…
Так бы и кончились разговоры, а время затянуло бы Ленкину рану. Но однажды, когда дождь вперемешку со снегом хлестал по Купавиной, явилась в магазин, как на посиделки, Анисья. Через год после замужества она помирилась со своей грязнушкинской теткой, от которой когда-то сбежала, и постоянно навещала ее.
— Что я вам скажу, бабы! — зашипела в очереди. — Была я вчерась в Грязнушке: с диву чуть не умерла. Ленка-то Заярова две недели там у бабушки прожила. Сказывали, Матрена-горбунья, знахарка, к им в избу по два вечера приходила. А у нас вся деревня знает, что Матрена-то крадче от докторов, чтобы никто не знал, ребятишек выживат. На икону перекрещусь: не вру!.. Вот и смекайте, чего бы зря-то Ленке по гостям разъезжать? Не шибко пора…
Никто не ответил Анисье: слишком страшное для Купавиной принесла она известие.
Я шел домой, как с похорон.
Через несколько дней столкнулся с Ленкой на улице. Поздоровался и остановился. Она ответила мне и прошла мимо. Прошла почти незнакомая: странно, по-бабьи, повязанный платок, торопливая походка, будто спешила скрыться от людей.
«Неужто правду говорят?!»
Мне стало страшно оттого, что все это произошло с Ленкой. Знал я, что теперь ей не скрыться от разных разговоров. Кто спасет ее от позора?
Наверное, никто.
Даже Александра Григорьевна, когда ей мама рассказала, как зажужжала Купавина, только и нашла что ответить:
— Как это жестоко!..
И все.
Никому не было дела до того, что хорошая девчонка, одна в четырех стенах, бьется в слезах, не зная, как отвести от себя черный поклеп.
А кто хотел, уже в открытую трепал Ленкино имя.
И объясняли теперь все иначе:
— Подумаешь, познакомились! И наши девки с солдатами знакомятся. Так этой мало: обязательно надо под шинель залезать. Наверное, патриотка пуще всех!..
Ленку вспоминали в домах, когда выговаривали своим и стращали:
— Гляди, дева, добегаешься до Ленкиного…
Ленкой прикрывались:
— На Заяровых показывайте, не на нас. У нас в подоле не принесет…
Даже разборчивых женихов попрекали Ленкой:
— Наша некрасивая, не подходит. Может, на Ленку метит…
15
Зима пришла на редкость снежная. Она неделями крутила снежную карусель, прибивала к домам сугробы выше дверных ручек, хоронила дороги, останавливала тяжелые воинские эшелоны.
Она заставляла купавинцев подниматься ночами, от мала до велика бросаться муравьиными толпами на расчистку станционных путей, выматывая из них силы, и без того подорванные скудным военным пайком.
По утрам лица людей светлели: воинские эшелоны снова ползли на запад.
В лютую стужу на Купавину стали прибывать поезда, груженные станками и машинами. Люди, не знающие холодов, до глаз обмотанные платками и шалями, прямо с дороги принимались за разгрузку, обмораживались и даже умирали. И снова купавинцы не спали ночей, молча орудовали вагами в молочной снежной круговерти, не понимая, что разгружают и зачем, зная только, что раз приказано — надо, значит, для фронта.
Только потом услышали: сняли завод где-то на Украине, а поставят заново здесь, возле Купавиной.
А за станцией ветродуй еще злее. Но и там, едва удерживаясь на ногах, люди наспех сколачивали бараки, делали из бочек печки-буржуйки, кое-как удерживая тепло, устраивались на жительство.
Лишь бы выжить!
После недельных бешеных скачек гривастые лошади зимы — метели роняли со студеных губ последние хлопья пены и сдыхали.
Наступала перемена погоды.
О Ленке Заяровой почти забыли. Иногда я видел, как она, закутанная в теплый платок, быстро шла из магазина с хлебом, выкупленным по карточкам. Я старался встретиться с ней, только взглянуть: как она?
Мне ни разу не удалось увидеть ни ее глаз, ни ее лица. Не видел их и никто другой.
Но того, что Ленка попалась кому-то навстречу, было достаточно для чьего-нибудь сомнительного сочувствия на людях.
Я понимал, что Ленке не избавиться от пересудов, потому что нечем оградить себя. Хоть любовь ее, никем не признанную, и убили с самолетов где-то возле фронта, чести это не спасало. Другим похоронные приходили, а ей — письмо от товарищей того лейтенанта. Да и то потому, что у него в блокноте ее адрес нашелся. Как полюбовнице написали. Так все и говорили.
А я все равно верил, что Ленка самая хорошая. Верил, и все. Да только что от этого Ленке? Я же понимал, как трудно ей жить-то…
…После буранов, когда свежий снег отлеживался до скрипа, я подавался в лес, туда, где Каменушка виляла между угорами и скалами, поросшими негустыми лесками, находил некрутые долгие спуски. Я летел по ним вниз, замирая от непонятно-радостного чувства, когда скорость радует и пугает сразу, когда страшно упасть, а устоять до конца нет надежды.
Зато потом ты — победитель.
В последний выходной, около полудня, я в десятый раз поднялся на гору и повернул к дому.
Зимой наш лес тоже веселый.
Идешь, идешь и не заметишь, как лыжня подведет тебя под разлапистую ель, как обрушится сверху целый пуд снега и засыплет с головы до ног.
Это ель так играет. Что ты с ней сделаешь! Отряхнешься — и дальше.
…Лес расступился.
Я выбежал на чистое место и сразу почувствовал, как ветер высекает из глаз слезу. Поземка со свистом перехлестывала лыжню и мчалась дальше, торопливо утягивая за собой тонкий хвост. Я долго смотрел ей вслед, а потом вдруг заметил, что бежит она в сторону нашего болота.
Никогда не был я на болоте зимой. А тут вдруг захотелось взглянуть: как оно?
Не узнал я его сначала. Передо мной лежал огромный пустырь. Кое-где на нем уцелели жиденькие рядки сухих дудок: все, что осталось от густых камышовых заслонов.
И только моя березка темнела на самой середине пустыря.
Я пробрался к ней и увидел, что ветер оборвал с нее все листья до единого. Куст смородины задерживал снег, и вокруг сбился большой сугроб, завалил березку до половины. Внизу тонкие сучки торчали прямо из снега, будто росли отдельно. Я снял рукавицу и пощупал один из них. Он был холодный, как апрельская сосулька. «Закоченел, — подумал я, — согни — и переломится…»
Я проверил все ветки, а потом пожалел, что проложил сюда лыжню: вдруг кто-нибудь придет по моему следу и повредит березку. Ведь он же не знает, какая красивая она бывает летом, как ласково шелестит она листвою.
«Хоть бы буран поднялся, — подумал я, отъезжая, — да лыжню замел».
На берегу я обернулся.
Издали березка казалась совсем маленькой. Одна-одинешенька стояла она на ветру и не скрывалась от него. Молча переносила она и холод, и бураны. Никого не просила о помощи, потому что по своей воле выбрала место, где расти.
«Где же сейчас лягушки? — думал я. — Наверное, под кочками спят. Хорошо птицам: у них крылья. Улетели — и все. А водомеры померзли…»
Летом болото звенело тысячами разных голосов, а сейчас вокруг стояла тишина. Только ветер гулял. Но я знал, что придет весна и болото пробудится. Ляжет на мягкое дно старая осока, намокнут и падут в воду уцелевшие дудки камыша, и все зазеленеет снова. А потом, когда устоится тепло, всплывут наверх острова купавок и будут спать на воде туманы. Старая лягушиха постареет еще на год, голос у нее станет совсем шепелявый, как у всех беззубых старух. Еще пуще будут бояться ее молодые лягушки, еще громче устраивать переполох по утрам.
А в осоке народятся молодые водомеры.
Начнет греть солнце, оживет и моя березка. Выбросит липкий зеленый лист. И снова будет доверчиво дарить всему свету свою красоту. Потому что такая, наверное, у нее звезда…
16
Сторож с конного двора, старик Садыков, который недавно наелся дохлой конины и едва отлежался в больнице, второй день доставал где-то водку, сидел пьяный на завалине магазина и весело выкрикивал:
— Побьем теперь! Побьем теперь!
Дошли до фронта наши эшелоны! Помели немцев от Москвы.
Повеселели купавинцы.
…А в нашем доме играла скрипка. Играла каждый день вторую неделю.
В неповторяющейся бесконечной мелодии глубокое раздумье сменялось приступами боли. Временами мечущиеся вскрики струн под смычком слабели, и тогда все заполняла тоска. Скрипку слышал ветер. Он начинал бешено колотиться в мерзлые окна. Но окна не пускали его. И он, взвизгнув, как порванная струна, уносился прочь, в черноту зимней ночи.
Не было вестей от Романа.
Около месяца назад он сообщал, что ездил с поручением в Москву. Забегал в свою квартиру. Там все по-старому. Только холодно и появилась пыль. Хотел вытереть, но спешил. И объяснил: «Спешу в часть. Скоро о нас услышите».
Теперь мы знали: Роман — с наступающими. Что с ним? Жив ли? Об этом вечерами думала скрипка.
Зачастили письма из Томска. Все они были короткие, как будто написанные Верочкой только ради последних строчек: «Знаю, все будет хорошо. Я чувствую…»
— Я верю ей. Так верю! — говорила каждый раз Александра Григорьевна, прислушивалась к скрипке и украдкой смахивала слезу.
А когда все засыпали, мама вытаскивала колоду потрепанных карт и тайком раскладывала их на кухонном столе рядом с посудой. Долго думала над ними. А может, советовалась, потому что губы у нее шевелились.
Но карты ничего не объясняли: мама уходила с той же заботой на лице.
На исходе пятой недели в дом шумно вбежала почтальонка Нюрка:
— Тетя Дуся! Вашим квартирантам письмо! Живой, кажись…
Александра Григорьевна, взглянув на конверт, выговорила только:
— От него.
И опустилась на сундук тут же, в коридоре. Потом долго рассматривала обратный адрес.
— Что-то не пойму ничего. Почему из Горького?..
А письмо было настоящее.
Роман лежал в госпитале. Сообщал, что раньше написать не мог, что через два месяца приедет домой.
— Господи, и ничего о ранении! — жаловалась Александра Григорьевна. — Хотя бы коротко. Ну как же так можно?!
— Не гневи ты бога! — тихонько оговаривала ее мама. — Своей рукой написал, ровненько, своими глазами. Чего еще надо? Кости срастаются, мясо заживает, а рубец мужику — не изъян. Счастливая ты. Посылку гоноши: паек-то здоровому не шибко друг.
— Да, да, да, — соглашалась Александра Григорьевна, а через минуту опять сетовала: — Все-таки так нельзя: ничего о ранении!
И уже думала, хлопотала о посылке.
Легко сказать: посылка! Александра Григорьевна отобрала из вещей кое-что для базара. Мама отправилась с ней, чтобы не проторговалась: в нужде уговорить на бесценок проще простого. А базар, известно, совести не знает.
Выменяли масла, даже сахару достали. По большой просьбе мясную карточку отоварили консервами. Даже муки где-то раздобыли для стряпни. Но Александре Григорьевне хотелось послать что-нибудь повкуснее. И тогда пошел под топор наш молодой петух, оставленный из летних цыплят на смену старому.
— Ничего, старый управится, не лишка куриц-то осталось, всего четыре. Нынче старики в моде. А наш так и вовсе ничего, хоть и гребень отморозил, — приговаривала мама, ощипывая забитого петушка. — Дойдет, не попортится: зима.
Ушло на сборы посылочки больше недели.
А следом другая забота: готовить теплую одежду. Солдатская-то против нашей зимы плохо стоит. Справили свитер. У воинского эшелона выменяли теплое фланелевое белье. Мама связала толстые шерстяные носки, сшили рукавицы на заячьем меху. И опять — на почту.
Теперь Александра Григорьевна только сама отрывала с календаря листки.
Были письма еще. Но Роман так и не написал про свое ранение. Видно, и не думал он о нем, потому что все страшное осталось позади.
А потом вдруг пришла телеграмма: едет Вера. Александра Григорьевна снова кинулась к своим чемоданам убавлять добра.
— Нет, нет, нет! — отказывалась она слушать маму погодить с продажей. — Встретить одной картошкой! Что подумают Инютины! Ведь у нас даже хлеба нет. Хлеба! Я знаю, она всегда любила сладкое…
После уплотнения в нашей квартире стояла такая теснота, что повернуться негде было. А теперь, когда поставили кровать для Романа, проходу совсем не стало. Дошло до того, что меня заставили с Настей спать, а ее деревянную кровать выставили в сарай.
Целый день мама ползала на коленках между столом, шкафом да под кроватями. Все передвинула, везде выскоблила, а вечером повесила на окна чистые занавески. Принарядился наш дом, как на пасху.
И хоть на стол по-прежнему поставили пустой картофельный суп, отрезали по тоненькому ломтику хлеба, все равно нам показалось, что жизнь изменилась к лучшему.
Михаил Самойлович, который с первого дня в Купавиной ходил в безрукавом теплом жилете, вытащил из чемодана костюм-тройку и велел выгладить его.
Встретить Верочку пошли Александра Григорьевна и Михаил Самойлович. Мама хлопотала на кухне возле плиты, где кипел чугунок с водой. Настя прилипла носом к окну, потому что хотела первой увидеть невесту Романа. Я поглядывал на часы и ждал, когда меня пошлют в кладовку за пельменями, настряпанными днем. Конечно, мне тоже хотелось увидеть Верочку, которая знала наперед все, что будет, и успокаивала всех.
Какая она?
Может, степенная, умная, ни одного слова не говорит просто так. Должно же быть в ней что-нибудь особенное, раз для нее так стараются: весь дом перевернули.
На всякий случай я решил глаза не пялить, как Настя, навстречу не выбегать, а посмотреть на Верочку сначала незаметно из комнаты.
И вот в коридор ворвались клубы морозного воздуха.
Вошла Александра Григорьевна. Из-за ее плеча поблескивали очки Михаила Самойловича. А Верочки никакой не было.
Я выскочил из комнаты и только тогда увидел ее. Она оказалась маленькой, всего по плечо Михаилу Самойловичу, да и одета, как семиклашка: коротенькая светло-серая шубка, отороченная белым мехом, синяя юбка узенькая, белые чесанки заводской выделки. А у пуховой шапочки на макушке болтался шарик.
Настя уже стояла впереди всех и, засунув палец в рот, разглядывала гостью.
— Это — Настенька. Правда? — спросила, наклонившись к ней, Верочка. — Курносая и хорошенькая!..
Говорила она торопливо, часто придыхая, будто ей воздуха не хватало. И слова выговаривала не по-нашенски: казалось, в них, кроме буквы «а», никаких других не было.
Ее ни с кем и не знакомили. После Насти она и маму и папу назвала по имени и отчеству, а потом спросила:
— А где же Саня?
Я вышел из-за папиной спины.
— Вот ты какой большой! Возьмешь меня с собой на лыжах кататься?
— Пожалуйста, — ответил я.
— Вот и чудесно! Со всеми познакомилась, обо всем договорилась. Теперь можно и раздеться.
Когда она сняла шубку, стала совсем девчонкой. Мне даже обидно стало за Романа. Фронтовик, кровь пролил, герой, можно сказать. А зайдет со своей невестой в клуб, ее и не заметит никто.
— За стол пожалуйте! — пригласила мама.
— Спасибо! Одну минуточку, извините. Я должна переодеться, — сыпала Верочка. — Умоюсь, приберусь…
— Пельмени уже кипят, — сказала мама.
— Одну секунду, одну секунду!
Она скрылась в комнате Александры Григорьевны. Потом оттуда попросили утюг. Хорошо, что он на плите стоял: сразу подали.
Пельмени уже дымили на столе, когда Верочка появилась в комнате.
Как она изменилась! В темном платье с гофрированной юбкой, в тонких чулках и лакированных туфельках Верочка стала выше. Волосы с небрежно заколотой на затылке шишкой отсвечивали синевой.
Ничего, красивая. Только все у нее было какое-то маленькое: и лицо, и плечики, и руки с тонкими пальчиками.
Она села за стол, придвинула тарелку, оглядела всех и улыбнулась.
Так улыбнулась, как будто всех давно знала и любила.
Наверное, за эту улыбку и полюбил ее Роман.
А потом я заметил, что глаза у нее темные, зрачков не видно. Когда она слушала, то глаза тоже слушали. Что она думает и что ответит, тоже по глазам можно было угадать.
Когда поставили самовар, Верочка сходила к своему чемодану и принесла круглую коробку леденцов.
— Чуть не забыла: специально Настеньке везла.
Настя взяла коробку и, как дура, сразу из-за стола убежала, даже чай пить не стала. И не дозвались ее.
— Какая дикарка! — рассмеялась Верочка.
«Верно, что дикая, позорит народ перед людьми, — согласился я про себя с Верочкой, — как будто сто лет не ела…»
— Наскучалась по сладкому, — смутилась мама.
— Конечно, конечно… — согласилась Верочка и задумалась.
Вот теперь я увидел, какая она серьезная.
А потом заговорили о Романе.
Мама стала собирать посуду.
Я подумал, что зря устраивали весь тарарам. Никакая Верочка не особенная. Такая же, как все люди.
…Минула неделя, а телеграмма от Романа все не приходила.
Верочка пыталась помогать нашим по хозяйству, но ее ни до чего не допускали.
— Вы думаете, что я не умею? — обижалась она.
— Что ты, Верочка! Знаю, все умеешь, — отговаривалась мама. — Да мы сами управимся.
Погода установилась ясная. Папа выпросил в «Локомотиве» лыжи для Верочки. Я подогнал крепления по Вериным чесанкам, и мы с ней стали ездить к Каменушке. Ходила на лыжах Верочка плохо, даже на маленьких горках падала. И все время оправдывалась:
— Понимаешь, не умею в сторону сворачивать. Еду прямо на сосну. Не могу же я налетать на нее. Вот и падаю сама.
Так, вернулись однажды с прогулки, а дома телеграмма от Романа. Верочка прочитала ее, села возле окна и замолчала.
— Чем ты расстроена? — спросила Александра Григорьевна.
— Нет, нет! — встрепенулась Верочка. — Все очень хорошо. — А голос был невеселым.
До приезда Романа оставалось больше суток. И все это время Верочка ходила задумчивая. Когда к ней обращались, вздрагивала, как от испуга.
Романа пошли встречать все, кроме нашего отца. Заранее выбрали на перроне место, где должен был остановиться четвертый вагон. Когда же поезд прибыл, оказалось, что номера вагонов идут задом наперед: вслед за почтовым вагоном стоял тринадцатый номер Все смешалось.
По переполненному перрону пробиваться было трудно.
— Все будет хорошо, — лепетала Верочка, не решаясь оставить задыхающуюся Александру Григорьевну А потом крикнула: — Рома!..
И рванулась вперед.
Александра Григорьевна взглянула ей вслед и как-то сразу заплакала навзрыд.
На перроне в солдатской шинели, с тощим вещевым мешком за плечами стоял на костылях Роман: высокий, худой, чернявый. Стоял на одной ноге и от этого казался выше своего роста. Костыли подпирали шинель под мышками, и она топорщилась на плечах, сутуля его, обнажая кисти худых рук.
— Роман!.. — плакала Александра Григорьевна.
Она хотела обнять его, но, боясь костылей, только нелепо взмахивала руками и казалась от этого смешной и жалкой. Михаил Самойлович хотел выглядеть твердым, выпячивал грудь, словно решил стать ростом вровень с Романом. Он поздоровался с ним за руку, обнял и сказал:
— Ну вот, дома ты, Роман.
Верочка сквозь слезы повторяла одно и то же:
— Ну, что вы? Все ведь очень хорошо. Я же чувствовала…
Александра Григорьевна кивала и плакала. И наша мама тоже.
Верочка тихонько пошла с Романом под руку, приноравливаясь к его походке. И только тут на ее лице со следами слез появилась несмелая улыбка.
Мы уже подходили к выходу с перрона, когда я вдруг увидел Ленку Заярову.
С зимы она работала переписчицей вагонов.
Ленка стояла в телогрейке и шали.
Прижав к груди форменные бланки по учету вагонов, она смотрела на Верочку и Романа. Не видела ни людской толпы, ни поезда, ничего вокруг. Смотрела только на них. Лицо ее потемнело, обветрело от работы на улице. И в глазах ее, таких знакомых мне, уж не было ласковости.
Каждый шаг Романа в Ленкином взгляде отражался, словно не Верочка с ним шла, а она сама. Верочка с Романом скрылись в воротах. А Ленка не шелохнулась. Стояла и смотрела.
В пустые ворота смотрела.
К вечеру шум и суета в нашем доме улеглись. Верочка с Романом тихонько разговаривали вдвоем.
А я думал о Ленке.
Почему она так жадно смотрела на Романа и Верочку?
И только когда вспомнил разговоры про Ленку, всю черную зиму ее, понял.
Завидовала Ленка.
Раньше завидовали ей.
А сегодня завидовала она.
Верочкину любовь война пощадила, хоть и покалечила. А Ленкину отняла. Не оставила даже ожидания.
Оттого, наверное, в ласковой, доброй Ленке и вспыхнула вдруг нечаянная молчаливая зависть. Захлестнула болью и страданием, оставила на перроне одну со своими думами, до которых людям нет дела.
А как бы распрямилась Ленка, как бы гордо она прошла по перрону на месте Верочки!
Вот когда купавинцы увидели бы, какая она бывает на свете — любовь!
…Будь же она проклята, эта война!
17
Март приподнял над землей небо, выкатил на него разогретое солнце, придавил к земле снега. Только ночами теперь подбиралась зима. Схватывала после оттепелей гололедом дороги. А то налетала коротким снежным шквалом, по-шальному хлопала ставнями, пугая старух да малых ребятишек, скулила у вьюшек в печных трубах, словно просилась в дом.
Но убиралась ночь, приходил день, и солнце присаживало свежие сугробы, раскрывало в окнах форточки, помогало ребятне скатывать снежных баб.
Наступила весна.
И опять старик Садыков смеялся на завалине магазина счастливым смехом, весело кричал купавинцам:
— Ничава! Теперь совсем жива! Совсем жива!..
Под веселое диньканье капели провожали мы Романа и Верочку в Томск.
Роман совсем поправился. Был он веселый и непоседливый, дома забрасывал костыли в угол и прыгал по квартире на одной ноге.
Когда потеплело, мы с ним расчистили от всякой рухляди нашу кладовку и на старом верстаке смастерили трехмачтовый парусник по картинке из книжки «Алые паруса». Испытали в корыте с водой.
Жалко было, что Роман не мог дождаться лета. На нашем болоте, возле молодых камышей и свежей осоки, среди желтых островков купавок, парусник плыл бы по чистинам, как корабль путешественников в тропических архипелагах Тихого океана. Но за год, после второго курса института, с которого ушел добровольцем на фронт, Роман не брал в руки учебники. Теперь надо было наверстывать, учиться дальше.
Мы понимали это.
Отправились на станцию всей семьей.
Только Настя все испортила: как вышла из дома, так и заревела во всю головушку.
— Я еще к вам приеду, Настенька! — уговаривала ее Верочка.
— Не приедешь! — ревела Настя.
Так и не унялась, пока поезд не ушел.
…А в апреле погнало снег. Весна выдалась дружная, играючи управлялась с делом. С веселым усердием не только опоила поля, но и нарыла из озорства новые овраги, выпустила из берегов речки. Она налетала даже на железнодорожные мосты, заставляя людей вставать в караулы, а то и мериться силой, когда для удержу буйного паводка на мостах разгружали в воду целые составы кулей с песком.
В Купавиной появилось много приезжего народа. Во всех тупиках, старых и только что построенных, теснились вагоны-теплушки со строителями. По углам, нагрузившись теодолитами, рейками, связками колышков, десятки партий уходили на станцию. Там, прильнув к приборам на треногах, геодезисты, планировщики выбирали места для подъездных путей, обозначали на земле контуры будущего строительства.
С платформ прибывающих поездов сходили экскаваторы, тракторы, автомобили, сгружались транспортеры и бетономешалки.
И не успела еще подсохнуть земля, как первая колея нового железнодорожного пути легла на белые шпалы, брошенные прямо на землю. По ней двинулись тихонько платформы со слитками шлака, с горами песка. Паровоз толкал их впереди себя шажком, словно боялся, что они оступятся и провалятся.
А потом шлак и песок превратились в высокое полотно. Железная дорога залезла на него и, утвердившись окончательно, ползла дальше, заворачивая все ближе к лесу. Она охватила по дальней кромке наше болото и потянулась возле опушки к пустырю, в сторону пашен.
Зато тракторы и экскаваторы отправились к лесу напрямик, мимо стадиона. Они смешали траву с землей, выбили в колее ямы с непросыхающей желтой жижей, увязали до верхних гусениц, но вытаскивали друг друга и с угрюмым рычанием ползли дальше.
И уже первая сосна, словно прощаясь с родным лесом, повернулась на подрубе, глянула во все четыре стороны и повалилась на устланную мхом землю.
Взбугрилась земля рыжими отвалами, а через три недели на первых фундаментах забелели свежие стены сборных бараков, обозначая в лесу улицы нового поселка.
А на Купавину все прибывали и прибывали поезда.
…В те дни я снова увидел Ленку Заярову.
Был самый канун мая. Погода стояла ровная, теплая, а днем припекало совсем по-летнему.
Ленка шла вдоль состава с запломбированными вагонами, приостанавливаясь возле каждого, записывая номера в контрольную ведомость. Для переписчицы самое главное — не пропустить ни одного вагона. Поэтому Ленка, занятая делом, не заметила меня, а я рассматривал ее сколько хотел.
Зимой я редко видел ее: работа у нее на дальних путях, так как учет вагонов касался только грузовых составов. На первых же, возле перрона, всегда стояли либо воинские эшелоны, либо пассажирские поезда. А на этот раз просто случай выдался.
Ленки весна тоже коснулась. Болезнь ее, как видно, прошла. Ленка посвежела. Лицо ее, хоть и загорелое, просветлело. Осенью она была худая, а теперь голенища маленьких хромовых сапожек туго охватывали налитые икры.
Ожила Ленка.
Правда, в походке ее, в движениях, во всей осанке появилось что-то новое, чего раньше вовсе не было.
Проступало в Ленке какое-то особое спокойствие. Если раньше от нее, когда шла по улице, свет исходил, то теперь чувствовалась теплота.
И красота Ленкина не поражаться заставляла, а любоваться. Видно, не наверху она лежала, если вытерпела и горе, и болезнь, и дурную молву, которая страшнее всякой напасти, потому что ложится на душу.
От того, что Ленка пережила, помадами не спасешься. Может быть, когда-нибудь поймут это дуры вроде Анисьи.
Только глядя Ленке вслед, я понял и то, что нынешней весной, хоть я и закончу пятый класс, стану ей не ближе, а еще дальше, совсем уже неровней. Потому что за зиму нисколько не переменился. К тому же Ленка работает, а мне опять все лето придется болтаться с ребятами да ходить с матерью на огород.
Но встретиться нам пришлось.
У всех путейцев на Купавиной картофельное поле было одно. И поскольку земля была разная — где повыше — посуше, а где пониже — влажнее, — участки делили по жребию.
Наш участок выпал рядом с заяровским. В первое же воскресенье все отправились на поле.
Я положил в ведро котелок, ложку и соль. Прихватил небольшой лист железа. Когда пришли в поле, сбегал к железнодорожному полотну, нашел там четыре камня покрупнее, перетащил их на межу. Здесь выкопал узкую неглубокую яму, по бокам укрепил принесенные камни, а сверху положил лист железа. Получилась плита.
После этого на откосе насыпи насобирал разных щеп да обломков старых шпал и все это сложил возле своей печки.
Когда копали, я собирал картофелины, оставшиеся в земле с осени, и складывал их в ведро. Во время отдыха просмотрел их. Конечно, большинство картофелин сгнило: из них сочилась темная липкая жижа. Но попадались и несгнившие: под кожурой у них сохранилась мягкая масса, похожая на остывшую кашу. Такие картофелины я осторожно очищал и складывал в котелок. К обеду наполнил его до краев.
Картошку в котелке я раздавил ложкой, добавил туда немножко воды, круто посолил и старательно размешал. Вышло жидкое тесто, какое делают для оладий, только не белое, а сероватое.
Потом я растопил свою плиту.
Когда железо накалилось, стал печь лепешки. Пеклись они быстро, получались солоноватыми и поджаристыми. Они понравились не только маме, папе и мне, но и Насте. А с молоком — так и совсем хороши.
Теста у меня было вдоволь, поэтому я накормил лепешками сначала маму с папой. Мы с Настей остались возле плиты одни.
— Саня, что это ты делаешь? — вдруг услышал я над головой Ленкин голос.
Когда она подошла, я не заметил.
— Лепешки пеку, — ответил я.
— А почему они такие черные?
— Такие и должны быть, — объяснил я. — Не из крупчатки ведь. Вон…
Я кивнул на котелок.
— Из чего это? — спросила Ленка.
— Из картошки прошлогодней, которая в земле осталась.
— Ой!
— Да, — осмелел я. — В них же сплошной крахмал — тот же хлеб. Вкусные. Только почернее всамделишных. Попробуй…
— Ну… дай одну.
Я выбрал лепешку посветлее, с розовыми запекшимися краешками и отдал Ленке.
— Горячая! — сказала она, перекидывая лепешку с ладошки на ладошку.
— Они вкуснее, горячие-то. Не жди, пока остынет, — посоветовал я.
Ленка откусила кусочек. Разжевала. Ничего не сказав, попробовала еще. Тогда я придвинул ей свою кружку с молоком, из которой еще не пил.
— Ты с молоком попробуй…
Она сидела рядом со мной совсем близко, почти касаясь меня. Обжигаясь, ела мои лепешки, запивала молоком из моей кружки и смотрела на меня таким веселым взглядом, будто я был самым любимым ее дружком.
— Ох, и вкусные, Санька! — похвалила она. — Могу еще одну съесть.
Я снял ей свежую лепешку, но увидел, что она не трогает молоко.
— Ты пей молоко-то, — предложил я еще раз.
— Нет, Санечка, это — тебе.
Но я все-таки настоял.
Потом Ленка посидела возле меня просто так. А когда поднялась, сказала:
— Ну, спасибо тебе. Побегу я.
— Приходи еще, — пригласил я.
— Ладно! — крикнула она уже издали и убежала на свое поле.
Напрасно я ждал ее.
Не пришла Ленка больше. Забыла, наверное.
После того дня я много раз видел ее на станции. Но про лепешки она даже не вспомнила…
А весна, буйно отшумев половодьем, отогрела на солнце землю и пошла в цвет. Светлые березняки поили воздух терпким запахом молодого липкого листа, вкусной крупчаткой потянуло из густых сосняков, на сырых лугах ярко-зелеными пятнами заершился дикий чеснок, полезли травы, вспыхнули на лугах первые цветы. В пышном белом уборе заневестилась лесная черемуха.
В эту-то пору, когда и люди добреют, беззлобно, но со смешком заговорили на Купавиной, что Ленка ездит в эшелонах с солдатами до Свердловска.
Тут уж я не поверил: опять за сплетни взялись. В Свердловск у нас всегда ездили все: за промтоварами, на базары, за школьными учебниками и тетрадями — за всем. И бесплатные билеты выписывались до Свердловска, как до самого близкого города: всего два с половиной часа по-доброму-то.
Кое-кто даже пытался одернуть сплетников:
— Все туда ездим раз в месяц.
— То раз, а то — каждую неделю, — затыкали тому рот. — Да с солдатами. Разница?
И разговоры продолжались.
Однажды я стал свидетелем того, как Ленке сказали про это в глаза.
Она разговаривала на станции с подружкой о Свердловске и о том, что скоро поедет туда.
— С солдатами? — бросил кто-то вопрос.
Ленка обернулась, помолчала и вдруг ответила:
— С солдатами. Если возьмут.
— Возьмут, — со смешком успокоил ее тот же голос.
— Вот и поеду.
— Езжай: этак-то дешевле стоит…
Ленка говорила с подружкой, будто и не слушала больше.
Но я-то видел, как потухли ее глаза.
После этого случая я не уходил со станции с утра до вечера. «Может, Ленка пошутила или назло сказала…» — думал я и хотел убедиться во всем сам. И убедился.
Отправлялся эшелон с первого пути. Двери всех вагонов были широко распахнуты. В одном вагоне пели, в другом — играла гармошка…
И вдруг я увидел Ленку. Она стояла в окружении солдат, опершись на доску, укрепленную поперек двери вагона. К ней наперебой обращались со всех сторон. И она, оборачиваясь то к одному, то к другому, отвечала всем. Увидела на перроне знакомых, крикнула что-то и помахала рукой.
А я перестал ходить на станцию.
Ребята постарше меня много разговаривали про знакомых девок. Чаще рассказы их были такими, которые и волновали и казались бесстыдными. Но все равно говорили с увлечением, страстно, подробно, хотя всегда где-нибудь на стороне, по секрету, чтобы не услышали взрослые. Говорили и про Ленку. Говорили при мне, не зная, что я люблю ее! И клялись, что все это правда. А я не хотел, не мог этому верить.
Я слышал о каждой Ленкиной поездке, знал время, когда она уезжала и возвращалась, терзался ревностью и болью, которые порой доводили меня до непонятного бешенства и желания самому оскорбить ее при всех.
Но встречал ее после возвращения из Свердловска, видел ее глаза, чистые и спокойные, и снова был готов дать по носу любому, кто скажет о ней грязно.
«Не поедет она больше…» — успокаивал себя каждый раз. Но проходила неделя, другая, и Ленка опять уезжала.
«Что же она делает?! Ведь знает сама про разговоры!» — беспомощно досадовал я про себя.
Ленка действительно все знала. Но она легко, с насмешливым искристым взглядом, с озорным форсом, который больше всего злил купавинских сплетниц, бросала им открытый вызов.
И если видела какую-нибудь из них на перроне, уезжая, не упускала случая поддразнить, кричала весело:
— Ждите с победой!
18
Чем заметнее подчеркивали купавинские бабы и девки свое отношение к Ленке, тем смелее отвечала она.
— Съездила? — спрашивала какая-нибудь из ревнивых, которую парень обошел вниманием.
— Съездила.
— Хорошо?
— Еще поеду.
— Скоро?
— А вот танцы с твоим Алешкой отведу и поеду, — дразнила Ленка.
И нечем было оскорбить ее больше. Замолкала ревнивица, не сумев отомстить.
Все реже и реже задевали Ленку: извела себя молва собственной злостью, захлебнулась. А Ленка сама дивилась тому, что сделала ее смелость. И не склоняла больше головы перед людскими наговорами, не робела перед стерегущими взглядами и ушами. Если стоял воинский, не обходила его дальними путями.
— Девушка, какая станция? — спрашивали из вагонов.
— Читайте, мальчики, — показывала Ленка на вокзал. — Купавина.
— Красивая!..
— Очень.
— Да не станция — ты, — объясняли ей.
— У нас все такие, — улыбалась Ленка и, приветливо помахав солдатам, отворачивала в дежурку.
А завистницы шипели:
— Ишь, как стригет… Навострилась.
Мне было радостно за Ленку, что она так ловко утирает носы станционным дурам. И тревожно: их много, она — одна.
Но и эта тревога прошла: Ленка ходила веселая.
Я уже не слушал никаких сплетен. Тем более в доме у нас случилась новость. Отец неожиданно объявил, что его переводят из рабочих в бригадиры на соседний околоток, что жить мы будем на казарме сто сорок девятого километра. Это за двадцать три километра от Купавиной. Казарма, стоит на перегоне. Живет там всего шесть семей. До ближайшего разъезда от нее четыре километра, до деревни — три.
Отказываться от перевода нельзя: приказ.
— За огородом ходить придется вам с Санькой, — говорил отец маме. — Будете приезжать. А вот со школой что делать, не знаю. В деревне там учат только до четырех классов. — А потом встряхнулся. — Собирайтесь, одним словом, остальное решим после.
И ушел на работу.
Тоскливо нам стало с мамой. Александра Григорьевна тоже пригорюнилась. Знали, что поделать ничего нельзя. Закон военного времени — не шутка, за опоздание на пятнадцать минут и то судили.
Мне было жалко расставаться с Купавиной. Жизнь на ней в последнее время интереснее стала: говорили, что будут возле нас строить заводы и город, потому что недалеко еще до войны нашли бокситовое месторождение, которого хватит на сто лет. И тот барачный поселок, что растет в лесу, — начало всему.
На сирени в саду уже присыхал цвет, и я решил сходить на наше болото.
Оно встретило меня знакомым предутренним безмолвием. Еще не проснувшееся, оно лежало под густым лохматым туманом.
Когда солнце угнало туман, я заметил, что болото стало меньше. Наверное, это из-за железнодорожной насыпи, что желтела за ним. Раньше за камышами виднелась далекая синяя полоска леса, и казалось, что болото и камыши тянутся на много километров.
По-прежнему заскрипела старая лягушиха, переполошив молодых, ширкнули в разные стороны водомеры, засуетились трясогузки. Вынырнули из-под воды навстречу солнцу луковки купавок, спеша открыть зеленые ставни и развернуть на воде свой цвет.
Я побрел на свой островок. Проходя мимо зеленых островов, брызгал на купавки водой, но не сорвал ни одной.
Моя березка совсем повзрослела. Она заметно раздала крону вширь, закрыв тенью почти весь островок. А самая макушка ее, вытянувшаяся еще на два вершка, немного склонилась. Словно задумалась березка.
Я лег на спину и стал смотреть в небо. Оно было чистое-чистое, без единого пятнышка.
И вдруг я услышал гул. Он все усиливался, пока не заполнил все вокруг. Казалось, доносился он с неба.
А болото притихло. Замолкли лягушки. Даже старая лягушиха ни разу не заворчала.
Я сел возле березки и огляделся.
На темно-зеленом стекле воды тихо светились желтые огни купавок. Они смотрели в небо широко открытыми лепестками, как будто тоже прислушивались.
А гул катился из леса, из-за железнодорожной насыпи. Там гремела стройка.
Что-то будет здесь? Какая жизнь начнется?
Наверное, и березка думала об этом.
Купавки, еще не тронутые нынешним летом, как напоказ желтели возле каждого плавучего листа, вызрели крупными, пышными. Но мне не хотелось рвать их. Не знаю почему, но я подумал, что Ленка уж не придет сюда.
А гул волнами накатывался со всех сторон. И маленькое болото с примолкшими лягушками прислушивалось к нему, словно боялось привлечь к себе внимание.
Я не пошел с болота домой, а отправился в лес. Вышел на высокий берег Каменушки перед самой загогулиной, в которой вздымалась в небо Каменная Пасть.
Груда камней на мысу против нее и песочный бережок казались совсем маленькими. «И сюда она не придет больше. Тут всегда купались только мальчишки да девчонки. А Ленка уже другая…»
Повернув к дому, подумал, что надо не забыть узнать у отца, есть ли на новом месте речка.
Через день мы уже приготовились к отъезду. Погрузили в крытый вагон, стоявший в тупике, все домашнее барахло, отгородив половину его для коровы. Ждали, когда нас прицепят к какому-нибудь поезду.
И тут Купавину потрясло известие: Ленку Заярову выбросили из поезда на ходу. Точно никто ничего не знал.
Только и можно было услышать:
— Доездилась!..
Рассказала нам про все опять же Варвара Ивановна Полозова, когда пришла вечером в наш вагон попрощаться.
Из ее рассказа я понял только самое главное.
Ленка ехала в Свердловск на тормозной площадке с солдатом. Дорогой он стал приставать к ней. Ленка не поддалась. И тогда, озверев, он столкнул ее с поезда посреди перегона.
Ленка сильно ушиблась, вернулась домой с кровоподтеками и ссадинами.
— С ней страшное творится, — сокрушалась Варвара Ивановна. — Дали бюллетень пока. Мария убивается: у Елены приступы нервные, и она твердит все время: «Жить не хочу! Видеть людей не могу!..»
Я слышал по голосу, видел по лицу, что Варвара Ивановна переживает за Ленку и нисколько не винит ее.
Как я был прав, что ни в какие сказки про Ленку не верил!
Не от боли билась сейчас в припадках Ленка, а от самого подлого людского оскорбления.
И никакой он не защитник Родины тот гад, который ехал с ней и поднял на нее руку.
Поздно вечером пришел отец. Я услышал, что завтра до полудня вагон наш прицепят к сборному поезду, которому на перегоне возле казармы сто сорок девятого километра дадут десятиминутную остановку для нашей разгрузки.
И понял: Ленку больше не увижу.
Всю ночь я не спал.
Жизнь снова раскололась на две половины: понятную и непонятную. «Неужели это опять какая-нибудь проклятая звезда?!»
Я не мог больше лежать в постели. Натянув в темноте штаны, тихонько откатил тяжелую дверь вагона и выскользнул на улицу.
Ночь была холодная. В небе поблескивали звезды, но у самого края земли едва приметной полоской уже занимался рассвет.
Я побежал к болоту.
Мокрая от росы трава хлестала меня по ногам, штаны вымокли выше колен и прилипли к телу. Зубы стучали от холода.
Но я не повернул обратно.
На берегу снимать штаны не стал: все равно они уже намокли. Сразу пошел в воду.
Болото сохранило вчерашнее тепло. Даже туман, скрывший берег, согревал меня. Я брел наугад, скользя вытянутыми руками по воде. Нашел первый плавучий островок. В воде под листами нащупывал тугие бутоны купавок, набрал их целый ворох и вынес на берег.
Потом снова ушел в воду.
Туман уже отставал от воды, когда, отобрав самые крупные бутоны с длинными стеблями и сложив их в аккуратный сноп, я поднял его с земли и пошел напрямик к станции.
И тут выглянуло солнце. На открытом месте, посреди дороги, которая вилась между огородами, оно сразу согревало своим теплом. И купавки, почуяв его, одна за другой стали отворять зеленые покрышки, выбрасывать на волю свой золотой цвет прямо у меня в руках.
У станции я свернул с дороги и пошел к дому Заяровых задами. Возле конюшни пролез между жердей в ограду.
Занавески единственного в доме окна, выходившего во двор, были задернуты. Дверь на улицу плотно заперта. Я подбежал к крыльцу и положил всю груду купавок на его ступени…
Только отойдя обратно к конюшне, обернулся. Купавки, искрясь на солнце влажными лепестками, сплошь устилали крыльцо.
Я понимал, что Ленка не хочет жить и видеть людей, потому что больше ни во что не верит. Ей станет совсем плохо. Еще хуже, чем прошлую осень и зиму.
Но, может быть, она выйдет на крыльцо.
Увидит купавки.
И поймет: на свете любовь есть.
И жить — надо!
19
Много лет прошло с той весны.
Мои старики жили в разных местах. Но, приросшие душой к родным местам, они не уезжали далеко и надолго, каждый раз возвращались на Купавину, а к сроку отцовской пенсии осели на ней совсем. Вернулись под свое небо.
Моя жизнь шла от них стороной. Еще мальчишкой меня после седьмого класса каждую зиму отправляли в город к тетке учиться в десятилетке. А после войны я стал студентом географического факультета.
А потом… Потом было много. И вот я в Купавиной.
Стою на перроне в окружении родных. Растерянная от счастья, убеленная временем, мама ни на минуту не выпускает мою руку.
Смотрю на плотную, загоревшую сестру Настю в окружении неспокойного потомства, солидную и серьезную, и никак не могу представить, что когда-то мог запросто выпроводить ее за ухо из комнаты.
Слышу отца:
— Вот и дома вы, Александр Дмитриевич. Спасибо, что пожаловали отпуском, застали нас живых. Спасибо.
И в голосе его нет ни упрека, ни жалобы.
Это благодарность.
Меня знакомят с зятем. Я знаю, что зовут его Павлом, фамилия Силкин. И что он уже восемь лет муж Насти.
Оказывается, он уроженец Купавиной.
Мне долго объясняют, кто его родители, в каком доме жили, где работали в те годы, когда я знал Купавину. Напоминают, что их участок на картофельном поле за станцией был в том же порядке, что и наш, а в одно лето даже косили вместе.
Я ничего не помню, но согласно киваю, стараюсь побыстрее привыкнуть к его обращению со мной, как с давнишним знакомым, а теперь еще и близким родственником.
Настя выкладывает мне, что работает контролером в цехе на заводе, получает восемьдесят рублей. Павел — электросварщик, приносит до двухсот. Вместе выходит ничего. Хватает.
Прежняя Купавина, скрупулезная хранительница семейных летописей, вещает мне устами матери, кто умер и кто жив, кто стал летчиком, а кто остался насовсем в депо, кто с кем породнился, кто выучился на инженера и кто купил своего «Москвича»…
Спокойный, бесстрастный голос матери заставляет вдруг сильно колотиться мое сердце, и я жду, жду, жду, что в ее скупых словах промелькнет еще одна человеческая судьба.
— Ну, вот и пришли, — заканчивает мама.
…Мы стояли перед той же путейской казармой, из которой уезжали когда-то. Только квартиру семья занимала другую.
И все-таки это был родной дом.
Все здесь знакомо: и старая скрипучая горка для посуды, оклеенная довоенными цветастыми обоями; и комод, в котором ящики открывались только до половины, так как давно перекосились; и тот же стол, еще дедов, с точеными круглыми ножками, всегда качающийся с угла на угол, что объяснялось в любой квартире одинаково: пол неровный.
И всю жизнь под ножки ему совали свернутые куски газет.
На самом видном месте утвердился новосел: телевизор.
— Вот, — объясняла мама, — все теперь дома. И кино.
Настя тянула меня за стол, за которым Павел проворно распоряжался бутылками. Наконец, источая клубы вкусного пара, появилось большое блюдо с пельменями.
— С приездом, сынок!..
До позднего вечера с придирчивым требованием всех подробностей из меня вытягивали рассказы о моей жизни, с почтительным вниманием выслушивали даже те, связанные с работой, в которых ничего не понимали.
Как бы мимоходом справлялись о базарных ценах на продукты в Средней Азии и в Сибири. И молчаливо прощали мое невежество: я не мог ответить.
Когда встали из-за стола, я сказал, что хочу спать на сеновале. Обиженная мама с решительным видом села у двери на табуретку и поджала губы.
Первой сдалась Настя, потом — отец. Спор решился в мою пользу.
Я смертельно устал от этого дня. Все чувства, казалось, были израсходованы. Хотелось побыть одному.
Сеновал показался мне маленьким и тесным. В нем уже давно не жил сочный дух свежего сена. Внизу, в конюшне, стояла тишина. Как я любил когда-то слушать медлительную жвачку коровы, похрустывающей свежей травой. Мне всегда казалось, что ночами она думала свои думы, потому что часто глубоко, по-человечьи вздыхала. И наверное, оттого, что конюшня стала необитаемой, никто не следил за ее исправностью. В крыше зияли щели, вырезая из ночного неба синие полоски, усыпанные мерцающими звездами.
Я вытянулся на постели.
«Почему я не мог спросить у мамы о Заяровых?..»
…А звезды взывали к памяти. И она послушно возвращала меня в далекое детство.
Все вернула мне память. Даже чувства.
Я увидел босоногого мальчишку с ношей купавок на перроне маленькой станции в окружении необыкновенных пассажиров, которым он дарил цветы и рассказывал о Купавиной.
Я видел, как он деловито осматривает свое болотное царство, как немеет рядом с березкой, одевшейся в густой листвяной наряд, как напряженно слушает жизнь своего мира, в котором тысячи простых лягушек живут в своих хоромах-кочках под началом старой лягушихи.
Я видел, как он смотрел в ночи на обнаженную девушку и какой чистой входило в его душу красота и любовь.
Я видел, как, поднявшись до света, он собрал дары плавучих островов — купавки, единственное свое богатство, и благодарно осыпал ими крыльцо, по которому ступала женщина, открывшая ему любовь…
Открывшая мечту.
И я понял Саньку. В ту далекую весну он уехал из Купавиной с чистым и свободным сердцем.
…А потом я увидел его через десять лет.
Он встретил дивную сероглазую женщину с копной золотых волос. Почему он позвал ее? Не знаю. Но она откликнулась. И он решил: пришла любовь…
Воспоминания оборвались.
Дальше начиналась жизнь.
Я лежал на темном сеновале и думал о себе. О том, какой не похожей на мечту оказалась любовь. Неужели только из-за того, что она явилась в обличье мечты? Но ведь мир, из которого пришла мечта, когда-то не был выдумкой! Не был!
…Щели в крыше давно посветлели. Но я не замечал этого. Я думал о своей жизни. И, уже окончательно сломленный усталостью, засыпая, решил, что спрашивать маму ни о чем не нужно.
…На следующий день, под вечер, я вышел из дома. За новым кварталом домов увидел возле березовой рощи стадион с высокими голубыми трибунами, баскетбольными площадками и теннисным кортом. Радуясь, что так быстро отыскал его, уже смелее направился по тротуару вдоль высокой изгороди. В конце станции свернул вправо, к болоту.
Я шел долго, а болота все не было. По бокам опрятных улочек стояли двухэтажные дома. А дальше, за белой кирпичной стеной, стеклянным разливом цеховых крыш широко раскинулся огромный завод.
Щемящее чувство какой-то личной утраты смешалось с неожиданным удивлением и остановило меня на месте. Я неловко повернулся, шагнул и натолкнулся на женщину, погодившуюся рядом со мной на тротуаре. Увидел недовольный взгляд.
— Простите, — поспешно извинился я. — Не скажете ли вы, как мне пройти на Каменушку? Речка такая…
Взгляд женщины смягчился.
— Это близко, — сказала она. И, показав вправо по магистрали, объяснила: — Возле Дома культуры повернете в лес. И дальше — все прямо.
— Спасибо.
Дом культуры стоял возле самого леса, высокий, светлый, весь из стекла, просвечивая лестничными маршами. Перед ним цвел молодой сквер. А в стороны веером расходились пять улиц с многоэтажными домами, со стеклянными вставками витрин магазинов, с оживленными тротуарами.
Я повернул в лес. Пахнуло хвойным запахом. Сняв пиджак и перекинув его через руку, я пошагал по мягкой дорожке.
Лес изменился тоже.
Иссеченный множеством больших и малых дорожек, он поредел. Навсегда покинула его тишина, замолкла извечная задумчивая песня бора. Где-то хрипел мотор машины, взбирающейся на подъем. Где-то шумно шла ребячья ватага.
Я вышел на высокий берег Каменушки, и меня поразил незнакомый простор. Далеко внизу текла маленькая речка. Противоположный берег, безлесый и ровный, полого вздымаясь, переходил в квадраты полей. Они тянулись до самого горизонта. А там, в сизой дали, белел город.
Так это же Красногорск! Но почему он так далеко?
И только сейчас, ошеломленный, я заметил, что Каменная Пасть исчезла! Да! Огромной скалы, которая когда-то загораживала полнеба, не было. На ее месте лежала голая, неровная каменная площадка. И лишь далеко от берега, где эта площадка упиралась в серую, изуродованную стену, словно жуки, ползали самосвалы…
Меня отвлекли ребячьи голоса. Они раздавались совсем близко. Я огляделся. А потом увидел парнишку. Он, видимо, приотстал от товарищей.
— Мальчик! — окликнул я.
Он остановился, разглядывая меня, посмотрел в ту сторону, куда удалялись голоса, но решил задержаться. Подошел.
— Скажи мне, пожалуйста, что сделали со скалой? Куда она делась?
Я показал ему на то место, где стояла когда-то Каменная Пасть.
— Взорвали, — ответил он охотно.
Я видел, что в его глазах загорается любопытство.
— Взорвали?
— Ну да! — весело сказал мальчуган. — Всю на щебенку искрошили. Все новые улицы асфальтовые на ней лежат. И на заводе фундаменты — тоже.
Он увлекся разговором и уже не оглядывался на голоса уходящих товарищей.
— Да, да, — понимающе закивал я. — Красивые улицы. И завод хороший, большой.
— Еще больше будет, — гордо сказал мальчуган и добавил значительно: — И у нас в городе он не один. Мы — союзного значения!..
— Да?.. Что же это вы такое важное делаете?
— А вон, посмотрите…
Я поднял голову.
В спокойную голубую гладь высокого неба впивалась белая игла, на острие которой едва заметно поблескивала блестящая точка плоскостей реактивного самолета.
— Самолет, — сказал я.
— А металл-то наш! — разъяснил мне восторженный голос мальчишки.
Я посмотрел на него. Все в нем светилось радостью. И чистые глаза. И доверчивая улыбка, обнажающая редкие зубы. И даже белобрысый хохолок на макушке как-то необычайно весело и задиристо торчал вверх.
Он взглядом провожал самолет. И, не замечая, стоял, как петух, на одной ноге, поджав другую от волнения…
…Давно убежал мой случайный знакомый.
А я сидел на небольшом валуне и смотрел, как самосвалы с ревом ползли по дороге на лесистый угор, увозили и увозили с берегов Каменушки рваный камень.
Только в сумерках затих карьер.
И вдруг вечерний сумрак пронизал мягкий голубой свет. Заблестела Каменушка, высветлели склоны ее крутых берегов, словно инеем подернуло далекие поля.
По небу плыла луна.
Каменной Пасти не было. Но песочный мыс с грудой камней я увидел внизу прежним: песок как зубной порошок в коробке, когда ее только что откроешь.
Оставлял ли на нем кто-то свои следы еще?..
Далеко впереди меня, где небо смыкалось с погружающейся во мрак землей, зажигался электрическим блеском Красногорск.
Мир, который воскрешала моя память, время переделывало по-своему.
Но, возвращаясь домой, я уже не испытывал того щемящего чувства утраты, которое сначала остановило меня перед заводом, там, где раньше лежало болото. Честное слово, освещенные электричеством улицы молодого города, кварталы человеческого жилья, несли людям радости больше, чем каменная глыба, мрачно нависавшая когда-то над светлой речкой.
Ничего не давала людям эта скала. Надо было раздробить ее в щебень, чтобы она принесла пользу.
И время сделало по-своему!
…Думал я и о березке.
Представил себе тот день, когда стройка явилась на болото, чтобы навечно покончить с ним. Представил, как в панике, надрываясь, квакали лягушки, как метались по гнилым кочкам трясогузки.
И только березка спокойно стояла на островке. Молча жила она. Молча любила свет. Молча уступила место новой красоте на земле.
…Я шел по бульвару.
Деревья, среди которых белели стволы молодых берез, уже смыкали над аллеей свои кроны. Вслед мне из Дома культуры доносилась музыка, а навстречу катился спокойный деловой гул завода. Освещенные стеклянные крыши его цехов казались исполинскими оранжереями, в которых жизнь творила какое-то новое чудо.
Пройдет время, и оно явится к людям, утверждая новую красоту.
Как она будет выглядеть?
Я не могу ответить. Знаю только, что лучше, чем сегодняшняя. Потому что красоту творит мечта.
…Когда-то мир в моем представлении состоял из двух половин: понятной и непонятной.
Жизнь объяснила мне многое из прошлого, научила понимать настоящее и еще сильнее, чем раньше, зовет в будущее.
Разные люди идут по земле.
И среди них те, что взяли в дорогу мечту. Они живут ею, стараясь поселить ее в сегодняшнем дне. Их красота, их любовь, их щедрость и широкое человеческое откровение возмущают улиточный покой равнодушных, вызывая слепую злость.
Так было.
Так есть.
Знаю: так еще будет.
И пусть на свете всегда остаются нераскрытые страницы, подобные зовущей дали. Тогда будет вечно жить мечта. И любовь наших детей станет еще красивее, чем наша.
1964 г.
Афонин крест
1
Года три-четыре назад город Красногорск, построенный в войну на местных рудниках, придвинул свои многоэтажные дома к не очень большой станции Купавиной, но остановился перед тенистой березовой рощицей, словно оробел прорубить через нее улицу.
В рощице ютилось кладбище.
Оно не было похоже ни на деревенские погосты, тихие и по-домашнему прибранные, ни на замусоренные городские кладбища — тесное нагромождение оградок да пирамидок с бренчащими венками.
В березовую рощу никто не заглядывал лет пятнадцать. Ни у старожилов-купавинцев, ни у хозяев нового Красногорска не было здесь родных холмов.
Кладбище это появилось в первую военную осень. С эшелона беженцев сняли женщину с больным ребенком. Пятилетний мальчонок, измученный дизентерией, едва протянул ночь, а к утру умер в тесном станционном медпункте. Везти гробик за четыре версты по бездорожью в деревню Перекатову, на кладбище, было недосуг. И с покорного согласия матери, боявшейся надолго отстать от семьи, уехавшей дальше, в Сибирь, малыша похоронили в березовой роще, приколотив на памятнике фанерку с надписью, сделанной химическим карандашом.
…А война сутолочно катила в обе стороны эшелоны, редкую неделю не оставляя на глухой станции покойника.
Скоро рядом с малышом положили тифозного солдата, потом зарезанную поездом женщину, в первые холода закопали в звонкую землю замерзшего узбека из проехавшего трудбатальона…
Так вот и обосновалось в роще безродное кладбище, словно отодвинулось в сторону от большой людской дороги, чтобы не быть на виду да никому не мешать.
Полоскали землю дожди. Вьюги надували над могилами суметы. Ветры стирали с фанерок карандашные письмена, будто наказывая людскую торопливость. И только веснами, когда теплело солнце, роща настаивала воздух терпким запахом молодых почек. Вперемежку с желтыми одуванчиками да белыми пятнышками ромашек выголубливались стайки незабудок, но скоро тонули в нетоптаном разнотравье, скрывавшем все: и цветы, и осевшие по теплу могилы с покосившимися памятниками-времянками. Ничто не нарушало здесь тишины и покоя. Разве только изредка — лязг лопат да приглушенные голоса людей.
Ни тогда, ни много лет спустя купавинцы не примечали, чтобы кто-то приезжал на это кладбище — скорбный след большой войны в далеком Зауралье. Казалось, время обронило людские жизни в дорожной суете и даже не заметило потери…
И вдруг новый город наткнулся на него. Заглохла стройка. Растерялись планировщики. На безродное кладбище пришли люди. Говорили, ответственные. Они сняли фуражки и, всматриваясь в каждую фанерку, будто винясь перед прошлым, обошли все надгробья. Ни одной надписи не сохранило здесь время: всех уравняло, кто лежал в земле, всех привело к одному знаменателю — войне.
На такое руки не поднять.
И люди ушли.
…Для живых смерть не диво.
Люди смолкают, когда она нежданно проходит рядом, потому что разум и сердце немеют перед ее бессмысленностью. Но годы проходят, и память перестает бередить боль горьких утрат.
Красногорск не имел прошлого. Он был молод и торопился расти. Когда-то на его пути стали две столетних деревни, которыми нароком приезжали дивиться ученые художники, но он безжалостно растоптал старину своими многоэтажными домами. Возле него медленно текла задумчивая Исеть, то приникая к высоким берегам, то нежась в протоках среди заливных лугов да светлых березников. А город перегородил ее плотиной, и солдаты, вернувшиеся с войны, едва узнали ее: где же прежние берега да полянки, на которых загадано было сговаривать девок в невесты?
Зато красногорцы свой город любили. Под большие дома они вырубили сотни гектаров леса, но во дворах не тронули ни одной березы и сосны. И казалось, не город шагнул в лес, а лес пришел на его улицы.
И вдруг — маленькая березовая рощица с забытым кладбищем… Грохочущие экскаваторы понуро опустили железные челюсти до самой земли и присмирели. Вздернув стрелы, насторожились краны. В те дни многих купавинцев вызывали в исполком. Спрашивали:
— Кто похоронен? Откуда? Сами же хоронили!..
— Сами, — отвечали мужики. — А кого — не знаем. Откуда — и подавно. — И добавляли: — Милиция дозволила прибрать.
Женщины рассказывали подробнее:
— И дитята были, и солдаты, и неизвестные вовсе… Вся война там…
От купавинцев отступились. Но вскоре кто-то прочитал в газетке объявление, которое в один день лишило старожилов покоя. Родственникам погребенных велели за год перенести прах близких из березовой рощи на городское кладбище.
Ударили первые морозы, потом завьюжила зима, а на кладбище так никто и не приехал. И чем ближе подступала весна, тем больше мрачнели купавинцы. Заговорили:
— Эко место выдумали: покойников с места на место таскать! Будто не люди…
— И нас никто не спросил!
По тому нешуточному пристрастию, с которым относились ко всяким слухам, как перед неотвратимой бедой, можно было судить, что для купавинцев кладбище, о котором, казалось, они забыли и сами, было вовсе не чужим.
— Вся война там!
Когда-то купавинцы сошлись по объявлениям из разных деревень, своими руками построили и железную дорогу, и новые дома для себя. Война пересекла их судьбу черной полосой. Бабы четыре года бились с ребятишками в голоде и холоде. Если бы их позвали к мужьям на подмогу, на фронт, означавший в их понимании неминучую смерть, они за полдня собрались бы и туда, передав потомство по рукам дальше — старикам да старухам. Но их не позвали. И поэтому они безропотно ютили у себя еще и беженцев, разламывая на чужих и своих последний кусок хлеба. А когда смерть настигала людей в Купавиной, покойника провожали честь по чести, как своего, потому что причиной тому была общая напасть. И в душе купавинцы гордились исполненным долгом.
Перед людьми их совесть была чиста.
И вот пришел этот апрельский полдень, когда к березовой роще притарахтел трактор «Беларусь», приспустил нож бульдозера.
Его уже ждала безмолвная толпа купавинцев.
Тракторист был свой, станционный, Галимзян Садыков, сын старика конюха Нагумана Садыкова, умершего во вторую военную зиму. Галимзян, как и многие другие из Купавиной, работал в Красногорске, а жил в отцовской квартире. Еще накануне он рассказал своим, что его вызвал прораб и велел ехать с утра в березовую рощу ровнять кладбище.
Женщины, дети да несколько стариков стояли в сторонке. Галимзян на них не смотрел. Отвернувшись, он хмуро выслушивал приказ десятника:
— Давай прямо отседова заезжай и по кочкам — наскрозь, до самого края! Шибко не задирай, главное — деревяшки эти сшибить!
Галимзян зло хватил рычаги. Трактор дернулся вперед, повалил первый крест и пошел дальше. Женщины всхлипнули…
Трактор вышел на станционный край рощи, развернулся, сунулся было обратно, но вдруг запнулся и заглох. Галимзян тяжело слез с машины, остановившейся перед аккуратно оструганным, почти не пострадавшим от времени крестом, стянул с головы фуражку и опустился на колени.
— Афонин крест! — ахнула какая-то в толпе. — Бабы! Да ведь это Афонин крест!
— Господи, прости ты нас, грешных!..
Подбежал десятник:
— Граждане женщины!.. Дело казенное, прошу не мешать, порядок не рушить. — И, пробившись к Галимзяну, крикнул: — Садыков!..
Галимзян повернул к нему лицо, такое же веснушчатое, как когда-то у его отца, сказал нетвердым голосом:
— Слышишь — Афонин крест? Не поеду.
— Садыков! — угрожающе побагровел десятник.
— Чего орешь?! Не поеду! — Галимзян вскочил, стал, загораживая собой могилу, и сам закричал: — Не поеду! Слышишь? Не поеду!.. Ты его знаешь?! А? Ты его знаешь?! Ничего ты не знаешь!..
Так же порывисто, как и вскочил, Галимзян сел на могильный холм, спрятал лицо в фуражке. Тихо плакали женщины. Кулаками терли глаза старики. Отбежали в сторону перепуганные ребятишки.
Беспомощно опустил руки примолкший десятник.
…Галимзян открыл лицо. По-мальчишески растерянно огляделся по сторонам, взглянул вверх. Там, в вышине, в голубом, без единого пятнышка, весеннем небе, из края в край волнами перекатывался многоголосый вороний кар. Едва залиствевшие, еще полупрозрачные метлы берез, чуть расшевеленные легким ветерком, казалось, медленно кружились и плыли куда-то в сторону.
Все было так, как в ту далекую-далекую весну…
2
На всю Купавину до войны был один магазин. Стоял он неподалеку от вокзала, как раз делил пополам единственную улицу станционного поселка, вытянувшуюся вдоль железной дороги километра на два. Даже в те дни, когда в магазин забрасывали дешевый ситец, из-за которого бабы могли друг дружке глаза выцарапать, даже в такие дни в магазин влезало не более трех-четырех десятков покупателей. Прилавки стояли по двум сторонам: который покороче — хлебный, который подлиннее — промтоварный.
Продавщица тоже была одна. Поскольку чаще покупали хлеб, то все толклись возле маленького прилавка, возле него же требовали и промтоварную мелочь. Поэтому продавщица все время бегала туда-сюда. Когда же прибывал редкий товар, хлеб и вовсе не продавали.
Керосином торговали два дня на неделе с заднего хода, из пристроя, потому что затаскивать бочки в продуктовый склад запретили пожарники. Отпускала керосин сторожиха Мария Кузьмина. Доверяли ей вполне, потому что баба честная, хоть и неграмотная. Деньги считала она, правда, не бойко, но купавинцы были такие, что если уж шли в магазин, то цены знали получше продавца. Лишнего не передавали, но и обманывать было не заведено. Как же иначе, если все свои?
На некотором расстоянии от магазина стояла высоченная старая береза. Своими длинными косами она почти касалась крыши маленькой караулки, в которой жил магазинный сторож Афоня. Караулка досталась ему еще от первых строителей Купавиной. Когда рубили дома, на лесосеке, откуда доставляли лес, сделали теплушку на больших полозьях. В избушке этой на кирпичной подушке поставили для повальщиков печку-буржуйку да деревянную скамью. А как только открылся магазин, обогревалку волоком притащили на станцию и приткнули возле него к березе на вечные времена.
И сразу же в ней появился Афоня.
Откуда он взялся, никто не слышал. Одно было ясно: приезжий. Потому что купавинцы знали до последнего двора все деревни на пятьдесят верст вокруг и даже дальше, но в них Афоню никто ни разу не примечал. Через чье-то первое знакомство выведали, что зовут его Афанасием. Фамилии допытываться сразу в голову никому не пришло. А когда поняли, что мужик он смирный, одинокий и по характеру непривередливый, да привыкли звать Афоней, и фамилия стала никому не нужна.
Так Афоня и стал Афоней.
По началу стройки купавинцы бедствовали с жильем, не один год перебивались с семьями в землянках. И поэтому никто не удивился, что караулка стала для Афони постоянным домом. Заново проконопаченная, обклеенная изнутри газетами да журнальными листами, она и в самом деле приобрела вполне обжитой вид. Так как все дорожки в Купавиной сходились у магазина, Афонин дом волей-неволей оказался на самом бойком месте. Купавинцы же отличались редкой обстоятельностью: здоровались с каждым, а если здоровались, то проходить мимо, не обмолвившись хотя бы словом о последних новостях, не полагалось.
Что касается Афониной избушки, так возле нее останавливался каждый.
И выходило, жил Афоня на самом миру. А мир жил на его глазах.
…Первейшим признаком всякого благополучия в Купавиной считалась семья. И, наверное, оттого что добродушный Афоня без всякой видимой причины, если не считать слабости в ногах, мыкал свою жизнь один, купавинцы незаметно для себя да и других, а проще — каждый по-своему заботились о нем во всякое время.
Безлюдными ранними утрами, когда на всю станцию, перекрывая вздохи и сиплые гудки паровозов, первым кукарекал самый горластый — в свою хозяйку — ляминский петух, когда из стаек выпускали на волю коров, какая-нибудь из баб непременно заворачивала с подойником к Афоне и, словно обрадованная тем, что он, как и вчера, такой же приветливый один сидит в открытых дверях своей избушки на высоком приступе, здоровалась с ним, требовала крынку и наливала ее до краев парным молоком. Афоня сидел на приступе до открытия магазина, до «сдачи замков», как он объяснял завершение своего дежурства. И если к нему направлялась с подойником другая, захлопотавшаяся поутру хозяйка, он необидно останавливал ее еще издали:
— Спасибо, дева. Есть у меня молочко-то. Спасибо.
Созревал в огороде лук, и у Афони на окошечке появлялся первый зеленый пучок. Поспевала в лесу клубника, и Афоня угощал малую детвору вкусной ягодой. Едва начинали собирать грузди, из Афониной будки уже тянуло густым духом свежей губницы.
Афоня не делал запасов, но картошка и хлеб не переводились у него весь год, а по праздникам, как и во всяком доме, появлялась надлежащая еда: на масленку — блины, на рождество — пельмени, ко всякому дню — свое.
Станционные бабы по пути прихватывали Афонино бельишко для стирки, а продавщица каждый год перед маем оставляла ему кусок сатинета на рубаху, сама отдавала шить кому-нибудь прямо у прилавка, не спрашивая о том Афоню.
Никто не знал, сколько ему лет. Но потому что бороденка у Афони была кудлатой, лицо, иссеченное мелкими морщинами, — коричневым, походка из-за больных ног — некрепкой, а главное, что жил он без бабы, будто так и надо, его с самого начала причислили к старикам. И хотя десять лет, прожитые в Купавиной, не состарили его и на год, этого уже никто не замечал. Поэтому давно переселившимся в добрые дома купавинцам и в голову не приходило, что Афоня тоже может иметь другое жилье. Люди, не спрашивая его, отвели ему постоянное место.
И в душе, и в жизни.
…Над Купавиной было всегда самое высокое и голубое на свете небо, вокруг нее шумели самые мудрые боры, звенели веселыми птичьими играми самые светлые березники, а на пестроцветных журавлиных лугах рос самый сладкий дикий чеснок. Вся эта земная благодать была для купавинцев такой же обыденной, как и все другое, окружавшее их: у них в домах были сложены самые жаркие и удобные печи, только в их горшках можно было сварить самую вкусную кашу, только свои пимокаты делали валенки, в которых не доставала самая лютая стужа.
Все свое, потому что иного они не знали, да и не больно хотели знать, было для них лучшим. Поэтому и на жизнь свою, при всех мелких напастях, они никогда не жаловались.
Сны их были такими же крепкими, как и привычки.
Ночь не оставалась без призора. Ее провожал до утра Афоня.
Тоже свой.
И тоже привычный.
…Часов около восьми каждого утра, «сдав замки», Афоня удалялся спать. Появлялся он только после одиннадцати. Долго всматривался из-под руки в небо, потом в размышлении почесывал затылок под шапкой, которую носил зиму и лето, и, скрывшись ненадолго в своей конуре, выносил оттуда сначала табуретку, которую устанавливал возле порога, потом — чистую тряпицу с немудрящей закуской, чаще всего — двумя-тремя вареными картофелинами да парой ломтей хлеба. Последними на табуретке объявлялись чекушка и маленькая рюмочка, похожая на наперсток.
Поудобнее усевшись на приступе, Афоня принимался неторопливо, чтобы не испортить стекла, распечатывать бутылочку. А для купавинцев это означало, что день сегодня предстоит ясный, и если в небе даже и ходят небольшие тучки, то это все равно пустое, и дождя не будет.
Примета верная.
…Через часик, опростав пару «наперстков», Афоня заметно оживлялся. В светлых глазах его, обычно покойных и выражавших только простодушие, начинали пробиваться веселые, даже озорные огоньки, морщин на лице становилось меньше.
В такие дни, а они повторялись только при хорошей погоде все десять лет, в Афоне пробуждалась охота к беседе. И хотя предмет разговора оставался неизменным, повторение Афоню не смущало. Теперь всякий, кто проходил мимо, не только здоровался, но и подсаживался к Афоне на чурбачок, специально поставленный возле сторожки для этой цели.
Афоня каждому предлагал «наперсток». Но, взглянув на малую емкость, гости не решались обездоливать хозяина и поэтому рьяно отказывались от угощения, ссылаясь на всякие посторонние причины, чтобы не обидеть. И тогда Афоня веско и убежденно говорил:
— А здря. При умеренности эта штука даже пользительная.
Он, конечно, знал, что собеседник водку не обходит. Но приглашения не повторял.
— От водочки, брат, вся радость в жизни идет! — вещал Афоня с достоинством мудреца. — И распорядок тоже. А ты как думал?!
Он замолкал ненадолго, взвешивая слова.
— Вот, к примеру, я. Сколько годов на свете живу, каждый день к своей мысли подтверждение нахожу… На свете ведь как? Каждый по-своему бьется. А ты возьми да и поприметь, как он вот к этой лихоманке повернут, — ласково кивал Афоня на четушку. — Иной — с осторожностью, а другой — с милой душенькой; который по нужде зауздан, а который от денег себя привернул, а оба любят. И во всей этдай картине людской характер проявляется. А ты как думал?
Обязательно поминал Афоня при этом путейского конюха Степана Лямина, весьма уважаемого им, и жену его Анисью, лютую бабу. И другого конюха, многодетного Нагумана Садыкова, приводил в пример, и первого паровозника на всей их дороге Ивана Артемьевича Кузнецова. А Бояркиных, которые, по его мнению, от жадности дома пили, за занавесочкой, противопоставлял, говорил, что вино добрее их не делает.
— Теперь соображай: выходит, в бутылочке каждый свой резон ищет. Один душу свою укрепляет; другой через нее нужду свою забывает; третий бодрость черпает; последний — опять же при ее содействии — выказывает перед миром свое дерьмовое нутро. А это тоже польза, потому как людям очень даже надо знать, где дерьмо лежит… Что касается меня, я к ней имею расположение по причине размышления над людскими делами. Когда выпьешь да посмотришь на нашу Купавину, то сразу и видишь, что вовсе она и не малая станция Все в ней, как в большом миру, хотя и народу живет не миллион. А ты как думал?!
Афоня допивал последний «наперсток», убирал пустую четушку и, сворачивая тряпицу, заключал:
— Я вот в кино не хожу, хотя клуб — вон он! А про что там показывают, знаю до последней тонкости от ребятишек: они тут после каждого сеанса мне часа по четыре рассказывают еще поинтереснее, чем там. Получается, что которые кинокартины есть геройские, а которые, конечно, для смеху. А все — про жизнь. Я само собой незаметно допытываюсь у ребятишек про свое. И что же получается? Ни одного кина без рюмочки еще не показывали. Понял? Значит, водочка и свой политический умысел имеет! Не-ет, что ни говори, а при душевной соразмерности штука эта очень даже пользительная. Не дурак ее придумал!
Афоня поднимался, брал в руки табуретку и, взглянув на солнце, говорил:
— Ну, ладно. Спасибо, что посидел, беседой пожаловал. А время-то к пяти. Отдохнуть да на дежурство выходить надо: ночь впереди. Бывай здоров! Заворачивай, коли путь будет…
И дверь сторожки закрывалась.
Больше четвертинки, да и то непременно при хорошей погоде, Афоня никогда не выпивал. Поэтому трех-четырех часов отдыха от беседы ему вполне хватало. Не позднее девяти он, зимой и летом одетый в полушубок и валенки, серьезный и строгий, выходил из сторожки с берданкой на плече. Деловито осмотрев замки с переднего и заднего ходов, садился на завалине магазина — неприступный и суровый, как и подобает всякому стражу.
Берданка, из которой Афоня за десять лет еще ни разу не выстрелил, воинственно торчала вверх.
3
Человеческая жизнь — не ровная дорожка: то в сторону увернет вдруг, то ухабиться начнет. И нет на свете человека, который бы не оступился на ней ни разу.
Не миновал своего поворота и Афоня.
В теплые летние дни, когда ветер не шевелил березы, а солнце раздвигало улицы Купавиной вширь, станционная детвора делилась на противные армии и начиналась большая война.
Воевали все. Никто не оставался в стороне, потому что армии были добровольческие. Путейские — стародавние ратные недруги движенских — открывали боевые действия первыми. В то лето, когда они уже вторую неделю терпели неудачи, к ним вдруг явились ребята из бараков и без всяких объяснений заявили, что если путейские уступят главное командование их вожаку, Гешке Карнаухову, то движенские будут разбиты. Командир путейских Васька Полыхаев, самый проворный парнишка на станции и непобедимый в рукопашных схватках, сначала аж захохотал. Но бараковцы стояли на своем, предупредив, между прочим, что изобрели военный секрет. После этого Васька немедленно прогнал в сторону подчиненных и остался с глазу на глаз с Гешкой Карнауховым.
Военный совет кончился минут через пять. К удивлению всей армии, Васька объявил, что передает командование Гешке. А Гешка тут же назначил Ваську начальником штаба нового фронта союзников.
Короткое перемирие кончилось.
…Наступило утро новых боевых сражений. Оно было такое же неприметное, как и вчерашнее. Взрослые купавинцы деловито торопились на работу. Женщины занимались обычными делами, выходя из домов то в огороды, то к соседям. А в это время путейские часовые уже обнаружили в крапиве возле вагонного участка первых разведчиков движенских.
В главном стане путейских — возле сараев, около конторского дома дистанции пути, — загудел под ударами болта обломок рельса. Из ближайших домов к месту сбора посыпали «бойцы». Но откуда-то сбоку резанули яростные пулеметные очереди и выстрелы:
— Тра-та-та-та-та!!! Тах! Тах!..
Путейские кинулись по канавам и переулкам, а кто половчее — махнул через заборы, залегая за грядами чужих огородов, за густыми зарослями акаций, конопли и репея. Васька Полыхаев залез в противопожарную бочку с водой, прикрылся крышкой и разил солдат противника наверняка.
Все отстреливались с отчаянностью обреченных. И вдруг случилось чудо. Из-за бараков, с правого фланга движенцев, под флагом путейской армии прямо на дорогу выкатил зеленый броневик. Он не торопясь развернулся в сторону наступающих и двинулся на них, оглушительно хлопая трещоткой, будто поливал движенских из самого настоящего пулемета. Время от времени через рупор, установленный над пулеметом, слышался радостный голос Гешки Карнаухова, объявлявшего имена «убитых». Путейская рать торжествующе взвыла и кинулась в атаку под прикрытием броневой машины.
Кое-кто из движенских, особенно ловко замаскировавшихся, несколько раз попал в броневик гранатами, начиненными древесной золой. Но броневик выползал из клубов дыма и по-прежнему отсвечивал на солнце куполом своей боевой башни — прибитым вверх дном зеленым эмалированным тазиком.
Движенские вместе со своими союзниками были сломлены к полудню окончательно.
…После разгрома обе армии сошлись на совещание, чтобы обсудить дальнейшие условия войны, а главное — определить обстоятельства, при которых броневик будет считаться выведенным из строя.
Гешка Карнаухов, изобретатель броневика и теперешний командир путейской армии, заявил, что признает себя побежденным только тогда, когда броневик захватят и уведут или остановят миной.
После этого кое-кто из движенских предлагал броневик украсть. Но разведка доложила, что Гешка, даже при коротких отлучках, закрывает свою машину в сарае на старинный висячий замок.
Тогда решили захватить Гешку в плен. Но и этот план отпал, потому что через кого-то из путейских узнали, что ключ Гешка с собой не носит, а прячет в потайное место.
На Купавиной воцарилось шаткое перемирие.
Было ясно, что движенские только затаились. Поэтому путейские каждый день проводили военные советы, укрепляя свою бдительность. Тем более что безоружные движенские целыми днями терлись в стане своих победителей, играли вместе в лапту и даже вместе сидели в кино на детских сеансах.
…Афоня, как и во всем другом, был в курсе военных дел, ибо пользовался обоюдным доверием враждующих сторон. Он честно выручал советами военных командиров, но никогда не выдавал их секретов.
И все-таки случилось непоправимое…
К Дню железнодорожника Афоня неожиданно получил денежную премию. Впервые за десять лет он купил сразу пол-литра водки, раскошелился на магазинскую закуску, всех зазывал к своей сторожке чуть не силком и не отступал от гостей, пока те не выпивали хотя бы по одному «наперстку». По Купавиной пошла весть:
— Афоня загулял!
Такого еще не бывало. И поэтому редкий из купавинцев не сходил к магазину хоть издали поглядеть на Афонин праздник.
Часам к пяти разомлевший от водки и разговоров Афоня мирно благодушествовал, сидя на пороге сторожки. За день к поллитре пришлось докупать еще четок. С непривычки голова у него кружилась, но спать он не хотел, поскольку впервые в жизни встречал праздник на ударном положении, с премией. Целый день вертелись возле него еще и ребятишки. Затяжелевший хозяин угощал их «подушечками», а от военных вопросов отговаривался:
— И чего это вы, ребята? Разве по праздникам кто воюет? Шли бы лучше на гуляние в березовую рощу: там и буфет с музыкой, и мороженое с футболом. А вам бы все палить!..
И вдруг захохотал:
— Вон, Гешка Карнаухов довоевался, — сквозь смех говорил он. — Сейчас только подъехал к дому на своем броневике, а мать и увидела, что он новый тазик на башню израсходовал. Как вытащила его за уши из этой самой башни — и айда веником понужать!.. — Афоня вытер слезы, выступившие от смеха, и закончил: — Домой уволокла: наверное, еще рукотерником добавит…
Путейские, уязвленные насмешкой, неловко молчали, не зная, то ли уйти, то ли пропустить Афонины слова мимо ушей. Движенские с хохотом поднялись и отправились прочь.
А через полчаса путейских взбудоражило самое страшное известие: движенские увели броневик прямо от Гешкиного крыльца.
Слетевшаяся в минуту армия путейских в полном составе двинулась к противнику, который захватил броневик без объявления войны. Спор, начавшийся возле орсовского овощехранилища, почти сразу же перешел в драку. Гешка Карнаухов, забыв про домашнюю вздрючку, вместе с Васькой Полыхаевым в минуту расквасили носы всем командирам движенских. Но это не помогло.
К вечеру обозленный военный совет путейских решил, что во всем виноват Афоня: это он разболтал про Гешкину взбучку, опозорил путейских, да еще и выдал, что броневик стоит без охраны. А сам Гешка только сказал угрожающе и загадочно:
— Запомним…
…Афоня удалился на отдых только после семи часов. В девять часов дверь караулки против обыкновения не отворилась. Не появился страж и в десять.
Гешка собрал десятка два ребят и увел их к себе на огород. Оттуда, вооружившись длинными кольями, они один по одному разными путями подошли к магазину, устроившись кто у канавы, кто возле забора по соседству, кто на завалине дома на другой стороне улицы. Гешка подкрался к караулке, прислушался. Потом заглянул в щель неплотно прикрытой двери и подал знак. Когда все собрались возле него, сообщил страшным шепотом:
— Спит. Храпит даже. — И приказал: — Начинай!..
Ребята дружно подсунули колья под полозья, надавили, и караулка со спящим Афоней на вершок подалась со своего места.
После каждого усилия ребята переводили дух, напряженно прислушивались и поддавали еще и еще. Не прошло и часа, как Афонина караулка отъехала за угол соседнего с магазином дома, в котором помещался дорпрофсож. Ее придвинули вплотную к штакетнику сада под разросшиеся акации. После этого Гешка деловито осмотрелся, словно проверил, все ли сделано как полагается, и велел разбегаться.
…Давно смолкли колобродившие с вечера гармошки, улицы утонули в мягкой тишине: ступишь — провалишься. Потом вызвездилась над Купавиной ясная августовская ночь. Повисла в прохладной вышине луна, бросая от берез и домов едва приметные короткие тени.
И вдруг прозрачную синь ночи с треском распорол оглушительный выстрел, потом другой, третий… Горохом посыпали на улицу купавинцы, не чуя под собой ног кинулись на пальбу, все еще гремевшую в стороне магазина.
Там, посреди толпы полуодетых мужиков, на коленях стоял Афоня. Берданка валялась в стороне. Не скрывая слез, обезумевший страж просил у людей прощения:
— Грех попутал, люди! Открыто каюсь: проспал службу, испугался, выбегаю на улицу, а магазина нету: девался куда-то! Все в нутре отпало, зачал стрелять, весь арсенал в расход пустил… От премии помрачнение!
Ребятня впопыхах оставила возле караулки несколько кольев, и мужики, сперва определив, каким образом Афоня отъехал от магазина, тем же порядком поставили караулку на прежнее место. Враз постаревший на десять лет Афоня бестолково топтался с берданкой возле магазина. Он то благодарил мужиков непонятно за что, то ругал себя, то начинал ахать и охать, щупая угол магазина, словно еще раз хотел убедиться, что магазин и вправду нашелся.
Откуда-то появились ребятишки. И тут же кто-то схватил своего за волосы.
— Ага! Вот они, варнаки!..
Ребята кинулись врассыпную. Но купавинцы уже увидели виновников ночной кутерьмы. Толпа растаяла в три минуты, оставив на завалине магазина сгорбленного позором Афоню.
Зачинщиков хулиганства хотели найти сразу. Почти до утра то из одного, то из другого двора вырывался на улицу ребячий вой. Шло следствие. Перепоров для порядка всех «вояк», купавинцы успокоились.
А над станцией, перекрывая сиплые свистки паровозов, уже летел утренний крик ляминского петуха…
4
Шутку купавинцы любили. И хоть на выдумки были не шибко горазды, смех для себя добывали.
Иной хозяин припозднится домой, откроет калитку на виду у сумерничающих соседей, а на него повалится лохматая метла, похожая на черта. И дюжий мужик шалеет от страха.
А кругом смех. И обижаться не положено.
…Доберутся бабы до семечек, вынесут на улицу скамейку, поплевывают и чешут языки дотемна. Подкрадется к ним кто-нибудь из мужиков, ухватит скамью за торец и перевернет. Взвизгнут пугливые, опрокинутся так, что запутаются в собственных подолах. А потом отдышатся от испуга и сами хохочут над собой до колик. Как тут рассердишься, если мужикам поиграть захотелось?
Да и мужики-то, самые серьезные люди на Купавиной, тешились иной раз, как ребятишки. Закурят после работы возле ремонтной, лениво толкуют про минувший день. А найдется какой-нибудь неказистый, ни с того ни с сего дернет с земли двухпудовую гирю, поставит утычью в стену, подержит с полминуты, а потом отбросит в сторону и руки отряхнет.
— Эх, дурь-то покоя не дает! Не наробился… — усмехнется другой, посолиднее.
— А ты попробуй, — задирает первый.
— Чего тут пробовать-то? — ответит, выплюнет цигарку, придавит сапогом и отвернется.
— Знамо дело, плюнуть легче… — не сдается первый. — А ты приткни, приткни гирю-то к стене. Слабо.
Тут уж и других любопытство заберет. Вынудят здоровилу взяться за гирю. Поднимет он ее с земли, как пустую консервную банку, ткнет в стену, а гиря, проклятая, скользнет вниз так, что отскочить заставит, если ног жалко.
И пойдет потеха. Мужик здоровый, на спор, бывало, ту же гирю по тридцать раз вверх подбрасывал и ловил на лету, а к стене прижать — силы нет. Хохот стоит на всю станцию! Детина приходит от этого в ярость. Долбит двухпудовкой стену так, что она вот-вот обвалится. А гиря все равно не слушается.
— А ну, бери еще раз! — рявкнет на зачинщика. — Мухлюешь, хитрая рожа.
— Да что ты! — ласково отзывается тот. — Пожалуйста.
И гиря, как заговоренная, снова прилипает к стене.
— Да что это — язвить ее! — рычит вконец посрамленный верзила.
И под слезный смех мужичьей оравы принимается сызнова изматывать себя…
Но в Купавиной все было, как везде.
И зависть жила.
И сплетня который раз жалила пуще крапивы.
Да и при шутке, если она переступала свой предел, дело доходило до больших и долгих обид.
Никто не принял за шутку и ребячье посягательство на Афоню.
— Человека при службе обидели.
…Афоня же, как и прежде, ждал по утрам «сдачи замков». Как и прежде, заворачивали к нему бабы, чтобы попотчевать свежим молоком. Но если поблизости Афониной сторожки подвертывался под руку отцу или матери кто-то из ребятишек, то непременно получал подзатыльника: это Афоне высказывалось душевное участие. Ибо у купавинцев, судивших обо всем по себе, и сомнения не было, что мается он смертной обидой.
Что касается самого Афони, то не прошло и недели, как возле его сторожки снова загалдела малышня. Сначала робко, от виноватости, а потом шумно и весело, оттого что боязнь потерять дорогую дружбу прошла. И этот мир был таким добрым, что недавние Афонины обидчики забыли и про свою войну, и про бдительность: даже Гешкин броневик стоял возле сарая без всякой охраны. Отлегло от сердца и у старших купавинцев, которым, по совести сказать, до смерти надоело тратиться на подзатыльники.
Как и прежде, в теплые дни, в положенный час Афоня выносил из сторожки свою табуретку. Только место четушки и «наперстка» на ней прочно заняли вместительный чайник и эмалированная зеленая кружка. Приметливые купавинцы долго обмалчивали такую перемену.
Сколько бы они молчали еще — никто не знает. Но однажды машинист дядя Ваня Кузнецов, в дни получек непременно обзаводившийся в магазине поллитровкой, поздоровался с Афоней, присел к нему на чурбачок и поинтересовался:
— И что это ты, Афоня, за питье себе выдумал?
— Чай, Иван Артемьевич.
— Как я понимаю, так это вода. Только горячая. Конечно, запах, так сказать… и брюхо нальешь. А меня вот, положу руку на сердце, на него не заманить.
— А здря, — внушительно возразил Афоня. — Неужто ты, Иван Артемьевич, и не знаешь, что чай — это самый благородный напиток? Даже цари знаменитые его употребляют. Индийские, к примеру. Их еще магараждами зовут. Давным-давно в старорежимном журнале «Нива» я читал, что эти магаражды по сто годов живут. Да еще до последу в шахматы играют. А все из-за него, из-за чая. А ты как думал?!
— Хм! А ежели праздник? — усмехнулся дядя Ваня. — Ежели ко мне гости придут? По-твоему, выходит, я должен с ними в шахматы играть? — И, подумав, полюбопытствовал тут же: — А в той «Ниве» не написано, магарожии те с чаю на гармошке не играют?
Афоня вытер белой тряпицей вспотевший лоб и, отхлебнув из кружки, взглянул на дядю Ваню:
— В сторону ведешь, Иван Артемьевич.
— Да что ты, Афоня! — весело запротестовал тот. — Я же не против чая-то. Только я к тому это, что при хорошем настроении да в праздники от чая не повеселеешь.
— А что же тебе для веселья требуется?
— А вот.
Дядя Ваня отвернул полу двубортного пиджака, показал сургучную шляпку бутылки. Афоня равнодушно скользнул по ней взглядом.
— Обман это, Иван Артемьевич. Обман. — Он подлил в кружку свежего чая и сказал убежденно: — Если хочешь знать, от водочки, брат, весь непорядок, вся дурь человеческая происходит! И беды тоже. А ты как думал? — И, остановив жестом готового возразить дядю Ваню, продолжал: — Ты оглядись вокруг себя, Иван Артемьевич, перебери памятью нашу Купавину. В ней ведь и народу-то — табунишко так себе, а все равно сразу видно, кто в душе с поллитровкой в обнимку ходит. Конечно, поскольку народу трудящему первым делом работать положено, выпивать ему каждый день утомительно, так как похмелье одолеет, а расценки-то — они сдельные… Оттого, может, у нас никто еще до безобразного состояния не дошел… брюхо — оно тоже руководитель. А если поглядеть с последственной стороны? Выявляется очень даже разная картина…
Афоня на минуту отвлекся от разговора к чайнику, а потом заговорил снова:
— Не мне тебе говорить про Степана Лямина. Мужик всю свою жизнь денно и нощно в труде, ударником всю дорогу числится и безотказный ко всякой людской просьбе. А как только похвалят его на собрании или праздник наступит какой, хоть казенный, хоть престольный, так он сразу раным-ранехонько скачет на своем батоге в магазин, чтобы, значит, обзавестись питьем. Того не понимает, что потом по причине его веселья у всей Купавиной в носу вертит. А секрет коренится где? — спрашивал Афоня. И сам отмечал: — В его бабе Анисье. И понять это очень даже легко Известно, что Степан водочку употребляет не дома, а в конюшне, в своей, значит, компании, с лошадями. Они животные тоже трудящие и смирные. А дома Анисья, при ней обороняться надо. Потом уж, после своего причастия, когда до красной отметки достанет, Степан прибывает домой. С Анисьей — а баба она, как знаешь, вредности, невероятной, — конечное дело, начинается баталия. Степан, как может, ее агитирует, а какой из выпившего человека агитатор?.. Вот и получается на следующий день картина: Степан опять к лошадям, а его распрекрасная Анисья со своей неизрасходованной злостью — по станции, по людям: кого лягнет, кого укусит, кого облает… Да что говорить!.. — И, поставив пустую кружку на табуретку, твердо закончил: — А если бы Степан взял себя в полную трезвость, разве не хватило бы у него толку свою бабу обнамордить? Определенно хватило бы. И люди бы за это ему медаль выхлопотали. А ты как думал?
Афоня расстегнул ворот рубахи, облегченно вздохнул.
— Да разве одного Степана эта лихоманка с линии сбивает? — размышлял он. — Нагуман Садыков вон, постарше его, а в какое затмение впал! Ребят, как веников на зиму, изготовил, не сосчитать. Люди, значит, судачат, что они с Альфией после получки свою горемычную жизнь скрашивают. А какое же это, с позволения сказать, облегчение, ежели потом вся ихняя домашняя артель, кроме малой, которая возле титьки материной, голодом сидит? Из-за кого? Из-за водки опять же. Ведь для нее, окаянной, только первый рупь из получки выдернуть — и пиши пропало. Одна бутылка — шесть буханок хлеба, шутка сказать! При своем-то молоке только с этим вся бы семья два дня сытая прожила. А Нагуман с Альфией меньше двух бутылок враз не берут… Ну, хорошо, коли хлеб нынче не задача, ты на мясо переведи: два дня без приварка выходит. Не меньше. Вот какая арифметика получается. А ведь получек-то в месяце две. Значит, и недостачу в брюхе множь. А ты как думал?!
Афоня взял чайник, на минуту скрылся в своей сторожке, потом появился снова:
— На огонь поставил, — объявил дяде Ване. — Хитрая штука — этот чай. На дворе вот жара стоит, а чем чай горячей, тем она легче перемогается. И угару нет, как от водки… — И перешел к прежнему разговору: — А вот Бояркиных возьми… Эти без водки дня не живут. Пожалуй, ихняя хозяйка одна из всех купавинских баб сама в дом бутылку покупает. А до чего дожили?.. По-своему я прикидываю ихнее положение к старому времени, про которое тысячи всяких сказок слышал, да и сам мальчишкой еще помню. Ведь на Бояркиных люди как на мироедов глядят. А кто их такими сделал? Водка опять же. Кто-то мне про книжку такую рассказывал, где старые купцы описаны. Вот… Черной скупостью люди исходили, за копейку могли человека извести, а сами пили каждый день. Для злости, значит. Вот их мироедами и окрестили. А как переворот пришел — им первую петлю. Теперь смекай: выходит, водка не только мозги травит, она еще злость в человеке укореняет. А ты как думал?.. — И почти радостно добавил, ухватившись за новое доказательство: — Глядишь на трезвого — мужик смирный и даже обходительный, а упоится — зверь: в драку лезет, не говоря уж о всяком сраме. Тьфу!
Афоня глубоко задумался. В глазах его появилась неподдельная грусть, в голосе — сожаление:
— Я ведь сам сколько годов грешил… Эта водочка меня, как оборотень, незаметно вела, вела. А куда?.. Мне вот еще матушка рассказывала: был у нас сродственник дальний, Митреем звали. В нашей же деревне жил. Так вот он на рождестве у одного дружка самогонки напился. Памяти-то еще хватило: домой собрался. А как за ворота вышел, ему так все хорошо показалось! Ну и пошагал. Сколько шел, конечно, не знает, только видит — перед ним уж родная изба. Он в ворота-то торкнулся, а они закрыты. Вспоминал еще: жену свою — Катерину — изругал, что рано заперлась. Ну, вот… Как домой попасть, думает. И соображает: сейчас, мол, доску из-под заезжих ворот отвалю да под ворота и подлезу. Так и сделал. Стал, значит, на карачки, примеривается. И получается, что голова-то едва-едва пройдет. А что делать, приходится буйную клонить. Беда — неловко.
Тогда Митрий-то перекрестился и скажи: ах, ты, господи, прости меня, грешного, до какого сраму дожил! Тут с него помрачение-то и сошло. Огляделся по сторонам: никакой избы вовсе и нет, а стоит он на корточках посреди реки над прорубью… Говорил до самой смерти: кабы бога не помянул да крестным знамением себя не осенил, так бы в прорубь и залез сам, потому как его нечистая сила вела. — Афоня передохнул, потом объяснил: — Я, конечно, в бога не верю. Но помнишь ведь мою стыдобу, Иван Артемьевич. До того допился, что вот этот магазин из виду потерял и на всю Купавину войну развернул, мужиков из домов в подштанниках на улицу выгнал. А все из-за чего? Из-за нее, проклятой. А ты как думал?!
Так незаметно для себя и стал Афоня самым ярым врагом спиртного на Купавиной. Пользуясь своим центровым положением на станции, Афоня замечал каждого выпившего, непременно останавливал его и срамил при всем народе как можно громче. А люди в таких случаях с полуулыбочкой объявляли:
— Опять Афоня изобличат. Не миновать гулевану свиданки с Александром Павловичем Завьяловым!..
Некоторые страдали от этого очень тяжело, поскольку Афоню никаким способом обойти было невозможно, магазин-то на всю Купавину поставлен был один.
Конечно, пробовали поначалу обижаться на Афоню мужики и даже вздорить с ним из-за его трезвых разговоров, называя их вредительскими доносами. Но купавинские бабы в этом деле, как одна, стали на сторону парткома, а за Афоню устраивали своим мужьям такие скандалы, что и — при своей-то скупости! — могли всю посуду дома в расход пустить да еще и пригрозить:
— Не гляди, что венчанные: заберу ребятишек — и к маме в деревню!..
…И кто знает, может, купавинские мужики и вовсе бы отвыкли от водки, да пришла война и сразу все перевернула.
В тот выходной день — двадцать второго июня — радио всех оглушило. И все поняли враз, и ничего не понимали:
— Как это так?! Разве мыслимо: так по-воровски мир нарушать?
А потом пронеслось:
— На вокзале митинг!..
Все кинулись туда.
Афоня, покинув свою сторожку, тоже пришел на митинг. Одной рукой опершись на суковатую палку, другой придерживая поднятое ухо старенькой всклокоченной ушанки, он вытянул шею, стараясь не пропустить ни одного слова. Сквозь тревожный гомон толпы и бабье оханье от высокого станционного крыльца до него доносились горячие слова секретаря парткома Александра Павловича Завьялова, говорившего о подлом нашествии, о неминуемых тяготах, которые наступят и которые надо с твердой душой вынести до самой победы.
А потом над затихшей толпой послышался басовитый и глуховатый голос Ивана Артемьевича Кузнецова, который почти сразу потребовал записывать в добровольцы и сам назвался первым, хоть только что вышел на пенсию.
Выбравшись из толпы, к Афоне подскочил Степан Лямин, крутнулся на своем костыле, с маху саданул себя по боку скомканным в кулаке картузом и радостно заговорил:
— Глянь-ка, Афоня! Мужики-то наши — чистые ерои! Никто не испугался, язвить их в перепелку! Да нешто устоит против этаких какой-то Адольф?!
— Не устоит, Степан, нет! — не отрывая взгляда от крыльца, ответил Афоня.
— Изломают ему позвоночный столб!
— Изломают, Степан, изломают, — вторил Афоня, а у самого туманило глаза.
Никаких своих слов не мог сейчас сказать Афоня. И не оттого, что не было их. Слов было много, а мыслей еще больше, и потому слова, стиснутые ими, не шли с языка. Понял он, почувствовал сразу, что в этот час жаркого дня с ослепительным солнцем, выбелившим землю, жизнь людскую враз повернуло в другую сторону и, может, надолго.
Последним уходил он с опустевшей площади. Шел тяжело, потому что и ноги слушались хуже, и палка стала тяжелее, будто не на солнце лежала около караулки, а мокла с весны в воде.
Когда вечером вышел на дежурство, Купавина поразила непривычной тишиной. И только потом понял: в домах не засветилось ни одного окна.
Недвижно сидел на завалине магазина. И слышал, как на путях, утонувших в темноте, нет-нет да и вздыхал паровоз.
5
Купавинская ребятня спозаранку до глубокой темноты толклась на станционном перроне, с радостным страхом встречая каждый воинский эшелон. Но озабоченные, в помятой и залосненной форме солдаты, натыкаясь друг на друга, гомонливой кучей вываливались из обшарпанных товарных вагонов, торопливо бросались с ведрами за кипятком, либо курили толстые самокрутки, привалившись к жидкой оградке привокзального сквера, либо угрюмо ходили по перрону, словно надеялись невзначай встретить знакомых.
И тогда малышня отправлялась на привокзальную площадь, где день и ночь гудела, играла на гармошках, плясала, пела толпа новобранцев.
Но выпадало и счастье: на станцию вдруг влетал торопливый эшелон. Останавливался на несколько минут, словно переводил дыхание, и, торопливо взревев гудком свежего паровоза, приемисто набирал скорость, оставляя на перроне зачарованно распахнутые ребячьи глаза и рты.
— Ребя! Заметили, шашки-то какие!.. — вдруг с придыхом приходил в себя первый.
— Чуть не до земли! Во — сила!
— А кони?!
— И все ремни блестят!
Когда же видели зачехленные пушки, а то и просто счетверенные пулеметы, уставившиеся вверх над крышами тормозных площадок, немели надолго, провожая взглядом грозную силу до самого горизонта.
А потом гадали наперебой, через сколько дней наступит полный разгром врага.
Даже про Афоню забыла ребятня. А он все по-прежнему сидел днями на приступе своей сторожки. Только не появлялось уже перед ним ни табуретки, ни чайника. Лишь сиротливо стоял чурбачок для случайного гостя. К нему изредка, по привычке, заходили мужики, неторопливо скручивали цигарки, раскуривали, а после долгого молчания ео вздохом докладывали новости:
— Помнишь, к дядьке Стукову за месяц перед войной сын приезжал из Брест-Литовска? Командир.
— Как не помнить? Слыхал.
— Ну-к вот… Говорил он вроде бы, что у этого Гитлера давно уж камень-то в кармане лежал. Выходит, знали.
— Кабы ненадолго, — с той же озабоченностью соглашался Афоня. — А про причину войны сейчас судить, все одно что в кучу прошлогодний снег сметать. Силу собирать надо…
— И так не мешкают. Вон что прет, — кивал собеседник на станцию. — Ребята здоровые едут, управятся!
— Знамо дело, — серьезно поддержал Афоня. — А все одно жалко молодых-то. Смерть — она для всех смерть, хоть и примут ее в праведном бою со светлой душой. Оттого, может, и горе-то у остальных вдесятеро тяжельше. Да и война другая: это тебе не псы-рыцари с ведрами на головах да с пиками, коих оглоблей можно из седелка вышибить али, по крайности, в прорубь загнать… Вон каких машин понаделали! Сколько же они народу поизведут до окончательной победы?!
А беды по-настоящему пока никто не чувствовал. Мужики, обсуждая временное отступление, уверенно назначали скорые сроки победы. Новобранцы при проводах лихо наседали на водку, геройски привсенародно тискали и целовали вспухших от слез невест. А на Купавину уже ложился морок тяжелой тревоги, подкрепляемый загадочными приметами, которые бабы каждый день собирали в магазине.
Ну от чего бы у Анисьи Ляминой при самом завидном на всей станции петухе курица снесла голое яичко? Ровно скинула: совсем без скорлупы… А у Бояркиных черная кошка за три дня до войны стала белой: как есть поседела. К чему?.. Наконец, по секрету узнали, что Дарья Стукова, у которой в армии служило четверо сыновей да дома двое погодков поспевали к призыву, нарушив всякую власть мужа — бывшего красного партизана, — пешком шла за сорок пять верст в деревню Шутину, где еще жива была церковь…
И только по второму месяцу, когда мобилизация, считая и добровольцев, увела на фронт половину женатых и детных мужиков, станция притихла. А перед праздником услышали и первый бабий вой: пришла похоронка…
Скоро и ребятишки перестали бегать на станцию к каждому эшелону. Возле Афони опять собирался прежний круг. Только не заботили больше малышню военные советы. Теперь она спрашивала про настоящую войну. Афоня же был в затруднении:
— Смешные вы, ребята! Каждый день в кино ходили, все переглядели по десять раз: и «Броненосца Потемкина», и «Чапаева», и «Тринадцать», и про озеро Хасан, а меня спрашиваете. Вы теперича мне должны рассказывать. Я живого танка не видывал, ежели не считать Гешкиного с тазиком, даже про устройство его не знаю, стыд сказать. Вдруг меня призовут? Что делать буду?
И ребятня начинала вспоминать кинокартины, лихих конников и отважных пулеметчиков. На утоптанной возле караулки земле рисовали палочками танки, не забывая ни одной детали, чертили перед Афоней схемы военных кораблей, а он, чуть ли не на самом деле удивляясь такой образованности, маял своих «комиссаров» новыми вопросами. Сам же радовался в душе тому, что ребячьи глаза, веселели.
…А война доходила до Купавиной по-своему. В заросший полынью, давно заброшенный деповский тупик, где стояло несколько ободранных потушенных паровозов, затолкнули воинский эшелон. Через сутки он оброс лестницами-времянками, поленницами дров, сложенных на тормозных площадках и под вагонами, задымил железными трубами. С открытых платформ сошли гусеничные тракторы, с грохотом сползли с невысокой насыпи и врезались прямо в картофельные огороды за станцией, разворачивая все. Кинулись туда вслед за ребятишками бабы, не зная, то ли реветь, то ли ругаться. Солдаты объясняли виновато:
— Путей добавляем, тетеньки. Мала ваша станция для военной дороги. Надо…
— А картошка-то?!
— Другой овощ надо везти Гитлеру, — отговаривали солдаты. — А вы тут уж как-нибудь…
Не прошло и месяца, как тяжелые эшелоны пошли на новые пути, а к перрону все чаще стали подтягиваться санитарные, с заклеенными крест-накрест окнами, словно и сами были ранеными. В тамбурах появлялись усталые санитарки. Спрашивали, далеко ли до Омска, Новосибирска, Читы, и, озабоченные, безмолвно исчезали за дверями.
Иногда к ним успевали подбежать женщины, приехавшие в Купавину из деревень на целый день. Они бросались от вагона к вагону и, срываясь на крик, спрашивали:
— Федора Голощапова нету у вас, родимые?
— А Николая Слезина?
— Нету, тетеньки.
— Ох ты, господи, беда какая! Потерялся…
И баба, захлебываясь слезами, шла рядом с отправляющимся поездом, тоскливо глядела ему вслед.
Афоня, стоя в стороне, задумчиво провожал поезд и старался постичь происходящее. В доброе время все население Купавиной легонько бы уселось в один пассажирский поезд. А теперь вот такие переполненные поезда идут друг за дружкой по разным дорогам, торопятся в госпитали.
— Какая же она там, война? Сколько же берет она насовсем и сколько калечит?
И не мог представить.
Прошел сентябрь. Солнце по-прежнему дарило светом, но все чаще набегал холодный ветерок, а ночью коченела под седым инеем земля. Школьные заботы призвали старших Афониных друзей к своим делам, а других — помельче — матери заперли по домам, чтобы через обманную погоду не подхватили сопливую хворь. После работы и в выходные дни купавинцы торопились управиться на огородах, насолить капусты, запасти топлива, а кто успел ко всему — то и загодя вывезти сено.
Только делалось все это торопливо, кое-как, без того всеобщего веселья и радости, которые в прошлые годы и соседей мирили, и скрашивали осень. Ни песен, ни шуток, ни веселых коротких гулянок с устатку.
А осень, одаренная бабьим летом, увернувшаяся от затяжного ненастья, щедро расправляла свой разноцветный наряд. Первыми вспыхнули фальшивой позолотой осинники. Но бойкий ветер живо распознал их ненадежную красоту, в неделю сорвал большой некрепкий лист и разнес его по ближайшим парам на утеху зайцам.
А кругом уже занимались червонным заревом березники, с каждым днем набирая силу последнего горения. И чтобы не угасало их золотое пламя целый месяц, снизу их поджигали красные рябинники с раскаленными гроздьями углей на ветках. И только кое-где в одиночку или артельно поднимались над всем лесом зеленые сосны. Мудро покачивались они, словно утверждали своим постоянным нарядом вечную жизнь.
Далеким лесным всполохам вторила возле Купавиной маленькая березовая роща. Старше других, давно отгороженная от больших лесов пашнями да болотинами, она спокойно ждала своего часа. Утрами ее поляны лежали укрытые белым инеем и только к полдню освобождались от него, мокро отсвечивая под солнцем палым листом.
Дольше месяца бушевала осень. Но под северным ветром-дикарем дрогнула однажды золотая кольчуга веселых березников. Всему свой черед. Не прошло и недели, как березы, щедро бравшие свою силу и красоту у земли, земле же и отдали свое богатство, укрыв ее напоследок листвяною парчой.
А в утеху дикому ветру остался на дорогах лишь соломенный мусор, который метался в разные стороны и подымался столбами до самого неба, пока холодные дожди не прибили его к земле, не смешали с грязью колесами телег да конскими копытами. И тогда неугомонный ветер заметался над людским жильем, озоруя ночами по печным трубам, то ухая филином, то мяукая по-кошачьи.
После такой-то осенней ночи, когда купавинцы вышли из домов навстречу морозному утреннику, они и увидели на станционной площади беженцев. Сразу бросилось в глаза, что среди них не было мужчин, если не брать в счет нескольких стариков. Только женщины и дети. Тихие и скорбные, сидели они на своих узлах и чемоданах, надев на себя всю одежду, какая у них имелась.
Ночной эшелон высадил их, и они, не смея нарушить покой людей, промерзшие, измученные, покорно ждали своей судьбы.
И враз всколыхнулась Купавина. Не дожидаясь казенного распоряжения, купавинские бабы за час распорядились по-своему: не спрашивая хозяев, разобрали их пожитки и, проклиная войну, вперемежку со слезами растащили беженок по своим домам, хоть и не чаяли, что с ними делать. Знали: первым делом людям надо тепло.
— Пока разберутся да распределят — богу душу отдать можно. Наша станция не шибко велика: любой переезд на загорбке — три минуты…
Через два-три дня все утряслось. Но никто не почувствовал облегчения. С беженцами опять в дома заглянула война. Редких из них обошла в дороге беда: у кого-то при бомбежке убило ребенка, кто-то получил увечье, кто-то потерял родных, а кто и остался в чем есть, что казалось в чужом краю не лучше смерти. И самое тяжкое — ребятишки, которых дорога сделала сиротами.
Станционные, не видевшие так близко войны и не способные понять их мытарства, немели от этих рассказов.
— Вот она какая есть, война-то!.. — вздыхали, как всегда, когда отходили от страха.
А какая, все равно до конца понять не могли.
6
Холода ударили сразу. Зазвенела не прикрытая снегом земля. В такой день, уже затемно, и забежал к Ялуниным солдат из остановившегося воинского эшелона. Худой, долговязый, небритый, закоченевший от холода. Обмотки, туго охватившие тонкие ноги, телогрейка с короткими рукавами, из-под которой выглядывала засаленная гимнастерка, — все не по росту — делали его худобу еще заметнее. Поздоровался, скользнув по всем невидящим взглядом, выдернул из-за пазухи пару теплого белья, спросил:
— Булку хлеба дадите?
— Ой, господи! Ты сядь, — испугалась хозяйка. — Куда это ты такой?
— Туда, тетка, — ответил он резко и грубо. — Есть хлеб-то? Не надевал еще, — кивнул он на свой сверток.
Ялунина бросилась на кухню, вытряхнула из чугунка на стол остатки холодной картошки, отломила кусок хлеба, налила кружку молока.
— Иди сюда!
Солдат прошел, стянул пилотку, налезавшую на самые глаза. Сел на краешек табуретки.
— Ешь, — приказала.
— Некогда мне…
— Убери за пазуху белье-то, — посоветовал Ялунин, стоявший у косяка.
Солдат толкнул бельишко за полу телогрейки, подвинул к себе молоко, откусил от нечищеной картошки.
— Что это так оголодали? — робко спросила сама.
— Дорога… — неопределенно отозвался солдат. — Час едем — два стоим. Перебиваемся кое-как… Дней через десять, может, доберемся.
— Нешто там лучше будет? — спросила, а сама и не знала, где это «там».
— Поглядим….
В минуту солдат управился с молоком. На столе оставалось еще несколько картофелин, полкуска хлеба. Он с сожалением смотрел на еду. Опять вытащил белье.
— Возьмите.
— Бог с тобой! — замахала в страхе Ялунина. — Ты забирай остатки-то с собой. А белье-то надень, вишь, посинел.
— Спасибо, — солдат встал, засунул картофелины и хлеб за отворот телогрейки вместе с бельем. Оглядел всех, увидел в глазах жалость, смутился: — Вы того, не думайте чего-нибудь такого, ну, в общем, доедем до места, ничего нам не сделается. А там работа такая, отогреемся. — И уже в дверях обнадежил: — Только не сомневайтесь: его одолеем. Без того нам возврату нет. Прощайте!..
И убежал, надолго оставив в доме тишину.
Ветер перемешивал дождь со снегом. На станции, туго забитой поездами, в молочной круговерти, едва пробиваемой скудным светом электрических фонарей, день и ночь шевелилось солдатское месиво. И сторонний человек ни за что не разобрал бы, какой эшелон уходит, какой будет стоять, чем заняты солдаты тут, на глухой, придавленной непогодой станции. И только в один из последних октябрьских дней Купавина проснулась, разбуженная непривычной тишиной. Выглянула в окна, выбежала на улицу.
Вставало ясное утро. Небо очистилось, открыв голубую вышину. А земля притихла под мягким снежным покрывалом, словно боялась пошевелиться и показать вчерашние замерзшие колдобины на дороге да грязь в оградах.
Ушло ненастье — посветлело на душе у людей. Всякие нехватки становились уже привычными, а бабы научились не забирать хлеб за три дня вперед.
На станции появилось много незнакомых ребятишек. Афоня примечал их не только потому, что хорошо знал купавинских, но и по тому, как они держались. Среди них сразу выделил одного. В магазине он появлялся каждый день в одно и то же время, через полчаса после того, как школьники пробегали домой. Выкупив хлеб, он выбирался из магазинной толчеи, проверял, в порядке ли карточки, и только тогда отправлялся домой. Был он малорослый, серьезный не по годам, а самое главное — один глаз у него прикрывала черная тесемка. В ребячьи игры он никогда не ввязывался, только иногда останавливался на несколько минут, наблюдая издали.
Как-то завозился Афоня возле своей сторожки с березовой чуркой из тех, что были сложены в штабелек за задней стеной. Чурка попалась сучковатая и никак не поддавалась топору. Потный Афоня распрямился, чтобы перевести дух, и тут же почувствовал сзади легкое прикосновение. Обернулся. Перед ним стоял тот самый мальчуган.
— Подержите сетку, дайте топор, — сказал вместо приветствия.
Афоня уступил, спросил:
— Откуда такой кавалер?
— Из Орши, — ответил паренек, едва приметно улыбнувшись такому обращению, и стал прилаживаться к полену.
— Звать-то как?
— Петрусь.
— Петро, значит?
— Да.
— И, поди, фамилия есть? — ласково любопытствовал Афоня.
— Жидких.
— Слабоватую ты себе фамилию выбрал, Петрусь.
Паренек резко взмахнул топором, всадил его в чурбак. Повозившись, вытащил топор, снова ударил и развалил чурку пополам. Взглянул на Афоню с плохо скрываемой гордостью.
— Эвона как! — удивился Афоня. — Выходит, фамилия-то у тебя вовсе и не твоя.
— Почему это?
— А потому, что и не жидкий ты вовсе. Такую колоду легонько одолел, — явно преувеличил заслугу мальчугана Афоня.
— Я вообще-то сильный, — сказал Петрусь. — С первого класса физкультурой занимаюсь.
— Ишь ты! А сейчас в каком?
— В четвертом.
— Давно приехали-то?
— Больше месяца.
— Глянется на нашей-то станции или нет?
Петрусь вместо ответа пожал плечами.
— Ничего, — успокоил сразу Афоня. — Вот лето придет, такую ласковую землю увидишь, век не забудешь.
— До лета еще дожить надо, — вдруг неожиданно по-взрослому, серьезно отозвался Петрусь.
— Как не дожить, обязательно доживем: после зимы всегда лето идет, — ободрил его Афоня и замолк, подавленный неребячьей мудростью мальчика. Но сразу преодолел себя: — Айда-ка ко мне чай пить, чайник вскипел. Дома-то не заругают, что долго в магазин ходишь?
— Да нет… — ответил Петрусь, но заходить в сторожку не торопился.
— Тогда и горевать не о чем! — весело сказал Афоня и тихонько подтолкнул нового знакомого к двери.
…Скоро Афоня уже знал всю Петрусеву жизнь. А с жизнью-то Петрусь повстречался всего три месяца назад, когда, простившись с отцом, вместе с матерью уезжал из дымной от пожарищ Орши. В тот день и кончилось его детство. Уже через неделю, за Смоленском, когда эшелон беженцев разметало взрывами бомб, мать нашла его окровавленного, почти без признаков жизни. И лишился он сознания не столько от боли, а от ужаса, хотя и не миновал ранения: черная тесемка скрывала вытекший глаз.
После той бомбежки Петрусь с матерью несколько дней шли пешком, пока не подобрала их попутная военная машина, ехавшая почему-то не на фронт, а с фронта.
Под Москвой их снова посадили в эшелон и, минуя Москву, привезли прямо в Купавину.
— Отец-то где теперь? — спросил Афоня.
— Воюет, — ответил Петрусь.
— Не писал еще?
— А куда ему писать-то? — удивился Петрусь. — Мы ведь в Сарапул какой-то ехали. А теперь вот где… А где папа, тоже не знаем. Орша-то… сами знаете.
Петрусь замолк. Молчал и Афоня.
— Мать-то устроилась на работу?
— Устроилась. В вагонный участок. Только уходит рано и приходит поздно. А я за хлеб отвечаю.
— Живете-то у кого?
— У Киляковых. Они нам маленькую комнату отдали.
— Киляков, который дежурный по станции? У него еще две девчошки большие…
— У них.
— Эти не обидят. Правда, сам-то не шибко разговорчивый, оттого сердитым кажется. Но это видимость одна, в душе-то он мягкий. Видно, по селекторам-то нараспоряжается за день, вот и пристает язык-то.
Петрусь рассмеялся. Потом сказал:
— Они и не обижают.
Провожая Петруся, Афоня наказывал:
— Ты забегай, Петро, ежели нужда какая объявится. Посоветуемся.
— Хорошо, — весело откликнулся Петрусь, и Афоня впервые увидел, как он побежал бегом. Уже издали услышал от него:
— Спасибо!
— Ничего, Петро, — тихо проговорил Афоня вслед. — Обязательно доживем: после зимы всегда лето идет…
А немцы рвались к Москве. И, может, впервые все почувствовали, как близка она от Купавиной, потому что донимали тревогой военные сводки, которые слушали, припав к хриплым репродукторам. И ждали, ждали того главного, что повернет войну в обратную сторону. Не могло быть иначе! Эшелоны тянулись все на запад, на запад, загораживая дорогу встречным поездам. Солдаты уже не отходили от вагонов, только зло ворчали на дежурных, будто они и виноваты за вынужденные задержки.
Среди купавинцев тоже разговоров велось всяких.
Все чаще говорили про переодетых шпионов, диверсантов и разных предателей, которые вроде бы трутся на каждом шагу и высматривают секреты. Больше всего волновалась из-за этого ребятня. После школы, забросив сумки, ребята по двое, по трое день-деньской шныряли на вокзале, внимательно следили за каждым проезжим человеком.
А случай представился такой, что и подумать загодя было невозможно. Через площадь, совсем со стороны, подняв воротник пальто невиданной моды, в туфлях без калош по грязи, смешанной со снегом, пробирался на станцию незнакомый мужчина. Ни на кого не смотрел, будто боялся взглянуть в глаза, только прижимал к себе большой коричневый портфель с блестящими пряжками. Сразу в вокзал не пошел, а несколько раз заглянул в два киоска, которые — все знали — не торговали с самого начала войны. Потом часа два ходил по вокзалу и как только прибывал новый военный эшелон, с начала и до конца торчал на перроне, внимательно вглядывался в каждый вагон. А на пристанционном базарчике, покупая кучку картошки и бутылку молока, вытащил пачку тридцатирублевок. У Бояркиной, которой он протянул деньги, язык отнялся: никто еще из купавинских баб в глаза не видел столько денег сразу.
— Все точно, — едва переводя дух, сказал Васька Полыхаев Гешке Карнаухову и еще двум ребятам, которые топтались возле них. — Надо задерживать!
Как назло, близко милиционера не было. Гешка побежал к дежурному по вокзалу, в комнате которого обычно сидел линейный милиционер Силкин. Но на дверях висел замок. А подозрительный в шляпе с портфелем уже отошел от билетной кассы. Гешка очертело налетел на Альфию Садыкову — уборщицу вокзала и зашептал ей на ухо:
— Где Силкин? Где дежурный?!
— Обед пошла, — отмахнулась Альфия.
На станцию втягивался пассажирский.
Бежать домой за Силкиным было поздно. Гешка и Васька вертелись поближе к незнакомцу. А тот уже перебегал от одного вагона к другому, раза два пытался пробиться через тугие клубки мешочников, облепивших тамбуры и ступеньки вагонов. Наконец поезд пронзительно свистнул, и тогда незнакомец, словно подхлестнутый, остервенело заработал локтями, ухватился за поручень, уже поднялся было на ступеньку, но тут же слетел обратно: это Васька Полыхаев с Гешкой Карнауховым схватили его из-за чужой спины за полы пальто и сдернули обратно. Поезд набирал скорость, а незнакомец все еще возился с мальчишками, которые, ничего не объясняя, с молчаливой ожесточенностью, по-клещиному вцепились в него. Израсходовав все ругательства, гражданин увидел последний вагон поезда, перестал сопротивляться, только безнадежно махнул рукой, простонав:
— Все кончено!..
— Ага! — злорадно согласился Васька Полыхаев.
…Через час милиционер Силкин выяснил все. Незнакомец оказался инженером. Приехав ночью в Купавину, он с утра в поселковом Совете проводил совещание, на котором определяли участок для завода, эвакуирующегося с Украины. Эшелоны со станками и оборудованием уже подходили к Уралу, и уполномоченный обязал был встретить их в Свердловске.
Силкин, не сходя с места, договорился с дежурным по станции, чтобы товарища отправили с первым же воинским эшелоном. Только после этого приезжий немного успокоился.
Выйдя из дежурки, Силкин натолкнулся на ребят, которые не отходили от двери ни на шаг, боясь пропустить момент, когда арестованного шпиона поведут в каталажку. Но Силкин, свирепо зыркнув, грозно известил:
— Сегодня зайду к вам домой и прикажу отцам обоим надавать по загривкам. Марш отсюда, шушера! И чему вас только в школе учат!
Ребята попятились. А когда выбрались из вокзала, Васька Полыхаев горько сплюнул и выругался.
— И хрен его знает, что за инженеры такие пошли, на шпионов похожие! — Обернулся, словно корил Силкина, бросил через плечо: — Ну и ловите сами!..
…Зима понемногу добавляла снега, день ото дня набирали крепость морозы, скрашивая утренники мохнатыми куржаками — зимними инеями.
К Афоне забежал Петрусь.
— Здорово, Петро! Как раз к чайку поспел, — приветливо встретил его Афоня. — А у меня пареная калина есть: чистое варенье!
— Да нет, — смутился Петрусь. — Погреться я. Хорошо у вас, тепло.
— А дома-то холодно, что ли?
— Холодно. Дров почти нет. Уголь срезали, полтонны дали на всех. А зима-то впереди.
— Верно, впереди.
Афоня подвинул к Петрусю кружку, сам положил в нее калины. Скоро мальчуган разопрел от чая, расстегнул пальтишко. Поделился:
— В пальто дома тоже не холодно. Только домашние задания выполнять трудно. Руки мерзнут.
— А ты часок-другой похлопочи, дров-то сам и припаси. Вот и будет тепло.
— Где их возьмешь? Все мерзнут. Даже в школе в пальто разрешили сидеть.
— А мы обманем зиму-то, не трусь, Петро. Завтра после школы прибегай ко мне, удумал я штуку одну. Только сани захвати.
На другой день Петрусь явился не один, а с двумя мальчиками. У всех были санки.
— Артель целую собрал. Молодец! — весело встретил их Афоня. Он уже был готов: подпоясал полушубок веревкой, шею повязал по воротнику стареньким шарфом, держал в руке большие собачьи рукавицы.
— Эдик и Глеб из Москвы приехали, — знакомил Петрусь товарищей с Афоней. — Больше недели здесь живут. Тоже мерзнут.
— Погодите, нынче все согреемся.
Опираясь на суковатую палку, возглавляя ребячий обоз, Афоня шествовал по Купавиной. Переставшие всему удивляться, купавинцы невольно останавливались: никто из них не видел, чтобы когда-то Афоня зимой отправлялся в путь дальше, чем до конторы орса, где он каждые полмесяца получал получку. Женщины смотрели вслед и по-доброму объясняли:
— Христовый, опять чего-то удумал, дай бог ему здоровья! Никак на какое-то дело налаживает ребят. Сам на трех ногах едва-едва, а все с ними, все с ними.
Возле бани Афоня повернул в сторону березовой рощи. И удивился:
— Кто-то опередил нас, ребята. Глядите, дорожка протоптана.
— А здесь хоронят, — просто объяснил Петрусь.
— Кого хоронят?! — удивился Афоня.
— А всех, кого придется, — говорил Петрусь. — Только вчера какого-то дяденьку закопали: умер на станции. Проезжий.
— Вон что…
Больше Афоня не спрашивал. Тихонько шагал вперед. Березовая роща безмолвствовала. Высокие березы в одиночку и кучками стояли недвижно, боясь пошевелиться под пуховым покровом куржака. Росли они в роще редко, и, видимо, у каждой была своя судьба. Иные тянулись в небо, тесно прижавшись друг к другу. Другие от самого комля криво отстранялись в сторону, словно повздорили еще в молодости и за долгую жизнь так и не помирились, вынужденные до конца дней своих жить в неласковом соседстве. Еще больше отличались друг от друга одиночки. Вон ту когда-то пригнул ветер к земле, потому что дальше всех без спроса выбежала на поляну. И она, перепуганная, почти по самой земле стлала свой ствол, только потом насмелилась, упрямо устремилась вверх. А недалеко от нее такую же непослушную ветер надломил в сердцах. Но она справилась с увечьем: рану затянуло некрасивой большой шишкой-опухолью. И хоть ствол сильно искривило, она жила, как живут горбуньи, перестав сетовать на свою судьбу. Были и гордые одиночки красавцы. Устояли в свое время. Живут, не стесняясь местом, но и этих берут годы, незаметно подкрадывается старость: зеленые плети их давно тянутся к земле и по осени сбрасывают лист еще быстрее, чем другие.
Снежная тропка вывела путников на небольшую полянку, на которой рядком, укутавшись снегом, обозначая себя невысокими столбиками и крестиками, притихло до десятка холмиков.
— Все приезжие? — тихо спросил Афоня Петруся.
— Все.
Афоня снял шапку, задумавшись, постоял с минуту, потом заторопился:
— Теперь без дороги пойдем, ребятки. Собирайте силушку.
За рощей начинались болотники. Афоня вел ребят высокими взгорками, где снегу было меньше и шагалось легче. Через час добрались до леса. Почти у самой опушки спутники запутались в чаще, с хрустом и треском проваливаясь в снег.
— Вот вам и дрова, молодцы!
Афоня выдернул из-под неглубокого снега засохшую чащину, отряхнул ее, ловко обломал сухие сучки, на самые длинные и толстые наступал ногой, ломая на несколько частей, и тут же укладывал на санки.
Ребята сразу сообразили, что к чему. Подшучивая друг над другом, они весело принялись за работу. Не прошло и получаса, как три возка чащи, крепко стянутые веревками, были готовы. Связал Афоня охапку и для себя.
— А волки здесь есть? — спросил Глеб.
— Для них еще пора не пришла. Они потом загуляют, — ответил Афоня. — А пока можно без опаски ходить.
Возвращались усталые.
— Теперь каждый день ходить буду, — сказал Петрусь.
— И мы, — отозвались Эдик и Глеб.
А на следующий день мимо Афониной сторожки прошествовал целый санный поезд. Десятка два ребятишек, которых по Афониному совету возглавлял Васька Полыхаев, отправились в лес.
Васька повесил через плечо смотанную веревку. Сообщил:
— Сегодня их подальше поведу. Сухие сучки сосновые научу петлей обламывать.
— И то дело! — похвалил Афоня и наказал: — Только не растеряй городских-то кавалеров.
— Никуда не деваются!
— Не потеряемся! — разноголосьем откликнулась ребячья стая.
Смотрели на ребятишек купавинцы и радовались: до чего же добрые мужики растут, в нужде только и разглядели, какие они помощники. И будто по пути забегали на минутку к Афоне, кто с котелком картошки, кто с двумя-тремя луковками, а кто и оставлял целую чашку гороха.
Ребячьего наставника и дружка не забывали.
…Недолго баловала зима ясными днями. Враз засвистела шальными ветрами, завьюжила беспросветными снегопадами, перехватила метровыми сугробами дороги, завалила лесную чащу до неприступности. И тогда посоветовал Афоня Петрусю взять ведро и сходить на станцию.
— Только днем иди, а то под поезд угодишь, — наказывал он. — Пойдешь между путями и увидишь комочки каменного угля. Много их с платформ-то сваливается: не заметишь, как наберешь.
Уже на следующий день Петрусь восторженно объявил, что принес со станции полных два ведра. За Петрусем потянулись и другие ребята. А через неделю милиционер Силкин, заглянув к Афоне в сторожку, нервно крутил цигарку и жаловался:
— Какая-то холера научила малышню по станции ползать: вместе с углем весь мусор собрали. Понимаешь? Не жалко, конечно, но ведь задавит какого-нибудь полоротого — начальство заездит. Чистая беда! — И просил почти жалобно: — Хоть бы ты им приказал, как ихний руководитель.
Афоня сочувствовал, угощал Силкина кипятком, в просьбе не отказывал:
— Про холеру ту, что научила, не слыхивал, а ребятишек остепеню.
И только появилась возле сторожки ребятня, упрекнул всех сразу:
— Сколько раз учил вас: не попадайтесь на глаза Силкину! Вся хитрость у вас вымерзла. Когда воевали, так где надо и где не надо дозоры выставляли, а тут от одного Силкина укрыться не можете. Этакий позор! Мне за вас, можно сказать, выговора летят…
Ребята виновато молчали.
Силкин после этого не приходил.
7
В самый вьюжный день долетела до Купавиной весть о разгроме немцев под Москвой. Отступили сразу и нужда и тяжкие тревожные думы, точившие душу хуже всякой болезни.
Отправлялись со станции эшелоны на запад, с места набирая скорость. Заиндевелые теплушки взрывались веселым солдатским хохотом, а то и звонкой песней под перебористые гармошки. Да и сами солдаты стали другими, не бегали по домам, а расхаживали по перрону, разминая ноги, не упуская случая если не ущипнуть какую-нибудь встречную молодуху, то хоть задеть ее озорным и ласковым словом:
— Приголубь защитника Родины, красавица!
И только зима вдруг сдурела. Без роздыха, неделями загуляли бураны, напрочь скрывая все дороги, останавливая железнодорожные составы. Купавинские путейцы не слезали со снегоочистителей, в них спали, в них ели. С рассветом в домах оставались лишь старики да старухи с малыми ребятишками, а бабы, не ожидая приглашения, собирались в бригады и торопились на железнодорожные пути. К полудню, отменив в школе уроки, освобождали от занятий школьников, и малая их силенка, как свежая капля крови, вливалась в труд старших. Как на фронте, дважды, трижды в неделю Купавину поднимали по тревоге ночами — отбивались от внезапных буранов. А если стояли в это время на путях воинские эшелоны, то и солдаты брались за лопаты.
И шли, шли на запад эшелоны. Нет! Не могло быть из-за купавинцев задержки в победе!
Холода загнали ребятню в дома. В школе редкий день не отменяли занятия. И двери Афониной караулки, занесенной с трех сторон снегом под самую крышу, тоже открывались от случая к случаю.
К февралю отпустило. Но улица Купавиной не зазвенела шумливыми ребячьими голосами. Мальчишки ходили в клуб, не пропуская ни одного боевого киносборника, по привычке табунились возле Афони, рассказывая про войну и подвиги. Но глаза их оживлялись ненадолго. И тогда Афоня видел, какими маленькими стали их личики, обтянутые тонкой и бледной кожей.
Давно еще, перед Ноябрьским праздником и перед Новым годом, в магазине по карточкам выдавали по литру разливной водки. С той поры водка нетронутая хранилась в четверти под Афониным топчаном. Промтоварные талоны Афоня использовал тоже аккуратно. Там же, под топчаном, в деревянном баульчике под бельишком хранились два куска сатина на рубахи, неношеные рабочие ботинки на кожаной подошве, пробитые медными гвоздями, каких теперь уже не делали. И еще глубокие женские калоши (их однажды продавали по промтоварной карточке — не отказываться же!). Кроме всего, ненадеванной лежала спецовка последней выдачи: телогрейка и ватные штаны. Даже пол-литра разливного одеколона имелось: его тоже продавали как-то раз, и не по карточкам, а по спискам: кто хотел, тот брал. Словом, кое-что в запасе было.
Попросив у Петруся саней, Афоня по первой же оттепели сгрузил на них свои богатства и отправился на базар. Как и большинство продавцов и покупателей, деньги он не признавал, а полагался только на обмен. Ему повезло: домой он привез пуд ржаной и полтора пуда грубого помола овсяной муки. Да еще в придачу две палочки настоящих дрожжей.
И уже на другой день маленькая железная труба над его сторожкой весело задымила. На Афонино тепло потянулась ребятня. А хозяин сторожки хлопотал возле своей раскаленной «буржуйки» в одной рубахе. На плите потрескивала сковородка. Рядом стояло ведро с квашней. С виду лепешки получались темноватые, но прямо со сковородки они казались необыкновенно вкусными. Может, оттого, что, и настоящая мука была в них, еще больше овсяной, да и картошки подбавлено. Зато припасов у Афони от такой стряпни убавилось совсем немного, а по большой лепешке хватило почти всем маленьким гостям.
Первые, кому досталось угощение, долго у Афони не задерживались, а встретив на улице своих приятелей, сообщали:
— Афоня лепешки печет для нас! Идите к нему быстрее.
И узнавшие новость торопились к караулке.
Весь день прохлопотал Афоня со стряпней, даже не поспал перед дежурством. Зато на душе было хорошо. А понятливая ребятня оставила после себя прочищенную дорожку к магазину, наколотые и аккуратно сложенные в поленницы дровишки.
Купавинцы, недавно расставшиеся с деревней, как и отцы их, называли весну подберихой. Наверное, рождением своим название это шло от вековой людской приглядки: во все времена с весны тощали в ямах сусеки, показывалось дно хлебных ларей, пустели бочки с соленостями. Про купавинцев и говорить нечего: если они и утратили в последние годы какие-то старые привычки, то прежде всего запасливость. Поэтому подбериха и явилась к ним первым.
Враз захворал счетовод с путейского околотка Семен Хрулин, мужик веселый, заядлый балалаечник, хотя на руках и ногах целых пальцев было только половина — в жениховской поре еще отморозил их, когда с гулянки шел из соседней деревни по бурану. Маленький, сухонький Семен за неделю вздулся до невероятных размеров. Сказывали, доктора втыкали ему под кожу водосборные иголки, длиннее мешочных, по ведру выцеживали за день, а он все равно умер. Врачи определили водянку, а еще приходили на голод… Конюх Нагуман Садыков наелся дохлой конины тоже не от добра. И хоть не умер, а больше месяца мается брюхом, и никакие лекарства не могут унять хворь.
А солнце, ослепительно яркое, хоть и холодное, властно призывало к жизни. И враз всякое тряпье — предмет самых больших забот и признак неподдельного богатства семьи — потеряло цену. Бабы, у которых в сундуках по пятнадцать годов лежало нетронутым свадебное приданое, вытаскивали на свет и подвенечные платья, и плетеные скатерти, и простыни, подбитые покупными кружевами, старинную выходную обувь — все переправляли на базар.
Афоня тоже с опаской приглядывался и к своим запасам, и к обманчивому солнышку, и к ребятишкам. Не все из прежних приходили к нему в сторожку. Спрашивал про них и получал один ответ:
— Дома сидят.
Не утерпел Афоня, стал заглядывать в дома под разным предлогом, понял: отощал его маленький народ, потерял всякий интерес к играм и забавам. Стряпать не перестал, но теперь ходил с гостинцами только в те дома, где было совсем худо.
Но видел и то, как обмяк снег, примечал днем ручейки, пробивавшие себе дорогу в наезженных колеях, знал: весна совсем близко. Отправляясь в недалекие свои походы, все чаще присаживался где-нибудь на скамеечке, не в силах без роздыха преодолеть все расстояние: кружилась голова, тянуло в сон.
— Не велик, видно, Геркулес! А зима-то еще милостливая была.
И вдруг прилетели грачи. Об этом громко известили Афоню ребята. Он вышел из своей караулки, с прищуром взглянул в ту сторону, куда показывали ребята. На голых березах, поодиночке подступающих к огородам, чернели долгожданные посланцы тепла.
— Ну, вот она и пришла, весна-то…
А у самого шибко колотилось сердце, с болью наполняя грудь радостью, что зима миновала и дорогая его рать, которая сейчас весело шмыгала носами и утирала рукавами сопли, пережила ее стойко, как и подобает настоящим мужикам.
— Что там у вас, Петрусь, дома? Все еще с мамкой мерзнете?
— Нет, уже тепло! — весело откликался тот.
Видел Афоня и то, что за эту зиму дружки его не просто выросли на год, а немножко постарели. И думал, что только после этой зимы они если не умом постигнут, то сердцем почуют, какая трудная бывает жизнь, каким сильным надо быть, чтобы устоять в ней в лихую годину.
Едва спустило снег, Афоня, прихватив свою суковатую палку, пошел в березовую рощу. Встретило его высокое солнце. Потемневшая прошлогодняя листва, придавленная к земле мокром, припахивала теплой прелью. Нагие еще березы стояли тихие, но уже отсвечивали в ярком свете влажной испаринкой, выступившей на сучьях и ветвях перед пробуждением. Роща просматривалась от края до края, и Афоня без труда отыскал темные холмики в самой ее глубине. Подошел. И удивился, как много прибавилось зимой к первым.
Как и Афоня, удивленно глядел на могилы вынырнувший на свет молодой подснежник.
Казалось, обо всем в Купавиной знал Афоня, умел и мелочи разглядеть в мирской суете, а вот когда хоронили в березовой роще, не видел, будто прятали людей.
И сколько еще положит сюда война?..
8
Афоня собирал ребятню в первый поход.
Уговор состоялся еще накануне, а так как в школе был выходной, малышня затабунилась возле сторожки с самого утра. Афоня не торопился. В который раз проверил, ладно ли наточен топор, одеваясь, тщательно одернулся и подпоясался покрепче. И только тогда, заткнув топор за пояс, торжественно разрешил:
— Айда теперя.
Шествие направилось в березовую рощу. Только повел Афоня ребят не привычным путем — через поворот у бани, а сразу от магазина между домов и огородов, чтобы, минуя безродное кладбище, выйти на дальний край. Ребятишки, радуясь теплу, весело шумели, забегали вперед и без конца затевали возню.
Роща начинала пробуждаться. Еще прозрачные, березы уже затяжелели почками, кое-где едва приметно проклевывались листом, и дыхание молодой жизни поило воздух пьянящей бодростью. Афоня остановился. Долго присматривался к деревьям. Ребятишки затихли, готовые выполнить любой его приказ.
— Давайте-ка, молодцы, начинайте ладить соломинки. Ищите в траве прошлогодние сухие стебельки, они пустые внутрях, самые что ни на есть подходящие.
А сам шагнул к большой березе, изогнувшейся от комля. Поглядел на нее не то ласково, не то виновато:
— Ну, родимая.
И ударил топором коротко и сильно, так что дрогнули ветви от самого низа до верхушки. В минуту сделал в стволе глубокую лунку, поднял с земли свежую щепку, ловко выкинул ею оставшуюся в лунке древесную крошку вместе с первыми каплями прозрачной влаги. Призвал:
— Налетай, которые смелые!
Возле свежего надруба тотчас запыхтели, зачмокали губами первые счастливцы. Не мешкая, Афоня сделал такую же лунку на соседней березе. Предупредил:
— Долго не пейте. Меняйтесь почаще. А то простудитесь.
Березовка! И в добрые годы пора буйного березового сока приходила праздником не только для детворы. От всех тоскливых дум избавляла она, молодила силу и веселила людей. Ни у кого не было сомнения в ее чудодейственности, а может, сама чистая вера в ее целебность и помогала одолеть недуги и усталость.
Ребятишки надолго припадали к лункам, опьяненные сладким питьем, распрямлялись, отходили в сторонку осчастливленные, а там уже вскрикивала, пищала и хохотала куча мала. Истратив силы, снова бежали к березам отбывать свою смену.
Афоня сидел в сторонке на пеньке и не вмешивался в ребячье пиршество. Притихший, он вслушивался в еле уловимый шепотливый разговор берез, вдыхал запах пробивающейся травяной зелени и не мог остановить собственных дум.
Просыпалась земля. Жизнь начинала свой новый круг, готовая принять все мирские заботы. Не меньше века стояла тут березовая роща. Когда-то ее молодость начиналась в диком безлюдье. Еще не поднявшаяся над землей, она была заячьим пристанищем да местом поселения мелкой птахи. Годы прореживали ее, морозы да ветродуи губили слабых, даруя жизнь только сильным. Им было суждено нести свою судьбу до конца. Когда позднее сюда пришли люди, роща встретила их ласково, березы отдавали им и красоту свою, и благодатную тень в жаркие, душные дни. В ту землю, которая питала корни ее берез, приняла роща и тех людей, чью жизнь унесла военная година. И вот теперь, по извечному закону природы творить добро, она соками той же земли поила молодую людскую поросль.
Солнышко забралось на самый верх. Разогревшаяся малышня посбрасывала пальтишки и отцовские телогрейки, бегала, кувыркалась и прыгала в чехарде. Березовая роща из конца в конец звенела ребячьими голосами.
…Земля начинала кормить. Не больно мудреным было первое ее блюдо. Едва пригрело огороды, вышли на них с лопатами купавинцы. Никогда раньше не переворачивали землю так бережно, не глядели в нее так пристально, как этой весной. И прошлогодние огрехи при уборке оборачивались находками: осторожно выбирали оставшиеся в земле картофелины, складывали их в ведра. А вечером, дома, старательно очищенные, превращались картофелины в жидкое тесто. Ели лепешки, нахваливая, и уж добродушно посмеивались над недавней голодухой, которая теперь никого не могла достать.
А мальчишки наперебой тащили из дома горячие гостинцы Афоне, который сидел на приступе своей сторожки уже до крайности сытый и слабо отговаривался:
— И за что вы, ребята, на меня рассердились? Хоть взгляните: пуп у меня уж торчком стоит от ваших угощений! Не миновать завороту. Дайте отлежаться. Поведу вас в лес.
— Когда?! А зачем?! — спрашивали наперебой.
— За едой, — давал исчерпывающий ответ Афоня.
Скоро Афоня повел ребят в молодые сосняки, что густым подростом вставали в бору по берегу быстрой Каменушки. Молоденькие сосенки на диво рано выбросили нынче длинные и сочные побеги, а постарше — зажелтели крупяшками, как купавинцы по-давнему называли завязи шишек. Очищенные, те и другие были несказанно вкусными и ароматными, наполняли рот таким сладким и терпким соком, что приходилось невольно зажмуриваться от удовольствия.
— От них, — объяснял Афоня, — главная сила в зубах. А крепкий зуб — всему начало, против него никакой сухарь не терпит.
…Ни одного погожего дня не пропускал Афоня, терпеливо открывал своим друзьям немудрые хранилища молодых и старых лесов, учил находить их всюду. За березовой рощей, на тех самых болотинах, через которые водил детвору в начале зимы к дальним березникам за чащей, он учил добывать камышовую мякоть. Позднее, когда буйно пошли в рост травы, увел ребят на луга. Оказывается, неказистый цветок дикого клевера не зря тянет к себе пчел: на самом дне алых полых трубочек скапливается настоящий мед. Если их захватить щепоткой, то они легко снимаются, и тогда надо просто откусить их сладкие кончики.
Да и дикий чеснок совсем нетрудно найти среди прочего разнотравья, если только приглядеться лучше. А кислица — дикий щавель? И, оказывается, у молодого репейника, которого полным-полно на огородных межах, в огуречниках, а то и просто по обочинам дорог, как только он пойдет в рост, вкусный-превкусный стебель, если с него снять толстую кожуру. А пиканы? И саранки! Самые хитрые и самые вкусные плоды весны. Найти их не так-то просто: пойди отличи от прочих цветов высокий, похожий на колокольчик, только совсем с другими, стрельчатыми листьями. И растут не кучно, а в одиночку, словно специально прячутся в самых укромных лесных уголках. Но коли найдешь — твое счастье!
Афонины премудрости наверняка не были секретом для старших купавинцев. Но, привязанным к работе, им за ребятишками-то порой некогда было и присмотреть. А в Афонину академию доступ был открыт всем, кто научился ходить и мог одолеть версты три-четыре без рева и посторонней помощи. Их, которым приходилось начинать жизнь в неласковое время, Афоня терпеливо, до положенного срока учил читать мудрую книгу природы, постигать ее щедрость, любить и ценить ее, как самую жизнь.
— Ребячий пастух! — говорили про него теперь купавинцы.
Он знал про то и только улыбался, примечая, как его ребячий табун и в самом деле заметно нагуливал и румянец на щеках, и ту шаловливую неугомонность, которая поселяет праздник в душу каждой матери и отца.
А лето богатело. Наступила грибная пора, объявившись молодыми маслятами. Теперь и бабы, выкраивая время, прихватив востроглазых помощников, подавались в заповедные места.
Для Афони наступил короткий отдых. Да и не мог бы он выдержать на ногах целый день. А нынешним летом к тому же замечал, что ноги стали ходить хуже да и силы заметно поубавилось. Все чаще, когда оставался в своей сторожке, Афоня ложился на топчан. Сон не приходил. И он лежал, рассматривая от нечего делать рисунки и фотографии, глядевшие на него с газетных и журнальных листов, которыми были оклеены стены караулки. На стенах мирно соседствовали «Гудок» и какие-то «Ведомости», из-под большого, сплошь из одних фотографий листа «Иллюстрированной газеты» выглядывали лощеные страницы «Нивы». Иногда листы были наклеены вверх ногами, и было забавно видеть какую-нибудь мудреную машину или узнавать в замысловатом кульке знатную барышню благородного звания. Иногда Афоня соблазнялся даже чтением. Это отнимало уйму времени, зато удивляло неправдоподобными диковинами. Не диво ли, что на японских островах живет такая рыбешка, которая чуть ли не за неделю раньше объявляет, когда начнет трясти землю?! А французы, которые живут в своей распрекрасной столице Париже, за деньги покупают на базаре лягушек и едят! И вроде бы умом не тронутые… Ну, стройки пятилетние — дело известное, и в газетах все обстояло как полагается. А вот того, что китайцы змей потребляют, раньше не знал…
И вспоминал Нагумана Садыкова, не побрезговавшего дохлой лошадью. Но, рассуждая дальше, окончательно запутывался: ну хорошо, китайцы — с голоду, потому как их расплодилось до ужаса, а французы лягушек — по какой причине?..
Лето, обещавшее быть ведренным, все чаще дождило. Купавинцы, ругаясь, возились в огородах, по грязи окучивая картошку. Знали, если так пойдет дальше, хорошего урожая ждать нечего.
А сенокос?..
Афоня тоже все понимал и, вздыхая, ворочался на своем топчане: «И впору можно дойти до такого, что на лягушек кинешься…»
А главное — война шла неровно. Афоня не понимал в большой стратегии и о бойне судил по-своему. И как ни прикидывал, получалось, что зимовать придется опять в обнимку с нуждой. Как же иначе, если немец к Волге рвется? Сам уроженец Рязанщины, Афоня имел представление о расстояниях и полагал, что если немца и погонят вскорости, то гнать его далеко и к зиме, пожалуй, не успеть. Значит, еще одна военная зима…
В это лето приметил и то, как изменилась Купавина. Переставала она быть тихой и домашней, какой жила раньше. Началось все еще с зимы, когда недели две подряд в метели, по лютому морозу, день и ночь снимали с эшелонов станки. Их грузили на большие сани, сделанные из толстых бревен, и тракторами утаскивали мимо березовой рощи, за болота, в ту сторону, где Каменушка кончала свой бег, впадая в Исеть. Говорили, что там, недалеко от местных бокситовых рудников, ставят большой завод, который будет делать военные самолеты, и растет возле него целый город — Красногорск.
Город рос где-то в стороне, а Купавина будто подчинялась его невидимой воле, меняла свое обличье. На станции все прибавляли и прибавляли новые пути, теперь их стало уже больше десяти. На вокзале не спадала толчея, а по Купавиной ходили незнакомые люди. Непривычно было видеть, как не замечали они встречных — ни здравствуйте, ни до свидания, — не интересуясь ни чужим магазином, ни караулкой, которая глядела на них из-под большой развесистой березы. И, может, оттого, что народу становилось все больше и больше, Афоня все сильнее чувствовал свою неприметность. Оттого, наверное, и подступала иногда тоска.
На Купавиной начали строить большие двухэтажные дома. Ставили их быстро, потому что все бревна были пронумерованы, рамы связаны, двери излажены. Магазин среди них казался теперь избушкой, а сторожка Афони и вовсе — не больше собачьей конуры.
Одна отрада была у Афони — верная купавинская ребятня. Едва переставали держать ребят дома, сбегались они возле сторожки, докладывая Афоне все главные новости.
…Петька с землянушного поселка, по прозвищу Гольян, научился курить. Позавчера большие парни играли возле березовой рощи в футбол. Гольян был там и у всех выпрашивал докурить «чинарик». Достался ему замусоленный и такой маленький, что Гольян обжигал пальцы, а бросить не хотел, поторопился и так потянул в себя, что мокрый чинарик проскочил ему в горло. С минуту Гольян выл и катался по земле, пока чинарик там у него не потух. Сразу, говорят, курить отвык.
…Васька Полыхаев с путейскими ребятами организовали тимуровскую команду. Штаб сделали на сеновале, провели всевозможную сигнализацию и каждый день по утрам поднимали на мачту флаг. А вечером залезли в огород к старой Стуковой, которой с войны пришло уже две похоронки, хотели две бочки воды налить. Но залаяла собака. Стукова выбежала из дома, сразу увидела в огороде чужих, схватила метелку и пересчитала горбы чуть не всем. Васька Полыхаев рассердился и тимуровскую команду грозится прикрыть. Но это еще не точно, потому что сегодня и Ваську Полыхаева и Стукову вызвал в партком Александр Павлович Завьялов, который полностью на стороне Васьки.
И еще говорят, что Александр Павлович последние дни здорово сердитый и расстроенный: будто бы получил от большого начальства строгий выговор за то, что грозился без спросу уехать на фронт.
…У Петруся Жидких месяц назад нашелся отец, а на прошлой неделе сразу же за первым письмом на него с фронта пришла похоронная, и теперь Петрусь никуда не ходит.
…На Исети, недалеко от парома, всю реку перегородили лесами: начнут строить железнодорожный мост без единой подпорки. И через Красногорск от Купавиной пойдет еще одна железная дорога — на Челябинск.
— И плотину делают за тем мостом, километра за четыре. По Исети, может, пароходы пойдут…
— А куда?
— Хэ, куда! А на Тобол и дальше.
— А как же они через плотину-то перелезать станут?
— Через шлюзы, как на Москве — Волге, канале.
— Шиш тебе! Никакого шлюза не строят.
— А вот поглядим после войны…
— Поглядим…
И вдруг врывалось, нарушая разговор:
— А к осени, говорят, по карточкам хлеба не прибавят.
Наступала тишина.
…К Афоне неожиданно явился в гости Степан Лямин.
— Принимай дружка, Афоня! — крикнул еще издали и без приглашения присел на чурбак. Объявил: — А нонче я, слышь, пирую!.. Совсем край пришел мне… Луковка есть?
Афоня вынес ему луковицу и кружку, уселся поудобнее, пригляделся к Степану: с начала войны не видел его выпившим.
— Ну уж и край? — не то не поверил, не то спросил Афоня.
— А вот и край! — стукнул Степан кулаком по колену. Потом полез за пазуху и вытащил недоконченную поллитровку, поглядел на нее с сожалением: — Почти что довоенная.
Налил себе в кружку, выпил. Закусить забыл. Уронил голову.
— Остался я, почитай, один! — сказал горестно. — Последних коней проводил сегодня в армию! Отвоевался. С двумя выбраковками во всей конюшне — с Челкой да Каурой…
И всхлипнул.
— Да ты погоди, Степа! — ласково тронул его Афоня. — Как это так?
— А так. Челка и Каурая, можно сказать, одногодки мои. И работницы… Да что говорить!..
— Как же теперь путейцы?
— А так: автомобиль получили, на баклушках деревянных, сказывают, ездить станет. Петька Кременчугов с утра уж его растапливат, пробовать зачнет.
— Н-да…
— А я — вот!.. — и он выпил остатки. — С Нагуманом Садыковым завтра кобыл на спичках разыграм и останемся каждый при своем хвосте. Ковать победу. Стахановцы!..
— А ты не ярись, — вдруг одернул его Афоня. — Может, там вокурат твоих-то лошадей и не хватает до победы. А ты как думал?
— Афоня, друг родимый, разве я про то? Я ить по характеру-то шибко отчаянный, мне бы только и воевать. А я? И так с самого начала оборону в конюшне держал, а теперь и того лишен. Куда мне?
— Найдется куда. — И спросил строго: — А почто пьешь?
— А как же? Я же сегодня в армию проводил…
— А девчошки, поди, не кормлены?!
— Чего?
— А то!..
Афоня поднялся разгневанный, хлопнул дверью, оставив растерянного Степана на чурбаке.
…В один из погожих дней пошел Афоня в березовую рощу. Солнечный свет столбами просекал зеленый шатер деревьев, останавливался на тихих холмиках, словно хотел обогреть их. Афоня подошел поближе, сразу приметил, что некоторые могилы осели совсем. Пожалел, что не прихватил с собой лопаты. Услышал вдруг:
— Рабочих надо прислать. А то неладно получается.
Обернулся и увидел секретаря парткома Завьялова. Пошевелил шапку:
— Наше почтение, Александр Павлович.
— Здравствуй, дорогой. Тоже вот зашел поглядеть. Непорядок, говорю… Плохо заботимся. А здесь, — он показал пальцем в землю, — здесь забота наша.
— Год всего прошел, а вон уж сколько, — сказал Афоня. — Да еще прибавится.
— Наверное, — невесело согласился Завьялов.
— Как зимовать-то станем, Александр Павлович? — сразу повернул на свое Афоня.
Завьялов ответил не сразу. Смотрел куда-то в сторону, за рощу, видел свое.
— Трудно придется, Афоня. Трудно. С хлебом лучше не станет. Да и со всем другим…
— Откуда и хлебу-то? Края-то хлебные под чужим сапогом.
— Не только это. Армию надо кормить, одевать, оружия вдоволь дать. Трудно, трудно… Ко всему еще и погода, как назло, нынче…
— Изменщица! — с сердцем сказал Афоня. — Там война, а тут… Ребятишек шибко жалко.
— Ребятишек… Меня уж замучили: из школы уходят, а им по пятнадцать не всем. Но все на работу просятся, а брать нельзя: преступление, нарушение закона… Был я недавно в депо, смотрю, сидит Санька Ялунин, ревет. На паровоз, говорит, не берут кочегаром. «А я уж сам ездить умею», — объясняет. Не поверил я, поднялись на машину. А он, подлец, все ведь сделал, как полагается: и реверс перевел, и тормоза отпустил, и регулятор всего на две отсечки сначала… И свистнул, понимаешь ли, так весело! Спрашиваю, в каком классе? В пятом, отвечает. Что мне делать? Такому и отказать жалко, но пришлось сказать: приходи на будущий год… А сам смотрю на него и думаю: ведь девять тонн угля за смену тебе придется перелопачивать. А как быть? Приходят ко мне с матерями, плачут. И я, как поп, заранее отпускаю начальникам грехи.
— А куда деваться, Александр Павлович? Может, работа-то и есть для них спасение. Что ни говори, а работающему ломоть-то хлеба потолще. Опять же, руки хоть и ребячьи, а делу польза. Мужиков-то совсем редко стало. Вот и встают на их места: в жизни нашей всю дорогу так. Да и карточка на килограмм, хоть и бумажка, а впрок, может, работника готовит.
— Все понимаю, Афоня. Все. — И вдруг стер с лица задумчивость улыбкой. — Твои-то дружки мокроносые как, повеселели?
Афоня смутился. Потом заговорил:
— Я-то что? Власти у меня нету. Кормить мне их нечем. Так уж, вроде игры. — И вдруг сам улыбнулся по-детски. — Пастухом ребячьим прозвали. А трава-то не шибко дорогое угощение, сам понимаешь.
— Вот тут я с тобой не согласен, — сказал Завьялов. — Не в траве дело. Если ребятню убережем, большую благодарность людскую получим, а то я всей России. Вон сколько народу тратит она нынче… Вот так-то, друг мой дорогой.
…Уходили из рощи вместе. Шли рядышком. Один — мужчина крупный, в самой поре, широкоплечий, с походкой твердой, неторопливого крепкого шага. Другой — меньше ростом, ссутулившийся раньше времени, старался поспеть за первым и чаще, чем обычно, опирался на палку. Он о чем-то говорил, показывал в сторону рукой и часто поправлял на голове всклокоченную старую шапчонку.
А в роще хозяйничало солнце, высвечивая на земле золотые дорожки, перебирая теплыми руками ветви берез, обиходя до сахарной белизны их корявые стволы. И только когда долетал сюда протяжный крик паровоза, уводившего новый эшелон, березы едва приметно вздрагивали, словно от внезапного озноба. А потом опять затихали.
Над приютившимися под кронами могилами струился изумрудный свет.
9
Осень наведалась ранними дождями.
Купавинцы крепко запоздали с сенокосом. Но не успели косари перевернуть первые валки, как мелкий дождик-сеянец прибил их к земле. Хотели переждать его в шалашах, да не тут-то было. Не прошло и суток, как зловредная мокреть проникла и в шалаши, выжила из них людей. Облегчая подступившую злость матерками да проклятьями, косари взялись за литовки. Валили траву с обреченной остервенелостью, так, что от мокрых рубах исходил пар. Неделю изводил душу муторный дождь. Потом выглянуло умытое солнышко, сразу припекло, словно хотело наверстать упущенное. Уже после полудня валки подсохли. Трава хоть и потвердела, но осталась зеленой, даже духу не потеряла. Ближе к вечеру вышли ворошить.
И сразу охватила забота: внизу под валками стояла вода, а сено подернулось глянцевитым желтоватым налетом.
«Почернеет… Как пить дать почернеет!» — думали про себя и боялись сказать вслух.
Сена́ не удались.
А что поделаешь? Погода, она как дурная лошадь: в котором месте понесет — не угадаешь, а когда уж понесла, так не остановишь.
Шабашили без веселья. Перед дорогой с полдня захлопотали с приготовлением последнего обеда.
Невзначай всех развеселил Степан Лямин. Его еще раньше отправили верхом на ближнюю выселку за молоком. Проезжая низкими лугами, Степан приметил журавлей, сумел, скрываясь за копнами и кустарниками, подъехать к ним поближе, а потом хлестанул свою Каурую изо всей силы:
— Ну-ка, взыграй, старуха!
И Каурая, взлягнув пару раз, выровнялась и ходко рванулась к журавлиному табунку. Всполошившиеся журавли замахали крыльями. Но не умели они взлетать сразу и, как положено им на роду, побежали сначала. И тогда Степан вытянулся вперед, что есть силы размахнулся длинным хлыстом, и через мгновение свистящий сыромятный жгут змеей охватил журавлиную шею и поверг длинноногого красавца на землю.
Степан принялся за охоту. Часа через полтора добыл еще одного и вернулся в стан с опозданием, но, к неудовольствию всех, веселехонький. Каурая под ним едва переставляла ноги, но Степан этого не замечал. Еще подъезжая, крикнул:
— Барский обед везу!
Скоро выобихоженные журавли уже варились в большом казане, накрытом круглой жестяной крышкой.
Обед получился сытный и вкусный. И хоть журавлиное мясо жесткое — не на всякий зуб, — все были довольны и похваливали Степана за удивительную прыть.
— Диво-то какое! Без оружия зашиб.
А он, краснея, признавался в сокровенном:
— Я ить шибко отчаянный, с самого сызмалетства. Ей-бо! Эх, кабы не изъян, разве я тут бы воевал? Мне по характеру не хлыстик положен, а самая вострая сабля!
Собирались в дорогу весело, может, оттого, что за долгую, омраченную непогодой работу отвыкли от всякой радости, сейчас и улыбки были светлее, а шутки — смелее и задиристей. Да и добрый обед тоже не пустяк.
— Еще и подвезет нам, ребя, — предположил кто-то, — вдруг да взыграет бабье лето!
— Картошка бы уродилась, тогда и с этаким сеном можно зиму продрегаться: мелочи коровенкам подбрасывать.
Ехали весело, потому что лесные колки стояли еще зеленые. Да и небо вычистилось по самую вышину.
…До войны Афоня был, пожалуй, единственным жителем Купавиной, которого обходили все житейские заботы. Службу свою он считал редкой удачей. Жизнь никогда не жаловала его большим достатком. А с тех пор как он поселился в Купавиной, то уверовал окончательно в то, что теперь нужда не достанет его никогда. Разве этого мало для того, чтобы чувствовать себя вполне счастливым?
Люди на его глазах вечно куда-то торопились, хлопотали каждый по-своему, редко имея для себя свободное время. Мужиков, к примеру, без остатка привязывала к себе железная дорога. Станционные пути, конечно, блюсти надо, но главное их дело на перегоне. Едва рассветает, а они уже отправляются пешком со своими модеронами километров за пять-семь от станции, на себе, можно сказать, везут весь инструмент. А потом день-деньской под солнцем, а того хуже — под дождем или снегом. Вот и выходило, что к своим домашним делам они пристать никак не могли.
А бабам где времени взять? Им управляться и с огородом, и со скотиной, и с ребятишками.
Так Афоня и дошел до окончательного убеждения, что его должность наилучшая во всей Купавиной. Времени она оставляла ему вдоволь и для того, чтобы с ребятишками поиграть, и с мужиками перемолвиться, и свой подход ко всей жизни определить.
С годами в его душе поселилось спокойное убеждение, что в этой жизни уже не может быть большой беды. А она вдруг пришла, объявившись войной. Афоня считал войну испытанием судьбы. Но в его сознании она отличалась от всякой другой напасти тем, что нынче ее никто не испытывал отдельно, а только вместе. Для Петруся Жидких гибель отца не была горем меньшим оттого, что Стуковы получили уже две похоронки на сыновей, и еще один затерялся, ушел, как в воду канул. Зимой все сидели в одинаковой темноте и в одинаково нетопленых домах. Летом нужда отступала, но похоронки шли с тем же постоянством, что и зимой, а ближе к осени их стало даже больше.
Может, где-то и водились сволочи, которым было все равно, как пойдет жизнь дальше, но в Купавиной таких никто бы не нашел. Потому-то купавинцы с самого первого дня войны знали, что победа придет к ним. И не сетовали на ее цену. Все терпели и материли нынче только погоду-изменщицу, да и то из-за того, что не знали, как ее пересилить.
…Афоня неусыпно приглядывался к погоде. Ворошил память, воскрешая прошлые годы, искал похожие на нынешний. Вспоминал стариковские приметы, по которым можно хоть маленько прикинуть, какая осень придет. Но погода, словно нарочно, хитрила. Лето уходило спокойным: без дождей, без ветродуев — предвестников близкой осени; не баловало солнцем, но и не пугало ранними крепкими утренниками. На огородных грядах все еще дурела зелень, а на картофельных полях ботва стояла, как молодая, шла в рост и не хотела ложиться. Гнезда, заботливо окученные не на один раз, вспучивались и трескались, манили каждое ведром картошки. Но когда их вывертывали для пробы, они рассыпались ядреной мелочью: не картошка, а сорочьи яйца.
— Что за оказия? — недоумевали мужики.
— Солнышка бы доброго недели на две, и вокурат бы упорела: два гнезда — полмешка.
— А ежели без солнышка?
— Тогда уж как бог даст.
— Хреновая надежа…
О погоде судили и рядили, как о фронтовых известиях: принимали, как есть, а что будет дальше — не знали.
Сомнения в один день обернулись затяжным проливным дождем. Мужики враз забыли про мелкие домашние дела, потому что потоки воды размывали железнодорожное полотно. Поезда ползли по-черепашьи, и начальники воинских эшелонов, хватаясь за кобуры пистолетов, грозились расстрелять дежурных по станции, как вредителей, только за то, что они выдавали предупреждения о снижении скоростей.
Дождь истратился через две недели так же внезапно, как и начался. Но своенравная осень не унялась и в первый же день октября светлым солнечным утренником сковала землю, заставив поседеть. Все надежды рухнули. Бабы, не ожидая мужиков с работы, прихватив ребятишек, высыпали на поля. Путаясь в ботве, надрываясь над каждым гнездом, обдирая пальцы о мерзлую землю, выцарапывали картошку.
— Хоть каелкой ее добывай, окаянную! — ругались на поле.
Отмаялись только дней через десять. Потом долго обиходили и прикидывали урожай. Получалось небогато. Поэтому, опуская в ямы, не забывали прибрать и мелочь, которую в прошлые годы пристраивали как придется, намереваясь быстрее скормить скотине.
Женщины, наученные прошлой зимой, сразу стали экономными и строгими. Мужики, уступив им старшинство, после работы молча садились за жидкие щи и так же молча вылезали из-за стола, если им не предлагали добавки.
А зима не торопилась с приходом, словно добровольно уступая время осени, которая не слабела утренниками, а если и манила короткими оттепелями, то потом сразу же хватала таким молодым морозцем, что оттаявшие голые метлы берез враз становились стеклянными.
…До Купавиной все явственнее доносились раскаты Сталинградской битвы. Даже по карте в школьном учебнике географии без труда представлялось, сколь далеко зашел враг. Он был неблизко от Купавиной, но по той же карте виделось, что от Сталинграда до Купавиной по прямой короче, чем до западной границы, которую фашисты переступили в прошлом году. В те дни многим купавинским мужчинам, которые в первый же день войны подали заявления в добровольцы, разрешили уйти в армию. Уезжали не только молоденькие новобранцы. Сурово прощался с дочерью и женой путейский бригадир член железнодорожного парткома Макар Заяров; отправлялся на войну бывший партизан гражданской Ялунин; красный от растерянности перед слезами своей жены, совсем не похожий на военного, не знал, куда деваться заведующий баней Иван Прохоров; стараясь отойти подальше от воющей родни, одеревеневшие от всеобщего внимания, курили в кругу деповских закадычные друзья и собутыльники, помощники машинистов Васька Петров и Васька Попов — по прозвищу Поп с Петром.
Мужики отдавали главные наказы: придется бабам поработать за них, но чтобы и ребятишек сберегли.
…Афоня готовился к зиме, как и все. Только его хозяйство было попроще: откладывал от летней нормы продукты, которые можно дольше хранить. Выкупая мясо и масло, обменивал их на крупу прямо в магазине — это разрешалось. Запас дровишек, выхлопотал немного угля. В последнюю очередь подремонтировал одежду.
Шел ноябрь, а зима по-настоящему все еще не приходила. Раз-два постращала белыми мухами, да на том и остановилась. Правда, уже начинали гулять холодные ветродуи под стать зимним, высекали из глаз слезу. Не укрытая снегом, земля закоченела, а дороги звенели под колесами телег. Пасмурные дни сменялись чернильной темноты ночами, когда посвист ветра казался лихим разбойничьим знаком.
Людская жизнь заперлась по домам. На работу и домой — все бегом, даже бабы в магазине перестали сплетничать: заскочат да выскочат обратно. Улицы без ребячьих голосов.
Афоня объявлялся из своей караулки тоже редко. Только мужики ходили бодрые: холод работал на них, железнодорожный путь стоял пока крепко, поезда шли на самых больших скоростях, да и ясная погода открывала машинистам желанный простор. Но машинистам — одно, а путейцам — другое. Они-то не могли забыть поздних дождей и ливней, когда едва-едва удержали дорогу, и потому знали, что зимой привалит канительной работы — начнутся пучины, и тогда придется торчать сутками где-нибудь в выемках, а то и на голых местах среди болот. Поэтому-то на ветер они смотрели снисходительно, как на собаку-пустолайку, ждали морозов.
В самом конце ноября в одну ночь неслышно лег мягкий снег, ровно укрыв все вокруг. Он придавил ветры к земле. Открылось солнце, но принесло не тепло, а колкий зимний мороз. И не верилось, что приходит зима: осень всегда боролась с ней долго, не единожды спуская снега, прежде чем покориться.
По первому снегу Афоня решился отправиться за Купавину один. В безветренной тишине мягко похрустывал свежий снежок. Миновав последние дома, Афоня прошел новенький переезд через красногорскую ветку и по знакомой тропке, угадывающейся под снегом, подался в сосняки на левобережье Каменушки, а потом к Исети.
Под невысокими соснами да среди сбившегося в кучи подроста тишина хранила целомудрие: вопреки своему характеру бор безмолвствовал, точно знал и не хотел говорить о какой-то тайне.
Афоня вышел на один из высоких утесов, стороживших излучину Исети, и увидел высокие трубы незнакомого завода, а под ними — белые четырехэтажные дома. Они выстроились не только по правому берегу Исети, но и перелезли на левый, спрятавшись в высоких соснах дальнего края бора.
— Ишь ты, резвый какой… — подивился Афоня на многотрубного каменного соседа.
К полдню Афоня достиг грязнушкинской дороги, добрался по ней до переезда через главную железнодорожную магистраль. В будке возле переезда обитал старинный Афонин друг, переездный сторож Никита Фролов. Хозяин встретил Афоню без удивления, хоть и сказал:
— Вот не ждал. Летом не собрался, а сейчас — пожалуйста. Милости просим! Желанный гость — к обеду.
И снял с печурки военный котелок с дымящейся картошкой. Афоня кивнул на посудину:
— По-военному живешь: и амуниция военная у тебя.
— Подарок, — ответил Никита. — Летом еще останавливался тут у меня эшелон: семафор не пускал. Я вокурат свой чугунок песком чистил. Увидели солдаты, засмеялись надо мной: зачем одному такая оказия? А я что скажу, коли другой нету? Вот и дали котелок… Покрышку-то к нему сам уж изладил. Ешь. Только хлеба у меня нету.
— Она, картошка-то, без хлеба легче, — ответил Афоня.
Картошку круто солили, запивали водой. Разговор вели не спеша: слово — через картошку, другое — через глоток.
— Как там? — интересовался Никита.
— Сказывают, за Волгу отступа не дадут, — ответил Афоня то, что слышал.
— И нельзя, — согласился Никита.
— Знамо дело, — поддержал его и Афоня.
Неторопливо очистили по картошке.
— Исправные мужики на войну едут, — сообщил наконец Никита.
— Дело серьезное, — высказал свое мнение Афоня.
— Который котелок-то мне отдал, спрашивал: как живете? Говорю: хорошо.
— А он?
— Интересовался: не голодно? Показываю ему на поля да огороды: вон сколько еды, говорю. И вас голодом не оставим. Только, говорю, вы там постарательнее с ним, с Гитлером-то, чтобы каждая пуля без промаху. Обещался. Обратно, говорит, поеду — непременно тебе по всей форме рапорт отдам, отец.
Никита едва приметно улыбнулся.
— И отдаст, — сказал Афоня.
— А как же! Ему народ обманывать присяга не велит. — Никита улыбнулся шире: — Я ему, Афоня, так напрямки и сказал категорически: дождусь, мол!
— Требовательный ты мужик — знаю, — похвалил Афоня. — Своя-то служба как?
— Да так… Сменщика-то нет теперь, а поезда идут часто, — поведал Никита. — Старуха приходит, провожает поезда за меня часа три, пока я высплюсь. А потом опять сам. Переселился, в общем, сюда совсем. Вишь, и постель устроил, как-нибудь пробьюсь до победы.
Расстались в сумерках.
Афоня пошел домой прямиком, через густой, зачащобенный лес — осинник с березником: знал свою дорожку. К березовой роще вышел, когда в небе уже висела луна. В голубом безмолвии под березами тихо спали могилы. По опрятным холмикам Афоня догадался, что могилы подправили еще потеплу. Вспомнилась встреча с Александром Павловичем Завьяловым. Позаботился, значит.
Еще раз обернулся и увидел, что белые надгробья лежат оправленные в траурные тени берез.
Через час уже сидел с берданкой на завалине магазина. Купавина потушила в домах огни. Но Афоня знал, что не все еще спят. Сухими глазами глядит в темноту бабушка Стукова, посылая молитвы в охрану своих остальных живых сыновей — солдат. Лежит без сна в ночи и мается разными думами Альфия Садыкова из-за своей мелкой детворы, которая постоянно хворает животами. Принимают подушки горькие слезы овдовевших солдаток, кающихся в безысходном одиночестве, что не успели вовремя затяжелеть…
10
Почти до Нового года вторая военная зима прикидывалась милостивой. Как хитроватая хозяйка нежеланных гостей, зима с улыбкой проводила старый год, порадовав детвору катушками да играми, а потом, спрятав все следы праздников под убродным снегом, сразу ударила сорокаградусной стужей, замораживая вагонные буксы, загоняя людей по домам, не выпуская малышню в школу. И все заметили, что дров припасено в обрез, что бескормица не за горами и скот удержится только чудом. И, словно подтверждая невеселый людской подсчет, убавились продуктовые нормы.
Купавинцы еще держались домашним подспорьем, а на станции зима уже начинала свой разгул. Все чаще с поездов снимали больных людей, но и наскоро расширенный втрое медпункт не вмещал всех, кому нужна была помощь. Врачи определяли у них грипп, воспаление легких, а у некоторых даже тиф. Но когда кто-то умирал, доктора к болезни непременно добавляли и другую причину — истощение.
До войны возле вокзала кроме двух киосков стояла еще вместительная зеленая будка, в которой на скорую руку чинили обувь. С начала войны сапожная будка, как и ее соседи, закрылась. А после Нового года большой висячий замок с нее сбили, потому что потеряли от него ключ, и повесили новый, поменьше. В будку стали складывать покойников.
С того дня старались не глядеть на нее купавинцы. Только любопытная ребятня, преодолевая страх, без дыхания приникала к щелям в деревянном щите, закрывавшем окно, и до рези в глазах всматривалась в полумрак. Далекий окрик милиционера Силкина отбрасывал ребятишек от будки. Они рассыпались в разные стороны, а немного погодя купавинцы уже передавали друг другу:
— Там двое.
— Нет, трое.
— Мой говорил: двое.
— Погоди, что еще к вечеру будет…
— Что же это делается?!
Никакие строгости милиционера Силкина не могли остановить ребятишек, и купавинцы исправно получали сведения каждый день. А вскоре в разговорах заходило слово «копилка» совсем с недовоенным смыслом:
— Опять из «копилки» двоих в березовую рощу свезли…
Ребячья фантазия, услышанные случайно разговоры на веру принимались чаще всего женщинами.
— Слышали, в «копилке»-то лежит в милиционерской шинели?
— Неужели милиционер?
— Нет, шпион!
— Ой!
— Переодетый. Сказывают, охранники станционные застрелили: наган у него нашли…
— Матушки!..
При всех скидках на стародавнюю веру купавинцев во всякие небылицы в их словах была и доля правды. Да, лежал в «копилке» человек в милицейской форме, только не переодетый шпион, а настоящий милиционер командировочный. И не убитый охранниками, а умерший в поезде от отравления: купил где-то на станционном базаре у спекулянтов испорченные консервы. А сняли его с поезда действительно бойцы вооруженной охраны, потому что больше некому было.
Может, и меньше говорили бы о зеленой будке. Но купавинский медпункт не имел для такой цели специального помещения. Война заставила.
Вот и стояла возле вокзала «копилка» — холодный временный приют унесенных из жизни болезнями да несчастными случаями в дорожной толчее войны.
И неизвестно, сколько еще былей и небылиц связала бы купавинская молва с «копилкой», не случись событий, отодвинувших все другие.
Продавщица магазина, ссылаясь на отчет, отказалась выдать хлеб за четыре дня вперед Альфие Садыковой. Ни уговоры, ни слезы не помогали.
— Засудят меня! — чуть не плача, объясняла продавщица, женщина своя и добрая. — У самой вперед на день забрано.
— Жрать нечего, — упрямо твердила Альфия, отказываясь понимать любые доводы. — Ребятишка ревет!..
Бабы в магазине молчали. В других делах каждая из них непременно вынесла бы вслух свое мнение, которое не сошлось ни с чьим. Но на этот раз все понимали Альфию, потому что сами могли очутиться на ее месте. Но никто не решился осудить и продавщицу, которая — все знали — после закрытия магазина сидит допоздна за прилавком и клеит талончики на газетку, а потом пересчитывает их на счетах не на один раз.
Между тем скандал разрастался. Потерявшая остатки терпения Альфия вдруг закричала:
— Собака ты! Собака ты! Собака ты!..
Продавщица онемела от неожиданности. А потом заревела сама. Кто-то из баб кинулся уговаривать Альфию, оттесняя ее от прилавка. Другие успокаивали продавщицу. В магазине поднялась кутерьма. А через полчаса по Купавиной разлетелось:
— Альфия повесилась!..
Возле барака, в котором жили Садыковы, вмиг образовалась толпа. Несчастный Нагуман стоял с ребенком на руках, остальные ребятишки держались за его штаны.
— Баба с ума сошел… — твердил Нагуман одно и то же.
Наконец вышла фельдшерица, строго приказала ему:
— Не морозь детей, иди домой. Спасли ее.
Нагуман молча повиновался.
Альфия лежала на кровати. Возле нее сидела санитарка. Альфия еще не вполне пришла в себя, бессвязно что-то бормотала по-татарски. Нагуман столкал перепуганных ребятишек на печку, не подходя близко к постели, смотрел на жену как на чужую.
Афоня находился тут же. В доме Садыковых остались только голые стены. Если не считать засаленного деревянного стола да поставленной посредине железной кровати, накрытой потерявшим цвет одеялом, глазу не на чем было остановиться. Скамейка, пара табуреток в счет не шли.
…Альфию от смерти спасли, но зима не отступилась ни от Садыковых, ни от многих других. Стали бить скот. Начали с мелкой живности: кур, овец, телят-полугодовиков. В феврале забили первую корову…
С нуждой боролись с молчаливым упорством, как со зверем, от которого нельзя ждать пощады, а надо только одолеть. Никто не хотел смиряться с голодом, потому что со сталинградской стороны уже докатывались залпы наступления и сердце не могло обмануть: начинали наши солдаты свой победный путь.
А пока…
Темная длинная конюшня казалась большой и мрачной. Маленькие продолговатые окошки давно зашили досками для тепла. Когда-то здесь в любую стужу стояло тепло, вздобренное запахом овса вперемешку с родным конским духом. Теперь в стойлах остались только Челка да Каурая — две старухи, как незлобиво называл их Степан.
Мохнатые от инея стены, пустые сенные кормушки, холод не меньше, чем на улице, делали конюшню пустынной. В ее полумраке прыгающим привидением маячил Степан. Повертываясь вокруг своего костыля, он тяжело вваливался то в одно, то в другое стойло, потом надолго замирал, озираясь затравленным взором, и с отчаянной решимостью бросался в стойло на другом конце конюшни.
Но чудес не бывает: все кормушки пустовали.
Степан вернулся в дальний угол конюшни, привалился к стойлу, в котором дремала Челка. Опустив голову в пустое деревянное корыто, она думала о чем-то своем и даже не подняла глаз. Хребет ее глубоко прогнулся, словно опущенное тощее брюхо оттягивало его.
А Степану она вдруг привиделась молодой, какой была десять лет назад. Тогда буланая шерсть ее лоснилась, как дорогая парча, а величавой материнской красоте и осанке Челки завидовали самые придирчивые знатоки. Помнил Степан и то, как ездил с нею в Шадринск к знаменитому жеребцу Дикому. А потом родился у Челки серый в яблоках Атлас. Не похожая на других лошадей, Челка зорко оберегала свое дитя, но не протестовала, когда Степан подходил к нему.
Было это всего десять лет назад… Через два года Атлас взял на районных бегах первый приз, никому не отдавал его четыре года. Потом в район его уж не выводили, потому что добился он и областной награды. И Челка, которую все чаще запрягали не только в легкий ходок, но и телегу, всегда встречала его ласково, хоть и не выказывала слишком своего волнения. Зато Атлас, завидев ее издалека, радостно и громко подавал свой голос.
Сейчас Атлас уже второй год воюет на каком-то фронте: забрали его в первую же неделю.
Может, Челка сейчас и думала о нем, видела его летящим по широкому снежному полю с красивым всадником в седле.
Степан подошел к Челке, погладил ее по шее, ласково провел шершавой ладонью по морде, ощутил мягкие бархатные губы. Едва дрогнули они в ответ. Тогда Степан достал из кармана полушубка горсть пшена, украденную из запасов Анисьи, поднес Челке. Она попробовала взять пахучее зерно, но только ослюнявила Степанову ладонь, просыпав половину зерна на пол. Разучилась.
— Ох ты, беда какая! — вздохнул горестно Степан. — За что мне этакое наказание?!
Степан сходил за теплой водой. Челка отпила совсем немного, но заметно ожила, потерлась мордой о Степаново плечо.
Ночевать домой Степан не пошел. Сидел на хомуте в стойле напротив и глядел на Челку. А она на его глазах вдруг, задрожав ногами, начинала приседать. И каждый раз при этом Степанову грудь наполнял холодок. К полуночи, разыскав в конюховке два широких брезентовых ремня, Степан подвел их под Челкин живот и подтянул к верхним доскам перегородок. Челка благодарно пошевелила хвостом.
Под утро Челка ослабела совсем и, медленно оседая, повисла на ремнях. Степан метался возле, лаской хотел поставить ее на ноги. И она, понимая, напрягала последние силы, но ноги не выдерживали.
Степан обнял ее за морду, прижался к ней…
Так утром и увидел их Нагуман Садыков. С одного взгляда понял он все. Тихонько вышел из конюшни, зашел к начальнику путейского хозяйства:
— Тама на конюшне Степан ревет. Челка издох… Хоронить нада.
…С того дня, когда Альфия хотела наложить на себя руки, забеспокоился Афоня. Он наведался и в другие дома. Каждый раз возвращался невеселый. Во многих семьях ребятишки слабели. Да и по себе Афоня чувствовал, что слабеет. Поэтому не мешкая свез на базар все, что накопил с лета. Вместо муки купил немолотого зерна и картошки. На другой день, прихватив котелок негустой овсяной каши, пришел к Садыковым.
Альфия сидела с девчонкой, которая ревела у нее на руках, отталкивая ручонками пустую грудь. И Афоня, рассчитывавший покормить только малышню, пригласил к столу и Альфию. На восемь ртов двухлитровый котелок — не велика еда. Но после того как он опустел, повеселели ребятишки, исчезло выражение муки с лица Альфии.
— Картошка-то есть? — спросил хозяйку.
— Нету, — с коротким вздохом отозвалась та.
— Мало накопали?
— Совсем мало.
— А что так?
— Новый дорога все завалил, — ответила Альфия.
Афоня понял, что огород Садыковых, как и некоторых других, попал под строительство тупика для разгрузки санитарных поездов: в Красногорске организовали большой госпиталь.
— Вот какая оказия! — только и вымолвил Афоня. — Выходит: карточки одни и добавки никакой…
— Ничего нет.
Надолго замолчали.
— Слышь-ка, Альфия, — вдруг встрепенулся Афоня. — Вы корову-то в прошлую весну зарезали?
— В прошлую.
— А кожа где?
— В сарайка висит, — махнула рукой Альфия.
— Да ты погоди! — совсем оживился Афоня. — Притащи-ка ее сюда.
— Зачем? — Альфия не торопилась.
— Тащи, говорю. Вот глупая… Ну давай сам схожу. — И обернулся к печи: — Галимзянка, слезай быстрее, айда со мной.
Восьмилетний Галимзян слез с печи, оделся и вместе с Афоней вышел. Скоро они с трудом втащили в комнату замерзшую коровью шкуру, бросили на пол.
— Пущай тут и лежит до завтрашнего дня, — распорядился Афоня. — Утром приду.
С утра Афоня заставил Альфию вскипятить воды. Оттаявшую шкуру, предварительно разрезав на четыре части, распарили в вымытом корыте. Потом вместе с Нагуманом принялись соскабливать шерсть. Чистые куски кожи разрезали еще на несколько, заставив Альфию старательно вымыть каждый. Вычищенная коровья шкура едва-едва уместилась в большом тазике.
— Эвона сколько у вас еды! — весело поглядывал на Садыковых Афоня. И распоряжался дальше: — Завтра получше истопи печь, Альфия. Опять приду.
На другой день Афоня кудесничал дальше. Нарезав кожи помельче на половину большой кастрюли и залив ее водой, Афоня поставил кастрюлю в печь. Поближе к вечеру при нем же непонятное варево вытащили. Тогда Афоня упревшую кожу переложил в деревянное корыто для рубки мяса и усадил Альфию за работу. Не более чем через час Афоня, перемешав бульон с фаршем и приправив его принесенной луковкой, разлил все по чашкам.
— Вот и холодец спроворили!.. Утром в гости приду.
Холодца получилось много, килограммов пять. И это был настоящий холодец. На следующий день, впервые за несколько недель, вся семья Садыковых, да и Афоня вместе с ними, наелись досыта.
— Научилась теперь? — спрашивал Афоня Альфию.
— Ага, научилась, — ответила та.
— Часто-то не делай его, — наказывал Афоня. — Разве что по воскресеньям. Тогда на месяц хватит, а то и больше. Дельный разоставок будет к карточкам-то…
Альфия послушно кивала ему в ответ и поправляла пеленку у маленькой, которая спала возле ее груди.
…Когда Афоня зашел к Петрусю Жидких, тот обрадовался и растерялся сразу. Дома он был один, лежал на кровати поверх одеяла, укрывшись своим пальтишком. При появлении гостя вскочил, поставил перед ним стул.
— Только холодно у нас, — сказал извинительно.
— Не беда, — успокоил его Афоня. — Не промерзну, гляди, какой полушубок у меня.
— Старенький. И в заплатах…
— Это самое лучшее и есть, — улыбнулся Афоня. — Овчина, когда обомнется, она лучше и на ходу легче. А от заплаты самое тепло. Не знал?.. Как живешь? В гости почему не забегаешь?
— А я никуда не хожу. Уроки…
Афоня уже видел, как сжалось и побледнело личико мальчика.
— А я тебе гостинец принес, — сказал Афоня и полез за пазуху.
Он положил на стол чистый тряпичный сверток с горячей, только что сваренной картошкой. Потом поставил четвертинку с молоком.
— Поешь-ка да поговори со мной…
— Что вы! — испугался Петрусь, отстраняясь от еды. — Я не могу…
— Нехорошо, — огорчился Афоня. — Обижаешь ты меня. — Вспомни, как летом угощал капустным пирогом, али забыл?
Во взгляде Петруся отразилось сомнение в своей правоте.
— А грибной похлебки притаскивал в пол-литровой банке — тоже, поди, забыл? — осторожно донимал его Афоня. — А я не забыл… Ешь-ка давай!
— Хотите — вместе? — предложил Петрусь, начиная сдаваться.
— Ну и смешной же ты! — хохотнул Афоня и даже руками взмахнул. — Ты погляди: картошка-то еще горячая. Я только что цельный котелок съел, это остатки, — показывая на картофелины, ловко соврал Афоня.
— Ну, разве так…
Петрусь намеренно неторопливо чистил картошку, но от Афониного внимания не ускользнуло едва приметное дрожание детских пальцев и то, как Петрусь проглотил нетерпеливую слюнку. Откусив картошки, он прямо из бутылки отпил молока.
— А ты налей молока-то в чашку, — посоветовал Афоня.
— Из горлышка вкуснее, — ответил Петрусь.
— Коли так — другое дело…
Петрусь съел две картофелины из четырех, выпил ровно половину бутылки молока и остальное отодвинул в сторонку. Увидев взгляд Афони, поспешно объяснил:
— Это на потом.
Афоня почувствовал его хитрость. Петрусь никогда не забывал о матери. Даже тогда, когда ходили в лес за крупяшками и пиканами. Он самые лучшие нес ей.
— Разве так едят? Не обижай меня, — недовольно сказал Афоня.
Петрусь не знал, что делать. Затруднение оказалось столь мучительным, что щеки мальчика зарделись едва приметным румянцем. Тогда Афоня помог ему:
— Ты хоть молоко-то допей. А картошки пусть… Бутылочка-то у меня одна в хозяйстве.
Дальше упорствовать Петрусь не мог. Он допил молоко, а картофелины положил в маленький ящичек кухонного стола, в котором лежали ложки и вилки. Облегченно вздохнул.
— Школьные-то дела как? — спрашивал Афоня.
Петрусь пожал плечами.
— По-старому. Только хлеба теперь не дают. Раньше на большой перемене вот такой ломтик давали, да еще с повидлом иногда…
— Будут давать, — почему-то твердо пообещал Афоня.
— Может быть, — неуверенно согласился Петрусь.
— Радио-то у вас есть?
— Есть.
— Как там на фронте? А то сижу в своей избушке, ничего не знаю.
— Наступают вовсю! — сразу оживился Петрусь. — Мама сказала, что если так пойдет, то летом поедем домой. У нас недалеко от Орши бабушка живет. Мы о ней пока, правда, ничего не знаем, но у нее там сад.
— Раз наступают, ясное дело, поедете.
— Ох и бьют немцев! — говорил Петрусь. — Я слушаю радио и каждый раз по карте линейкой меряю — по масштабу, сколько километров гонят.
— И много ли?
— По пятьдесят и даже семьдесят выходит.
— Ловко! — подивился Афоня. И спросил: — В гости-то приходить ко мне будешь?
— Разве когда в школе выходной…
— И так ладно. Не забывай. Скоро весна, лето: делов-то у нас прибавится. Да и про сводки военные расскажешь…
…Запоздалая зима наверстывала упущенное. Истратившись на метели, завалив снегом овражки, колки и дороги, она принялась будоражить людей волчьим воем — верная примета скорого падежа скота.
Недалеко от деревни Грязнушки стоял одиноко, прижавшись к небольшому лесочку, Больной хутор. Многие годы туда переводили больной скот с колхозных ферм. Нынче с половины февраля закружили вокруг хутора волчьи стаи, а потом один за другим пошли их разбойничьи налеты: среди бела дня резали то овечку, то телушку. Хуторские сторожа оборонялись берданками. И тогда хищники отходили в поле, садились на бугры, день-деньской маячили на глазах.
А по ночам заводили свои голодные песни.
В районной газете напечатали объявление, манили обещанием: за каждого убитого волка колхоз, на чьей земле возьмут хищника, даст, мол, в награду овечку.
Васька Полыхаев, Гешка Карнаухов и Санька Ялунин пришли к Афоне на совет.
— На волков задумали идти, — объявили серьезно. — Как их бьют?
— Обыкновенно — артелью.
— И мы артель.
— Из мужиков кого-нибудь прихватили бы, — осторожно посоветовал ребятам Афоня.
— Некогда им.
— А вооружение у вас какое?
— У Саньки — отцова двустволка, у Гешки — малокалиберка осоавиахимовская, взял по знакомству, а у меня — старинный дробовик, — выложил Васька.
— И куда думаете идти?
— К Больному хутору.
— Не боитесь?
Ребята не боялись. Очень хотелось получить в награду овечку — мяса-то сколько! Афоня шибко не отговаривал: Ваське и Гешке скоро по пятнадцати, Саньке четырнадцать, все не маленькие. Но схитрил все-таки, посоветовал охотиться днем, когда волк боязлив.
…На другой день ребячья экспедиция двинулась на лыжах в сторону Грязнушки. За Никитиным переездом с дороги свернули к перелескам. Никто волчьи места не знал, рассчитывали на удачу. К полудню наткнулись на свежие следы.
— Может, не пойдем? — робко спросил самый маленький — Санька. — Вон сколько их…
— Как это не пойдем? — огрызнулся Васька Полыхаев. — А овечка?
— Засаду надо сделать, — предложил Гешка.
— И просидим до вечера зря, — отверг Васька. — Дурак он, что ли, волк-то, самому на пули идти?
Двинулись дальше. Разговаривать не хотелось. Ружья тяжело давили на плечи, котомки мешали идти, все вспотели. После полудня, успокоившись, что волков уже не будет, неожиданно увидели двух: друг за дружкой они неторопливо шли им наперерез метрах в семидесяти.
— Залегай! — рявкнул Васька.
Ребят как ветром сдуло с дороги, разом упали в снег, завозились с ружьями.
Волки вышли на дорогу метрах в пятидесяти. Один крупный — видимо, самец, другой — поменьше, но оба худые. Остановившись, самец понюхал воздух, помешкал и присел. Другой последовал его примеру.
— Самое время палить! — зашептал Гешка, взглянув на Ваську.
— Погоди, может, поближе подойдут…
Отчаянный и бесстрашный был Васька Полыхаев.
— Зато сидят, — не сдавался Гешка. — Попасть легче.
В это время без всякой команды грохнул из одного ствола Санька Ялунин. Что-то крикнув, как из пушки саданул Васька. Потом снова Санька.
— А ты? — крикнул Васька Гешке.
— Я уже, — отозвался тот.
Выстрела Гешкиной малокалиберки никто не слышал. Санька торопливо перезаряжал ружье. Васька сказал с облегчением:
— Пошли…
Это относилось к волкам. Матерый, повернувшись в сторону выстрелов, поглядел долго, а потом не торопясь подался в другую сторону. За ним тихонько затрусил второй.
Ребята молча глядели им вслед.
— Пожалуй, стаю нам не одолеть, — предположил Гешка.
— А у меня только и было на один заряд, — сказал Васька.
— Пойдем в следующий раз, — сообразил Гешка.
— Ладно, — согласился нехотя Васька. — Поворачивай.
Бодро побежали обратно. На передыхе Санька спросил:
— Видели, какая шерсть у него на загривке-то: дыбом.
— Злой же он, — объяснил Васька. — Ему и по карточкам ничего не дают, самому добывать надо. А думаешь, мы одни ходим за ними?.. Обидно: промахнулись.
Шли напрямик. Санька отстал. Большое ружье било его под колени, он поминутно поправлял его, путаясь в великоватом полушубке. Лыжные палки то и дело заносило в стороны. И вдруг одна из них ткнулась во что-то твердое.
— Ребя! — заорал уже в следующее мгновение Санька. — Айда сюда!..
Прибежали запыхавшиеся Васька и Гешка. В снегу лежал мертвый волк.
Ребята переглянулись. Потом Васька с трудом выворотил оледеневшего зверя из снега, на его боку увидели красную наледь.
— Подранок сдох, — определил Васька.
— А кто его? — спросил Санька.
— Хоть кто! — сердито обрезал Васька. — Заберем, и все. Никто и не ищет его уж, видишь — занести успело.
— А увидят у нас?
— Убили, скажем. Свидетели-то где?
— И овечка наша, — заключил Гешка.
…Вечером по самой середине улицы Купавиной медленно и устало, но солидно шествовали три лыжника. Первым шел Васька Полыхаев — самый рослый и сильный. Он тянул волоком на веревочных лямках заарканенного матерого зверя. За ним с двумя котомками и лыжными палками в одной руке вышагивал Гешка Карнаухов. Последним тянулся Санька Ялунин, согнувшийся под тяжестью двух ружей. Редкие купавинцы, ничего не понимая, только с любопытством смотрели им вслед.
Зато Афоня встретил ребят хлопотливо и шумно:
— Неужто замаяли?! Вот диво-то! Гренадеры чистые! А кто?
— Залпом, — коротко ответил за всех Васька. — Двое их было. Один ушел, зараза!..
— Двое?! — испугался Афоня.
— Ага, двое. Другой, наверно, раненый, — врал дальше Васька. — Аккурат километра за три от Больного хутора.
— Ай да герои! — поражался Афоня. Дотронулся до зверя: — Замерз-то как шибко…
— Где хлопотать за овечку-то? — спросил Гешка, чтобы отвести расспросы.
— Про это я не шибко знаю, ребята, — ответил Афоня. — У Силкина надо спросить.
— У Силкина?!
— А у кого же? Он власть-то. — И посоветовал: — Вы сами-то не ходите, пусть чей-нибудь отец.
Волка заперли в Гешкином сарае на замок. Когда расходились, Васька по очереди поднес кулак к Санькиному и Гешкиному носам:
— Кто прошлепает — смерть!
Все обошлось благополучно. Правда, овечку ребята не получили. Зато Васькин отец, сдав шкуру волка в Заготживсырье за пятьсот рублей, по квитанции получил в Грязнушке еще тридцать килограммов ржи на всех.
…Перед мартом потеплело. Осел снег, потемнела, запахла конским пометом дорога. И кончились Афонины запасы: последний месяц пришлось подкармливать ребятишек больше чем в десяти домах. Чаще других заходил к Садыковым. Там беда схватила за горло всех: не вставал с кровати Нагуман, примолкшие сидели на печи ребятишки. Одна Альфия тенью бродила по дому.
Привыкли к Афоне и четыре маленькие девчонки Степана Лямина. Когда Афоня заходил в их домишко, они спешили ему навстречу, стараясь чем-нибудь угодить. Он смотрел, как они усаживаются за стол, а сам говорил Степану:
— Счастливый ты, Степан. Этакое множество невест у тебя растет. Не заметишь, как наступит у тебя райская пора: каждый день по гостям… Зайдешь в один дом, а там зять тебя уж с угощением ждет. На другой раз — к следующей дочке. Им ненадоедливо, а тебе — гуляй знай! Дома разве только опохмеляться придется.
Степан с почерневшим лицом, неподвижно сидевший на лавке подальше от стола, казалось, не слышал ни слова. Молчал. И тогда Афоня, торопливо попрощавшись, уходил.
Возвратившись из своих походов, долго лежал на топчане в полумраке и думал о том, что завтра зайти к ребятишкам уже не с чем.
В один из таких вечеров его разбудила Альфия:
— Афоня! Афоня, — не то звала, не то плакала она. — Айда к нам: моя Нагуман умерла… Обмыватя надо…
…А утром скормил с чаем Петрусю половину своего хлебного пайка.
…Тише стало на Купавиной. Мартовским светлым утром, радуясь близкой весне, не вскрикнет на всю станцию горластый ляминский петух, не откликнутся ему другие. Не промычит жалобно чья-то корова, истосковавшаяся по хозяйке, опоздавшей к дойке. Не донесет ветерок от конюшен парного запаха свежего навоза да вкусного залежалого сена. Только пересвистываются гудками паровозы да гремят один за другим тяжелые составы.
Две недели назад принесла жена Никите Фролову на переезд ведро картошки.
— Последнее, Никита, — сказала виновато.
— А себе-то оставила? — спросил он.
— Есть маленько. Да я ведь дома, — неопределенно ответила она.
— Может, с грехом пополам и дотянем.
— Надо, — твердо сказала жена.
Что стояло за ее словами, Никита знал. Единственный сын Фроловых — Прокопий — еще до войны четыре года служил на Дальнем Востоке. Там закончил командирские курсы, а после Хасана приезжал домой. Целый день тогда просидели за столом. У Никиты слипались глаза от выпитого, но он крепился изо всех сил, не подымался из-за стола, только рукой приглашал каждого к угощению. Хотелось ему, чтобы все разглядели новенькую гимнастерку сына, упругие ремни и зеленые петлицы с двумя красными кубиками, а главное — медаль «За отвагу». Пусть глядят, думал про себя Никита, потому что был его Прокопий на редкость смирным и стеснительным парнем, краснел перед девчонками. А на поверку-то — глядите! И относил такую перемену в сыне исключительно на свой счет: «Моя кровь! Я в свое время вон какую девку одолел, Дуньку…»
С начала войны целый год получали от Прокопия письма со старого адреса, в душе радовались, что пока очередь сына воевать не пришла. И не зазорно было: все равно в армии, как и полагается у всех, а что на Востоке, так это дело высокого начальства, значит, и там пост важный.
Осенью пришло последнее письмо. Написал Прокопий, что и он отправляется померяться силой с врагом. И все. Где же он теперь?..
— Ты, Дуня, больше ко мне не ходи, не бей ноги-то, — наказывал жене Никита. — Днями у меня мастер был, такое разрешение дал: ночью шлагбаум закрывать совсем. Ежели кому переезд понадобится, будут будить меня. А ты, говорит, не стесняйся вздремнуть маленько. Так что мне теперь заместителя и вовсе не надо. Тебе, выходит, отдых…
Жена молчала. Никита же не мог сидеть с ней вот так, молчком. Знал, что она в это время думает о сыне.
— Что нового на Купавиной? — спросил. — Дружок-то мой, Афоня, скрипит?
— Скрипит. Только вовсе худой стал. На улице видела: идет. Самому, наверное, кажется, быстрехонько бежит, а со стороны видно: только ноги часто переставляет, а толку-то не лишка.
— Ему совсем край, — посочувствовал Никита. — Подспорье-то и раньше было какое? Гостинцы. А нынче где их возьмут?
— Помогают ему помаленьку. Сама вчера полведра картошки снесла.
— Хорошо и сделала.
— А он все по ребятишкам с заботой.
Она впервые улыбнулась. И Никите тоже стало легче. А сказал, что и вначале.
— Так ты, Дуня, не май себя больше.
— Как скажешь, — ответила она по привычке во всем соглашаться с ним.
И вот уж две недели не приходила. Никита в душе даже обижался немного. И думал тоскливо:
— От Прокопши, наверное, так ничего и не дождалась. А то бы не удержалась, прибежала.
Не знал Никита, что Евдокии уже нет…
Последние дни мысли самого Никиты все чаще обращались к сыну. Он и не заметил, как стал говорить о нем с женой вслух:
— Ну, ладно, Евдокия, — обращался к ней назидательно, глядя в сторону Купавиной. — Не пишет. И что из того?.. Думаешь, у него там времени-то только и есть, что письма к нам сочинять. У него люди на руках, команда вручена ему. Погляди, что делается: день и ночь гонят немца — не на лисапеде за им едут, а в атаку идут. Поди, и соснуть-то некогда…
А дальше уж про себя гордился, не возглашая вслух, что с приездом Прокопия на фронт дела там заметно лучше пошли. И даже находил этому объяснение: не новобранец прибыл туда, а кадровый…
Давно не брился Никита, густо оброс щетиной. Ополаскивался по утрам, приглаживая бороду, заметил, что лицо стало мягче, вроде бы даже чужое. Но это занимало его недолго. Кипятил воду, грелся ею. Картошка давно кончилась. А беспокоило то, что иногда сон одолевал его днем. Просыпался, как от испуга, глядел на старые казенные ходики, что висели на стене, торопливо подтягивал гирю. На сердце отлегало: проспал всего десять минут.
Легче бывало ночами. Морозец бодрил, дышалось легче. Тогда Никита и делал свою главную работу по содержанию переезда: брал старенькую метелку и при свете фонаря чистил зазоры между рельсами и настилом.
Весна нынче просилась ранняя. К концу марта ночами уже не замерзало. Снег как лежал днем кашей, так до утра и оставался, а днями уж пробивались ручьи.
— Так и спустит потихоньку, без хлопот, — думал Никита. — Путейцам никакой маеты.
В одну из таких ночей, прозрачных и молодых от звенящих в вышине звезд, вышел Никита из будки, услышав далекий гудок паровоза. Поезд был еще далеко и едва угадывался в темноте по отсвету прожектора. У Никиты закружилась голова, и он невольно придержался за широкий брус перил переезда. Головокружение не проходило. Тогда, перекрыв белый свет фонаря зеленой створкой, Никита поставил фонарь на брус, обратив его навстречу поезду, шум которого уже ясно слышал. Сам же присел на подкладки, аккуратно сложенные путейцами, привалился спиной к стойке перил.
Машинист, увидевший зеленый свет, как полагается, за сто метров до переезда, приветливо свистнул, а потом прогрохотал мимо длинным составом.
Никита, не в силах преодолеть дрему, сидел на стопке подкладок и только согласно кивнул поезду головой.
Потом поезда шли еще и еще. Но Никита уже не слышал ни приветливых гудков паровозов, ни бодрого гула составов.
Только трепетный зеленый огонек одинокого фонаря встречал их. Путь на запад был свободен.
11
Купавинцы заметили перемену давно. Еще в феврале уборщица магазина Мария Кузьмина сказала продавщице:
— Ольга, ты приглядись-ка к Афоне. Что-то с ним неладно.
— Сама вижу, только понять не могу. Отощал будто, — ответила та и предположила: — А может, захворал?
— Не походит, — усомнилась Мария.
— Ума не приложу. Вроде бы и варит каждый день.
— Шибко перевернулся, — сокрушалась Мария.
Да и другие купавинцы уже примечали в Афоне перемену. Раньше, несмотря на видимое нездоровье ног, он всегда гляделся бодрым, веселым, а главное — любопытным. И к этому привыкли. В последнее же время Афоня ничем не интересовался. И что особенно удивляло — мог пройти мимо не поздоровавшись.
И в то же время бросалось в глаза, что никогда еще Афоня так много не ходил по Купавиной, не был столь хлопотлив и непоседлив, как в нынешнюю весну. Постоянно чем-то занятый, он куда-то торопился, подолгу пропадал из своей караулки.
Потом всех поразило его лицо. На первый взгляд могло показаться, что он даже поправился. Но прошла неделя, и лицо стало одутловатым, кожа прозрачной, за ней угадывалась водянистость. И тогда поняли.
Затаенная тревога не обошла никого. Первой пришла Дарья Стукова. Афоня растерялся перед столь знатной гостьей, рукой прошелся по единственной табуретке.
— Ты не суетись, — попросила Стукова. — Митьку-то моего знал, которого прошлой осенью забрали?
— Как же, Дарья Зиновьевна! Еще играл с ним годов-то десять назад.
— Ну, вот… Бумага теперь от него осталась одна на всю мою жизнь.
Строга была Стукова, очень похожа на своего мужа — мужчину степенности железной и суровой. Говорила сухо: ни слезинки, ни слабости в голосе.
— Третий, значит? — тихо спросил Афоня.
— Третий.
— Ох-хо-хо! — только и выдохнул Афоня.
— Ладно, — сказала Стукова. — Давай-ка помянем его.
И вытащила из продовольственной сумки кастрюльку. Объяснила:
— Куриный. Нам по курице на две недели осталось. Прирезали всех.
— Что ты, бог с тобой, Дарья Зиновьевна! Сытый я сегодня, как мизгирь. Не могу, — прикладывая руку к животу, клялся Афоня. — Коли хочешь уважить — оставь. Сейчас не могу.
Наутро Афоня отнес еду садыковским ребятишкам.
Впервые в жизни Афоня обманывал. Понимал, сколь дорого стоит нынешнее отношение людей к нему, все относил на их доброту душевную и обманывал. Не из-за себя обманывал и не ради себя. Просто не лез ему кусок хлеба, когда знал, что в это время Петрусь лежит один в комнате под своим пальтишком и трет ручишками пустой живот, чтобы унять боль.
Не сговариваясь, купавинские бабы забегали теперь к Афоне почти каждый день, то с двумя-тремя картофелинами, то с миской похлебки.
Сам Афоня еще до февраля заметил, что стало труднее ходить. Но забот прибавлялось, и к усталости привык, как и привык обходиться без завтрака, а потом и без ужина.
Больше всего он любил весну. Не только своими непостижимыми тайнами манила она, но и чудодейственной силой, в которой проявлялась всякая изначальность жизни. Разве не чудо, что сухой еще с осени, заледеневший в зиму сучок, ломающийся от ребячьей руки, оживает вдруг под солнышком, проклевывается почками, а потом выбрасывает лакированные листы? За две недели из неказистой, неприметной среди других травинки вдруг появляется ромашка — любовная гадальщица!
Все маленькое становится весной большим, все слабое — сильным, обыкновенное — красивым.
А в нынешнюю весну, которая уже стояла на пороге, Афоня впервые ощутил в сердце не радость, а грусть. И может, оттого особенно остро почувствовал, что впервые за свое бытье на Купавиной всю зиму провел один. Не галдели возле караулки ребятишки, да и собеседников прошлых своих не видел почти. А ведь не сторонился никого. И тут только понял, что нынешняя зима принесла столько урону, что и весна не все вернет.
Оттого и не было на душе радости.
Но все в Афоне протестовало против этого. Не мог он допустить, чтобы осталась без радости его любимая мелкота. Должна, как положено в жизни, прийти к ребятишкам весна: солнечная и щедрая, с березовым соком и цветением трав, с крупяшками и саранками, с грибами и ягодами. Знал и то, что без его помощи не все смогут встретить ее. Вот и ушли после этого от Афони все заботы, кроме одной: сохранить ребятишек. Запасы свои он истратил и не мог упрекнуть себя в нерачительности. Теперь наступило самое трудное: собственные силы убывали, а надеяться было не на кого. Оставался один выход: отдавать свое.
И он стал отдавать.
А купавинские бабы! Нет, не знали они своей души! Чего греха таить, в доброе время могли они из-за пустяка вцепиться друг дружке в волосы, коли отчаивались в ругани отстоять свой интерес. Скупость почти все почитали за добродетель, памятуя, что простота хуже воровства. Но не ведали они, что в душе их живет первозданная доброта. Она-то нынешней весной и заставила их постоянно помнить о маленькой караулке возле магазина, в которую на их глазах стучалась лихая беда.
В начале марта Ольга-продавщица, бессильная постичь Афонин недуг, перед закрытием магазина старательно смела хлебные крошки в кулек и сама отнесла Афоне, которого застала на топчане.
— Афоня, скажи ты ради Христа, что у тебя болит? — обратилась к нему, как к маленькому.
— Душа болит, родимая.
Плюнула на все, решилась идти к Завьялову. И Александр Павлович ненароком заглянул к Афоне на огонек. Но не успел и слова сказать, как хозяин опередил его:
— Вот ведь чудеса, Александр Павлович! Ей-богу, завтра собирался к тебе в кабинет прибыть.
— Что за важное дело? — довольный бодростью Афони, спросил Завьялов.
— А помнишь, разговор-то наш при свиданьице?
— О чем это ты?
— В прошлом году в березовой роще.
— Ну-ну?
— Сказывал ты тогда про текущий момент. И разное… Ну, могилки-то подправили, видел я. Это хорошо. А еще про молодняк, детишек то есть. Шибко ослабели ребятишки.
— Понимаю, — потускнел Завьялов. Заговорил после молчания: — Могу сказать то, что никому бы не сказал, да и тебе — не для передачи… Только сейчас, перед тем как зайти к тебе, был я в магазине. И строго-настрого запретил Ольге выдавать хлеб вперед больше чем за день. И вот почему: если сегодня Купавиной выдать хлеб вперед за два дня, то завтра в магазин нечего будет везти. И так через день уже выдаем овсяный да пеклеванный.
— Выходит, край приходит? — спросил напрямик Афоня.
— Не край, а трудно, Афоня, — ответил Завьялов. — Теперь мы уже знаем, что это последняя такая весна, А как ее переживем, я и сам не представляю.
— Сказывал ты тогда, что детишек непременно надо сохранить.
— И сейчас говорю.
— А как?
— Не знаю. — Завьялов наклонил голову, обхватив ее руками. Впервые Афоня видел такое. А Завьялов говорил словно для себя. — Не знаю. Но надо. Наш долг это. И перед собой. И перед теми, кто придет с войны. И перед всей жизнью, которую строили и за которую сейчас… умираем.
— Долг, значит?
Помолчали.
— Сам-то как? — спросил наконец Александр Павлович.
— А я что? Я живу.
— Вижу. Не про то говорю. Прихварываешь, а к фельдшерам не идешь.
— А зачем к ним? — улыбнулся Афоня. — У них пилюли хоть и не по карточкам, да я их не ем.
— Ты со мной не шути, не надо, Афоня, — не принял его тона Завьялов. — Ты каждую ночь сидишь у магазина на завалинке, иной раз холодно, другой — ветер. У тебя же есть вот эта будка, у нее окошечко прямо на магазин. Вот и сиди в ней, посматривай… И еще, распорядился я в орсе, привезут тебе картошки мешок.
Афоня не ответил. Завьялов почувствовал себя неловко.
— В эту зиму мы многим помогали по силе возможности. Так что все это законно.
— Спасибо, Александр Павлович, — тихо сказал Афоня. — Большое тебе спасибо!
А у самого сильно заколотилось сердце. Сразу увидел и садыковских ребятишек, и Степановых девчонок, и Петруся, и еще других…
— Знаем, что ни огорода у тебя, ни приварка домашнего, — слышался голос Завьялова.
…У тех, кто видел Афоню в последующие дни, посветлело на душе: опять хлопотал, суетился он у своей караулки, появлялся то в одном, то в другом конце Купавиной.
И вдруг заметили как-то, что Афонины валенки, знакомые всем с незапамятных времен, обсоюзенные и не единожды подшитые, разрезаны сзади по голенищам.
Пригляделись. Сомнений не осталось: у Афони был отек.
Всполошившись, бабы снова потащили в сторожку разную еду. Но пришел апрель, а их старания не помогли. Афоня, ничего не замечая, как и прежде, глядел из-под ладони на теплеющее солнышко, в размышлении скреб затылок под старенькой шапчонкой и шел по станции, с виду приветливый, только очень озабоченный.
Афоня все понимал сам. Видел он и дорогое ему сочувствие людей, с благодарностью в душе принимал помощь купавинцев и счастливым считал себя потому, что лучшие годы жизни провел с ними в дружбе и не без радостей.
И объяснять ему встревоженным купавинцам было нечего. Да и не смог бы он этого сделать.
Как сказать вдруг всем, что он любит их? Потому и обманывает их дорогостоящую заботу, что любит, и любовь эта вовсе не простая. И пришла она не в тот день, когда он с узелком в руке — со сменой белья — явился в строительный еще тогда орс и спросил для себя работы, любой, только не очень тяжелой, потому как находится на инвалидном положении. И его участливо выслушали, долго думали, как помочь человеку: легкой работы на Купавиной не знали, а отпустить приезжего человека ни с чем казалось неловко. Тогда-то и вспомнили про магазин, к которому для порядка полагается и сторож. Тут же придумали Афоне и жилье, положили жалованье, а через неделю нашли где-то берданку и к ней — девять патронов.
Так начал он свою жизнь на новом месте, в Купавиной, не ожидая от нее ни особых милостей, ни особых перемен в судьбе, заботясь лишь о том, чтобы, как полагается, исполнять дело.
Сейчас Афоня и не смог бы припомнить, с кем он познакомился впервые, с кем — потом. Казалось — со всеми сразу. В ту пору купавинцы-то отличались от него немногим, сами только-только осваивались на новом месте. Единственное, что роднило их, так это соседние деревни, из которых они перебрались сюда. Работали с утра до ночи. Большую часть времени требовала стройка, а в остальное кое-как устраивали собственное жилье: из первых двух бараков, в которых семья от семьи отделялась лишь перегородкой, всем хотелось уйти под свою крышу да завести для подспорья хоть какое-нибудь хозяйство. При такой жизни разве до знакомства?
Но трудовая, с мозолистыми руками Купавина была только половиной населения. С первых же дней стройки ее улицу заняла другая половина — беспечная, веселая, шумливая, а часто и драчливая. Предоставленная себе, неутомимая в выдумках, с ненасытным любопытством, она не поступалась ни единой возможностью новых знакомств. Она-то первой и признала Афоню, потому что он оказался доступнее других. Через этих-то маленьких купавинцев и началось родство с остальными, хотя и шло оно каким-то обратным порядком.
— Ты чей? — спрашивал Афоня мальчишку, вертевшегося возле его сторожки.
— Ялунин я, Санька.
— Какого Ялунина?
— Бригадира.
Так и получалось, что Афоня узнавал бригадира Ялунина, хоть и не видел его еще. Потом рабочего Полыхаева, который оказался на Купавиной самого высокого роста. А потом, когда через — бог его знает! — какое время пришлось разговориться с Ялуниным, то выходило, что и знакомые они уже старые, потому что Саньку-то его знал давно.
Да и взрослые купавинцы сводили знакомство с Афоней почти тем же порядком. Завязывался пустяшный разговор, и собеседник, заметив любопытствующий взгляд Афони, вдруг решал нужным добавить:
— Да ты знать нас должен — Полыхаевы мы. Мой Васька у тебя частенько в гостях пасется…
— Ну, ясное дело, знаю! — радовался Афоня.
И получалось: вроде бы и родня давно. А раз так, то разве можно было обойти Афоню первыми малосольными огурцами? И хозяйка гордость свою утешила: у первой поспели! И мужика порадовали, у которого хозяйства нет. Как обойти доброго знакомого? А разве мог Афоня смолчать, если долго не видел возле себя Гешку Карнаухова? Нет, конечно. И только примечал возле магазина его мать, спрашивал:
— Не захворал ли парень-то твой?
— Захворал, захворал, — с готовностью отвечала та, обрадованная участием. — Ума не приложу, что делать: горит весь.
— А ты его горячим чайком с малинкой напои — да на печь, под шубу, — советовал Афоня.
И та на другой день сообщала, что полегчало парню. А сам Афоня Гешку встречал потом по-другому:
— Выздоровел? А то мать-то извелась вся.
Так и становились близкими людьми, чуть не родней. И уже казалось Афоне, что не год-два прожил вместе с купавинцами, а всего лишь расставался с ними ненадолго. И вот, к всеобщей радости, вернулся.
Да, он любил их, купавинцев!
Но как пришла эта любовь, объяснить бы не смог.
И вот весна…
В тот день у него как будто перестали болеть ноги, дышалось легко и не кружилась голова. Утро принесло с собой ту ясность, которая стирает все полукраски: среди белого снега чернели пятна проталин, небо залила ровная голубизна, и дома, деревья, телеграфные столбы с нитками проводов казались нарисованными.
Весна раньше всех приходила в березовую рощу, и Афоня всегда ждал ее здесь. И на этот раз роща встретила его приветливо, как старого друга. Он же глядел на знакомые березы и невольно дивился их стойкой красоте, над которой не властны ни ненастья, ни время. Тепло отогрело их, и повлажневшая кора уже не могла скрыть пробуждающуюся внутри жизнь, которая начинала гнать живительные токи вверх, к высоким кронам, где каждая ветка волновалась от сладкого ожидания первых почек. Но радость новой жизни не заглушила в памяти недавние тяжелые дни: там, где к прошлогодним могильным холмам вдвое больше прибавилось новых, березы стояли грустные и задумчивые.
В их тиши и присел на пенек Афоня, снял шапку, пригладил волосы.
— Прибавилось народу-то…
И не удивился, как в прошлом году. Тех, кто лежал в земле здесь, Афоня невольно ставил рядом с теми, с кем породнился душой за долгие годы и потерял в эту весну. Только не мог додуматься отчего, но казались теперь они ему совсем не такими, какими знал он их до войны.
Взять хоть Нагумана Садыкова… За десять годов так ничего и не нажил, кроме ребятишек. Пришла война — считай, не уходил из своей конюшни. Когда хоронили, Альфия вспомнила, что ни разу не видела, как он хлеб ел. Умирал — тоже куска не принял, велел ребятишкам отдать. Никаких наказов не оставил, только напоследок сказал:
— Лошадей все равна больше нету. Другой дела делай не умею, воевать не годна…
А дружок Никита… Требовательный мужик был, даже не любили его некоторые за это, потому что не только на работе, но и в житье придиристым считали. И Афоня его удержать пытался. А он только усмехался: не люблю, говорит, тех, у кого замах рублевый, а удар хреновый. И все. Сам до последней минуты на посту держался… Не узнал, сердечный, что вскорости от ихнего Прокопия письмо пришло из госпиталя. Ранение нетяжелое получил и после госпиталя обещался дома побывать… Александр Павлович Завьялов то письмо к себе забрал. А про Никиту сказал, что он герой.
Про себя Афоня был согласен с этим вполне, только ему еще очень хотелось, чтобы этого никто не забывал и тогда, когда война закончится. Особенно молодые, которые подрастут. Им обязательно надо знать, что почем в жизни.
Пригревало солнце, манило прилечь, но Афоня понимал, что это обман и поддаваться ему нельзя. Он поднялся с пенька, потихоньку прошел всю рощу, вышел на дальнюю опушку и увидел, как по красногорской ветке паровоз вперед тендером вытягивает платформы с большими свежими ящиками.
— Продукцию везут. Так и дотянется Красногорск до Купавиной.
И сразу подумал о купавинских ребятишках. Конечно, железная дорога роднее для них, но не все же станут машинистами да путейскими рабочими. Непременно потянет их к неизвестным машинам. Но все это потом.
А пока надо не пропустить березовку. Доведется ли самому привести сюда ребятню?
Может, и нет. Ногам-то вон как тесно в голенищах, а ведь разрезаны. Значит, приведет сюда малышню Васька Полыхаев. Сильный парень Васька Полыхаев. И хорошо, что сила досталась доброму человеку.
Нынешняя весна приходила к Афоне как откровение. Давно уверовал он в то, что у каждого человека свой жизненный круг. И — коли пришла пора — Афоня со спокойной ясностью в душе мог сказать себе, что собственный круг завершает в полном согласии с собой.
12
Снег уже согнало, и земля лежала размокшая, тяжелая. К вечеру немного приморозило, дневную грязь схватило.
Афоня собирался в очередной поход. Три свертка приготовленные лежали на топчане. Но прежде чем уложить их в старую брезентовую сумку, еще раз проверил — все ли сделал так, как надо. И почувствовал, что устал. Присев на топчан, повалился к стене и на минуту закрыл глаза. Боль в пояснице постепенно унялась, и шевелиться не хотелось. Мысли путались. Удивляясь себе, долго соображал, как лучше идти сегодня, чтобы не делать лишнего конца.
— Нехорошо… — мысленно упрекнул себя за слабость.
Никуда не денешься, понимал, что сдает. Последнее время, когда ночами находила короткая дремота, сразу начинали одолевать сны, а может, видения. Потому что и не спал вроде: чувствовал, что сидит на завалине магазина, держит в руках берданку, слышит, как маневрирует где-то близко паровоз, и в то же время видит себя у кого-то в гостях до войны, будто сидит за столом, уставленным разной едой, и не может выбрать, чем закусить поднесенную рюмочку водки. И пить неохота, а отказываться в гостях неловко.
Стряхнул дремоту и сразу почуял боль в пояснице.
— Вот окаянная! — проворчал про себя.
Вышел из сторожки, поплотнее притворил дверь. Постоял, подышал вечерним воздухом и, опираясь на палку, двинулся в сторону бараков. Ноги слушались плохо, сгибались в коленках, как резиновые: сказывался отек. Поэтому, завидев оградку, останавливался, наваливался на нее, пережидая ломоту в суставах. Ходьба отнимала все внимание, но стоило остановиться — и сразу подступала дремота, а вместе с нею приходили новые думы, воспоминания. Вот и теперь подумал, что годы берут свое, и уже не всякую яминку одолеешь, да что яминка!..
И встала на миг перед глазами родная Рязанщина…
Рано кончилось Афонино детство. С японской не вернулся отец. Пришлось после первого класса уйти из церковноприходской школы. Нанялся в подпаски, но едва продержался лето, потому что плохо бегал Афоня — определили плоскостопие. Летом кое-как перебивались с матерью огородишком да случайным приработком, а зимы почти каждый год заставляли надевать нищенскую суму.
В солдаты Афоню не забрили по той же причине — изъян в ногах. В германскую нужда придавила совсем. Не спасла от голода и революция, потом захлестнула Рязанщину антоновщина, мятежи… Кто выжил — не ведал. А когда пришел в себя, оглянулся и увидел, что молодость-то давным-давно прошла. Кое-как подправил избенку, прибрал усадьбу. Потом вывернулись с матерью на телушку, через год стали с коровой. Полегчало…
А для жениха посчитал себя перестарком. Так и остался один.
…Голодная зима тридцатого года сразу отняла достаток. Когда начал падать скот, Афонина мать и слышать не хотела о том, чтобы нарушить корову: держалась за молоко. Но ушли сено и солома, скормили незаметно крышу с конюшни, пропустили время, не прирезали корову. Пала. Не нужна стала и конюшня, сиротливо глядевшая в небо голыми стропилами. Афоня начал разбирать ее на дрова, потому что мать, не поднимавшаяся с постели, все время мерзла. Истерзавшая себя укорами за нехозяйственность, она умерла вскоре после Нового года.
Тихо стало в избе.
Умирали соседи, но особенно жалко было ребятишек, о которых он втайне мечтал про себя: они уходили из жизни беспомощно и грустно.
Лег в те поры Афоня на холодную кровать в пустой избе и решил умереть. Сколько дней лежал — теперь и не вспомнить.
Но вот прилетел на порог открытой двери скворец. Громко чвыркнул, ударил крепким клювом по зерну, застрявшему в щели. И увидел его Афоня.
Весну увидел. И захотелось ему жить. Поднялся, по стене добрался до двери, вылез из избы.
Лежал на крылечке, пригретом солнцем, и смотрел в небо. А там, в высокой бездне, как молодые барашки, гонялись друг за дружкой белые облачка. В огороде на высоком шесте в старом скворечнике хлопотали скворцы, выкидывая прошлогодние перья: обиходили дом для жилья. С огорода тянуло проснувшейся землей.
На срубе колодца сиротливо стояла деревянная бадья. Долго смотрел на нее, потом поднялся, шатаясь дошел до нее, опустил в колодец. Едва вытащил наверх, расплескал почти половину. Глотнул воды, туг же сел отдыхать.
А потом, отвязав бадью от веревки, вышел с ней на деревенскую улицу. Опираясь на палку, двинулся на пашню. Идти становилось все труднее, лапти облепила жирная земля.
— Весна вздобрила, — шептал про себя, — а в прошлом году лежала сухая, потрескавшаяся, обожженная, как кирпич.
И тут силы оставили совсем. Долго лежал на земле, пока холод не проник до костей, не схватил железным кольцом поясницу. Пополз, потеряв всякое представление о времени. Тащил за собой бадью. Наконец наткнулся на сусличью нору…
Вылил воду в нору и затих. Голова кружилась так, что глаза застилала белая пелена, в которой растворялись и бадья, и сусличья нора… Но увидел все-таки, как из норы едва-едва, без всякой боязни, выполз суслик. Выполз и лег прямо против Афони. Суслик был хилым до крайности, видно, голод не пощадил и его, сил хватило только на то, чтобы спастись от воды.
Так и лежали они друг против друга: человек и маленький зверек, оба голодные, оба бессильные. Афоня с дрожью в руке поднял палку, изо всей оставшейся силы ударил ею и промахнулся. Хотел ударить еще, но второй раз палку поднять не мог.
Тогда он заплакал. Плакал, как ребенок, не стыдясь слез.
— Что же ты, а? — корил вслух суслика и тянул к нему руки, а тот каждый раз отползал от него, словно дразнил.
Схватил его все-таки, но потерял сознание.
Очнулся вечером от холода. Прихватив зверька, добрался до дома. Развел в давно не топленной печи огонь, сварил.
С того суслика и зачал жить снова.
Только летом поднялся с постели, да и то с костылями: простудился на пашне и ноги отнялись. Бродил по деревне. Через каждую избу одна-две — пустые, вымерли люди.
На кладбище долго стоял над могилой матери. Винил только себя. Жалел, что послушался мать. Надо было зарезать корову, тогда продержались бы мясом, да и в городе променять на хлеб можно было.
Ноги постепенно отходили. Через месяц бросил костыли, научился обходиться палкой. Только кровоточила душа. Не мог спать в собственной избе, не мог смотреть на конюшню.
Выстирал единственную смену белья да рубаху, увязал все в материну старую косынку и, попрощавшись с деревней, пошел до ближайшей станции за сорок пять верст. Подал в кассу все деньги, которые имел, и попросил:
— Докуда хватит денег, туда и давайте билет, лучше в Сибирь.
Но до самой Сибири не хватило. Приехал в Купавину.
…Преодолев воспоминания, Афоня оттолкнулся от оградки, переложил сумку в другую руку и пошагал дальше, радуясь, что барак уже близко.
При появлении Афони садыковские ребятишки без приглашения торопливо слезли с печки и уселись за стол. Альфия виновато приняла сверток, покрикивая на детвору, разделила еду и села в сторонке.
Афоня глядел на ребятишек: старший, Галимзян, ел, стараясь не торопиться; младшие жевали кое-как, глотая, вытягивали шеи. Мать оговаривала их по-татарски, чтобы не спешили, но они не слушали.
Афоня думал свое: выживут ребятишки. Целых пять душ выживет. А про Галимзяна еще отдельно думал:
«Этот обязательно в отца пойдет, ездить будет. Пусть хоть и не на кобыле…»
Вспомнил, как прошлым летом вертелся Галимзян возле газогенераторной машины. Спросил:
— Ты кем, Галимзянко, станешь, как вырастешь?
— Не знаю еще, — ответил Галимзянка. — Воевать, наверное, пойду.
— Хе! Да разве ты успеешь? Немца к лету-то порешат, — сказал Афоня.
— Ну, тогда совсем не знаю.
«Ездить будет, — все равно подумал Афоня, — и хорошо!..» Вздохнул украдкой: счастливый все-таки мужик был Нагуман Садыков, вон какой приплод оставил после себя. Верил: выживут его ребятишки, коли он свой хлеб им отдавал. Выживут.
Попрощавшись с Садыковыми, долго стоял на улице возле барака.
Совсем стемнело, и, как всегда, темнота принесла умиротворяющую тишину. Пока добирался до Петруся, несколько раз приваливался то к забору, то к стенам домов. Петрусь встретил его на пороге:
— Вам плохо?
— Нет. Пристал маленько… — едва проговорил Афоня и опустился на табуретку. — Возьми-ка, сынок, в сумке вон тот сверток.
Но Петрусь не шевельнулся, и тогда Афоня через силу взбодрил себя:
— Тепло сегодня у тебя, хорошо… А сверток-то возьми, некогда мне.
…Как одолел дорогу до ляминского домишка, и сам удивлялся. Степана, как всегда, дома не было. Девчонки враз загалдели, увидев его, но Анисья не допустила их до Афони, сама кинулась к нему, усадила на лавку, потом подала в кружке кипятку.
— Мне идти надо, — проговорил он тихо. — Сумку-то с посудой завтра затащи ко мне.
— Что ты! Я сейчас провожу тебя. Захворал ведь ты.
Не ожидая, пока девчонки покончат с едой, она накинула на себя телогрейку и помогла Афоне встать. Он молча повиновался.
На улице, приостановившись, сказал:
— Весна-то нонче какая духовитая идет. К доброму лету. К урожаю.
Анисья не торопила его.
— Тает, что ли? — спросил ее Афоня.
— Да нет вроде. Подмерзло.
— А я думал, валенки-то у меня промокли, — удивился он. — Больно тяжелые.
— Ничего. Айда с богом, дойдем помаленьку, — говорила она непривычно ласково, и Афоня подумал про себя удивленно, что бабы все-таки существа двухдонные. А то почто бы женилися на них, будь они только злые.
В сторожке Анисья хотела снять с него валенки, но он твердо отказался:
— Дежурить еще мне. Ты лучше в печку мою подбрось щепы маленько, возле порога она.
Анисья торопливо исполнила просьбу, но не уходила. Тогда он сам напомнил ей:
— Девчошки-то одни дома. Беги, а то наозоруют. Дальше я уж сам.
…Оставшись один, долго прислушивался к веселому гулу огня. Почуяв тепло, соблазнился им, прилег на топчан. Сразу стало хорошо.
И будто рассветало.
Увидел солнечный июльский день на петровки. Он, Афоня, один лежит в зеленом прозрачном шалаше, только что проснувшись. В носу защекотала травинка, и он чихнул. От этого ему вдруг стало весело. Он выполз из шалаша, поднялся на ноги и впервые всем своим существом почувствовал, что может даже побежать бегом. Тогда радостно взвизгнул, но почти сразу же запутался в длинных полах своей рубашонки и упал. Но совсем не ушибся. Приникнув к пахучей траве, долго соображал, отчего так получилось.
Когда поднялся, увидел вдали мать. Она перестала косить и, обернувшись, тревожно вглядывалась в его сторону. Тогда он снова послал ей радостный клич, увидел, как она воткнула косу черенком в землю, утерла фартуком лицо и с улыбкой пошла к нему навстречу.
Что есть силы он кинулся к ней, но густые плети клевера опутали его, и он снова упал. Вскочил в то же мгновение, бросился вперед, а клевер все валил и валил его с ног. Афоня звонко, взахлеб захохотал, словно играл с непокорной цепкой травой, и видел, что мать тоже заторопилась к нему.
Тогда, перевернувшись на спину, он закрыл глаза и хитро замер в ожидании. Он слышал ее шаги, ее частое дыхание, почуял то мгновение, когда она, приняв его лукавую игру, молча наклонилась над ним. И тут он, не открывая глаз, уже не мог удержаться, губы его сами собой расцвели в улыбку…
Таким Афоню и увидела утром продавщица магазина Ольга. Он лежал на топчане, жилистые руки его покоились возле тела, и только лицо озаряла едва приметная, совсем как живая улыбка.
13
Осиротела магазинская караулка.
Осиротела Купавина.
Никогда еще не было у нее такой общей утраты. И, наверное, поэтому в последнем устройстве Афони принимали участие все. Пока бабы прибирали покойника, мужики в железнодорожных мастерских изготовили домовину и соорудили хоть и небольшой, но металлический памятник. И тут возникло препятствие. Бабы, как одна, запротестовали против памятника и потребовали сделать крест. Спорить о том, верил или не верил Афоня в бога, было поздно. А так как бабы в тот год имели перевес не только над начальством, а над мужиками вообще, победить их оказалось невозможным. У путейского начальника они сами выхлопотали новую шпалу, и в тот же день крест был готов.
— Хороший вышел, — придирчиво осмативая его, удовлетворялись хозяйки. — Вечный, шпала-то пропитанная.
— И далеко от себя его не повезем, — решили сами. — Положим в березовой роще. Любил он ее.
Хоронили Афоню из конторы орса. Гроб несли на руках. Не было оркестра, только впереди венок из самодельных бумажных цветов.
По неписаному правилу купавинцы всегда отстраняли от похорон ребятишек. На этот раз со взрослой скорбью на лице несли венок Васька Полыхаев и Гешка Карнаухов. За Афониным гробом шла испуганная, молчаливая ребячья толпа. В отличие от баб, никто из ребятишек не плакал.
На станционном крае рощи гроб установили над свежей могилой.
Афоня лежал спокойный и серьезный. Едва приметная после кончины улыбка сошла с его лица. И еще показался он вдруг намного моложе, чем при жизни. Может, оттого, что вытянулся и не сутулился больше, а может, причиной тому была новая белая косоворотка, в которую обрядили его, а может, и то, что впервые увидели его без шапки, которая, оказывается, скрывала шелковистый русый волос.
Безмолвствовала у гроба толпа купавинцев. Задумчиво глядел на Афоню Александр Павлович Завьялов. Еще недавно дивился он про себя, видя, что Афоня умирает. Знал ведь, что еды ему доставляли на троих. Теперь, когда смерть и люди все объяснили, он думал совсем о другом и чувствовал, что впервые не сможет сказать положенной речи. Горло сдавило. Рядом с ним с солдатской суровостью стоял машинист дядя Ваня Кузнецов. Неподалеку обвис на своем костыле Степан Лямин. Митинга не было.
Но, казалось, не три или пять минут, а вечность отстояла Купавина перед маленьким гробом под своим большим небом, пока услышала тихие слова Александра Павловича:
— Простимся с хорошим человеком, товарищи. Вечной памяти ему…
Сдавленный, словно исходил из самой земли, послышался людской плач. И чем ниже опускался гроб, тем сильнее звучала скорбь, в которую вливались жалобные детские голоса. А когда о крышку гроба ударился первый ком земли, вдруг не по-человечьи завизжал татарчонок Галимзянка Садыков, бросился к могиле, упал на лопаты и закричал:
— Не дам! Не дам! Не дам!..
Его оттащили в сторону, но он рвался из рук, кусался, пока не затих обессиленно. Его положили на чью-то телогрейку, раскинутую на земле. В каком-то полузабытьи неподвижный Галимзянка смотрел вверх.
А там, в вышине, голубом без единого пятнышка весеннем небе из края в край волнами перекатывался многоголосый вороний кар. Едва залистевшие, еще полупрозрачные метлы берез, чуть расшевеленные легким ветерком, казалось, медленно кружились и плыли куда-то в сторону.
Совсем недавно мне довелось побывать в Купавиной. Мать рассказала мне, как лет пять назад ровняли безродное кладбище в березовой роще.
— И что же? — спросил я. — Оставили Афонину могилу?
— Нет, — ответила она.
Я знал Афоню. Он был другом и моего детства.
В тот же день я пошел в березовую рощу.
Да, годы берут свое. Пощадили тогда красногорцы рощу, хоть и не сохранили кладбище. Улицы города обошли ее стороной. Сейчас рощу пересекли правильные аллеи, вдоль которых стояли разноцветные скамейки.
Увидев стайку девчат, я не удержался:
— Скажите, девушки, как называется этот парк?
— Это не парк, — ответили мне бойко.
— А что же?
— Афонина роща!
— А кто такой Афоня? — любопытствовал я неспроста.
— Ну… — замялись они. — Хороший человек, наверное.
Что поделаешь?! Они не знали его. Но мне все равно стало светлее на душе. Потому что надо мной в вечернем сумраке темнели старые березы, мудрые свидетели былого, в котором среди больших людских испытаний человек прожил свою жизнь по-своему.
И хорошо, что память о нем живет.
И она будет жить. Потому что под старыми березами шумит сильной листвой молодой подрост.
1977 г.
Главный подъем
1
К незнакомым городским и заезжим коренные жители Купавиной относились вежливо, но с осторожностью, как к иностранцам. К своей городской родне — с укорной жалостью, как к завербованным: уехали к черту на рога не поймешь зачем. Казалось им, что, отстав от природной работы да пожив в угарном многолюдье, где все перемешано, человек если и воротится домой, то уж непременно с каким-нибудь нутряным изъяном.
Война, прокатившись перед ними голодной ушибленной ордой беженцев, обронив многих несчастных тут не на один год, поубавила у старожилов робости перед чужими людьми, хоть и не вытравила прежних привычек и разуменья.
Мой отец не составлял исключения, хотя и считал себя человеком понимающим по той причине, что отмолотил две войны — мировую и гражданскую, из конских вагонов собственными глазами прочитал названия двух десятков городов, хаживал по Москве, лежал в госпиталях в Сызрани и Перми, а в Камышлове даже служил в штабной конюшне военного округа. Остальную жизнь, позабыв о себе, источил не столько на собственную семью, сколько на осиротевших племянников и племянниц, великое множество которых надо было кормить и ставить на ноги. Может, оттого с годами и запеклась в его душе щемящим сгустком неизбывная решимость сделать меня человеком грамотным, по его понятию — навсегда безбедным.
В университет я уезжал в первую осень после войны. Отец провожал меня без особой радости, вроде как в солдаты. Напоследок проверил, туго ли завязана котомка с картошкой да сухарями. Только у вагона деловито отсчитал пятьсот рублей — пятерка по нынешним временам, — сказал:
— Ну, давай… Пиши. А мы подмогнем. Вытянемся.
…Увиделись мы через полгода, когда я приехал домой на неделю после первого семестра. Мать сразу углядела мою худобу, чего сам я не замечал, и впала в колдовство над едой. Отец же поинтересовался другим:
— Поди, над книжками сидишь день и ночь? Без нормальной-то работы зачах?
— Зря так думаешь, — ответил я. — Живу, как все. И вовсе не голодаю. Показалось маме. — И хвастнул неожиданно: — Даже здоровее стал.
— Это с карточки-то? Сколь вам дают?
— Пятьсот грамм.
— Хм…
— Так я ж прирабатываю, — стал объяснять ему. — Ходим с ребятами после лекций разгружать вагоны на торговых базах или куда еще. На буханку хлеба в неделю наскребается. Чего еще надо?
— А горб-то дюжит?
— Дюжит.
— Мать! — вдруг крикнул отец, чтобы его услышали на кухне.
— Чего тебе? — испуганно заглянула в комнату мама.
— Сегодня в бане мужики моются. Собери-ка нам бельишко. Пока ты на середе своими городками гремишь, мы с сынком попариться сбегаем. А то, я вижу, зачичеревел он в городе-то.
— Ты что это?! — взнялась было мать. — Парень еще с дороги не охлынул.
— Вот и хорошо, — не обратил внимания на ее протест отец. — Схожу погляжу на него, не ослабел ли он в учености…
И уволок меня в баню.
Потом, разопревшие, мы сидели за столом, и он дотошно расспрашивал меня про мою новую жизнь.
С тех пор я не упомню ни одного приезда домой, когда бы отец не пытал меня парной. А летом, если угадывал ко времени, неминуемо добавлялся еще и сенокос.
Давно уж миновали студенческие годы, наезжать домой я стал реже, даже не в каждый отпуск вырывался. А родитель мой своей привычке не изменил. И может, потому мои воспоминания о Купавиной часто начинаются с бани…
Без прибавки можно сказать, что купавинская баня была памятником обстоятельности обитателей станции.
Еще в то время, когда рядом с проложенными путями только строился невзрачный вокзалишко, похожий на не совсем добротный барак, а сами купавинцы ютились в землянках и кое-как сколоченных бараках, под строевую линию улицы возвелся из крупного камня фундамент. А через какой-нибудь месяц, когда над будущим вокзалом только взметнулись первые шараги стропил, над новой, связанной из полуохватных лиственниц баней тепло, неторопко заклубился густой березовый дым. Баня стояла усадисто, плотно, с высокой, по-лебединому белой трубой, утверждая свое превосходство над всеми казенными постройками. И, словно признавая ее, соседка березовая роща выслала и поставила в игривой близости от нее до десятка кудрявых и нестарых красавиц. А мужики тут же спроворили в их тени простенькие скамеечки, на которых после банной утехи приседали с цигарками.
Баню изладили с размахом. Она сразу принимала до тридцати душ. А так как грелась через день для мужиков и баб и отдыхала только единожды в неделю, всей Купавиной этого вполне хватало и даже позволяло с мытьем не торопиться, ибо кто не знает, что торопливая баня хуже собачьей игры.
Святым местом почиталась парная. Ее каждый день убирали, как к празднику: скоблили полки, мыли с золой, а если бы банщицы не положили для духа еловых и березовых веток, их съели бы без соли. Каменка в парной при своей крупной стати была, однако, стройна и высока. Возле нее сразу прижилась двадцативедерная бочка, из которой торчал черенок мочалища, смахивающий на конский хвост. Специально для поддачи, ибо брать пар через ковш считалось хулиганством, потому как пар получался грубым и сырым.
На первый жар в парную допускались самые серьезные мужики. Они уходили туда надолго, калили каменку исподволь, начиная с осторожного первого парного вздоха, припуская его понемногу до тугой невидимой густоты. И как только крякнет первый доброволец радостным весенним селезнем, считай — готова парная. Сразу после этого призыва войдет в парную и шибко стосковавшийся по веничку, хочет не хочет поклонится высокому полку, а то и на коленки станет да еще и взвизгнет молодым жеребенком. И только уж потом, вздымаясь со ступеньки на ступеньку, на самом лежбище заревет по-медвежьи.
Понятно, что к такому пару мелкоту не подпускали, но к венику будущих мужиков приучали с той поры, как они утверждались на ногах. И уж разве кто к солдатчине только осмеливался сунуться на первый пар, да и то во втором десятке.
Вот такой банькой и пытал во мне родитель купавинскую породу, чтобы не утратила она себя в университетских коридорах. Теперь уж и сознаться не совестно, что зачет не всегда был в мою пользу, что пар без привычки тяжел. Но молодое упрямство заставляло терпеть. И уж чувствуешь, бывало, что кожу проело, кости шаять начинают, и, чтобы не завыть по-бабьи, лихорадочно окатишь себя из тазика холодной водой, и тут же судья-отец:
— А ну, кыш отсюда! Не разводи мокра…
Правда, скажет не зло, но приказом.
В парную с водой заходить вообще не позволялось.
В конце шестидесятых у меня выкроилось несколько дней свободных, и я решил навестить своих. Помню, стоял раскаленный июнь. Приехал я днем. А к вечеру понял, что бани не миновать.
В раздевалке приметил, что мыться народу собралось немного. И даже обрадовался: значит, и в парной особой потехи не будет, так как не перед кем выхваляться.
Так оно и вышло. Через десять минут мы с папаней уже забрались в парную. Кроме нас там наказывали себя еще четверо-пятеро мужиков, и, как видно, давненько, если судить по тому, как их масть из морковного цвета подалась куда-то в сторону свекольного.
Включились мы по-разному. Я не осмелился сунуться дальше третьей ступеньки, отец бросился вверх сразу, как в кавалерийскую атаку. Правда, сначала маленько взвыл, а потом, привыкая, замурлыкал. Минут через десять он как-то ловко съехал мимо меня обратно, выхватил мочалину из бочки и дважды махнул в каменку.
— Погреемся, мужички?! — весело крикнул верхним.
— Давай… — придушенно отозвались оттуда.
Но мой наверх не поторопился, а достал из тазика, который стоял внизу, фланелевые наушники (подарок племянника, отслужившего на дальневосточной границе еще до войны), водворил их на уши. Потом надел шубенки и, еще раз облагородив каменку поддачей, полез вверх.
— Ну, залетные, едри вашу!.. — донеслось отцовское, а меня словно упавшей сверху раскаленной кошмой согнуло на ступеньке пополам.
В это время дверь парной отворилась, и в нее не сразу, по-стариковски неловко пролез сухой и жилистый, с непомерно длинными руками человек.
— Чего студишь?! — крикнул кто-то с полка.
Но старик пропустил замечание мимо ушей. Он поставил тазик, взял из него уже заваренный веник. Только потом вспомнил о верхнем:
— Пошто орешь? Сейчас своего добавлю, и товариществовать начнем…
После этого поддал еще пару раз и тихонько, видимо не без труда преодолевая ступени, пополз к остальным. Скоро оттуда раздалась невнятная скороговорка, к которой мне прислушиваться было некогда, так как жар спихнул меня сразу на нижнюю ступень. Тут я решил переждать события, чтобы не выходить из парной хотя бы первым. И только я принял такое решение, как мимо меня, обдав жаром, скатились сверху двое, а еще через секунду дверь парной по-пушечному бухнула и столь же зло захлопнулась.
А с полка задом вперед опять спускался старик. Дважды махнула в сторону каменки мочальная метла. Не успела она вернуться в бочку, как дверь грохнула еще раз.
— Ишь, разбегались… — проворчал старик и в сердцах махнул еще раз.
Плюнув на все, я вылетел из парной с померкшим светом в глазах.
Мужики в моечной неторопливо драили себя вехотками и почти не отрывали взглядов от маленькой, плотно закрытой двери, за которой сражались оставшиеся в парной.
Не прошло и пяти минут, как оттуда по-пьяному вынес свою побуревшую тушу Корней Горлов, теперь уже пенсионер, а раньше — мастер ремонтного цеха депо. Начав с длинного труднопереводимого, он миролюбиво закончил:
— …старое дышло!..
И тут же сел на скамейку, погрузив свой корявый портрет в таз с холодной водой.
Через некоторое время, которое было для меня, пожалуй, самым мучительным, из парной, как ушибленный, выпрыгнул мой родитель, похожий на раскаленную головешку, тонким голосом исторг из себя короткий матерок, что было ему несвойственно, и, поскользнувшись, загремел с тазиком по полу. И только потом уже осмысленно оценил свое положение:
— Вот леший: как выплюнул.
Мужики загоготали. Переведя дух, захохотал и мой папаня.
Теперь за парной не только наблюдали, но и время от времени переглядывались между собой не без тревоги.
Но прошло положенное время, и главная банная дверь тихонько отворилась, и, неторопливо пятясь, оттуда объявился старик. Он отер ладонью лицо сверху вниз, удовлетворенно выдохнул и маленькими шажками отправился к своей скамье.
— Кто это, папа? — взял я за локоть отца.
— Кто, кто… Не узнал, что ли?
— Нет.
— Иван Артемьевич, кто еще, кроме него?
— Какой Иван Артемьевич?
— Кузнецов. Какой, какой… не совестно своих-то забывать?
— Живой еще?! — удивился я, и мне стало стыдно за свой вопрос из боязни, что меня могли услышать. Я постарался исправиться: — Сколько же ему лет?
— Восемьдесят уж перешагнул давно.
И отец отвернулся к своему тазику.
Я тоже замолчал. Дядю Ваню Кузнецова я хорошо помнил. Еще лучше помнил один день из войны, когда вся Купавина вдруг замолкла…
2
На Купавиной человека утверждало дело. И хоть легкой работы здесь ни у кого не видели, исключая движенцев, которых за глаза звали движками, уважительное первенство в людском мнении всегда принадлежало паровозникам. Когда бригада-троица в лощеных телогрейках, с лихо сдвинутыми фуражками и с железными «шарманками» в руках степенно шла в депо, направляясь в поездку, купавинская улица, казалось, раздвигалась вширь.
Еще картиннее паровозная братия выглядела в столовке после поездки. Пренебрегая умывальником, черномазые белозубые здоровяки шумно уставляли стол сплошь мясной снедью, окружив ее кружками пива. В их негритянских лапах белый хлеб из крупчатки, доступный далеко не всем, являл себя толстыми сахарными ломтями: самые большие деньги получали атаманы железной дороги, трубодымная транспортная знать, свято почитавшая из всех законов только свои — неписаные.
И первым в этой дружине по праву значился Иван Артемьевич Кузнецов, машинист-инструктор высшего класса, которого почитали не только его товарищи. Никто из купавинцев до его приезда на станцию не видел еще такого: по праздникам грудь Ивана Артемьевича украшали сразу два банта. На одном утвердился заметно потертый боевой орден Красного Знамени, а на другом — сверкающий — Трудового. Потому-то подгулявшая паровозная вольница, склонная выходить из колеи, враз трезвела под внимательным взглядом наставника.
Сам же Иван Артемьевич от других, кроме неоспоримой рабочей мудрости, отличался немногим, разве только тем, что позволял себе обратиться к рюмочке лишь в дни получек да по красным датам, и то при соблюдении здравой нормы, ибо почитал за истину, что «блудливая рюмка не весела», а «брошенный рубль не устоит против лихого полтинника на ребре». Но в соблюдении привычек товарищества являл пример неукротимой стойкости.
Все знали, к примеру, что размашистый характер и душевную доброту, выделявшие его среди других, Иван Артемьевич умудрялся мирно соотносить с тихим, но прижимистым нравом своей супруги.
В дни получки те купавинские бабы, которые особливо выучили характер своих мужиков, дружными кучками обкладывали выходы из деповской конторы, чтобы перехватить своих на денежной тропе в самом начале. Знали, что, если не уловят их тут, а настигнут в станционном буфете, дело пропащее: получки недосчитаются. Пусть пятерки, десятки всего лишь, а все равно недосчитаются. А для купавинских баб любой мужнин рубль, если он ушел не через их руки, казался золотой «катеринкой». Жена Ивана Артемьевича хоть и знала, что ее муж из непьющих, непременно участвовала в этих бабьих заслонах.
А мужики? Недаром они носили паровозное звание! На всякий хитрый замок — своя отмычка. Смену могли просидеть в осаде, собрание устроить, наконец, официальное. Послали бы маневровый паровоз на станцию в магазин, да только в те времена на работе выпить никому в ум не приходило. Да и встречаться привыкли в одном месте — станционном буфете.
А в последние годы перед войной, по совету Ивана Артемьевича, научились уходить от своих благоверных без пререканий и неслышно, как дым из трубы.
…Стоят женщины у огромных деповских ворот, закусив платки в ожидании, а на них из-под высоких сводов шажком надвигается красавец «ИС». Едва выкатит на волю бегунки, и тут же зашипят цилиндровые краны, заставляя отскочить подальше в сторонку. А потом выплывет и будка, в которой сидит знакомый улыбчивый мужик. Махнет он бабонькам фуражечкой, подвинет регулятор на две отсечки, нарочно долго не закрывая цилиндровые краны, окутает будку вместе с тендером клубами ватно-непроницаемого пара. Растает теплое облако, осев росной влагой на бабьих лицах, а паровоз все еще шипит и катит уже метров за пятьдесят, спешит на контрольный путь, откуда идти ему под состав. Там-то, в километре от депо, и высаживаются довольные мужички кто из тендера, кто из будки: оттуда до станционного буфета уж рукой подать.
Спохватятся жены, конечно. Заспешат на станцию. Заглянут в буфет. А там вполне мирная картина: вокруг уставленных столов собственные мужья за неторопливой беседой, в которую мешаться лучше не надо.
И приходится опять ждать. Теперь уж без заботы. Мужья после задушевных разговоров выходят в хорошем настроении, без удивления, даже ласково встречаются со своими женами. Простившись меж собой, парочками отправляются по домам. Да и как же иначе можно после доброй компании, да еще в кругу с самым уважаемым человеком — Иваном Артемьевичем Кузнецовым, первым машинистом на станции?
Пьянство на Купавиной случалось редко и осуждалось сурово.
О прошлом Ивана Артемьевича, человека неболтливого, знали немногие и мало. Но было доподлинно известно, что он еще перед первой революцией пришел в Питер в поисках работы. А в Октябрьскую уже машинистом укатил оттуда с первым бронепоездом навстречу Юденичу. По каким дорогам гражданской колесил Иван Кузнецов, знал, видно, только он сам. Говорили, что и под Царицыном был, и по Украине ездил, а закончил войну в Зауралье, когда едва вырвался со своим боевым паровозом из колчаковской артиллерийской ловушки, получив при этом контузию.
Отвалялся в шадринском госпитале, потом где-то в наших же местах зацепился за приглянувшуюся деваху и остался навсегда на Урале. То, что его жена была из местных, сомневаться никто и не думал, потому как и по разговору узнавалась сразу, да и — что уж самое верное — такие смирные, послушные, но с неисправимой скупостью бабы получаются чаще всего из наших девок.
А в Купавину Иван Артемьевич приехал в тридцать втором году с первым приписным паровозом, когда открывали депо.
Как человеку специальности на транспорте главной, ему без очереди дали комнатешку в бараке, и скоро в ней объявились нынешняя его жена Анна Матвеевна с дочерью-четырехклассницей Надюшкой.
Купавинцы приняли Ивана Артемьевича сразу и легко, словно ждали его. Как раз в то первое время в депо образовывался паровозный парк, на работе пропадали сутками. Но Иван Артемьевич, тогда еще по-молодому крепкий, с густыми, словно спекшийся шлак, волосами, добродушный и всегда бодрый, непременно оказывался среди людей на всех собраниях и праздниках, вечно за кого-то хлопотал, кого-то ругал, притягивая тем к себе людей. И когда на Купавиной избрали первый партком, никто не удивился, что Иван Артемьевич Кузнецов вошел в него как всеми уважаемый человек.
Правда, на Купавиной человека без какой-то придуринки найти было трудно, а среди паровозников — невозможно. Поэтому были свои сходы даже и у Ивана Артемьевича, за которые и ему порой попадало, хоть и считался он человеком не рядовым. И крепко попадало.
Все помнили случай еще задолго до войны. Но, чтобы рассказать о нем понятней, надо обмолвиться о двух обстоятельствах.
Первое состояло в том, что Иван Артемьевич курил трубку. Мало того — он почти не выпускал ее изо рта, независимо от того, горела она или нет.
Второе касается совсем другого. Еще во время строительства от Купавиной провели временную тридцатикилометровую ветку к балластным карьерам, из которых и насыпа́лось полотно новой железной дороги. С началом движения по ней подсобную ветку решили не разбирать, а использовать как транспортную, так как она проходила рядом с большими деревнями и районным центром, в котором действовал кирпичный завод. Дважды в день туда ходил пассажирский поезд из трех вагонов. Для него даже было установлено расписание, которое никогда не выполнялось с точностью менее чем в четверть часа, потому что он мог отправиться только тогда, когда купавинское депо выделит для этого свободный паровоз и бригаду.
И вот как-то под этот состав попросили стать Ивана Артемьевича. Разумеется, не на своем тяжелом паровозе, а на маневровой «овечке», которая оказалась в простое без бригады. Невыспавшийся Иван Артемьевич, понимающий необходимость поездки, отправился с бригадой в рейс.
Временная железнодорожная ветка, подправленная лишь для вида, обязывала к черепашьей скорости. Иван Артемьевич, миновав деревянный мост через Исеть, державшийся на честном слове, и поручив машину и путь помощнику, поудобнее устроился на своем седале. Проехав прибрежные боры, паровоз вырвался на свободу, и Иван Артемьевич залюбовался осенним утром, прохладным и солнечным, погрустневшими перелесками, чей золотой убор уже не казался ярким даже при солнце. Над поднятой зябью лениво хороводило воронье, занимая полнеба, и казалось, допотопная «овечка» вовсе и не катится по рельсам, а только раскачивается из стороны в сторону, почухивая для вида.
От котла почти по-домашнему напахивало теплом, за спиной не чувствовалось привычной тяжести состава, и Иван Артемьевич незаметно задремал…
Очнулся как от оплеухи: это помощник Пашка Глухов взвизгнул свистком по какому-то поводу. Иван Артемьевич сразу сорвался на крик:
— Чего блажишь?!
Пашка помахал в свою сторону и, видя, что Иван Артемьевич не понимает, крикнул тоже:
— Телята на полотне!
— Ну и хрен с ними… — проворчал Иван Артемьевич.
Он полез в карман за спичками, но так и не вытащил руку с коробком. Не привыкший поддаваться первому чувству, он незаметно пошарил в другом кармане. А потом сразу перевел регулятор на нулевую отметку и подал три коротких гудка.
Встретившись с оторопелым взглядом Пашки, рявкнул в наступившей тишине:
— Трубка выпала!..
А сам уже крутил реверс на обратный ход. Подав два гудка, тихонько тронул паровоз и по пояс высунулся в окно.
Рабочий поезд попятился…
Иногда Иван Артемьевич мельком бросал взгляд на вагоны, из окон которых с глупым выражением на лицах выглядывали любопытные пассажиры. Сплюнув, отворачивался от них и опять впивался глазами в бровку. Не отрывая взгляда, поманил к себе Пашку и, услышав у затылка его дыхание, спросил громко:
— Сколько пятимся?
— Пятый километр…
— Вот зараза! — вслух подумал о трубке. И сразу про себя: — Сколько же я спал?
— Не знаю, — ответил Пашка виновато.
— Знать надо! — укорил Иван Артемьевич и махнул рукой: — Смотри за топкой…
Пашка еще не успел заправить топку, как услышал злое шипенье тормоза машиниста, и поезд, дрогнув, остановился.
— Нашел! — удовлетворенно крякнул Иван Артемьевич, забыв подать сигнал остановки.
А через минуту, радостно вскрикнув, «овечка» бодро зачухала вперед, удивляя пассажиров небывалой скоростью. Иван Артемьевич, сладко попыхивая трубкой, весело поглядывал на притихшего Пашку. Потом приободрил:
— Ни хрена, поспеем!
И вдруг помрачнел.
— Пашка, послушай-ка… — обратился к помощнику. — Ты про то, что я дреманул, не вякни где-нибудь. Хоть ветка эта и не настоящая дорога, а коли узнают, что я на ней губу отквасил, попрут меня с паровоза с позором. Ты табель о рангах по преступлениям среди паровозных бригад знаешь?.. Против него ни бог, ни царь и ни герой не заступники… Понял?
Пашка что-то буркнул в ответ и отвернулся.
Поезд прибыл на конечную остановку с часовым опозданием.
— Что стряслось, Иван Артемьевич? — спросил его дежурный по станции, когда он зашел к нему. — Отправились-то вроде по расписанию?
— Да так… — попробовал отмахнуться Иван Артемьевич, зная, что за опоздание никто не спросит.
— Как это так?! — вдруг возмутился противный голос за его спиной.
Иван Артемьевич повернулся на него. Перед ним стоял какой-то тип с портфелем и поблескивал стеклами очков в железной оправе.
— А тебе чего? — удивился Иван Артемьевич.
— Не «тебе», а «Вам»!
— Ух ты! — еще больше удивился Иван Артемьевич.
— Не «ух», а извольте объяснить, на каком основании поезд почти час следовал по перегону задним ходом?
— Это кто? — спросил Иван Артемьевич дежурного, но тот только пожал плечами, а ответил сам тип:
— Я вам покажу, кто я!
И его не стало.
На другой день Иван Артемьевич забыл про него.
А через неделю секретарь парткома Александр Павлович Завьялов, к которому Иван Артемьевич зашел по делам, вдруг спросил, уже прощаясь:
— Чуть не забыл… Что это за маневры ты на прошлой неделе устроил на рабочей ветке? Туда-сюда разъезжал?..
— А кто сказал?
— Какая разница…
— Неуж очкарик этот?
— Не знаю никакого очкарика, — ответил Завьялов. — Мне из политотдела дороги звонили, спрашивали, кто у нас тут партизанит.
Пришлось Ивану Артемьевичу про трубку выложить.
Завьялов постоял в раздумчивости перед окном своего небольшого кабинета, а потом заговорил, не оборачиваясь к Ивану Артемьевичу:
— Понимаешь, Иван, в наши дни железнодорожный транспорт самая организованная сила в промышленности. Мы всю пятилетку на своем горбу тащим. Всем стройкам, а их сотни, материалы и машины подаем. И на нас, железнодорожников, люди смотрят как на пример настоящей работы и дисциплины. Мы, считай, первые, после армии, форму носим. А ты?.. Черт с ним, с этим, как ты говоришь, очкариком. Не в нем дело. Дело в тебе. Ты ведь почему за своей трубочкой увязался? На нашем перегоне ты бы не остановился, я уверен. А тут ты подумал, что ветка заброшена, спереди никто не ждет, сзади никто не поджимает, да и спрос за опоздание будет невелик. Так ведь? Так. Значит, можно «что хочу»… А ты ведь не частный извозчик. Ты хоть и вел «колымагу», как ты отозвался об этом рабочем поезде, он государственный и разрешен в интересах людей. И ты — на работе, и тоже — государственной. А за всякое нарушение трудовой дисциплины полагается наказание. Так-то, братец… — И, повернувшись к нему с едва приметной завьяловской улыбкой, спросил: — И как это ты умудрился трубку-то выронить? Она вроде бы к твоим губам не то что приклеена, а приварена…
— Понимаешь, с левой стороны телята на полотно полезли… Пашка мой и рявкнул на них, чуть свисток не разнес. Я, конечно, изматерился… — соврал Иван Артемьевич.
— Вот, вот, — поверил Завьялов и добавил: — За матерки на рабочем месте тоже бы надо наказывать. Ладно, иди…
А из паровозников Ивана Артемьевича за поступок никто осудить и не подумал. Когда узнали, хохотали от души да еще подхваливали за сноровку.
Знай наших!
Сам Иван Артемьевич, конечно, думал не так. Да и вся жизнь его стояла на другом.
На Купавиной, в новом депо, дел было невпроворот. По первому году сбилась тут небольшая кучка машинистов, а ведь на прибывающие паровозы надо было садить все новых и новых людей.
Учить их приходилось на ходу.
…Как-то, поставив паровоз под загрузку на угольном складе, приметил Иван Артемьевич полуоборванного паренька, который стоял в нескольких шагах, опершись на черенок истертой метелки, и рассматривал горячую машину.
— Чего глядишь? — спросил его Иван Артемьевич.
Уж больно внимательно приглядывался к паровозу мальчишка.
— А че, нельзя?
— Гляди, не жалко, — добродушно разрешил Иван Артемьевич, но все-таки спросил: — Не видел, что ли, раньше?
— Может, и не видел, — ответил паренек. И даже осмелился спросить: — Где увидеть-то, если дорогу только лонись построили?
— А ты откуда? — спросил он.
— Недалеко. Из Грязнушки.
— А где такая?
— Вот и ты не все знашь, — обрадованно улыбнулся паренек. — Всего-то два часа пехом, а ты не знашь!
— Ладно, ладно, — спасовал Иван Артемьевич. Паренек ему понравился. — А чего здесь делаешь?
— Не видишь, убираю за вами…
На угольном складе приходилось держать рабочего по очистке путей: угольные краны, заправляя паровозы, постоянно засыпали колею. Очищать ее можно было только вручную: работа простая, но трудная, грязная и муторная.
— А получше места не нашел?
— Че дали, то и делаю, — ответил паренек уже невесело. — Ты ведь меня с моей-то грамотой к себе не возьмешь.
— Не знаю, — ответил Иван Артемьевич. — Может, и возьму…
— Че врать-то? — отвернулся парень.
Свистнул угольный кран, заправка кончилась. Иван Артемьевич подал гудок и взялся за регулятор. Но что-то заставило его еще раз обернуться к пареньку. Тот глядел на него сердито.
— Увидимся еще! — крикнул ему Иван Артемьевич и тронул паровоз с места.
…В другой раз увидел своего знакомца только недели через две. Тот орудовал скребком на соседнем пути, отгребая уголь от рельсов. Рядом валялась совковая лопата и метла.
— Здорово, путеец! — крикнул Иван Артемьевич.
Парень разогнулся, увидел знакомого машиниста, улыбнулся.
— Здорово. Все ездишь?
— А ты все скребешь?
— Скребу. Мое дело такое.
Иван Артемьевич встал с места, сел в двери будки, поставив ноги на верхнюю ступеньку, пригласил:
— Подходи, покурим.
— Я не курю, — ответил паренек, но подошел: видимо, надоело колупаться одному посреди колеи.
— Так, значит, из Грязнушки? — начал Иван Артемьевич, как будто продолжал прерванный разговор. — А как звать-то?
— Костя.
— Константином, выходит. Так… — Иван Артемьевич раскурил трубку. — А что, в деревне-то хуже, чем здесь?
Костя молчал.
— Чего молчишь?
— А че говорить-то? Погорели мы…
Дальше рассказ был невеселый. Узнал Иван Артемьевич, что в деревне Грязнушке, неподалеку от Купавиной, жил со своей бабкой сирота Костя Захаркин, кое-как перебиваясь с хлеба на воду в местном колхозе, работая кем куда пошлют. Но два месяца назад сгорела их избенка вместе с бабкой по неизвестной причине, и остался Костя совсем один. Услышал от людей, что на Купавиной берут на работу всех и платят деньгами. Вот и пришел. Первая контора по пути из Грязнушки на станцию оказалась деповской. Туда и направился. Спросили документы, а документов никаких: ни паспорта, ни метрики, ни справки от колхоза.
— Сбежал, наверное? — не очень приветливо спросил встретивший его начальник.
— А че мне бежать-то? — ответил ему вопросом Костя. — Меня и так никто не держал.
— Без документов нельзя, — объяснил начальник.
— А где у вас на станции еще контора есть? — спросил Костя. — Пойду дальше.
— Ты не горячись, — посоветовал тот в ответ. — Скажи лучше, сколько тебе лет?
— Шешнадцать. Нынче.
— Шешнадцать… — повторил начальник и полез в затылок. — А где жить собираешься? Что делать умеешь?
— Робить.
— Ну и сказанул! — повеселел начальник. — Не машинист ли?
— А че смеешься?! — вскинулся Костя. — Руки-то вот они.
— Ладно, — решил начальник. — Лопату, метелку в руках держать умеешь?
— Умею.
— Вот и хорошо. Фамилия? Имя и отчество тоже.
— Захаркин Константин Егорович.
— Будешь отвечать за чистоту путей на угольном складе. Понял?
— Понял. Только покажите как.
— Покажем. А сейчас иди и устраивайся с жильем. Завтра к восьми — сюда. Ясно?
Так Костя Захаркин определился в Купавиной.
— Не дело, — подвел черту под его рассказом Иван Артемьевич.
— Как есть, — ответил Костя.
Угольный кран просигналил окончание загрузки. Иван Артемьевич поднялся в будку, ответил заправщику гудком, но паровоз не двинул, а высунулся в окно.
— Костя, слышь?! Завтра днем я вернусь из поездки. Запомни мой паровоз — 8182, видишь?
— Вижу.
— После поворотного треугольника я остановлюсь вон там, справа от депо, где бригады меняются. Как увидишь нас, подходи. Не проворонь!
— А зачем?
— Завтра узнаешь…
Запал в душу Ивану Артемьевичу Костя. Возвращаясь из поездки, Иван Артемьевич уже твердо решил повернуть его жизнь. А при встрече кое-что узнать для себя, чтобы действовать наверняка.
Костя ждал его. И хоть поздоровались весело, Иван Артемьевич заметил в парне перемену: если при первых минутных разговорах Костя отвечал ему сразу, не думая о словах, то сейчас внутри него жило какое-то напряжение, а может, настороженность, как бывает с человеком, который не знает, что его ждет. И машинист решил спросить о самом главном напрямик:
— Костя, скажи мне, ты не соврал тогда в конторе, что тебе нынче шестнадцать стукнуло?
— Соврал, — ответил Костя и тоскливо поглядел в сторону.
— А зачем?
— Так я ведь знаю, что паспорт выдают с шешнадцати. Паспорта у меня все одно нет, как и у всех парней в нашей деревне. А кому надо проверять, сколько мне? По росту-то я — хоть в армию бери.
— Ну и что? А врать-то зачем?
— На работу не взяли бы.
— И только?
— А что еще? Если на силу пойдет, так я и мужику не уступлю… Мне только полгода перебиться, а там и вправду шешнадцать станет.
— Чудак ты… Ладно. А сколько классов закончил? В школу-то, наверное, ходил?
Костя схохотнул:
— Ходил… Тут уж никуда не деваться, четыре маленько не добрал.
— Так ведь это здорово, Костя! — вдруг восхитился Иван Артемьевич, постаравшись не заметить, как парень подозрительно зыркнул на него после этих слов. — Я тебе точно говорю!
— Чего хорошего-то?
— А то, что про себя вспомнил: я в пятом году в Питер с двумя классами прикатил, едва читать умел да считать маленько… А четыре класса, я тебе скажу!..
— Да не доходил я их.
— Неважно. Все равно уже в четвертом был. Считай, против меня, когда я начинал, ты вдвое грамотней. А прибавь к этому нынешнее время. Совсем, брат, другой табак получается! Тебе уж разбегаться на добрую работу можно.
— Куда?
— В серьезное ремесло определяться. Время-то не идет нынче, а скачет. Если замешкаешься, так не заметишь, как своей метелкой-то разбросаешь годы по сторонам, а потом уж потяжелее будет собраться. На паровоз пошел бы?
— Я?!
— Ты. А что особенного?
Костя молчал. Но по тому, как участилось вдруг его дыхание, как уперся тугой взгляд в одну точку, как сглотнул он слюну, дрогнув горлом, понял Иван Артемьевич, что хочет и не может поверить ему парень. И он не стал убеждать его ни в чем, а начал советовать настоятельно, хотя и осторожно.
— Не думай, что это легко, — сказал он. — И главная трудность тут в том, что документами кое-какими обзавестись все равно придется. Скажем, угольный склад… На твое место там любого возьмут. Хоть на один день возьмут и без документов. Лишь бы согласился. Почему? Да потому, что их нужда заставляет: на очистку путей серьезный мужик и не пойдет вовсе. А начальнику угольного склада надо, чтобы пути у него каждый день были в порядке. Он может самого последнего прощелыгу на работу взять с утра, а вечером рассчитать и — айда с богом! У него даже почасовая оплата есть. Поэтому он из-за твоих документов не шибко спорил: ты работу сделал, он — заплатил. А кто ты: Иванов, Петров или Захаркин, ему — наплевать… С настоящей работой так не получится. Как ты думаешь, почему я тебе сказал про паровоз?
Костя пожал плечами.
— А дело обстоит так: вот я считаюсь машинистом-инструктором. Депо у нас молодое, как и вся станция, сам знаешь. Рабочей силы не хватает. Поэтому нам дали право самим набирать людей и сразу, без всяких там курсов и все такое, приучать их к делу. Ну, конечно, кочегарами только…
— А я согласен! — выпалил Костя.
— Погоди ты… И оформлять в таком случае надо по всем правилам, с документами.
— Вот, вот… — усмехнулся Костя и сник.
— Да погоди ты, говорю, не вешай нос. Я же совет хочу дать, научить… Значит, так: тебе надо сходить или съездить, не знаю уж как, в свою Грязнушку и взять там в правлении колхоза справку о том, что такой-то такой-то, это значит ты, выбыл из колхоза в городскую местность для устройства на работу…
— Так ведь меня в колхоз никто и не принимал.
— В таком случае иди в сельский Совет. Там тебе напишут, что гражданин такой-то, такого-то года рождения — не забудь, чтобы это вставили обязательно, — проживал в деревне Грязнушке и в колхозе не состоял. И напишут: справка дана для устройства на работу. Печать, число, подпись — и все.
— А если не дадут?
— Не имеют права.
— А все равно не дадут?
— Иди в милицию, в райком, в общем, выше. Там понимают, что пятилетке рабочие нужны.
— А на угольном за это время место займут.
— Не займут, — успокоил Иван Артемьевич. — Сейчас вместе с тобой пойдем к начальнику, и я договорюсь, чтобы тебя отпустили на три дня. Понял? Управишься за три дня?
— Должен.
— Вот и хорошо. Пошли…
Договориться на угольном Ивану Артемьевичу не составило труда. Только начальник склада, сразу согласившись с членом парткома, погрустнел и сказал:
— Опять под себя гребешь, Иван Артемьевич?
— Под себя, — подтвердил машинист.
— Ясно, — понял начальник. — А мне хоть самому выскребай ваши дорожки.
— Перебьешься, — успокоил его Иван Артемьевич.
Прощаясь с Костей, наказывал:
— Проси, требуй, говори, что иначе жаловаться будешь. А как вернешься, прямо ко мне домой. Где я живу — тебе покажет каждый. Ну, с богом!
И он по-мужски тряхнул Косте руку.
— Через три дня — ко мне домой! И обязательно — со справкой! — крикнул еще вдогонку.
3
Семьи на Купавиной были разные и в пересудах определялись почти всегда одним словом. Эта — скандальная, другая — хлебосольная, были бедные и богатые, были грамотные, тихие и дурные, а также «кто куды», «не у колоды пень» и даже «не разбери поймешь».
И, пожалуй, только для семьи Ивана Артемьевича найдено было особое для купавинского слуха наименование — порядочная.
И это не было похвалой или чьим-то отдельным суждением. Даже когда мнения и расходились, то в спорах всегда одерживало верх отношение доброе. Скажем, если кто-то из мужиков корил свою бабу, что-де вот у Ивана Артемьевича жена хоть и скупая, как ты, а не орет по поводу каждого рубля, то немедля получал в ответ:
— Зато он ее не бьет.
Другой осмеливался выложить своей, что она еще скупее Анны Кузнецовой и готова себя за копейку укусить, на что получал резонный ответ, проверенный вековой правотой:
— Скупость — не глупость, копейка рупь бережет.
Так что купавинские женщины ни в коей мере не могли отказать в уважении Анне Кузнецовой. Да и сама она скупость свою проявляла весьма осторожно: если Иван Артемьевич просил денег, сначала спрашивала, зачем понадобились. Узнав о намерении мужа, долго и упрямо отсоветывала в покупке, если считала зряшной. А если муж все-таки настаивал на своем, то со вздохами и под всяким предлогом выдачу задерживала. И тогда Иван Артемьевич терял терпенье, приказывал:
— Дай деньги, говорю. А то больно умная стала как погляжу.
Деньги немедленно выдавались.
Мужик — всему голова, говорят в наших местах и сейчас, поручая мужчине заботу о достатке и мире в доме. И если оставить без внимания суждения купавинцев о делах людских, в которых никто из них никогда не сходился ни с кем, то можно не сомневаться, что порядок в кузнецовском доме был поставлен Иваном Артемьевичем единолично и с умом. Как и в делах среди людей на работе, его главенство в семье стояло не на силе, а на скопленном за жизнь опыте, отдаваемом по-отцовски мудро, требовательно и по-товарищески просто и щедро.
Так уж получилось, что Иван Артемьевич спохватился жениться после сорока годов. Правда, в ту пору он еще не утратил молодечества, и его жена, бывшая на полтора десятка лет моложе, разницы и не заметила вовсе. Может быть, потому, что по мирской мерке сама ходила в перестарках, поскольку ее женихов судьба заласкала до смерти на мировой да гражданской, а красота и гордость удержали от венца с первым встречным.
И вдруг Иван. Счастье-то какое! Все сразу в руки: и сила мужская, и для глаза праздник, и улыбка под стать широкой груди с алым бантом орденским. О чем еще молиться? И какой тут свой фасон? Помоги, господи, подчиниться-то ладом…
И наступила жизнь вовсе незнакомая, какой и придумать невозможно. Раньше не верила, а тут в одночасье поняла и увидела, что можно жить без дома, что счастью все одно где быть: в барачной ли комнатешке, в железнодорожной ли теплушке, или — совсем уж смешно — в инструменталке при ремонтном цехе депо.
Ушла рожать, не зная, куда вернется с ребенком, а спрашивать Ивана постеснялась. А он возьми да и приведи ее с Надюшкой в отдельную светлую комнату в новом бараке! Да еще и все под рукой, даже печка с каменкой прямо в комнате.
Правда, на этом месте жизнь как-то раздваиваться начала незаметно. Муж день и ночь на работе. С дочерью хлопот прибавлялось. Да и столовка со своим ужином к новому положению не вязалась. В девках, помнила Анна, с родителями не раз на базары ездила: лишки продавали. Теперь сама стала на базар ходить покупать. Раньше деньги отец при себе держал, сама-то их в глаза не видывала, потом Иван распоряжался, только спрашивал, что надо, теперь — самостоятельной хозяйкой стала. И узнала вдруг, что деньги отдавать жалко… Иван хохотал сначала над этим, а потом перестал. Просто отдаст получку, и все. А как ими, деньгами-то, самой распорядиться сразу, если их все равно жалко? Да и дочь растет. Сама выскочила замуж без венца, убегом почти, без приданого (слава богу, Иван не заметил), а дочь-то как? Неуж так же?! А ведь время-то наступило другое, без войны, и жизнь, сказывает Иван, в порядок приходит. Значит, и все другое как полагается настроится, придется жить по-людски: не кувырком да на ходу.
Сам же Иван Артемьевич переменам не удивлялся, а радовался. Со свету дотемна в депо, через день дома ночевал, потому что паровозных бригад не хватало и приходилось ездить через рейс. Как ни спросишь, на работе у него все в порядке и хорошо, а сам поиграет с дочкой, если та еще не спит, а потом заденет подушку головой и — готов. И только по утрам, за скорым завтраком, догадается спросить о домашних делах да что надо — и опять в свое депо, как ровно не ночевать домой приходил, а на побывку вырвался.
А попрекнуть ни в чем не могла: успевал Иван везде. И с работой управлялся, и с мужской помощью по дому, да еще и ни одного собрания не пропускал.
Последние годы перед Купавиной жили в Нязепетровске. Места чужие, но красивые. Иван Артемьевич работал без лихорадки, имел выходные и пристрастился с дочкой ходить по грузди да за ягодами. Надюшка так прилипла к отцу, что Анна порой не справлялась с беспокойством, когда в отсутствие Ивана девочка, еще неловко орудуя иглой за вышивкой, рассказывала ей про Петроград, будто побывала там, про подпольные типографии, в которых печатали газеты, про забастовки, когда никто не хочет работать, про кровожадных казаков, про душегуба-царя, про пушки и бронепоезда. И вдруг запевала весело:
— «Мундир английский, сапог французский!..» Знаешь про кого? Отгадай…
«Что за девка растет?! — удивлялась мать. — На парнишку смахивает». Но опасения прошли, особенно с переездом на Купавину, где отец опять стал в доме гостем. Надюшка подросла и становилась хозяйкой, завидной материной помощницей. За последнее лето она вытянулась, вроде даже повзрослела. Да только это опять побудило у Анны что-то вроде испуга.
Как всякая мать, Анна примеряла дочь к ее одногодкам и каждый раз испытывала беспокойное чувство растерянности. Надюшкины сверстницы росли розовощекими, крепкими, ладно сбитыми девчонками. А Надюшка порела как-то не так: нескладная, угловатая, с мальчишескими ногами; платье на нее скроить — наказанье. Да и лицом не похвастаться: не круглое, а даже не поймешь какое, глаза большущие, в длинных ресницах, нос хоть и аккуратен, а надо бы поменьше, губы тонкие — еще бы ничего, да рот великоватый, а уши так и вовсе парнячьи. Только волосом и удалась — это, пожалуй, в отца…
«Хоть бы выневестилась ладом!..» — молилась про себя, а сама все чаще думала: не оттого ли дочь растет небаской, что родилась в позднем замужестве (говорили старухи, что бывает такое).
Что касается Ивана Артемьевича, о своей семье он попросту не очень задумывался. Прижимистости жены не брал в толк, а когда она проступала заметно, умел так удивиться этому, что Анна сама могла вывернуть все чулки. И тогда она становилась в его глазах обыкновенной расчетливой, даже бережливой женщиной.
А дочь стала отрадой. Да и мерял он ее не по материной мерке. Поначалу Иван даже стыдился про себя, что не испытывает к ней того, что называют нежностью. Он спрашивал себя, что же это такое — отцовское чувство, — и приходил в недоумение, не находя ответа. Нет, он понимал, что стал отцом, что надо растить нового человека не только по-другому, чем рос сам, но и с другой прицелкой в жизни с самого начала и отвечать за все это. Как это делать, он бы объяснить не смог. Но видел, что дочь любопытная, во всякую дырку лезет, про все, что непонятно, спрашивает — это хорошо. А когда прожила десять лет и уже приговаривала «когда я была маленькой», обозначились в ней и первая серьезность, и человечья доброта: любому несмышленышу, если надо, выговор даст или сопли утрет, отцовскими конфетами в получку всех подружек одарит, собак и кошек любит, а весной хромого галчонка выходила.
Хорошая дочь. Чего еще надо?
Нельзя сказать, что Иван Артемьевич гордился собой и семьей. Просто он был спокоен и за себя, и за свою семью. И жизнь казалась ему хорошей и правильной.
4
Костя Захаркин вернулся из Грязнушки в срок. Иван Артемьевич за это время успел переговорить с кем надо, и дело было за документами.
Костя встретил его не только без обычной сдержанности, но шумно и радостно:
— Все изладил, как велели! Они тама спохватились: айда, говорят, в колхоз, пиши заявление — без всякого Якова возьмем. А я им говорю: че я, дурнее мерина, что ли? Они давай уговаривать: жилье найдем, а потом женим. А я им: давай заместо невесты справку!..
— Заглохни маленько, — попросил Иван Артемьевич, уже понявший, что Костя вернулся с удачей. И, заметив к удивлению, что он при старых своих штанах облачен в почти новый, но немного великоватый ему пиджак и вполне приличные сапоги, между прочим поинтересовался: — Разбогател ты, вижу, за три дня, прибарахлился. Прямо франт!..
Костя пыхнул на мгновение румянцем, сбился со своих новостей, но сразу справился и радостно объяснил:
— Так это все на мне невзначай оказалось… Приезжаю, значит, в Грязнушку. Где, думаю, ночевать? Насмелился к соседям попроситься: всю жизнь рядом жили, шибко никогда не ругались, переночевать пустят. Захожу, а у них посередь избы стол большущий стоит, и человек двадцать народу за ним. Еда всякая, конечно, бутылки стоят, мужики почти все уже худоязыкие, особенно старые. Тетка Настасья ко мне со слезами: «Ой, Кистинтин, и ты здеся оказался! Айда-ко, миленький, за стол, помяни моего Афанасия: помер ведь он. Сегодня девятый день!..» Как помер, спрашиваю. Здоровый был еще три недели назад. «А так: бог прибрал в одночасье. Пошли с мужиками к этой лихоманке, Матрене-колдунье, да и выпросили у нее четверть. А у той самогонка-то против лихорадки настояна: с табаком. Ну и нахлебалися… Тех-то кого пронесло, кого водой отлили да молоком отпоили, а мой как зашелся, так и посинел… Да ты проходи, Коська, проходи за стол. Где ты да как ты таперича без бабки-то живешь?..» — спрашивать стала.
— Ты же про пиджак хотел рассказать, — напомнил ему Иван Артемьевич.
— А я про что? — споткнулся Костя. — К вечеру, как стали расходиться, Настасья сундук настежь и давай: это, Петро, тебе пальто на память от Афанасия; тебе, Матвей, штиблеты выходные; тебе, Николай — это брат Афанасия, — костюм ненадеванный. Все раздала… А как до меня очередь дошла, в сундуке-то ни хрена и не осталось. Настасья руками схлопала: «Ой, Костя, как это я про тебя не подумала!» И давай по избе бегать. Слетала в горницу, тащит вот этот пиджак, протянула мне: «Ей-богу, раза два или три надевал!» Я-то знаю, что Афанасий его с весны с себя не спускал… А сегодня утром, когда уходил, сапоги его отдала, рубаху новую и двое подштанников. Портянки тоже новые…
— Так, так… — буркнул Иван Артемьевич и перешел к делу: — А справка где?
— Вот, — протянул ему бумажку Костя. — Все в порядке. Всем миром в колхозном правлении составляли, — для убедительности сообщил он.
По справке нетрудно было понять, что сочиняли ее усердно. Из нее явствовало, что Константину Егоровичу Захаркину, уроженцу деревни Грязнушки, не только шестнадцать лет, но и то, что родители его, «помершие по причине тифа», были из бедняков, «сочувствующих Советской власти», что в настоящее время сам он «оказался круглым сиротой» опять же «по причине смерти единственной бабки при пожаре собственного дома». В колхозе гражданин Захаркин не состоял, а «в настоящее время изъявил желание выехать из деревни Грязнушки на стройку пятилетки на станцию Купавину», что и подтверждается подписью председателя и круглой печатью.
— Вроде все есть, — сказал Иван Артемьевич, прочитав справку вслух.
— И еще велели сказать на словах, — добавил Костя, — если не хватит…
— Чего не хватит?..
— Не знаю… Велели сказать, что никаких метрик, когда я родился, не выдавали. Но все соседи и председатель колхоза знают, что меня крестили в нашей церкви, где записали в книгу. А так как в гражданскую церква сгорела, а поп сбежал, то в сельсовете об этом тоже могут написать справку, если потребуется…
— Не потребуется, — весело сказал Иван Артемьевич. — Считай, что ты мой кочегар!
— Ну да?!
— Пошагали в отдел кадров! — приказал Иван Артемьевич.
Через день, после получения медицинской справки о здоровье, Костя Захаркин стал паровозным кочегаром депо станции Купавиной, с двухнедельным испытательным сроком.
Не знаю, как сам Костя, а Иван Артемьевич первую его поездку запомнил.
Костя неловко поднялся по лестнице в будку и замер перед массивным котлом, разукрашенным множеством блестящих вентилей и краников, обрамленным поверху циферблатами приборов, среди которых почти в центре на зубчатом полукружье выделялся внушительный и изящный рычаг регулятора, а под ним, погрубее, — рычаг заслонки топки. От притихшего котла исходило угрожающее тепло. Казалось, горячая махина приостановилась на вдохе и вот сейчас, сейчас выдохнет из себя жар… Костя стоял в широком проеме будки, и только глаза его лихорадочным блеском выдавали волнение.
— Подкинь маленько, — попросил помощника Иван Артемьевич.
Тот поднялся, нажал нижний рычаг, поставив его на упор. Дверка топки, расколовшись посередине, легко распахнулась в стороны, открыв грохочущую пасть, которая, ослепив, исторгла волну иссушающего воздуха.
— Посторонись! — коротко приказал Косте помощник и, став одной ногой на железный фартук между будкой и тендером, а другой опершись чуть в стороне от топки, широким взмахом поддел лопатой из тендерного бункера уголь и со всего плеча махнул в сторону топки. Костя невольно прикрыл глаза, ожидая, что сейчас лопата сомнется, переломится, а уголь, брызнув от котла во все стороны, запорошит, вышибет глаза… А лопата на мгновение застыла у самого порога топки, и уголь, сорвавшись с нее, кружевным веером бросился в огонь, растаяв в ослепительном реве. Костя, высунувшись из-за правой шторы возле плеча Ивана Артемьевича, хотел углядеть, куда летит уголь, но помощник, взмахнув еще раз пять и подкручивая черенок лопаты то вправо, то влево, лихо вогнал лопату по железной подошве бункера глубоко под уголь, а топка закрылась, будто сама. Костя даже не заметил движения, которым помощник столкнул рычаг с упора.
— Понятно? — обернулся Иван Артемьевич к ополоротевшему Косте.
— Не-е-е… — протянул тот и испуганно взглянул на него.
— Ничего, поймешь, — заверил Иван Артемьевич. — А сейчас полезай-ка вон туда… — Он показал на полуоткрытые створки над бункером. — Подгреби в тендере угля поближе к бункеру…
Костя опрометью бросился наверх, на волю. Выскочив в тендер и дохнув прохладного воздуха, он растерялся снова, ощутив непривычную высоту, и сел прямо в уголь.
Потом послышалось, как он заскреб лопатой.
К паровозу Костя привыкал споро, совался с вопросами всюду.
У паровозного кочегара круг обязанностей неширок: следить, чтобы уголь постоянно был у помощника под рукой, чтобы паровоз не зарос грязью и в будке стояла чистота, да у водоразборных колонок принять воду. Заправка топки, смазка, продувка котла, прокачка колосников лежит на ответственности помощника машиниста, хотя в паровозных бригадах все это без особого риска передоверяли опытным кочегарам. Что касается Ивана Артемьевича, он еще до того, как Костя поднялся в будку, нарочно предупредил своего помощника Пашку Глухова, чтобы тот приучал Костю ко всему при любой возможности и не стеснялся.
— Парень жилистый, — сказал Иван Артемьевич, — пускай побуровит, мозгами проворнее зашевелит.
И Пашка старался. На любой станции или разъезде, где приходилось ждать встречных или давать обгон пассажирским, Пашка находил кучу дел, которые требовалось сделать до возвращения в депо.
— Костя! Иди шприцуй, мне некогда! — кричал он снизу.
Костя выпадал из будки, спешил к нему.
— Чего?
— Шприцуй! Крути вот эту ручку, вжимай масло. Видишь, втулки сухие.
И Костя крутил.
В той же первой поездке, заметив, что Костя мало-мальски окреп ногами на шатком полу будки, Пашка выбрал момент на хорошей скорости, распахнул перед ним топку:
— А ну, подбрось десяток добрых лопат!..
Костя дернул из бункера полную лопату, но не донес и до половины, как его качнуло, и лопата разгрузилась между будкой и тендером.
— Хрена ли ты с лопатой в разные стороны качаешься?! Кто «того из вас тянет?
Костя зло всадил лопату в уголь, но несколько мгновений не мог поднять ее вообще, потом хватанул, моментально сунул ее в топку, повернул черенок и высыпал уголь.
Пашка не вымолвил ни слова. А после пяти бросков, отобрав лопату, крикнул:
— Теперь гляди, куда навалил!
Уголь едва приметным пятном лежал недалеко от заслонки посреди топки.
— Там места много, около восьми квадратных метров, а ты в одну середину валишь. Углы тоже надо заправлять и всю топку тоже ровно. И не суй туда глубоко: не шаньги в печь садишь!
И легко, почти без усилий, пошел сеять уголь, который, повинуясь какой-то сатанинской воле, сам срывался с лопаты перед заслонкой и мелкими брызгами разлетался то вправо, то влево, то пропадал из вида сразу неизвестно куда.
— Вот так, все простенько, — сказал Пашка, отдавая лопату и вытирая рукавом взмокший лоб. — А теперь айда на тендер…
Когда отошли от состава в Купавиной, направляясь в депо, Пашка снабдил Костю концами, сунул в руки ведро с соляркой и послал из будки протирать внешнюю котельную часть.
— Не дрейфь, не свалишься: там поручней полно, да и катим пешком.
Иван Артемьевич видел, что Пашка местами усердствует сверх меры на вершок, но решил не вмешиваться до конца.
А когда сверкающий чистотой паровоз сдали сменной бригаде и, пожелав товарищам доброй поездки, пришли в деповский душ, Иван Артемьевич подтолкнул Костю локтем, кивком показал на зеркало, висевшее в раздевалке на стенке, и сказал негромко:
— Глянь-ка, Костя, на себя. Ей-богу, если бы не вместе с тобой ездил, подумал бы, что ты не лопатой, а рылом робил. Так стараться будешь, на мыло получки не хватит… Костя взглянул на себя и оскалил в улыбке зубы. Он был чернее мазута. Ответил весело:
— Эвона какой паровоз вышоркал, неуж морду не отмою?..
Иван Артемьевич приглядывался к Косте и вспоминал свою молодость, когда он, которому равных не было по силе и ловкости в родной деревне, вдруг почувствовал себя потерянно маленьким в большом сверкающем городе, где, казалось, все только веселились, гуляли и никто не работал. Проглазев на большие диковинные дома и мосты целый день, он вернулся тогда к Московскому вокзалу, на который приехал утром, нашел место понезаметней на скамье подальше от главного входа, возле которого шевелилось скопище карет вперемежку с лаковыми автомобилями, вытащил из котомки краюху хлеба да луковку и попробовал поразмыслить, что делать дальше и куда податься за работой.
И вдруг увидел перед собой дворника с метлой, который внимательно глядел на него. А тот сразу спросил:
— Откуда пожаловал?
— Вятский.
— Толоконник. К родне, что ли, к какой приехал?
— К родне… Че бы я тут сидел? От голода убежал. Работу надо. — И, увидев, что мужик перед ним вроде бы несердитый, спросил: — Не знашь, где есть?
— Работа везде есть, — ответил тот. — А ты что умеешь?
— Чего я умею, тут, видать, не подходит, — с горькой усмешкой ответил Иван. — Пахать умею, сено косить, скот пасти… А здеся и голой-то земли не видать. Значит, городскую и работу надо искать. А какая она? И где?
Разговорились тогда. По совету первого знакомого Иван Кузнецов сунулся в депо Московского вокзала Николаевской железной дороги.
— Платят тут хорошо, — объяснил тот.
Не получилось. Правда, и там нашлись добрые люди, послали еще в другое место. А пристроился через неделю едва-едва кочегаром при котельной металлического завода. Только потом, через год, попал на паровоз — тоже люди помогли. Так шажок за шажком…
А Костя Захаркин на его глазах шагал в работе широко и твердо. Уже через месяц и следа не осталось от его робости перед машиной. Он подружился с Пашкой Глуховым, которому учительское положение, определенное Иваном Артемьевичем, пришлось явно по душе.
Через два месяца Костя лихо лупил паровозными терминами, а однажды, когда пошли в депо из-под состава, осторожно попросил Ивана Артемьевича:
— Дядя Ваня, дай мне стронуть…
Иван Артемьевич только промычал что-то в ответ и молча слез со своего места. Костя стал вместо него, но не сел, а дал гудок, несколько испугавшись, что паровоз взревел громче и дольше обычного, открутил реверс в нужное положение, отпустил кран машиниста и тихонько подвинул регулятор на две отсечки…
— Можно и с трех, четырех толкнуть, — подсказал Иван Артемьевич. Но паровоз в это время едва заметно стронулся с места, и Костю, который хотел воспользоваться полученным советом, пришлось тут же остановить. — А теперь уже поздно. Только добавить маленько разве… — сказал Иван Артемьевич.
Костя простоял на месте машиниста всего минуты две-три и вспотел.
— Вот и уработался сразу, — улыбнулся Иван Артемьевич, мягко отстраняя его от реверса. — Хорошего понемногу.
Работал Костя легко, без тени усталости, ни разу не выслушивал просьбу дважды и постоянно с каким-то веселым остервенением то мел в будке, то драил до блеска медные краны и вентили, то ползал по внешнему котлу и яро поворачивался между бункером и топкой, когда Пашка милостиво допускал его до своей обязанности. Особенно нравилось ему принимать жезлы, когда поезду давали свободный путь и состав следовал через станции без остановки. Тут Костя, откинувшись от поручня на вытянутую руку, выглядел прямо-таки циркачом.
И только ночные поездки давались ему тяжело. Товарные поезда при жезловом движении шли с частыми остановками, которые на станциях и разъездах затягивались от нескольких минут до часов. И машинист с помощником, поручив котел кочегару, почитали за обязанность закемарить на это время каждый на своем месте. Костя подкармливал топку, поддерживал давление, следя за манометром, и вполне своевременно пускал в ход инжектор, когда уровень в водомере падал ниже красной отметки на палец.
А потом наступало безделье, и Костя рвал рот в зевоте, если не мог придумать какого-нибудь занятия. Больше всего в такие минуты, особенно в теплую погоду, он боялся заснуть где-нибудь на угле, зная, что разбудить его после этого — дело довольно канительное.
Иван Артемьевич про себя радовался Костиной бойкости, намереваясь к осени подтолкнуть его к школе, чтобы он за зиму получил справку о четырехклассном образовании. Уверен был Иван Артемьевич, что парень к паровозу прикипел, а раз так, надо думать о производственной учебе.
А Костина бойкость через какое-то время кроме радостей стала доставлять немалые беспокойства, когда от усердия молодого кочегара сам машинист либо терялся, либо кидался в мат.
Паровозное плечо купавинского депо, то есть расстояние до ближайшей участковой станции, где составы принимали машинисты-соседи, составляло сто десять километров пути со сложным профилем: много уклонов и подъемов, кривых, часто в выемках, что ограничивало видимость, и прочих премудростей, которые обязывают к предельному вниманию. Дается это не всегда легко, и всякое, даже мелкое, происшествие в рейсе может обернуться если не бедой, то неприятностью. К тому же и подвижной состав в то время, как ночь ото дня, отличался от нынешнего. Вагоны с тормозной системой стояли в лучшем случае через четыре-пять холостых платформ, то есть тормозной системой не оборудованных. А это удлиняло тормозные дистанции, делало опасными уклоны, которые нередко переходили в крутые кривые. Словом, техника была не очень надежной.
И вот в одной из поездок, когда бригада вела состав с предельной нагрузкой, на одном из подъемов возле небольшой деревеньки, маячившей в километре от железной дороги, какой-то дурак — продукт неудачного технического образования текущей пятилетки — сорвал стоп-кран. Состав, огласив окрестности скрежетом железа, замер, на подъеме. Заработал торопливо воздушный насос, спеша заполнить тормозную систему, но Иван Артемьевич тотчас вывалился из окна будки по пояс. Надо было оглядеться: взять состав с места представлялось рискованным. Поэтому Иван Артемьевич постарался определить, в каком месте его прикололи. В тот момент, когда он занимался своими мыслями, Пашка Глухов вдруг восхищенно заорал кому-то:
— Давай, давай!.. — Он обернулся, натолкнулся на недоуменный взгляд Ивана Артемьевича и так же радостно и громко объяснил: — Вон он, тот гад, что кран рванул: к деревне чешет. А Костя-то, Костя-то!.. — заорал он опять.
Иван Артемьевич перемахнул к левому окну и сразу понял все.
Скатившись с насыпи, по сжатому полю во всю силу от поезда удирал парень с фуражкой в одной руке и с небольшой котомкой — в другой. Следом, заметно настигая его, яростным козлиным наметом летел Костя. Когда преследователь приблизился к убегавшему на дистанцию вытянутой руки, виновник остановки поезда заметался в стороны, но Костя достал его, рванув за котомку, и тот растянулся на земле. Костя вздел его, поставил на ноги и с маху опять пустил по жнивью кубарем.
Парень залег недвижимо. Но Костя снова установил его перед собой и обрушился на него еще раз.
Потом подобрал с земли котомку, кинул ее парню и устало пошел к составу.
Иван Артемьевич не глядел на Костину расправу. Отпустив тормоза, он осторожно дал передний ход, открыв песочницу. Паровоз раскатно зачухал в короткой пробуксовке, потом замер на тяжелом вздохе, еще напрягся и тяжело сдвинулся с места.
Костя, увидев тронувшийся поезд, побежал бегом.
— Дядя Ваня! — заорал Пашка. — А Костя?!
Иван Артемьевич не хотел слушать. Он вытягивал состав.
Костя выбрался на насыпь уже посередине движущегося поезда. Дождался тормозной площадки, ухватился за ступеньку и побежал рядом с вагоном, подпрыгнув, ловко ухватился за поручень и поднялся наверх… Минут через пять он вывалился в будку из тендера.
— Научил гада, больше не будет! — выдохнул он. — Грамотные все стали! Поезда тормозить научились, остановочки возле своей поскотины устанавливать…
— Пашка! — рявкнул Иван Артемьевич. — Зараза, у тебя же топка холодная!..
Ребята враз смолкли и, сбиваясь лбами, заметались по будке.
— А ты, Костя, от деревенских привычек отставай. Не на телеге ездишь. Погоди, как вкатят мне за опоздание, я на тебе высплюсь!.. — пообещал Иван Артемьевич. Поезд тяжело взбирался на подъем, ребята молча потели за работой. А Иван Артемьевич, прищурившись, отдыхал взором на расцвеченных осенью колках, за которыми сплошным ковром спускался с широкого угора навстречу паровозу молодой березовый лес. Впереди его широко рассекала выемка.
Подъем кончался.
Иван Артемьевич дал громкий и протяжный гудок.
«Хороший паровозник растет», — подумал про Костю.
5
Купавина приметно меняла суетное житье стройки на размеренный порядок рабочей станции. Железнодорожные пути здесь были уложены на двухметровой насыпи, как бы возвышаясь над поселком, и паровозы прибывали парадно, у всех на виду.
Хлам, накопившийся за годы строительства по откосам, частью растащили на топливо, а ни на что не годный по субботникам вывезли в дальний деповский тупик и выбросили в шлаковые отвалы. Привокзальная улица густо зарастала казенным жильем хоть и барачного типа, но добротным, сложенным из пиленого бруса.
Появился и клуб. Правда, тоже барак, но заметно подлиннее прочих, и пошире, и повыше. А когда его разукрасили разными лозунгами, сразу стало видно, что это место самое культурное. Возле вокзала отгородили площадку для станционного сада, по рулеткам набили колышков, а потом насадили акаций и кленов, наставили скамеек.
А главная жизнь Купавиной проходила на работе. В депо локомотивы прибывали постоянно, хоть и не часто, и не все новые. Но чтобы они вышли в рейсы, надо было подготовить и новые бригады. Бывало даже так, что на деповских путях стояло сразу пять-шесть готовых под составы паровозов, а бригад свободных нет. Для таких случаев в депо специально держали двух-трех человек, которые лазили с паровоза на паровоз, поддерживая режим в топках да пар в котлах.
На самой же главной магистрали, которая уже работала вовсю, на протяжении ста километров, кроме шести станций, действовали только два разъезда, а четыре так и не открылись, хотя на них тоже лежали пути, а новые жилые дома для движенцев и служебные помещения стояли заколоченными. И все из-за того, что для большого движения не хватало ни паровозов, ни вагонов. Вот и приходилось машинисту-наставнику Ивану Артемьевичу Кузнецову с товарищами не только поездки обеспечивать, но и подготавливать к работе на паровозах молодых парней, которых все больше появлялось на Купавиной из ближних и дальних деревень. И правила обучения устанавливали сами. Сплошь и рядом нового кочегара сразу садили на паровоз, а в промежутках между поездками натаскивали по технике на курсах, где с ними занимались тоже все свои. Даже экзамены потом устраивали настоящие.
И так было во всех службах: и у вагонников, и у путейцев, и у связистов, и у движенцев. А стрелочников приучали к должности за неделю.
Конечно, у паровозников дело помудренее. Костя Захаркин, например, так здорово паровоз узнал, что после первого года работы, когда их помощник Пашка Глухов не мог ехать в поездку из-за того, что вся рожа и глаза заплыли (разорил в лесу осиное гнездо), Иван Артемьевич взял Костю вместо него.
Но и то правда, что деповские почти все учились. У них по вечерам преподаватели из купавинской семилетки по классам занимались. Тем, которые хотели переходить из кочегаров в помощники машинистов, надо было обязательно ехать в Челябинск на специальные курсы. А туда без четырех классов и соваться не велено было.
Так что захотел стать человеком — учись.
Вообще депо и по всем другим линиям первым оказывалось. Никто и не видел, где они взяли духовые инструменты, и вдруг на Первый май явились целым оркестром, играли марши всякие, «По долинам и по взгорьям» и даже вальс «На сопках Маньчжурии». Когда перед березовой рощей отгородили стадион, поставили ворота и скамейки для зрителей, то сразу объявились две команды, и обе — «Локомотив»: первая и вторая.
Потому-то все, кто приходил на Купавину искать работу, сначала шли в депо. Не обязательно хотели попасть на паровоз, а из-за того, что там был и ремонтный цех со множеством больших и малых станков, и самая большая кузница, в которой ковали не только вручную, но и механическим молотом почти в десять пудов весом. Кто пограмотней был, тот там и находил себе дело.
Конечно, и про зарплату их тоже знали.
Если не попадали в депо, просились к вагонникам, потому что там на ремонте тоже зарабатывали неплохо. А кто уж вовсе ничего не умел делать, те устраивались в дистанцию пути: туда всех брали, кто за неделю «правила технической эксплуатации» мог запомнить хоть наполовину.
На Купавиной совсем весело стало. Каждый праздник, особенно на Первомай и День железнодорожника, стали устраивать маевки да гулянья. И тогда все купавинцы вместе с малыми ребятишками отправлялись в березовую рощу. На стадионе проводился матч, на большой поляне играл оркестр, везде стояли столы, на которых среди куч шанег и пирожков кипели самовары. Отдельно стоял самый большой стол, окруженный множеством бочек: там продавали пиво. Его тоже откуда-то доставал орс.
Целый день роща шумела людским весельем, переливами гармошек, а где и балалаечным звоном. Только к вечеру расходились, да и то ненасовсем. Побывав дома по недосужным делам, отправлялись в клуб, куда обязательно привозили кино. Все за один раз там не помещались, поэтому устраивали два сеанса. На первый ходили почти одни ребята да те, кто любил рано спать ложиться. А на второй — только самостоятельная публика.
Вот в тот год, после Октябрьских праздников, Костя Захаркин со справкой об окончании пяти классов и с направлением начальства и уехал из Купавиной на курсы помощников машинистов в Челябинск.
6
С красивой картинкой в душе и с веселым глазом был тот человек, который вбил первый колышек на месте, где решили поставить Купавину. Для железнодорожной станции с разумом и для людской жизни благодать. Как по уговору, сошлись тут все четыре стороны света и остановились на ровном и просторном, неприметно приподнятом над остальным миром поле.
С сибирской стороны к нему выбежали молодые разнопородные леса, за которыми — чем дальше, тем тучнее — высились строевые боры, уходящие по Исети в тобольскую сторону.
Со свердловского края неровно подступали леса постарше, табунясь не сплошь по берегам речек, убирая в зеленую оправу те места, где горный Урал, уйдя под край сибирской низины, вдруг выныривал из-под нее и показывал свои разноцветные скальные ребра, словно напоминая, что он еще тут, не кончился.
В северную, горнозаводскую, сторону уходили на многие версты запятнанные худопородными лесными колками обширные хлебные поля. Потом их все чаще перехватывали на низинах богатые сенокосы. Там, где-то уж совсем далеко, всему перегораживал дорогу хмурый, с непознанным характером тысячелетний урман.
От Заисетья, к югу, в татарскую сторону все было весело перепутано: и леса, словно куски изорванной кошмы; и поля, неширокие, но нескончаемые, с необъяснимой способностью, если пойти по их межам, приводить на то место, откуда пошел; и дороги, которые ниоткуда не начинались и никуда не приводили. И это — только первые двадцать, тридцать верст, а дальше ко всему прочему еще добавлялась такая мешанина из больших и малых озер, из которой ни по солнышку, ни по звездам к родной сторонушке не выбраться.
Обо всем этом купавинцам было хорошо известно, и они без нужды шибко далеко в стороны не совались, потому что избранное ими место и без утомительных уходов щедро предоставляло земные дары — и ягоды, и грибы, да и охоту для любителей. Первые купавинцы благодарно пользовались этим как извечным подспорьем новоселов в наших краях, стремясь и детям своим поселить в душу привычку отвечать природе на добро добром.
А молодое поколение купавинцев хоть и ходило с малых лет в твердой семейной упряжке, обретало свой норов. Школьник, скажем, становился человеком особым и важным, поскольку даже сам глава семьи часто получал доступ к газеткам через него. А газеты, как и живое радио, пользовались у купавинцев непреложным авторитетом. И если было сказано, что люди на воздушном шаре взлетели на пятнадцать верст вверх, значит, так, оно и есть, хоть и верилось не сразу. Или если сообщали, что Чемберлен политик лживый, значит, он и есть паскуда на самом деле.
Бывали у новых грамотеев и совсем уж самостоятельные поступки. В какой-то из тех годов купавинские ученики, вернувшись с общешкольного мероприятия, устроили дома иконное побоище, победив на первых порах старух, что для многих потом завершилось далеко не героическим концом.
Но разногласия всегда как-то улаживались. И надежды старших купавинцев на свое продолжение оставались светлыми.
И молодежь росла, взрослела, начинала жить. Она приспосабливала Купавину для себя, и сама приспосабливалась к ней. Каждый, кто подходил к паспортному сроку, знал, куда пойдет после семилетки. Девчонки подглядывали места для себя пусть не очень видные, но и вполне подходящие для женского звания. Разве плохо стать со временем диспетчером в движении или аппаратчицей в связи? Парням, конечно, выбор давался больший. Половина из них спала и во сне видела депо…
Но это — работа…
А куда девать любовь? Да еще на Купавиной, где все со всех сторон видно? Не успеешь ладом приглядеться к какой-нибудь, а тебя уж и женихом обзовут. А еще хуже девке: только ступи рядом с парнем и — невеста.
И опять выручала Купавина.
На самом краю станции, чуть отступив от уличного порядка домов, словно по заказу, обосновалась белоствольная березовая роща, а может, и тот человек с веселым взглядом не зря вбил первый колышек неподалеку от той рощи.
В годы строительства, когда спину только и можно было разогнуть дома, эту рощу вроде бы никто и не замечал. А вот подросла молодежь и без всякого подсказу облюбовала себе место, в котором и высказать свою душу легче, и от смутительного взгляда укрыться, особливо если охота с парнем с глазу на глаз побыть. И не одна купавинская девчонка запомнила на всю жизнь, как покачнул ее первый поцелуй и как надежно подставила ей свое плечо молчаливая подружка березка, разделив с нею главное счастье. Там, в зеленой легкой тишине под пахучим лиственным шатром, из нежной почки в здоровый росток пробивалась человечья любовь. Там на лунных полянках двое учились ходить рядом, чтобы потом уж никогда не сбиться с дружеского шагу в людской суете.
И незаметно для всех остальных купавинцев стала березовая роща местом их отдыха. Возле нее на просторной поляне они разместили свое место для праздников. Там же в летнюю пору встречали свои общие радости, оборудуя для веселья что можно.
Но сокровенным местом в любое время лета она так и осталась для молодых. Уже по весенним проталинам обозначались в березовой роще первые протоптанные дорожки, там объявлялся перед влюбленными первый подснежник, а когда совсем теплело, молодые парни убегали за рощу, на большое болото, где собирали вороха свежих купавок, а потом возвращались к подружкам в заветные места, чтобы там сплести золотые венки, которые делают девичью красоту еще ярче.
В те годы и заиграли на Купавиной первые свадьбы.
Первая свадьба — первый жених! А невеста!
Первая свадьба — первая семья. Как памятник новому житью.
Первая свадьба — первые сватья и новая родня. Да какая большая!
Первая свадьба — начало коренных купавинцев. Это ли не праздник?!
Но праздник на то и праздник, что он не на каждый день. Огляделись купавинцы и увидели, что за первой свадьбой не миновать в скором времени и новых. С ревнивым вниманием глядели матери на своих дочерей и на чужих, прикидывая наперед: выигрыш или проигрыш выпал им в руки? Да и парни, зыркая по сторонам, не один раз сглатывали слюну, прежде чем твердо остановить выбор на той, которой назначен первый серьезный разговор, после которого отворачивать нельзя.
Когда Надюшка закончила семь классов, родители и слова не успели сказать, как дочь объявила им, что хочет работать, а отца попросила только помочь устроиться. Выбор она сделала сама: решила выучиться на поездного диспетчера.
Иван Артемьевич отозвался на такое решение не очень внятно, что-то проворчал насчет того, что могла бы поучиться и дальше. А дочь объяснила все просто:
— Неохота уезжать из Купавиной. Хочу быть дома. Что, работы не найдется?
— Ясное дело, найдется, — ответил Иван Артемьевич и не мог бы сразу сказать, одобряет или нет решение дочери.
Что касается Анны Матвеевны, то она в душе радовалась. Дочь решила так, как на ее месте решила бы она сама. Анна Матвеевна, зная характер мужа, никогда бы не призналась в том, что образование не считает главным достоянием женщины. Сейчас, когда жизнь направилась, она желала только одного: получше устроить Надюшкину судьбу. И со скрытой придирчивостью всматривалась в дочь. Видела, что та вступает в пору девичьей зрелости. Надюшкино лицо очистилось до гладкой белизны, глаза повзрослели, торопливое любопытство сменилось в них спокойной внимательностью. Волос, который Надюшка не затягивала в тугую косу, а заплетала вольно, казался гуще, богаче. Да и сама Надюшка заметно изменилась, тело наливалось ровно, плечи притягательно округлялись, груди вызревали аккуратными, широко расставленными, стан весь преобразился, заставив и походку сделаться иной. Глядела на нее Анна Матвеевна и угадывала наперед, что в обличье дочери переменится потом, когда женщиной она станет. И казалось ей в такие минуты, что все вроде бы ладно у Надюшки, а потом душа вдруг вздрагивала от простой и тревожной мысли: и почему это она с ребятами не гуляет?
Спросить об этом саму Надюшку не то стеснялась, не то боялась. Да и как спросишь?
Сама Надюшка по вечерам из дома никуда не рвалась, а коли мать не просила какой-нибудь помощи, усаживалась за шитье, а еще охотнее за вышивку, в которой стала большой мастерицей. Летом любила ходить в лес, да не просто побродить там или подурачиться, а непременно с корзинкой. Таких и подружек себе подбирала. То с грибами явится домой, а то и полную корзину цветов принесет, а потом сидит на крылечке целый день и составляет букет. Поставит его в посудине посреди стола в чистой комнате, ходит вокруг него, поглядывает, улыбается ему.
В кино тоже одна не бывала. И вот когда отправлялась туда в девичьей компании, мать видела, что не похожа она на других девчонок. Глядит, бывало, Анна Матвеевна на другую и завидует: и курносая, и конопатенькая, и косичка рыженькая с тесемочной закинута куда-то наверх и вбок. А глазешки в белесых ресницах такие настырные, так палят по всем сторонам, спасу нет. Да и повертывается так, что думаешь, вот сейчас платьишко на ней так и треснет по швам. Идут по улице, трещат как сороки, никого не пропустят, чтобы словом не задеть. А Надюшка меж ними как сбоку припека: и слова лишнего от нее не услышишь, и не схохочет громко, разве только улыбнется. Да и глаз не подымет, будто оступиться боится.
«Нет, не кинется на такую парень», — только и подумает с тоской.
И надеялась, и вздыхала, и пугалась, и снова надеялась, хоть вера была и невелика. После очередного сватовства в Купавиной не сдержалась перед мужем:
— Гляжу на нашу Надюшку и ничего понять не могу, — осторожно заговорила, улучив минуту, когда оказались вдвоем.
— А что надо понимать? — осведомился Иван Артемьевич.
— Все Надюшкины подружки, как девки, с парнями ходят, а наша все одна да одна…
— Ну и что?
— Да ничего. Вроде бы ей никого и не надо, а ведь скоро и невестой станет…
Иван Артемьевич молчал. Видно было, что ждал, когда жена скажет все. Пришлось Анне Матвеевне договорить:
— В ее годы каждая задумывается уж про себя. Или никто из парней не глядит на нее, или что?
— Не боись, — непонятно отозвался Иван Артемьевич.
— А чего же еще бояться? — по-своему истолковала Анна Матвеевна его слова. — С меня-то какой спрос? У меня и приданое для нее кое-какое уж заготовлено. Я что? За мной дело не станет. А вот она…
— Что она? Нормальная девка, по-своему себя разумеет. С чего это ты лучше ее знаешь, когда ей с парнями дело иметь? Придет время — все само образуется без тебя. А парни что? Еще ни одна в девках, как и ты, не оставалась, если уж совсем не урод. Парни тоже не все красавцы писаные, каждый Сенька шапку по себе выбирает. И для нашей колпак найдется.
— Что-то не видно…
— А тебе бы все видеть! Выдумала заботу.
— Дочь ведь…
Иван Артемьевич только махнул рукой и ушел от жены. И только потом про себя подумал вдруг: «А ведь Анна-то, пожалуй, не зря беспокоится. Вроде бы и вправду пора уж Надюшке-то парней не сторожиться. Пора и привыкнуть…» И испугался про себя: «И я туда же: в бабьи заботы!»
7
А мужики все прибавляли и прибавляли себе работы. По часам давно уж дома надо быть, а они по своим конторам заседают, ровно за день не наломались. И все потому, что им до всего дело.
Появился Кривонос — первый машинист на всю страну: и газеты про него, и радио тоже. Ну и наши айда, тоже, мол, не хуже. А дядя Ваня Кузнецов даже заявил при всех, что такие Кривоносы, если постараться, вполне могут появиться и на Купавиной. Опять, значит, паровозники первые зашумели.
А за ними и все остальные. Путейцы заявили: пожалуйста! Давайте рекорды, а мы вам бесперебойное движение поездов в руки и предупреждений об ограничении скорости — самую малость. Вагонники тоже свое: вали, ребята, с предельной скоростью, ни одна букса не задымит!
Вот дела пошли!
Однако в один из весенних дней Купавина преображалась совсем на другой лад.
В какое-то светлое утро все враз замечали скворцов. Никто не мог уследить, когда они прилетали, а заставали их уже за работой. Наверное, после долгой дороги они уже успевали поспать часа два-три и трудились бодро и шустро: из скворечников во все стороны летел мусор, мастерились новые гнезда. Каждая семья старалась устроиться получше соседей и обговаривала по-своему каждую мелочь, потому что гвалт стоял почище базарного. Для купавинцев все это толковалось верным сигналом, что зима отступила насовсем, а весна стала твердо и теперь спать придется поменьше. Все они, купавинцы, в недавнем прошлом строители, а ныне железнодорожники, вдруг поворачивались душой к своему деревенскому нутру. И, как когда-то, враз ударял в голову сладким духом первый вздох просыпающейся земли. И глаз вострел, отмечая повлажневшие от испаринки стволы молодых акаций и кленов в палисадниках. А заглянув по пути в березовую рощу, чтобы послушать птичью разноголосицу, видели, как пупырышками назревающих почек выказывают свое пробуждение юные березы.
Теперь, уж и собрания не могли сдержать на работе подолгу. Спешили домой раскрывать ямы да подымать наверх картошку, разваливая ее в квартирах под кроватями, по углам, куда не часто тыкались, знали: прорастить вовремя — на сам получить осенью лишнее ведро. Шли за конюшни, куда всю зиму валили навоз, пробовали вилами, отошел ли от мерзлоты: тоже надо не пропустить, а успеть подмолодить гряды в огуречниках, чтобы загорели пораньше да согрели земляные лунки в аккурат под посадку. Хозяйки все дольше топтались возле рассады, уже занявшей в ящиках все свободное место в доме.
А после всего этого отряжали кого-нибудь поурядистей в НГЧ узнать про казенный трактор, чтобы не пропустить пахоту.
Огороды купавинцам отводили на полосе отчуждения: земля на сто метров по обе стороны железной дороги считалась их собственностью. Почти до самой войны они выращивали на ней не только картофель и овощи, но и сеяли овес и ячмень, даже пшеницу, имея в своем хозяйстве не только фураж для конского поголовья, но и свой хлеб.
И когда начиналась пора весенних посадок, по выходным дням, а если пристигала пора, то и по вечерам в будни, на огородные участки выходили все от мала до велика. И тогда поле оживало не только разноцветьем платьев, косынок и ребячьими стаями, но и звенело песнями, взрываясь вперемежку с ними таким смехом, от которого кое-кто и с ног валился прямо в борозду.
Молодели в ту пору купавинцы, с дитячьей откровенностью обнажая свою первородную привязанность и любовь к земле.
Иван Артемьевич с семьей тоже орудовал на поле, весело подгоняя своих помощниц, когда с межи вдруг почти заорал Костя Захаркин:
— Бог в помощь! Много вас, не надо ли нас?
— Эва! — удивился Иван Артемьевич. — Ты откуда взялся или выпал, добрый молодец?!
— Из Челябы только что. Подъезжаем к Купавиной, вижу, весь народ на поле. И вы — тоже. На ходу соскочил и сюда вместе с котомкой!
И он поднял над головой небольшой холстяной мешок, перехваченный на середине лямками.
— Не умаялся, видно, на учебе-то? — решил Иван Артемьевич.
— Умаялся не умаялся, а за лопату подержаться охота. А то вдруг да отвык? — скалил зубы Костя. — Одолел ведь я курсы-то, дядя Ваня. Теперь уж на паровоз насовсем. Надежда! Отдай лопату…
— Мне моя самой нужна, — ответила в тон ему Надя. — А приспичило, так под ногами поищи, там должна быть… и не одна, для обеих рук хватит.
Через минуту Костя подскочил к ним уже с лопатой. И опять к Наде:
— Все одно тебе придется свою бросить. Бери лучше ведро с картошкой: в два ряда пойдем, всех обгоним. А то Анну Матвеевну загнали в две-то лопаты.
— Правильно, Костя! — согласился Иван Артемьевич. — Только ты-то почему в батраки лезешь? Не кочегар ведь ты уж, а помощник машиниста.
— А что, помощник жрать не хочет? — Костя хитро сверкнул глазами. — К огородной дележке я опоздал, безземельным остался. Вот и подумал: дай-ка у дяди Вани пару мешков картошки заработаю…
— Ну, раз так, айда, погнали!
Дело двинулось заметно быстрее. Через час, увидев, что большая половина осталась за плечами, объявили перекур. Женщины расстелили скатерку. Иван Артемьевич до срока достал бутылку.
— Давай, Костя! С приездом. Рассказывай, чему научился.
— Всему понемногу. Теперь на машину побыстрее определяться надо. Главную отметку за учебу там получу. В тетрадки-то много всякой всячины понаписал, да только ведь там одни слова. Читать-то их легко, а вот как голова возле котла сработает, еще поглядеть придется. Вдруг забуксует?
— За это я не боюсь. Ты с машиной сговоришься, — уверенно ответил Иван Артемьевич.
— Поглядим, поглядим… — неопределенно ответил Костя.
— Тут, видишь, в чем дело, Костя… — Иван Артемьевич решил объяснить. — Каждый человек хорошо может делать только то, к чему он лучше подходит. Вот, к примеру, я. Когда первый раз на паровоз поднялся, сразу понял: тут и есть мое место. Конечно, не кочегаром, как начал, а машинистом. Так и постановил для себя на всю жизнь. Ведь машинистом стал еще вон когда — в мировую! И до сей поры машинист. Скажу наперед: машинистом и останусь до последу. А почему? Да очень просто: это и есть мое единственное место, где я в полную меру человек. В наши дни, конечно, вон как выдвиженцы прут. Тоже правильно. А почему не переть, раз прется… У меня же на это дело, понимаешь, не то чтобы ума не хватает, а просто охоты нет. Думаешь, мне начальником стать не предлагали? Предлагали! Да только я не дурак. Они, кто сулили мне должности разные, не знают сами, что, послушайся я их, они же в лужу бы сели. Машинист я, скажем, неплохой, а вот начальником был бы хреновым, это точно. И не потому, что не понимаю, как надо дело вести, а из-за того, что нутром чую — не мое это дело. Машину я знаю, кровью с ней породнился. Она говорить не умеет, так я по ее дыханию на слух определю, где в ней что неладно. А людей так не смогу: они ведь все разные. А руководитель, он должен как раз такой талант иметь. Иначе — грош ему цена. Одно дело управлять машиной, другое — людьми. Кто с пупа хоть один раз сорвал — тот больше не работник. А с пупа почему рвут? Не знаешь? Могу сказать: это когда ношу не по себе берут. Для того чтобы в этом деле не ошибиться, надо себя знать.
Иван Артемьевич раскурил потухшую трубку.
— Иной ведь как думает, — заговорил снова. — Вот я хороший работник, потому что не сам, а люди так говорят. Потому, значит, и назначают повыше. А и вправду, почему бы мне отказываться, если я еще красивше стану? И пошел!.. И на первом же новом перегоне растянулся. А почему так вышло? Да потому, что в жизни по каждому Сеньке своя шапка… а едреной матери — колпак. Для меня главное то, что я с чистой совестью могу сказать: за свое место я отвечаю и перед жизнью и перед людьми. Тут я никого не подведу. А если меня сдвинут с него, кто тогда за меня гарантию даст? Я сам за себя не дам. Что же тогда с меня требовать? И чего ждать от меня?.. Перекрасить в соловья и воробья можно. Только когда запеть потребуется, он все одно чирикнет. И только…
Иван Артемьевич улыбнулся.
— А теперь вернемся к тебе… Что из тебя когда-нибудь нарком получится, утверждать не стану, а что машинист выйдет — знаю. И вовсе не потому, что курсы эти в Челябинске прошел. В тебе я машиниста приметил в тот день, когда ты в будку поднялся. Тогда ты для меня начался, а сейчас глядеть начну, куда расти будешь…
— Ну, чего это ты, дядя Ваня, сразу за меня принялся? Дай хоть оглядеться немного!
— Ладно, ладно. Это чтобы не забыть потом, чего хотел тебе сразу после курсов сказать. И еще ты должен понять, что я тебя больше полугода не видел. Вот и захотелось посудачить. Старею, видно… Погляди вон на баб хотя бы. Всего-то полдня не увидят друг дружку, а сойдутся у колонки — час с коромыслом на плече простоят, пока язык не намозолят…
…Дома разговор пошел по-другому.
— Когда ты уезжал, Костя, — говорил Иван Артемьевич, — загадывал я после твоего возвращения взять тебя на свой паровоз. А потом решил, что не шибко ладно это будет. Пашка Глухов помощник у меня добрый. Возьму тебя — его обижу несправедливо. Поэтому придется идти тебе в ту бригаду, в которую назначат. Тут никаких слов против даже быть не должно. На транспорте ведь что главное? Дисциплина. Да и для тебя, пожалуй, лучше так будет: сразу без пастухов работу начнешь. Сам. А Пашка семилетку через год завершит, и тогда ему прямая дорога на курсы машинистов откроется. Вот тогда я уж постараюсь тебя не проворонить. — И, посмотрев на Костю, оговорился: — Если, конечно, за это время мои загадки на тебя маленько оправдаешь…
И по тому, как при этом Иван Артемьевич улыбнулся, можно было понять, что последние слова он сказал для порядка.
Костя Захаркин попал в бригаду Федора Нилина, старого машиниста, который изъезживал последний год до пенсии. Иван Артемьевич решил, что Косте повезло. Федор Нилин последнее время ездил осмотрительно не только потому, что годы уже сами по себе стали неершистыми, но и по неписаному правилу — накануне пенсии выскакивать из штанов не полагалось. А Косте нилинская осмотрительность могла пойти только на пользу, чтобы удила спервоначалу не закусил, не понес, как плохо объезженный молодой конь. Федор Нилин — знал Иван Артемьевич — при надобности осадит.
Костя поехал хорошо. Федор Нилин скоро сам сказал об этом, окончательно успокоив Ивана Артемьевича.
Сам же Иван Артемьевич на Костю немного обиделся: тот почти перестал заходить к нему, виделись только накоротке в депо. Костя вечно колупался или возле паровоза, или в ремонтном цехе, решив освоить слесарное дело и научиться работать на токарном, фрезерном и сверлильном станках. Знал Иван Артемьевич и то, что Косте дали место в новом общежитии паровозников, парень перестал таскаться по знакомым деревенским. Да и обличьем Костя тоже заметно переменился: в корпус пошел, стать зачал набирать по рангу профессии и даже прифрантился — шевиотовый костюм завел и хромовые сапоги в гармошку. А последний раз, видно, куда-то торопился, так при Иване Артемьевиче даже часы за цепочку из кармана вытянул, посмотрел на них, щелкнул крышкой и как-то неузнаваемо сказал:
— Ладно, дядя Ваня. Мне по делам пора.
И был таков.
А Иван Артемьевич погрустил в душе. Подумал уж который раз: старым становлюсь, шестой десяток доживаю, а все к молодым вяжусь. А они вон какие, лучше меня знают, что им делать…
Но Иван Артемьевич ошибался. Костя и в самом деле время зря не терял, а с осени решил продолжать учебу, чтобы года через три подготовиться на курсы машинистов.
Об этом он рассказал Ивану Артемьевичу осенью, когда вновь объявился на их картофельном поле, укараулив, когда они начали копать.
— За своими мешками пожаловал? — спросил его Иван Артемьевич, обрадовавшись.
— Ага! — так же весело отозвался Костя.
Но когда картошку свезли домой, за мешками не пришел. Не появился и зимой. Поэтому, встретив его в депо, Иван Артемьевич продолжил свою шутку:
— На семена, что ли, решил картошку-то оставить — не идешь?
— Точно! — захохотал Костя. — Весной два своих посажу, осенью двенадцать возьму и женюсь. Молодая хоть знать будет, что со мной с голоду не замрет.
— С дальним прицелом жить норовишь, — оценил Иван Артемьевич. — А ездится как?
— Слушать надо, что говорят про твоих выдвиженцев, дядя Ваня. Ты, как видно, и узнавать меня перестал?
— Как это так? — не понял Иван Артемьевич.
— А вот как пойдешь в контору, так перед дверями-то поверти головой, — посоветовал Костя.
— Загадки загадываешь?
— Ага. А ты отгадай! — весело задирал Костя.
— Тебе такую не загадать, которую я не отгадаю, — предупредил Иван Артемьевич. — Чем расплачиваться собрался?
— В буфете на станции в получку, — поставил на кон Костя.
И помахал на прощание.
…Перед входом в контору Иван Артемьевич приостановился. Головой вертеть не стал, а пробежал взглядом по объявлениям, по показателям бригад. И только потом увидел, что на доске ударников производства прибавился новый портрет. Прилизанный Костя Захаркин смотрел с него на людей остановившимися испуганными глазами, будто только что проглотил лягушку. А может, задыхался в галстуке с крупными горошинами, какого Иван Артемьевич сроду ни на ком не видывал.
Потоптавшись возле доски, Иван Артемьевич специально вернулся в депо, нашел Костю и спросил сразу:
— В какой это фотомастерской ты свою рожу в перетяжку отдавал?
Костя не сразу понял своего наставника и глупо выпялил глаза.
— За такую фотку с тебя полполучки взять мало. А галстук-то где такой выкопал?
Тут Костя понял, что к чему, и ответил только на вопрос:
— С ребятами на все общежитие один купили. Сейчас и на документы требуют с галстуком…
Иван Артемьевич тихонько свистнул и, покрутив указательным пальцем у виска, повернулся и пошел прочь. Костя так и остался стоять.
Всю дорогу до дома Иван Артемьевич улыбался, шагал, весело попыхивая трубкой, как будто помолодел. А дома с порога объявил жене:
— Костя-то мой в ударники шагнул, мать!
Анна Матвеевна замешкалась с ответом. А потом спросила непонятно:
— Сколь ему годов-то уж?
Иван Артемьевич не был готов к такому вопросу.
— Сейчас подсчитаем, — сказал, растопырив пальцы. — С какого же он году? С восемнадцатого… или с девятнадцатого?.. — И ответил: — Никак не меньше чем двадцать. А что? Для ударника — молодец! Прет тяга в люди!..
Анна Матвеевна ничего не сказала. Но Иван Матвеевич и не заметил этого: жена не умела разделять всех его радостей.
А мысли Анны Матвеевны неотступно обращались к дочери. Надежде девятнадцать уже. Работа глянется. Начальство сказывало, что осенью приедет какая-то комиссия и если все будет как положено, то переведут ее самостоятельным диспетчером движения. Зарплата для девки — желать лучшего нечего. Только бы о себе и подумать. Анна Матвеевна уж всяко подталкивала и дочь, и подружек ее, чтобы чаще в клуб ходили на разные вечера, где и музыка, и танцы, молодежь табунится. Ну и что? Сходит. А домой идет одна… А к Ивану как подойдешь? Он со своими рекордами замаялся, в комиссиях разных табаком пропитался — ничем не выколотить, в парткоме вечно кого-то прорабатывают. А то, что дочь на корню повянуть может, ему и в ум не падет…
А девка-то, девка-то! Никто без похвалы не обойдется, когда разговор про нее зайдет. Ну, не красавица, так ведь и лицо-то девке больше только для свадьбы, а дальше жизнь начинается, семья с заботами да работой домашней, дети пойдут… И какая же из девок годна для этого лучше, чем Надежда? И парни тоже дураки нонче. Все одно ведь укатаются с годами, так нет чтобы позаботиться о себе вовремя. Нет! Вздели глаза, и несет их куда-то…
Да еще хасанские бои поддернули всех. Парни после работы артелью — в станционный Осоавиахим. Возле стадиона за один выходной отгородили на манер загона полянку, в конце из старых шпал склали два заплота в человеческий рост и в ручной размах друг от дружки, засыпали середину землей. Сойдутся там, то лежат, то на коленках стоят, а то и во весь рост щелкают из малокалиберных винтовок по мишеням на том самом заплоте. А потом понадевают противогазы и как черти пучеглазые бегают по березовой роще. Ребятишки маленькие от них без оглядки в стороны разбегаются, а старухи крестятся.
Девки тоже занятие выдумали, отстать боятся. Когда парни набегаются, те к ним с сумками, на которых красные кресты. То лежачих на себе по земле таскают, то перевязывают их, то искусственное дыхание делают, чуть не верхом на мужиков садятся.
А домой с песнями — «Если завтра война», про «ударный батальон» и «все выше и выше»…
До самой близкой границы не меньше двух тысяч верст, а купавинские мужики окопы строят, оборону занимают!..
Наворожат еще, не дай бог!
В конце тридцать девятого Иван Артемьевич и Костя провожали на курсы машинистов Пашку Глухова. Пашка пришел к Кузнецовым на проводы один, хотя все на станции знали, что он уже второй год ходит с Лизкой Силкиной, бухгалтером из НГЧ. Пашке уж тридцать прошло, а Лизке двадцать два, но она успела один раз замужем побывать, но не сошлась характером и очень на Пашку надеялась. А он за два года про женитьбу ни слова, хоть при встречах и рта не закрывал. А что ей за интерес в его разговорах, если в них одни паровозы, летом — рыбалка, зимой — петли на зайцев, еще какая-то штанга, которую он рвет каждую субботу, если не в поездке, да еще тараканы у тетки в доме, из-за которых он даже после гулянки не остается там ночевать, а прется в общежитие, где портянки сушить негде.
А тут узнала, что его на курсы провожают, и сразу вопрос на ребро: сколько на саночках кататься собираешься?
— Ишь в какое время подкараулила! Давай, мол, на бумаге все запишем, и можешь поезжать. А то вроде отпускать боязно: вдруг там кто уведет, — рассказывал Пашка мужикам доверительно. — А я сроду расписок на гарантию не давал и не собираюсь… В армию уходил, тоже одна такая была, с печатью требовала. А из армии пришел — она мне навстречу, глаза книзу, потому что одного за ручку ведет, а на другого уж облокачивается. Терпежу не хватило… А ведь тогда, перед армией, я уж согласился с ней, да только не успел. Нет уж! Лучше сейчас характером разойтись, чем потом, когда на скамеечках возле стола колокольчики зазвенят. Там уж хана! Не вывернешься. А если попробуешь, то эти колокольчики у Завьялова в кабинете такими колоколами брякнут, что в ушах все предохранительные клапана полетят… Так что, дядя Ваня, отец дорогой, и ты, Костя, давайте-ка за мою свободную дорожку до Челябинска! Что касается меня, то слово наше тверже огнеупора: марку купавинского депо ниже красной отметки не спущу.
О Пашкиных разногласиях с Лизкой Силкиной, кроме него, никто слова не сказал, так как Пашка сам внес в этот вопрос полную ясность. Мужики весело загалдели про курсы, про новые серии паровозов, с которыми там теперь знакомили, хотя в депо они и не поступали.
С последующими рюмками разговор принимал все более задушевный характер. И Пашка сам наконец провозгласил:
— А теперя, Костя, за твое место на левом крыле у дяди Вани! Дядя Ваня! — обнял он своего машиниста. — Если меня уважаешь, бери только Костю!..
— Без сопливых обойдусь, — коротко ответил Иван Артемьевич.
…Зима прошла для Ивана Артемьевича и Кости весело. Старый машинист только в эти месяцы по-настоящему рассмотрел своего воспитанника. Он знал, что каждый человек от учебы берет разное и по-разному. Для кого-то она маломальский ликбез, для другого ступенька, шажок вверх, лишь бы подняться над кем-то, и в зарплате — тоже.
Что же до Кости, она дала ему еще и уверенность в деле. Руки его заметно поумнели, избавившись от суеты. Костя на глазах матерел, обретал породистую стать. И в его неутомимости Иван Артемьевич угадывал радость в работе, при которой душа неслышно поет.
Костя не вертел головой, как раньше, но видел все. В первой же поездке Иван Артемьевич, любивший иногда перекинуться парой слов на ходу, даже повода не нашел для разговора: Костя сразу так уперся в путь, как будто отгородился от всего напрочь. Но это только показалось. Едва Иван Артемьевич остановил свой взгляд на водомере, где красная отметка осталась на сухом месте, как услышал левый инжектор. Не ускользнуло от него и то, что Костя знает профиль до каждого пикета. Уклоны по всему плечу постоянно сменялись разными подъемами, усложняя смену тепловых режимов, но Костя, казалось, и не глядел на манометр, стрелка которого будто прилипла на контрольной отметке. Заправляя топку, Костя не обронил в будке ни одного уголька, но каждый раз, бросив лопату в бункер, проходился по полу метелкой.
«Пожалуйте, Иван Артемьевич, — с чувством непонятной потери думал о себе машинист, — осталось тебе только посвистывать вовремя…»
На остановках Костя незаметно исчезал из будки. Иван Артемьевич откидывался на спинку, неторопливо раскуривал трубку и отправлялся взглядом куда-нибудь в сторону от разъезда или станции, принуждая себя не выглядывать в окошко: он знал, что Костя сейчас обходит паровоз, через минуту-две появится у него за плечом и спросит мимоходом что-нибудь вроде такого:
— Дядя Ваня, а по какой такой причине у козы хвост всегда кверху?
И Иван Артемьевич будет вынужден вполне серьезно ответить так:
— По той же самой, из-за чего открыто и твое окошко в будке.
— Понятно, — удовлетворится Костя. — Значит, ей жарко…
На перегонах перед Купавиной Костя несколько раз выходил из будки на ходу. И опять Иван Артемьевич ничего не спрашивал. А когда сошли с поворотного треугольника, заправились и стали под смену в Купавиной, Иван Артемьевич, спустившись к сменщикам, только мельком обернулся к паровозу. Тот блестел, как начищенный сапог.
После отъезда Пашки Глухова Костя стал бывать в доме Ивана Артемьевича почаще, хотя никогда не засиживался долго. Осенью опять пришел помогать убрать картошку. Но на этот раз Иван Артемьевич вдруг забеспокоился:
— Понимаешь, Костя, неловко получается. Ты ведь сейчас мой помощник. Я-то понимаю, что ты по простоте душевной, а что люди скажут?
— Люди ничего не скажут. Дураки разве только.
— А дураков нет, по-твоему?
— Ну, и хоть бы? Что теперь? Всем по-дурацки жить?
И все осталось по-прежнему.
…Под Новый год Костя пришел к Кузнецовым принаряженным, а главное — при галстуке. Правда, галстук на этот раз был однотонный, только в одном месте перехвачен наискось двумя блестящими полосками. От Кости на версту несло цветочным одеколоном.
— Опять фотографироваться собрался? — спросил Иван Артемьевич, ухмыльнувшись.
— Нет, — ответил Костя. — К вам пришел.
— Уж не за картошкой ли своей в таком наряде? — осведомился Иван Артемьевич.
— Нет. Надежду сватать пришел…
На кухне чем-то поперхнулась и закашлялась Анна Матвеевна.
8
На новое беспокойство в своем доме Иван Артемьевич старался не глядеть. Заметил только, что его супружница не то повеселела, не то тронулась маленько.
Может быть, потому и спросил в поездке Костю:
— Слышь, Костя, а как это ты сподобился свататься-то?
— Раз посватался, значит — надо, — по-крестьянски деловито ответил Костя.
— Как это «надо»?
— А потому что.
— Чего?!
Костя молчал.
Иван Артемьевич поелозил на своем сиденье, потом почему-то махнул рукой и тоже замолк на полсуток.
Когда вернулись в Купавину, сдали паровоз и шли домой, расставаясь, все-таки решил спросить Костю шутливо:
— Ты скажи мне, варнак, ты хоть раз Надьку-то поцеловал? А то получается, что я вовсе ничего и не заметил.
— Дядя Ваня, — потеплел Костя, — ты что, маленький? Почему это ты постановил, что все как есть замечаешь? Может, и проглядел разок.
— Ишо так со мной заговоришь, с паровоза спишу к… этой матери!
И повернул круто с Привокзальной улицы в свой проулок.
«Ну, и молодежь пошла!» — подумал в сердцах.
Дома бухнул «шарманкой» об пол, засопел с сапогами. Анна Матвеевна, немного помолчав, насмелилась:
— Отец, хотела с тобой посоветоваться.
— Чего?! — взглянул на нее Иван Артемьевич.
— Хотела… — сникла жена.
— Ну и хоти, — разрешил Иван Артемьевич и впервые при их жизни, не выслушав жену, шагнул не на кухню, а сразу в комнату.
Как всякая деревенская женщина, Анна Матвеевна была пуглива и в то же время деликатна. Если это объяснить по-другому, то можно сказать, что она могла испугаться при случае, но показать это — почти никогда.
Решившись посоветоваться с мужем, она никак не предполагала, что он так с маху отгородится от нее. Ведь новые Надюшкины заботы касались и его.
И разве она, Анна Матвеевна, виновата в том, что у нее душа изболелась? Ладно… Посватался Костя. Оказалось, сговорились еще до того, как он на курсы уехал. Надежда сама сказала об этом, когда уж все ясно стало.
Мать спросила:
— А почему я не знала?
Дочь ответила:
— Он ведь не с тобой договаривался.
Мать остановилась с допросом, чтобы уразуметь дочерин ответ.
— А я мать все же… — попробовала она восстановить свой авторитет. — Ты должна со мной советоваться.
— А я бы и посоветовалась, если бы в чем-то сомневалась.
— Как это так?
— Мама, ну чего ты от меня добиваешься? У нас с Костей все ясно. О чем же советоваться?
Очень обидно было Анне Матвеевне слышать такие слова. Она-то знала, кто такой Костя, и даже уважала его: разве человек без благодарности в душе может так относиться к своему покровителю, каким она числила для Кости Ивана Артемьевича? Только точила неловкая дума, почему это случился не другой жених? И родни никакой нет. Что, ослепли, что ли, все другие-то? Пусть не картинка Надежда, так ведь не избалована, работящая и скромная, а главное — и для начала хорошей жизни все есть: пусть-ка кто-нибудь хоть с каким запросом придерется к приданому Надежды, которое не только руками да бережливостью, а самой душой готовила Анна Матвеевна…
А берет все Костя.
Как будто не только в люди вывел его Иван, а еще и взял на иждивенье. Не все так поглядят, конечно, никто вслух ничего не скажет, а все-таки… Подумала сперва обидно: Костя тоже не красавец, которым бы похвастаться, да осеклась про себя, замолчала, вспомнив про дочь.
А Костя за неделю до свадьбы, приуроченной, по общему согласию, к старому Новому году, забежал к ним перед поездкой, почти столкнувшись на пороге с Иваном Артемьевичем, и протянул Анне Матвеевне руку через его плечо:
— Мамаша! — обратился второпях. — На-ка, возьми на расходы, а то мне некогда. — И уточнил: — Тут — тысяча.
И мужчины хлопнули дверью.
Свадьба была лихой: гуляла ТЯГА!
Веселились по-купавински: щедро, широко и с уважением к себе.
За столом царствовал Иван Артемьевич в дорогом ненадеванном фабричном костюме, крахмальной лощено-белой сорочке с пристяжным воротничком и при вишневом в искру галстуке. То ли из-за тугого воротничка, то ли от выпитого, а может, из-за парной в бане, где тесть с зятем сражались днем на вениках с открытия до обеда, прокаленная, копченая и обветренная кожа на лице Ивана Артемьевича будто маленько потончала и облагородилась помолодевшим румянцем. Сидел он вольно, не суетился, хотя и держал под постоянным прицелом стол, заботясь, чтобы гости не оказались в простое. Оттого-то стул по левую руку от него почти все время пустовал, так как Анна Матвеевна хлопотала и только изредка, да и то на минутку, притормаживала возле него. Иван Артемьевич поддерживал каждую здравицу, при этом сам не пил, а только пригублял рюмку. И все его существо выражало больше не праздничную веселость, а только удовлетворение. Но частые глотки-наперстки оказывали свое действие, что не удержало Анну Матвеевну раз-другой незаметно подтолкнуть мужа под локоть. Тогда Иван Артемьевич благодушно улыбался ей:
— Чего ты, мать, экономишь меня, как будто у нас впереди свадеб без счета? Вот она — единственная! Глони-ка лучше сама. А то я вижу, что сухое дерево и впрямь скрипит… — И опять к гостям: — Держи, ребята!
И если бы не положенный свадебный ранжир жениха и невесты, сидевших по правую руку хозяина дома, по которому их мог угадать и чужой человек, то Ивана Артемьевича самого можно было бы принять за жениха.
Но так казалось только со стороны. Иван Артемьевич вовсе не хотел заслонять молодых. Собственная же его радость до того переполняла его, что он впервые не мог обуздать себя, ему хотелось что-то делать, а что — он толком не знал. Не ради него шел праздник, а вопреки его воле получалось так, что властвовал на нем он.
Понятно, что на свадьбе числом верх брала паровозная братия, большей частью молодая, да к тому же во множестве холостая. После первых положенных рюмок невестиных подружек пустили в плясовой расход, и Надеждино крыло за столом заметно опустело. Зато напротив, переезжая со стула на стул поближе к хозяину, заметно уплотнился кряжистый фронт Ивана Артемьевича, перед которым он, не торопя слова, излагал свою программу впрок. Бригадные отцы прислушивались к наставнику не зря: у многих из них потомство тоже поднималось к зрелой поре, и некоторые из них уже в скором времени видели себя на его месте. А жить врасплох никто из них не любил.
Вдруг Иван Артемьевич свернул на давнее:
— Я вот сегодня, мужики, как-то несерьезно весь день живу… — Иван Артемьевич умел говорить с той сердечностью, которая роднит людей сразу. — Почему, спросите? Я вот и хочу попытаться ответить… В жизни мне почти все видеть довелось. Хотя смолоду, можно сказать, только и ползал по разным дорогам с бронепоездом. Так получилось, что и винтовку-то в руки брал всего несколько раз, ни в кого в упор не выстрелил. Все за реверсом: туда да сюда, сбоку броня, сверху закрыто, почти что в безопасности… Сначала за Петроград стали, с Деникиным немного встречались, потом двинули на Колчака. Все одно — война. К Омску рвались, помню, когда под Ялуторовском на ихнюю артиллерию напоролись. Тряхнуло нас здорово, но почуял, что с рельсов не сшибли. Я за реверс, попятился сам раньше приказа. Глянул на манометр, глаза чадом ест, а все-таки вижу: стрелка за отметкой, поглядел на водомер — риска на сухом месте… Схватился за инжектор, он хрюкнул, а не закачивает. В чем, думаю, дело? Гадать некогда, кричу помощнику, а тот сполз с сиденья, лег поперек будки, не шевелится.
— Кровь!.. — кричит кочегар.
Стоит перед помощником на коленях, голову поднял, а у того кровь изо рта струйкой… Я инжектор рву вверх-вниз, пусто. Левая сторона парит, ничего понять не могу. Соскочил со своего места, бросился туда, а там все измято. А в мозгу — манометр, водомер, инжектор…
— Топку держи! — кричу кочегару, а сам с ключом к инжектору. Снял головку, сквозь рукавицы жжет, но все же раздернул. Но неисправности не найду. Вижу главное — клапан в порядке. А грязи полно, забито, как ватой. Давай скрести, чистить… Слышу опять кочегара:
— Кровь у Васьки, что делать?!
— Глянь в топку! — приказываю.
А в топке все горбом. Я Ваську в сторону, ватник ему под голову. Кочегару кочергу-скребок в руки, а сам опять за инжектор. А кочегар снова орет:
— Иван! Воды совсем нет!
— Вижу, — говорю, а сам на приборы нарочно не гляжу.
— Взорвемся же! — кричит.
— Не взорвемся, — говорю. — Смотри, дурак, за пробками! Вот если они расплавятся, тогда — хана! Потеряем ход — расстреляют в упор!
Наконец кое-как инжектор собрал. Попробовал. Сначала сам струхнул: пошел не сразу, но все-таки с грехом закачал И тут опять грохнуло… Только регулятор успел толкнуть. Дальше ничего не помню. Когда в глазах немного просветлело, вижу, кочегар на моей стороне хозяйничает… И бронепоезд идет.
Иван Артемьевич хохотнул. Подлил в рюмки, но пить не стал, а заговорил дальше:
— В госпитале отвалялся. Когда совсем в себя пришел, Колчака-то уж шлепнули. Броневик мой, конечно, укатил с фронтом. Спрашиваю: куда мне? Никто ничего не знает, потому как мы за штабом армии числились. Догоняй сам, советуют, если знаешь где… А штаб-то наш под Читой, как выяснилось. Я — в военный комиссариат. Там только услышали, что я машинист, с ходу — в камышловское депо, а командованию, говорят, сами сообщим… Недели через три в депо комиссар сам приехал, собрали всех — вроде бы как на митинг — и мне Боевое Знамя вручили. За тот самый бой, когда я, контуженный, под Ялуторовском броневик из западни вытянул.
Иван Артемьевич призвал друзей к рюмкам, а потом коротко досказал остальное:
— Потом, только жениться успел, меня в Алапаевск, оттуда — в Нязепетровск. Там Надежда родилась, а я ремонтом командовал да бригады готовил. И за это орден дали — Трудовой. А потом — к вам, на новое депо… — Иван Артемьевич удивленно развел руками: — Верите? Оглянуться не успел, а уж к пенсионной черте подкатил. По пути и жизнь направилась. Оказывается, не только возле котлов топтались, но и семью извернулись устроить, нужду через плечо бросили, а сегодня дочь, как полагается, выдаю! Продолжаться будет Иван Кузнецов!..
Гости, отплясав до устали, волнами приливали к столу, и только тогда было заметно жениха и невесту, которые встречали их угощением, словно на свадьбе они были не главными людьми, а только для того, чтобы заботиться о других. К тому же они только двое и оставались трезвыми, хотя и остальная братия лишку перехватить остерегалась, так как за столом неколебимо высился глава дома, строгий наставник и бдительный блюститель порядка и нравов паровозной артели.
К полуночи свадьба пошла неровно. Кто-то уже успел отдохнуть незаметно и призывал к новому веселью. Мужики, ублажив себя воспоминаниями и не забыв попутно обговорить текущий момент, вспомнили о женах и, присоединившись к ним, снисходительно терпели их разговоры про молодых, которым начинать жить да добра наживать, а ребятишкам и вовсе хорошо будет: учиться да играть.
Расходились по утренней знобкой сини. Кто постарше — торопливо, не зная, как ребятишки дома ночевали, кто помоложе — все еще с неистраченной веселостью: то с песней в обнимку, а то и артелью — с визгом и хохотом — в сугроб.
…Иван Артемьевич сидел в комнате один. Анна Матвеевна с кем-то из соседок гоношилась с посудой; молодые, которых и на свадьбе-то было незаметно, скрылись у себя.
Разошлись гости, следом за ними враз отступили и канительные свадебные заботы, которые казались куда мудреней, чем вышло на поверку. Если не считать, что женитьба — случай в жизни исключительный, думал про себя Иван Артемьевич, то свадьба сама по себе ничем особым и не отличается от любой домашней гулянки, будь то именины, престольный праздник или красный день в численнике. Разве что угощение маленько поширше, народу побольше да питье похмельнее. А результат? Те же штаны, только пуговкой назад…
Весь вечер поглядывал на свою Анну Матвеевну, замечая, как помолодела она, вроде бы и хлопотала с охотой, без усталости, как не похожа была на себя настойчивой щедростью во всем, будто откупалась от кого-то за свой неосторожный промах в жизни или задабривала за незаслуженную людскую милость. Казалось ему, что за ее радостью прячется какая-то боязнь. И не мог понять, отчего это у нее.
А Иван Артемьевич радовался тому, что свое дело, которое он давно перестал равнять в душе с куском хлеба для себя и семьи, а мыслил как исток силы и богатства всей державы, передавал сегодня в руки молодому рабочему-машинисту, которому суждено повести по железной дороге новые локомотивы. И он будет прямым наследником его — машиниста Ивана Кузнецова, через смертные бои и голод, разруху и людскую темноту прорвавшегося на своем старом паровозе к сегодняшней станции Купавиной, с которой молодые начинают новый маршрут.
Иван Артемьевич высчитал, что пройдет еще год с небольшим, и он получит право уйти на пенсию. Но и сейчас, подумав об этом до срока, он перед прошлой работой не числил за собой долгов, а учеников оставил даже больше других. А это — не пустяк. Не помнил и призывов, на которые бы не откликнулся, не знал дела, перед которым бы оробел.
Но как ни старался разглядеть тот день, когда последний раз спустится из паровозной будки и бросит прощальный взгляд на деповские ворота, он каждый раз скрывался в каком-то неясном тумане, вызывая у Ивана Артемьевича беспокойство, от которого он спешил избавиться и не мог. Из-за этого портилось настроение. Иван Артемьевич становился придирчивым и ворчливым, мог даже нагрубить, после чего сам же маялся сознанием собственной несправедливости, тяжело страдал от этого и вдруг с неподдельным испугом начинал всматриваться в себя: неужто на самом деле постарел?..
И старался сбросить с себя всю эту муть.
После свадьбы Надежды и Кости Ивану Артемьевичу пришлось по душе то, что его бригаду стали звать семейной. И если Костя относился к этому со смешком, Иван Артемьевич сразу мрачнел и подолгу перемалчивал свое неудовольствие. Но такое случалось редко. Бригада Кузнецова по всем статьям крепко держалась впереди других на Красной доске. А их паровоз так легко преодолевал подъем перед станцией, что влетал на нее без дымка над трубой, словно хвастался живой силой состава, катил франтовато, свежо посвечивая глянцевой чернотой высокого торса, каждой мелочью своей оснастки. Даже тормозил по-особому: плавно и вежливо, без обычной пулеметной перестрелки буферных тарелок, которой заканчивали остановку почти все уставшие от рейсов машинисты. Недаром купавинцы, понимавшие толк в движении, вплоть до баб и ребятишек, завидев знакомый паровоз на входных стрелках, почитали за обязанность объявить как можно громче:
— Кузнецовы прибывают!
А когда при таком известии случался поблизости кто-нибудь из ершистых помощников машинистов, то он непременно добавлял:
— Лихо катит дядя Ваня на Костином пару!
На Купавиной каждый умел гордиться своим делом.
А тесть и зять делили лавры так же легко, как и тяжелую работу. Свое родство не отделяли от паровозного братства. Семейный устав не загубил в них святых привычек и обычаев локомотивной вольницы.
Только Анна Матвеевна перестала появляться в дни получек возле депо, не говоря уж о станционном буфете.
Молодая Надежда Захаркина завела в доме новое правило — встречать мужчин в дни получек праздничным обедом. И стол непременно венчала запотевшая на льду бутылка: то ли как приветствие, то ли как укор дурной привычке. Раскрывать ее было правом и желанием работников, которым распоряжаться вольны были они сами.
И пользовались они этим не всегда в те годы мужики, ей-богу, умели уставать.
Надежда Захаркина затяжелела сразу.
Иван Артемьевич замечал, как от недели к неделе меняется его дочь. Лицо ее, прежде славное чистотой кожи, посерело, покрывшись неровной желтизной, через которую на скулах проступили еще и темные пятна. Надюшка похудела, и стало особенно заметно, как широко поставлены ее ноги, как жилисты голени и узловаты колени. А скоро живот так явственно округлился, что подол всех платьев спереди неприлично тянуло вверх. Спала в теле и Анна Матвеевна, что Иван Артемьевич приметил сначала не без скрытой улыбки. А потом его начало злить другое. Анна Матвеевна временами с каким-то страхом оглядывалась на Костю, который единственный из всех не замечал изъянов в своей жене и буквально немел от робости перед пронизывающими взглядами тещи, когда неожиданно для себя натыкался на них.
Иван Артемьевич догадывался о темных страхах своей жены и, когда они с Костей между поездками отдыхали дома, либо находил предлог отослать куда-нибудь подальше с глаз свою благоверную, либо выдумывал совместное занятие с Костей вдали от дома, что сделать было труднее, так как сам Костя норовил оставаться поближе к Надежде.
Иван Артемьевич предпринял даже весьма решительную попытку повоспитывать жену, когда они укладывались спать. Он попросил ее пореже пялить глаза на Костю без причины, заверив, что зять у нее вполне нормальный и что от ее взглядов можно только перепутать рычаги на паровозе, отчего может пострадать, между прочим, безопасность движения поездов.
Анна Матвеевна не нашлась чем возразить мужу, но так безнадежно вздохнула, что все дальнейшие доводы Ивана Артемьевича, которые ему еще хотелось прибавить к высказанным, лишь выразительно прозвучали в его собственном сознании, но он не решился объявить их вслух.
Вместо этого он вздохнул сам и отвернулся.
Но всему приходит свой черед.
После Ноябрьских праздников Надежда Захаркина благополучно разрешилась сыном четырех килограммов весом, чего, по мнению приятелей Кости и дяди Вани, было вполне достаточно, чтобы нового Захаркина сразу же занести на Красную доску.
Молодого Захаркина на общем семейном совете постановили назвать Иваном. Коли уходила из рода фамилия, решено было оставить имя деда.
Маленький Иван шумел редко, но громко, что привлекало к нему всеобщее внимание. И когда старшие в доме сочли нужным отметить его появление небольшим праздником и объявили об этом его матери, получив сразу ее согласие, то не могли не заметить и того, что Надежда явственно похорошела и, как прежде, тепло и щедро одаривала всех добрым взглядом и еще более приветливой улыбкой.
Крестины были немноголюдны, но, пожалуй, более знаменательны, чем свадьба.
Как раз накануне появления внука к празднику Седьмого ноября, Иван Артемьевич Кузнецов получил за безаварийную работу и воспитание молодых кадров третий орден — «Знак Почета». Костя Захаркин, как член передовой бригады, удостоился медали «За трудовое отличие».
Маленького Ивана сразу определили в паровозники, а старших поздравили с заслуженными наградами.
Только Пашка Глухов, вернувшийся с курсов из Челябинска машинистом, серьезно размышляя над всеми новостями на протяжении трех рюмок, на четвертой решительно высказал свое предположение, будто Косте Захаркину медаль «За трудовое отличие» дали вовсе не за достижение в труде, а за производство сына Ивана, которого вполне можно подвести под разряд «тяжеловесников», что имеет прямое отношение к кривоносовскому движению на железнодорожном транспорте.
Таким образом, по общему разуменью, Пашка Глухов доказал всем, что на курсах он не только повысил свою квалификацию, но и научился глядеть «на жисть глубше и ширше».
Появление нового человека в семье больше других, пожалуй, озаботило деда — Ивана Артемьевича. И хотя Иваненок находился еще в той поре, когда беспрепятственным допуском к нему пользовались только мать и бабушка, в жизнь Ивана Артемьевича он входил через мысли и планы, которые связывались с недалеким будущим, когда внук станет на ноги. Иван Артемьевич, боясь обнаружить это перед другими, поймал себя на том, что маленький Захаркин занимает в его размышлениях места несравненно больше, чем в свое время дочь. Иван Артемьевич твердо знал, с чего начнет знакомство внука с миром, в котором ему предстоит жить и работать, знал, к чему будет его приучать и что заставлять делать на первых порах и потом. Он постепенно менял свой взгляд на приближающийся срок выхода на пенсию. Она уже не страшила вынужденным бездельем, а вместе с не осуществленными пока намерениями по работе в депо, от которых Иван Артемьевич не собирался отказываться, пополнялась важными планами, касающимися Иваненка.
Иван Артемьевич вдруг заметил в себе и незнакомое ему раньше отношение к домашнему хозяйству. Он стал сокрушительно вмешиваться в денежные дела Анны Матвеевны, пугая ее неожиданными тратами не столько потому, что возражать против них, как и всегда, было с ее стороны бесполезно, а больше из-за того, что не считал нужным даже объяснять, зачем ему нужны деньги. В доме появилось непонятно откуда множество невиданных игрушек, подходящих и не подходящих внуку, с которыми, однако, сам дед играл с удовольствием. Иван Артемьевич умудрялся через каких-то своих, раньше никому из домашних не известных знакомых доставать Иваненку одежонку на всякое время года. А когда оказывалось, что она не впору, весело и довольно утверждал:
— Это на вырост.
Но чем ближе подходил срок пенсии, тем беспокойней чувствовал себя Иван Артемьевич. Он снова стал подолгу задерживаться в депо. Здесь знали, что в ближайшие год-два серьезно расширится паровозный парк, так как уже в наступившем году начнет действовать еще одно железнодорожное направление протяженностью больше ста семидесяти километров, которое напрямик свяжет Купавину с Челябинском. Купавина превратится в транспортный узел. На новом направлении укладывались тяжелые рельсы, и купавинскому депо надо было принять и освоить локомотивы самой последней серии — «ФД» — мощные, с незнакомой технической оснасткой. После Нового года, поговаривали, пришлют подробные инструкции по подготовке паровозных бригад на будущие машины из числа опытных и грамотных тяговиков. Ивану Артемьевичу и его близким товарищам опять предстояло взять на себя незнакомое дело. Ему никто не приказывал, его попросили. А сам он понимал, что это надо для депо.
И не думал отказываться.
Так и дождался пенсии. Отдыха не наступило, видел, что с этим придется подождать. Правда, отпали поездки, не надо стало являться в депо к назначенному часу, зато самого заставили определить время для учебы. Вот и получилось, что вроде бы сам себе хозяин, а к обязанностям привязан крепко-накрепко.
А потом пришлось признаться себе, что без обязанности-то, оказывается, сам боится остаться. Пригляделся попристальнее к людям и понял, что не он один такой, что в тех, кто окружает его, живет то же беспокойство.
Беспокойная жизнь и порождает ту людскую артельность, которая делает ее крепкой и надежной.
Может, именно оттого купавинцы, жившие на незаметной станции, которая на серьезных картах вовсе и не отмечена, не считали себя забытым народом, а норовили поставить себя рядом с теми громкими именами, которые печатались в газетах и передавались по радио. И для них те люди вовсе не казались далекими в своей недосягаемости. Потому-то и не свалить было станционных именитыми фамилиями. И если кто-то все-таки удивлялся: «Вот Кривонос — это да!» — то тут же и получал в ответ: — «А дядю Ваню Кузнецова знаешь?»
И было в этой широкой купавинской замашке такое стремление к хорошему и светлому, что ни у кого и сомнения не возникало, будто есть дело, которое им невозможно одолеть. Еще десять лет назад они мыкали судьбу каждый в одиночку, а время дало им новую работу, которая сначала изводила их кровавыми мозолями, а потом вдруг одарила таким трудовым братством и неугомонностью, без которых они уже не могли жить.
А с этим пришли радость и счастье, еще в полной мере не сознаваемые.
Не потому ли с их делами, которые они сами именовали просто работой, часто даже дивясь неслыханно высокой оценке их труда, хотя в буднях купавинцев легко и привычно уживалась с важными делами и всякая придурь, нередко вызывая в домашнем житье куда больше жарких споров, пересудов, а иной раз и черных ссор, чем какой-нибудь рекорд.
Да и как по-другому рассудишь, если двое слесарей из ремонтного — Сашка Вологжанин и Федька Каменщиков — вместе с паровозной бригадой сутки не выходили из депо, пока не отремонтировали паровоз, при всех получили благодарность и премию по двадцать пять рублей, после чего заглянули в станционный буфет и чуть не в обнимку отправились домой. А там почти сразу же разругались и разодрались бы, да люди разняли. А из-за чего?.. Из-за того, что Сашкин охотничий щенок оторвался с привязи и задушил Федькину курицу!
Путейский конюх Степан Лямин был любителем всяких собраний. Он никогда не пропускал в клубе ни одной лекции, обязательно всем пересказывал, про что там говорилось, и всегда хвалил лекторов. После лекции о предрассудках явился домой мрачным и решительно выплеснул Анисьину святую воду, которую она берегла пуще глаза в шкафчике вместе с чистой посудой. Напоследок пригрозил, что голову оторвет, если хоть раз застанет за ворожбой или заговорами.
Навел порядок и заторопился до вечера съездить в лес за черенками. Выехал за ворота, но скоро вернулся с матерками обратно, проклиная кошку, которую угораздило перебежать ему дорогу…
Однако с мелкими невзгодами и житейскими неурядицами купавинцы умели справляться на дому, стараясь по мере сил не показывать их всем людям.
Каждый новый день начинался для них общей работой, которая напоминала о себе суетой маневровых паровозов, разноголосым шумом мастерских, пронзительными свистками составителей поездов, бодрым стуком топоров строителей, которые время от времени перекрывал строгий гудок паровоза, уводившего со станции очередной маршрут. Паровозы по-разному набирали скорость, и старый машинист Иван Артемьевич Кузнецов любил смотреть на их рабочую походку, в которой пробивались по-своему характеры каждого из его учеников.
— Красиво идут!
И то, что не мог придраться к ним со стороны, как-то по-особому радовало его.
9
Никто в Купавиной не знал, как начинается война.
Старики еще помнили про мировую. Многие, к слову, вспоминали гражданскую. Но по их разговорам выходило, что те войны вроде бы и не начинались, а сразу были, а уж как кончались, совсем невозможно было понять. Те, про которые и ребята постарше могли говорить, тоже совсем не пугали. Про Хасан даже толком не успели узнать. Только потом в песне объяснили, что там сразу навел порядок броневой ударный батальон. Во время финской сообщали про штурм линии Маннергейма, на которой сплошные доты, и еще про лыжников. Тоже ничего особенного. Потом ребята, когда зимой в войну играли, всегда строили эти доты из снега.
И уж если говорить по совести, о войне хоть и говорили на лекциях и показывали в кино, все равно, чтобы здорово ее боялись, было незаметно. К тому же каждый твердо знал, что если завтра война, то наш бронепоезд даст гудок, и дальше уж пусть за войну отвечают те, кто ее начнет.
А настоящая-то война началась в воскресенье, когда ее никто не ждал.
И день-то какой выдался! Солнышко выкатило в такое ясное небо, что еще далеко до полудня его голубизна будто полиняла, а потом и вовсе растаяла, открыв миру безбрежный покой. Погода стояла уже неделю, никому и в ум не приходили думы о ненастье, а самые отчаянные надеялись даже, что и сенокос нынче можно поторопить на неделю. И ничего удивительного в этом не было.
Вспоминали весну, спустившую снег ровно и неприметно, оставившую под посевы спелую землю. Дружно подымались травы, а леса раным-рано выплеснули обильную волну маслеников.
И пошло лето!
И в то воскресенье никто не мог усидеть дома. Купавинцы подымались в такие дни раньше, чем в рабочие. Шли в лес и на луга, чтобы успеть хватить и утреннего короткого холодка, и ноги умыть в росе. Да и в спелом разнотравье в эту пору цветы стоят крепче, готовые отдать первому скопленную за ночь духовитость.
Многие уж возвращались домой, веселые и беззаботные, а станция встретила их ознобным криком:
— Война!..
Купавинцы последние годы привыкли к митингам и торжественным собраниям. На них собирались как на праздники, принаряженные и веселые, при соблюдении серьезности и достоинства. В памяти они оставались надолго, потому что на них славили самых работящих мужиков, вручали медали. А работящий мужик на Купавиной и без медалей все одно был завсегда первым и уважаемым человеком!
И новую школу открывали на митинге. Даже первый автомобиль, который появился на Купавиной, увешали венками из купавок тоже на митинге!
А тут война…
Митинги всегда проходили на маленькой станционной площади, так как там было высокое место — широкое вокзальное крыльцо, похожее на трибуну. И в тот день народ кинулся туда же. Людей набралось много, но больше женщины и ребятня. Так казалось сначала. Мужики толклись у самого крыльца, на котором стоял секретарь парткома Александр Павлович Завьялов, тихонько переговариваясь с другими членами парткома.
Он и открыл митинг. И начал совсем не торжественно, непривычно хриплым голосом, часто откашливался. Но потом речь его окрепла, и слова стали падать на людей тяжело и страшно.
Из его-то слов наконец вдруг все и поняли, что война, так по-воровскому начатая, идет уже с самого утра по всей границе. Что уже бомбят города, про которые раньше только слышали или читали и которые вдруг показались совсем близкими. Что главные наши военные силы выступили навстречу врагу, а нам всем надо готовиться к трудностям.
Про главные силы и трудности, надо сказать, купавинцы знали немного. Но отнеслись к этому с полной серьезностью, потому что Александр Павлович Завьялов всегда знал немного наперед, чем все. И в этом никто не сомневался.
Потом выступил Иван Артемьевич Кузнецов. Он отказался от своей пенсии и сказал, что надо записываться в добровольцы без всякого приказа, и велел писать себя на первый же бронепоезд. За ним крикнули свои фамилии еще несколько мужиков.
Но тут враз заревели бабы, и митинг немного смешался.
А на крыльце стало тесно, потому что мужики не хотели опоздать записаться в добровольцы. Те, кто уже записался, спускались с крыльца и прогоняли своих по домам.
Женщины уходили растерянные. А ребятня отступала неохотно и в сторонке, размахивая руками, уже обсуждала, как там развернутся боевые действия. Спорили о сроках разгрома врага: через пять дней или через десять?..
Иван Артемьевич вернулся в депо.
Его встретила молчавшая толпа рабочих, которых он уже приметил на митинге.
— Артемьич! Там все смешалось, а ты ведь тоже в парткоме. Скажи, кому положено, пусть соберут собрание, — попросил кто-то.
Иван Артемьевич зашел к начальнику депо.
— Ребята поговорить хотят, — передал ему.
— Давай всех в красный уголок, — ответил тот, не удивившись. — Только что я скажу?..
О войне говорить было нечего. Она началась. Паровозники спрашивали, как дальше работать, какие будут изменения. Им, да и другим, казалось, что все теперь будет иначе, но как — никто не знал.
Начальнику самому было известно немногим больше, чем им. Говорил он кратко:
— Только без паники! Все остается как есть. Главное — дисциплина. Знаю только, что железнодорожный транспорт переводится на военное положение: не зря, видно, товарищи, мы после армии вторые люди были при форме… Да и останемся, наверное, до победы. Конечно, перевозки возрастут, поплотнее придется ездить, отдыху убавится…
— А как с добровольцами?
— На этот счет никаких указаний нет. Мы звонили в военкомат. Там сказали, что им не до нас. — Он улыбнулся невесело: — Еще добавили, что сначала мы должны первых добровольцев к фронту вовремя доставить — это наше главное дело. А потом уж и с нами разберутся.
— Пока разберутся, война кончится! — громко вставил кто-то из молодых.
— Ничего не знаю! — отгородился начальник. — Думаю, что уже завтра, товарищи, поступят указания. Будем держать всех в курсе.
— Эта война не короткой пахнет, ребята, — сказал в раздумье Иван Артемьевич. — Конечно, идти надо сейчас, первый отпор много значит.
— А ты-то куда, дядя Ваня? Тебе сам бог велит тут оборону держать.
— Ты про меня молчи! — сразу рассердился Иван Артемьевич. — Я с войной с глазу на глаз знакомый. А битый двух небитых стоит. Так что я не хуже молодого сработаю.
…Не расходились по домам и рабочие других служб. Сидели в конторах до самого вечера, прерывая разговоры только при сообщениях радио, которые становились все тревожнее.
Только к вечеру затихла Купавина. Умолкла сразу, без уличных пересудов, соседских перекуров на скамейках и разговоров у колонок. Даже маневровые паровозы на станции пыхтели сдержанно, ползали, казалось, без свистков, словно застигли их какие-то свои неведомые думы…
И наступила такая красивая ночь! По небу рассыпались небывало крупные звезды.
Но ими никто не любовался.
Война объявилась уже на другой день плакатами о всеобщей мобилизации. Их расклеили у всех контор, у магазина, на станции.
А по селекторам повалили приказы по всем службам. Движенцам — пересмотреть графики движения поездов. Вагонникам — обеспечить абсолютную исправность подвижного состава. Путейцам — исправный путь и до предела сократить предупреждения об ограничении скорости поездов. Паровозникам — незамедлительно подавать под составы локомотивы.
Прошло еще два дня, и всем добровольцам пришел общий ответ: оставаться на своих местах. От призыва пока освобождались даже призывные возраста… Те, кто был связан с обеспечением движения поездов, официально объявлялись на военном положении. Дисциплина тоже вводилась военная. Кто сбежит на фронт самовольно, пообещали не только разыскать и вернуть, но и судить по законам военного времени.
Мужики психовали, а дома почем зря крыли своих жен, которые не скрывали радости, что начальство уберегает их от верной погибели.
Через десять дней всем выдали заборные книжки, хлеб и продукты стали продавать по нормам, и тогда поняли, что война не на неделю, а кто его знает насколько. Бабы сразу перешли на скупой порядок, а мужики уперлись в работу.
И фронт не радовал…
Радио передавало про упорное сопротивление, про большие потери противника, а в сводках мелькали названия оставленных городов. Через Купавину повалили поезда беженцев, испуганных, голодных, полураздетых и больных. Их эшелоны стояли подолгу, пока люди получали продукты в станционном буфете, доступ в который купавинцам закрыли. Часто хоронили покойников, без которых обходился редкий эшелон.
Навстречу поездам беженцев, особенно первое время, с курьерской скоростью и пятиминутными остановками, в которые только и хватало времени передернуть под составами паровозы, катили строгие воинские эшелоны. На контрольном пути, с которого шли под маршруты паровозы, в любое время суток дремали готовые к рейсам машины.
А потом беженцев стали обгонять еще и санитарные поезда с оклеенными крест-накрест окнами.
Иной раз можно было подумать, что на Купавиной только станция и живет, а все остальные спрятались по домам, кроме мальчишек, которые весь день толклись на перроне, подсчитывая наши силы, стремившиеся на запад. По их самым скромным подсчетам выходило, что к Ноябрьским праздникам с немцами все равно будет закончено.
Как-то в августе ночью на станцию прибыл эшелон, который не отправили дальше, а затолкнули в старый, заброшенный тупик. А через день с него сошли тракторы, экскаваторы и враз переворотили огороды за станцией, на которых была посажена картошка. По старой рабочей ветке поползли составы с песком, и к шести старым станционным путям военные железнодорожники за две недели добавили еще четыре, а потом пятый и шестой. Под ними и похоронили почти спелую картошку. И получилось, что выгадали те, кто раньше недовольствовал, получив участки под огороды далеко от дома, уже за семафором. Там все осталось нетронутым.
Но и те огородники радовались недолго. В конце августа вдруг задождило. Ненастье хотели переждать, а получилось хуже — ударили заморозки. И тогда бросились на поля, выдирая картошку из полумерзлой земли. Вот тебе и весна хорошая, и лето ласковое!
За погоду тоже проклинали войну.
У Ивана Артемьевича на курсах дела пошли тоже хуже. Раньше на них артелями шли парни из ближних деревень. Война в первые же дни прибрала их в армию. Приходилось хитрить, нарушать инструкции, брать в учебу с шестнадцати лет.
Накануне Ноябрьского праздника в депо пригнали сразу двенадцать паровозов, все — с запада. Десять из них пришли потушенными. Два других вели каждый по пять машин. Обе бригады прошли почти трехтысячный путь без смены, отдыхая урывками на стоянках. Прибывшим дали двое суток отдыха и впрягли в работу по купавинским бригадам: приехавшим машинистам надо было освоить непривычный для них профиль пути.
Первая военная зима выдалась необычайно снежной. Снегоочистители не уходили с перегонов, на станционные пути вышли женщины и школьники. Снегу было так много, что его приходилось грузить на платформы и вывозить на перегон до первой насыпи. А это задерживало воинские и грузовые маршруты, требовало дополнительных паровозов. Все чаще поезда шли с двойной тягой, а в самые трудные недели машинисты впервые повели составы с оборота, то есть без отдыха на конечной станции. Иван Артемьевич и Костя появлялись дома через сутки, падали в кровати, а через шесть часов вызывальщица уже стучала в окно:
— В поездку!..
И все перетерпели бы легче, меньше изматывала бы усталость, будь известия с фронта повеселее. А то уж и Москва оборонялась, и Ленинград стоял в блокаде, и Донбасс чуть не весь под немцем. На Купавиной народу прибавилось, дважды разгружали беженцев, почти каждая семья на станции потеснилась, приютив у себя приезжих.
И все-таки дождались!
Погнали немцев под Москвой. Собрались наконец с силой и дали первого пинка, который сразу сшиб немца с ног.
Посветлело на душе. И картошка без хлеба уж не драла горло, и несладкий чай на смородиннике грел в плохо натопленных квартирах: урезали норму угля для отопления. Беженцы, которым приходилось терпеть нужду больше других, плакали от радости.
А машинисты, прибывая на станцию, торчали из будок чуть не по пояс, скаля зубы в улыбках, а то и помахивая фуражками, — им-то виднее всех было, как изменился груз составов: не в пример первым месяцам войны, на платформах все чаще укрывались под брезентом пушки, а то и танки, которые и везти-то было куда веселее.
Как раз в это время на самой станции наступила кутерьма. По последней вьюге пошли один за одним эшелоны с машинами и станками: в Купавину переезжал откуда-то из России большой завод на постоянное место жительства.
Почему же он переезжал, если мы наступаем?
Вскоре все стало понятно. Хоть и изрядно отбежал немец от Москвы, да стал останавливаться. А может, сами попридержались, потому как попер фашист на юге, опять укоротить его надо.
Сразу и настроение переменилось. Потянуло заглянуть в сусеки, а там уж пусто. Пришлось подтягивать ремни…
Оглянулись весной, когда поняли, что зиму проскочили, и подумали: наверное, мирный разбег помог перемаяться первую военную напасть. А может, и опасность подстегнула силы да вера в солдат, которых без перерыва везли туда, где насмерть стоял фронт.
Явившись как-то из поездки домой среди бела дня, Иван Артемьевич с Костей увидели, как от крыльца к ним навстречу бежит Иваненок. Иван Артемьевич, шедший впереди, поставил на землю свою «шарманку», протянул внуку руки и, чувствуя, как сдавливает горло, проговорил:
— Ай да Иваненок! Уж и бегать научился!
И еще подумал, что не помнит, поиграл ли за эту зиму с внуком хоть один раз.
А ведь какие планы строил еще год назад!..
Второе военное лето тянулось в томительном ожидании военных перемен и в злой работе, в которой не виделось просвета. Дурела погода, сбивая с толку привыкших к приметам старух. Поманила ведром, заставила по последнему сроку выскочить на сенокос и тут же накрыла валки промозглым сеянцем, съела их травяной дух, испакостила чернотой. А лиха беда не приходит одна: гнилое лето убавило урожай. Картошка уродилась мелкая. В голбцы с осени старались заглядывать пореже.
Людской нрав просто так со счету не спишешь. Наш мужик хоть и мается собой, а думает о большом.
Купавинцы все принимали правильно. Осенью допустили их к призыву в армию, вспомнив первый список добровольцев. Уходило немного — десятка три, — но кто? Козырные мужики уходили, уходили спокойно, в отличку от остающихся, которые считали себя обойденными.
Почти жизнь прошла с той войны и с того лета, а никто из купавинцев не забыл, как стоял в обнимку с дочерью Ленкой Макар Заяров, при прощании так улыбнулся, будто над Купавиной взлетело из довоенной поры майское гулянье в березовой роще. И увидели вдруг все, какая широкая у Макара Заярова грудь. Сейчас на ней была всего одна награда: значок «Почетный железнодорожник». Смотрели на его грудь и верили, что выдержит она после рабочей и фронтовую тяжесть, и места для орденов на ней хватит.
Даже хулиганскую молодую жизнь помощников машинистов Попа с Петром воспринимали при их добровольческом отправлении как самовольную подготовку к подвигам на войне. Потому как мыслили, что на такого нахального врага нельзя идти иначе как с разорванной рубахой и лихостью, с какой кидались когда-то в кулачные драки.
Сами Поп с Петром этого, наверное, не понимали, потому что пока их хвалили со станционного крыльца и напутствовали, они, заразы, поллитровку опростали. И может, тот осенний день был единственным святым часом в том году, когда купавинцы душой поняли и свою прямую причастность к этой проклятой войне, от которой невозможно было уйти без победы, и что теперь, может, что-то изменится, коли они послали на нее свою живую подмогу…
И сразу опять кинулись в свою круглосуточную работу.
Деды купавинцев и прадеды их держали когда-то тяжелую сибирскую ямщину, знавшую диковинных господ-бунтовщиков, сочинителей из дворян и всяких других непростых, которые ехали на каторгу, а платили червонцами, обгоняя при том кандальников, которые хоть и пели красивые песни, да умирали почти на каждой версте.
А купавинцы, извозчики уже железные, жгли себя не старыми снежными вьюгами, а горячим огнем паровозных топок, не замечая спаленных бровей, запекшихся губ и усталости, которая, прислонив к переборке будки, усыпляла на минуты с открытыми глазами, пока дежурный, бросив проволочный круг с жезлом на звонкий пол, не будил их хрипло:
— Поехали!..
Так и въехали в ту вторую военную зиму.
А она обернулась урезанными хлебными карточками, уплотненным графиком движения поездов, сыпным тифом и голодом. Но и это было бы легче перетерпеть, да оттуда, с фронта, сообщали, что насмерть стал Сталинград и отдать его нельзя. Туда катили все поезда, все эшелоны с солдатами, тысяча за тысячью молодых ребят, которые на пятиминутных остановках еще успевали улыбнуться купавинским девчонкам.
Господи! До чего же она бессердечная, эта война: обездоливает походя, бьет навзничь с улыбкой, калечит, не оборачиваясь.
Усталость деревенила душу: даже крепкие мужики спускали курки, теряли терпенье.
На Грязнушкинском разъезде перед Купавиной еще с середины лета открыли жезловку, выполов полынь на втором пути, да прибавили еще третий. Сделали это, чтобы оградить Купавину от пробок.
Там-то в октябре и застрял с воинским эшелоном дядя Ваня. Промаялся пару часов у реверса и двинулся к дежурному узнать, что за чертовщина творится.
Никита Елагин, дежурный — одногодок с Иваном Артемьевичем, только лысый, — сидел у селектора со слезящимися глазами.
— Нету у меня пути, — устало говорил в трубку. — Главный занять не могу, для пропуска он. Купавина разгрузиться должна…
У Никиты было жалобное лицо. Трубка казнила его на расстоянии, он молча разводил руками, шевелил губами и, поперхнувшись, безвольно махнул рукой.
В это время в дежурной появился молодой майор с новенькими погонами, перепоясанный по всей форме ремнями.
— Начальник эшелона, — небрежно бросив руку к козырьку фуражки, отрекомендовался он. — Где дежурный?
— Я. — Никита отхлебнул кипятка из железной кружки.
— Ты?! — Майор стал каменеть. — Ты что же это, тыловая гнида, держишь меня уже третий час?!
Не получив сразу ответа, выпрямился нервно, словно хотел подрасти еще на вершок. Приказал:
— Отправляй немедленно!
— Куда? — спросил Никита простодушно.
— Туда! — гаркнул майор, вытянув руку.
— Не могу.
— Что?! А если я тебе помогу?.. — и он выразительно положил руку на кобуру пистолета.
У Ивана Артемьевича что-то лопнуло в груди. Он стал между майором и дежурным и почти прошептал:
— Перестань егозиться.
— Что?! — взвился майор. — Кто такой? — обернулся он в поисках союзников.
Смазчик, дремавший в углу возле печи, сжавшись, только плотнее сомкнул глаза.
— Машинист я, — сам ответил Иван Артемьевич. — Твой эшелон веду.
— Стоишь, а не ведешь, — поправил его майор.
— И буду стоять, пока он не разрешит отправиться, — кивнул на дежурного. — Тут он командир.
— А если я сейчас его хлопну… чтобы ты понял?
И майор расстегнул кобуру.
— Убери дуру! — взревел вдруг дядя Ваня. — А то я!..
Он посмотрел с брезгливостью на пистолет, а потом перевел взгляд на бледного майора:
— Ох, дурень. Как же ты воевать собираешься? — И, не ожидая ответа, повернулся к двери. От порога спросил устало: — Никита, что там?
— Пробка, — отозвался Никита. — Разгружают сразу два эшелона: санитарный и с оборудованием. Через полчаса поедешь.
— У меня, понимаешь, тендер пустой, — сказал Иван Артемьевич.
— Ладно… — отвернулся Никита к селектору.
— Полчаса?! Еще полчаса?! — заорал майор снова.
— Полчаса, — уточнил Иван Артемьевич. — А ты пукалку свою положь на место, а то обронишь невзначай до срока. Не на лошади едешь… Наша дорога железная.
И вышел.
Через полчаса эшелон отправился.
В следующую поездку Иван Артемьевич поехал во френче, при всех орденах. Сослуживцы удивились, так как при орденах видели Ивана Артемьевича только по большим праздникам. Спросить не решились. Сам он молчал.
А дорога натужно гудела составами. Звоном в окнах отдавались выхлопы паровозов, втягивающих на станцию потяжелевшие поезда.
Под Новый год пал молчком без памяти у топки помощник машиниста Гришка Хромов. В Купавиной отпоили его молоком, сказали, голодный обморок. К Новому же году бабы стащили на базар все, что можно. Потом начали резать скот.
Голодная зима косила людей. В березовой роще росло безродное кладбище. Там лежали все, кого в дороге настигали и роняли болезни, голод или несчастный случай: и женщины, и дети, и солдаты, и вовсе неизвестные. К весне им и счет потеряли.
Да и фронт без отдыха валил похоронками, обходя редкий дом, плодил сирот, отымая у баб надежу на счастье в остальной жизни.
Но расправил плечи Сталинград последним взмахом охватил и смертельно сжал в своих объятьях добравшуюся до Волги фашистскую орду. Сошла с лица людей серая тень напряжения, отпустила душу задубелая тоска по облегчению. Не с легкой радостью, а с жесткой ухмылкой глядели они на обложку «Крокодила», на которой, скривив рожу, обмотанную платком, похожий на ведьму, пускал слезу Гитлер по утерянному колечку из двадцати двух дивизий.
— Дождался собака!
— Отольются тебе наши слезы! Пущай теперь Германия ревет…
Ранняя весна давила остатки страшной зимы, обдавая свежим ветром обожженные лица машинистов, рано выбросила зелень, обещая скорое избавление от голода, который старались не замечать, но к которому и привыкнуть не дано. Щедрее стали на разговоры купавинцы, хоть военное житье и переладило их по-новому.
Подходил после поездки паровоз на место смены бригад, и привычный короткий разговор был уже другим:
— Как съездилось? Как машина?
— У нас порядок, — белели зубами в ответ прибывшие. — А как у вас?
— Наступаем! — довольно отвечали принимающие и взлетали в будки, как сытые.
Даже печальная березовая роща на краю станции начинала быстро зеленеть, будто торопилась скрыть от живого глаза скорбный людской приют, который весна все еще пополняла с непонятным упорством.
Земля просыпалась, обещая жизнь. Работа и неминуемые утраты обретали новый смысл.
С наступлением тепла враз прибавилось забот на дороге. Оттаивало железнодорожное полотно, и путь начинал качаться, вела его в стороны капризная погода, а за всем надо было углядеть.
Еще зимой началась подготовка к смене легких рельсов на тяжелые на всем паровозном плече. Поезда заметно потяжелели, шли впритык друг за другом. Легкие рельсы, положенные при строительстве, плохо терпели новую загрузку. Да и тяжелым паровозам, которые уже вовсю шуровали на челябинском направлении, путь на главную магистраль был заказан напрочь. Машинисты, как могли, увеличивали вес поездов, нередко до опасного риска нарушая тормозные режимы составов, лезли на подъемы… Но и знали: выше пупа не прыгнуть. Надо надежный путь.
А как за лето силами путейских бригад сбросить старые рельсы, поставить на их место новые да еще не останавливать движения? В другое время можно было бы нагнать народу побольше. А сейчас видели на перегонах, что зима ополовинила путейских мужиков военным призывом, и теперь на путях орудовали ключами, ломами да тяжелыми молотками бабы, вытягивая из себя последние жилы.
Иван Артемьевич, видя их, каждый раз мысленно обращался к своей семье. Повезло Надежде. Хоть и не спала последнее время, да все-таки в тепле. И мать с внуком дома. Три работника, три зарплаты на пятерых, голода почти и не хлебнули по сравнению с другими. «А этим как?» — думал он не только о путейских женщинах, но и о стрелочницах, о смазчицах и подсобницах в ремонтном цехе депо. Наворочаются, если война скоро не кончится, и рожать разучатся, угробятся окончательно…
А потом думы поворачивали к себе, к работе.
Не попал, как надеялся, на фронт: хотелось еще посидеть у реверса бронепоезда. А может, правильно, что оставили здесь? Ведь не орел уж… И тут работа пошла такая, которой и не знал раньше. Что бронепоезд? Рейды, бои, а потом отдых. Пойдут бои вдали от дороги и — пожалуйста, загорай… Сейчас окончательно почувствовал себя на своем месте. Дождаться бы, дотянуть только до победного времени. А то уж и поясница скрипит, иной раз сразу и с места не встанешь. А надо дотянуть…
И все-таки работать стало веселее, хоть и дел прибавилось. Немец пятился по всему фронту, и казалось Ивану Артемьевичу, что его военные эшелоны, которые он приводил на Купавину и передавал дальше, вливаясь в войска, все дальше отбрасывали и отбрасывали захватчика к Западу.
Войска уходили на запад, каждодневно растягивая тыловые пути на сотни километров, затрудняя снабжение фронта, принуждая железнодорожников держать движение на крайнем пределе.
Не всякий мог выдержать такое. Усталость валила людей с ног, притупляла сознание.
В один из ненастных дней осенью молодая стрелочница, замордованная бесконечными подготовками маршрутов на отправление и прием, приняла поезд на занятый путь. Встречая поезд, увидела свою ошибку только тогда, когда паровоз уже пересчитал входные стрелки. Все поняла мгновенно и тут же бросилась под состав… Беды удалось миновать, а жизнь человека пропала. Купавинцы всегда осуждали людей, которые накладывали на себя руки. Но этот случай угрюмо перемолчали. Никто не осудил тогда девчонку за ее поступок, потому что иначе пошла бы она в тюрьму, и надолго: законы военного времени не прощали оплошности.
Той же осенью, когда уж обезлюдели поля, а березняки притушили пожар первого увяданья и побурели, теряя листву окончательно, вел Иван Артемьевич многолюдный воинский эшелон. Вглядывался на стоянках в солдат и видел, что трудновато стало с народом: солдат пошел разнокалиберный, от розовенького, как олябушка, до задрябшего лицом, с обвислым усом. Не до выправки, видно, стало. Требовала война черной работы, к которой подходят все. И много требовала.
Часть ехала, видно, не первостатейная, потому как маршрут следовал по обычному графику, не то что некоторые с пометкой чуть ли не в аллюр три креста. Стоянки выдавались не короткие, и начальник эшелона — непоседливый молодой капитан — то и дело исчезал у дежурных и тотчас появлялся на перроне, нервно меряя его шагами.
И вдруг образовался безостановочный прогон через две станции, даже время нагнали. И опять застряли надолго.
Ивану Артемьевичу захотелось размяться, пошел к дежурному.
— Из-за чего приколол? — спросил для порядка.
— Путейцы перегон закрыли, — ответил дежурный, зевая. — Рельсы меняют.
— Надолго?
— Минут через пятнадцать выпущу.
— Далеко они?
— Нет. Километров семь.
— Поговори с соседом. Может, пока я еду, откроются ремонтники, проскочу побыстрее…
Дежурный закрутил ручку аппарата.
После трехминутного разговора, из которого ничего нельзя было понять, дежурный подошел к аппарату и выбросил Ивану Артемьевичу жезл.
— Получай, Иван Артемьевич. Только гляди получше.
— Я не ты, днем не зеваю, — улыбнулся Иван Артемьевич и довольно засосал трубку.
— Со вчерашнего дня не спал, — снова зевнул дежурный. — Ну, чего стоишь? Иди… И я с тобой до колокола, а то солдаты разбрелись, не собрать командой-то.
Иван Артемьевич пошагал к паровозу под колокольный звон.
Состав взялся легко и скоро вытянулся за семафор. Иван Артемьевич глянул на часы и откинулся на спинку, раскуривая трубку.
— Чего это мы плетемся, как опоенные? — поинтересовался Костя.
— Тише едем — дальше будем.
— Вроде бы не твоя эта поговорка, — заметил Костя. — Пристал, что ли, дядя Ваня?
— Так уж и пристал… Я до победы приставать не имею права. Чего это?! — вдруг бросился он в окно.
— Петарда!
Не успел Иван Артемьевич сообразить, в чем дело, как и на его стороне сухо пальнуло.
— Эх, леший! Заболтались…
Иван Артемьевич повернул ручку тормозного крана, одновременно подтянув регулятор, дал три коротких свистка. Состав дрогнул, переходя на торможение. Иван Артемьевич, вывалившись по пояс из окна, посасывал трубку. Состав медленно подполз к красному щиту, воткнутому посреди колеи, и остановился.
Часто запышкал воздушный насос. Иван Артемьевич не торопясь спустился на бровку, прошел вперед, стал перед паровозом.
Навстречу ему бежал путейский бригадир Ялунин.
— Чего хулиганишь, дядя Ваня? — крикнул еще издали.
— А ты что армию держишь? — спросил добродушно Иван Артемьевич.
— Я предупреждение давал. И оградился. Ты что, не слышал, как петарды раздавил?
— Ладно… — отмахнулся Иван Артемьевич. — Долго держать будешь?
— Погляди сам. Не укладываюсь во время, минут десять-пятнадцать придется постоять. Рельсы чертовы — длиннее наших, при каждой стыковке резать приходится.
Иван Артемьевич видел впереди оборванную нитку пути. Метрах в пятидесяти бабы и мужики зашивали путь, а в месте стыка двое мужиков лихорадочно качали рычаг пилы, отгрызающей от рельса метровый кусок.
— Еще сверлить под накладки надо, — сказал Ялунин.
В это время из-за паровоза выскочил запыхавшийся капитан. Он стриганул взглядом вперед и, бледнея, повернулся к железнодорожникам.
— Кто разобрал путь?!
— Ну я, — ответил Ялунин.
— Ты понимаешь, что ты наделал? — голос капитана креп.
— Работаю.
Из-за паровоза показались еще трое: два офицера и солдат с автоматом. Первым шел подтянутый майор.
— В чем дело, Коптелов? — спросил капитана.
— А вот, — показал тот в сторону путейцев. — Путь разобрали, крысы тыловые.
— Отставить ругань! Как разобрали?.. — не понял майор.
— Ехать нельзя, — уточнил капитан.
— Ты что это, капитан, хреновину порешь? — вдруг стал перед ним Иван Артемьевич. — Иди, Ялунин, к своим, я тут объясню.
— Нет, позвольте, товарищ машинист, — остановил всех майор. — Вы имеете дело с воинской частью, которая направляется в действующую армию.
— Уймите сначала своего капитана, а то он слюной изойдет, — попросил Иван Артемьевич.
— Вы как разговариваете! — тоже начал сердиться майор. — Мы вправе знать, что с нами происходит, почему такие вещи…
— Это саботаж, вредительство! — опять врезался капитан.
— Ты кто, майор? — дядя Ваня пососал трубку, не обратив внимания на капитана.
— Я командир части.
— Значит, соображать должен, — говорил Иван Артемьевич. — И командовать уметь надо: вот таких ярлычников осаживать, — кивнул в сторону капитана.
— Вы меня учите? — прищурился майор.
— А тебе еще и не поздно поучиться…
Иван Артемьевич полез за спичками в карман. Пола брезентовой куртки откинулась, и на его груди тускло блеснули ордена. Майор не мог оторвать от них взгляда.
— Ты вон на баб взгляни. Видишь, тебе дорогу шьют. Погляди, погляди на тыловых крыс… — И дядя Ваня показал трубкой в сторону путейцев. — А теперь убери с дороги своего мальчика, ехать мешает… А ты иди к своим, Ялунин, — посоветовал бригадиру. — И эту штуку красную сбрось. Потом рожком посигналишь. Пошли, майор.
Иван Артемьевич повернулся к паровозу.
— Нет, вы объясните! Я вижу, что путь разобран.
— Значит, надо! — резко сказал Иван Артемьевич. — Чего еще объяснять?
— Я все равно разберусь.
— Вот и хорошо будет. А сейчас иди-ка в свой вагон, а то отстанешь. Я тебя ждать не буду. Угодишь в дезертиры — нехорошо… — И поднялся на лесенку.
Через пятнадцать минут эшелон тронулся и скоро набрал ход.
— Костя! — крикнул Иван Артемьевич. — Чуешь дорожку-то под ногами?
Костя показал большой палец.
Стерпелись люди с войной. Не привыкли к ней, конечно, а научились глядеть вперед, чтобы какая-то новая беда — а от войны всего можно ждать — не застала врасплох. Осеннее изобилие, когда земля кормила сыто, почитали за временное и не спешили черпать его до дна. Спокойно ждали зиму: не свалит больше голодухой, а значит, и хворью тоже.
А всему началом служили фронтовые дела. Хоть и не слышно было в Купавиной стрельбы из пушек, всего военного грома, а вести оттуда долетали каждый день. И разбирались в них не только мужики, которые, как и в первые дни войны, когда еще никто и не думал, что она затянется, теперь опять засиживались после работы и опять назначали сроки победы. О победе и бабы говорили уверенно, особенно когда прибавляли по карточкам. И особенно ребятишки, по нескольку раз смотревшие военные киносборники.
Вся Купавина прилипала к репродукторам, когда после приказов Верховного Главнокомандующего наступали минуты московских салютов.
И уж никто не настораживался, как перед опасностью, когда фронт вдруг останавливался. Сразу начинали ждать, где он шагнет опять, так как понимали, что в любой работе нельзя обойтись без отдыха, а тем более там, где день и ночь смерть караулит, где зимой и летом люди открыты для всякого ненастья и сон с едой урывками. И неловко становилось говорить о своих мелких напастях, которые при таком сравнении сами собой превращались в мелочи.
И только работа не давала продыха. Движенцам и паровозникам порой казалось, что в руках они держат туго натянутый канат, который вот-вот лопнет и ушибет кого-нибудь до смерти. Знали и… натягивали еще, обдаваясь холодным потом.
Не надо было ума, чтобы понять, как вдвое, втрое дальше ушли конечные пункты маршрутов. С паровозами тоже стало хуже, а их-то требовалось больше, так как на трудном по профилю купавинском участке все чаще приходилось проводить составы двойной тягой, потому что вес поездов увеличивали. Раньше воинские эшелоны почти все были людскими, а теперь солдаты умещались в десяти вагонах, а сорок за ними — с машинами, пушками и не поймешь с чем еще.
А сверху все равно только одно и слышно:
— Нужно больше. Уплотнять графики движения. Увеличивать вес поездов. Ездить быстрее.
Машинисты вместе со своими инженерами после работы просиживали часы, придумывая, что еще можно сделать. Их и подхлестывать не требовалось.
Хоть дорога, казалось, отымала все силы, изменилась Купавина.
Извечная привязанность станционных к земле, которую не искоренила казенная работа, как живая вода затягивала раны и звала жить. И каждый проклюнувшийся росток старых привычек селился в душе светлым праздником.
Когда Варвара Полозова привела на свой двор молодую телку, которую купила через год взамен зарезанной по голоду коровы, сбежались все соседки. Щупали молочную жилу, гладили холку, раскраснелись, как молодухи, и крадче торопливо смахивали слезу. И завидно, конечно, было, но знали, что при первой же возможности сами вытянутся на такую покупку. Да и Варварина телка не то чтобы корова, а все равно верный знак, что жизнь к перемене идет.
В том же году приметили и первые крестины. Шли к хозяевам без приглашения, несли с собой кто что мог на закуску, а кто и выпивки прихватил.
Нет, не может сгинуть Купавина, если тут в такую черную пору народ не забыл свою людскую обязанность рожать и растить детей! С самого начала они пуще глазу берегли ребятишек как свое продолжение, а теперь-то уж выходят их, да и к работе приучат по-своему, чтобы при любом деле утвердилась в них и ласка к земле, и всему живому на ней.
Еще одна забота осталась у женщин: удержать своих мужиков в хорошей силе, чтобы перемогли они свою каторжную работу. Видели ведь, как они идут с работы, ссутулившись от усталости, хоть и блестят глазами да зубами для того, чтобы не гордость свою показать, а то, что на ногах, не ползком до стола да постели могут добраться. И отгораживали их по возможности от домашних дел.
Иван Артемьевич после поездок все чаще занимался с Иваненком, придерживая его от приставаний к отцу, который мог с ложкой у рта заснуть. Знал старый машинист, что если молодому дать вовремя отдохнуть, то он вдесятеро больше потом сделает. Сам же в долгом сне не нуждался. Отдых уж не избавлял от ломоты в пояснице и скрипа в коленях. Да и усталость в игре с неутомимым и веселым Иваненком слезала как-то сама собой. Молодел в такие минуты Иван Артемьевич, жизнь впереди казалась ему долгой, да и сегодняшняя перенапряженная работа понималась не только бесконечной тратой сил, а освящалась простой и понятной человеческой целью — возвращением к прежней довоенной жизни, в которой всему было место: и работе, и радости, и праздникам, а значит — счастью.
А однажды осенью его совсем захлестнуло радостью: увидел, что затяжелела Надежда. Обрадовался, но промолчал. Может, оттого, что заметил это по-своему, обратив внимание на то, что дочь опять стала худой и больно уж некрасивой. Поначалу даже встревожился, не хворь ли какую подцепила. И только приглядевшись, обозвал себя дураком, что об живом деле и думать отвык. Даже попытался припомнить, какой в свое время ходила Надеждой его собственная Анна Матвеевна, но из этого тоже ничего не получилось: забыл.
Так и ходил, как скряга, затаив в себе свою радость. Всякая чертовщина в голову полезла: не сглазить бы, да не изурочить, да еще про курочку в гнезде… А напоследок плевался тайком зло. И корил себя:
— Как баба пустоголовая!
А рука заметно тверже держала рукоять регулятора. Коротко и гулко откликался на сигналы гудок его паровоза. Молодцевато пересчитав входные стрелки, он вкатывал на станцию без дымка, словно за тендером и не было двух тысяч тонн груза. И купавинцы, возрождаясь доброй памятью, опять весело перекликались:
— Кузнецовы прибывают!
Фронт веселил работу. Зима не помехой стала солдатам: гнали и гнали немца. И прибавлялось сил и надежд у купавинцев. К весне вроде бы и не приморились вовсе. На Первый май даже митинг провели, как до войны: все на него пришли, даже старухи из домов выползли. И расходились с него без всякого сомнения, что этот год обязательно станет победным.
Весна легко выдохнула зелень, бодрила ласковым солнцем. Весело звенела на улицах ребятня, устало улыбались женщины.
А мужики после работы опять зачали сражаться на вениках в бане.
Оживала, приободрялась Купавина, хоть и шла еще война, хоть и жертвы еще не кончились. Для многих поездов с грузами Купавина оказывалась пунктом назначения, потому что неподалеку уже давно строился город Красногорск с большим заводом, а между ним и главной станцией присоседивались другие, пока еще небольшие, предприятия.
Народу незнакомого появилось множество, и теперь уж не все друг с дружкой здоровались. Приезжие отучили: с ними начали было по-доброму а они, как дикие, ни слова в ответ. Ну и пусть!
Купавинские машинисты, получившие к маю Красное знамя, ходили гордые и работали как черти.
10
Где-то в середине мая в Шадринске все купавинские паровозные бригады, которые находились там в ожидании поездов, были вызваны к начальнику депо. В его кабинете увидели много железнодорожного начальства, среди которого сразу выделили немолодых офицеров во главе с седеющим полковником. Как только бригады явились, разговоры враз прекратились.
— Присаживайтесь, товарищи машинисты, — вежливо обратился начальник депо. — Совет держать будем. — А потом улыбнулся не очень весело и сказал: — Поглядеть приятно, какой букет собрался: вся купавинская гвардия, да еще во главе с Иваном Артемьевичем!..
Машинисты молчали.
Начальник вполголоса посоветовался с незнакомым, который сидел рядом с ним, потом выпрямился и казенным голосом объявил:
— Слово предоставляется главному инженеру паровозной службы управления дороги.
Главный инженер был мужчиной рослым и крепким, с большими руками и с виду добродушным. Про себя машинисты решили, что паровозное дело он прошел самолично, так как во всей его осанке угадывались обстоятельность и неторопливость. Он и говорить-то стал не сразу, да и слова-то первые вышли тоже не шибко ловкими:
— Тут, товарищи, такая штука приключилась… — Он подумал немного и заключил: — Мы, так сказать, стоим перед фактом. В общем так: шадринцы приняли военный тяжеловес. Маршрут, товарищи, очень важный. До сих пор он следовал нормально, так сказать, и это можно вполне объяснить благоприятным профилем пути. А теперь вот — ваше купавинское плечо… Профиль свой вы знаете лучше меня.
— Скажите вес, — не утерпел Павел Глухов.
— Две тысячи семьсот пятьдесят тонн, — сразу ответил инженер.
Кабинет притих.
На Купавиной к тому времени уже было несколько паровозных бригад, за которыми укрепилась слава тяжеловесников. Водили поезда выше нормы одним паровозом, но чаще — в паре. Но до сегодняшнего дня рекорд на двойную тягу стоял на двух тысячах трехстах тоннах с небольшим. Инженер назвал вес небывалый, которого никто не мог себе представить. Но тот повторил:
— Две тысячи семьсот пятьдесят тонн.
Машинисты молчали. Главный инженер не смотрел на них, словно боялся подхлестнуть их взглядом, но тишина угнетала его самого.
— Молчать некогда, товарищи… — тихо сказал он. — Мы позвали вас, тяговиков опытных, чтобы посоветоваться об этом особом задании. Медлить нельзя.
— Двумя эшелонами надо вести, — предложил кто-то.
И тут встал полковник.
— Товарищи машинисты, этот вариант уже обсуждался и был отвергнут… — Полковник снял фуражку, вытер лоб платком, заметно подтянулся. — Я постараюсь объяснить вам истинное положение дела, в какой-то мере даже раскрою военный секрет… Наша часть кадровая и находится в резерве главного командования. Мы — отдельная ударная танковая группа. Вчера утром мы по тревоге погрузились в эшелон, у нас приказ через пять суток прибыть в распоряжение штаба одного из действующих фронтов. За сутки мы осилили всего шестьсот километров. И это в условиях, когда нам почти везде давали зеленую улицу. Вам легко представить, какой путь у нас впереди: это не меньше трех тысяч километров, и всего четверо суток времени. Примите во внимание состояние прифронтовых дорог… Основной груз нашего эшелона — танки. Мы даже пошли на такое серьезное нарушение правил передвижения, как отказ от вагонов для личного состава. Танковые экипажи едут со своими машинами. И все равно груз тяжелый, очень тяжелый… Но и рвать его на части?.. Нет, нельзя, товарищи! Надо искать выход.
Полковник сел. Машинисты по-прежнему молчали.
— Ждем вашего слова, товарищи, — опять поднялся начальник депо.
— Закурить можно?
— Можно, — разрешил представитель управления дороги.
Машинисты дружно задымили, загалдели между собой. Иногда слышались вопросы:
— Давно стоят танкисты?
— Скоро час.
— Ладно, — встал Павел Глухов. — На нашем плече порешили эшелон не половинить. А как его поведут через хребет? Все равно придется рвать. Так лучше сразу…
— Мы уже говорили с управлением Свердловской дороги, — ответил главный инженер паровозной службы, — там знают о сложившемся положении. Нас заверили, что задачу выполнят.
— Им легче, — сказал кто-то из купавинцев. — У них «ФД» тянут. Ясно, что двумя выдернут.
— Вы тоже поведете в паре. Это предусматривалось сразу, — вставил начальник депо.
— Пара паре рознь…
Попыхивая трубкой, поднялся Иван Артемьевич.
— Сразу хватить на четыреста тонн больше, чем у нас случалось, это, конечно, риск. Эшелон, говорите, час стоит… Как его подготовили за это время?
Призывая к вниманию, опять поднял руку главный инженер паровозной службы.
— По составу, товарищи: начальник вагонной службы уже доложил, что все вагоны тщательно осмотрены. Они в полной исправности. Самым внимательным образом проверено буксовое хозяйство — дана гарантия, что перегрева не будет.
— А как с тормозной схемой? — не унимался Иван Артемьевич.
— Я ждал этого вопроса, — сказал инженер и замедлил с ответом. — Могу сказать: головная часть состава примерно до половины имеет тормозной каждую четвертую платформу, с половины до хвоста — пятую.
— Негусто.
— Да, негусто. Но могу уточнить: большинство нетормозных платформ легкие, четырехосные. А другие — восьмиосные. Это все новые платформы с усиленной тормозной системой. Они тяжелее и, естественно, сосредоточены в головной части состава…
— Как будет с экипировкой? У меня две трети тендера копейского угля, — сказал Иван Артемьевич. — Это солома.
— Загрузим карагандинским, — ответил начальник депо.
— А теперь хочу спросить своих товарищей… — Иван Артемьевич повернулся к купавинцам. — Кто со мной?
В кабинете снова наступила тишина.
Иван Артемьевич сел, раскурил потухшую трубку.
Поднялся Павел Глухов.
— Меня возьмешь, дядя Ваня? — спросил, казалось, не очень уверенно.
Не вставая, Иван Артемьевич обернулся к нему:
— Тебя и ждал, Паша.
— Тогда по местам, товарищи! — заторопился начальник депо, словно боялся, что машинисты передумают.
…Через двадцать минут Иван Артемьевич и Павел Глухов вывели паровозы на контрольную. В нарощенных деревянными щитами тендерах горой лоснился уголь.
Иван Артемьевич, увидев начальство, спустился из будки. Подошел и Павел.
— Готовы? — спросили их.
— Готовы, — отозвался Иван Артемьевич.
— Я забыл спросить на совещании… — подал голос Глухов.
— Что у вас?
— А насчет дежурного толкача в Катайске не думали? Там ведь перед большим подъемом держат.
— Думали, но…
— Не надо, — отмахнулся Иван Артемьевич. И, повернувшись к Павлу, сказал: — Ты что, забыл, как им пользовались?
— Как?
— Только когда с места брали, — вмешался высунувшийся из будки Костя. — А нам зеленый дают. Нам с разбегу самим лучше без всякого толкача.
— Зеленый вам обеспечен, — заверили их тут же.
— Не о толкаче думать надо, а о воде, — сказал Иван Артемьевич.
— Вам только с подъема выбраться. Если будет плохо с водой, на любой водозаборной станции жезл не принимайте, а делайте остановку. На подъем хватит?
— Дотянем. Нас же двое… — И опять к Павлу: — Ты, Паша, приэкономь воду-то за моей спиной. А я дам знать, если меня прижмет… — И вдруг заторопился, показав вперед на стрелочницу: — Вишь, нам машет.
— Счастливого! — крикнули снизу.
…Через десять минут над станцией взметнулись поочередно два длинных гудка.
Иван Артемьевич смотрел не вперед, а на Павла Глухова, торчавшего из своей будки. Еще становясь под состав, Иван Артемьевич подсыпал песочку и сейчас плавно тронул машину. Напряженным слухом проводил к середине состава перестук натянутой сцепки, легонько махнул Павлу и сразу почувствовал, как второй включился в тягу.
Огромный состав тронулся с осанкой пассажирского поезда и не торопясь потянулся к выходным стрелкам…
Эшелон ходко вырвался на простор, и на первой же кривой с небольшим уклоном Иван Артемьевич увидел его полностью от головы до хвоста. Гигантской змеей вытянулся он почти на километр. Зачехленные танки на платформах загадочными темными глыбами картинно выделялись на фоне молодой зелени перелесков и полей. Иван Артемьевич хорошо знал эти первые километры от Шадринска. Впереди на полчаса хода были только небольшие уклоны. Поэтому он слегка придерживал состав, а Павел Глухов не включался вовсе.
День разгуливался погожий и — по всему видно — жаркий.
Иван Артемьевич снял фуражку, подставив лицо легкому ветерку, навалился на подлокотник окошка. Изредка взглядывал через плечо: Пашка Глухов тоже торчал из окна, не спуская глаз с первого.
Напряжение всегда молодило Ивана Артемьевича. Каждый раз, когда попадал в крутые переплеты, как будто другой человек вселялся в него. Казалось ему даже, что в такие моменты голова, мозги напрочь отключались, а действовали только руки. Позднее перестал так думать. Может, потому, что много учил других, учил понимать машину умом и сердцем, а руки — подчиняться. А самого себя так и не уразумел. Вот и сейчас он не сознаньем, а всем существом своим чувствовал за спиной тяжелый состав, как это бывает с путником, на плечах которого лежит непривычная ноша. Иногда она давит неудобно, гнет тебя книзу, заставляя напрягаться по-особому, а то клонит вбок, заставляя приспосабливаться к ней. И на этот раз на небольших уклонах он сразу ощутил, когда раз-другой состав заметно надавил на него сзади.
Иван Артемьевич усмехнулся про себя:
— Норовист, однако…
И как бы стараясь освободиться от излишних забот, не желая, чтобы эшелон угнетал его с самого начала, Иван Артемьевич старался немного поразвлечь себя.
Урал полюбился ему сразу, когда он попал сюда впервые. Трудно здесь машинисту работать, но и весело от красоты. Больше двадцати лет промотался на этих дорогах, только на купавинском участке уже десяток за плечами, а каждый раз ехал как будто впервые: и глаз не устает, и удивление не кончается. Да и не только из будки паровоза знал он эти места. До войны выдавались выходные не по одному дню подряд, и Иван Артемьевич каждый раз уезжал на какую-нибудь станцию подальше от Купавиной отдохнуть на безлюдье: по грузди сходить, по ягоды, а то и просто побродить по глухим местам.
Вот и сейчас эшелон снова пошел под уклон. Бор по сторонам сменился лиственным мелколесьем. Дальше пойдут черемуховые места, а потом верба, в которой неслышно петляет илистая речка Чуварыш. В несколько шагов шириной, местами чуть ли не запруженная коряжинами, когда-то сроненными половодьем деревьями, со множеством омутов, она славилась породистыми, медного отлива карасями, належавшими в мягких ямах отменный жир. Одного такого хватало на закуску: отрубишь голову и хвост — ровно в сковородку укладывается…
Часто приезжал сюда Иван Артемьевич еще и потому, что удобство было: возле небольшого моста через Чуварыш стояла на перегоне водокачка и жил при ней Матвей Фролов вдвоем со своей старухой, люди тихие и приветливые. Дел у Матвея было нелишку, всего-то заботиться, чтобы воду подать, когда потребуется. А брали ее тут редко, иной раз за неделю остановятся всего три-четыре поезда.
…После уклона к Чуварышу сразу начинался короткий крутой подъемчик. Иван Артемьевич оглянулся. Пашка Глухов торчал в окошке. На уклоне Иван Артемьевич тормозить не стал. Эшелон резво покатил через мост, и, как только половина состава миновала его, Иван Артемьевич потихоньку натянул сцепку и сразу включился на большую тягу, нарочно не подав Глухову сигнала поддержать его. Паровоз часто и сильно забухал, выкидывая над трубой черные столбы густого дыма. Иван Артемьевич видел, что удивленный Пашка Глухов вопросительным знаком изогнулся в своем окошке, но только усмехнулся, отвернувшись.
Иван Артемьевич пробовал состав. И остался доволен. Эшелон, набравший хорошую живую силу, ни разу не дернул его грубо, а послушно забрался на подъем за паровозом.
— Ладно…
Дальше дорога обязывала к серьезности. Иван Артемьевич уже не глазел по сторонам, да и воспоминания отлетели прочь. Пару раз пришлось даже попросить Пашку Глухова включиться. Тот подстраивался к тяге без рывков, вежливо, но тянул основательно, иной раз подторапливал и первого. Но и это делал аккуратно, что Иван Артемьевич не преминул отметить про себя с похвалой.
Зеленая улица всегда радует сердце машиниста. И сейчас, когда день разыгрался и томил людей солнечным припеком, тут, в окне паровозной будки, было прохладно от встречного ветерка и вовсе не чувствовалось жары, исходившей от раскаленной топки. Да и смотреть на огромный состав, грозный своей тяжестью, который не ехал, а летел с грохотом, было радостно, хоть и жутковато.
Дежурные на разъездах и станциях, выходя с жезлами навстречу эшелону, немо застывали с поднятыми дугами, словно боялись, что поездной вихрь или задернет их под себя, или отбросит далеко в сторону, зашибет. Но Костя, откинувшись от поручня на вытянутую руку, ослепив их белозубой улыбкой, ловко забирал жезл, а Иван Артемьевич еще и рявкал коротким гудком.
Подходя к последней перед подъемом станции, Иван Артемьевич отвлекся от окна, осмотрел будку, пробежался взглядом по приборам: давление стояло твердо на высшей отметке, вода — в норме. Иван Артемьевич заглянул и в топку. Та гудела белым жаром.
«Раскалил…» — подумал про Костю, но тот не повернул головы. Смотрел вперед.
Дежурный по станции, отдав жезл, снял фуражку и долго махал им вслед.
Иван Артемьевич оглянулся назад, увидел карауливший его взгляд Пашки Глухова и дал два громких коротких гудка, призывая подключиться к тяге. Глухов тотчас лихо сдуплетил в ответ.
В следующее мгновение машинисты исчезли из окон. Иван Артемьевич видел, как орудует уже возле топки Костя, как с распахнутыми глазами вперился в него их кочегар Федька Мальцев, вцепившийся в переборку, которая часто и нервно качалась из стороны в сторону.
Иван Артемьевич от отсечки к отсечке подавал от себя регулятор, чувствовал спиной, как вторит ему на своем паровозе Пашка Глухов, и повторил свой призыв к тяге. Пашка эхом подтвердил полученный сигнал, и оба паровоза в общем порыве слились в одно стремление.
Впереди был главный подъем на купавинском плече…
Такие подъемы среди железнодорожников зовутся руководящими. Десять тысячных. С этой отметки, означающей подъем за километр на десять метров, начиналось их званье. Чугаевский подъем числился двенадцатитысячным, и, что делало его извечной бедой для паровозников, протяженность его составляла около четырех километров. Огромной дугой среди безлесья круто вздымался он по необъятному угору, пугающему своей покатостью. Обыкновенные по весу поезда кое-как взбирались на него с разгону. А если поезд отправлялся с предстоящей станции, то непременно использовался паровоз-толкач.
Потому-то Иван Артемьевич, пролетев на предельной скорости станцию, сразу подключил к себе Павла Глухова, стараясь на трехкилометровом отрезке до моста, за которым начинался подъем, набрать скорость, насколько это было возможно.
Регулятор застыл на упоре. Время от времени Иван Артемьевич оглядывался, моментально охватывая взором километровый состав, и не видел скатов под платформами: поезд взвихривал песок, и казалось, что мчится он не по стальному пути, а по пыльной дороге.
«Вспыхни букса — и не увидишь…» — подумал про себя Иван Артемьевич.
За мостом, догоняя друг друга гудками, паровозы взревели еще раз, и эшелон, круто задрав голову состава, кинулся на подъем.
Иван Артемьевич врос в машину, застыл в каменном наклоне вперед, лопатками, всей спиной чувствуя перегруженность поезда, тихо и боязливо радуясь, что паровоз опережает состав, тянет и тянет его за собой, не ослабляя сцепки. Котел гудел ровно, и машина ни разу не сбилась с дыханья, лишь сильно вздрагивала на выхлопах, стремительно рвалась вперед. Изредка, как издалека, до него доносился лязг заслонок: Костя подкармливал огонь.
Иван Артемьевич глядел перед собой в переднее стекло, уперев взгляд на самый горб подъема, который едва маячил где-то километрах в двух, а может, и в трех, и ждал, ждал каждую секунду того момента, когда иссякнет живая сила состава, когда обозначится первый сбой задохнувшегося паровоза, что будет означать открытый вызов, и начнется схватка с этим проклятым угором, на который — хоть кровь из носа — надо во что бы то ни стало взобраться…
Среди гула, распирающего будку, Иван Артемьевич не услышал Костиного крика, а повернулся к нему только тогда, когда тот крепко сжал его плечо, дохнул тревожно:
— Погляди, дядя Ваня!..
Костя показывал на топку, но Иван Артемьевич не заметил его жеста, взглянул на манометр: пар стоял недвижно, чуть-чуть за красной риской.
— В топку взгляни! Неладно там. Взорвалось вроде бы что…
Иван Артемьевич сполз со своего места. Прикрыв ладонью глаза, приоткрыл заслонки и тотчас захлопнул снова.
— Беда, Костька!..
Ивану Артемьевичу трудно было согнуться, и он опустился на одно колено, вслушиваясь в раскатный гром, сотрясающий топку.
Прежде чем сработала мысль, его обдало по спине сковывающим холодом. Он понял и не понял, что произошло.
Понял, что в топку прорвалась вода.
И не понимал еще — откуда. Но откуда бы она ни ринулась туда — катастрофа неминуема. А выстрелить в огонь она могла со множества сторон: через дымогарные, жаровые и циркулярные трубы, наконец, через выплавленную контрольную пробку. А это значит, что пройдут считанные минуты и струи воды, врывающиеся в топку с напором в двенадцать атмосфер и моментально превращающиеся в упругий пар, зальют огонь, давление в котле упадет, паровоз потеряет тягу…
И — хана!
Иван Артемьевич весь обратился в слух, перестал дышать. Наконец ухо уловило в общем грохоте совсем близкий от шуровочного отверстия, отличающийся особой резкостью звук.
И он понял:
— Контрольная пробка! Полетела…
— Отчего?!
— А черт ее знает! Ремонтники напортачили. — И крикнул: — Закачивай воду! Обоими инжекторами качай!..
Слова сразу потеряли смысл. Да, на какой-то момент вода в котле оказалась чуть ниже головки пробки, и, плохо запрессованная, она не выдержала. Дальше — беда. По правилам технической эксплуатации состав следовало немедленно останавливать, паровоз тушить.
Но что делать сейчас?!
За тендером — две тысячи восемьсот тонн груза. На подъем только полезли. Остановить такой состав на самой середине угора — тоже риск: тормозная система слабая, а вдруг сорвется вниз? А там станция, наверняка забитая поездами: сам же видел, когда проскакивал ее, что единственный свободный путь был предоставлен ему. К тому же остановка перекроет перегон на час-два, пока кто-то выволокет их отсюда или поможет спуститься. Значит, неизбежны задержки и впереди и позади. Беда!
Эти мысли отняли всего мгновения, но и они показались Ивану Артемьевичу вечностью. Костя немо стоял рядом. Федька Мальцев бледнел возле угольного бункера.
Иван Артемьевич тяжело поднялся на ноги, привычно взглянул на приборы: там все было еще в порядке, как будто ничего пока не случилось, даже вода держалась ближе к норме. Работали инжекторы.
Потом поглядел в окно. Там, в каком-то тумане, увидел все еще далекий горб подъема и почувствовал, как ему молотом бьет по вискам.
Костя стоял и ждал.
— Не знаешь, что надо делать? — хрипло спросил Иван Артемьевич.
— Не знаю.
— Я — тоже. Останавливаться надо. Тушиться.
— Нельзя же! Растянемся. А то и утащит!..
— Вот-вот: нельзя.
— Дядя Ваня, придумай!..
Придумывать было нечего. Если не останавливаться, выход был один.
— В топку надо идти, Костька… — выдавил из себя Иван Артемьевич. — Пробку забить.
Мгновения хватило на то, чтобы Костя понял все: можно пригасить огонь в топке, сбросить давление в котле, чтобы ослабить водяной напор, заклепать бродком отверстие пробки. Все это на ходу. Времени потребуется минута, может, две. Но как это сделает Артемьич?! Старый, грузный… Сейчас в топке кромешный ад: вода, пар, копоть — и все это сплошной вихрь, в котором повреждение можно найти только на ощупь…
Костя схватил Ивана Артемьевича за руки:
— Ты-то куда прешь?!.
И в это время паровоз, словно торопя их, вдруг раскатился дробью выхлопов в пробуксовке.
— Песочницу! — крикнул Иван Артемьевич, хотя Костя уже опередил его.
Иван Артемьевич взревел двумя короткими гудками, призывая на помощь Павла Глухова. Тот сразу откликнулся ему, Иван Артемьевич даже почувствовал толчок второго.
— Быстрее, дядя Ваня! — торопил Костя.
— Федька! Сымай сапоги, давай портянки! — крикнул Иван Артемьевич кочегару, а сам рвал уже свои.
Костя лихорадочно одевался. На нем оказался Федькин свитер и помимо своей куртка Ивана Артемьевича. Федька помогал ему обмотать портянками лицо. А Иван Артемьевич в это время задыхался возле топки. Уже был оттянут регулятор, сброшен пар, выключен сифон, закрыто поддувало. Иван Артемьевич орудовал лопатой, покрывая раскаленный уголь слоем свежего… И следил, как падает давление: девять, восемь, семь… Все еще мало!
Увидел, что Костя ждет уже одетый, стоит перед ним с бродком в одной руке, с маленькой кувалдой — в другой.
Иван Артемьевич подтянул шланг и стал обливать его водой. А сам торопился со словами:
— Ищи ее осторожно. Почуешь по тому, как тебя обожжет… А дальше только не ошибись: надо, чтобы бродок наверняка попал…
Отбросил шланг и швырнул поверх угля две доски, выкинутые Федькой из тендера.
— Ну что? — разогнулся перед Костей. — Не подведи, сынок. И будь осторожней… Иди.
— Пошел, — сказал Костя.
Он ловко просунул ноги навстречу жару, на мгновение задержался, нащупывая сапогами доски и тихонько проталкивая себя. Еще не разжав рукавиц на кромке отверстия, попробовал улыбнуться:
— Тепло…
И исчез внутри. Иван Артемьевич еще видел его секунду-две, а потом грохочущий мутный вихрь поглотил Костю.
Иван Артемьевич услышал, как гудит второй, взывая о поддержке. Крикнул Федьке:
— Дай два коротких!
Сам не отводил от топки. Он знал, что не услышит ни голоса Кости, ни ударов его кувалды, если даже Костя и сделает все, как надо. Он только отсчитывал сердцем секунды: сейчас Костя пролез через циркуляционные трубы, сейчас ищет пробку, вот нашел… теперь прилаживается… Ну!..
Ожидание становилось невыносимым. Прошла уже минута, а топка ревела по-прежнему. Иван Артемьевич почувствовал резь в глазах: пот заливал ему лицо… И в это время топка будто захлебнулась своим ревом, поперхнулась раз, другой и затихла. И почти тут же он увидел, как Костя ухватился за край топки, тяжело подтянулся.
— Тащите!.. — хотел крикнуть, а прохрипел он.
Костя как-то потяжелел. Иван Артемьевич с Федькой кое-как выволокли его через зев топки, повернув на спину, положили на пол. Вся одежда на нем парила. Иван Артемьевич облил его холодной водой с головы до ног и только тогда увидел через сбившуюся портянку лицо. Оно вздулось от пузырей…
— Не вижу ничего… — услышал Иван Артемьевич.
Он подсовывал ему под голову телогрейку, когда сотрясая все вокруг, зачастил в пробуксовке паровоз Пашки Глухова и заревел по-дикому.
Иван Артемьевич метнулся на свое место, дохнул под себя песком, толкнул регулятор, открыл поддувало и прогудел в ответ. Заорал на Федьку:
— Держи топку!..
Кузнецовский паровоз резко рванул вперед, коротко пробуксовал, но Иван Артемьевич передернул регулятор, и машина, тяжело вздохнув, потянула ровно.
Ивану Артемьевичу показалось, что за окном все вокруг будто остановилось. Он высунулся на минуту и увидел, что состав тащится шагом. Кинул взгляд вперед, опустился на сиденье и по-чумному мотнул головой: еще он заметил и то, что голова поезда уже поднялась на горб подъема…
Паровозы, изводя себя, попеременно пробуксовывая, в туче черного дыма обреченно ползли метр за метром вперед…
С тендера в будку неожиданно вывалился Пашка Глухов. Он перешел на ходу со своего паровоза к первому.
— Что за мать твою!.. Дядя Ваня, чего это у тебя?! — успел выдохнуть и замер перед Костей, распростертым на полу. — Как это его?
— Пить, — едва слышно шевелил губами Костя.
— Беда… — отозвался Иван Артемьевич.
…На следующей станции выбросили с жезлом записку дежурному, чтобы позвонил в Купавину и попросил встретить эшелон со «скорой помощью». Большего сделать ничего было нельзя: до Купавиной медпунктов не было.
Костя тихо лежал на полу, только время от времени просил пить. И только один раз спросил еще:
— Идем, дядя Ваня?
— Идем, сынок, идем… — машинально отзывался Иван Артемьевич.
Он сползал со своего места, опускался перед Костей на колени, меняя мокрую тряпку на лице, стараясь хоть как-то облегчить боль.
Что он мог еще?
Не только лицо, но и руки, и грудь — все было обварено…
Пашка Глухов ушел на свой паровоз, и Иван Артемьевич чувствовал, как он там выбивается из сил, помогая ему.
— Дядя Ваня, — услышал Иван Артемьевич голос Федьки. — Помоги Косте!..
Иван Артемьевич припал к Костиной груди. Тот дышал коротко и тяжело.
Пошевелил слипающимися губами, но Иван Артемьевич не разобрал ни единого слова.
— Костя! Костя!..
В это время дал протяжный гудок Пашка Глухов.
Иван Артемьевич вернулся на свое место.
…Эшелон разбегался перед последним, купавинским подъемом.
Иван Артемьевич проверил взглядом приборы, видел, как, выбиваясь из сил, загружает топку Федька. Совсем еще мальчишка, он смахивал рукавом слезы, размазывая по лицу угольную пыль.
Регулятор стоял на упоре. Эшелон уверенно осиливал подход к станции.
Иван Артемьевич не заметил ни семафора, ни того, на какой путь их принимают.
В его затуманенном сознании стояла Надежда…
А принимали эшелон на первый путь. Он подошел к перрону тихо. Паровозы остановились без гудков, словно у них на это не хватило сил, и замерли, как загнанные.
Перрон, по которому бежали люди с носилками, быстро заполнялся танкистами, почернел от их комбинезонов.
В будку поднялся Пашка Глухов.
…Костю осторожно сняли с паровоза. Врач только на мгновение склонился над носилками и прикрыл Костино лицо фуражкой.
Носилки подняли и медленно понесли по перрону.
А перрон превратился в черный коридор. По обе стороны его сплошной стеной стояли танкисты. И когда носилки проплывали мимо, стягивали с себя зубчатые шлемы.
О чем они думали?..
Ждали ли они, что встретятся с войной здесь, на этой красивой станции за три тысячи километров от фронта?
Кто и где в этой войне на передовой?
И где тебя ждал подвиг?..
Проводив носилки до амбулатории, Иван Артемьевич опустился на скамейку на привокзальной площади.
Что он скажет дочери? Что скажет жене? Как все объяснит Иваненку?..
Да, он мог остановить эшелон. Мог по причине серьезной аварии, в которой он не виновен, даже перекрыть перегон. Все было бы сделано в рамках железнодорожного закона, того закона и правил, которые на транспорте никому не дано права переступать. Он переступил. Его могут даже судить, потому что гибель своего помощника допустил он, опытный машинист Иван Артемьевич Кузнецов. И никакие награды за прошлое не могут быть защитой от этого.
Но и кто мог обвинить его в этом?
Он сам в гражданскую побывал в топке своего бронепоезда, но для него тогда все обошлось… Может, поэтому он и не запретил Косте пойти в огонь?
И разве в те минуты не пронзила его мысль, что он рискует не только своим помощником, но и зятем? Счастьем своей дочери рискует. Счастьем, которое складывалось так просто, а вышло на диво красивым.
И вдруг война поставила его перед таким жестоким выбором! Поставила, как к стенке: если ты шкура — вертись потом, прикрываясь инструкциями; если человек от сегодняшней жизни — поступай, как она требует…
Иван Артемьевич сидел на скамейке и казнил себя со всех сторон.
…Подошел к своему дому.
И хоть был еще день, но против обыкновения никто не вышел ему навстречу.
Иван Артемьевич с трудом преодолел расстояние между калиткой и крыльцом. Поднявшись на него, отдохнул и только потом толкнул дверь.
В прихожей стояла Надежда. Она держала за руку незнакомо притихшего Иваненка. А Ивану Артемьевичу бросился в глаза ее живот, непомерно большой, укорно вздернутый вверх, отчего платье ее жалко задралось, обнажив узловатые сухие колени. Лицо ее неузнаваемо изменилось; обычные пятна стали незаметны, потому что все оно землисто потемнело. И только глаза остановились на Иване Артемьевиче с таким кричащим вопросом, что он забыл все слова, да если бы и помнил их, все равно сейчас не смог бы выговорить.
Молнией мелькнуло в сознании, что у этой женщины, его единственной дочери, уже никогда в жизни не будет ни любви, ни радости, что дети ее — сироты. Что кончится скоро война и победный день не станет ей праздником.
И горе ее будет еще тяжелее от сознания, что всего этого могло бы не случиться, если бы ее родной отец один-единственный раз в жизни подумал сначала о ее судьбе…
Иван Артемьевич молча стоял перед дочерью, вглядываясь в нее, весь переполненный любовью и состраданием к ней, Иваненку, к жене, которая, закусив платок, со страхом выглядывала из комнаты.
И все искал каких-то слов.
Но не нашел их.
Он только чувствовал, что смертельно устал. И тогда ноги против его воли стали слабеть. Он уже не мог противиться и как-то неловко опустился на колени, склонив седеющую голову, не в силах больше смотреть на дочь.
И слова пришли:
— Прости меня, дочь. Иначе не мог.
Через месяц по представлению военного командования Иван Артемьевич Кузнецов, Павел Глухов и Константин Захаркин были награждены орденами. Костя — посмертно.
…А победа пришла только через год. Иван Артемьевич узнал о ней в поездке. Радовался, как все, с трудом удержав слезы.
Когда вернулся в депо, сразу пошел к начальнику. Подал заявление.
— Уходишь, Иван Артемьевич? — спросил тот, не удивившись. — Устал?
— Уставать мне нельзя, — ответил тихо Иван Артемьевич. — Внуков надо растить.
11
В тот самый мой приезд домой, на другой день после бани и парной, столь неожиданно закончившейся для нас поражением, отец с утра забеспокоился. Где-то перед обедом исчез из дома почти на час, а потом вернулся и заторопил меня:
— Айда, поможешь.
— Что за дело?
— Не разговаривай, — не стал объяснять родитель. — Раз говорю, значит, надо.
Я все равно томился бездельем и возражать не стал.
Мы вышли из дома, и отец, к моему удивлению, повернул в сторону, где станция кончалась и где когда-то стоял семафор, а нынче маячит невыразительный его преемник — светофор. Мы шли по дорожке, протоптанной возле насыпи, там, где кончался подъем на станцию. Прошли до того места, где насыпь пошла на исход. Папаня пошарил вокруг глазами, отыскал груду каких-то обломков шлакоблоков, присел на них и пригласил меня.
— Не пойму, что за дело ты выдумал? — не удержался я от вопроса.
— Посылку тяжелую жду, привезти должны. Ждать недолго: специально к дежурному узнавать ходил…
Просидели мы не более получаса. Вдруг отец, часто вглядывавшийся вдаль, выпрямился.
С шадринской стороны показался товарный поезд. Шел он почти бесшумно, потому что вел его тепловоз. За локомотивом тянулся, пропадая из глаз, фантастически длинный состав.
— Да, составчики пошли! — искренне удивился я.
— Не наше время, — отозвался отец. — До пяти тысяч таскают. Нашим и не снилось такое.
— Красиво идет, — сказал я.
— Кузнецовы прибывают! — с оттенком гордости объяснил отец. — Лихие ребята.
— Кузнецовы?!
— Ну, Захаркины… Порода-то все одно кузнецовская.
Отец легко поднялся на невысокую насыпь.
Тепловоз был уже совсем близко. Вдруг дверь задней секции открылась, и, начиная метров с пятидесяти до отца, на бровку одна за другой полетели связки березовых веток. Когда тепловоз поравнялся с отцом, молодой машинист, с веселым курносым лицом, снял фуражку, помахал отцу и что-то прокричал с улыбкой, показав белые зубы. Из второй секции помахал рукой другой, еще моложе, по всему.
— Ну, и что все это значит? — спросил я, подходя к отцу. — Заказывал, что ли?
Он остановил меня жестом, выжидая, пока пройдет состав.
— Заказывал, что ли? — повторил я вопрос.
— Не видишь, веники привезли? Где их у нас сейчас возьмешь? Раньше, бывало, сходишь в березовую рощу: два шага — и заботы нет. А теперь?.. Вот и привезли ребята по пути. Две связки мне да две — дяде Ване. Ходок-то он нонче уж не тот. Бери, понесем…
Пока мы с папаней орудовали на насыпи, внизу объявился еще один человек.
Я узнал дядю Ваню Кузнецова.
— Привет, Иван Артемьевич! — крикнул ему отец, спускаясь.
Я поздоровался тоже.
— Опять ты, Ялунин, опередил меня! — проговорил тот вместо приветствия. — Привезли?
— Привезли.
— Ну и молодцы, — похвалил Иван Артемьевич. — А это кто? — спросил, показывая на меня.
— Сынок приехал.
— Хорошее дело. — И удивился: — А немолодой уж!..
— Так ведь ребята-то по нам.
— И то правда… Как иначе-то?
— Вот и твои уж вместе ездят, Костя-то когда с учебы приехал?
— А нонче только. Иван и взял его сразу к себе. Все ж таки свой глаз и почутче и построже…
Старики шли впереди меня и о чем-то беседовали.
Оба уже давно были не у дел. О чем они могли говорить?..
Я шел за ними, стараясь не стеснять своим присутствием, смотрел на Купавину, которая была уже совсем не похожа на прежнюю.
И подумал: а ведь и старая живет.
И купавинская баня здравствует, как молодая.
И по-прежнему прибывают на станцию поезда, которые ведут купавинцы кузнецовской породы.
1983 г.
Памятник
(вместо эпилога)
Письмо матери было привычно коротким. Но на этот раз она просила приехать в Купавину к определенному сроку — Дню Победы. «К нынешнему празднику, — писала мама, — много народу ждут. Если не приедешь, нам с отцом неловко будет…»
Кто не знает, как жизнь разделяет нас с отчим домом? И виной тому дороги, по которым увела судьба. Вот и я, закончив университет, понял, что отстал от Купавиной. Многие годы носило меня то по Якутии до самого океана, то по Средней Азии от ледников до пустынь, то по кедровникам горного Алтая. И получалось: год пройдет, другой, третий, а родительский дом все как-то в стороне оставался. А потом и семейный якорь завелся… И выходило, что в родном доме появлялся редко, да и то наскоком.
На этот раз дома не был шесть лет.
Поезд подходил к Купавиной поздним утром.
И в прежние наезды я замечал, как меняется Купавина. Год от года все меньше оставалось ее, той одноулочной, барачной да казарменной державы, в которой проходило детство, где начинал понимать себя. Старая станция обрастала высокими кирпичными домами, словно стыдясь своей неказистости, пряталась в их тень.
Вот и сейчас перед вагонным окном тихонько проплыла осевшая бревенчатая школа. Когда-то она стояла на просторной поляне и оттого, наверное, казалась большой. На переменах вокруг нее затевались шумные скоротечные игры. А сейчас, превратив в свою контору, ее прижал к высоченной стене большущий багажный двор.
А вот и сад привокзальный… Раньше он считался самым культурным местом на станции. Вечером сперва, конечно, шли в клуб: смотрели кино, когда привозили, потом объявлялись танцы. Заканчивались они к одиннадцати. Но расходиться парням и девкам не хотелось. И тогда шли гулять в станционный сад, где были сделаны аллеи, стояли скамьи с гнутыми спинками. Сквозь листву густых акаций пробивался свет электрических фонарей, освещавших перрон. В зеленом полумраке хорошо было сидеть на удобных скамейках, вести разные разговоры и целоваться…
Наконец показался и сам старый вокзал: длинное барачное здание, покрашенное, как и все служебные помещения железных дорог, желтой охрой. Когда-то перед ним была просторная площадка, с которой начиналась широкая лестница в восемь ступеней, выводившая пассажиров к поездам. Теперь лестницы не было, да и сам вокзал спрятался за старой зеленью да дорогим парапетом, протянувшимся вдоль длиннющего перрона. В середине его неожиданно открывалось пространство перед величественным светло-серым новым вокзалом. Сверкающие буквы на нем извещали о новом хозяине этих мест: «г. Красногорск».
А где же Купавина?..
Она предстала передо мною на перроне в лице моих стариков. Я увидел их еще из окна. Они не решились смешаться с крикливой, настырной толпой горожан, облепившей выходы из вагонов, а стояли в некотором отдалении от людской давки, зная, что так они будут заметнее для меня.
После неловких объятий, мы, минуя вокзал, вышли на просторную привокзальную площадь. На ней, возле сквера с фонтаном, выстроилось десятка два легковых автомобилей. По краям же, возле тротуаров, стояли троллейбусы и автобусы, принимая приезжих. От площади уходила широкая улица многоэтажных домов…
Вся эта непривычная громадность как-то больно сжала сердце: площадь смела некогда теснившиеся здесь важное здание службы движения и три многосемейных барака, а улица, уходившая как раз в ту сторону, куда мы бегали купаться на Каменушку, не оставила и следа от знаменитой на Купавиной Экспедиции…
Проходя мимо троллейбусов, я все-таки спросил:
— И куда же это отправляет Купавина свои новые маршруты?
— Один в Красногорск, другой на Новый завод, — ответил отец.
— Так далеко? — удивился я.
— Так ведь срослось все, сынок, — сказала свое слово и мама. — Для них через Исеть широкий мост построили. Нынче пешком туда никто не ходит.
Вот оно как! Красногорск когда-то начинался в двенадцати километрах от Купавиной. И, помнится, когда решали побывать там, собирались с вечера, а выходили поутру самым коротким путем: огибая Большое болото, через лес добирались до Исети. Там по крутой тропинке спускались к берегу против деревни Волновки, где через реку ходил махонький паром, на котором хозяйничал одноногий Мартемьян. По виду он был вечно недоволен, сердито стукал по парому деревяшкой, которую самолично вытесал для себя вместо ноги. Мартемьян не любил переплывать реку на пустом пароме — неохота ему было одному тянуть трос. Поэтому с другого берега его не всегда могли докричаться. Иногда час сидели в ожидании встречных пассажиров… А потом — тридцать копеек и еще четыре километра пути.
Таким же манером к вечеру добирались обратно.
— И долго ехать до Красногорска? — спросил я.
— Полчаса.
Так вот объявляет себя наше торопливое время!
Мы свернули с площади на Привокзальную улицу, на которой где-то в самом конце стояла наша путейская казарма.
Привокзальную годы тоже изменили. Теперь она стала асфальтовой с тротуарами по сторонам. Но здесь новая Купавина еще не победила старую.
Со стороны железной дороги, что была совсем рядом, все осталось по-прежнему: низенькие конторы под той же нестареющей охрой, почти скрывшиеся под разросшимися кленами да акациями. Старая баня на высоком фундаменте стояла крепко, как и раньше. Я на мгновение приостановился, дивясь ее непокорности годам. И отец, заметив это, тут же не без гордости сообщил:
— Санко! Верь не верь, мать не даст соврать: в нашу-то баню любители веником поиграть из самого Красногорска приезжают, отбою нет по воскресеньям. Пар держит, как молодая!..
— Правда-правда, — радостно удостоверила мама.
По другую сторону улицы один к одному построились пятиэтажники, одинаковые, как вылупившиеся гигантские цыплята, светло-желтые и ровные. Они ничего не оставили от бараковской стороны и землянушного поселка, с которым мы парнишками все время воевали, нарушили и станционный магазин, на котором всегда приколачивали клубную афишу и приклеивали всякие объявления.
Наконец подошли и к нашей казарме. Выглядела она совсем убогой. Но как только оказались в ограде, со старой скамейки возле кладовок поднялись женщины:
— С приездом, Александр Дмитриевич!..
Я растерялся, оглянулся на своих. К моему удивлению, мать и отец стояли очень довольные.
— Чего же ты, сынок?.. — услышал я отца. — Ответить надо…
Я не совсем ловко поклонился. А мама уже объясняла:
— Саня, это же Варвара Ивановна Полозова. Корнея-то Платоныча, мастера нашего, помнишь? Еще за крушение его забирали вместе с Макаром Заяровым, да потом отпустили. Правда, помер он после войны-то… А это Лизавета, Петра Спирина жена, которого поездом… А это Анисья…
Не сразу воскрешала моя память когда-то близких соседей. Пожалуй, одну Анисью помнил я хорошо, всматривался в нее более внимательно, чем в других. Лишь быстрые, живые глаза стареющей женщины напомнили мне прежнюю Анисью. Но упрека в душе не было.
От всех подала голос Варвара Ивановна:
— Столько годов не видели вас, Александр Дмитриевич, что и не узнать бы на стороне-то. Подумать только: поседеть успели наперед отца…
— Это он в меня, — вмешалась мама. — Я тоже рано зачала…
— Все одно — мужик видный, — подвела черту Анисья.
Все заулыбались согласно. А мы заторопились домой.
После долгой разлуки — долгие расспросы. За ними с купавинской дотошностью меня продержали за столом до вечера, да еще заставили повториться с приходом младшей сестры, жившей своей семьей отдельно от стариков. Бесконечная карусель вопросов умаяла меня вконец, и я решительно переменил разговор, напомнив маме:
— Ты написала, что на Купавиной нынче особого праздника Победы ждут? — И обратился уже ко всем: — А сами об этом ни слова. Так в чем дело? Дата нынче не круглая, как я понимаю?
— А почему мы должны круглой ждать? — сразу взъерошился отец.
— Этот день для Купавиной памятным станет, — попробовала смягчить его мама. — Ты Макара-то Заярова помнишь?
— Конечно. Пропал в войну…
— Нашелся! — сказала она.
— Как так? — опешил я. — Живой?!
— Да нет… — опять вмешался папа. — Героем посмертным стал.
…Если судить по теперешним временам, до войны на Купавиной народу жило не ахти сколько: в маломальскую деревнешку уселились бы. Но, как водится в миру, и в среде купавинского общества были свои уважаемые люди, чей авторитет подвергнуть сомнению не мог никто.
Конечно, были они разные и по должности, и по характеру. Скажем, машинист дядя Ваня Кузнецов прославился необыкновенной лихостью в работе. Или взять Александра Павловича Завьялова, секретаря парткома. Должность у него не рабочая была, как ни верти. А все равно без него на Купавиной ни одно дело не обходилось. И любили его все, наверное, потому, что он никому в совете не отказывал. Той же породы был и Макар Заяров. Отличался от других разве только малословием, отчего и слыл человеком строгим. Ребятня же этого не замечала, потому что Макар в любой просьбе был безотказным, особенно когда дело касалось инструмента или сооружения какого. Говорили, что это он помог Гешке Карнаухову спроворить знаменитый броневик…
На второй год войны, когда стали биться за Сталинград, Макар ушел добровольцем. Жена Мария и дочь Елена, сказывали, хоть и нечасто, получали от него письма. А под конец войны как отрезало: ни одной весточки.
Так и победу встретили.
Потом сделали через военкомат запрос. Дождались ответа, в котором сообщалось, что Макар пропал без вести…
Мария сначала держала надежду, что Макар окажется в плену. Но в разговоре с ней дядя Ваня Кузнецов решительно заявил, что такой человек, как Макар, в плену оказаться не может, потому что живым не сдастся.
— Не тот характер, — объяснил тогда.
А когда о том разговоре прослышал Александр Павлович, то просто удивился людскому несоображению:
— Дорогие мои! Вы что? Забыли, в какое время от Макара последнее письмо пришло? Наши уж по Европе шагали! И не нас, а мы в плен брали.
И уж совсем обидно получилось: сгинул Макар перед самой победой…
Много лет спустя школьная ребятня стала собирать воспоминания своих земляков о войне, о подвигах их, особо почитая погибших. А главное место занял розыск тех, кто пропал без вести. Следопыты из купавинской школы писали в сотни адресов, а когда поднаторели в этом деле, то и с заграничными школярами связь заимели.
И вот, через двадцать с лишним лет, пришло письмо из польского городка вблизи советской границы, которого и на карте не нашли. В нем сообщалось, что в сорок четвертом году возле их городка произошел жестокий бой. В одной из последних атак советский боец закрыл собой амбразуру вражеского дота. Бой прокатился дальше. Убитых не подбирали больше двух суток. И тогда местные жители подобрали тело убитого героя и похоронили на своем кладбище. При бойце был только солдатский медальон, в котором значилось имя Макара Заярова.
О полученном письме купавинские ребята сообщили в военкомат, в дело вступили военные. Медальон Заярова, повторившего подвиг Матросова, из Польши переслали в Центральный архив Советской Армии. Больше года волновались купавинские школьники, ожидая заключения военных. И ко всему были готовы, только не к тому, что произошло: в газете появился Указ о присвоении Макару Заярову звания Героя Советского Союза (посмертно).
С этого и пошло…
В деревне Грязнушке, где родился Макар, в память о нем поставили бюст.
Купавинцы попробовали осторожно протестовать, считая Макара своим. Да и что такое Грязнушка, особенно после войны: жителей в ней почти не осталось, только старушонки ползают между избами, половина которых к тому же заколочена. Уж если ставить памятник герою, так не в безлюдном месте надо это делать, рассуждали купавинцы. Им объяснили, что, во-первых, по закону бюст ставится на родине дважды Героя и грязнушкинцы по своей воле увековечили память односельчанина. А во-вторых, подметили кстати, что Грязнушка вовсе и не такая уж убогая, потому как там есть сельсовет и в нем председатель, который живет там же.
Так и вышел отказ.
Но купавинцы были уже не прежние. Они и раньше-то норовом не страдали: чужому не завидовали, но и свое в руках удержать умели. Да и в правах поднаторели. Сначала по домам, на посиделках, даже в бане, а потом и на работе при перекурах, в конторках, на собраниях ненастырно заговорили о несправедливости, о попранной памяти — и все это в приклад к Макару Заярову. И так как никто их за такие разговоры не попрекнул, насмелились они наконец явиться в местком и партком, не без понятия полагая, что там сидят люди тоже с купавинской душой.
Постепенно разговоры о намерениях перерастали в планы, оставалось дело за решением. А получить его оказалось непросто.
Сначала купавинцев пужанули, что затея их больших денег стоит. Но они не отступились. Когда речь зашла о проекте, тут же вспомнили про Гришку Глухова — сына машиниста Павла Глухова. Четыре года назад он закончил в Свердловске художественное училище и теперь работал во Дворце культуры Нового завода. Гришку еще мальчишкой прозвали художником и сулили знаменитую карьеру, студентом приглашали в бригаду художников, которые расписывали уральскими пейзажами простенки в ресторане нового вокзала на Купавиной. Так вот, Павел Глухов, отец Гришки, поклялся, что тот сделает проект даром.
И, правда, скоро Гришкин проект памятника гулял по всей Купавиной. Кто-то из начальства попробовал намекнуть, что Гришка не специалист по памятникам. Тогда купавинцы официально сообщили, что монумент, воздвигнутый на площади Нового завода заводчанам, погибшим на войне, построен по Гришкиному проекту. Начальству отступать стало некуда: решение приняли.
Выбор места для памятника оказался еще канительнее.
Конечно, купавинцам хотелось, чтобы памятник Макару был на видном месте. Но не меньше значило и то, чтобы на свой пьедестал Макар стал в родной Купавиной, которую ушел защищать на фронт. А такую Купавину найти оказалось непросто.
Под конец осталось два мнения.
Первое, от городского начальства, предлагало установить памятник на привокзальной площади, там, где уже был заложен сквер и действовал фонтан: все гости Красногорска сразу увидят героя, которым гордится город.
Такое объяснение казалось резонным. Но мялись, чесали затылки старики. Вспоминали, между прочим, что когда Макар уходил на фронт, то Красногорска из Купавиной и видно-то не было… Не красногорский житель Макар… Хоть как-то, а надо сделать, чтобы люди знали, что наш, железнодорожный он мужик.
Второе предложение, объявившееся в последний момент, купавинцам пришлось по душе. Памятник советовали поставить возле нового Клуба железнодорожников, разгородив под него угол парка, возле которого и стоял клуб. Сюда со стороны Красногорска подходили сразу три улицы, образуя просторный перекресток. Значит, памятник будет на виду и гости Красногорска, кстати, при въезде в город его не минуют.
Купавинцы же видели в этом еще и свое кровное… Парк, окружавший новый клуб, был остатком некогда шумевшей здесь березовой рощи. В войну в ней образовалось безродное кладбище, на котором хоронили погибших в дороге от болезней и несчастных случаев, включая и солдат. На этом кладбище была и могила, дорогая для купавинцев…
В свое время улицы Красногорска остановились перед ним. И кладбище решили снести. Березовую рощу заметно потеснили новые дома, но она устояла малым островом, переняв имя утраченной могилы, стала зваться Афониной рощей. Ее обнесли красивой оградой, отгородив от людных тротуаров, и нарекли Парком железнодорожников. Для оправдания такого названия наметили в роще аллеи, обсадили их разными кустами и другой низкорослой зеленью.
Купавинцы давно уверились, что с постановлениями разных начальников спорить бесполезно, поэтому про железнодорожный парк смолчали, но от своего не отреклись: для них он стал Афониным парком.
Когда-то они поставили свою станцию, гордились ею и приспосабливали для хорошей жизни, как могли. Грянула война, и многие из них взялись за оружие, оставшиеся перевозили для фронта всякую подмогу. Купавина была их потом, болью и надеждой, прошлым и будущим. Где же еще правильнее ставить памятник Макару Заярову, положившему голову на войне?
На том и порешили.
…— А ты говоришь, праздник не круглый, — заканчивал рассказ отец. — Двадцать шесть годов прошло с войны. Много ли уж живых-то осталось, которые помнят ее всю и рассказать про нее могут? А надо, чтобы помнили.
— Вот я и написала, сынок, — заключила мама. — Ты ведь Макара тоже знал. Неловко было бы тебе не приехать. В нонешний праздник как раз и будут открывать памятник-то…
До праздника оставался день. Чтобы как-то избавиться от накладного внимания родных, я решил неторопливо поглядеть на перемены в Купавиной, заодно познакомиться и с Красногорском.
На привокзальной площади в ожидании троллейбуса я заметил возле газетного киоска крупного военного, покупавшего газету. Когда он повернулся в мою сторону, я уже не сомневался, что где-то видел его. В его лице, круглом, добродушном и необыкновенно моложавом, хотя я и чувствовал, что он никак не моложе меня, в его движениях сильного и уверенного в себе человека было что-то до того знакомое, колко тревожащее память, что я, забыв о приличии, остановился, откровенно разглядывая его. Он, почувствовав это, сначала скользнул по мне равнодушным взглядом, но потом замер на мгновение, и радостная улыбка осветила его широкое лицо.
— Ей-богу, ты Санька Ялунин! — сказал он громко и засмеялся весело.
Не было сомнения: передо мной стоял Васька Полыхаев в чине майора. Не успел я опомниться, как он уже мял меня в своих объятиях, приговаривая:
— Это сколько же мы не виделись?
— С сорок шестого, — ответил я твердо.
— Так и есть, — согласился он. И уточнил: — С весны, когда я в армию ушел.
Васька Полыхаев был старше меня на год. Жили мы до войны в соседних казармах: его отец — Ермолай — работал, как и мой, в пути, только простым рабочим.
Васькин отец был, пожалуй, самым высоким мужиком на Купавиной, а мать — наоборот, совсем маленькая. Васька пошел в отца. Ермолай Полыхаев, спокойный и медлительный, в общении с людьми больше обходился не словами, а так: то плечами пожмет, то рукой махнет, то улыбнется. Ни разу я не слышал, чтобы он изругался или рассердился: все ему было ладно. А мать пошуметь любила. Но отец и сын этого как будто не замечали. Что касается Васьки, то он всегда называл ее матушкой. Такое обращение к матери мне казалось странным. Однажды я не сдержался и спросил его об этом.
— Чтобы не сердилась на меня, потому и зову так, — непонятно для меня объяснил Васька.
— А что, мамой хуже, что ли?
— Так она мне не мама…
Почти десять лет мы с Васькой жили вместе, а только в тот раз я и узнал, что родная Васькина мать умерла, когда ему было два года, а эта была мачехой…
Ни о какой поездке в Красногорск я уже не думал. Мы с Васькой, не сговариваясь, двинулись в сторону моего дома, но, не доходя до него свернули в Афонин парк.
— Давно здесь был в последний раз? — спросил я Ваську.
— Прошлый год, — ответил он.
— А я шесть лет не приезжал, — сказал я.
— Хы! Я как в армию ушел, десять годов не бывал! — весело сообщил Васька. — А что сделаешь? Три года срочной оттрубил, потом в училище согласился ехать. Когда закончил — в Германию загремел, оттуда с отпусками канительно. Уж когда в Прибалтику вырвался, считай — домой приехал. И с той поры в Купавину — каждый год. Куда больше ездить, на курорты, что ли? Ты один приехал?
— Один. — И объяснил: — Я вообще не собирался, да мать написала, просила к празднику успеть.
— Понимаешь, и мои — тоже! — сказал Васька. — А ты знаешь из-за чего нас созвали?
— Узнал.
— Вот так. Я про дядю Макара-то первый раз еще года четыре назад услышал, когда Указ вышел. Шуму здесь было!..
— Пойдем, взглянем на памятник? — предложил я.
— Айда, тут два шага.
Мы прошли вдоль ограды до клуба, и стало видно, где он стоит. Памятник до основания пьедестала был закрыт голубой материей.
— Ладно, подождем до завтра, — сказал Васька. — В пятнадцать ноль-ноль дядя Макар предстанет, в газетке объявляли. — И вдруг заговорщически сообщил, показывая на соседний дом с гастрономом на первом этаже: — С того конца тут пиво выдают. Я уважаю.
— А я нет, — сознался я. — По мне — лучше покрепче.
— Тогда — на вокзал. Там и посидим…
Вокзальный ресторан был пуст. В огромном высоком зале с помпезной отделкой свободно разместилось десятка три столов. В двух-трех местах сидели редкие посетители.
— Здесь всегда так, — увидев мое недоумение, сказал Васька. — И вечером — тоже. Транзитных пассажиров нет. Пригородные больше буфетом обходятся. Наши, купавинские, заглядывают разве только после получки да когда с бабами поругаются.
Официантка, остановившись в стороне, глядела на нас укоризненным взглядом: мы не заказывали.
— Знаешь, почему я иногда захожу сюда? — начал Васька. — Скажу честно: тоскливо на душе. Каждый год рвусь в Купавину, а приезжаю будто прощаться…
— Как это?
— Первый раз приехал сюда через десять лет… То, что наши ребята разлетелись, понятно: учеба уманила. А вот станцию стало не узнать. Раньше, бывало, выйдешь до семафора, поглядишь в сторону — поля, в другую глянешь — леса, ширь распахивается, мир чуешь душой. И чувствуешь благодарность тем, кто выбрал для житья это место… И вдруг кто-то распорядился понастроить тут каменных громадин, отгородил людей от этой красоты, заставил их глядеть себе под ноги… Ты вот сегодня от казармы до вокзала шел, сколько раз поздоровался, с кем перемолвился?
— С тобой.
— И все! — почти торжественно заключил Васька.
— Ты чудак какой-то, Вася, — подивился я. — Забыл, что ли, как Купавина за войну переменилась? Путей вчетверо больше стало, движение, как в сказке, подскочило, и все прочее… И тогда уже сколько нового народу понаехало. Так что ты хочешь? Двадцать пять годов прошло! Красногорск на всю страну знаменитым стал. Новый завод союзного значения…
— Да я не про то! — отмахнулся он от моих возражений.
Васька замолк надолго, удрученный тем, что не может объяснить мне накопившееся у него на душе. Он и раньше, в парнишках еще, не больно ловок был на язык. А сейчас, в серьезных годах, конечно, не мог махнуть словом, не подумавши. Наконец предложил:
— Давай-ка закажем маленько…
Расторопная официантка, не избалованная посетителями, проворно подала графинчик и закуску. Пропустив по рюмке, мы признали, что поступили правильно и вовремя, что и подкрепили еще по одной. Мой Василий заметно оживился.
— Я в Купавиной думаю… Наверное, оттого, что в отпуске от дел отстаю. И что же?.. Вот победили мы в войне, хотя и маялись после победы не один год. Сначала, значит, восстанавливались, потом развивались, за укрепление могущества взялись, так сказать. И я, понятное дело, за это…
Васька говорил не спеша, с расстановкой. И старался еще не спускать с меня глаз, как бы проверяя, как я принимаю его слова.
— Знаешь, что мне больше всего нравилось в отцовском деле? — вдруг спросил он. И сам же ответил: — Вовсе не та, как я сейчас понимаю, главная работа: смена рельс и шпал, рихтовка, подбивка, словом, то, что их выматывало… Верхом в их деле я считал марафет, который они наводили после всего. Помнишь, как вокруг каждого пикетного столбика выкладывали круг из камешков: из белых — поле, а из битого кирпича — красную звезду? А как обиходили бровку? Даже черту по ее кромке специальную проводили! Знай, страна, железнодорожников!.. И когда в соревновании подбивали бабки, эту красоту обязательно принимали в расчет. Значит, красота в деле не последнее место занимала. Пойди погляди на нынешнюю дорогу… Где ее хозяин?.. — Васька помолчал, собираясь с мыслями. — Я вовсе не против всякого строительства. Но пусть оно живет рядом с доброй стариной, а не топчет ее без оглядки. Ведь так-то всякую память о себе у людей отшибить можно…
Я внимательно слушал его, стараясь понять, к чему он клонит. Но он сам искал объяснения:
— Теперь другое припомни… Лет пять, наверное, прошло с войны, когда нарушили безродное кладбище…
— Больше, — поправил я его.
— Пущай десять, не о том речь. Скажи, кому оно помешало? Ладно, мы с тобой про него знаем и про Афоню помним, и про всю войну, какая она перед нами, мальчишками, прокатилась… Теперь суди: Ленинград, Сталинград, Брест и другие геройские города какие дорогие кладбища-памятники оборудовали! А маленькой Купавиной для безымянных павших на военных дорогах, ею прибранных, приюта не оставили. И будто вычеркнули из памяти ту тыловую войну, будто и не было голодной смерти и повальных хворей за тыщи верст от фронта!..
Василий умолк. Тяжелая правда просыпалась в его словах. И все-таки не хотелось соглашаться со всем.
— А купавинцы военной поры? — остановил его я. — Да и мы с тобой помним те дни.
Он усмехнулся.
— О нас с тобой говорить не надо. Где наши однокашники? Из моего класса в Купавиной ни одного парня не осталось, только две или три девки, которые замуж в Красногорск выскочили. Так что, считай, нас тут нет. А про отцов и матерей разговор и вовсе тоскливый: половина уж с жизнью рассчиталась, а тех, что скрипят еще, при нынешнем многолюдье и разглядишь-то не враз…
Мне показалось, что Васька слишком легко расстается с нашей Купавиной. Это походило на предательство.
— Не согласен я с тобой, — решительно запротестовал я. — Вот я наезжаю сюда редко, а вижу: живет наша станция. Погляди, сколько парней по отцовской дороге пошло! Конечно, и тут не без перемен, как и везде.
— Я про то и говорю, — все с той же усмешкой ухватился Васька за мои слова. — Станция — она станция и есть: поезда принимает, поезда отправляет. А люди врозь жить стали… Не как мы, в общем.
— Погоди, погоди! Это как понимать?
— А ты забыл? — в Ваське оживало новое воспоминание. Он даже заволновался, заговорил с придыхом: — Ты вспомни, как мы, парнишки, опускали глаза друг перед дружкой, не давая воли рукам схватить кусок хлеба побольше из школьных пайков, которые приносили в класс? Нам, голодным, было стыдно своей слабости…
— Хватит… — остановил я его.
Мне стало вдруг понятно, почему он, Васька Полыхаев, когда-то самый сильный парень на станции, вечный защитник маленьких и слабых, не мог преодолеть себя в воспоминаниях.
Может быть, оттого, что послевоенные годы без устали крушили нашу прежнюю веру, мы невольно обращали память к прошлому.
Маленькую Купавину не обходили людские беды, но она, перемогая их, умела хранить человеческое достоинство и ценить доступные ей радости и почитать красоту. Потому-то всякое посягательство на то не запятнанное корыстными расчетами время и казалось нам кощунством.
…Расплатившись, мы вышли из ресторана. День разгулялся солнечный, но не жаркий, самый подходящий для прогулки. Вспомнив свое утреннее намерение, я предложил Ваське:
— Послушай, ты тут гость частый, знаешь все. Давай катнем по красногорскому маршруту: я буду смотреть, а ты о городе расскажешь. — Я взглянул на часы. — Времени-то всего три. Ну, как?
— Принято, — не раздумывая согласился он.
Мы отправились к остановке.
От вокзала в троллейбус село не более десятка пассажиров, и мы устроились на удобные для обзора места. Миновав одну остановку, выехали на небольшую площадь, от которой веером расходились три улицы. У начала одной из них, что шла вдоль красивой ограды Парка железнодорожников, стоял затянутый материей памятник.
— Вот в этом месте Купавина кончается, начинается Красногорск, — откомментировал Васька.
К моему удивлению, минут через пять-шесть городские кварталы закончились и троллейбус покатил по асфальтовому шоссе среди леса. А еще через минуту я почти закричал:
— Так это же наш спуск к Каменушке!..
— Он самый, — спокойно подтвердил Васька.
Сделав на безлюдной дороге пару остановок, троллейбус стал забирать вправо, круто спускаясь под уклон.
— А теперь гляди, не зевай… — предупредил Василий.
И почти тотчас лес отстал от нас. Выскочив из выемки, мы въехали на широкий мост, нависший над Исетью. Влево, в километре-полутора от нас, с высокого берега реку перепрыгнул, опираясь на гигантскую дугу, железнодорожный мост.
— А где мост на карьерной ветке? — спросил я Василия.
— Снесен. И ветка разобрана, — сообщил Васька. — Этот, по которому едем, как раз и стоит на месте старого.
Я встал.
— На ближайшей остановке выходим, — объявил Ваське.
— Как скажешь, — поднялся и он.
Остановка оказалась совсем близко. Мы вышли из троллейбуса и вернулись на мост. Теперь Исеть просматривалась в обе стороны. Внизу, у лесного берега, белели причалы большой лодочной станции.
— В той стороне где-то недалеко в Исеть должна впадать Каменушка?
— Два километра отсюда, — уточнил Васька.
— Пойдем туда, а? — попросил я.
— Как скажешь, — последовало великодушное Васьки.
Перейдя мост, мы подались влево. Старая тропинка побежала по краю обрывистого берега. Скоро она отвернула от реки в лесную гущу, а через полчаса привела к выемке, по которой круто в гору шла гравийная дорога. Почти тотчас же услышали и ревущий автомобильный мотор, объявившийся груженным щебенкой огромным самосвалом, тяжело ползущим вверх.
— Теперь влево вдоль дороги, — направлял меня Васька.
Вышли на высокий берег Каменушки. Под нами, внизу, где раньше бежала прозрачная, серебристая на перекатах речка, в которой между камней мы рубахами ловили гольянов, сейчас извивался грязно-рыжий, кажущийся густым, водяной сток.
— Что с Каменушкой?.. — растерянно спросил я.
— А это — Новый завод, который «союзного значения», перекрасил речку, — ответил Васька с издевкой, явно адресованной мне. Да еще спросил: — Искупаться не желаешь ли?..
Ощупывая взглядом берег, на котором, видимо, после весенних и ливневых разливов, оставалась вся грязь, я натолкнулся и на небольшой замусоренный мысок с грудой камней. И память, на мгновение вернув из прошлого сказочное видение, сразу потушила его.
…Из леса выходили без разговоров. И только на асфальте и услышал Ваську.
— На троллейбусе поедем или пешком?
— Пешком, конечно… Неохота толкаться, — ответил я.
Перейдя дорогу и миновав лесной массив, мы снова оказались перед жилыми кварталами.
— Нигде не видел, чтобы вот так: с одной стороны улицы лес, а с другой — дома, — заметил я.
— А он весь такой, Красногорск-то, — отозвался Василий. — Жилье поднимали возле заводов, когда обосновывались. А потом, после войны, стали строиться по берегу Исети, а вдоль дорог потянулись к Купавиной. Лес старались не шевелить, на пустошах же, как острова, появились отдельные кварталы. У них и свои названия есть: Лесной, Берег, Юбилейный, а то и того проще, по лесным кварталам — четвертый, седьмой, одиннадцатый…
— А мы сейчас где? — спросил я.
— К Юбилейному вышли, — ответил Васька, добавив: — Тут, если прямо пойти, как раз возле вашей казармы выйдем. Вот так.
Позади нас на улице показался маршрутный автобус.
— А этот куда? — полюбопытствовал я.
Васька обернулся и, махнув мне, побежал вперед, к остановке.
— Нам подходит!.. — крикнул на бегу.
Когда сели в автобус, я не мог сдержать своего удивления:
— Это из-за чего Грязнушка такая знаменитая стала, что до нее из города автобусный маршрут открыли? «Красногорск — Грязнушка», не смешно ли?
Васька захохотал, замысловато покрутил пятерней.
— Это мы с бдительностью маемся, — объяснил наконец. — Возле Грязнушки уж несколько лет назад большой аэродром с авиационной частью обосновался. Свой городок у них благоустроенный с клубом, детсадами, магазинами, столовой и всем прочим. Наши станционные иногда проникают туда за продуктами. Только школы нет, ребята к нам ездят… Вот и открыли маршрут, не назовешь же его «Красногорск — Военный аэродром»?..
Мы вышли из автобуса возле грязнушкинского переезда, в километре от въездных стрелок.
Да… И здесь Купавина стала иной. Участок дороги был уже двухпутным. Исчез привычный всем, видимый издалека, станционный «сторож» — семафор. Среди новых построек как-то уменьшилось в размерах старое паровозное депо, переоборудованное для электровозов. На бывшем топливном складе не громоздились горы угля. На деповских путях в разных местах стояло с пяток электровозов.
Ни дымка, ни гудка…
Но паровозы не исчезли.
К большому деповскому тупику, что выдавался в сторону челябинской вытяжки, добавили еще один путь. Там-то и притихли двумя километровыми сцепками, приткнувшись друг к другу, продымленные трудяги военной поры. Я попытался сосчитать их, но сбился на шестом десятке… Ухоженные, как состоятельные пенсионеры, с замасленными в деревянных обшивках дышлами, они то ли грелись, то ли дремали на майском солнце. Но высокая белесая полынь, поднявшаяся между шпал до половины скатов, выдавала их долголетнее безделье. И от этого паровозный приют выглядел грустным.
…Мимо нас мощный электровоз медленно втягивал на станцию очередной тяжеловес. Широколобый, хмурый, слившийся с составом, он по-змеиному бесшумно вползал на подъем. В кабине электровоза белел воротничком сосредоточенный машинист.
И память снова воскрешала прошлое…
Длинным гудком будоражил Купавину очередной прибывающий воинский эшелон. Разгоряченный, будто вспотевший, влажно отсвечивающий воронеными боками, с грохотом стреляя в небо дымными выхлопами, а то и сбиваясь на нервную дрожь пробуксовки, паровоз, горячась, забирался с составом на последний перед станцией подъем. От него веяло необузданностью, звероватостью, которые исходили не только от разогретого металла, но и от сверкающих глаз и белеющих оскалов улыбок черномазых извозчиков, которые, высунувшись из будок по пояс, у всех на виду не без нарочитой лихости торжествовали свою победу!..
Мы расставались с Васькой возле нашей казармы.
— Может, зайдешь? — попытался я пригласить его к себе.
— Что ты! И так от матушки попадет, что день где-то прошатался, — отговорился он. — Так что завтра в пятнадцать ноль-ноль.
В тот вечер я долго не мог заснуть. В нынешний приезд в Купавину все приобретало какое-то беспокойное значение: и настоятельный вызов к празднику, и встреча с Васькой Полыхаевым, как будто случайная, но, оказывается, вовсе и нет, так как его тоже просили приехать ко времени. Из-за этого и завтрашний день стал казаться несколько таинственным, потому что вместе с открытием памятника заключал в себе еще какой-то особый замысел. Невольно вспоминались прежние наезды домой с единственным желанием увидеть стариков. Что касалось купавинских новостей, так они узнавались от них же, потому что в гости ходить было не к кому, а коли долетали слухи об одногодках, то за ними бегать и в голову не приходило: они в наш дом являлись сами.
…А думы все не давали подступиться сну. Пришлось признаться себе, что разговор с Васькой Полыхаевым не на шутку разбередил душу. Ведь я, хоть и не сознался в том своему другу, тоже, где бы ни был, а по Купавиной тосковал.
Видно, не четыре стены обозначают мир отчего дома.
Не потому ли мы испытываем радость волнения, когда через много лет встречаемся с любимой лесной опушкой, со знакомой прозрачной речкой, дорогим воспоминанием, неповторимость которых навсегда запечатлена в нашей памяти? И не потому ли такой острой болью откликается сердце на каждую утрату, что случается по вине людей, равнодушных к чужому прошлому?
Наконец я задал себе еще один вопрос: почему в возрасте, которому должны сопутствовать опыт и умудренность, мы часто возвращаемся памятью в свою юность — беспечную пору увлечений и мечтаний? Не потому ли, что, устав от жизненных передряг, от равнодушия и жестокости, от лицемерия и подлости, нам хочется прикоснуться к той чистоте и тому человеколюбию, что рождали в нас высокие помыслы, с которыми мы уходили в жизнь? Или повиниться перед прошлым за дни сегодняшние?..
Вопросов много. А где ответы на них?
Последнее, о чем подумалось, был завтрашний день с предстоящим событием. Он, как и праздник, связывался с прошлым. Но, в отличие от предыдущих, обещал явиться из минувшего в сегодняшний день зримо.
Что он принесет? О чем расскажет?
Особых праздничных приготовлений на станции было не видно. Даже флагов и лозунгов, не в пример другим красным дням, вывесили куда меньше. Народ, в основном ребятня да мужики, тянулся в Клуб железнодорожников, где в фойе была устроена фотовыставка «Железнодорожники — фронту!». В читальном зале библиотеки на отдельном стенде выстроились книжки о войне.
Люди вежливо обходили выставки. И по тому, как они, празднично одетые, старались соблюсти степенность, как усердно хранили на лицах особую серьезность, с какой внимательностью чаще обычного обращались к своим часам, было ясно, что они заняты важным ожиданием.
Ожидание это угадывалось и по домам, где хозяйки до испарины старались управиться со всякой стряпней и приготовлениями к празднику не как всегда — к вечеру, а пораньше. Да и отглаженные платья, развешанные на стульях, разложенные на кроватях, вытащенные из коробок туфли, не говоря уж о тугих повязках на головах, скрывавших заранее прибранные волосы — все свидетельствовало о том, что никто из купавинцев не намерен опаздывать к торжеству ни на одну минуту.
…Купавина преображалась.
За час до означенного времени со всех сторон — через дворы больших домов, по проезду к Клубу железнодорожников и даже из парка — к памятнику потянулись нарядные группы людей. Шли деды, шли сыновья, шли внуки… Начало мая не баловало цветами, но у всех, кто подходил на митинг, они были: хотя бы по одному в детских руках, а у остальных — в горшках: видно, заранее вырастили для сегодняшнего дня. Приближались к площадке перед памятником не сразу, надолго останавливались для разговоров со знакомыми. А подойдя ближе, незаметно табунились уже по-другому: центр ненастырно заняли машинисты, по правую руку от них пристроилась немогучая кучка путейцев, по левую — движенцы. Путейцы сегодня выглядели торжественными: Макар Заяров состоял в их артели.
Еще пустовала трибуна, казавшаяся в многолюдье меньшей, чем на самом деле, а собрались уже все, кто должен прийти и кто мог.
У машинистов последним появился Иван Артемьевич Кузнецов. Был он совсем стар, передвигался маленькими шажками, поддерживаемый двумя внуками-машинистами. А когда подошел, затихли купавинцы, только молчаливыми поклонами встречали великого работника. Непонятно откуда вынырнула табуретка и установилась в самом центре, определяя место дяде Ване.
Тяговики стояли солидным мужским строем. Здесь мужиков было заметно гуще: их почти не брали на фронт. По-иному взглянула война на другие службы: путейцам и движенцам оставила к этому празднику больше вдовьих юбок.
Мы с Василием остановились немного в сторонке от своих. В эти минуты мы забыли друг о друге.
Являлась Купавина…
Минутное волнение тронуло путейское крыло, когда подошли Мария Заярова с Еленой…
Я не встречал ее после войны. Еще вчера, зная, что жена и дочь Заярова станут на этом торжестве первыми людьми, я думал, что мне будет трудно сохранить спокойствие.
Но красивая женщина с пепельными от седины волосами, вольно откинутыми за плечи, не обращала особого внимания на окружающих. Она оберегала свою мать, очень постаревшую. Когда ей приходилось отвечать на приветствия, глаза ее теплились ласковым светом. В одно из таких мгновений я замер: Елена Заярова столкнулась с моим взглядом, словно запнувшись, испытующе всмотрелась в меня и отпустила милостиво.
«Не узнала…» — подумал я, не понимая, огорчился или обрадовался этому.
Мне о ней было известно почти все из случайных разговоров во время прошлых приездов. После болезни, на второй год войны, Ленка Заярова устроилась в станционный детский сад воспитательницей, а через год стала заведующей. Она уберегла от голода ребятишек военной поры и потому, наверное, стала едва ли не самой уважаемой среди купавинцев.
Жила она с матерью. О знакомствах ее или попытках устроить свою судьбу не поминали. Скорее всего, их не было.
— Ты что уперся в одно место? — подтолкнул меня Василий. И сообщил, довольный, словно об открытии: — Ты только приглядись… Сегодня не митингом пахнет, а парадом: Купавина-то прямо-таки построилась, да как интересно!..
— Ну, уж и парад, — из чистого противоречия сказал я. — Это даже не митинг: тут не больше двухсот человек.
— Эх, Саня! Не военной ты косточки. — И он как-то радостно сверкнул глазами: — Парад. Да еще какой!..
До митинга оставалось несколько минут. Пестрая толпа купавинцев утопталась перед памятником и трибункой в аккуратную подкову и, являя привычку к дисциплине, притихла в ожидании главного события. Я видел знакомые, малознакомые и вовсе незнакомые лица и по каким-то необъяснимым приметам легко определял семьи.
— Не семейный ли парад ты углядел? — спросил я Василия.
Он оглянулся и, все так же улыбаясь, посоветовал:
— Ты гляди лучше, гляди…
Теперь, всматриваясь в лица купавинцев, я узнавал почти всех. И еще начинал понимать смысл Васькиного замечания: Купавина разбиралась на свои команды…
Позади дяди Вани Кузнецова плечо к плечу стояли Иван и Костя Захаркины. В сторонку от них отодвинулись их жены с детьми: парнем постарше и двумя девочками, казавшимися одногодками. Тут же была и Надежда Захаркина, полная седеющая женщина с удивительно чистым и добрым лицом. Она держала на руках ребенка. «Интересно, чей это?» — подумал я. И обратился к Ваське с вопросом:
— А где же Анна-то дяди Вани? Не вижу что-то…
— Не спроси еще у кого-нибудь, — шепотом отрезал Васька. — Умерла она… давно уж.
…Рядом с Кузнецовыми по долговязому и худому Павлу Глухову я узнал еще одну семью. Сам Павел года два назад ушел на пенсию, не продолжив, по примеру дяди Вани, на станции своей фамилии. Глуховы вырастили сына и двух дочерей: сын жил и работал на Новом заводе, а девки вышли замуж в Красногорск. Может, оттого и стоял сейчас среди них Павел, задумавшись о чем-то своем, и казался не то серьезным, не то сердитым…
В то время как я разглядывал старых купавинских машинистов, в стороне, где табунились мужики помоложе, из толпы выбрались, прихрамывая, два коренастых паровозника, бесцеремонно заняв место впереди всех. По их виду можно было предположить, что по пути сюда они где-то наткнулись на буфет.
— Вот, пожалуйста! — подтолкнул меня Васька. — Узнал?
— Вроде знакомые… — отозвался я, напрягая память.
— Да не майся ты, — помог он мне. — Поп с Петром это.
— Неразливные, как прежде…
— До старости дожили, а не унялись, — почти с одобрением сообщил Васька. — Ты ведь помнишь: они уходили вместе с Заяровым. Ну, вот… Оба попали в Добровольческий танковый, больше того — в одной роте оказались механиками-водителями. Сначала, значит, один сгорел, потом — другой. Разбросало их по госпиталям, а в Купавиной объявились через два дня один после другого: у Попа правая нога маленько короче левой, у Петра — левая…
Но как бы внушительно ни выглядело присутствие на митинге главной службы, я все время посматривал на наших путейцев. И если у паровозников, помня о Васькином наблюдении, можно было угадать какой-то парадный строй, у путейцев он не проглядывался.
Здесь большинство составляли женщины. Их, кроме Заяровых, в этот день никто и не решился бы поставить вровень с мужиками. Наверное, поэтому они и разобрались по своему, едва приметному признаку. В середине, рядом с Заяровыми, например, стояла Варвара Ивановна Полозова с сыном, которого я и раньше-то никогда не видел, потому что он был старше меня лет на десять. Приехал он, видимо, вчера вечером или ночью.
Почему Полозовы стояли с Заяровыми рядом, понимали не только путейцы, но и все старые купавинцы. После безвинной отсидки вместе с Макаром за крушение в начале войны, из-за которой у мастера Полозова зубы вкривь пошли, он всю войну маялся сердечной болезнью. Только до Победы и хватило его. А семьи так и приросли друг к дружке…
Стуковы причисляли себя к путейцам по своей причине: Корней всю войну, да и после, правил их артелью на покосах, за что и включался в общий пай. Говорили, что, когда сносили Экспедицию, Корнею предлагали казенную квартиру, но он от нее отказался, построив собственный домик в поселке, что вырос возле грязнушкинского переезда. Там Корней и жил вдвоем с Дарьей.
Стуковская семья понесла в войну самый большой урон: четверо их сыновей не пришли домой. Из оставшихся в живых в Купавиной зацепился только Валерка, предпочтя отцовскому дому финский коттедж, из тех, что после войны поставили специально для машинистов. Санька, весь избитый на фронтах, по здоровью больше бухгалтерских курсов науки одолеть не мог и сейчас работал в одном из леспромхозов, что рушили богатые пышминские боры. Единственная дочь Манька, устав перебирать случайных мужиков в Купавиной, после войны завербовалась на Север, там изловчилась выйти замуж и скорехонько нарожать четверых ребятишек.
И вот сегодня Корней с Дарьей предстали на митинге опять серьезной семейной артелью: одиннадцать человек, считая внуков…
Но всех перешиб Степан Лямин… За эти годы он так усох, что стал похож на собственный костыль. Он совсем затерялся среди своих девок, которые пошли в родительскую породу и явились на торжество с таким многочисленным девичьим поголовьем, которое сосчитать было невозможно…
Да… Сравнивая своих с паровозниками, я видел, что в параде они уступают. Те, истые победители, при орденах, не истертых временем, потому как ими каждодневно не хвастали, стояли в центре кряжистым строем.
А рядом, по краям толпы, разместились те, для кого и Победа в свое время не стала праздником, потому что война обернулась для них потерями, тяжелыми и невозвратными. И если сейчас были скорбно светлы их лица, то делал их таким сегодняшний день.
Он равнял их с победителями.
Но вот по толпе прошло новое волнение, воцарив после себя тишину. На трибуну поднялось с десяток людей, незнакомых и непонятно спокойных. Только в одном их них, немного отступившем за спины хозяев трибуны, узнали Александра Павловича Завьялова, бывшего секретаря купавинского парткома, невесть куда и незаметно подевавшегося года через два-три после войны.
Сдал Александр Павлович… Ни стати прежней не осталось, ни уверенности былой. Разве только внимательный взгляд, ощупывающий людей, напоминал прежнего Завьялова, всевидящего и понимающего.
Митинг уже открыл председатель Красногорского горисполкома. Он прочитал по бумажке, какой подвиг совершил Макар Заяров, как проявил уральский характер, за что им и будут отныне, как знаменитым земляком, гордиться все будущие поколения красногорцев.
Купавинцы выслушали речь с почтением, задумчиво глядя под ноги.
Небольшая площадь перед памятником затаила дыхание, пока голубое покрывало медленно сползало вниз, открывая на пьедестале гранитную фигуру.
После минутного молчания другой молодой из руководящих деловито продолжил митинг:
— Слово предоставляется бывшему секретарю железнодорожного парткома периода Великой Отечественной войны…
Этому договорить не дали. Аплодисменты утихли, только когда Александр Павлович, приподняв руку, попросил тишины.
И в ней все услышали сказанное им чуть взволнованно первое слово:
— Купавинцы…
Он остановился, чтобы перевести дыхание, а потом заговорил уверенно и ровно, не напрягая голос, зная, что будет услышан:
— Мы пришли сегодня к Макару Заярову, чтобы вернуться мыслями в годы войны… — Он говорил о Макаре, как о живом. — Взгляните друг на друга, на соседей своих, и вы увидите, что сегодня здесь нет ни одной семьи, которая бы не разделила общую судьбу. Я вижу, что вы пришли сюда с детьми и внуками. Правильно сделали! Сегодня они в полной мере оценят вашу плату за ту горькую и радостную Победу, что стала началом сегодняшнего мира, в котором они живут. Перед этим обелиском мы передаем им свою память. Пусть она не даст им покоя, пока мир не будет избавлен от угрозы новой беды…
Разгадал купавинцев Александр Павлович!
В это время оркестр, которого мы не заметили, заиграл гимн.
…В каске, с развевающейся за плечами плащ-палатке, с автоматом в руке, на высоком постаменте, словно загораживая собой Купавину, стал навечно, вглядываясь в Европу, гранитный Макар Заяров.
1988 г.
В КАЧЕСТВЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ
Маленькая уральская Купавина, железнодорожная станция перед растущим промышленным городом, вместила в себя множество судеб. Они прошли чередой в трех повестях и эпилоге, составивших эту книгу Сергея Бетева.
Мы увидели Купавину еще мирную, предвоенную, полупоселок-полудеревню, где служебные заботы паровозников и путейцев привычно переплетались с крестьянскими и трудно порой было вычленить, какие важнее. Мы узнали Купавину в годы войны, когда все как бы придвинулось к станции, к убегающим за горизонт рельсам, этим зримым, обретшим иную значимость стальным нитям, связующим теперь не просто знакомые и незнакомые города, а нечто огромное, тревожное, единое — фронт и тыл.
— Опыт убедил, — как-то сказал Сергей Михайлович, — что рассказывать о больших событиях совсем необязательно через большие личности. Мне ближе самые простые люди…
Единственный, пожалуй, более или менее крупный начальник во всех трех повестях — секретарь парткома Александр Павлович Завьялов, но и он не главная фигура. А главными стали у С. Бетева рядовые труженики — машинисты и их помощники, рабочие депо и подсобники, домохозяйки, совсем незаметные ранее юноши и девушки, даже сторож магазина. Без преувеличения можно сказать, что писателю удалось в этих образах воплотить и беззаветное мужество, и высокие нравственные качества — все то, что было характерно вообще для тыла во время Великой Отечественной.
В капле отразился мир.
Повести писались в разное время, но в той последовательности, в какой представлены в книге. «Своя звезда» была опубликована в середине 60-х в «Юности». Борис Полевой, бывший тогда главным редактором журнала, дал повести название «А фронт был далеко». Можно считать, что он подарил название и нынешней книге. Повесть «Афонин крест» в конце 70-х увидела свет в журнале «Уральский следопыт», «Главный подъем» был опубликован в «Урале» в начале 80-х. С. Бетев почти закончил работу еще над одной «купавинской» повестью — «Колдунья». Уже обозначился крупный роман, составленный из этих произведений, — многоплановое повествование о тыловых буднях, о народе, пережившем войну и утвердившем Победу. Я не знаю на Урале другого писателя, который бы решал такую творческую задачу.
Вглядываясь в книгу, хотелось бы отметить еще одну ее особенность. В повестях на равных со взрослыми живут юные герои — мальчишки и девчонки. С любовью, ярко рассказал о них С. Бетев, сам в те годы подросток, с лихвой хлебнувший общего горя. Кому, как не ему, помнить о своих сверстниках! Эта грань, тесно соседствуя в повестях с другими, высвечивает особый смысл нашей войны. Теряя последние силы, защищали воины фронта и тыла не только родную землю, а род человеческий, который прежде всего олицетворяется детством.
…Часто бывает так: прочитав книгу, мы не раз возвращаемся к ней и вспоминаем, может быть, не самое главное, но то, что сегодня, сейчас находит перекличку с нашими мыслями, нашим настроением. Каждый, по всей вероятности, в разное время задумается о разном. (От этого, наверное, и рождаются споры о книгах. От этого, наверное, нас тянет перечитывать некогда читанное и удивляться новому восприятию, казалось бы, уже знакомого.) Вот и я скажу, о чем подумалось мне помимо того, что уже отметил.
Бабушка Александра из повести «Своя звезда» — персонаж вроде бы не первого плана. Но вот почему остановила на себе внимание.
Нам осталось неведомо, какое счастье пережили Ленка Заярова и молоденький лейтенант, встретившись на Купавиной в короткий час остановки воинского эшелона. Но ведомо, что погиб лейтенант под бомбежкой, не доехав до фронта. Вмиг оборвалась любовь. Черное известие подкосило Ленку.
Надо многое пережить, подойти к какой-то существенной грани, последнему метру перед пропастью, чтобы вдруг задать вопрос: «А для чего люди живут?» Бабушка Александра сердцем почувствовала отчаяние внучки и ответила сердцем: «Для жизни». Заторопилась пояснить ответ на примерах-судьбах односельчан: один, не щадя себя, спас из огня ребятенка, другой порушил всю семью, снедаемый жаждой наживы.
«Для жизни» — это не для одного себя, для всех.
С той поры мало-помалу разомкнулась душа девушки, увидела она не только свое неизбывное горе, но и горе других.
Жить для жизни — вечное призвание человека.
«Своя звезда» — о войне, о давно прошедшем 41-м. А разве сегодня отошли в небытие личные драмы? Разве сегодня кто-то, отчаявшись, не может так же спросить: зачем живу? И не у всякого, ощутившего бездну, найдется бабушка Александра. Но запечатлен ее облик в повести, далеко слышны ее негромкие слова. Стало быть, она уже для всех, бабушка Александра.
Бедой занесло Афоню в Купавину — на родной рязанской земле стало невмоготу. А тут, на станции, и работа нашлась — сторожем при магазине, и крыша над головой — передвижной домишко-вагончик. Много ли человеку надо.
Не было у Афони ни семьи, ни детей, и как-то само собою вышло, что привязался он к купавинской мелкоте… Впрочем, вы прочли «Афонин крест» и все это знаете.
Мне бы хотелось «оглянуться» на несколько слов, сказанных автором как бы мимоходом. Помните, тяжкой зимой 42—43-го годов, когда в Купавиной свирепствовали и холод и голод, Афоня исхитрился подкармливать ребятишек в десяти семьях. А у одной Альфии было пятеро. Мизерные запасы быстро иссякли, и он стал отдавать свой паек. От голода начали у Афони опухать ноги. «А купавинские бабы! Нет, не знали они своей души… не ведали они, что в душах их живет первозданная доброта. Она-то нынешней весной и заставила их постоянно помнить о маленькой караулке возле магазина, в которую на их глазах стучалась лихая беда».
Самопожертвование Афони вызвало в людях ответную волну. И, надо полагать, не только к нему. Пришибленные похоронками и дикой нуждой люди словно распрямились. Доброта разбудила доброту…
Мы нередко сетуем нынче на разные неурядицы, хотя в общем-то, слава богу, нет ни войны, ни голода, не босы, в домах тепло. Нет, не поймите меня превратно, я, конечно же, за то, чтобы жить богаче. Народ этого заслужил. И это будет. Обязательно.
Но значит ли жить богаче — быть добрее?..
В «Главном подъеме» ненавязчиво говорится об истинном ладе в семье машиниста Ивана Артемьевича Кузнецова. И война со всеми ее сложностями, изматывающим трудом и нехватками не поколебала, а лишь упрочила этот лад.
В эту-то семью и пришел Костя Захаркин, женившись на дочери Кузнецовых Надежде. В семье и окрепло у него чувство долга перед ближними, перед товарищами по депо, перед всем тем, что называем мы своею малой родиной и своею страной.
Вот, собственно, истоки подвига Кости. Он и в мыслях не мог допустить, чтобы ведомый ими железнодорожный состав, не одолев подъема из-за неисправности в котле паровоза, спятился на станцию и вызвал аварию, не мог допустить, чтобы в горячую топку полез Иван Артемьевич — пожилой, уже изработавшийся. Он пошел сам.
Война распределила потери: досталось вдоволь и фронту, и тылу. И если фронтовые более или менее подсчитаны, то тыловые, наверное, и не сосчитать. Не велось такого счета. От болезней, голода, непосильной работы скончалось великое множество. Вспомните безродное кладбище в Афониной роще. Первым тут закопали пятилетнего мальчонку — из беженцев. И пошли расти среди берез холмики грустных отметин. И это в одной только небольшой Купавиной, которую и на карте-то не найти.
Вот и Костя не дожил до Победы. Но приблизил ее…
Заканчивая трехтомник своих воспоминаний, маршал Жуков писал:
«…Я убежден: время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. Это было необычайно трудное, но и очень славное время. Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, будет всю жизнь потом черпать силы в этой победе.
Это справедливо и для всего народа… В те годы мы еще больше закалились и скопили огромный моральный капитал».
Думается, что об этом капитале народа, умноженном за тяжкие годы военных испытаний, прежде всего и рассказал нам С. Бетев.
Впрочем, думается и дальше. Моральный капитал — это ведь не слиток золота, который и за тысячу лет не уменьшится в весе. Моральный капитал текуч. Он в беспрерывном движении, он может расти, умножаться, но, увы, и таять. Нет, наверное, большего горя, чем потеря народом такого капитала.
А как же сегодня? Окидывая взглядом нашу нынешнюю бурную и противоречивую жизнь, давайте не поторопимся с ответом. И это к лучшему, ибо слишком часто мы торопились, и слова обгоняли истину.
Уже одно то, что люди все сильнее жаждут справедливости, правды, милосердия, настоящей красоты и любви, — добрый знак возрождения.
Пусть же и добрые книги помогут нам.
Л. Румянцев