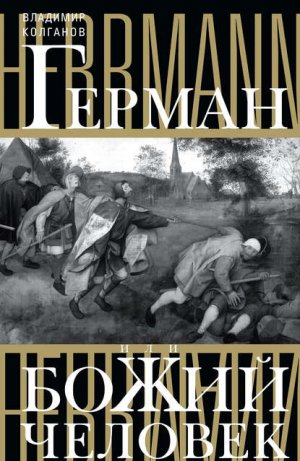
Herr mann – говорят, что в переводе с немецкого языка это означает «Божий человек». Если так, то эта книга о трех поколениях «божьих людей». Об одном, замечательном советском писателе, уже основательно забыли. Другой, известный кинорежиссер, за свою жизнь сделал все, что смог, и тем заслужил признание немалого числа зрителей. Ну а у третьего, тоже кинорежиссера, полагаю, звездный час еще где-то впереди.
Прежде чем начать рассказ, приведу отрывок из статьи Алексея Германа, опубликованной в 1979 году:
«Украшать, приподнимать, романтизировать человека, по-моему, как-то неловко. Как стыдно бывает смотреть фильмы, рассказывающие о человеке в такой вот приукрашивающей манере, возникающей то ли на основе чистых заблуждений, то ли осознанной конъюнктурности. Человек заслуживает лучшего, большего. Его нужно постигать, не боясь в нем разочароваться».
Я попытаюсь следовать этому пожеланию Алексея Юрьевича.
От автора
Глава 1. Родословная
При анализе творчества любого художника невозможно обойтись без выяснения того, кто были его предки, каким занятиям посвятили свою жизнь, каковы были их взаимоотношения с властью, поскольку многое из того, что было им присуще, если и не передается по наследству, то вполне может повлиять на мировоззрение даровитого потомка. Поэтому прежде, чем приступить к жизнеописанию Юрия Павловича Германа, популярного в середине прошлого века писателя, расскажу о других представителях семьи, иными словами, попытаюсь составить родословную.
Начну с того, что сын Юрия Павловича, Алексей, говорил по поводу своих корней:
«Я, например, на четверть еврей, на три четверти русский. Я всегда говорю, что я еврей, потому что не хочу, чтобы мне подмигивали, вот это мне противно: ну да, ты устроился. У меня была прекрасная мама, и у меня был прекрасный отец. Прекрасная мама наполовину еврейка, и прекрасный отец чистый русский».
Помимо Алексея, у Юрия Павловича Германа был еще один сын, от другого брака – Михаил, ныне известный искусствовед, знаток французской живописи, профессор, главный специалист Русского музея, автор нескольких десятков монографий по искусству. У него свой собственный взгляд на происхождение отца. Вот что он пишет в книге «Сложное прошедшее» о Юрии Германе: «Согласно известным мне семейным преданиям, его отец, мой прадед, был подкидышем в еврейском местечке, где квартировал полк – стало быть, плод преступной любви пылкого солдата (а то и поручика, кто знает!) и доверчивой девы. Отсюда и данная младенцу фамилия «Герман» – Божий человек, и имя «Николай» в честь еще царствовавшего тогда Николая Павловича, и служба в кантонистах, и, несомненно, еврейские корни во мне».
Вообще-то довольно странная гипотеза о происхождении фамилии. Надо сказать, что Германов и в Лифляндии, и в Петербурге в те времена было немало. Неужто все были потомками подкидышей? Если исходить из того, что Герман – это «Божий человек», тогда следует принять во внимание и древнееврейское значение имени Иван (Йоханан), то есть «Божья милость». Вполне логично было бы называть подкидышей именно этим именем, однако к чему же мы в таком случае придем, ведь на Руси весьма распространены и имя Иван, и фамилия Иванов?
И все же Алексей Герман настаивал именно на этой версии своего происхождения:
«Подкидышем был мой прадед, который попал в семью русского генерала в Варшаве. Генерал, очевидно, был достойный человек. Воспитал его, отдал в кадетский корпус принца Ольденбургского. Но фамилию свою не дал, а записал ребенка Германом».Это изложение все той же, принятой в семье легенды – как видим, ее горячим сторонником был Алексей Юрьевич. Но вот что пишет его единокровный брат в своих воспоминаниях о деде, Павле Николаевиче: «Его происхождение окутано некоторыми даже мифами. Нынче о нем где-то сказали или написали, что он был аж «царским офицером», внебрачным генеральским сыном, кадетом, что звучит чуть ли не отзвуком «Белой гвардии». Он действительно в Первую мировую войну вышел в штабс-капитаны, но ни красным, ни белым особенно не служил и потом всю жизнь тихо работал счетоводом».
Что ж, каждый член семьи может иметь собственное мнение по столь щепетильному вопросу. Можно ли это запретить? Наверное, нет, однако хотелось бы докопаться здесь до истины, а там и поглядим, был ли во всем этом какой-то смысл.
Теперь обратимся к воспоминаниям Михаила Юрьевича о бабушке по отцу, Надежде Константиновне Игнатьевой:
«Она из обедневшей барской семьи Игнатьевых, едва уловимо связанной чрезвычайно дальним родством с той действительно аристократической ветвью, откуда произошел известный дипломат и писатель Алексей Алексеевич Игнатьев – автор модной в свое время книги «Пятьдесят лет в строю».
Эта неуловимая связь тоже вызывает подозрения. Если исходить из того, что первыми людьми на Земле стали небезызвестные Адам и Ева, то все мы как-то связаны, вот только связь эту вряд ли можно проследить. И все же то и дело приходится встречать утверждение, будто бабка Алексея Германа, Надежда Константиновна, была дочерью генерала царской армии. Увы, как я ни старался, Константина Игнатьева среди русских генералов не нашел. Зато обнаружил двух подпоручиков и вместе с ними капитана.
Знакомство Павла Николаевича Германа с будущей супругой, Надеждой Константиновной, произошло в ту пору, когда он в звании подпоручика служил младшим офицером 5-й роты 116-го пехотного Малоярославского полка, квартировавшего в губернском центре Лифляндии, в Риге. Как удалось выяснить, в том же полку числился и подпоручик Дмитрий Константинович Игнатьев – он-то, по-видимому, и познакомил свою сестру с Павлом Германом. В начале XIX века отец Дмитрия Константиновича служил там же, в Риге, в 177-м пехотном Изборском полку – в 1900 году поручик Константин Николаевич Игнатьев был делопроизводителем полкового суда, через несколько лет получил звание капитана и, вероятно, в звании штабс-капитана вышел в отставку. Павел Николаевич Герман в январе 1913 года также снял погоны: «согласно собственному желанию зачислен в запас армейской пехоты по Рижскому округу». До самого начала Первой мировой войны служил он столоначальником Казенной палаты в Риге, имея чин коллежского секретаря. Весьма незавидная судьба для сына генерала, если верить семейному преданию. А ведь, рассказывая об отце, Алексей Юрьевич Герман утверждал: «Он же из офицерской семьи, дед его – генерал». Правда, в другом интервью было сказано несколько иначе:
«Мой папа, кстати, тоже дворянского происхождения… просто отец его был военным, дед был подполковником».Однако и с «подполковником» не все было понятно. Вот что Алексей Герман говорил еще в одном интервью: «Я не знаю, был дед полковником или генералом. По данным отца – генералом. По данным его двоюродного брата, хорошего французского художника Константина Клюге, полковником. Он был начальником воинской губернии Кеми. Мы пытались туда съездить, что-то раскопать, но там ничего не осталось».
Возможно, дело в том, что отправились не по тому адресу, поскольку никакой воинской губернии Кемь в природе не существовало. На самом деле капитан Константин Николаевич Игнатьев был начальником местной воинской команды Кемского уезда Архангельской губернии. Одновременно он являлся членом правления и делопроизводителем местного комитета, а также уполномоченным городского собрания, в которое входили исключительно мещане. Из этого можно сделать вывод, что мать Алексея Германа никакого отношения к дворянскому роду Игнатьевых не имела.
Но вот опять в одном из интервью Алексея Германа встречаем утверждение:
«Мой прадед в одиннадцать лет крестился, а в старости стал генералом, действительным статским советником и служил в Святейшем синоде».Увы, о каком прадеде шла речь и как ему удалось одновременно быть генералом и действительным статским советником, это так и осталось тайной за семью печатями. Видимо, все дело в том, что соблазн отыскать в своей родословной какую-нибудь важную персону весьма распространен – кто-то считает своим предком князя, кто-то гордится прадедом, который был избран предводителем уездного дворянства. Ну вот и Алексея Юрьевича это увлечение не миновало.
Если же речь зашла о версиях, то наиболее правдоподобной мне кажется такая. Среди жителей Риги накануне Первой мировой войны числился ветеринарный врач Николай Иоаннович Герман. Скорее всего, отец его был Иоганн или Йоханан, а сын переменил отчество на более приемлемое, как ему казалось. Так вот, Николай Герман вполне мог оказаться отцом Павла Николаевича и прадедом Алексея Юрьевича. Кстати, не отсюда ли любовь Юрия Павловича Германа к врачам, нашедшая воплощение в его книгах? Что же касается происхождения фамилии, то и здесь возможны варианты. Скажем, историк Потто, рассказывая о Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, много восторженных слов посвятил Ивану Ивановичу Герману. Но вот что он пишет:
«Генерал-майор Герман, собственно Герман фон Ферзен, был родом саксонец, но носил русское имя Ивана Ивановича и по своему уму, привычкам и образу жизни был чисто русский человек. Как выдающийся по своим способностям офицер, он еще подпоручиком был назначен в Генеральный штаб, и после первой турецкой войны, давшей ему случай отличиться, на него возложены были важные по тому времени поручения…»О поручениях здесь рассказывать не буду, только замечу, что генерал Герман стал героем Русско-турецкой войны.
К сожалению, проследить родственную связь героев этой книги с Иваном Ивановичем мне не удалось, а потому обращу ваше внимание на следующий любопытный факт. В дореволюционном Петербурге жил еще один Павел Николаевич Герман, помимо того, что находился в Риге. Этот Герман имел чин гвардии полковника и служил в Главном артиллерийском управлении. Можно было бы не обращать внимания на это совпадение, но дело в том, что у полковника был сын – Юрий Павлович Герман, собственной персоной! Конечно, хотелось бы провести некую параллель между двумя полными тезками и однофамильцами, однако в 1921 году капитан-артиллерист Юрий Герман трагически погиб. В то время он по заданию штаба Северо-Западной армии белых был заслан с разведывательными целями в Петроград, но выдан предателем и застрелен при попытке ареста. Добавлю, что в императорской армии служили еще и Константин Николаевич, и Юрий Николаевич Германы. Не исключено, что популярность фамилии Герман среди царских офицеров стала косвенной причиной появления семейного предания о деде-генерале.
Прежде чем продолжить рассказ о династии Германов, писателей и кинорежиссеров, упомяну еще об одной ветви их родословной. В том же 116-м Малоярославском пехотном полку, где служили Павел Герман и Дмитрий Игнатьев, до 1910 года числился подпоручик Константин Иванович Клуге, один из шести сыновей выходца из Пруссии купца второй гильдии Иоганна-Христиана Клуге, совладельца фирмы по торговле бессарабскими винами «Шеффер и Фосс». Следуя примеру своего товарища, Константин Клуге женился на другой сестре Дмитрия Игнатьева, Любови Константиновне – видимо, обе сестры-близняшки были довольно привлекательны. В 1917 году капитан Клуге закончил курсы Академии Генштаба, а затем воевал в армии Колчака, дослужившись до полковника. Позже вместе с семьей он перебрался в Харбин. Один из сыновей Клуге, тоже Константин, стал известным художником и жил в Париже, другой обосновался в Штатах и со временем разбогател. Вот с этим представителем семейства Клуге, Михаилом Константиновичем, связана весьма интересная и поучительная история.
Есть на острове Антигуа, что принадлежит к группе Малых Антильских островов в Карибском море, красивейшее место – Half Moon Bay, что в переводе означает бухта Полумесяца. В 1971 году Михаил Клуге вместе с двумя американскими партнерами основал фирму Half Moon Bay Holdings Limited, которая должна была превратить побережье этого залива в место отдыха для богатой публики из Европы и Америки. Одним из партнеров Клуге стал Пол Меллон, сын владельца Банка Меллона, обладатель многомиллионного состояния, а кроме того – известный коллекционер, филантроп и любитель скаковых лошадей. За два года фирмой HMB был реконструирован отель, построены девять полей для гольфа, бассейн, теннисные корты, и вскоре в бухту Полумесяца потянулись знатные и весьма богатые гости. Курорт стал флагманом антигуанского туристического бизнеса. Здесь побывали Одри Хепберн, Элтон Джон, Бьерн Ульвеус из группы «АББА», писатель Джон Ле Карре и даже бывший советский шахматист Борис Спасский.
Фирма, а вместе с ней и Михаил Клуге, процветала почти двадцать лет, но постепенно начались проблемы. Сначала ее покинули партнеры, а в сентябре 1995 года на остров Антигуа обрушился тропический ураган «Луис», разрушивший пляжи и нанесший повреждения зданиям отеля. К этому времени Михаил Клуге отошел от дел, а фирмой руководила его жена Галина, позже ей на смену пришла дочь Наталия. Проблема была в том, где взять 12 миллионов долларов на восстановление отеля и выплату компенсации уволенным полутора сотням его работников – как выяснилось, местная фирма, с 1993 года осуществлявшая непосредственное управление отелем, не удосужилась застраховать имущество от подобной катастрофы. Была предпринята неудачная попытка избежать выплат весьма оригинальным способом: бывшая владелица фирмы Галина Клуге предъявила иск своей дочери, согласно которому HMB должна была выплатить госпоже Клуге 14 миллионов долларов. Чего не сделаешь, чтобы спастись от разорения! Но время шло, владельцы отеля искали спонсоров для его восстановления, а правительство Антигуа и Барбуды из-за этого теряло около трех процентов доходов от туристического бизнеса.
Лакомый кусок в виде бухты Полумесяца привлек внимание техасского миллионера Аллена Стэнфорда, владельца компании, очень напоминавшей финансовую пирамиду, за что он через несколько лет и поплатился 110 годами тюрьмы и конфискацией имущества. Ну а пока правительство Антигуа и Барбуды, получившее выгодные займы от Стэнфорда в обмен на рыцарское звание, стало требовать от наследников Клуге продать отель по дешевке новоявленному рыцарю – видимо, тут присутствовал и личный интерес кое-кого из членов кабинета министров. Получив отказ, власти решили принудительно выкупить отель за небольшую сумму, что и было сделано – фактическая конфискация частной собственности произошла в 2001 году. Компании HMB потребовалось несколько лет, чтобы добиться права на получение справедливой компенсации от властей Антигуа и Барбуды. Такое решение принял лондонский тайный совет, Her Majesty Most Honorable Privy Council, который формально является совещательным органом при королеве – к счастью для семейства Клуге, Антигуа и Барбуда входят в состав Британского Содружества. И вот с 2007 года до самого последнего времени один за другим шли судебные процессы, на которых владельцы HMB требовали выплаты компенсации, которая с учетом процентов доходила почти до 70 миллионов долларов.
17 октября 2013 года дочь Михаила Клуге направила письмо редактору Daily Observer с тем, чтобы еще раз привлечь внимание американской общественности к этому делу:
«8 марта 2013 года Высокий суд вынес решение, обязательное для суда низшей инстанции, согласно которому министр финансов Антигуа и Барбуды должен был отдать распоряжение для оплаты полной суммы, недостающей на счете HMB Holdings Limited. Впоследствии, в апреле, мае и июле, наши поверенные направляли министру финансов и генеральному прокурору письма с просьбой сообщить, когда решение суда будет выполнено. Ни одного ответа ни на одно из наших писем мы не получили. 25 июля 2013 года мы обратились в Высокий суд с тем, чтобы он установил дату исполнения своего решения о выплате компенсации HMB. Слушание по этому вопросу было назначено на 3 октября…»Далее в письме речь идет о том, что министр финансов Антигуа и Барбуды под присягой сделал заявление, будто требуемые платежные документы уже оформлены и деньги скоро будут перечислены на счет HMB, что стало поводом для отсрочки рассмотрения заявления истцов в суде до 14 ноября 2013 года. Письмо в редакцию завершается словами: «Ясно, что постановления суда были нарушены, что министр финансов неоднократно лжесвидетельствовал и что имеет место явное игнорирование решений суда и проявление непочтительности к закону со стороны всех представителей правительства Антигуа и Барбуды, вовлеченных в это дело. Если оплата не будет полностью произведена к 22 октября, мы будем искать другие юридические пути для выполнения решения суда».
К этому следует добавить, что в некоторых газетных публикациях эта затянувшаяся тяжба квалифицировалась как проявление дискриминации со стороны правительства Антигуа и Барбуды по отношению к белой женщине. Вот даже до чего дошло! Увы, очень похоже, что время благоденствия для семейства Клуге миновало безвозвратно, а либеральная экономика и независимый суд далеко не всегда соответствуют тем принципам, в незыблемости которых нас неоднократно заверяли.
Замечу, что столь подробный рассказ о финансовых неурядицах в семействе Клуге приведен здесь только потому, что еще не раз в этой книге придется упомянуть богатого дядюшку из Соединенных Штатов.
Однако оставим наследников Михаила Клуге и обратимся к биографии Юрия Павловича Германа. В качестве его первой жены обычно называют Людмилу Владимировну Рейслер. Михаил Герман так пишет о своем деде:
«Владимир Павлович Рейслер родом из мелкого служилого остзейского дворянства, натурализовавшегося в Петербурге, кажется, при Анне Иоанновне».Действительно, Рейслеры проживали в Петербурге еще в XVIII веке. Известно, что один из Рейслеров, браковщик Петербургского порта, в 1799 году владел двумя домами на 2-й линии Васильевского острова. В одном из этих домов, на углу Малого проспекта и 2-й линии, жил позже и Владимир Павлович с семьей и престарелыми родителями, Павлом Ивановичем и Юлией Самуиловной.
Продолжу цитату из воспоминаний Михаила Юрьевича:
«Инженер-путеец… он был монархистом, но Николая II, как большинство здравомыслящих профессионалов, не любил… Перед революцией дед стал уже начальником, кажется, Московско-Курской дороги, тайным советником с двумя звездами, ждал «действительного тайного» и «Александра Невского». Вместо этого случилась Февральская революция, и ему предложили место товарища министра путей сообщения во Временном правительстве. Он решительно отказался: «Я присягал государю императору»… Его посадили. А большевики выпустили как жертву Временного правительства».Тут требуется некоторое уточнение. В годы войны Владимир Павлович служил начальником и Московско-Курской, и Нижегородской, и Муромской дорог, затем получил звание действительного статского советника и был назначен помощником начальника Управления железных дорог, а в марте 1917 года – заместителем начальника этого Управления. В сентябре того же года он стал начальником административного управления железных дорог и членом Совета министра путей сообщения. Так что его конфронтация с Временным правительством ничем не подтверждается. Лишь после Октябрьского переворота, уже в декабре 1917 года, приказом министра Елизарова он был освобожден от должности «за нежелание нести служебные обязанности и вступить в сношение с должностными лицами, назначаемыми Советом Народных Комиссаров, что лишает возможности наладить правильную работу в министерстве». Однако с приходом в МПС Феликса Дзержинского в 1921 году на работу в министерство вновь были возвращены профессионалы из «бывших», в том числе и Владимир Павлович, назначенный начальником Петроградского округа путей сообщения.
Юрий Павлович с Людмилой Владимировной после женитьбы жили в одной квартире с тестем. Об этом рассказывает их сын, Михаил:
«Летом 1935 года отец получил квартиру в так называемой писательской надстройке – на канале Грибоедова… три крохотные комнаты, кухня без окон. До этого родители и я жили в одной комнате на Васильевском, в доме, что на углу Малого и 2-й линии».Кстати, в доме на канале Грибоедова к 1935 году получили квартиры многие известные литераторы, скажем, Николай Заболоцкий, Евгений Шварц. Жил там и Михаил Зощенко, он занимал тогда самую большую, пятикомнатную квартиру, в то время как у Юрия Германа были всего «три крохотные комнаты, кухня без окон». А между тем у Зощенко и у Германа было нечто общее. Михаил Михайлович, как и Юрий Павлович, был потомком переселенцев из Европы. Прапрадед Михаила Зощенко перебрался на Украину в конце XVIII века, был он по профессии архитектором, зодчим. Отсюда и вновь обретенная им фамилия – Зодченко, плавно перешедшая со временем в Зощенко.
Но возвратимся к семейству Рейслер. Интересная история связана с отцом Владимира Павловича – Павлом Ивановичем Рейслером. Оказывается, он был близким другом художника Павла Федотова. В конце своей недолгой жизни Федотов страдал психическим заболеванием. Вызвано это было, скорее всего, переутомлением, поскольку художник работал не щадя себя, только бы выбраться из бедности. Так вот, титулярный советник Рейслер помог ему устроиться на лечение в частную психиатрическую лечебницу на Песках, уплатив 160 рублей за два месяца вперед. Позже царь по просьбе друзей и коллег художника выделил 450 рублей для того, чтобы поместить Федотова в больницу Всех Скорбящих на Петергофском шоссе, где Федотов вскоре умер. Кстати, 160 рублей Рейслеру были возвращены. Надо заметить, что сумма эта была по тем временам немалая для мелкого служащего. Откуда же взялись у него такие деньги?
Чтобы разобраться в этом, обратимся к письму Федора Михайловича Достоевского, написанному им своему другу Павлу Исаеву в октябре 1867 года:
«Что ж они меня мучают, не дают мне работать? Например, эта шельма Рейслер – которой я заплатил более 400 р. чистых денег, она должна бы это понимать. Ведь если б я не переписал братнин вексель, то и до сих пор ни копейки бы не получила. Теперь я должен ей 100 р., кажется, которые уж сам взял. Так ведь она готова на меня всю подноготную поднять… Ради бога, Паша, не говори никому мой адрес никогда… Тебе я всегда мой ад рес скажу, но никому, никому не говори, не то что кредитору, а просто никому. А чтоб кончить с Рейслер, то если увидишь ее, скажи ей, что ее деньги верны и что я разом ей заплачу, а проценты так и очень скоро».Здесь речь идет о кредиторше Достоевского А. И. Рейслер, которой писатель должен был по векселям уплатить «капитал и проценты», долги покойного брата. Если предположить, что это сестра Павла Ивановича, тогда можно понять, откуда у него взялись деньги на лечение Федотова. Впрочем, он мог воспользоваться и теми деньгами, что ему достались от отца. Кстати, эта Рейслер являлась прототипом «иностранки и сверх того мелкой процентщицы» Ресслих из романа «Преступление и наказание».
Однако вернемся к биографии Юрия Германа. В 1936 году он расстался с Людмилой Владимировной Рейслер и женился на Татьяне Александровне Риттенберг. Ее отец Александр Владимирович, присяжный поверенный и присяжный стряпчий, накануне Первой мировой войны имел звание надворного советника. Семейство Риттенберг владело в начале прошлого века в Петербурге компанией по продаже сукна, обуви и мануфактуры. Основали компанию Владимир Азриелевич (Израилевич) Риттенберг и его брат Аарон. В предреволюционные годы суконным делом занимался Аркадий Александрович Риттенберг, прочие же братья Татьяны Александровны выбрали иные, менее доходные занятия – один был доктором медицины, другой работал адвокатом, третий стал аптекарем. А вот Сергей Александрович, в семье его почему-то называли Гуля, бывший учитель словесности, в 1920 году решил присоединиться к армии Врангеля, но к тому времени, когда он добрался до Крыма, войска барона уже потерпели поражение. Пришлось эвакуироваться вместе с войсками – так объяснял причины эмиграции своего дяди Алексей Герман. Оказавшись в Финляндии, Гуля занялся литературной критикой, став вдохновителем создания литературно-художественного кружка в Выборге, преподавал на кафедре славистики Стокгольмского университета.
Побывала в эмиграции и Татьяна Риттенберг, однако в начале 20-х годов она вернулась. Вот что рассказывал об этом возвращении Алексей Герман:
«После этого, чтобы устроиться в медицинском институте, мама бешено стала устраиваться еврейкой – евреев тогда брали, а русских нет. Доказать было трудно, и помогла взятка».Чудны дела твои, Господи! Можно ли было позже, в 30—60-х годах, представить себе, чтобы за подтверждение еврейского происхождения давали взятку? Столь же трудно поверить и в то, что только «евреев тогда брали». Однако вот именно это утверждение Алексея Германа не могу поставить под сомнение – не все же мне его опровергать.
Жена Александра Владимировича Риттенберга, Юлия Гавриловна Тиктина, была дочерью действительного статского советника Гаврилы Андреевича Тиктина, такого же присяжного поверенного и присяжного стряпчего, как и ее будущий муж, но повыше рангом. Так что теперь с уверенностью можно утверждать, что в роду Алексея Германа действительно был важный чиновник, хотя и не генерал. Впрочем, действительных статских советников иногда называли штатскими генералами, хотя большинство из них даже не носило эполет – этот знак отличия полагался лишь чиновникам военных ведомств, например военным медикам или же ветеринарам.
Довольно любопытно происхождение фамилии Тиктин – так на иврите назывался городок Тыкоцин в Польше, значительную часть населения которого составляли евреи. После присоединения Польши к России те из них, что рассчитывали сделать карьеру, избавились от еврейских фамилий и стали называть себя по имени городка, откуда были родом. Так появились Тиктины, Тиктинские и Тиктинеры. Точно так же фамилию Герман могли взять себе выходцы с территории Германии.
Но вернемся к Тиктиным, их было в России довольно много. Скажем, в состав совета присяжных славного города Одессы входили сразу несколько представителей этой фамилии: Исаак Германович, Марк Самуилович, Николай Исаакович и Самуил Германович. Еще один известный мне Тиктин, Александр Григорьевич, был сыном аптекаря, Григория (Гиршома) Осиповича (Иосифовича) Тиктина из города Новозыбкова, что на Украине. Выучившись на инженера-механика, он работал в Петербурге, на заводе, производившим аэропланы. Я решился рассказать о нем, несмотря на то что родственную связь с Гаврилой Андреевичем Тиктиным проследить не удалось – еврейские имена часто заменяли на русские. Скажем, Юлия Самуиловна, бабушка Михаила Германа, превратилась в Юлию Степановну. А причина моего интереса к Александру Тиктину в том, что очень примечательна судьба его сына – Сергей Александрович стал физиком, работал в знаменитом харьковском Физико-техническом институте, где начинал свою блестящую карьеру Лев Ландау. Увы, что-то у Сергея Александровича на Украине не сложилось. Сменив несколько мест работы, в конце 70-х годов он эмигрировал, работал в Израильском Технионе, но стал знаменит совсем не в этой области. Совместно со своей женой, Дорой Моисеевной Штурман, довольно известной в прошлом диссиденткой, тоже харьковчанкой, он стал издавать книги, посвященные критике политического устройства Советского Союза. Особенно популярной была выпущенная в 1985 году в Лондоне книга «Советский Союз в зеркале политического анекдота».
Какие же выводы можно сделать, изучив эту родословную, составленную на основе тех немногих сведений, которые удалось узнать? Даже при всем при том, что генералов среди предков Юрия Германа не нашлось, надо признать, что женился он удачно, причем как в первый, так и во второй раз. Конечно, это если не считать самого первого опыта супружеской жизни, но его не стоило бы воспринимать всерьез, а потому расскажу о нем чуть позже. Что же касается отца Людмилы Рейслер и деда Татьяны Риттенберг, то их чины вполне укладываются в привычную, даже обязательную схему. И отчего только у писателей такое желание быть поближе к высшей знати? Вот и Михаил Булгаков первую жену подыскал в семействе действительного статского советника, я уж не говорю о его увлечении княгиней.Глава 2. Вступление
Покончив с родословной, обратимся к биографии первого из представителей рода Германов, которым посвящена эта книга. Здесь, как и в других главах, я использовал рассказы Алексея Юрьевича Германа о своей жизни и семье, за что благодарен его интервьюерам.
Вот что известно из воспоминаний Юрия Павловича Германа:
«Я родился 4 апреля 1910 года в Риге. Отец в ту пору был поручиком расквартированного там Малоярославского полка, мать преподавала русский язык в гимназии. В 1914 году отец поехал на фронт, мать вслед за ним отправилась сестрой милосердия, и меня они взяли с собой. Всю войну пространствовал я мальчишкой – то с батареей, то с госпиталем матери».
После войны скитания семьи продолжались – Павел Николаевич работал фининспектором в Обояни, Льгове, Дмитриеве, Курске, и вместе с ним семья кочевала по просторам Курской губернии. Возможно, эта кочевая жизнь, постоянная смена впечатлений, встречи с новыми людьми и пробудили в его сыне желание изложить свои чувства и мысли на бумаге. Писать Юрий Герман начал еще в школьные годы – первый его рассказ «Варька» был напечатан в газете «Курская правда», – потом увлекся театром, затем решил, что ему вполне по силам написать роман. Речь в первом произведении будущего писателя шла о том, что Герман вроде бы хорошо знал, – «о маленьком городке в период нэпа, о комсомольцах той поры, о горячих и чистых сердцах».
«На моем первом произведении отразились все мои книжные увлечения тех лет: в детстве я зачитывался Конан Дойлем и Киплингом, писателями действия, писателями мускулистой прозы, сюжетной, азартной… В результате получилась книжка взъерошенная и до смешного наивная».
Роман «Рафаэль из парикмахерской» был написан за три месяца и отослан в издательство, в Москву. Позже роман опубликовали, однако никаких восторгов по этому поводу уже не было – Юрий Павлович впоследствии признавал, что явно поспешил. Тема для того времени была актуальная – борьба комсомольцев с погрязшими в нэпе обывателями, – но это еще трудно было назвать литературой.
А вот что рассказывал о занятиях отца в те годы Алексей Герман:
«Папа рано стал самостоятельным, в 14 лет уже зарабатывал суфлером в театре, печатался в «Курской правде». А потом поехал поступать в Ленинград, в техникум сценических искусств. Но долго там не пробыл, пошел на завод, занимался в самодеятельном драмкружке. И писал рассказы и романы».Кстати, именно в драмкружке Юрий Павлович познакомился с будущей женой, Людмилой Рейслер. Однако давний друг Германа, Лев Левин, в книге воспоминаний «Дни нашей жизни» пишет, что это была не первая жена: «Сын его квартирной хозяйки, студент того самого техникума, где якобы учился и Герман, познакомил его со своей сокурсницей. Юрий влюбился с первого взгляда, а через несколько дней они поженились. Пришлось снять другую комнату, так как Герман жил в проходной. Денег катастрофически не хватало. Кто-то сказал, что в соседнем доме есть драматический кружок. Юрий взялся им руководить. До этого этим кружком руководила Людмила Владимировна Рейслер. Теперь она работала в другом месте, но связи с кружком не теряла, приходила участвовать в спектаклях. В январе 1930 года, познакомившись с Людмилой Владимировной, Герман понял, что любовь с первого взгляда, которую он питал к своей молодой жене, уступает место другому, более сильному чувству. В марте 1930 года они поженились. Таким образом, к двадцати годам Юрий Герман оказался уже дважды женатым».
Замечу, что имени первой жены будущего писателя история не сохранила, да это и не важно, поскольку брак был недолгим и молодые супруги так и не успели обзавестись детьми. После женитьбы на Людмиле Юрий Герман со съемной квартиры переехал в квартиру Рейслеров на Малом проспекте. Само собой, непрестижную работу на заводе пришлось бросить, и по совету редактора журнала «Юный пролетарий», где напечатаны были рассказы Германа «Шкура» и «Сиваш», он стал работать в многотиражной газете при бумажной фабрике.
Во время работы в фабричной газете юный журналист набирался новых впечатлений. Так уж случилось, что судьба столкнула его с неким инженером. Словоохотливый немец много рассказывал Герману о своей жизни, о работе, о семье, оставшейся в Германии, и вот юный журналист решил написать еще один роман, на этот раз об иностранном специалисте, как тогда говорили – об инспеце. Роман «Вступление» был написан очень быстро и сразу же отдан Германом в печать. Видимо, сказалось нетерпение – уж очень хотелось стать известным писателем, да и хороший заработок не помешал бы. Роман напечатали, но реакция прессы была ужасной – роман назвали «вылазкой классового врага». Это и понятно, поскольку главный герой не принадлежал ни к пролетариям, ни к беднейшим слоям русского крестьянства. Вот состоял бы в партии большевиков, тогда другое дело, а тут вроде бы ни к селу ни к городу. Припомним, что аналогичные претензии предъявлялись автору «Собачьего сердца» и «Белой гвардии».
К счастью, Германа надоумили обратиться к Горькому, показать ему свое последнее творение. Случилось так, что молодой журналист чем-то приглянулся пролетарскому писателю. Однако Алексей Максимович высказал немало претензий к этому роману.
«Бранил его Горький немилосердно – за языковые неточности, за стремление к афористичности, за общие места и за «гладкие», «казалось бы, без сучка и задоринки, обтекаемые фразы», за «одел» там, где надо писать «надел», и за «надел» там, где надо писать «одел», и за очень, очень, очень многое другое».В итоге Горький предложил Герману заново переписать роман и вместе с тем нашел возможность похвалить начинающего литератора. Уже гораздо позже, в начале 60-х, Юрий Павлович с благодарностью вспоминал об этих встречах:
«Автор этих строк – тогда еще совсем молодой литератор – имел честь и счастье бывать у А. М. Горького. Однажды я проговорился, что в кармане у меня – начало одной моей работы, шестнадцать страниц.
– Дайте! – велел Горький.
И здесь же прочитал. Читал он внимательно, вздыхал, сердился. Я видел – не нравилось. Потом минут двадцать Горький говорил мне о том, что плохо в этой работе. И вернул рукопись. Это возвращение рукописи было уроком на всю жизнь, это возвращение сыграло гораздо большую роль, нежели первое напечатание, оно было школой, целым университетом».В то время пролетарский писатель в основном занимался тем, что пытался улучшить быт литераторов, помогал им, чем только мог, так что визит Германа к нему оказался очень кстати – Юрий Павлович, что называется, попал в струю. Думаю, не надо пояснять, что протекция, заступничество или рекомендация влиятельных людей играют огромную, если не решающую роль и в наше время. Писателей сейчас хоть пруд пруди, однако далеко не каждому удается покрасоваться на телеэкране: вот он я, прошу меня любить и жаловать! Правда, «экранное время» можно и купить, но мало кому такая роскошь по карману – приходится рассчитывать лишь на протекцию политических соратников, единомышленников и приятелей.
У Юрия Германа не было ни денег, ни влиятельных знакомых. Да и основным средством информации в те времена были не телевидение и Интернет, а обыкновенная газета. Но если похвала начинающему автору напечатана в центральной прессе, да еще и со ссылкой на мнение знаменитого писателя – с такой рекламой не сравнится даже нынешнее телевидение. Мало того что реклама, это еще и указание для тех, кто только для того и поставлен на свое место, – чтобы слушать и читать распоряжения, ну и конечно, исполнять.
Вот как рассказывал об успехе своего отца Михаил Герман:
«После похвалы Горького отец получил все мыслимые и немыслимые блага, пайки и пропуска – его удачные и не очень вещи издавались и переиздавались и массовыми тиражами, и в «подарочных» вариантах в роскошных переплетах и с иллюстрациями, шли фильмы по его сценариям».Некоторую долю иронии в словах старшего сына вполне можно оправдать – недолгий период, когда его мать могла пользоваться упомянутыми благами и пайками, закончился, когда ему исполнилось всего три года. Куда логичнее и естественнее восторги младшего сына по поводу успехов своего отца: «С легкой руки Горького он в одночасье превратился в одного из самых известных молодых писателей».
Так в общем-то бывает. Даже достижения своего отца нередко мы оцениваем, исходя из той пользы, которые они принесли семье. Духовное с материальным тут связано прочно, крепко-накрепко, не разорвать никак. Да можно ли хвалить писателя, по сути отказавшегося от своего ребенка? Но как тогда оценивать других, с кем оказался не связан родственными узами – неужто тоже исходя из той пользы, которую они нам принесли? Конечно, в этом случае материальная выгода как бы ни при чем, однако кто знает – возможно, книги этого писателя или фильмы кинорежиссера что-то изменят в этом мире, причем именно так, что можно будет подсчитать и кое-какую прибыль. Почему бы нет, и так случается.
В сущности, восшествие Юрия Германа на пьедестал началось после речи Горького весной 1932 года. На встрече в Московском доме ученых с турецкими писателями он заявил:
«Все чаще и чаще мы имеем явления исключительного характера. Вот вам пример: девятнадцатилетний малый написал роман, героем которого взял инженера-химика, немца. Начало романа происходит в Шанхае, затем он перебрасывает своего героя в среду ударников Советского Союза, в атмосферу энтузиазма. И, несмотря на многие недостатки, получилась прекрасная книга. Если автор в дальнейшем не свихнет шеи, из него может выработаться крупный писатель. Я говорю о Юрии Германе».Понятно, что речь пролетарского писателя была опубликована в газете «Правда», а потому все чиновники от литературы при обращении к ним Германа если не брали услужливо под козырек, то уж, во всяком случае, не препятствовали публикации его произведений. Могу только еще раз повторить, что именно так в литературе принято – если не поможет авторитетный родственник, то следует заручиться поддержкой влиятельного благодетеля со стороны. А если просто с улицы в редакцию придешь и даже если напечатают, никто об этом толком не узнает – да мало ли таких! Впрочем, возможны исключения, как без этого?
Но прежде, чем Герман ощутил преимущества своего нового положения, нарком просвещения Бубнов предложил ему написать пьесу для театра Мейерхольда, взяв за основу роман «Вступление». Юрий Герман так описывает свое сотрудничество с Мейерхольдом:
«Мою пьесу Мейерхольд выдумал сам. Мне не стыдно в этом сознаться. И ему я не раз говорил о том, что пьеса эта, в сущности, его. Он посмеивался, а однажды спросил не без раздражения: «Ты что хочешь? Чтобы на афише было написано: «Мейерхольд и Герман»? Или: «Герман и Мейерхольд»? Ты меня, старика, материально поддержать хочешь?»… Спектакль «Вступление» состоялся. Мою пьесу очень ругали, Мейерхольда – справедливо – хвалили. Мне было горько, но не слишком…»
Впрочем, хвалили этот спектакль только в Москве, а в Ленинграде отнеслись к нему более чем сдержанно. Недоброжелатели назвали эту постановку «черновиком спектакля».
В 1934 году вышла в свет повесть Германа «Бедный Генрих». В ней рассказана история сына немецкого миллионера, попытки его порвать с буржуазным классом. Однако главную свою задачу Герман видел в том, чтобы изобличить фашизм, который был показан через восприятие его главным героем повести. Увы, до настоящей литературы было еще далеко. Горький вновь раскритиковал написанное, посоветовав молодому писателю черпать темы для своих произведений в той жизни, которая его окружает, которая ему хорошо знакома, а не выуживать факты из газет.
В середине 30-х годов Юрий Герман написал роман «Наши знакомые». Это роман о самых обычных людях, с которыми он встречался каждый день на улице, в магазине, на стройке или в ресторане, если приходилось там бывать. Действие романа начинается в разгар нэпа, в январе 1925 года. В нем рассказана судьба девушки, оставшейся без родителей. Жизнь поначалу сталкивает ее с такими людьми, которые могут только навредить, утянуть на дно. Однако на строительстве огромного жилкомбината она находит новых знакомых, которые помогают ей выбрать свой путь в жизни.
Лев Славин вспоминал о том, как Илья Ильф отнесся к этому произведению:
«В ту пору, когда Ильф был уже очень известным писателем, он прочел только что вышедшую книгу молодого тогда писателя Юрия Германа «Наши знакомые». Ильф лично не знал его. Но, услышав, что Герман приехал на несколько дней из Ленинграда, Ильф разузнал, в какой гостинице он остановился, и пошел к нему специально, чтобы сказать этому незнакомому писателю, как ему понравился роман и почему он понравился ему».Книга, вышедшая первым изданием в 1936 году, стала, как теперь говорят, бестселлером. Видимо, это было то, что требовалось тогда читателю, – рассказ о них самих, об их надеждах на счастливую жизнь, о том, что даже в очень трудных обстоятельствах найдутся люди, которые помогут. Уточню, что речь тут идет не о влиятельном покровителе, не о вмешательстве в судьбу главной героини высокого начальства, отдавшего нужное распоряжение. Совсем не так – такие же, как она, простые люди приняли в свой коллектив, помогли встать на ноги, дали возможность почувствовать, что миром правят не злость и алчность, а доброта.
Здесь ненадолго я прерву рассказ о творческих достижениях писателя, чтобы разобраться в событиях, связанных с его личной жизнью. В 1936 году, как уже упоминалось, Юрий Павлович развелся со второй своей женой, чтобы сочетаться браком с Татьяной Риттенберг. Но вот оказывается, что непременным условием счастья молодых супругов стал еще один развод. А дело в том, что к моменту своего знакомства с писателем Татьяна Александровна уже была замужем и, более того, имела пятилетнюю дочь по имени Марина. Супругом ее был Николай Аронович Коварский – известный литературовед, позже он писал критические статьи о театре и кино. В послевоенные годы Коварский написал сценарии к таким популярным фильмам, как «Мать», «Мальва», «Сорока-воровка», «Капитанская дочка» и «Выстрел» – все это были экранизации литературных произведений русских классиков. Коль скоро Николай Аронович оказался вовлечен в круг лиц, так или иначе связанных с одним из героев этой книги, позволю себе рассказать о нем подробнее, тем более что его родная дочь стала приемной дочерью Юрия Павловича Германа.
После развода с Татьяной Риттенберг Николай Аронович остался один, но это продолжалось не очень долго. Так уж случилось, что в 1940 году был арестован известный карикатурист, сотрудничавший и с «Правдой», и с «Крокодилом», сделавший замечательные рисунки к книгам Ильфа и Петрова, Корнея Чуковского, Агнии Барто, Самуила Маршака и даже к «Дяде Степе» Сергея Михалкова. Это был сын донского казака Константин Ротов. Поводом для ареста стала якобы «антисоветская» карикатура, которую художник показывал своим коллегам, – об этом сообщил следователю ранее арестованный коллега Ротова, который таким образом хотел заслужить снисхождение властей. Вот как дочь Константина Павловича вспоминала о том жутком времени:
«От нас все отвернулись, домработница ушла, телефон замолчал. Мы остались одни – я, еще ребенок, и молодая красивая мама без специальности. Но был один человек, роль которого в нашей судьбе трудно преуменьшить. Это театральный и кинокритик Николай Александрович Коварский. Он пришел к моей маме и предложил ей сменить фамилию, по сути, выйти за него замуж и удочерить меня – в маму он был влюблен давно. Только это могло спасти маму от ареста, а меня от детского дома».Замечу, что тут Ирине Ротовой то ли изменила память, то ли она именно так называла отчима – Николай Александрович. На самом деле Коварский обычно представлялся как Николай Аркадьевич, это был его литературный псевдоним.
Еще один добрый поступок Николай Коварский совершил, когда помог мужу Ирины, в будущем знаменитому актеру Алексею Баталову. Кстати, тот также имел прямое отношение к Юрию Герману – в послевоенные годы Баталов снялся в двух фильмах по сценариям этого писателя. А помощь Коварского состояла в том, что Николай Аронович представил недавнего выпускника школы-студии МХАТ режиссеру Иосифу Хейфицу, который собирался снимать на «Ленфильме» фильм «Большая семья». С этого фильма и началось восхождение Алексея Баталова к вершинам популярности – впереди были роли в кинокартинах «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Дама с собачкой», «Москва слезам не верит». Кстати, если уж зашла речь о Хейфице, стоит привести слова благодарности в его адрес, сказанные Баталовым в одном из интервью:
«Во МХАТе даже ведущие артисты годами сидели без ролей – для себя я такого не хотел. Поэтому я был абсолютно счастлив, когда позвали в кино… Я оставил Москву и уехал в Ленинград к Иосифу Хейфицу. После я снимался у других режиссеров, но Хейфиц сделал из меня актера, как папа Карло – Буратино. Взял одно полено из груды и вырезал из него Баталова – без Хейфица меня в моем нынешнем качестве бы не было».Коль скоро речь зашла об этом кинорежиссере, приведу также мнение писателя Бориса Васильева: «Иосиф Ефимович Хейфиц один из тех, кто дает людям то, без чего им уже никак не обойтись: надежду, веру и любовь».
Завершая рассказ о Николае Коварском, упомяну, что после переезда в Москву он вошел в круг близких друзей Александра Галича, даже позволял себе называть поэта за впечатляющую внешность «еврейским Дорианом Греем». Однако рассказ о Галиче выходит за пределы этой книги.
Глава 3. Лапшин, Жмакин и другие
Вслед за романом «Наши знакомые» Юрий Герман написал повести «Лапшин» и «Алексей Жмакин». Если героем первой повести является сотрудник уголовного розыска Лапшин, то во второй главным персонажем становится вор-рецидивист, бежавший из мест заключения.
Драматург Александр Штейн отмечал, что эти две повести «написаны рукой истинного прозаика, мастера», приводя в своих воспоминаниях особо восхитивший его отрывок из повести о Жмакине:
«Партия была небольшая – восемь человек. Шли молча и быстро, чтобы не замерзнуть. Дыхание из пара на глазах превращалось в изморозь. Мороз был с пылью – пыльный мороз – любой бродяга тут начинает охать. И деревень не попадалось – только кочки, покрытые голубым снегом, да мелкие сосенки до пояса, не выше. Захотелось есть. Жмакин вытащил из кармана хлеб, но хлеб замерз – сделался каменным. С тоской и злобой Жмакин закинул хлеб подальше в снег. Под ногами все скрипело. День кончался. Ничего не было слышно, кроме мертвого скрипа, – ни собачьего бреха, ни голосов. К вечеру краски сделались фиолетовыми, – пыль сомкнулась в сплошной туман. Лица у всех были замотаны до глаз – у кого портянкой, у кого платком».
Честно говоря, благожелательное отношение Штейна к этому произведению, если судить по приведенному отрывку, мне непонятно. К примеру, я бы не сравнил этот отрывок с платоновскими рассказами – там действительно, что называется, высший класс, а здесь писатель находится всего лишь в начале долгого пути. На мой взгляд, мастерство Германа проявилось гораздо позже, когда он написал свою знаменитую трилогию.
Надо бы пояснить, что две эти повести Юрий Герман написал под влиянием знакомства с работником ленинградского уголовного розыска, впоследствии комиссаром, Иваном Бодуновым, которому позже Герман посвятил повесть-быль «Наш друг – Иван Бодунов». Герой этой были, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз». Но что поделаешь, в художественном творчестве не обойтись без преувеличений, иначе полотно живописца вполне бы можно было заменить красивой фотографией, а вместо повести предложить читателю биографию героя с приложением перечня раскрытых преступлений и копий судебных приговоров.
А вот как Александр Штейн описывал характер Бодунова:
«Он тот самый обыкновенный человек, не «винтик», а самостоятельно мыслящая личность, сохранившая чистоту помыслов, веру в людей, в свое дело, которые и есть противоядие от всех возможных нравственных падений на крутых исторических поворотах».Немудрено, что история этого человека была положена в основу двух повестей. Прототип главного героя диктовал автору и тот стиль, в котором он тогда писал. «Манера сжатая, выразительная, мужественная» – так охарактеризовал этот стиль восхищенный Александр Штейн. С этим, пожалуй, можно согласиться. Тем более что, в сущности, это все те же, любимые многими детективные истории, хотя бы и вышедшие за привычные пределы благодаря растущему мастерству писателя.
Еще несколько добрых слов о повести «Алексей Жмакин»:
«Жмакин бежит из ссылки, всю свою дьявольскую изобретательность и недюжинную энергию тратя на то, чтобы, вернувшись в Ленинград, скрыться от Лапшина, уйти от встречи с ним – любой ценой. А Лапшин сосредоточен на том, чтобы найти несправедливо осужденного Жмакина – любой ценой. Это органическое переплетение философского и гуманистического смысла повести с незаурядным сюжетом и составляет главную прелесть произведения».В словах Штейна чувствуется не только интерес к творчеству писателя, но и желание непременно написать что-то хорошее о своем друге. И все же подлинный взлет мастерства Юрия Германа был впереди.
Помимо романа и двух повестей, Герман написал в те годы «Повесть о Николае Евгеньевиче», сценарии для фильмов «Семеро смелых» и «Доктор Калюжный». Первый из этих фильмов имел оглушительный успех. Тема освоения Арктики была очень актуальна, к тому же игра замечательных актеров впечатляла, особенно неподражаем был Петр Алейников. Предыстория создания фильма была такова. В 1932 году в «Комсомольской правде» был опубликован призыв комсомольца Константина Званцева организовать молодежную полярную зимовку. Позже Званцев написал книгу о покорителях Севера. Вот эту книгу Юрий Герман и Сергей Герасимов использовали как основу для сценария.
А с фильмом «Доктор Калюжный» связан прискорбный факт в биографии писателя. Дело в том, что руководство Центрального театра транспорта уговорило Германа переработать текст сценария, сделав главным его героем железнодорожника, а не врача. Герман согласился. Александр Штейн пытался оправдать поступок своего друга:
«Малодушие прозаика, очень хотевшего, чтобы пьесу поставили в столице, особенно после того, как критика дружно бранила его за неудачную драму «Вступление», плюс неукротимая, железная настойчивость руководства Театра транспорта, жаждавшего тематической пьесы, да еще некоторое, назовем – легкомыслие, свойственное прозаику Герману, когда дело заходило о театре, – все это «сработало».Вполне логичным результатом постановки стал сокрушительный разгром пьесы, учиненный в «Литературной газете» еще одним другом Германа – писателем Евгением Петровым, соавтором Ильи Ильфа.
Что тут поделаешь? Как говорится, благими помыслами выстлана дорога в ад. Мог бы, конечно, Петров и промолчать, однако, если не он, тогда другие скажут. К тому же настоящая дружба предполагает искренность и откровенность.
Даже через много лет Юрий Павлович не решился рассказать, как и почему пошел на переработку пьесы, но зато в деталях описал свой разговор с Евгением Петровым:
«Е. П. Петров хорошо ко мне относился. Более того, мы были дружны. И вот однажды я согрешил… Описывать грехопадение не очень интересно. Коротко говоря, я написал вариант своей пьесы специально для театра, который желал одеть героя в форму своего ведомства. Петров позвонил мне из Москвы:
– Сейчас же запретите спектакль!
– Но…
– Один раз он был у вас учителем, сейчас он у вас машинист, а будет кем – хлебопеком? Послушайте – запретите!
– Евгений Петрович, дело в том, что театр…
– Я не Евгений Петрович сейчас. Я редактор «Литературной газеты». И если это безобразие не прекратится, мы «по вас» ударим!
– Вы? Ударите?
– Мы! Ударим! И больно!
«Безобразие» прекратить я не смог, и «Литературная газета» ударила – да как! И было очень стыдно».Как нам известно, Юрий Герман не внял увещеваниям друзей, за что и поплатился. Впрочем, ничего ужасного не произошло, но эта история стала горьким уроком для писателя. А в основном жизнь складывалась вполне благополучно, об этом узнаем из рассказов Алексея Германа: «Некоторое время папа был членом Ленсовета. У него была личная машина, которую он купил – машины были в Ленинграде только у Алексея Толстого и у папы. Когда друга моего папы Левина исключили из Союза писателей, а его квартиру опечатали, папа пошел к Толстому».
Увы, Толстой так и не помог, побоялся разозлить энкавэдэшников: «Это такие страшные бандиты!» Чего доброго, могли бы ополчиться на писателя, за несколько лет до этого вернувшегося в страну из эмиграции. Толстой – это вам не Горький, да и время изменилось, так что к мнению мастеров пера не очень-то прислушивались.
К тому же периоду творчества Юрия Германа относится и выход в свет рассказов о Железном Феликсе. Привлечь внимание молодого литератора к этой теме пытался еще Горький. И вот наконец-то Герман решился написать.
Сборник «Рассказы о Дзержинском» Юрия Германа состоит из двух частей. Первая часть, «Накануне», посвящена революционной борьбе молодого Дзержинского во времена самодержавия. Вторая, «Вихри враждебные», рассказывает о работе Железного Феликса в годы становления и укрепления советской власти. В сборник вошли рассказы «Восстание в тюрьме», «Песня», «В переулке», «Картины», «Мальчики», «В подвале», «Народное образование». Об их достоинствах я не берусь судить – возможно, в детстве и читал, а вот теперь совсем не хочется. Однако верю, что своему таланту Юрий Павлович и здесь не изменил.
Увы, не все достойно оценили этот вклад Юрия Германа в литературу. Поэтесса Ольга Берггольц была возмущена и записала в своем «Запретном дневнике» в декабре 1940 года:
«Юра Г. написал беспринципную, омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском. Он спекулянт, он деляга, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо».Этим жестоким словам есть объяснение – Ольге Федоровне пришлось немало претерпеть от органов ОГПУ – НКВД, созданных благодаря усилиям Феликса Дзержинского. Понятно, что мнение об исполнителях автоматически распространялось на начальство. И хотя Дзержинского ко времени выпавших на долю поэтессы испытаний не было в живых, читать все это было крайне неприятно, я вполне могу ее понять.
Гонения на поэтессу начались в мае 1937 года, той самой «весною, в час небывало жаркого заката», события которой талантливо и образно описал в романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков, в главе «Великий бал у сатаны». В мае арестовали участников «дела Тухачевского», а после этого началась «зачистка территории». Бдительность чекистов стала, что называется, зашкаливать, а если учесть, что нарком внутренних дел Ежов отчаянно пытался доказать, что не напрасно занимает свой высокий пост, то масштабы репрессий перешли все мыслимые границы. Тут следует учесть и страх Сталина потерять власть, а средством борьбы он избрал жестокое подавление всякого инакомыслия. Поводом для ареста могли стать неосторожное слово и «порочащие связи», в том числе наличие неблагонадежных родственников и знакомство в прошлом с чем-то запятнавшими себя людьми. Понятно, что среди чекистов нашлось немало таких, что были не прочь выслужиться перед начальством, другие же просто не решались возражать, помня о судьбе тех, кто протестовал против чистки 1930 года среди высшего командного состава Красной армии. Однако времена изменились, и если возникала необходимость арестовать кого-то из людей достаточно известных, например писателей, то действиям чекистов предшествовали заявления партийных органов.
Вот выдержка из протокола заседания партийного комитета завода «Электросила» имени С. М. Кирова:
«Авербах и группа вели работу по созданию новой подпольной группы… Берггольц тоже была и вращалась в этой группе. Она всей правды не сказала, она вела себя неискренне. Ольга Берггольц неглупый человек, политически развитый и культурно. Она хотела вращаться в кругу власти имущих. Дружила с Авербахом – генеральным секретарем РАППа. У ней была с ним тесная связь, вела с ним переписку. Была связана с Макарьевым – правой рукой Авербаха, ныне расстрелянным. К Горькому не всякий мог попасть, но она через связь с Авербахом была у него. Опередила в этом других писателей. Она жила с Корниловым, дружила с Германом и т. д. Это стыдно признаться, что у нас был такой коммунист».
Понятно, что в приведенном документе речь идет о члене партии. Если же дело касалось беспартийных, предпочитали использовать в тех же целях публичные обсуждения на производстве. Это не только считалось полезным для воспитания масс, но и могло служить оправданием репрессий, которые были якобы выражением мнения трудящихся. Достаточно вспомнить заявление рабочих Хамовнического района Москвы по поводу спектакля Московского Художественного театра:
«Расширенный пленум рабкоров Хамовнического района (больше 600 человек) вынес резолюцию, в которой заявляет, что пленум считает общим долгом рабкора присоединить свой резкий голос к общему возмущению постановкой на сцене советского театра пьесы Булгакова «Дни Турбиных». В этой резолюции пленум, целиком соглашаясь и поддерживая точку зрения газет «Правда», «Рабочая Москва» и «Комсомольская правда», разоблачивших истинную природу пьесы, расценивает эту постановку как идейную вылазку обывателя и мещанина, как общественную демонстрацию в защиту своих обывательских прав…»Булгакову повезло – пьеса в постановке Художественного театра понравилась Сталину, он был на спектакле много раз. Поэтому вождь и не давал в обиду талантливого писателя до поры до времени. А вот к стихам Сталин был, похоже, равнодушен.
Волна репрессий 1938–1939 годов не затронула Юрия Германа, видимо, потому, что было не к чему придраться: романов, идеологически не выдержанных, он вроде бы не писал, порочащих связей не имел.
Впрочем, при желании такую связь можно было доказать – в Харбине жил уже упоминавшийся Константин Клуге, дядя Юрия Германа и бывший полковник Белой армии. Однако в те годы никто из Германов своей родней семью белогвардейца Клуге не считал, а потому и не упоминал ее в анкетах.
Итак, возвратимся к поэтессе. Мнение соратников по партии было учтено, и в конце 1938 года Берггольц была арестована по обвинению «в связи с врагами народа» и как участник контрреволюционного заговора. Вероятно, одна из причин ареста была в том, что стихи Ольги Берггольц и стихи ее первого мужа, Бориса Корнилова, высоко ценил и печатал в газете «Известия» ее тогдашний главный редактор Николай Бухарин. После завершения судебного процесса над «любимцем партии» репрессии распространили на людей, которым он симпатизировал, – Корнилов был расстрелян, а вот Берггольц повезло, если только можно назвать везением несколько месяцев тюремного кошмара. И все-таки судьба над поэтессой сжалилась – через полгода она была освобождена и полностью реабилитирована. Да, все бы ничего, если бы из-за побоев не потеряла своего еще не родившегося ребенка. Такими словами она описывала свое возвращение к жизни:«Зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)? И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности? Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи».
Но вот что удивительно: находясь в заключении, Ольга Берггольц ни в чем не призналась и никого не оговорила, как ни настаивали на этом следователи. И еще, что вовсе поражает, – сохранила прежнюю веру в идеалы коммунизма. Не каждый мужчина в таких условиях смог бы выдержать. Вот Тухачевский уже на второй день допросов признал существование заговора, а Осип Мандельштам, не выдержав пыток, «выдал» всех, подписал все, что ему подсунули. Не знаю, в чем тут дело. Возможно, предательство, малодушие являются следствием отсутствия идеалов, истинной веры. Судя по этому и некоторым другим подобным случаям, можно сделать вывод, что хотя физические силы человека имеют свой предел, однако стойкость духа, вероятно, беспредельна. Это лишь следствие того очевидного факта, что слишком мало знаем мы о том, как устроен и что представляет собой даже вполне обыкновенный человек, не говоря уже о таких бойцах, как знаменитая ленинградская поэтесса.
Еще раз повторю, что причины ненависти бывшей заключенной к карательным органам советской власти понятны. Однако неприятие рассказов о Дзержинском не повлияло на отношение Ольги Берггольц к Юрию Герману – они так и остались близкими друзьями. Подтверждение этому находим в воспоминаниях Михаила Юрьевича Германа:
«Отца я видел в студенческие годы раза два. Последний раз встретились поздней осенью 1952 года, в кафе «Норд» («Север»), в котором я не бывал с довоенных лет. Отец казался мне старым, грузным, очень усталым. А ведь в то время ему было только сорок два, и дела его шли в гору. Он был с приятелями (среди них я запомнил Ольгу Федоровну Берггольц)… Разговор был натужный, светский».Такому впечатлению сына при взгляде на отца не стоит удивляться, поскольку на то были объективные причины – позади была не только страшная война, но и выпавшие на долю Юрия Германа тяжкие испытания 1946 и 1949 годов, о чем расскажу чуть ниже. Возвращаясь к взаимоотношениям Ольги Берггольц с Юрием Германом, добавлю, что Ольга даже посвятила Юрию свои стихи:
Когда я в мертвом городе искала ту улицу, где были мы с тобой,
когда нашла – и все же не узнала…
И далее:
От шпал струился зной – стеклянный, зримый, —
дышало море близкое, а друг,
уже чужой, но все еще любимый,
не выпускал моих холодных рук.
Я знала: все. Уже ни слов, ни споров,
ни милых встреч… И все же будет год:
один из нас приедет в этот город и все, что было, вновь переживет…
Ну а Юрий Павлович тех жестоких слов, которые Берггольц записала в дневнике, скорее всего, так и не услышал. Вот и Алексей Герман утверждал, что «Ольга Берггольц хвалила папу за эти рассказы». Видимо, дело в том, что поэтесса пожалела друга – вслух горьких слов не сказала, а в дневнике записала все, что думала. Не исключено, что понимала: что по силам ей, выдержать не всякому дано.
А в 1939 году Юрий Герман был награжден орденом Трудового Красного Знамени. О том счастливом для отца времени рассказывал его младший сын, Алексей:
«К тридцати годам у него уже был орден Трудового Красного Знамени, депутатство в ленинградском Совете, и еще он состоял в руководстве городской писательской организации. Была семья, квартира, дача, прекрасные друзья – писатели, кинематографисты».Во время войны Юрий Герман был приписан к политуправлению Северного флота в качестве военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро. Бывал в Мурманске, Кандалакше, Полярном, ходил в походы на боевых кораблях. Жена и сын, выбравшись из окруженного фашистами Ленинграда, жили тогда в Архангельске. Алексей Герман позже вспоминал: «Мы жили, как жила элита, в «Интуристе». У нас был маленький угловой номер, но был завтрак – утром яичница и чай. В принципе, там жили иностранцы… Папа не жил в Архангельске, он приезжал… Одно время в номере была горячая вода и душ».
Можно понять отношение простых жителей к этим заезжим ленинградцам, которых кормят, которых устроили в одном отеле с иностранцами. А в это время в Ленинграде творилось что-то жуткое. Вот что рассказывал Юрию Герману заместитель начальника уголовного розыска Ленинграда после возвращения семьи домой: «За трупоедство мы расстреливали только вначале, а потом не трогали: весь город не расстреляешь. Трупы ело огромное количество людей. Подъезжаешь к дороге жизни, а там…»
Дальше рассказ Алексея Германа, записанный Антоном Долиным, цитировать не буду. Все это настолько страшно, что Юрий Герман в своих книгах ни о чем подобном не писал. Есть вещи, о которых мыслящий человек может догадаться, однако вряд ли стоит о них кричать на каждом углу, упоминать в романах, показывать в художественных фильмах. Для этого существуют книги памяти, документальные фильмы, но и там такие факты надо излагать очень осторожно, чтобы пожалеть психику читателей и зрителей.
А вот еще малоприятное воспоминание Алексея Германа о том времени:
«Когда ты шел по Архангельску, проходящие мимо люди говорили: «А вас, жидов, скоро немцы повесят».Видимо, поэтому семья вскоре перебралась в деревню Черный Яр.
Юрий Герман по жене и сыну очень тосковал, но что поделаешь, если идет война, поэтому виделся с семьей нечасто, все свои силы отдавая творчеству. За это время помимо корреспонденций, отосланных в газеты, им было написано несколько произведений о войне и о Заполярье – повести «Би хэппи!», «Аттестат», «Студеное море», «Далеко на Севере» и пьесы «За здоровье того, кто в пути», «Белое море». Фрагменты недописанной повести «Здравствуйте, Мария Николаевна» о летчиках Северного флота стали исходным материалом для создания художественного фильма «Торпедоносцы», снятого в 1983 году Семеном Арановичем по сценарию Светланы Кармалиты и Алексея Германа. Кстати, Алексей Герман был очень этим фильмом недоволен, настаивал на четком следовании тому, что написано в сценарии:
«Вот, например, как картина начиналась на самом деле. Идет поезд, огромная очередь в сортир…»Тут дело не в том, что Алексей Герман хотел к чему-нибудь придраться, – здесь проявился разный взгляд на жизнь. Семен Аранович показал подвиг военных моряков и самоотверженный труд тех, кто помогал им на земле. Быт летчиков, их личная жизнь – все это есть в фильме. В конце концов, там действуют вовсе не ходульные герои. Но Герману этого было мало, он хотел сделать упор на трудностях бытия, на неустроенности, чтобы на этом фоне более ярко выглядел трагический итог короткой жизни летчика Северного флота. К тому же исполнитель главной роли, Родион Нахапетов, ему очень не понравился – слишком уж красив. Но чем же это плохо? Конечно, когда погибают люди, это в любом случае трагедия. И все-таки, если в мир иной уходит красивый, добрый, умный человек, становится особенно грустно на душе, словно бы кто-то намеренно выбирает лучшего на роль следующей жертвы. Понятно, что здесь я говорю не только о кино.
А вот о чем Юрий Герман писал Александру Штейну в то время:
«Написал одну пьесу, получилось, как говорят, ничего – взялся за другую, под названием «Далеко на Севере». Про фронтовых женщин-врачих. Получается хорошо, но немножко грустно».Можно предположить, что литературная карьера Германа как началась словно бы по мановению волшебной палочки, так и продолжится. Ведь были подобные примеры – Александр Фадеев, Константин Симонов… Литературные генералы, они работали на страну, и государство им воздавало сторицей. Это нормально и естественно – людей, отдающих все силы, свой талант на службу людям, родине, надо поддерживать и поощрять, в особенности людей творческих профессий. Причина в том, что вдохновение не купишь в магазине. Не каждому тут повезет – вот ждешь вдохновение, а оно все не идет. Если же художника станут упрекать, что даром ест хлеб, что делает совсем не то, что надо, что не прислушивается к мнению тех, кто «наверху», тогда о вдохновении вообще не стоит говорить, словно бы никогда его и не было. В таких условиях могут существовать только послушные ремесленники, да и тем, видимо, не сладко.
И снова привожу отрывок из воспоминаний Александра Штейна:
«В заблуждении пребудет тот, кто по наивности станет разглядывать портрет вне его контекста со временем, не соотнеся биографию моего друга с биографией эпохи… Все было, не думайте, у сего обласканного рукой Горького литературного счастливчика. Его литературная жизнь напоминала приливы и отливы, которые я наблюдал на берегу Кольского залива, у того самого студеного моря, которое описывал Юрий Павлович в своих северных повестях и романах… «Ура» и «караул» сменяли друг друга в литературной критике книг Германа, равно как анафемы и панегирики, признания, полупризнания, отрицания – полные, частичные. А иногда было одно глухое молчание… Его то переиздают подряд, без разбора и отбора, даже и то, с чем, по совести, не так уж надо торопиться. А то фатально не хватает бумаги на книги, которые настойчиво требует читательская заявка… И снова молчание, словно бы и нет такого литератора – Юрия Германа».Подтверждением этих слов стали события, которые произошли после того, как семья вернулась в Ленинград. Военная тематика себя отчасти исчерпала, и Герман пишет сценарии к фильмам «Пирогов», «Белинский». В основу сценария о знаменитом хирурге Николае Ивановиче Пирогове были положены повести «Начало» и «Буцефал», написанные ранее. Все складывалось неплохо, однако вскоре начались неприятности.
Глава 4. Я отвечаю за все
Случилось так, что Юрий Павлович похвалил в печати прозу Михаила Зощенко, совсем не предполагая, что выступает против линии всемогущей партии. Он исходил из того, что надо поддержать самобытного сатирика, тем более что они были соседями по писательскому дому на канале Грибоедова. Впрочем, особой поддержки вроде бы не требовалось, поскольку рассказы Зощенко еще в 20—30-х годах печатались огромными тиражами, да и позже с публикацией своих произведений у него не было проблем. Все бы ничего, но у писателя еще в детские годы обнаружилась склонность к навязчивой депрессии.
Мне приходилось уже писать о том, что литературное творчество может стать способом избавления от душевного недуга. Вынужденный разрыв с княгиней Кирой Алексеевной Козловской в декабре 1917 года стал страшным ударом для Булгакова. Пытаясь заглушить боль, он пристрастился к морфию, и только совет доктора Кутанина подарил надежду: Булгаков стал писать, при этом он как бы перекладывал сердечную тоску на героев своих книг и понемногу избавлялся от мучавших его воспоминаний. Однако здесь все было достаточно банально – неразделенная любовь, несбывшиеся мечты. У Михаила Зощенко причины недомогания оказались куда более замысловатыми, в них непросто было разобраться. Поэтому он пошел иным путем – написал целое психологическое исследование, повесть «Перед восходом солнца», опубликованную в 1943 году. В ней он попытался анализировать особенности своего психического состояния. Вот несколько отрывков из его исповеди:
«Вкратце – это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым. Я сделал, в сущности, простую вещь: я убрал то, что мне мешало, – неверные условные рефлексы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч… Но я ни в чем этом не находил себе утешения… Я был несчастен, не зная почему… мне было восемнадцать лет. Я хотел умереть, так как не видел иного исхода… Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит… За три года я переменил двенадцать городов и десять профессий. Два раза в год я стал выезжать на курорты – в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места… Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Я был молодым писателем. Мне было всего двадцать семь лет… Может быть, все-таки (снова подумал я) это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания? Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце».
Не стал бы углубляться в причины, которые привели Зощенко к такому состоянию, но вот наткнулся на книгу психолога и литературоведа Александра Эткинда, вышедшую в 1993 году, и решил процитировать здесь фрагменты уникального по своему содержанию заключения о болезни Зощенко, которое составил в 1937 году ленинградский врач И. Марголис: «Кастрационный комплекс дополнен рядом ценных фактов из раннего детства больного. Больной сообщает о стойком аффекте страха, пережитом им во время хирургической операции по поводу незначительного заболевания вблизи гениталий. Это переживание было густо забыто (амнезия) и покрыто слоем менее ценных аффектов… Больной честно ищет в фактах прошлого остов своего страдания. Сопротивление часто мешает (ему) все узнать и все увидеть. Размеры сопротивления часто непонятны больному. Кастрация, произведя обеднение libido, лишила всю личность известного могущества, и это мешает ринуться в атаку на последние твердыни невроза… Вечный фетиш большого бюста женщины, так влекущий и так мучающий больного, указывает путь к комплексу Эдипа и только к нему».
Судя по всему, врач оказался яростным поклонником Зигмунда Фрейда, хотя от властей наверняка это тщательно скрывал. Я же, не будучи дипломированным психоаналитиком, могу предположить, что на психическом здоровье Зощенко сказался разлад в его семье. Отец Михаила Михайловича, дворянин в третьем поколении, работал в мозаичной мастерской Императорской Академии художеств. Его трудами создан громадный мозаичный плафон на фасаде Суворовского музея, исполненный по эскизу художника Шабунина и изображающий «Отъезд Суворова из села Кончанского». В числе его творений Царские врата в Исаакиевском соборе, пророк Даниил в том же соборе и многие другие капитальные мозаичные работы. Проблема в том, что, как и многие художники, Михаил Иванович предпочитал богемный образ жизни, ну а мать – «всего лишь» дочь галантерейщика, в юности увлекавшаяся сочинением коротеньких рассказов. Дома нередко возникали ссоры, вызванные тягой Михаила Ивановича к прекрасному полу: случалось, он на несколько дней куда-то пропадал. Могла повлиять на юного Мишу и внезапная смерть отца от инфаркта в возрасте всего лишь пятидесяти одного года, и вслед за тем – резкое изменение в материальном положении. После потери кормильца семья, в которой было семеро детей, «осталась без всяких средств существования», как писали тогда петербургские газеты.
Однако для нас интерес представляет лишь то, что смех, юмор и сатира помогли Михаилу Михайловичу в какой-то степени излечиться от болезни. Но кто же мог предположить, что язвительные шутки Зощенко кому-то не понравятся? И вот когда началась чистка в литературных рядах, досталось не только юмористу, но и вполне серьезному писателю. А началось все с отзыва на повесть «Перед восходом солнца»:
«Тряпичником бродит Зощенко по человеческим помойкам, выискивая что похуже. В Советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься «психологическим ковыряньем». Рабочим и крестьянам никогда не были свойственны такие «недуги», в которых потонул Зощенко. Как мог он написать эту галиматью, нужную лишь врагам нашей родины?»Эта статья появилась в журнале «Большевик» в начале 1944 года, дав старт травле неудобного сатирика. А через два года, после публикации рассказа Зощенко «Приключения обезьяны», последовало постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»: «ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно. В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями советских писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» (Звезда. 1946. № 5–6) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезда» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».
Такое впечатление, что не было войны, что руководители страны не сделали никаких выводов из пагубных последствий чисток в партийных рядах, в армии и среди интеллигенции. Снова те же интонации, что и на пленуме собкоров Хамовнического района. Снова требование сомкнуть ряды, не допускать ни шага в сторону. Я допускаю, что проза Зощенко нравится не всем, да я и сам от его сатиры не в восторге, однако надо ли устраивать публичную порку, если можно было обойтись лишь мнением редакции, от которой всего-то и требовалось – отказать неудобному, неблагонадежному автору. Но в том-то и дело, что редакции «Звезды» и «Ленинграда» оказались не на высоте, нарушили идеологические установки, потому и потребовались жесткие оргвыводы.
Далее в постановлении речь идет о творчестве Анны Ахматовой и о журнале «Ленинград». Но вот находим там и имя Юрия Германа:
«Ленинградский горком ВКП(б) проглядел крупнейшие ошибки журналов, устранился от руководства журналами и предоставил возможность чуждым советской литературе людям, вроде Зощенко и Ахматовой, занять руководящее положение в журналах. Более того, зная отношение партии к Зощенко и его «творчеству», Ленинградский горком (тт. Капустин и Широков), не имея на то права, утвердил решением горкома от 28.I. с. г. новый состав редколлегии журнала «Звезда», в который был введен и Зощенко. Тем самым Ленинградский горком допустил грубую политическую ошибку. «Ленинградская правда» допустила ошибку, поместив подозрительную хвалебную рецензию Юрия Германа о творчестве Зощенко в номере от 6 июля с. г.».Вскоре после этого для Германа настали грустные дни – издательство отказалось печатать повести «Студеное море» и «Жена», да и в сценарии к фильму «Пирогов» начальству что-то не понравилось. Что было делать? Тогда еще не существовало самиздата, да и путь за границу был закрыт – это уже гораздо позже появился выбор. Ну в самом деле, не бросать же Герману любимую работу! И где тогда взять средства на прокорм семьи? К тому же в памяти еще остался 37-й год, арест Ольги Берггольц и других писателей. Так стоило ли ради принципа рисковать благополучием семьи и собственным здоровьем? Зощенко этим не поможешь, он сам выбрал этот путь, раньше надо было думать.
Кстати, судя по воспоминаниям Михаила Германа, было чем рисковать в это голодное послевоенное время:
«В первые месяцы после возвращения из эвакуации я почти каждый день ходил в большую отцовскую квартиру на первом этаже, на Мойке, 25. Там меня кормили обедами… Богатая еда с непонятными мне пикантными соусами».Еда едой, однако голодное время еще можно как-то пережить, а как перенести более тяжкие невзгоды?
«Отец, прямо упомянутый в постановлении… как мне рассказывали, вел себя в высшей степени достойно и решительно отказался каяться на всеписательском, в присутствии Жданова, собрании».
Видимо, Михаил Юрьевич не знал или не захотел понять, почему судьба смилостивилась над отцом – в его воспоминаниях я объяснений так не нашел. Ну а причина оказалась в том, что под давлением партийных органов Юрий Павлович вынужден был повиниться:
«Шестнадцатого августа с. г. я не выступил на собрании писателей… Вернувшись ночью домой и прочитав «Приключения обезьяны», я еще раз понял, что выступить было необходимо: рассказ, разумеется, мерзейший, и я, конечно, виноват в популяризации Зощенки через печать… виноват и в тоне, и в содержании статьи…»
После того как гроза миновала, Герман пересмотрел свои ближайшие планы и обратился к любимой им теме о врачах – напомню, что он написал сценарий к фильму «Доктор Калюжный», да и в фильме «Семеро смелых» был очень симпатичный врач, эту роль исполнила Тамара Макарова. В конце концов, профессия врача, она из самых благородных, тут даже при большом желании будет не к чему придраться. Юрий Павлович так объяснял свою привязанность к двум любимым темам:
«Хирурги и работники уголовного розыска близки друг к другу. Они всегда занимаются какими-то человеческими бедствиями, всегда борются за человека».Как мы увидим дальше, писатель слишком рано поверил, что опасность миновала, – и в этот раз возможные последствия он не просчитал.
Однако пока что ничего не предвещало новой бури. Жизнь вроде бы наладилась, если верить воспоминаниям Алексея Германа:
«Папе первые автомобили доставались от Черкасова. Они очень дружили и друг друга любили. Более того, жена Черкасова Нина была многолетней любовницей папы, пока она старушкой не стала. Черкасов, как депутат Верховного Совета, покупал машины и ездил на них по полтора года. Наезжал не больше шестидесяти тысяч километров… – и каждую машину продавал папе… «Победы», потом «Волги».И вот еще одно приятное воспоминание о том же времени: «В 1948 году мы получили потрясающую квартиру на Марсовом поле, в лауреатском доме… Пятиметровые потолки, лепнина, замечательный паркет. Дом Адамини на углу Мойки и Марсова поля».
А через три года после написания сценариев к двум фильмам Юрий Павлович завершил работу над повестью «Подполковник медицинской службы». Это повесть о врачах, однако в ней была некая особенность – главный герой по национальности был не русский, не украинец или осетин, а почему-то еврей. То ли Юрий Герман решил, что теперь ему все можно, то ли просто надумал отразить реальную ситуацию в отечественной медицине, где евреев было очень много – напомню про запрет для русских на поступление в медицинские вузы, который был установлен в 20-е годы, надо полагать, не без участия Льва Троцкого. Впрочем, Алексей Герман утверждал, что отец написал повесть на пари, чтобы доказать, что «никакого антисемитизма в стране нет». На мой взгляд, такое может прийти в голову только спьяну, да и время было выбрано не самое удачное, поскольку как раз начался процесс над «врачами-убийцами». Трудно поверить, что Герман не читал газет, однако завершенная повесть сама просилась на страницы журнала. Начало было уже напечатано в «Звезде», вот тут-то и возникли новые проблемы: «Попал папа и в кампанию против космополитов. Он был убежден в том, что антисемитизм придумали враги СССР, и написал повесть «Подполковник медицинской службы», главный герой которой был врач-еврей Александр Маркович Левин. За это папе быстро наклеили ярлык «оруженосца космополитизма», и даже Сталинская премия за фильм «Пирогов» не спасала. Договора расторгались, авансы взыскивались, зимние вещи отдавались в ломбард».
Именно так запомнилось это время Алексею Герману. Привычная жизнь рушилась, нужно было искать какой-то выход. А все потому, что Юрий Павлович не сделал нужных выводов из той истории 1946 года с ленинградскими журналами. Видимо, не нашлось сведущего человека, который мог бы подсказать: прежде чем что-нибудь писать, обратись к товарищам из ЦК или, на худой конец, из местного парткома, согласуй с ними тему будущей книги, желательно даже фамилии героев, а вот тогда уж с чистой совестью пиши. Если, не дай бог, возникнут осложнения после публикации, будет на кого сослаться. Только беда тут в том, что вдохновение невозможно ни с кем согласовать, поэтому пишешь то, что подсказывает душа, не забивая себе голову вероятными последствиями. Такое в принципе возможно, если пишешь «в стол»? Увы, на этот вариант весьма популярному писателю невозможно согласиться. Тем более что в повести не было никакой идеологической крамолы, не было «засекреченных» персонажей, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите», поэтому Герман и отдал ее в журнал. Кто же мог знать, чем все закончится?
И вот Юрий Павлович снова вынужден был извиняться, признавать свою «вину» – вместо продолжения повести, в следующем номере журнала появилось его покаянное признание:
«Моя повесть «Подполковник медицинской службы», напечатанная в журнале «Звезда» (1949. № 1), была подвергнута принципиальной и справедливой читательской критике. Было указано, что главный герой повести доктор Левин живет замкнувшимся в своем ограниченном мирке, целиком погружен в свои страдания, что такой человек не имеет права называться положительным героем. Душевное самокопание ущербного героя, сложность его отношения к людям – все это вместе взятое создало неверную картину жизни госпиталя гарнизона. Осознав эти ошибки, я не считаю возможным печатать продолжение повести в журнале «Звезда», так как она нуждается в коренной переработке с первой главы до последней».Пожалуй, единственный вариант в подобных скорбных обстоятельствах – это написать патриотическую книгу из истории России. Тогда уж точно не потребуется никаких согласований. Тема подвига русского народа, великих преобразований всегда найдет понимание в верхах, а поскольку речь о давнем прошлом, даже злопыхателям будет не к чему придраться. К этому времени были уже написаны пьеса «Белое море», повести, посвященные жизни на Русском Севере, очерки по истории создания русского флота. И вот накопленный материал был взят за основу при создании новой книги. Итогом многолетней работы Юрия Германа стал роман «Россия молодая». В 1952 году его напечатало издательство «Молодая гвардия» – это была объемистая книга в девятьсот с лишним страниц, к ней прилагались старинные карты «Государева дорога» и «Нападение шведских кораблей на Новодвинскую крепость в июле 1701 года».
На тот случай, если кто-то не читал книгу и не успел посмотреть фильм, не один раз показанный по телевидению, попробую кратко рассказать о содержании, придерживаясь стиля, принятого при написании аннотаций к книгам. Так вот, целью писателя было создание многоплановой картины той эпохи. Роман повествует о том, как поднимается русская нация, как руками талантливых мастеров создается русский флот, как царь Петр прорубает «окно в Европу», как под свист плетей строится будущее нашей страны. Сюжет построен на приключениях Сильвестра Иевлева, офицера петровской армии, и кормчего Ивана Рябова, по духу своему настоящего бунтовщика. И вот рядом с пыточными застенками расцветает любовь Иевлева и очаровательной девицы Маши. А лихой лоцман Иван Рябов, пройдя через тяжелые испытания, остается верен своей обожаемой Таисье.
После выхода романа в свет тучи над Юрием Германом рассеялись, однако не столько благодаря удачно выбранной теме, а потому, что умер Сталин.
Теперь вроде бы появилась возможность работать, не обращая внимания на мнение товарищей из ЦК и не оглядываясь по сторонам, не прислушиваясь к шорохам за дверью, хотя последствия перенесенных волнений привели к ухудшению здоровья – в 1955 году Юрий Павлович перенес инфаркт. Впрочем, есть и другая версия происхождения инфаркта, об этом Герман по секрету сообщил своему другу кинорежиссеру Козинцеву:
«Действительно стукнул инфаркт. Было это так: моя докторша очень ворчала, что я «не оформляю себе живот», т. е. не худею. И сказала, что я должен принять решительные меры. Я их принял: после нарзанной ванны сразу пошел на Красное Солнышко – бодрым шагом матерого альпиниста. Там стукнул коньячку, чего Таня до сих пор не знает. Оттуда пришел в санаторий и сразу же был вызван к инструкторше физкультуры. Она гоняла меня – раз, два, три, четыре, на носочках, на носочках, подбородок выше, живот втяните!.. Тут стали уезжать москвичи – я поперся их провожать. Таскал ящики с фруктами, выпил на вокзале шампанского. В 10.30 повалился спать. В четыре часа ночи проснулся от нестерпимой боли возле шеи. Болели ноги еще. Стал вертеться волчком по комнате, потом разобрал, что болит еще и левая рука, и сердце. Намочил полотенце под краном и прижал его к своему тухлому сердчишке. Не помогло. Тогда я выскочил на балкон – голый. Тоже не помогло. Тогда я натянул порточки и позвал сестру. Она в ужасе оторвала от моего тельца мокрое полотенце, дала валидолу. Ничего. Раз нитроглицерин – ничего. Еще раз – без толку. Тут я вроде бы потерял сознание. Смутно помню, что кололи без конца атропин, морфий и разное другое».Немного поправив пошатнувшееся здоровье, Герман продолжил работу над любимой темой о врачах и за несколько лет написал целую трилогию: «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все».
В первой части трилогии главный герой, хирург Владимир Устименко, делает первые шаги в профессии, которой посвятит всю оставшуюся жизнь. Требовательность к себе и своим коллегам делает Устименко неудобным для тех, кто хочет жить бесконфликтно, сосредоточившись на своей карьере. Юрий Герман говорил, что вложил в этот образ все лучшее, к чему стремился сам.
Вторая часть трилогии посвящена судьбе Владимира Устименко во время Великой Отечественной войны. Место действия – партизанский отряд, затем фронтовой госпиталь, где хирург Устименко оперирует почти без сна и отдыха. А на этом фоне – встречи и расставания, предательство и новые встречи с интересными людьми, которые все свои силы отдавали освобождению Родины, победе над фашизмом.Последняя часть трилогии посвящена жизни главного героя в послевоенное время. Теперь он доктор наук, у него семья, однако с женой они давно чужие. А самый дорогой для него человек – это давняя подруга и одноклассница, которой он спас жизнь во время войны. И все же самые сильные страницы романа посвящены Аглае Петровне, тетке Владимира Устименко, ставшей жертвой несправедливости, но выжившей в сталинских застенках.
В конце 50-х и в начале 60-х годов имя Юрия Германа было у многих на устах, а книги писателя печатали огромными тиражами самые крупные издательства: «Советский писатель», «Молодая гвардия», Лениздат, «Советская Россия», «Искусство», не говоря уже о Госполитиздате.
Глава 5. Дорогой мой человек
В 50-х годах Юрий Герман написал сценарии для фильмов «Дело Румянцева» и «Дорогой мой человек», поставленных Иосифом Хейфицем. Фильмы пользовались большой популярностью у зрителей – тут сыграла свою роль не только режиссура, но и прекрасная игра актеров, прежде всего Алексея Баталова, «артиста на все времена и для любого сюжета», согласно определению все того же Хейфица. В одном из интервью на вопрос о любимой роли Алексей Владимирович ответил так:
«Доктор Устименко из фильма «Дорогой мой человек». У нас с ним даже судьбы похожи. В картине прямо не сказано, что у доктора всех родственников репрессировали, но режиссер Иосиф Хейфиц и автор сценария Юрий Герман мягко подводят зрителей к этому выводу. Кстати, вот вам журналистская сенсация. «Дорогой мой человек» – вовсе не экранизация романа Германа, а как раз наоборот. Сначала был написан сценарий, а уже потом, на его основе, – роман. Что до моего сходства с героем, то у меня тоже репрессировали деда и бабушку».
Считается, что после успеха фильма «Дело Румянцева» Юрий Герман роль Владимира Устименко писал в расчете на то, что исполнять ее будет именно Баталов.
Кстати, с Алексеем Баталовым связана любопытная история, о которой рассказывал сын Алексея Юрьевича Германа:
«Дед в буквальном смысле слова спас Алексея Владимировича, когда тот отказался играть в кино Ленина. В советские времена это означало конец карьеры. Руководству «Ленфильма» поступило указание из Госкино провести партийное собрание и осудить артиста Баталова. Строгий выговор – самое легкое, что грозило, могли просто сломать жизнь. Дед услышал об этом и явился на партсобрание.
– Артист проявил крайнюю степень политической безграмотности, – говорили начальники…»На этом прерву рассказ Алексея Германа-младшего и предоставлю слово самому «виновнику торжества», Алексею Владимировичу Баталову:
«Дело было так. Я в то время работал на «Ленфильме», снимался у Хейфица. Иду как-то по коридору студии, подбегает ко мне помощник одного режиссера. Очень радостный сам и явно хочет обрадовать меня:
– Поздравляю, ты будешь играть Ленина в молодости!
В ответ я с ходу выпалил:
– Ты с ума сошел? Я ни за что не буду его играть!
Развернулся и ушел. Вечером об этом говорил весь «Ленфильм». Хейфицу звонил Юрий Герман, объяснял, что я ненормальный. Он же потом и выручил меня на ближайшем художественном совете. Посередине чьего-то выступления он вдруг во весь голос говорит:
– Нет, это кошмар какой-то! Кто придумал Баталова в роли Ленина снимать? Вы что, пародию хотите сделать? Худой, длинный, с большим носом – это Владимир Ильич?! Кто это придумал?!
А Хейфиц ему подыграл, сказав:
– Юрий Павлович, вы, наверное, ошиблись.
– Я не ошибся. Вы, режиссеры, ничего не понимаете!
И совет попался на эту удочку. Все загалдели, зашумели, и моя кандидатура была снята с этой незавидной для меня роли. Не знаю, чем могло все это кончиться, если бы не помощь Хейфица и Германа».Может показаться, что все это смешно, когда бы не было так грустно. Речь не о том, что после описанного эпизода кого-то взгрели по партийной линии – куда важнее причины, по которым Алексей Баталов отказался от столь лестного и многообещающего предложения: «В Ленинграде, где планировались съемки, из-за меня погорели несколько партийцев – их сняли с должностей. Какой был скандал!.. Худсовет потребовал кандидатуру на замену. Под горячую руку попал Кешка Смоктуновский, который и сыграл Ильича. По-человечески мне, конечно, было жалко тех, кого сняли с работы, но и переступить через себя я тоже не мог: меня окружали люди, которые пережили сталинские репрессии. Слишком много горя я видел в упор. Маминых родителей тоже не миновала печальная участь – они были репрессированы».
Смоктуновского тоже можно понять: человек, «запятнавший» себя пребыванием в фашистском плену, не имел никакого права отказываться от подобной роли. Что же касается Алексея Баталова, то у него могли быть неприятности не только из-за отказа создать на экране образ вождя и даже не из-за того, что дед и бабка когда-то числились в эсерах, что и послужило поводом для их ареста. Его единоутробный брат, Михаил Ардов, в своих воспоминаниях указывает на дворянское происхождение их рода по материнской линии. Речь идет о прадеде, Антоне Александровиче Ольшевском, который, согласно семейному преданию, женился на графине Понятовской без благословения ее родителей и вынужден был из-за этого бежать из Польши во Владимир. Правда, это предание не стыкуется с тем фактом, что отец Антона Александровича, как утверждает Михаил Ардов, был главным лесничим Владимирской губернии. Более правдоподобная версия гласит, что прадед был потомком участника Польского восстания 1863 года, который содержался во Владимирском централе. И уж совершенно точно можно утверждать, что отец Антона Александровича, Александр Семенович Ольшевский, до 1912 года занимал пост старшего лесного ревизора одного из урочищ Владимирской губернии, а должности главного лесничего в губернии вовсе не было.
Поскольку речь зашла об актере, который в значительной степени способствовал успеху фильмов, поставленных по сценариям одного из героев этой книги, позволю себе еще кое-что прояснить в том, что касается родословной Алексея Баталова, – думаю, никто не усомнится в том, что своим талантом и обаянием он обязан своим предкам как по отцовской, так и по материнской линии. Впрочем, определенную роль сыграло и непосредственное окружение:
«Я из невозможно актерской семьи. И родители, и дядя, и мои тетки – все актеры. Баталовых было так много, что Станиславский запретил им под одной фамилией работать. Только дяде – Николаю Баталову – фамилию оставили. Жена дяди стала Андровской. Моя мама – Ольшевской, отец – Аталовым. Еще были тети Муся и Зина, сестры отца и дяди, – и они выходили на сцену под разными фамилиями. И когда я после Школы-студии МХАТ пришел в театр, все обрадовались. Снова во МХАТе – фамилия Баталов».Нет сомнений, что благотворное влияние на Алексея Баталова оказало и близкое знакомство с поэтессой Анной Ахматовой. Приезжая в Москву, Анна Андреевна непременно останавливалась в квартире отчима Баталова на Большой Ордынке. В свою очередь Алексей Владимирович, снимаясь в фильмах Хейфица на «Ленфильме», жил у нее. Но первая их встреча произошла еще в то время, когда семья квартировала в доме номер 5 по Нащокинскому переулку: «Когда мама вышла замуж за Ардова Виктора Ефимовича, я попал в первый писательский дом, который был построен недалеко от храма Христа Спасителя. У нас квартира была на первом этаже и, если окошечко откроешь, сразу начиналась земля. Это было очень удобно – меня родители выставляли через окно на улицу, и там я играл с пасынком какого-то приходившего к нам в гости дяди. Этим дядей оказался Булгаков. Сверху над нами жил Мандельштам, приходил и рассказывал сказки Юрий Олеша. Там же я впервые увидел Анну Андреевну Ахматову».
А между тем и Юрий Герман был хорошо знаком с Ахматовой – Анна Андреевна на лето снимала дачу в том же Комарове, где жили многие писатели. Литературовед Георгий Макагоненко описывает в своих воспоминаниях эпизод, участниками которого были Ольга Берггольц, Евгений Шварц и Юрий Герман. Это случилось в дождливый октябрьский день, когда Анна Андреевна пришла в дом Ардовых вымокшая до нитки, в насквозь промокших туфлях:
«Я усадил ее на стул и принялся снимать набухшие водой, летние, не приспособленные к октябрьским лужам башмаки. Позвал Ольгу Федоровну. Мгновенно оценив обстановку, она приказала:
– Принеси из ванной полотенце, из шкафа мои шерстяные чулки и уходи.
В дверях стоял Герман. На лице его судорожно бегали желваки. Я увел его в столовую. Не видевший того, что было в прихожей, Шварц обо всем догадался, проследив взглядом за мной, бежавшим с шерстяными чулками в руках. Минут через десять в столовую во шли Анна Андреевна и Ольга Федоровна. Анна Андреевна спокойно поздоровалась. Глаза присутствующих невольно устремились на ее ноги. Анна Андреевна стояла в теплых чулках – туфли Ольги Федоровны не подошли. Подвинув стул к камину, она села, сказав:
– Я погреюсь.
Странное впечатление производила ее фигура. У камина сидела уже немолодая, седая, бедно одетая женщина, без туфель, придвинув к огню озябшие на уличной стуже ноги. И в то же время во всей ее осанке, в гордо откинутой голове, в строгих чертах ее лица – все в ней было величественно и просто. Я уже знал, что при определении ее осанки часто употребляется эпитет – королевская, царственная. Этот эпитет, пожалуй, наиболее подходил и сейчас к озябшей женщине, сидевшей у камина. Бедность только подчеркивала ее достойную величавость…
Герман разлил коньяк, подал Анне Андреевне рюмку и провозгласил:
– За нашу Анну Андреевну, за нашу королеву-бродягу! – и поцеловал ее руку.
Губы Анны Андреевны чуть дрогнули в улыбке.
– Спасибо, – сказала она».Ну что ж, теперь можно обсудить и родословную Алексея Баталова. А для начала сошлюсь на воспоминания его единоутробного брата Михаила Ардова: «Моя бабка со стороны матери, Нина (Антонина) Васильевна, была довольно известным во Владимире зубным врачом. Родом она из дворянской семьи Нарбековых, у нее были две сестры и брат Николай Васильевич. Как это бывало в тогдашней интеллигентской среде, все они были враждебно настроены по отношению к власти и даже формально являлись членами партии эсеров (социалистов-революционеров). Притом Нина Васильевна возглавляла местную ячейку своей партии. (Впоследствии, уже при большевицком режиме, это обстоятельство сыграло роковую роль в судьбе моей бабки и ее брата.)»
Историки сообщают, что в XV веке, еще при великом князе Василии Темном, татарин мурза Багрим приехал из Большой Орды в Москву проситься на службу. Великий князь простил ему прежние грехи и жаловал землями. Если верить записям Бархатной книги российского дворянства, от Багрима произошли Нарбековы, Кеглевы (Теглевы) и Акинфовы. Сын Багрима (Абрагима или Ибрагима), крещенного под именем Илья, Дмитрий Нарбек стал родоначальником рода Нарбековых. Его сын Алексей получил прозвище Держава – считается, что от него произошел род Державиных.
В XVI–XVII веках Нарбековы принадлежали к «думским дворянам» – это была тоже знать, но только знать второго сорта, в отличие от родовитых дворян. Думскими дворянами считались также Нарышкины, Нащекины, Пушкины, Толстые, Ртищевы. В те времена Нарбековы служили стольниками и воеводами, а их земельные владения располагались в Тверской, Ивановской и Московской губерниях. Возвышение Нарбековых состоялось в XVII–XVIII веках благодаря удачным замужествам некоторых особенно привлекательных представительниц их рода. Так, Екатерина Федоровна вышла замуж за князя Илью Милославского, а их дочь стала подругой жизни царя Алексея Михайловича. Известно, что во время крестьянского восстания Степана Разина царь Алексей Михайлович послал в Юрьевец полкового воеводу Василия Нарбекова на усмирение отряда восставших, прорвавшегося с Волги по Ветлуге и Ветлужскому волоку на Большой Сибирский тракт. Уже в XVIII веке состоялось бракосочетание Феклы Федоровны Нарбековой с князем Григорием Урусовым, будущим обер-комендантом Петропавловской крепости, а позже Нарбековы породнились и с семейством всемогущего канцлера Воронцова.
Как утверждают историки, род Нарбековых пресекся в первой половине XIX века. Надо полагать, что речь идет об отсутствии наследников той ветви рода, которая принадлежала к высшей знати. С этих пор Нарбековы приобрели известность как священнослужители. Красноречивый пример: знаменитая няня Александра Сергеевича Пушкина, Арина Родионовна, была в 1828 году «приобщена святых тайн и исповедана» иереем Владимирской церкви Алексеем Нарбековым.
Отсюда следует вывод, что те Нарбековы, которые в конце XIX века оказались во Владимирской губернии, не могли иметь ни привилегий, ни того достатка, которыми обладали некоторые представители их рода в XVII–XVIII веках. Можно поставить под сомнение и их дворянское происхождение. В самом деле, все служивые Нарбековы, обитавшие во Владимирской и близлежащих Нижегородской и Казанской губерниях, оказались лицами духовного звания. Например, среди выпускников Суздальского духовного училища с 1870 по 1910 год оказалось более двадцати Нарбековых. А ведь была еще Владимирская духовная семинария, не говоря уже о Казанской и Петербургской духовных академиях.
Из всех известных мне Нарбековых на роль отца Антонины Васильевны могут претендовать лишь два кандидата: Василий Андреевич и Василий Ксенофонтович. О Василии Андреевиче известно, что он был сыном сельского псаломщика, имел жену и двух дочерей, а к 1903 году занимал пост профессора Казанской духовной академии по кафедре литургии и церковной археологии, имея чин статского советника и степень магистра богословия. Кстати, у Василия был брат Евгений, тоже ставший священником. Сомнения, тот ли это Василий, вызваны тем обстоятельством, что Василий Андреевич родился в 1862 году, в 1887 году закончил Казанскую духовную академию, а уже через год родилась Антонина Васильевна. Как она могла оказаться во Владимире, если отец ее вроде бы жил и преподавал в Казани? Кстати, проживавший в Москве накануне революции 1917 года статский советник и директор Ченстоховской мужской гимназии Михаил Васильевич Нарбеков вполне мог быть сыном Василия Андреевича, что говорит о том, что эта ветвь Нарбековых обладала достатком выше среднего.
Другой вероятный кандидат накрепко связан своей родословной с селением Валеж в Муромском уезде Владимирской губернии – на протяжении 140 лет Нарбековы были священниками церкви в Валеже. В 1801 году на это место заступил Иван Егорович, а через 32 года его сменил сын, Ксенофонт Иванович. У Ксенофонта Ивановича родилось как минимум четверо сыновей, Михаил, Иван, Василий, Виктор, и дочь Александра. Первые трое, следуя семейной традиции, посвятили свою жизнь служению церкви, а Виктор после окончания Владимирской духовной семинарии стал учителем русского языка Вязниковского трехклассного училища. Василий Ксенофонтович родился в начале 40-х годов XIX столетия, в 1865 году получил степень магистра богословия и служил учителем в Нижегородской духовной семинарии. Старший брат, Михаил, служил в вязниковской Введенской церкви, стал со временем протоиереем и в знак почтения к нему со стороны паствы получил прозвище «вязниковский провидец». Однако выяснилось, что был еще и Николай Ксенофонтович – статский советник и учитель латинского и греческого языков в Волоколамском отделении Московского епархиального училищного совета. Был ли он сыном Ксенофонта Ивановича, не столь важно – куда важнее, что принадлежность владимирской ветви рода Нарбековых к священнослужителям в конце XIX и в начале XX века теперь не вызывает у меня сомнений. Кстати, профессия врача никак не противоречит принципам и взглядам, которые служители церкви наверняка прививали своим детям. Что же касается Василия Ксенофонтовича, то по своему возрасту он вполне годился в отцы Антонине Васильевне, если она была одной из младших среди его детей.
Казалось, все эти изыскания так и не дали конкретного результата, но в подтверждение сделанных выводов приведу следующее наблюдение. Немало Нарбековых числилось, скажем, среди жителей Москвы, причем служили они в основном учителями, что тоже очень близко к профессии духовного наставника, как и профессия врачевателя физических недугов, я имею в виду Антонину Васильевну, бабку Алексея Баталова, которая была зубным врачом. А вот во Владимирской губернии не обнаружилось ни одного служивого, кроме уже упомянутых мной священников. В отсутствие иных версий это позволяет мне завершить рассказ о Нарбековых, при этом оставаясь при мнении, что Антонина Васильевна была дочерью священника. Правда, может возникнуть вопрос: на какие средства приобретены два дома во Владимире? Так вряд ли кто-то станет сомневаться, что профессия зубного врача была довольно прибыльной в любые времена, ну а священники тоже имеют кое-какой доход за счет пожертвований православных прихожан.
Кстати, о домах. Михаил Ардов в своих воспоминаниях пишет о доме, располагавшемся на главной улице Владимира:
«У Нарбековых был во Владимире собственный дом с садом. Он и по сию пору стоит на главной улице, совсем неподалеку от знаменитых соборов Дмитриевского и Успенского. Мама вспоминала, как в детстве их с братом именно туда водили на службу».Главной улицей Владимира была Большая улица, разные части которой имели собственные названия – Дворянская, Московская и Нижегородская. Судя по всему, дом Нарбековых располагался на Московской улице. Упоминается в некоторых рассказах и более точный ориентир – у Вокзального спуска. Говорится даже о том, что детей пешком водили на службу в Успенский собор. Тогда, скорее всего, ад рес этого дома – нынешняя Большая Московская, дом номер 5, как раз напротив собора Успения Пресвятой Богородицы и недалеко от Вокзального спуска.
Однако, помимо этого дома, исследователи биографии Алексея Баталова упоминают еще и дом на подъеме Студеной горы. Но и этого оказывается мало! В алфавит-календаре Владимирской губернии за 1915 год упоминаются еще два дома, принадлежащие Нарбековой. В одном из них, на Ильинской улице, квартировал преподаватель духовной семинарии и епархиального женского училища, статский советник Иван Петрович Крылов – здесь, несомненно, речь идет об улице Ильинская-Покатая, расположенной совсем недалеко от упомянутого дома номер 5. Ну а в другом доме, на Нижегородской улице, жил статский советник князь Игнатий Игнатьевич Гедройц. Скорее всего, это все тот же дом на Московской улице – насколько я понял, всю главную улицу Владимира вплоть до Золотых ворот предпочитали в прежние времена называть Нижегородской, по каким-то причинам пренебрегая названием «Московская».
Если проживание преподавателя духовной академии в доме Нарбековых уже не вызывает удивления, то появление там князя надо бы как-то объяснить, тем более что это может косвенно подтвердить мою версию о происхождении Ольшевских.
Князь Игнатий Игнатьевич принадлежал к древнему литовскому роду, однако для нас представляет интерес только вклад Гедройцев в борьбу за независимость Польши от России. Один из этих князей, Ромуальд Гедройц, участвовал в Польском восстании 1794 года под предводительством Костюшко в ранге командира дивизии. Восстание, как известно, было подавлено войсками, которыми командовал генерал-аншеф Суворов. Однако в 1812 году с приходом на земли Польши войск Наполеона появилась возможность продолжить начатое дело – дивизионный генерал князь Ромуальд Гедройц был назначен командующим Литовской армией. Увы, недолго музыка играла – в январе следующего года отряд генерал-адъютанта Чернышева атаковал литовскую кавалерию и взял в плен самого Гедройца.
Фиаско 1812 года ничему Гедройцев, к сожалению, не научило. Восстание 1863–1864 годов снова было подавлено, отец Игнатия Игнатьевича Гедройца был казнен, а сам он, лишенный княжеского титула и дворянского звания, перебрался от греха подальше в Самарскую губернию, где вроде бы рассчитывал на поддержку друзей своего отца. Если бы этим другом оказался Порфирий Ольшевский, занимавший должность помощника бухгалтера в Самарском провиантском управлении, тогда можно было бы как-то оправдать появление Игнатия Гедройца уже гораздо позже в семье Нарбековых-Ольшевских. Однако, скорее всего, в друзьях у князя должен был числиться человек состоятельный, а не простой чиновник. Заботой влиятельных друзей можно объяснить появление Игнатия Гедройца через четыре года после подавления восстания в должности кандидата в мировые посредники в Брянском уезде Орловской губернии. При этом Гедройц, которому было немногим больше двадцати лет, имел уже достаточно высокий классный чин коллежского советника, однако этому я не в состоянии найти причину.
Выгодно женившись на дочери самарского помещика, Игнатий Игнатьевич после переезда в Орловскую губернию купил имение Слободище и стал на своих землях выращивать табак. В последующие семнадцать лет он служил в уездном присутствии по воинской повинности, занимая довольно скромную должность, однако в 1890 году случилось долгожданное событие – его брату Казимиру удалось добиться возвращения им княжеского титула. Титул сыграл положительную роль в обретении новых знакомств – возникли доверительные отношения с крупным заводчиком Сергеем Ивановичем Мальцовым, женатым на княжне Анастасии Урусовой. Но если дела Мальцова со временем стали приходить в упадок из-за неудачного вложения капитала, то Гедройц понемногу делал карьеру – в 1890 году он участковый мировой судья, а еще через несколько лет получает чин статского советника. Такое превращение трудно объяснить знакомством с фабрикантом, поскольку к этому времени Мальцов уже не имел прежнего влияния. Однако в Орловской губернии располагались имения многих других значительных персон, увлекавшихся популярным в те годы коневодством.
Как нетрудно предположить, о конфликте с властями Игнатий Игнатьевич даже не помышлял – этому увлечению он отдал дань в молодости. Зато бунтарский характер и вольнолюбивые мысли словно бы по наследству перешли к его дочери Вере. В ее жизни было и исключение из гимназии, и высылка в имение отца под надзор полиции после участия в революционных выступлениях во время учебы в Петербурге, и выезд по подложным документам в Швейцарию, где она получила медицинское образование. Однако еще до ее отъезда за границу в газетах появилось сообщение:
«Княжна Гедройц и госпожа Татаринова подали председателю губернского собрания заявления от имени 168 жительниц Орловской губернии с предложением внести на рассмотрение собрания вопрос о признании за женщинами полной гражданской и политической равноправности и правоспособности».Очень любопытно было бы узнать всех подписавших поименно. А вдруг среди них, наряду с женой местного землевладельца Федора Васильевича Татаринова, окажется и будущая возлюбленная Михаила Булгакова, Кира Алексеевна Блохина, через семь лет ставшая женой князя Юрия Козловского? Бунтарство было и в ее характере – недаром в 1909 году она покинула родительский дом и отправилась в Петербург, намереваясь во что бы то ни стало получить более основательное образование, помимо того, что дали ей в семье.
Ну а скитания княжны Гедройц завершились тем, что в 1909 году императрица Александра Федоровна предложила ей занять место старшего ординатора Госпиталя Дворцового ведомства, что располагался в Царском Селе. Недавняя бунтарка стала трудиться на благо монаршего семейства и со временем вошла в ближайшее окружение императрицы, которая очень ценила княжну как хорошего врача. Но было у Веры Игнатьевны и еще одно занятие, для души – она писала стихи. Это увлечение позволило ей завести знакомство с Гумилевым, Ахматовой, Есениным, многими другими поэтами, а незадолго до начала Первой мировой войны вышла первая книга стихов Веры Гедройц.
Вот что писала императрица своему супругу через два года после начала Первой мировой войны:
«Горячо благодарю тебя за твое дорогое письмо – это такая огромная радость, это мне награда за работу в лазарете. Княжна Гедройц вернулась со своими ранеными. Она работала три дня в передовом отряде, где не было хирурга (он только что уехал), сделала 30 операций, из них много трепанаций; она видела моих бедных, милых сибиряков».А в это время отец Веры Игнатьевны жил в доме Нарбековых-Ольшевских во Владимире. Чем был вызван этот переезд, совершенный в 1903 году? То ли Игнатий Игнатьевич, лишившись доброго друга и покровителя Сергея Мальцова, скончавшегося десятью годами ранее, решил подыскать новое место жительства, то ли разошелся на старости лет со своей женой. А между тем его старший сын, родившийся в 1901 году и по семейной традиции тоже названный Игнатием, так и продолжал жить в отцовском имении. В 1919 году он стал выступать на сцене Трубчевского драмтеатра, а после перемены еще нескольких мест работы оказался в Московском театре оперетты, где и проработал более тридцати лет. Но что же произошло в первые годы прошлого века с его отцом? Как выяснилось, он вновь стал служить в присутствии по воинской повинности, но теперь уже в другой губернии. Возможно, это был перевод на новое место службы с повышением – здесь, во Владимире, Игнатий Игнатьевич числился в присутствии как непременный член, ну а в Орле был как бы на подхвате. Однако, скорее всего, у князя возникли трения с орловской знатью по национальному вопросу. Косвенным подтверждением этого может служить сообщение из Владимира, напечатанное в 1911 году одной из московских газет: «По инициативе непременного члена губернского по земским и городским делам присутствия фон Мореншильда состоялось учредительное собрание владимирского отдела партии националистов. Собрание было очень малочисленным. За исключением г. Мореншильда и его секретаря г. Сорокина, изъявили желание примкнуть к националистам всего четыре человека. Перечисляем их поименно: князь Гедройц, Попов, Протасьев и тюремный надзиратель Познанский».
Тут надо пояснить, что упомянутый Попов служил секретарем присутствия по воинской повинности, где непременным членом был Гедройц, ну а Сорокин занимал аналогичную должность при Михаиле фон Мореншильде в присутствии по земельным и городским делам. У Александра Протасьева, уездного предводителя дворянства, и у Дмитрия Познанского, губернского тюремного инспектора, судя по всему, возможности привлечь в партию своих секретарей не было ввиду их отсутствия. Этим и объясняется столь незначительный численный состав владимирского отделения партии.
Членство князя Гедройца в партии националистов может вызвать удивление, поскольку одним из основных пунктов программы Всероссийского национального союза было «ограничение политических (избирательных) прав инородцев» на общегосударственном уровне. Правда, там присутствовала и оговорка: «При лояльном отношении инородцев к России, русский народ не может не пойти навстречу их стремлениям и желаниям». И еще: членами Всероссийского национального союза могли стать лица, «принадлежащие к коренному русскому населению или органически слившиеся с русским народом». Видимо, вступая в партию, князь Гедройц руководствовался исключительно конъюнктурными соображениями. Однако уверен, что Игнатий Игнатьевич ничего из того, что было в прошлом, не забыл и перенесенные его семьей обиды не простил.
По странному стечению обстоятельств на той же Нижегородской улице, где в доме Нарбековых нашел пристанище князь после переезда во Владимир, располагался дом Мальцовых – тех самых, что принадлежали к богатому роду промышленников и состояли в близком родстве с орловским Мальцовым. Любопытно и то, что Игнатий Игнатьевич иногда представлялся, судя по алфавит-календарю, как отставной поручик, хотя в царской армии сроду не служил. Однако причины этой мистификации, так же как основания для переезда князя Гедройца во Владимир – это тема отдельного исследования. Нас же должен заинтересовать тот факт, что сын активного участника Польского восстания оказался в одном доме с другим польским бунтарем, отбывшим положенный срок во Владимирском централе и после этого осевшим в том же городе. Судя по некоторым сведениям, дворянин Александр Ольшевский прежде владел поместьем Ореховом в Себежском уезде Витебской губернии, но после подавления восстания в 1864 году был лишен прав состояния с конфискацией имущества в казну. Вполне логично, что и его сын, Антон Александрович, настроен был враждебно по отношению к царскому правительству. Вот что писал Михаил Ардов:
«Смолоду он собирался стать врачом, но с медицинского факультета его исключили за то, что во время пения российского гимна «Боже, Царя храни» он не встал, как все прочие студенты, а продолжал сидеть. Эта «революционная выходка» стоила ему профессии – стать целителем людей ему не позволили, и он поневоле стал ветеринаром».Если к этому добавить, что Антонина Васильевна Нарбекова состояла в партии эсеров, то надо признать, что Игнатий Игнатьевич Гедройц после приезда во Владимир оказался в дружеской компании. Однако была ли его встреча с Антоном Александровичем Ольшевским случайной или произошла по совету Порфирия Ольшевского из Самары – это неизвестно. Тут важно другое – обстановка в доме, где выросла мать Алексея Баталова, Нина Антоновна. Нет сомнения, что и Гедройц, и Ольшевский были людьми прогрессивных взглядов, оппозиционно настроенными к тогдашнему режиму. В доме наверняка предпочитали откровенно говорить о событиях в стране и во времена самодержавия, и уж тем более после падения монархии.
Казалось бы, можно было рассчитывать на то, что кое-что из этого накопленного семьей духовного багажа перешло к Алексею Баталову, сделав из него наследственного бунтаря. Если иметь в виду ум, честность и порядочность – это несомненно. Но в остальном сдерживающую роль сыграло происхождение его отца: Алексей Владимирович никогда не увлекался поисками знатных корней и откровенно признавал, что отец его был из крестьян. Может быть, и так, однако в Москве в начале прошлого века проживал служащий почтово-телеграфной конторы Петр Георгиевич Баталов – кто знает, может быть, он и был отцом Владимира Петровича Баталова, что не исключает его принадлежности к выходцам из крестьянского сословия.
На этом можно завершить рассказ об Алексее Баталове, поскольку его сценическая биография всем хорошо известна. Ну а что касается бунтарства, то у каждого настоящего артиста оно проявляется по-своему.Глава 6. Честный, любимый и наивный
В 1964 году по сценарию Юрия Германа был снят фильм «Верьте мне, люди». В эти же годы были написаны воспоминания о Горьком и о Мейерхольде. Все шло к тому, что власть просто обязана по достоинству оценить вклад писателя в литературу, и в 1966 году коллеги стали поговаривать о том, что трилогию Юрия Германа наверняка выдвинут на соискание Ленинской премии. К сожалению, так и не сбылось. Константин Симонов, пытаясь успокоить расстроенного непризнанием писателя, написал ему письмо:
«Мы очень по-разному многое с Вами видим, по-разному приглядываемся, часто разное замечаем в людях, но непоколебимость веры в них, в этих людей, идущая даже не от ума и не только от сердца, а откуда-то еще глубже, подспуднее, от брюха, что ли, эта вера, мне кажется, делает нас близкими друг другу. Я, во всяком случае, это так ощущаю и заново ощутил, читая Вашу трилогию. А что не получили за нее премию, я думаю, Вы, наверное, не расстраиваетесь. Бог с ней, с премией».
Юрий Герман умер 16 января 1967 года в Ленинграде и был похоронен на Богословском кладбище.
Так в чем же секрет популярности произведений Германа в 50-х и 60-х годах? Сюжет, понятный даже не шибко образованному читателю, простой, без каких-либо «вывертов» язык – именно такую литературу хотели дать народу товарищ Сталин и его последователи, если еще добавить толику партийности и, разумеется, патриотичности – ну как без этого? Впрочем, читатели любили романы Германа и фильмы, поставленные по его сценариям, прежде всего, за доброту и искренность, за то, что его герои по-настоящему любили и ненавидели, при этом оставаясь верными своему долгу перед Родиной, перед людьми. К сожалению, даже в наше время далеко не все способны восхищаться «Завистью» Юрия Олеши, «Собачьим сердцем» Михаила Булгакова, не говоря уже о рассказах Андрея Платонова, написанных весьма своеобразным языком. А вот прозу Германа и сейчас многие читали бы с удовольствием. Естественно, если обновить сюжет, приблизив действие к реалиям нашего времени, да и героев сделать более узнаваемыми, современными. Однако подумалось, что в эпоху безраздельной власти телевизора хорошие писатели вовсе не нужны. Конечно, если речь идет не о литературе для эстетов, для «элиты», а о тех книгах, которые предназначены, как принято говорить, для массового потребителя. Исключением являются детективы, фантастика да еще, пожалуй, «дамские» романы.
А вот младшего сына писателя, Алексея Германа, интересовал вовсе не секрет популярности книг отца, не достоинства или недостатки его прозы, не мировоззрение героев его произведений, не их жизненные принципы. Больше, чем что-либо другое, сына волновал другой вопрос:
«Для меня до сих пор загадка, почему отец почти всю жизнь, не будучи коммунистом, был совершенно искренним приверженцем партии. Может быть, дело в том, что он попал под абсолютное обаяние Сталина? Папа утверждал, что более обаятельного человека он не видел».Вопрос, конечно, непростой. Совместить такое понятие, как «обаяние», с тем, что мы знаем о санкционированных Сталиным массовых репрессиях 30-х и 40-х годов, – пожалуй, я за это не возьмусь. Нельзя же утверждать, что все, кто поддерживал вождя, аплодировал ему на съездах партии, были настолько кровожадны. Тут, видимо, дело в том, что одни боялись возражать, ну а другие, восторженно глядя на своих кумиров, не очень-то задумывались о том, что реально происходит. Тем более не могли предположить, что некоторые из них и сами окажутся жертвами репрессий. Но есть и другой вариант. Многие люди трудились на благо Родины, вполне разумно полагая, что не в их силах что-либо изменить. У них были свои проблемы, гораздо более важные, чем поиски причин, как и почему люди попадают под обаяние тиранов.
Но вот вроде бы Алексей Герман находит если не объяснение этому «парадоксу», то хотя бы оправдание отцу:
«Он был человеком в чем-то наивным, в чем-то актерствовал. Хотя мудрость в нем была. Он мог возбудиться и поверить Хрущеву. Обожать его. А потом прийти от него в ужас. При Сталине он обожал Сталина. Потом мама ему сказала, что это дьявол и что в аду он будет грызть собственные кости. Они в это время изготовляли меня, папа был женат на другой женщине, и они с мамой были страстные любовники. Он сел в кровати от ужаса – что она такое говорит? Но задумался. А мама подумала: донесет. Когда она ему это рассказала, он с ней чуть не прервал отношения».Ну, если дело доходит до подозрений и ссор в постели, то остается только руками развести – это не самое удобное место для политических споров и идеологических разборок. Но вот что еще надо бы добавить. Художник, так же как и писатель, гораздо чаще мыслит и действует под влиянием чувств, а не по результатам строгого анализа в соответствии с законами логики. Иначе из-под его пера явился бы миру, в лучшем случае, научный труд, предназначенный для узкого круга интеллектуалов. Поэтому и возникало такое отношение к вождю – от обожания до ужаса. Нет бы спокойно все обмозговать, сделав надлежащие выводы. Однако осознание того, что реально происходит в жизни, приводит иной раз к непредвиденным последствиям – дело может кончиться и психическим надломом, и самоубийством. Мне приходилось в юности встречать людей, которые «свихнулись» после разоблачений на XX съезде КПСС в 1956 году. Тут все зависит от характера.
И все же я бы не сказал, что Юрий Павлович был наивен. Просто не было никакого смысла глубоко задумываться о том, что происходит в стране. Даже если что-нибудь поймешь – так ведь в книге об этом не напишешь, обсуждать с приятелем не станешь, поскольку очень уж рискованно, ну а носить это в себе не всякий сможет, слишком тяжело. И что это за жизнь, если пишешь одно, а думаешь совершенно по-другому? Поэтому логичнее попытаться убедить – сначала самого себя, а позже и других, что все идет, как и положено тому, и нет никаких оснований сомневаться.
И снова Алексей Герман о Сталине и об отце:
«Два раза он был на этих диких вечеринках у Сталина. Сталин ему очень нравился. Мама, которая вернулась из эмиграции, все понимала и ненавидела… Я так и не понимаю, как он всего этого не видел».Честно говоря, и я тоже никак не уразумею – почему только возвратившись из эмиграции можно понять, что происходит в стране. Казалось бы, все наоборот – чтобы в чем-то разобраться, нужно много лет прожить в России, да кое-кому на это даже целой жизни не хватает. Неужели истина видится лишь издалека?
И вот еще какие возникают у меня вопросы. Почему Михаил Булгаков так надеялся на помощь Сталина? Почему пил горькую Юрий Олеша? И почему Осип Мандельштам решился написать всем известные строки: «Мы живем, под собою не чуя страны»?
Видимо, дело в том, что все мы действуем исходя из собственного понимания окружающего мира. И Олеша, и Мандельштам, что называется, отдавали себе полный отчет в том, что происходит в стране, хотя, конечно, многого не знали. Булгаков тоже кое-что знал и понимал, однако особенно в эти дебри не углублялся, поскольку надеялся после успеха «Турбиных», что уж ему-то с его талантом, в отличие от прочих, точно повезет, – надеялся до поры до времени.
Вот и Юрий Герман не мог забыть ни похвалу Максима Горького, ни благосклонное отношение властей к фильмам, снятым по его сценариям, и к его военной прозе. Ну как же их за это не любить?
Впрочем, по словам Алексея Германа, были и в жизни отца смелые поступки:
«Когда папе принесли на подпись письмо против Бродского, он спустил делегацию с лестницы. Не потому, что Бродский был ему особо дорог, – ему было на него наплевать, он и не знал, кто такой Бродский, – но его накрутил Гранин: если мы разрешим сажать поэтов, то все снова пойдет наперекосяк».Пожалуй, тут с лучшей стороны показал себя и сын, поскольку появление слова «наплевать» в контексте с именем нобелевского лауреата – это круто, это требует немалой смелости! Что же касается отца, то этот его поступок следует воспринимать как следствие тех перемен, которые произошли в стране. Попробовал бы он в 40-х годах не подписать письмо против Михаила Зощенко или спустить с лестницы представителя общественности, явившегося, чтобы потребовать покаяния писателя перед своим народом.
Вообще-то с этим Бродским происходит что-то странное. Среди участников заседания секретариата ленинградского отделения Союза писателей РСФСР, единогласно осудивших Бродского, писателя Юрия Германа не было. Не присутствовал он и на судебном заседании по делу Бродского. Не числился Юрий Павлович и среди тех, кого обвинили «в необдуманной защите тунеядца Бродского». Их было только трое, осмелившихся высказаться на суде: Владимир Адмони, Наталья Грудинина и Ефим Эткинд. Но вот читаю в книге Раисы Орловой и Льва Копелева «Мы жили в Москве, 1956–1980» о том, как дружно прогрессивные литераторы встали на защиту опального поэта:
«Ученые, писатели, журналисты, студенты посылали письма в ЦК, в Прокуратуру, в Верховный Суд, секретарю Ленинградского обкома Толстикову, Председателю Верховного Совета Микояну, в Союз писателей. Мы помним далеко не всех, главным образом литераторов: В. Адмони, Б. Ахмадулина, А. Ахматова, В. Ардов, А. Битов, З. Богуславская, Б. Бахтин, А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Гнедин, Д. Гранин, Р. Грачев, Н. Грудинина, Ю. Герман…»И это при том, что позиция Даниила Гранина тоже казалась не вполне внятной – то он вроде бы голосовал за осуждение Бродского, то вроде бы воздержался или просто скрылся у себя на даче, тогда как по своей должности секретаря местного отделения Союза писателей просто обязан был прийти на суд. Что же касается отношения Германа к судебному процессу, то об этом вспоминал Ефим Эткинд в своих «Записках незаговорщика»: «Группа писателей собралась на квартире известного романиста Юрия Павловича Германа – обсуждались возможные (или невозможные?) действия. Сам Юрий Герман, человек степенный, склонный к миролюбивым решениям и вполне лояльный, бушевал: это «дело» представлялось ему нелепым, гротескным, фантастическим; он звонил в управление милиции, с которой у него были давние связи, рассылал письма, уговаривал бюрократов и, будучи по натуре оптимистом, верил в торжество добра».
Вполне определенно позиция и Гранина, и Германа была выражена лишь на заседании секретариата, когда отстраняли от должности ответственного секретаря ленинградского отделения Союза писателей РСФСР Александра Прокофьева, одного из активных сторонников осуждения Бродского. Тогда из уст Юрия Германа прозвучали такие слова: «Вчера в обкоме партии в атмосфере взаимного доверия, искренности и деловитости партгруппа правления пришла к выводу, что первым секретарем Союза мы должны избрать нашего старого и верного друга товарища Дудина М. А. Нам кажется, что дела наши пойдут хорошо, если М. Дудин будет первым секретарем».
Вторым секретарем был избран Даниил Гранин.
Казалось бы, на этом тему Бродского можно было бы и закончить, поскольку всем понятно, что нельзя преследовать человека по суду даже за очень плохие стихи. Плохие или нет, в данном случае не важно, и все-таки надо бы в этом разобраться. Вот как Александр Солженицын оценивал поэзию Бродского:
«Он смотрит на мир мало сказать со снисходительностью – с брезгливостью к бытию, с какой-то гримасой неприязни, нелюбви к существующему, а иногда и отвращения к нему…»
Если в качестве оправдания принять фразу Бродского, будто «искусство есть форма частного предпринимательства», тогда все еще больше запутывается, так что даже не сразу сообразишь, то ли это эпатаж, то ли навеяно личным опытом.
Сергей Довлатов, вспоминая о своей тетке, которая работала секретарем редакции в издательстве, высказал собственное отношение к творчеству поэта:
«Тетка редактировала Юрия Германа, Корнилова, Сейфуллину. Даже Алексея Толстого. Среди других в объединение пришел Иосиф Бродский. Тетка не приняла его. О стихах высказалась так:
– Бред сумасшедшего! (Кстати, в поэзии Бродского есть и это.)
Бродского не приняли. Зато приняли многих других».Возможно, понять отношение Бродского к окружающему миру помогут такие его слова: «Все, что наличествовало в изобилии, я немедленно воспринимал как разновидность пропаганды».
Весьма многозначительная фраза! Смущает только то, что люди – они ведь тоже в изобилии, от них никуда не деться. Скорее всего, такое отношение к реальности и к людям – всего лишь защитный механизм. Бродский боялся людей, которые могли нарушить хрупкое равновесие его внутреннего мира. Он избегал спорить с теми, кто мог бы попытаться доказать, что он не прав, что все его мировоззрение и даже значительная часть им написанного – результат невежества, бегства от реальной самооценки, попросту халтура! Однако от Бродского снова возвратимся к Герману. Один из вопросов, который остался без ответа: как и почему менялось его мировоззрение, отношение к советской власти. Сергей Довлатов предложил собственное объяснение:
«Единственным, пожалуй, настоящим диссидентом среди ленинградских писателей, причастных к воспитанию молодежи, был Кирилл Владимирович Успенский, который умудрился получить лагерный срок в самый разгар хрущевского либерализма, а по выходе на свободу нес в Союзе писателей такую антисоветчину, которую мне ни до, ни после этого не доводилось слышать в публичных местах. Еще когда Успенский сидел в Крестах, к нему на свидание пришел Юрий Герман в надежде как-то повлиять на взгляды и умонастроения подследственного, но Кирилл Владимирович с таким напором стал пропагандировать гостя, что Юрий Павлович вышел через час из тюрьмы с раз и навсегда пошатнувшейся верой в коммунистические идеалы. Под вызывающей формой поведения К. В. Успенского скрывалась глубокая убежденность в том, что литература в наших условиях – это опасное поприще, требующее от человека стойкости и мужества. Не случайно вокруг Успенского сплотились в основном те литераторы, которые выказали в дальнейшем свою абсолютную неспособность к компромиссам».
И все-таки с Кириллом Успенским я бы поспорил, будь у меня подобная возможность. Какой путь выбрать – сесть в тюрьму за сопротивление режиму и только изредка передавать на волю весточку с оказией? Или же делать хорошую литературу, пробуждая в людях добрые чувства и сохраняя надежду на перемены к лучшему в отдаленном будущем? Если суммировать все то, что написал Юрий Герман за свою жизнь, ответ, по-моему, предельно очевиден.
Кое-что разъяснить нам в мировоззрении Юрия Германа поможет и текст молитвы пожилого человека, который висел над его рабочим столом. Происхождение текста мне неведомо, есть вроде бы версия, что кто-то сделал перевод из английского журнала. Писатель так пояснил свой интерес к этой молитве:
«Этот текст… фактически теперь является моим напутствием самому себе. Ибо до этого пожилого возраста я и дошел».Итак, «Молитва пожилого человека»: «Господи, ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать… Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой. Полезным, но не деспотом. Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели. Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать о них – все слаще… Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться… Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого: иные из них невыносимы в близком общении. Однако и люди кислого нрава – вершинные творения самого дьявола. Научи меня открывать хорошее там, где его не ждут, и распознавать неожиданные таланты в других людях».
Молитву и впрямь можно рассматривать как некое напутствие. Ну вот, скажем, предостережение: не стоит по любому поводу свои мысли излагать. Тут вспоминается знаменитая фраза из «Мастера и Маргариты»: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Только в молитве это сказано гораздо жестче – мысли следует скрывать не только от врагов или «неизвестных», но, возможно, даже от друзей. Еще один важный принцип – невмешательство. Припомним, что Михаил Булгаков попытался помочь Николаю Эрдману, заступившись за него в своем письме к вождю, однако ничего не получилось – хорошо хоть, сам не пострадал. А Юрий Герман всего-навсего написал хорошую статью о Михаиле Зощенко, а в результате вызвал волну жесточайшей критики против самого себя. В итоге пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы избежать удручающих последствий.
Так, может быть, прав автор той молитвы, прав даже в том случае, если распространить ее на всех людей, не ограничившись только пожилыми? Не вмешиваться и помалкивать… Не знаю, пусть каждый решает это для себя, в меру сил, таланта и числа влиятельных друзей, которые в случае чего помогут.
Но вот когда говоришь о собственном отце, тут невозможно промолчать, тут надо бы вмешаться, объяснить и рассказать. Даже несмотря на то, что жизнь Юрия Германа уже закончилась и ничего по большому счету не исправить.
Итак, опять слово Алексею Герману:
«Господь его не обидел – это точно. Лучшие его вещи – «Лапшин», «Подполковник медицинской службы», «Рассказы о Пирогове», на мой взгляд, принадлежат перу очень большого, серьезного писателя. Я считаю своего отца лучшим человеком, который был и есть в моей жизни. Но это не значит, что и вы его должны считать таковым».Вполне естественное уточнение – кому что нравится, нельзя же быть всеядным, иначе даже в отсутствии вкуса могут обвинить. Мне, например, больше нравятся повести из его трилогии. Впрочем, в другом своем интервью Алексей Герман несколько уточнил пристрастия: «Он мог бы быть очень крупным писателем, но, кроме нескольких глав трилогии, «Подполковника медицинской службы», «Лапшина», «Жмакина» и повести «Здравствуйте, Мария Николаевна», он ничего по-настоящему значительного не написал».
Пусть так. Но вот для того, чтобы утверждать, будто отец был лучше всех, – для этого нужны очень серьезные основания. Думаю, что Михаил Юрьевич так бы не сказал. Однако и Алексея Юрьевича следует понять: как не любить отца, когда столь многим оказываешься ему обязан?
«Отец был замечательный человек. Например, я не курю и никогда не курил. Дело было так. Папа мне сказал: «Какая у тебя стипендия?» Я ему ответил – сколько там была стипендия, 22 рубля или 220, не помню, в те времена были другие деньги. Он говорит: «Ты будешь получать 100 рублей (или 1000 рублей) от меня, на тебе деньги. Но! Ты никогда не возьмешь сигареты. Барышню можешь пригласить в ресторан, еще что-то, подумай. Ты парень честный и не будешь меня обманывать: брать у меня деньги и при этом курить»… Отец всегда стыдился того, что у него много денег, и пытался их распихать вокруг всем, кому мог».
Итак, это пишет сын об отце, с которым бок о бок прожил молодые годы, которому обязан своей в общем-то благополучной жизнью и даже, в немалой степени, успехами во время работы в театре и кино. Все-таки хорошо быть сыном успешного писателя, пользоваться благосклонностью его влиятельных друзей, а то ведь жизни может не хватить на то, чтобы преодолеть все те препятствия, которые обычно возникают на пути талантливого человека к славе.
Но вот мнение об отце другого сына, Михаила, с которым они еще в довоенные годы разошлись без какой-либо надежды на воссоединение:
«После войны я практически с отцом не виделся, не разделял ни его печалей, ни радостей, ни славы, ни страданий, не пользовался его покровительством, не был при его кончине».Эти слова многое объясняют, однако не берусь судить, кто из сыновей Юрия Германа был прав – тот ли, кто хвалил своего отца, либо другой, который не находил возможности выразить почтение ни к его личности, ни к его трудам. Ну что поделаешь, если Михаил Юрьевич сделал себя сам, не прибегая к помощи авторитетного родителя? Хотя не исключено, что известная фамилия и здесь сыграла свою роль.
Пожалуй, продолжу цитировать любящего сына – кто, кроме него, сможет рассказать о достоинствах отца:
«Мой отец был сильный, добрый, прекрасный во всех отношениях человек. Один из благороднейших людей, которых я только знал. Мне довелось быть знакомым и с Ахматовой, и с Зощенко, и с Верой Пановой, и с Евгением Шварцем, и с Шостаковичем… Я никого ни с кем не сравниваю, но мне кажется, что наиболее благородным – объективно, абстрагируясь, – был он».Не смею возражать, однако замечу, что мнение, даже сложившееся не только на основе личных впечатлений, но и с учетом высказываний об отце его друзей, – такое мнение никак не может считаться объективным. Тем более что Алексей Герман так и не упомянул в этом ряду знакомых одну из близких подруг писателя, Ольгу Берггольц. Наверное, потому, что тогда вряд ли имело бы смысл говорить о некоем превосходстве своего отца, причем объективно, глядя на него словно бы со стороны.
И вот снова сын пытается оценить результаты творчества своего отца:
«Он был честным писателем, но писал и муру. Например, я не люблю его книжки «Россия молодая», «Один год» – это он подчинял каким-то идеям».
Ну, это частное мнение. Допускаю, что кому-то эти книжки очень нравились, еще больше понравился телефильм «Россия молодая», который я, например, не в состоянии смотреть. Не вижу криминала и в том, чтобы подчиняться неким благородным идеям, если все это на благо своей страны. Что больше всего в этом отрывке удручает, так это то, что сын так и не назвал отца великим литератором – большой, серьезный, честный, но не более того. А мог бы и перехвалить, никто бы этого и не заметил, однако как проявление сыновней любви такое преувеличение было бы вполне оправданно.Глава 7. Герман и Булгаков
На первый взгляд это пустые хлопоты – пытаться найти какие-нибудь точки соприкосновения между Юрием Германом и Михаилом Булгаковым. Мне неизвестно ни одного свидетельства о том, что они встречались – будь то в Ленинграде, где Булгаков побывал в 1926 и в 1939 годах, или же в Москве, куда наверняка приезжал Юрий Герман. Да и вряд ли Булгаков мог испытывать симпатию к обласканному властью популярному писателю, славящему трудовые подвиги советского народа. Но было у них и нечто общее. Оба творили примерно в одно и то же время – во всяком случае, многие свои произведения создали в 30-е годы. Оба писали о врачах: у Германа это сценарий фильма «Доктор Калюжный», повесть «Подполковник медицинской службы» и его знаменитая трилогия, а у Булгакова врач становится главным персонажем и в «Собачьем сердце», и в «Записках юного врача», и даже в «Белой гвардии», если припомнить профессию Алексея Турбина. Ну что еще? Оба были женаты третьим браком, и даже у жен были схожие фамилии – Нюренберг и Риттенберг. На этом, пожалуй, сходство и кончается.
Попробую проанализировать различия. Юрий Герман, если верить его сыну, участвовал в «пирах Валтасара», сидя за одним столом со Сталиным, а Михаил Булгаков писал вождю просительные письма и только один раз вроде бы говорил с ним по телефону. Герман был вполне легитимным, признанным писателем, а Булгаков лавировал где-то на грани дозволенного властью, рискуя не только положением в обществе и благосостоянием семьи, но и собственным здоровьем. Если не считать романа «Белая гвардия», некоторых рассказов и пьес о Пушкине и о Мольере, то Михаил Булгаков так и оставался сатириком еще с тех самых пор, как трудился фельетонистом в компании Олеши и Катаева в «Гудке». Надо признать, что в те времена сатирик не мог долгое время быть в фаворе – слишком уж профессия рискованная, чреватая местью со стороны обиженных. Зощенко, впрочем, успел даже получить орден Трудового Красного Знамени, когда находился в зените славы, ну а неприятности начались уже потом. Однако его сатира была сосредоточена на быте, на нравах самой обычной публики. Напротив, сатира Булгакова, по существу, являлась политической, вот только придраться по большому счету было не к чему. И в самом деле, ни профессор Преображенский из «Собачьего сердца», ни герои «Мастера и Маргариты» не произносят контрреволюционных речей, так что Булгакова на первый взгляд и упрекнуть-то не в чем. Разве что припомнить знаменитую фразу профессора Преображенского о том, что не следует читать советских газет перед обедом. И что такого? Это всего лишь забота о здоровом пищеварении, не более того.
Особый интерес в любые времена представляет отношение писателя к действующей власти. Булгаков даже пьесу написал о том, как Жан-Батист Мольер унижался перед королем Людовиком, пытаясь сохранить театр. Юрий Герман, опять же если верить его сыну, «попал под абсолютное обаяние Сталина» и пользовался, но не злоупотреблял благосклонностью вождя. Булгаков же всего лишь надеялся на доброту тирана, на проявление справедливости по отношению к несчастному писателю. Да и то, по правде говоря, надеялся только до поры до времени.
Герман не один раз каялся в грехах, только бы «не выпасть из обоймы» – здесь я имею в виду всего лишь преимущества положения литературного генерала, которого он добился еще в 30-х годах. Если и расставался он с этим званием, то очень ненадолго. И каждый раз после очередной взбучки, полученной от партийных органов, вносил коррективы в свой творческий процесс.
Булгаков только один раз поддался искушению, как бы выпрашивая снисхождение к себе, пытаясь убедить вождя в своей лояльности. Однако и задуманная пьеса о молодом Сталине не помогла – слишком явная лесть всегда вызывает подозрения. В аналогичной ситуации Герман оказался предусмотрительней и тоньше – его рассказы о Дзержинском, вышедшие в свет уже после смерти Железного Феликса, нельзя рассматривать как прославление главного чекиста, а уж о том, чтобы написать о Сталине, думаю, он никогда не помышлял.
Пожалуй, есть определение, которое применимо по отношению к каждому из этих двух писателей. Это – «честный и наивный». Юрий Герман верил в правоту идей, которые он в той или иной мере отстаивал на страницах своих книг, – я имею в виду возможность построения справедливого общества в отдельно взятой социалистической стране. А Михаил Булгаков не сомневался в том, то все усилия властей напрасны, поскольку очевидные для него пороки окружающих людей никак не соответствуют тем принципам справедливости, о которых не перестают твердить с самых высоких трибун. И вместе с тем он наивно верил в то, что справедливый тиран сможет навести кое-какой порядок или хотя бы оказать моральную поддержку талантливому, но униженному и оскорбленному писателю. Эта вера была основательно подорвана в 1938 году, после процесса над «врачами-умертвителями», однако и потом оставалась слабая надежда, которая рухнула лишь незадолго до смерти, после досадной неудачи с пьесой «Батум».
Впрочем, наивность Юрия Германа при ближайшем рассмотрении оказывается не столь уж очевидной. Даже если он разделял в чем-то сомнения Булгакова, свою задачу он видел в том, чтобы пробуждать в людях добрые чувства, что уже немало. Критический реализм, а тем более сатира – не для него. Во многом Юрий Герман оставался тем самым романтиком, который написал еще в юные годы повести «Вступление» и «Бедный Генрих».
«Не совпадают» Герман и Булгаков и в своем отношении к Максиму Горькому. Если для Германа пролетарский писатель стал крестным отцом в том, что касается литературы, то для Булгакова он не сделал ничего хорошего, можно даже сказать, что навредил. Ведь это Горький дал отрицательный отзыв на роман Булгакова «Жизнь господина де Мольера»:
«Нужно не только дополнить ее историческим материалом и придать ей материальную значимость, нужно изменить ее «игривый стиль». В данном виде это – несерьезная работа и – Вы правильно указываете – она будет резко осуждена».
Так отвечал писатель, живший тогда в Сорренто, редактору серии ЖЗЛ А. Н. Тихонову.
Не знаю, кто подсказал Герману этот умный ход – обратиться за помощью к Максиму Горькому? Возможно, догадался сам. А вот Булгаков такого покровителя так и не нашел, хотя и пытался его обрести в лице вождя народов Сталина. Кое-что удалось, однако надолго благосклонности вождя писателю не хватило. В итоге книгу о Мольере положили под сукно, ну а в Художественном театре со скрипом продвигались репетиции пьесы Булгакова все о том же Мольере, начавшиеся еще в 1932 году и затянувшиеся на четыре года. Совсем другое – это горьковская пьеса «Враги». Вот что телеграфировал Немирович-Данченко в Сорренто Горькому, рапортуя о постановке этой пьесы:
«Дорогой Алексей Максимович, рад сообщить Вам об очень большом успехе «Врагов» на трех генеральных репетициях. На последней публика поручила мне послать Вам ее горячий привет. Все участники и я испытывали глубокую радость в этой работе и теперь счастливы ее великолепными результатами. Немирович-Данченко ».Понятно, что Булгаков подобного приветственного послания ни разу за свою жизнь не удостоился. Не удивительно, что в 1937 году его жена записала в своем дневнике впечатления от спектакля по пьесе Горького: «Пошли в Камерный – генеральная – «Дети солнца». Просидели один акт и ушли – немыслимо. М. А. говорил, что у него «все тело чешется от скуки». Ужасны горьковские пьесы. Хотя романы еще хуже».
И все же в начале 1936 года репетиции «Мольера» завершились, и даже дали семь представлений. Вот запись в дневнике Елены Сергеевны: «Опять успех, и большой. Занавес давали раз двадцать. Американцы восхищались и долго благодарили».
Здесь имеются в виду первый посол США в СССР Уильям Буллит и другие дипломаты. Насколько я могу судить, мнение американцев для Булгаковых значило немало. Они не раз бывали на приемах в посольстве и в свою очередь принимали американских дипломатов у себя. Казалось бы, ну что особенного? Однако и здесь прошел некий водораздел между Булгаковым и Германом. Я не берусь делать какие-то особенно многозначительные выводы, однако приведу отрывок из романа Юрия Германа «Дорогой мой человек». Здесь гнев Владимира Устименко вызван тем, что американский журналист позволил себе «маленькую шутку насчет боеспособности русского народа»:
«Был час ужина, за соседним столиком брюхатый американский журналист толстыми пальцами чистил апельсин, его военные «прогнозы» почтительно слушали очкастые, с зализанными волосами, похожие, словно близнецы, дипломаты.
– Сволочь! – сказал Володя.
– Что он говорит? – спросил Тод-Жин.
– Сволочь! – повторил Устименко. – Фашист!
Дипломаты закивали головами, заулыбались.
Знаменитый американский обозреватель-журналист пошутил. «Эта шутка уже летит по радиотелефону в мою газету», – пояснил он своим собеседникам и бросил в рот – щелчком – дольку апельсина. Рот у него был огромный, как у лягушки, – от уха до уха. И им всем троим было очень весело, но еще веселее им стало за коньяком».И еще один фрагмент:
«Возле разбомбленной гостиницы «Заполярье» на гранитных ступеньках и между колонн сонно курили американские матросы – все здоровенные, розовощекие, с повязанными на крепких шеях дамскими чулками, – пытались торговать. Возле одного – очень длинного, совсем белобрысого – пирамидкой стояли консервы: колбаса, тушенка».
Впечатление и впрямь не самое приятное от этих «янки».
Как я уже сказал, иное отношение к американцам было у Булгакова. И вот литературовед и заодно психолог Александр Эткинд, проанализировав дневниковые записи Булгаковых и заново перечитав роман «Мастер и Маргарита», сделал ошеломляющий вывод, будто прообразом Воланда стал именно Уильям К. Буллит, собственной персоной! Когда читаешь такие откровения, поневоле забываешь об основных героях этой книги, ну хоть на несколько минут:
«Пребывание Буллита в Москве довольно точно совпадает по времени с работой Булгакова над третьей редакцией его романа. Как раз в ней прежний оперный дьявол приобрел свои человеческие качества, восходящие, как нам представляется, к личности американского посла в ее восприятии Булгаковым – могущество и озорство, непредсказуемость и верность, юмор и вкус, любовь к роскоши и к цирковым трюкам, одиночество и артистизм, насмешливое и доброжелательное отношение к своей блестящей свите».Надо признать, что не слишком убедительно, хотя какие-то черты Воланда писатель мог позаимствовать и у Буллита. Но вот очередная порция доказательств: «Буллит тоже был лыс, обладал, судя по фотографиям, вполне магнетическим взглядом и вместе с Воландом маялся стрептококковой инфекцией, от которой болят суставы».
Тут остается только развести руками. Посол был лыс, но самое главное – у него болят суставы! Неужели и впрямь отношения были настолько близкими, что Буллит рассказывал о своих болячках за обеденным столом? К этому добавлю, что Эткинд разглядел в Воланде дар психоаналитика, которым вроде бы обладал Буллит, набравшийся премудрости у Фрейда.
Но все это как бы присказка. А сказка в том, что, судя по версии Александра Эткинда, Буллит намеревался дать Мастеру «покой», то есть всего-навсего помочь ему эмигрировать из Советского Союза. Ведь Зигмунду Фрейду в свое время он помог бежать из Австрии. Но дело в том, что решение дать Мастеру покой принимал вовсе не Воланд:
«– Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?
– Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берете его к себе, в свет?
– Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий.
– Передай, что будет сделано, – ответил Воланд…»Так, может быть, образ Иешуа Га-Ноцри был списан с личности Уильяма Буллита? Или же здесь намек на то, что Буллит – дух зла, а вот американский президент – символ вселенского добра? Последнее лишь в том случае, если бы Рузвельт отдал распоряжение послу вывезти писателя тайком, в дипломатическом багаже из Советского Союза. Так кто же все-таки претендовал на роль Иешуа?
Однако оставим попытки объяснить необъяснимое и попытаемся понять отношение Юрия Германа к тому, о чем с такой печалью в голосе Левий Матвей поведал злому духу Воланду. Для этого обратимся к повести Германа «Я отвечаю за все», а именно к последнему письму Ашхен Ованесовны Оганян, которое Владимир Устименко прочитал уже после ее смерти:
«Странно: я где-то читала, что природа оставляет старикам любовь, которую проще всего удовлетворить, – любовь к покою. Почему же я не только не жажду этого покоя, но ненавижу его, как тех воров, которые обкрадывают моих больных? Да, да, я ненавижу покой, это мой самый главный враг. Я ненавижу спокойных, я не верю им. Если они спокойны, значит, их не касается, значит, им дела нет, значит, они случайно затесались в нашу жизнь и ничего у них не кровоточит».Пожалуй, эти слова определяют главное различие между Юрием Германом и Михаилом Булгаковым. Булгаков случайно попал в ту жизнь, которую так образно описал в своих произведениях. Лучшие его годы остались позади – это жизнь в большой и дружной семье в родном Киеве, женитьба на дочери действительного статского советника, перспектива добиться вполне обеспеченного существования в качестве частнопрактикующего врача. Если бы удалось эмигрировать в 1920 году, возможно, не было бы знаменитого писателя, зато не появилось бы столь раннее желание обрести покой. Усталость от невзгод, от непонимания, от завистливых коллег, от унижений, от неустроенности быта – эта усталость накапливалась и не давала продуктивно работать. Но оставалась мечта, надежда, что где-то там, за границами СССР, все было бы совсем иначе. Юрий Герман был моложе Михаила Булгакова почти на двадцать лет, поэтому той, прежней жизни он не знал, ну а во время Первой мировой войны вместе с родителями таскался по фронтам, не ведая того, что творилось в Петрограде, где прожил всю оставшуюся ему жизнь. Так что с наступлением революционных перемен юный Герман воспринял все как данность – ему просто не с чем было сравнивать. Отсюда его энтузиазм, вера в коммунистические идеалы. Если же за энтузиазм, за веру щедро платят, нет никаких причин для появления сомнений в справедливости того, что происходит в стране. Впрочем, сомнения возникали, но уже в зрелые годы, после Второй мировой войны. Скорее даже не сомнения, а досада, вызванная отдельными ошибками, которые допускали невежды, руководившие культурой. Вот и после ареста Бродского был изрядно возмущен, все порывался звонить куда-то, кажется, своим друзьям в угрозыск, как будто Бродский проходил по их делам. Возможно, понимал – не доведет нас до добра то, что происходит. Однако не хотелось ставить под сомнение то дело, которому прослужил почти всю жизнь.
Глава 8. Неистовый проповедник
Готовясь к написанию книги, я перечитал кое-что из произведений Германа – его знаменитую трилогию и повесть «Лапшин», положенную в основу фильма «Проверка на дорогах». Если прежде, основываясь на юношеских впечатлениях, оценивал эту прозу не очень высоко, то вот теперь могу признаться в том, что она произвела на меня довольно сильное впечатление. Особенно взволновала повесть «Я отвечаю за все». Могу даже поставить ее рядом с романом «Время и место» и повестью «Дом на набережной» Юрия Трифонова, весьма почитаемого мной писателя. Причина моего восхищения еще и в том, что многие из нынешних производителей толстых романов Юрию Герману, увы, даже в подметки не годятся. Что говорить, если роман «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова в сравнении с этой повестью выглядит слабее, но не настолько, чтобы назвать роман макулатурой, как это сделал в свое время Иосиф Бродский. Впрочем, Юрия Германа нобелевский лауреат тоже наверняка бы обругал при случае.
Позволю себе привести отрывок из повести «Я отвечаю за все», в котором следователь допрашивает заключенную Аглаю Петровну Устименко:
«Он не поверил своим ушам. Когда в тридцать седьмом подследственный хлопнул его, тогда лейтенанта, стулом по голове, он удивился куда меньше.
– Как вы меня назвали?!
– Как и следует называть такую сволочь: врагом народа…
Ей теперь стало совершенно все равно. Письмо перехвачено. Но как, если им даже неизвестно, кто его передал? Они хотят узнать имя, чтобы покончить с солдатом за то, что он честный. Нет, они не узнают! Она не назовет его!.. А этот белозубый – враг народа, враг! И почти с удовольствием, медленно растягивая слова, Аглая Петровна произнесла еще раз:
– Вы – враг народа! Вы здесь – шайка вредителей и…
Договорить она не успела. Он ударил ее в переносицу – этот способ битья у боксеров имеет свое специальное наименование, а майор Ожогин любил, уважал и понимал спорт с детских, нежных лет. Кроме того, он любил пострелять по зайчишкам, порыбачить, разбирался в шахматах, обожал свою дочку Люсю, свою старенькую маму, жену Соню, которая, и по его мнению, и по мнению его коллег, «неподражаемо» исполняла сольный танец «арабески» в программе самодеятельности войск МВД, любил глядеть на золотистых стрекоз на рыбалке и, главное, свято и безоговорочно верил в то, что дыма без огня не бывает и даром еще никого не сажали».
Вот приходилось читать мнение, будто это первый случай, когда в советской литературе появилось описание пыток заключенных. Думаю, что не совсем так.
Ударить женщину – это мерзкий поступок, издевательство, но еще не пытка. А впечатляет здесь совсем другое – Юрий Герман устами героини повести впервые называет палачей из НКВД теми же словами, которыми клеймили тех, кого мучили в застенках. И смысл этих откровений не в том, что идеи коммунистов непоколебимы, а в том, что любую, даже самую благородную идею можно исказить, превратив в источник удовлетворения своих амбиций, в способ обеспечения собственного благополучия ценой унижения и даже истребления других людей.
И чуть далее по тексту:
«– Сука! – сказал он погодя, когда Аглая Петровна пошевелилась. – Сука! Ты у меня поговоришь!
Она села на полу, возле ножки письменного стола. Из ее носа шла кровь. Ожогину было стыдно, и даже сосало под ложечкой: он ударил беспомощную женщину, да еще женщину лет на двадцать старше, чем он, – но деваться было некуда, и он стал себя распалять словами, которые произносил вслух. Это были низкие и грязные ругательства, но какое это имело значение, если ругал он «изменницу Родине», «фашистскую гадину», «агента гестапо». И, сделав два шага, майор Ожогин встал над Аглаей Петровной и сказал ей:
– Я тебя в кашу сапогами сомну! Понимаешь ты это?
– Сомни, негодяй! – тихо ответила она. – Убей, я же в застенке! Ну? Бей! Что ж ты, вражина, негодяй, гадина? Бей!
Ее горящие, ненавидящие глаза, открытые навстречу смерти, смотрели на него. И он отступил.
Сделал шаг, еще маленький шажок, ничего толком не соображая, крикнул, чтобы позвали из санчасти. И когда Устименко унесли, сел на стул. Его трясло. Ввалившиеся сержанты увидели, что он плачет. Одна слеза текла по его бледной щеке, и, стуча зубами о край стакана, разливая воду, он говорил:
– Никаких нервов не хватает. Понимаешь – «враг народа», так и режет. Это я-то враг народа. У меня и контузии, и ранения, я на мине подорванный, я…»Конечно, при жизни Сталина никто бы не решился такое написать. Но дело тут не в сюжете, а в том, что и вправду впечатляет! Юрий Герман был не столько повествователь, каких много, но одаренный драматург – его повести словно бы предназначены для сцены, для того, чтобы на их основе делать фильмы. Он понимал психологию своих героев, как никто другой. Когда писал, жил их эмоциями – возможно, именно поэтому сердце и дало сбой в 1955 году. Да, это был писатель!
Не знаю, согласятся ли с этим предположением литературоведы, но у меня возникло впечатление, что прототипом Аглаи Петровны из повести Германа «Я отвечаю за все» была поэтесса Ольга Федоровна Берггольц. Конечно, судьбы у них были разные, но вместе с тем и много общего – несправедливый арест, пытки, возможно, было и письмо Берггольц в ЦК, поэтому и разобрались, освободили, восстановили членство в партии. Впрочем, считается, что освобождение стало следствием смены руководства НКВД, когда с приходом Берии были пересмотрены некоторые дела осужденных при Ежове. Однако могло быть и письмо, иначе с какой стати пересмотрели дело именно Берггольц?
В подтверждение своей версии о прототипе одного из главных персонажей повести приведу отрывок из «Запретного дневника» знаменитой поэтессы:
« Вопрос . Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаете себя виновной в этом?
Ответ . Нет. Виновной себя в контрреволюционной деятельности я не признаю. Никогда и ни с кем я работы против советской власти не вела.
Вопрос . Следствие не рекомендует вам прибегать к методам упорства, предлагаем говорить правду о своей антисоветской работе.
Ответ . Я говорю только правду».По-видимому, это воспоминание о самом первом допросе после ареста поэтессы. Берггольц здесь еще довольно сдержанна, не позволяет себе в чем-то обвинять тюремщиков. О том, что было дальше, в дневнике нет подробных записей, поэтому писатель вынужден домысливать. Хотя не исключено, что поэтесса многое рассказала ему при встрече, не доверив откровения дневнику. В любом случае писатель не ограничен необходимостью достоверно излагать события, он силой своего таланта создает некий художественный образ, который должен передать читателю и смысл, и чувства героини, и ее боль…
И вот еще отрывок из дневника, в котором речь идет о приеме в партию:
«Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена. Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать:
«Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то… Это не изменило моего отношения к нашим идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне, как отрава».Конечно, трудно сравнивать строки из художественного произведения с записями в дневнике, однако те же мысли, те же эмоции, тот же надрыв чувствуются в каждом слове. Так что влияние на творчество Юрия Германа мыслей и переживаний поэтессы, тех страшных испытаний, которые выпали на долю Ольги Берггольц, – это влияние, на мой взгляд, несомненно. И снова обратимся к мнению Алексея Германа о литературном творчестве отца:
«Он очень рано начал, но реализовал свой талант не до конца. И так получилось, что широкую известность ему принесли, с моей точки зрения, не самые лучшие вещи. Испытываю от этого жгучую обиду. Прекрасные повести «Лапшин» и «Жмакин» он переделал в несовершенный, по-моему, роман «Один год». Верил, что читатели любят благополучные концы – пусть все завершается хорошо».
Мне кажется, что тут Алексей Юрьевич был не прав. В первые послевоенные годы, когда для всех, кроме немногих «избранных», жизнь была не сахар, кому интересно было читать о том, как плохо им живется, кому нужны были трагедии и то, что теперь называется «чернухой»? Именно поэтому такой популярностью пользовался фильм «Кубанские казаки». Сказка? Ну и пусть! Зато хотя бы в кино или за чтением интересной книги можно отвлечься от ежедневных забот, забыть о трудностях тогдашней жизни. В конце концов, ведь не у всех же в доме были домработницы. Но об этом – ниже.
И вот еще о чем подумалось: Алексей Герман завидовал отцу, поэтому то хвалил его, то в чем-то упрекал. Такой популярности, какая была у Юрия Павловича, сыну явно же недоставало. Кому не хочется быть в своем деле одним из первых, получать награды, чувствовать, что трудишься для многих людей, а не для ограниченного круга почитателей? И тут возникает главное противоречие: с одной стороны, есть желание творить для всех людей, а с другой – может статься, людям это и не нужно. Вот Юрию Герману, на его счастье, повезло.
Опять мнение сына об отцовской прозе:
«Я вот сначала придумал снять про отца, про мать – такое кино. И все его построить на ножницах: их понимание жизни тогда и наше понимание той жизни сейчас. Наша любовь к ним, наше преклонение перед ними, их пронзительный и пытливый ум и наш ум. Но они не отягощены знаниями, а мы обременены ими. Не обязательно, что мы умнее, – просто знаем, что выйдет, что не выйдет. Так я понимаю сейчас и отцовскую прозу».Тут верно сказано – мы именно «обременены». Верно и то, что знаем, как это все закончилось. Другое дело, что знание фактов отнюдь не предполагает понимание причин. Просто не каждому дано в этом разобраться. Если же исходить из того, что вот для кого-то там, в прошлом, была счастливая, радостная жизнь, несмотря на случавшиеся иногда невзгоды, а теперь по большому счету ни радости, ни счастья нет, – тогда выводы приходится делать грустные, подчас даже трагические, и нынешняя жизнь для такого человека будет словно бы окрашена в темные цвета.
Однако снова Алексей Герман рассказывает об отце:
«У нас бывали ужасные отношения. Он один раз меня ударил, когда мне было 15 лет. Он, конечно, был бедняга: ударил меня, со своей точки зрения, правильно – поучить, но вообще неправильно, несправедливо. Я на Новый год ушел и пришел утром – договорился с сестрой, а сестра побоялась сказать, что она меня отпустила. А родители звонили в морг, в милицию. Когда я пришел, папа сказал: «Ах ты сволочь!» – и дал мне по морде… Вообще, он очень внимательно следил за мной. Все время просил меня что-нибудь написать. Как-то сказал: «Вот ты меня передразниваешь, а напиши-ка в «Россию молодую» кусочек, два абзаца, вот как тебе кажется, как я пишу». Я взял и написал… Он это все, слово в слово, вставил в книжку».Тут следует добавить, что обиженный оплеухой сын пропал из дома на три месяца – можно представить себе, что пережили любимые родители за это время. Не исключено, что беспокойство о судьбе сына сказалось на здоровье отца – через два года у него случился инфаркт. Странная это штука – сыновняя любовь. К счастью, в тот раз все как-то обошлось. Однако я хотел бы обратить внимание на то, что подростку было доверено право поучаствовать в создании столь важного для отца произведения. Теперь вроде бы понятно, почему этот роман получился не вполне удачным, хотя не исключено, что Юрий Павлович взялся за дело лишь по необходимости, не испытывая вдохновения. А если вновь вернуться к той досадной оплеухе, то что еще можно по этому поводу сказать? Даже если случались «ужасные отношения», вполне естественно, что сын прощал отца. Как не простить, когда всем ему обязан?
«По-своему я крепкий мальчик. Вероятно, в каких-то вещах даже более крепкий, чем отец. Папа все-таки был пуганым, а я – не пуганый, поскольку рос сыном писателя, который дважды пил водку с вождем, у которого была Сталинская премия, огромная квартира, несколько домработниц, личный шофер. Когда папа попадал в какие-то неприятности, постановления и так далее – ниже двух домработниц мы никогда не падали».
Это существенный момент, поскольку количество домработниц – это что-то вроде знака отличия, грамоты о принадлежности к «номенклатуре». Вот, скажем, «у Черкасова было пять человек прислуги, а у нас было трое». Конечно, тут нет и намека на обиду, однако это означает, что есть куда еще расти. Впрочем, допускаю, что мне такие тонкости не дано понять – у нас в доме в Большом Козихинском домработниц сроду не было, ни в нашей семье, ни у соседей. Простым советским инженерам это как-то не с руки. Ну а инженерам человеческих душ, видимо, так было по статусу положено.
И тут возникает странная мысль. Сейчас писателей хоть пруд пруди, а истинных авторитетов среди них не видно. Да и откуда им взяться, если профессия становится не престижной, да и заработки так себе. Может быть, потому и наблюдаем в последние годы размывание нравственных ориентиров? Может быть, оттого и разрастается язва всепроникающей коррупции? Может быть, и вражда между «либералами» и «патриотами» – все это из-за отсутствия вызывающих уважение наставников и поводырей, которым бы хотелось верить? Даже Сталин понимал значение литературы для воспитания масс, поэтому в прежние времена наибольшими благами и привилегиями среди творческой интеллигенции пользовались ведущие писатели – властители дум, защитники идеалов доброты и справедливости. Разные среди них встречались люди, однако многих поминаем добрым словом. Теперь же, когда властителями дум становятся звезды шоу-бизнеса, о каком нравственном совершенствовании может идти речь, о каком согласии можно говорить? Даже любовь к Родине становится чуть ли не ругательным понятием.
Еще одна зарисовка, необходимая для понимания и характера, и мировоззрения Юрия Германа:
«Мой папа был настоящий русофил в стиле девятнадцатого века. Эдакий толстовец. Ходил в валенках, называл поселок Сосново «деревней» и таким образом соединялся с народом. Кончилось тем, что дачные строители, которые, выпивая с ним, клялись ему в любви, дико его обокрали. Папа расстроился, отгородился высоким забором, сменил самогон на коньяк и перестал носить валенки, к великой радости всей семьи».
Несмотря на незначительные казусы в отношениях с народом, в жизни на хороших людей Юрию Герману везло. Вот и издатели его любили, и Алексей Максимович дал путевку в жизнь. И даже в дни невзгод хорошие люди его не покидали, поддерживали, чем могли. Среди его друзей были и соседи по писательской надстройке, и коллеги из дачного поселка: Григорий Козинцев, Евгений Шварц, Дмитрий Шостакович. Алексей Герман вспоминал о встречах друзей в Соснове, где располагались дачи:
«Папа с Шостаковичем дружил. Он приходил к нам по железнодорожному полотну, и они – папа, Козинцев, Шостакович и Шварц, – все с тростями, отправлялись пить боржом в шалман «Золотой якорь».Немудрено, что вспоминали друзья о Юрии Германе с признательностью и теплотой, хотя боржоми тут, конечно, ни при чем – думаю, что в шалмане пили что-нибудь покрепче. Надо сказать, что писателю особенно нужна поддержка, впрочем, так же как и композитору или художнику. В отличие от кинорежиссеров им приходится творить наедине с самим собой, когда по большому счету некому излить душу, не с кем посоветоваться. И вот в редкие минуты отдыха эта возможность пообщаться с друзьями дорогого стоит. Так и хочется сказать: повезло тем, у кого есть верные друзья! Близко знаком был Герман и с Константином Симоновым. Об этом писал в своих воспоминаниях драматург Александр Штейн:
«После войны Ю. Герман и К. Симонов подружились, и Симонов непременно бывал у Юрия Павловича, когда приезжал в Ленинград, и Юрий Павлович непременно бывал у Константина Михайловича, лишь только он появлялся в Москве. Герману вообще было свойственно увлекаться людьми, и Симонов стал не только другом, но и долговременным увлечением».
А вот что говорил о покойном друге кинорежиссер Григорий Козинцев: «Герман в жизни был еще более ревностным борцом за справедливость, еще более неистовым проповедником, чем на страницах своих книг».
Не берусь судить о том, насколько ревностным борцом был Юрий Герман в жизни, однако вспоминаются и его статья в защиту Михаила Зощенко, и отказ подписать письмо против Иосифа Бродского. В конце концов, для писателя поле битвы – это страницы его книг, иначе и не может быть. Что же касается добрых слов Григория Козинцева о Германе, то наверняка в этих словах есть доля преувеличения, как без этого? Особенно если учесть, что речь шла о покойном друге. Но вот в чем были все едины – так это в том, что в литературе Герман сделал далеко не все, что мог. Об этом написал Евгений Шварц: «Одарен он необыкновенно, определился и вошел в силу рано… Писать мог бы сильнее».
Могу предположить, что Шварц был недоволен излишней, по его мнению, патриотичностью произведений Германа. Самого Евгения Львовича в этом трудно обвинить, поскольку он работал в жанре сказки. Конечно, речь не только о сказках для детей, однако в выдуманном мире все иначе – поди там разберись, как писатель относится к действующей власти, когда речь идет о принцессах да о королях.
В чем-то пытался оправдать отца и сын, видимо сожалея о том, что если бы отец писал в другое время, тогда и писал бы не о том – не только о подвиге чекистов во время войны с фашистами и о любви к своей стране, которую сохраняет в своем сердце даже несправедливо осужденный за измену Родине:
«Если бы жизнь сложилась иначе, папа был бы блестящим писателем».Возможно, я бы с этим «был бы» согласился. Если оценивать писателя по количеству написанных им книг или по толщине каждой отдельно взятой книги, конечно, многим Юрий Герман уступает. Но после того, как перечитал последнюю повесть из его замечательной трилогии, пришел к выводу, что здесь следует искать иной критерий. Вот у Олеши издана, кажется, всего-то пара книг, однако за повесть «Зависть» я бы его поставил в ряд самых лучших российских писателей за последние сто лет. Примерно та же ситуация и с Германом. Четырех его последних повестей и двух сценариев к фильмам вполне достаточно, чтобы считать его классиком советской литературы наравне с Юрием Трифоновым, Михаилом Булгаковым, Юрием Олешей и Андреем Платоновым. Вот только так и не иначе!
А в завершение той части книги, которая посвящена Юрию Герману, приведу очень ценное признание Алексея Юрьевича, в котором он охарактеризовал и самого себя, не только своего отца:
«У папы было свойство, которого нет у меня. Он влюблялся в людей».Глава 9. Я Леша!
Пришла пора обратиться к другому члену династии «божьих людей», Алексею Юрьевичу. А для начала вот что он сам рассказывал о себе:
«Вся моя жизнь началась с того, что был 1937 год, когда мама была беременна, и от меня надо было немедленно избавиться, потому что всех вокруг гребли. А мама – врач, поэтому она прыгала со шкафа, поднимала ванну. Так что сейчас, когда рассказывают про неродившихся, что они даже целуются в чреве и так далее, я думаю: как же ужасно началась жизнь. Как же она у меня ужасно началась, как же я должен был держаться, чтобы не выпасть… И дальше всю жизнь так».
Конечно, в этих словах есть доля юмора – черного юмора, что немаловажно. Однако можно ли такое предположить, чтобы в 37-м все беременные женщины надумали избавляться от неродившихся детей, чтобы мечтали об аборте? Да будь все так, мы бы попали в такую демографическую яму! Нет, видимо, подобное желание могло возникнуть лишь у тех, кто оказался в опасной близости к «верхам» – у жен высшего командного состава армии, партийных начальников, а также обласканных властью вполне благополучных интеллектуалов. У прочих, возможно, были опасения, но сохранялась надежда, что несчастье их минует, поскольку и без того жизнь была очень нелегка.
Я же хочу обратить внимание на ощущения Алексея Германа, на это его «ужасное начало», которое, как мы убедимся, имело вполне естественное продолжение. Тут надо бы учесть душевную травму нашего героя, которая была вызвана его происхождением и некоторыми обстоятельствами жизни в юности:
«Я – смесь нескольких кровей. Отец – русский с немцем, мама – русская с еврейкой… Очевидно, еврейская кровь – самая стойкая. Помню, какое вдруг испытал волнение, попав в Израиль. Но я – не робкий человек. Во мне, я бы сказал, живет постоянное ожидание беды, предчувствие неприятностей – такая характерная еврейская черта. Хотя с проявлением антисемитизма пришлось столкнуться лишь однажды – и то я понял это лишь спустя много лет. Это было в детстве. Меня выбросили из трамвая, крикнув на ходу «Абрам!». Я не сообразил, что к чему, сказал: «Я не Абрам, я Леша!» В той ленинградской школе, где я учился, на евреев и неевреев учащиеся делились по совершенно иному признаку – если ты был физически сильным, ты не мог быть евреем. Даже русский мальчик мог считаться евреем. А мальчик, который умел врезать в морду, не мог. Про него могли шепнуть где-то – но тихо. Я был сильным, занимался боксом, меня это не касалось».Могу предположить, что так или иначе, но «касалось». Тут Алексей Герман не вполне, на мой взгляд, искренен в своих словах. К слову, противоречий в его рассказах о себе довольно много, и все они касаются его корней. Ну вот и тут откуда-то взялся этот немец, которого он занес в число своих предков по отцу. Я бы не стал на этом акцентировать внимание, но тут уж ничего не поделаешь, если Алексей Юрьевич говорил об этом чуть ли не в каждом интервью. Во всяком случае, в тех, которые пришлись на время, когда его карьера в нашем кино как-то не складывалась. Он словно бы копался в своем прошлом, пытаясь отыскать причины неудач, поскольку иначе их объяснить не удавалось. Ну, скажем, запрет на какой-то его фильм – разве это не проявление антисемитизма? Впрочем, как мы увидим дальше, были и другие, более серьезные причины.
Однако обратимся к воспоминаниям о детстве нашего героя:
«До десяти лет я жил в поселке Келомякки под Питером – теперь он называется Комарово. Среди пацанов было поветрие – строить шалаши. На нашем участке самое удобное укромное местечко нашлось между забором и сортиром. На праздники все вывесили над шалашами красные флаги, но мой флаг из-за сортира не было бы видно – и я повесил его над этим заведением. Явилась комиссия во главе с начальником поселковой милиции. Требовали, чтобы флаг был немедленно снят, а я прилюдно выпорот».Ну вот – чем не кошмарное продолжение «ужасного начала». А дальше будет еще хуже: «Я был очень высокий, очень нелепый, меня били все, кому не лень». Словно бы на роду написано: всю жизнь страдать ни за что и ни про что. Но тут требуется уточнение, поскольку, как оказалось, били не за рост, не за нелепость, а потому, что мальчик показался слишком уж идейным. «Как обстоят дела с пионерской работой?» – именно об этом он спросил ребят, когда только появился в новой школе: «Меня начали бить… Это была ни с чем не сравнимая мука. У меня случился паралич воли – я не мог пропускать школу, не мог убежать… Убегая от своих преследователей и прячась по сортирам, я чудом не пострадал психически».
Трудно поверить, что все было так. Конечно, всякое случается – но тут многое зависит не только от конституции, но и от характера. И вот, чтобы переломить эту ситуацию, чтобы достичь необходимых физических кондиций – с характером, надо полагать, не было проблем, – Герман записался в секцию бокса при Дворце пионеров. Вроде бы дело пошло, поскольку руки у юного боксера были длинные, да и реакция хорошая. Однако опять не повезло: «На первом курсе института преподаватели танца и музыки – мы там танцевали – попросили не заниматься больше боксом, потому что я мог стать угловатым. У мальчиков-боксеров всегда испорченные фигуры. Я бокс бросил, страшно растолстел. Раньше я был очень тощий и ел гематоген, чтобы поправиться, говорят, что помогает, и я так испортил себя. Потом я заболел и перестал быть толстяком».
Признания, полагаю, вполне искренние, даже слишком откровенные – не каждый готов поведать городу и миру о собственных болезнях. Но как-то не вяжутся эти откровения с таким вот утверждением: «Я очень любил привирать. В какой-то момент отец сказал: «Леша, если еще раз соврешь, я повешу на дверях твоей комнаты табличку: «Здесь живет врун». Это было на даче, в Комарове. И я от ужаса завопил, у меня была истерика. Меня утешали всем поселком, и папа табличку выбросил. А страх соврать остался».
Ну вот опять! Сначала страх, что могут избить или даже выпороть, теперь же возникли опасения иного рода. Как можно уследить за каждым словом? А промолчишь – тоже ведь достанется. Скажут, слишком нелюдим, наверное, копит злобу на кого-то… Однако от этих размышлений нашему герою ничуть не легче, могу представить себе его состояние: кругом враги, даже родной отец выступает в роли строгого начальника. А если уж говорить о том, что тогда творила власть… Впрочем, именно тогда у Юрия не возникало никаких претензий к тем, кто распоряжался судьбами, наградами и производил аресты.
И все же, вопреки упомянутым печальным обстоятельствам, юному Герману даже в юности удавалось побеждать:
«Я ухаживал за девочкой, у которой уже был мальчик. Так вот этот мальчик «держал» весь Невский проспект. Естественно, он запретил мне с ней встречаться. И мы дрались так, что после драки меня прислонили к двери моей квартиры, поскольку стоять я не мог. Но девочка ушла ко мне, с ней мы еще дружили года полтора».
Что стало с этой девочкой и почему в итоге разошлись, история умалчивает. Наверное, объявился мальчик посильнее. Ну а Герману всю оставшуюся жизнь пришлось доказывать то, во что поначалу мало кто поверил, вот разве что та неизвестная нам девочка.
Впрочем, Елизавета Даль, в девичестве Апраксина, а ныне вдова известного актера, считает, что уже в школьные годы Алексею Герману удалось прочно встать на ноги и утвердить свое физическое превосходство:
«Лешка Герман, оказывается, был влюблен в меня с восьмого класса. Мы как-то встретились с ним в Доме творчества в Репине, и он признался: «Знаешь, весь восьмой класс у меня прошел под девизом «Лиза Апраксина». Но однажды ночью, возвращаясь домой, увидел, как на канале Грибоедова ты целовалась с Селиком. Я не бросился в воду только потому, что там плавают какашки». Он никому не сказал об этом, даже отцу. Лешка был известным «авторитетом» в своем районе, жил недалеко, на Марсовом поле, и часто мне важно говорил: «Лиза, если кто будет приставать, скажи: «Сейчас Лешика позову», и от тебя тут же отстанут».Как-то незаметно годы беззаботной юности минули, хотя совсем уж безоблачной юность Алексея Германа не назовешь. Однако, как бы то ни было, пришла пора выбирать себе профессию. И вот Алексей Юрьевич надумал стать врачом. При этом следует учесть, что мама тоже врач, так что со временем могла бы получиться врачебная династия. Но почему же не сбылось?
«Хотел поступать на медицинский, но шансов у меня не было. Ничего не понимал в химии. Лучшие умы надо мной трудились, но все без толку».
Должен признаться, что химию я тоже не любил. Тупое заучивание формул всяких там реакций, химических превращений – нет, это не для человека с моим складом ума. Вот и Алексей Герман в этом деле отнюдь не преуспел. И это при всем при том, что желание стать врачом у него было, да и мамины коллеги могли бы поддержать. Но не сбылось – отец придерживался иного мнения: «Он был автором того, что я стал шумовиком в театре, это довольно редкое дело. Тогда пригласили Мишу Козакова, он отказался. А я согласился и с удовольствием стал в Большом драматическом театре, где я потом служил, изображать разные звуки… В массовках бегал. В театре были так довольны мной, что взяли на гастроли в Одессу, хотя я был еще восьмиклассник».
Вот на это обстоятельство, а именно на то, что в театре Алексей был шумовиком, я хотел бы обратить внимание – к шумовым эффектам в его фильмах мы еще вернемся. Однако сейчас расскажу вам о другом – о том, что предшествовало выбору профессии, но, несомненно, оказало на юного Германа влияние: «Мальчишкой, еще учась в школе, подвизался статистом в БДТ. Во «Флаге адмирала» матросом бегал, в пьесах Островского в каких-то зипунах ходил… Это было не ради заработка – я рос в благополучной писательской семье, просто мне было интересно. В театральном институте, куда поступил сразу после десятилетки, поставил «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца. А после вуза естественно оказался в БДТ у Товстоногова».
Но прежде предстояло поступить в этот самый театральный институт, к которому, как мы знаем, душа сына писателя явно не лежала. Видимо, у Алексея Германа были на сей счет серьезные сомнения, мол, ну какой же из меня артист? На определенном этапе пришлось подключить к этому делу и родителей: «Легко прошел три тура. Оставалось только собеседование, с которого я должен был уж точно вылететь. Мама кинулась к своей давней подруге Ольге Федоровне Берггольц. Они вдвоем побежали к Козинцеву, потом – к Вивьену. И когда я пришел на собеседование, вся комиссия встретила меня практически с объятиями: «Как, вы сын Юрия Германа?!» Вот так и прошел, как «папин сын».
Чему тут удивляться? Еще один «блатной», да мало ли их и в наше время. В конце концов, был бы из недоросля толк, а остальное в общем-то не столь существенно. Тут надо еще пояснить, что народный артист СССР Леонид Вивьен в ту пору заведовал кафедрой режиссуры в Ленинградском театральном институте. Но прежде чем перевернуть эту страницу жизни будущего кинорежиссера, я не могу удержаться от того, чтобы еще раз не вернуться к собеседованию, уж очень своеобразно описал его Алексей Герман в другом своем интервью:
«Прошел три тура, потом пошел на четвертый, где сидела большая комиссия под председательством папиного друга Григория Козинцева. Когда я вошел, он сказал: «Боже мой, и голос тот же! Да вы что, с ума сошли? Ну как можно не брать его?! Мальчик, а это что за картина?» – «Боярыня Морозова», – говорю я. «Ну, мальчик хороший, вундеркинд. Пойдите вот туда, запишитесь». И все, вопрос мой был решен».
Догадываюсь, что кое-что Алексей Герман тут придумал – говорят, он был большой шутник. Но вот не могу понять, зачем же так наговаривать на самого себя? Могу предположить, что ко времени этого интервью он уже имел основания считать, будто в театральный институт поступил не зря – навыки актера помогли ему чуть позже, в режиссуре. А коли заслужил в этой области признание коллег и публики, то на «блатные» обстоятельства теперь можно было наплевать.
Итак, Алексей Герман поступил в театральный институт. О том, что было дальше, расскажу его словами:
«Театральный институт, куда я поступил, был тогда гремучей смесью из космополитов и прочих социально чуждых элементов, от которых когда-то избавились, а теперь снова начали брать, и старой сталинской номенклатуры, той, что их и выгоняла».Ну это и понятно. Хотя хрущевская «оттепель» еще не началась, но тем не менее понемногу начинало капать. Поэтому и студенты попадались разные – и «правоверные», и «неблагонадежные». Впрочем, для будущих комедиантов куда важнее их способности, талант, а вовсе не идеологическая подготовка. Вот режиссеру и писателю для успеха позарез необходима политическая зрелость, куда же без нее – Юрий Герман не раз в этом убеждался. Совсем другое дело актер, ему многое простят. Главное, чтобы на сцене или на экране не выходил за рамки своей роли.
«Я не больно-то блистал на курсе. Но почему-то преподаватели чувствовали во мне какой-то потенциал. Однажды нас всех посадили в аудитории, и педагог сказал, что на курсе есть более способные, есть менее способные, а есть совсем способные – и тыкнул в меня. В этот момент я ничего, кроме панического ужаса, не испытал, потому что понял, что теперь я не уйду в медицинский институт, хотя до последнего мечтал об этом. Но папа страшно болел, и я тем более не посмел его расстроить».
Нетрудно предположить, что и друзья отца заботились о его здоровье, а потому Алексей Герман окончил институт «с пятерками». Трудно представить, что было бы, если бы его исключили – так когда-то Ивана Дыховичного выгнали за плохое поведение из Школы-студии МХАТ. Но, видимо, Алексей Герман не давал поводов для подобного отношения к себе наставников. Да и к тому же есть тут еще один момент: когда выставляли за дверь школы-студии Ивана, защитить его было уже некому. Отец же Алексея был жив, слава богу, что немаловажно.
Впрочем, к тому, что сказано об учебе в школе-студии, необходимо сделать одно существенное дополнение, которое может служить подтверждением неординарных способностей Алексея Германа: как я уже упоминал, еще на первом курсе он поставил первый акт «Обыкновенного чуда» Евгения Шварца, что немаловажно, с Сергеем Юрским в роли короля.
Следующие три года Алексей Герман провел в БДТ, в театре Георгия Товстоногова. Несколько месяцев в Смоленском драматическом, где он поставил сказку «Мал, да удал», а заодно подхватил желтуху. Вот как Алексей Герман объяснял поступление в БДТ, этот неожиданный поворот судьбы, даже подарок по большому счету:
«Просто он посмотрел отрывок, который мы на третьем, что ли, курсе репетировали с моими товарищами, среди которых был и Сережа Юрский. И Георгий Александрович взял меня к себе в театр… Георгий Александрович мне доверял. Я даже был сопостановщиком на «Поднятой целине».Видимо, здесь проявилась не столько тяга Германа к режиссуре, сколько его потенциал, которые Товстоногов разглядел, а возможно, и развил в Германе эти его скрытые способности. Работа под руководством маститого театрального режиссера многому может научить – тут снова вспоминается то время, когда Дыховичный, позже ставший кинорежиссером, играл на сцене театра Юрия Любимова. Впрочем, во избежание упреков заранее хочу предупредить, что я не собираюсь сравнивать Алексея Германа ни с Дыховичным, ни с кем-нибудь еще.
Хотя, с другой стороны, было бы любопытно провести некую параллель между творчеством сыновей двух «номенклатурных пап», однако для этой цели лучше подошел бы, на мой взгляд, кинорежиссер Карен Георгиевич Шахназаров.
Итак, что там было про театр?«Служил я у Георгия Александровича Товстоногова. Как-то так я его довольно быстро возненавидел, потому что молодость, она страшно обидчива, я ничему никакого значения не придавал, я обижался. Я его очень любил, а когда обиделся – просто возненавидел. И я от него ушел, он, кстати, долго меня уговаривал не уходить, а в дальнейшем сделал мне столько добра, что, наверное, получается, что больше всех».
Судя по всему, недавний подросток и студент, сын знаменитого отца, уже по горло был сыт всяческими наставлениями, роль подмастерья при мэтре его явно не устраивала. Даже Товстоногов для него уже никакой не авторитет. Возможно, Герман хотел стать хозяином своей судьбы, а для этого профессия кинорежиссера замечательно подходит. Во всяком случае, так ему казалось, а потому из театра он ушел: «Возможно, это случилось из-за мелочей, абсолютных пустяков, которые обижают именно в девятнадцать – двадцать лет. Я не жалею, что ушел. В последний год мне повышали зарплату два раза, что в театре бывает крайне редко, переквалифицировали. Тем не менее я понял, что пропаду, оставшись, потому что приспособился и очень точно угадывал, чего от меня хочет мастер: я знал, что он примет, а чего лучше не предлагать, как себя вести, что делать, чтобы понравиться».
Похоже, Товстоногов не понял, что для сына успешного писателя двукратное увеличение зарплаты – это пустяки. Соблазн был слишком велик, впереди ждали награды и успех. Надо же еще иметь в виду, что кинематограф – куда более массовый вид искусства, чем театр.
Так или иначе, но решение было принято. Как раз в это время Григорий Козинцев объявил набор в свою мастерскую на режиссерских курсах:
«Я сказал Товстоногову, что попробую туда попасть. Он воспринял мое сообщение достаточно болезненно. Очень хорошо ко мне относясь, Георгий Александрович считал: совершаю ошибку. Встретился и с Козинцевым. Тот выслушал меня и дал понять, что, наверное, возьмет. И вдруг что-то у него изменилось – прием перенесли на год… Из театра я поторопился уволиться… Что же теперь делать? И пошел вторым режиссером к Владимиру Яковлевичу Венгерову. Делали мы картину «Рабочий поселок».Не думаю, что Григорий Козинцев сбежал от нерадивого ученика. Хотя второе явление Алексея Германа могло бы подтолкнуть маститого режиссера к перемене сферы приложения своих сил – он ушел в театр. И в самом деле, надо же и совесть иметь – сначала приняли «по блату» в театральный институт, а теперь он должен сделать из этого недотепы режиссера. Тут поневоле призадумаешься. Но это всего лишь мои домыслы, а вот знающие люди объясняют обращение к театру тем, что Козинцеву надоел диктат начальников из Госкино и прочих блюстителей культуры. В театре может быть полегче – во всяком случае, хотелось бы надеяться, что будет так: «Произошло это не потому, что кино вдруг показалось мне неинтересным. Я разлюбил не экран, а путь к нему: уж очень он стал долгим и сложным… Ни я, ни большинство моих товарищей не добирались тогда до конечной станции. Проще говоря, фильмы не столько снимались, сколько переснимались».
Однако Алексея Германа все эти сложности и заморочки, которые могли ожидать в будущем, нисколько не смущали. Цель была сформулирована однозначно – стать кинорежиссером!
Глава 10. Кино
Мечта Алексея Юрьевича все-таки сбылась, но самым неожиданным образом. Вместо того чтобы дожидаться, когда же его примут во ВГИК, он принял предложение стать вторым режиссером на съемках фильма «Рабочий поселок» у Венгерова.
Ко времени появления Алексея Германа на съемочной площадке лучшие свои фильмы Владимир Венгеров уже снял. «Кортик» и «Два капитана» пользовались огромной популярностью у юных зрителей. Вот что писал Григорий Козинцев о втором из упомянутых фильмов своего ученика:
«Здесь добро и зло отличимы в героях сразу же, с их первого появления, немедленно. Добро и зло изображены ярким цветом. И в этом нет ничего худого. В картине есть и юношеские мечты, и первая любовь – все то истинно прекрасное в жизни, что мы так редко видели до сих пор на экране. И вот все это появляется, возникает, волнует до глубины души, и я уверен, что зритель с восторгом поверит, что мечты должны сбываться, а первая любовь должна стать единственной на всю жизнь».
Вслед за этим Венгеров снял не менее удачные фильмы «Балтийское небо» и «Порожний рейс», за который получил приз на Московском международном кинофестивале. И хотя мастерства у режиссера было хоть отбавляй, в более поздних его фильмах отсутствовало что-то очень важное, я бы сказал, что у Венгерова пропало вдохновение. Словом, Алексей Герман стал учиться кинорежиссуре у признанного мастера не в самый лучший для Венгерова период жизни.
Так уж получилось, что Герман ушел в кино из те атра, и Козинцев бросил театр ради кино. Вообще-то мэтры режиссуры не нуждаются в особом представлении, однако о близком друге Юрия Германа, пожалуй, стоит рассказать.
Первой успешной кинокартиной Козинцева стала знаменитая трилогия о Максиме, снятая в 1934–1938 годах. Тема развития революционного движения в России, борьбы большевиков за власть может нравиться или не нравиться, но все же следует признать, что фильмы эти были сняты мастерски, особенно впечатляла игра актеров – Михаила Жарова, Бориса Чиркова, Михаила Тарханова. Правда, сам режиссер относился к этой своей картине весьма скептически:
«Мы делали честное кино. Но это было не кино реальности, это было кино утопии».
Вот и Алексей Герман, намного позже Козинцева придя в кино, во многом благодаря влиянию этого мастера понял, что кинорежиссер обязан «мучиться правдой». Но об этом речь будет впереди. Говоря же о реальности, следует упомянуть и то, что Григорий Михайлович наотрез отказался участвовать в травле своих коллег, Трауберга и Юткевича, когда началась кампания против космополитов. Впрочем, лауреат Сталинской премии такие «вольности» мог себе позволить. Говорят, что он перестал здороваться со Всеволодом Пудовкиным после того, как один из классиков советского кино обозвал его космополитом. Уже в 60-х годах силой своего авторитета он добился выхода на экран фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Козинцев вернулся в кинематограф после смерти Сталина. В 50—60-х годах он поставил лучшие свои фильмы: «Дон Кихот», «Гамлет» и «Король Лир». Вот что он записал в своей рабочей тетради, работая над постановкой «Гамлета»:
«Гамлет – еретик. Он стоит перед страшным трибуналом эпохи, которая, угрожая ему смертью, требует отречения: «Признай: нет дружбы, нет любви, нет закона, нет совести, нет правды». Он говорит: «А все-таки она вертится. А все-таки человек подобен ангелу».В этих словах есть вера в человека, вера в то, что он преодолеет все невзгоды силой своего духа, силой интеллекта. И хотя герои последних фильмов Козинцева – «рыцари печального образа», все равно надежда остается. Даже если плоть умрет, мысль не погибает – конечно, только в том случае, если она достойна того, чтобы сохраниться в вечности.
Алексей Герман так вспоминал о своей работе на «Ленфильме»:
«Нравственным началом на нашей студии «Ленфильм» был Григорий Козинцев. Его очень не хватает. Он был признанным мастером и при этом человеком нелицеприятным. Мог сказать и говорил другому режиссеру всю правду без скидок на обиды. И уже трудно было, даже невозможно, после уничтожающей оценки Козинцева думать: а я все равно снял талантливую картину».Вместе с тем, испытывая искреннее уважение к мэтру кинорежиссуры, Алексей Герман не разделял его взглядов на кино: «Пушкин писал – поэзия должна быть глуповата. По отношению к кинематографу это утверждение тоже справедливо. Козинцев полагал, что в кинематографе все должно быть очень умно, и поэтому на пути к гениальности притормозил чуть выше середины, а не на вершине».
Но вот вопрос: можно ли сравнивать кино с поэзией? Если речь идет, скажем, о фильмах Иоселиани, Параджанова и раннего Тарковского, это, конечно, так. Однако последний фильм Андрея Арсеньевича явно перегружен умными разговорами. На мой взгляд, что-то можно было бы и сократить – благодаря этому фильм наверняка бы выиграл. Но вместе с тем в «Жертвоприношении» есть впечатляющие сцены, есть образы, которые способны заставить зрителя задуматься, пробудить в нем мысль, а не только вызвать восхищение красивыми мизансценами и великолепной игрой актеров.
Пора вернуться к биографии Алексея Германа. На «Ленфильм» он пришел в 1964 году. После кинокартины «Рабочий поселок» он снял совместно с Григорием Ароновым довольно посредственный, на мой взгляд, фильм «Седьмой спутник». Кстати, фильм «о заложничестве, о неправомерных расстрелах заложников» принимала комиссия Московского обкома во главе с первым секретарем Василием Серге евичем Толстиковым. Кто-то предлагал запретить фильм, рассказывающий о «красном терроре», однако, по мнению Алексея Германа, сыграло свою роль близкое знакомство с Толстиковым: «Мы с папой с Василием Сергеевичем дважды обедали в гостинице «Москва». Впрочем, позже фильм все-таки запретили.
Намучавшись в компании с Григорием Ароновым, Алексей Герман задумал сделать кинокартину по роману братьев Бориса и Аркадия Стругацких «Трудно быть богом», на этот раз уже без навязанного ему сорежиссера. Увы, после того, как уже начали писать сценарий, случилась Пражская весна, и Германа как военнообязанного стали настойчиво приглашать на сборы:
«Меня зачем-то все время выдергивал военкомат, хотя я был уже в запасе. И для того, чтобы не попасться военкомату, я уехал в Коктебель. Иду утром по городу и вижу: стоит такая полненькая женщина, хорошенькая. Я обратил на нее внимание, не предполагая, что в последующие сорок два года это будет моя жена Светлана. Потом я вышел на центральную площадь, где страшно рыдал писатель Аксенов. Не плакал, а рыдал. И так я узнал, что наши войска вошли в Чехословакию. Теперь понятно, почему военкомовские друзья настойчиво просили меня зайти на минуточку. Я был несколько ошеломлен всем этим. Надо сказать, что я никогда не был ни диссидентом, ни антисоветчиком. Занимался только тем, что мне интересно».
В принципе, Алексея Юрьевича можно понять. До 30 лет он пользовался преимуществами члена семьи известного писателя, обласканного властью. В таких условиях даже сомнений не возникало в справедливости того, что делала та самая власть. Сталина, кровавого злодея, к тому времени с партийной трибуны осудили, а все остальное как-нибудь наладится:
«Я тогда в Коктебеле в 1968-м, когда ухаживал за Светланой, ходил вокруг нее кругами и умничал, что Чехословакия – зона интересов России и что этого ожидали от нашего государства. Светлана, наоборот, была дикая противница, в меня летели тяжелые книжки».Книжки – это еще полбеды. Куда страшнее разочароваться в прежних идеалах, хотя о справедливости их, о том, насколько полезны социалистические идеи для людей, по собственному признанию, Алексей Герман не задумывался: «Я с уважением относился к диссидентам, но я абсолютно не верил в результативность их усилий… В отличие от своей жены я никогда не был противником советской власти. Я им стал позднее… Мне представлялось наше государство огромным непотопляемым дредноутом, поэтому к диссидентам я относился двояко. Безусловно, я уважал и некоторых из них любил, но прежде всего я их жалел, потому что считал, что дело их, как и их жизнь, погублены».
Не побоюсь признаться, что и у меня в те годы были примерно такие же взгляды, как у Германа, хотя мой отец ни к какой номенклатуре не принадлежал. Видимо, сказывалась идеологическая обработка в газетах и на телевидении, ну и конечно, недостаток информации. Я горячо спорил с друзьями, правда, после изрядного подпития, ссылаясь на пресловутую сферу наших интересов – примерно то же теперь говорят в Соединенных Штатах по поводу Ближнего Востока. Оправдывает меня, пожалуй, то, что был моложе Германа почти на десять лет, да и учеба в институте не очень способствовала увлечению гуманитарными проблемами и политикой. Но в том, что касается любви Алексея Германа к некоторым диссидентам, позволю себе усомниться – думаю, что с радикальным инакомыслием он был знаком лишь понаслышке. В сущности, диссидент диссиденту рознь: одни высказывают довольно оппозиционные мысли в беседе с близкими друзьями – это та самая «кухонная» оппозиция, – ну а другие выходят на Красную площадь, рискуя собственным здоровьем. Первых вряд ли стоило жалеть, я и сам в каких-то вопросах мог бы считаться диссидентом, а вот вторые… Я и тогда так думал, и сейчас остаюсь при том же мнении – жертвы были в основном напрасны. В нашей стране идеологические выверты и политические перестройки случаются исключительно под воздействием экономических причин. Вызванная Первой мировой войной разруха спровоцировала революцию, а падение цен на нефть в 80-х годах заставило Горбачева, что называется, встать на колени перед Западом – тогда-то и объявили «перестройку». Однако от политических проблем вернемся к нашему герою. Прежде надо бы разобраться с его личной жизнью, а уж потом займемся более серьезными проблемами и будем делать выводы. Увлечению Светланой предшествовал брак с обаятельной блондинкой. Впрочем, цвет ее волос мне неизвестен, но почему-то хочется верить, что была на диво хороша!
«Жена-манекенщица – это был брак какой-то странный. Верочка была прелестная, добрая девочка. И ей очень хотелось выйти за меня замуж. А мне было все равно, я к ней хорошо относился, почему отказать человеку в такой малости – поставить штамп в паспорте? Я до сих пор чувствую себя дурным человеком. Я ее ввел в другой мир, в богемную среду, а когда это кончилось, все вернулось на место… Мы были несовместимы совершенно».
Так бывает, и нечего сокрушаться по такому поводу. Тем более что после Коктебеля в жизни Алексея Германа появился магнит попритягательнее. Хотя и тут не обошлось без ссор, поскольку Алексей и Светлана «то разводились, то сводились». И все же не зря в августе 1968 года сбежал Герман в Коктебель: «Со Светой мы совместимы. Более того, мы сорок лет любим друг друга. И мы очень хорошая, сильная семья, потому что помогаем друг другу. Она очень тянет в моей профессии, и как человек пишущий, с хорошим литературным вкусом, и как критик».
И вот оказывается, что после женитьбы на Светлане Кармалите мировоззрение Германа совершает как бы загадочный зигзаг – из ярого приверженца социалистического строя он сам становится радикальным диссидентом. Возможно… нет, даже наверняка мне возразят, мол, все совсем не так. Станут убеждать, что Алексей Юрьевич, да и Юрий Павлович всегда были в оппозиции действующей власти, но только тщательно скрывали это. Не стану возражать, только припомню «отца» нашей водородной бомбы Андрея Дмитриевича Сахарова, который сидел себе много лет за рабочим столом, писал замысловатые формулы, делал сложные расчеты, и вдруг… И вдруг трижды Герой Социалистического Труда однажды утром проснулся диссидентом. И возникает вопрос: куда смотрела в этом случае его жена? Нет, кроме шуток, я бы у нее спросил, если бы имел подобную возможность. Вот так и с Германом: стоило жениться на Светлане, и мировоззрение враз переменилось. Я вовсе не хочу сказать, что переменилось к худшему, однако факт есть факт. Так в чем причина?
«Я менее масштабный человек, чем папа. Может быть, не менее способный в своей профессии, но менее емкий как личность… В отличие от отца, я женат на женщине очень сильного склада, которая, возможно, нравом не сильнее меня, но уж точно не слабее. Сколько я помнил маму – от ужаса она всегда курила в комнате и сидела в клубах дыма. Она всегда говорила: «Больше всего люблю, когда все дома и все спят».
Женщина сильного склада, которая рыдала во время вторжения советских войск в Чехословакию, которая до этого жила, как сообщают, в эмиграции – да можно ли найти более эффективный «элемент воздействия» на хрупкое, чувствительное существо, каким является художник? Тут следует учесть и то, что она была близка к известному представителю инакомыслящих кругов Льву Копелеву – Светлана в 60-е годы числилась у Копелева аспиранткой. Ах, если бы к каждому преданному защитнику незыблемых устоев приставить такую вот жену! Я не пытаюсь тут иронизировать, и даже в мыслях нет у меня желания кого-то оскорбить, просто иное объяснение не приходит в голову – уж очень неожиданно мировосприятие Германа кардинально изменилось. А впрочем, тому из читателей, кто моими предположениями оскорблен до глубины души, рекомендую с выводами не спешить – на самый крайний случай я приготовил несколько иную версию. Но прежде доскажу историю про фильм по повести Стругацких.
Итак, Алексей Герман, проработав несколько лет, что называется, на подхвате, созрел для того, чтобы снимать свою кинокартину. Но осенью того же 1968 года Борис Стругацкий, в соавторстве с которым Герман к тому времени написал сценарий, получил письмо от руководства «Ленфильма», в котором говорилось:
«Руководство студии не поддержало рекомендацию худсовета объединения, указав на слабость драматургического решения сценария «Трудно быть богом». Условность и приблизительность композиции лишают читателя (а следовательно, и зрителя) возможности с доверием и интересом следить за развитием сюжета… Миссия посланца Земли на другой планете представляется, в конечном счете, весьма неясной. Многие его действия лишены логики…»
Если в роли посланца вообразить советские войска, а в качестве другой планеты – Чехословакию, то миссия и впрямь может кому-то показаться не вполне ясной и лишенной логики. Тем более что по сценарию главный герой, дон Румата, вмешавшись в исторический процесс на чужой планете из самых лучших побуждений, в итоге свою борьбу начисто проигрывает. Что это, как не намек на грядущее поражение Варшавского блока, ведомого брежневским Политбюро? Ну можно ли такое допустить? Увы, мысль поставить фильм по роману Стругацких пришлось надолго отложить.Глава 11. Первые проверки
Для следующей попытки своей самореализации в качестве кинорежиссера Алексей Герман выбрал повесть своего отца «Операция «С Новым годом!». Тема была вполне патриотическая – подвиг советских чекистов в тылу врага во время Великой Отечественной войны. Однако в тот сюжет, что написал когда-то Юрий Герман, потребовалось внести ряд изменений. Алексей Герман позвал на помощь Эдуарда Володарского:
«Необходимо было отойти от основного сюжета повести. Дело в том, что после ее опубликования нашлись и другие люди, действовавшие в описанной истории. Они прояснили некоторые ситуации. Проверку на дороге, например, отец придумал. Вот мы с Володарским и решили строить сценарий воистину по мотивам».
Должен признаться, что меня такое объяснение не убеждает. Если бы снимался документальный фильм, тогда стремление показать все в точности, как было, оправданно и заслуживает одобрения. А тут предполагалось снять художественную киноленту, в основе сюжета которой незначительный эпизод, каких в последнюю войну было немало. И поневоле напрашивается мысль, что вовсе не в этом дело, что Герман решил изменить сценарий по другой причине. Вот и Эдуард Володарский в 2002 году в письме, написанном в ответ на резкое выступление Алексея Германа против Никиты Михалкова, вспоминал: «Вы же сами в то время не один раз мне талдычили: «Эдик, книжка плохая, надо придумать и писать все заново». Так вот, в том сценарии, который я написал и по которому вы снимали картину, практически нет ни одной сцены, которая была в повести вашего отца. И чекистов никаких нету».
Было или не было – это не столь важно. В основном фильм напоминает то, что уже не раз снимали про войну – дерзкие операции наших партизан или диверсионных групп в тылу врага, героическая смерть ради нашей общей победы. Таким фильмом никого не удивишь, даже если играют в нем прекрасные актеры. Однако принципиальное отличие сценария от повести в том, что на первый план вышел конфликт между командиром отряда и политруком. Этот политрук настаивает на расстреле Лазарева, бывшего власовца, пришедшего по собственной воле в партизанский отряд, чтобы воевать против фашистов. Командир же склонен этому перебежчику поверить, хочет дать ему возможность искупить вину, хотя вины по большому счету нет, было только малодушие – так, судя по всему, считал кинорежиссер. Но речь тут о другом. Думаю, все согласятся – если бы не сцены, великолепно сыгранные Роланом Быковым и Анатолием Солоницыным, об этой киноленте никто бы и не вспомнил через пару лет.
Коллеги и друзья первый самостоятельный фильм Алексея Германа хвалили: Григорий Козинцев, Георгий Товстоногов, Александр Штейн… Сергей Герасимов утверждал, что «это шедевр, здесь нельзя трогать ни метра». Константин Симонов считал, что «очень хорошая картина, принципиально важно ее выпустить». Иннокентий Смоктуновский был просто потрясен:
«Леша, откуда ты все это знаешь? Я был в плену, я у немцев служил, потом в тюрьме… Все это – про меня!»Однако «наверху» решили, что фильм вредный, что его не стоит выпускать. Главным героем оказался бывший власовец, а основной конфликт связан с отношением советской власти к людям, по каким-то причинам оказавшимся во вражеском плену. Ну неужели у кино нет более важных задач, чем выражать сочувствие предателям?
Хотя фильм кое в чем был необычен для своего времени, однако никакой крамолы в фильме не было. Гибель Лазарева трудно рассматривать как гибель героя-партизана. На мой взгляд, это расплата за содеянное – за малодушие, за трусость. Можно понять растерянность простых парней, недавних новобранцев, оказавшихся перед необходимостью жестокого выбора – мучительная смерть в плену, в концлагере, или служба у фашистов. Однако Лазарев был офицером и должен был ответить за свои поступки.
Как ни старался Герман убедить начальников, надзиравших за кино, что у него и в мыслях не было оправдывать предательство, не помогло даже письмо Георгия Товстоногова в Политбюро, которое также подписали кинорежиссеры Козинцев и Хейфиц.«Первый раз я летел с высоты Суслова и Демичева, которые на Всесоюзном идеологическом совещании признали картину «Проверка на дорогах» вредной. Нам даже велели в течение нескольких часов покинуть Москву».
Герман очень переживал, он был потрясен запретом фильма. Ну как же так, ведь это его первенец! Это все равно что сына забрали бы у отца и поместили в детский дом, а то и в колонию для малолетних уголовников.
«Объяснять, за что запретили «Проверку», бессмысленно. Потому что ее запретили за все. За все! За Ролана Быкова. За то, что он в тазике стоит. За «абстрактный гуманизм». За жалость к людям, в жестоких, чудовищных обстоятельствах проявившим слабость и сдавшимся в плен».
Позволю себе предположить, что Алексей Герман попытался повторить путь, пройденный Тарковским. Тот тоже начал с фильма на военную тему, там тоже был довольно неожиданный акцент на судьбе мальчика, такого же участника войны, как и его взрослые товарищи по разведроте. Конечно, могла бы и на «Иваново детство» найтись тупая голова, которая обнаружила бы в фильме эксплуатацию детского труда или обвинила авторов фильма в том, что они героических советских разведчиков представляют в виде трусов, которые прячутся за спинами детей. К счастью, ничего такого не случилось, а причина в том, что сочувствие зрителя вызывал мальчик, оставшийся по вине фашистов сиротой и решивший отомстить за все, даже рискуя своей жизнью. В фильме же Германа зрителю предлагали посочувствовать изменнику Родины, который одумался и решил искупить свою вину. Режиссер, по сути, пытался доказать, что на самом деле пленные ни в чем не виноваты, это лишь случайное стечение обстоятельств привело бывшего лейтенанта Красной армии в армию генерала Власова.
«Мы со Светланой сидели и подсчитывали, сколько миллионов человек пострадали, имея в роду пленных, надевших форму врага или даже власовцев. Я имею в виду родственников, близких и не очень. По нашим школярским подсчетам, это коснулось тридцати миллионов человек. Мы говорили – давайте перестанем жалеть на минутку командармов и партийцев, пожалеем просто русских и нерусских солдат, попавших в эту мясорубку, согрешивших, пожалеем их родню, расскажем о них».
Понятно, что эти люди вызывают сострадание, но представлять одного из них в фильме чуть ли не героем – такого цензоры не в состоянии были допустить. Так что Герману не удалось повторить путь Тарковского в кино – «Иваново детство» получило множество почетных премий, а вот на фильм Германа был наложен категорический запрет. Более того, где-то наверху, видимо в кабинете Михаила Суслова, решили: такие режиссеры не нужны советскому кино.
«Меня с «Проверками» положили на полку и сказали: зайдете за работой года через три. Меня не взяли на работу даже в Норильск. Гранин нас со Светланой устраивал на телевидение в Минск – тоже не взяли. Это все не так просто, как сегодня кажется. Повезло, что у меня нашлись защитники».
Если бы не защитники, в основном отцовские друзья, не удалось бы Алексею Герману через несколько лет снять новый фильм. На этот раз Герман решил экранизировать не повесть отца, но обратился к произведению Константина Симонова. Не знаю, был ли в этом его выборе тонкий расчет, но думаю, что Герман все же рассчитывал на поддержку авторитетного писателя. И снова фильм о войне, точнее, о событиях, происходящих в глубоком тылу, вдали от фронта, однако присутствие войны в повести «Из записок Лопатина» ощущается почти что в каждой описанной там сцене.
Прежде чем рассказать о новой попытке Алексея Германа утвердить себя в качестве самобытного кинорежиссера, нужно упомянуть событие чрезвычайно важное:
«Как-то на студии появился Илья Авербах и сказал: приходи вечером, покажу очень хорошее кино. И в директорском зале, как сейчас помню, на меня обрушились «Долгие проводы». Сначала они меня раздражали, потом стали забирать, и наконец, обрушилась эта огромная глыба. Дело не в мастерстве, мастера у нас были, Герасимов чем не мастер, а вот свободного полета такого я не видел. Фильм словно говорил: я делаю не так, как вы, а так, как дышу, своим вдохом и своим выдохом, и на экран что-то вылетает прямо из моего сердца. Я пришел совершенно раздавленный этой свободой. И с той секунды это вошло в мой мозжечок».Это был фильм Киры Муратовой, снятый в 1971 году. Еще один талантливый кинорежиссер, так и не востребованный обществом, так и не нашедший общих точек соприкосновения со значительной частью кинозрителей. Это было арт-хаусное, авторское кино. Однако обидно, когда талантливые люди творят только для элиты, для эстетов. Но что поделаешь, если это так? Ну вот и сын Юрия Германа не мог позволить себе делать рядовые фильмы, рассчитанные на широкую аудиторию. Насколько я могу судить, он хотел стать одним из первых в режиссуре, других вариантов для него просто не было. Но можно ли о таком признании мечтать, если не взять все лучшее у известных режиссеров: «После, когда меня спрашивали, что на меня повлияло – Товстоногов, Музиль, Козинцев, – я отвечал: вот это открытие итальянского кино. Сейчас же не мясник в лавке, а членкор, директор царского дворца лишает права называться искусством картины великого Бергмана, Куросавы, Феллини, Тарковского, как и Параджанова, Иоселиани, молодой Муратовой… Эти фильмы – не просто искусство. Это высшее после поэзии проявление человеческого духа».
И все же я могу предположить, что главным ориентиром для Алексея Германа в 70-х годах были не Иоселиани или Параджанов, но куда менее почитаемая и незаметная Кира Муратова.
Новая попытка войти в элиту кинематографа требует и новых, непривычных для зрителя решений. Поэтому на роль главного героя в фильм «Двадцать дней без войны» был приглашен актер отнюдь не героической внешности, ничуть не похожий на Константина Симонова, хотя могу допустить, что автор повести описывал в ней реальную историю из своей собственной жизни. Юрий Никулин смотрится как самый обыкновенный человек, даже при большом желании трудно заподозрить в нем писателя или журналиста, пишущего под вражеским огнем репортаж в «Красную звезду». В общем, некрасив и ничем с первого взгляда к себе не привлекает. Так ведь на то и война, дело это грязное, тут незачем показывать красивых людей, скорее наоборот – война ужасна, и все, что режиссер снял в этом фильме, не должно вызывать ни умиления, ни восхищения. Ну разве что отношения двух любящих людей…
На роль подруги главного героя была приглашена Алла Демидова, но вот беда – худсовет ее не утвердил. Алла Сергеевна так вспоминала об этой не сыгранной ею роли:
«Алексей Герман хотел меня снимать в «Двадцать дней без войны». Но против меня был Константин Симонов, потому что мне сначала сделали грим Валентины Серовой, и его это, видимо, возмутило. Тогда Герман взял Гурченко».С Людмилой Гурченко режиссер, по собственному его признанию, намучился. Наверное, не раз пожалел, что не смог настоять на другой кандидатуре: «Людмила Марковна – человек очень властный, а я знал: для того чтобы она хорошо работала, ее надо рассердить. Я к ней отношусь с большим уважением как к человеку мужественному и блестящей артистке, но не скрываю, что, если бы работала Демидова, картина была бы, на мой взгляд, лучше. Эта пара Никулин – Демидова заработала бы, заискрила лучше. Потому что в Демидовой существовало бы то, про что бы мы сказали: встретились два одиночества. А Людмила Марковна женщина все-таки крепкая».
Везло Алексею Юрьевичу на сильных духом, крепких женщин! Но речь тут не о том. В новом фильме режиссер решил добиваться исключительной достоверности каждой сцены, даже в мелочах. Что уж говорить об атмосфере, в которой велись столь важные для понимания смысла фильма разговоры. И вот поезд мчится где-то в казахстанской степи. А для того, чтобы зритель убедился в том, что действие происходит именно там и именно зимой, съемки велись практически в тех же условиях, которые описаны и в повести, и в сценарии кинокартины. Двадцать шесть часов вагон со съемочной группой мотался по степи. Двадцать шесть часов актеры мерзли в неотапливаемом вагоне. И все только для того, чтобы придирчивый зритель мог понять то, что пар, идущий у собеседников изо рта во время семиминутной сцены разговора Лопатина с капитаном-летчиком, – это не спецэффект, это натурально! Причем длиннейший монолог Алексея Петренко был снят лишь с двадцать пятого дубля.
«Ненависть ко мне группы была беспредельная. Ради сцены, которую без проблем можно было сработать в павильоне, пришлось мотаться по ледяной степи, жить в вагонах по четыре человека в купе! Ванны нет, помыться негде, сортиры такие, что лучше не вспоминать, холод пронзительный – вагоны я нарочно выстудил, иначе не избежать фальши в актерской игре. Вместо одного мальчика, с которым была в кадре Гурченко, их понадобилось пятеро: дети ночью сниматься не могли, быстро уставали, нужно было их менять».
Недовольство киногруппы – это еще полбеды. Даже если осветители и ассистенты заболеют гриппом или разбегутся по домам, можно было новых набрать. Тут главное – сохранить, сберечь актеров. Вот за Никулина режиссер сражался до конца: «Что со мной делали из-за Юрия Владимировича во время съемок «Двадцати дней без войны»! «Пьяный алкоголик в виде советского журналиста и писателя!» Я говорю: «Он – непьющий человек, какой он алкоголик?!» Мы ночевали на пароходе со Светланой, чтобы нам не трезвонили, не мотали душу, но нас и там нашел директор «Ленфильма» и сказал: «Ты должен сам снять с роли Никулина, пока Симонова нет, сам сказать, что он тебе не годится. Мы тебе дадим денег. Если ты этого не сделаешь, я тебе даю слово коммуниста: мы тебе вобьем в спину осиновый кол, и ты никогда больше не будешь снимать». Я его послал. Но у нас тогда был Симонов. А когда я попытался то же сделать на «Лапшине», то вылетел как пробка со студии».
Да, если бы не авторитет Константина Симонова, и этот фильм могли бы положить на полку лет на десять. А вот не напиши Симонов замечательные стихи, посвященные войне, и знаменитую трилогию, начавшуюся с «Живых и мертвых», – не было бы у него тогда возможности спасти хороший фильм. Алексей Герман так вспоминал о Симонове: «Симонов был странный человек. Сталину на него писали доносы, что он еврей, но с одной стороны он был татарин, а по другой линии происходил от Оболенских… После его смерти я себя почувствовал «голым среди волков».
Вот до чего дошло: Алексей Герман уже не представлял себе, как можно творить, не имея покровителя! Стоит посочувствовать тем, кто так и не пробился ни в кино, ни в литературу. А все потому, что вместо того, чтобы терпеливо ожидать благосклонности фортуны, надо было подыскать авторитетное лицо, способное поддержать и даже заслонить в случае чего. Для Алексея Германа таким человеком стал Константин Симонов. Юрию Герману тоже повезло – на раннем этапе его карьеры покровительство Максима Горького оказалось очень кстати.
Об отношениях Симонова и Алексея Германа вспоминал драматург Александр Штейн:
«Причудливые кинематографические обстоятельства сблизили Константина Михайловича с Алешей Германом, которого ему случалось видеть еще мальчиком в пору своих визитов в Ленинград, когда бывал в гостях у Ю. Германа. Этот мальчик – в войну ему было всего два года – стал впоследствии молодым режиссером сначала театра, а потом кино и поставил по повести покойного отца «Операцию «С Новым годом!» – отличный, на мой взгляд, фильм. И уж во всяком случае, в картине были все данные для того, чтобы поверить в дарование режиссера. Симонов поверил. И сделал с ним фильм «Двадцать дней без войны». Симонова покорило то, что Алексей Герман, взяв повесть, изучил необъятный материал: документы, хронику, фототеки, письма, дневники. Иной раз, глядя на экран, нельзя было догадаться – документ это или вымысел?»Заставить зрителя поверить в подлинность того, что происходит на экране, – такую Герман поставил для себя задачу. Добиться этого любой ценой, используя все доступные режиссеру средства, – смысл этого намерения понятен. Вот если бы в фильме играли выдающиеся актеры уровня Иннокентия Смоктуновского или той же Аллы Демидовой, никто бы и не обратил внимания на то, идет ли пар изо рта собеседников в вагоне. Здесь же Герман свел все как бы на один уровень – на фоне тусклой атмосферы военных лет, на фоне тех невзгод, которые испытывали труженики советского тыла, невзрачный в общем-то Никулин и внешне непривлекательная героиня Гурченко смотрелись органично и естественно, и не было сомнений в том, что так примерно это и могло быть в жизни. Даже Александр Сокуров счел возможным отметить этот фильм, добавив, что «при соприкосновении с симоновским видением правды жизни возникает нечто абсолютно уникальное».
Однако надзирающим товарищам из ЦК реальная жизнь на экране была ни к чему, им подавай сказку о мужественном военкоре и самоотверженных тружениках тыла. Спрашивается, стоило ли огород городить, если в фильме нет идейной подоплеки? «Двадцать дней без войны» решили запретить. Поводом для запрета стал образ главного героя в исполнении Юрия Никулина.
Но не тут-то было:
«Симонов пришел в ярость, узнав о происходящем, он орал этим цэкистам: «Это я придумал Лопатина, он из моей головы! Вы решайте, какой у вас будет Жданов. А мне оставьте Никулина. Не трогайте Германа, оставьте его в покое!» Симонов был членом ЦК, и его послушались».Так Алексей Герман вспоминал о передрягах, связанных с картиной. Трудно представить, что было бы с этим фильмом, если бы не Константин Симонов. После тщетных попыток спасти «Проверку на дорогах», когда Германа пытались поддержать признанные мэтры театра и кино, трудно было рассчитывать, что Симонов, даже при его авторитете, выведет картину «в люди». Но тут, судя по рассказу Алексея Германа, пригодился опыт общения писателя с руководящими товарищами из ЦК:
«Симонов спрашивает одного из киноначальников: «Ну, как вам моя картина?» Он так и сказал – «моя». Тот отвечает: «Тяжелый случай». Симонов: «Да-да, картина тяжелая, но хорошая». Он, когда ему требовалось, умел сделаться «глухим». Тот ему громче: «Я говорю – тяжелый случай». Симонов: «Да-да-да, картина очень тяжелая, но очень хорошая». И вот, ведя такой диалог, они вместе удалились в кабинет. Через какое-то время Симонов вынес оттуда акт о приемке».
Впрочем, все было не совсем так, как я здесь описал. На самом деле благодарить в большей степени следовало Товстоногова, поскольку именно он переубедил Константина Симонова, которому фильм Германа вначале был не по душе. Причина в том, что писатель был увлечен спектаклем по своей повести, который поставили в театре «Современник», что и немудрено, но вот беда – на этом фоне фильм Германа ему показался бледной тенью. Уверен, что Симонову понравился и Валентин Гафт в роли главного героя на театральной сцене – тут было практически полное совпадение с тем описанием, которое мы находим в «Записках о Лопатине»:
«Худощавый жилистый человек в круглых металлических очках. Лицо у него было узкое и худое, а глаза за очками – твердые и холодноватые».А вот Алексей Герман придерживался прямо противоположного мнения: ему был «смешон спектакль, вобравший в себя все дурное в этой неровной Лопатинской повести». Надо признать, что приведенное мной описание внешности Лопатина даже отдаленно не напоминает Юрия Никулина. Вот на кого похож Никулин, так это на отца Алексея Германа – точь-в-точь Юрий Павлович, если иметь в виду последние годы его жизни! Конечно, понятно желание кинорежиссера сделать Лопатина похожим на своего отца, однако остается вопрос: может ли это доставить удовольствие Константину Симонову?
Вот тут и понадобилось вмешательство маститого и авторитетного Георгия Товстоногова – возможность высказать все и попытаться переубедить представилась ему при встрече за закрытыми дверьми, в стенах БДТ. Алексей Герман вспоминал:
«Это было необыкновенно. Товстоногов кричал на Симонова и его жену Ларису».Догадываюсь, о чем был этот крик: мол, «Современник» все равно не пропадет, но надо же поддержать сына покойного писателя.
А все же интересно, что было бы, если бы не вмешательство Товстоногова, если бы не удалось ему Симонова переубедить и если бы тот не был вхож в ЦК? На мой взгляд, этот успешно завершившийся скандал только прибавил интереса к фильму.
В отличие от других фильмов Германа «Двадцать дней без войны» не были отмечены призами на международных кинофестивалях, если не считать малозначительную премию имени французского коммуниста и теоретика кино Жоржа Садуля, полученную в 1977 году. Уж очень у этого фильма специфический сюжет, понятный лишь отечественному зрителю, да и приглашение на главные роли актеров не топ-уровня противоречит тем критериям успеха фильма, которых до сих пор придерживаются в Голливуде.Глава 12. Снова Лапшин
Фильм по повести Симонова был снят в 1976 году, а через три года Герман снова возвращается к прозе своего отца. На этот раз речь пойдет о работе уголовного розыска в провинциальном городке и о его сотруднике по фамилии Лапшин. Фильм так и называется – «Мой друг Иван Лапшин». Но прежде, чем рассказать о съемках фильма, хочу привести одно признание:
«Финал я частично украл у Трифонова, и меня поймала его жена. Но простила. Финал был нужен, чтобы показать: мы не против советской власти! Еще я украл несколько фраз у Володина из «Пяти вечеров», но честно к нему пришел и сказал, какие фразы мне нужны. А он мне разрешил».
Ну, разрешил так разрешил, не в этом главное. И в жизни, и в творчестве случается много совпадений, главное, чтобы не перейти невидимую черту, за которой наступает подражательство и потеря своего лица.
Судя по всему, в этой работе Герман продолжал совершенствовать свой метод, добиваясь скрупулезного воспроизведения реальности. И внешние приметы, и звуки, и даже разговор – все это как бы снято скрытой камерой. Режиссер словно бы говорит: все так и было, и я не считаю возможным ничего к этому добавить или что-то изменить. Увы, на фоне второстепенных деталей иногда теряется то главное, ради чего был сделан фильм. Примерно такое впечатление возникло у коллег кинорежиссера, Андрея Смирнова и Элема Климова:
«Смотрели Климов и Смирнов «Лапшина», они в тот момент не разговаривали из-за какой-то ссоры, сидели в разных углах. Как ты думаешь, чем это кончается? Встает Элем, говорит: «Мы тебя так уважали, это тупик, это катастрофа, это бред сивой кобылы, ты ушел весь абсолютно в формализм. Я даже не спорю, что ты эти формальные приемы ловко делаешь, но это тупик и полная дрянь. Ты завалился со страшной силой, и тебе это надо признать». Встает Андрей и кричит: «Мы с ним не здороваемся три года, но, если моя точка зрения дословно совпадает с его точкой зрения, ты обязан согласиться. Это катастрофа!»Такова была первая реакция собратьев по профессии. Что уж говорить о тех, кто над ними надзирал? Реакция была уничтожающая! Вспоминая о том времени, Герман себя словно бы успокаивал. И в самом деле, трудно представить, как ему было тяжело – ведь это всего третья самостоятельная картина, и вот опять ей грозит запрет, а все, что остается режиссеру, – это непризнание. Хотя если сравнивать с судьбой Андрея Тарковского, которому тоже не позволяли снимать то, что он хотел, или малоизвестной до сих пор широкой публике Киры Муратовой, можно сказать, что Алексею Герману в чем-то повезло: «Мне было легче, я был сыном известного писателя, и передо мной в те годы не открывалась перспектива стать банщиком, если меня отовсюду выгонят. Когда мне нечем бы стало кормить ребенка, я мог продать дачу, папин автомобиль, папину библиотеку… Я даже помню скандал после запрещения фильма «Мой друг Иван Лапшин», когда собралось руководство, чтобы меня шпынять и добиться от меня чего-то… Пришла бумага: всех виновных в изготовлении строго наказать, картину списать в убытки. Собрались все начальники, вызвали меня. Я встал и сказал: «Вам легче будет со мной разговаривать, если вы поймете, что абсолютно ничего не можете со мной сделать. В крайнем случае вы можете заставить меня продать отцовскую дачу».
Здесь можно было бы еще добавить, что в Америке в то время жил богатый дядюшка Алексея Германа. Я бы не удивился, если бы им оказался Аркадий Александрович Риттенберг, брат матери кинорежиссера. Однако Светлана Игоревна Кармалита придерживается иного мнения: «У Леши, как я уже сказала, машина была… ему ее подарил американский дядя, тоже очень близкий нам человек. У Леши родственники – по всему миру, вплоть до Австралии. Родной брат матери, шведский дядя, дядя Гуля, приезжал к нам на Марсово поле, где жили Юрий Павлович и Татьяна Александровна, два раза в год, а французская и американская ветвь – это по линии Юрия Павловича».
Что касается отца и матери Юрия Павловича, то они были родом из небогатых семей. Маловероятно, что потомки ветеринара или уездного воинского начальника сумели нажить себе состояние, перебравшись за границу. А вот сын Константина Клуге, женатого на сестре матери Юрия Павловича и жившего после окончания Гражданской войны в Харбине, как я уже писал, со временем перебрался за океан и нажил кое-какое состояние. Кстати, и Михаил Герман упоминает богатого американского дядю, Михаила Константиновича Клуге, так что, видимо, Светлана Кармалита имела в виду именно его. И все же какой-нибудь потомок Риттенбергов, богатых питерских купцов, казался мне более предпочтительной фигурой на роль американского дядюшки.
Как бы то ни было, то есть вне зависимости от фамилии, которую носил этот заокеанский дядя, в самом крайнем случае можно было рассчитывать и на него. Правда, к началу 90-х Михаил Клуге почти что разорился. Да и вообще, Герману с американцами не повезло: когда речь зашла о том, чтобы профинансировать из американского источника другой его фильм, «Хрусталев, машину!», спонсоры выдвинули условие, чтобы Сталина играл американский актер. Нетрудно догадаться, что режиссера это не устроило.
Пожалуй, после столь единодушной и унизительной обструкции, устроенной фильму Германа о Лапшине, стоит более подробно обсудить, что называется, его стилистику, хотя ни к киноведам, ни к кинокритикам я себя не причисляю. А для начала сошлюсь на мнение, высказанное авторитетными людьми. Вот что писал Александр Штейн о повестях своего друга Юрия Германа «Лапшин» и «Алексей Жмакин»:
«Чем восхитило? Почти физической осязаемостью изображаемого, сложным и тонким психологическим рисунком, «подтекстом», который так не любит Герман, «вторым планом», который он тоже так не любит».Что касается подтекста и второго плана, не берусь судить, не говоря уже о «тонком психологическом рисунке». Здесь же вот на что хотел бы обратить внимание – «почти физическая осязаемость». Если, например, взять «Лапшина» – детальное, тщательно выверенное описание мизансцен этого фильма и в самом деле впечатляет. Нужно ли это было? Пожалуй, да – поскольку речь идет о детективной истории, а в этом деле любая мелочь может оказаться решающей уликой или напротив – доказательством невиновности подозреваемого в преступлении.
Однако писатель Илья Ильф высказал иное мнение, словно бы на что-то намекая, притом без указания имен:
«Большинство наших авторов страдает наклонностью к утомительной для чтения наблюдательности. Кастрюля, на дне которой катались яйца. Не нужно и привлекает внимание к тому, что внимание не должно вызывать».
Ценное замечание! Я бы здесь добавил, что и в реальной жизни мы многого не замечаем, проходим мимо, не глядя, поскольку нам это просто ни к чему. Ну вот и звуки – мы что-то слышим только потому, что это почему-то нас заинтересовало. А вот другое практически не видим и не слышим, стараемся не замечать, словно бы глаза закрыли и заткнули уши. Из всего множества информации мы выделяем главное, остальное же может помешать. Одновременно видеть все и слышать все – такое может быть лишь в том случае, если человек не способен сосредоточиться на интересующем его предмете. Мы если и обращаем на что-нибудь внимание, для этого нужна причина. А если ее нет, тогда зачем загромождать свое восприятие и память ненужными подробностями? Ну разве что больше нечем свою голову занять…
Странно, что уже гораздо позже, когда Герман заканчивал свой последний фильм, он в оправдание отсутствия цвета в его фильмах приводил аргумент, очень близкий к высказанному мною:
«Мы в жизни цвет не замечаем – кроме тех случаев, когда какой-то специальный сенсор в голове включаем. Мы воспринимаем мир черно-белым – во сне ли, наяву ли. Я мир вижу черно-белым. И замечаю цвета только тогда, когда специально начинаю обращать на это внимание. Мне кажется, что черно-белая картинка заставляет какие-то клетки мозга по-другому шевелиться и все равно видеть свет».Выходит, все мелочи и звуки замечаем, а чуть ли не самое главное – цвета окружающего мира – нет.
Услышал бы эти слова Винсент Ван Гог, перевернулся бы в гробу. Да и любой художник вряд ли согласится. Пожалуй, основная мысль в этой цитате: «Я мир вижу черно-белым». И нечего нам больше объяснять.
В своем пристрастии к «бесцветному» кино Алексей Герман был не одинок. Вот и Кира Муратова предпочитала обходиться без цвета:
«Я люблю черно-белое кино, оно в большей мере является искусством… В черно-белом кино я чувствую себя хозяйкой… Для меня цветные фильмы – вынужденный акт».Иной, более широкий взгляд на эту проблему у кинорежиссера Александра Сокурова: «В «Молохе» одной из главных проблем для меня была проблема цвета. Это самая неуправляемая физическая материя в искусстве, не случайно кинематографисты в свое время так боялись прихода цвета в кино. Художник должен уметь им управлять, должен иметь полную власть над палитрой».
Что ж, видимо, не каждому по силам этим овладеть. Хотя, на мой взгляд, жанр кинофильма в значительной степени определяет цветовую палитру. Странно было бы в наше время видеть на экране черно-белую комедию, а детектив в стиле Альфреда Хичкока смотреть в цветном изображении.
Но возвратимся к словам Ильи Ильфа. У Алексея Германа иное мнение на сей счет, он спорит с Ильфом, защищая даже не столько своего отца, но, как я подозреваю, оправдывая самого себя:
«Хотя фамилия отца здесь не названа, речь идет именно о нем, о романе «Наши знакомые». Отец Ильфа любил и уважал, но согласен с ним не был. Я тут тоже на стороне отца, и в память об этом давнем споре нарочно вставил в картину эпизодик с яйцом – во время облавы один из сотрудников предлагает Лапшину: «Хотите яйцо?»Честно говоря, пример с яйцом меня ни в чем не убеждает. Наблюдательность иного автора и вправду способна утомить. Вот и у Владимира Набокова иной раз читаешь описание комнаты чуть ли не на три страницы. Да, замечательно написано, но надо ли читать? Что это добавляет к сюжету, к мыслям и чувствам, которые писатель хочет донести до своего читателя? Стремление Алексея Германа к скрупулезности воспроизведения примет описываемого времени, желание следовать примеру своего отца – это я могу понять. Однако откровенно признаюсь, что после просмотра первой половины «Лапшина» у меня буквально заболели уши. Возможно, это чисто субъективное ощущение. Возможно, надо было уменьшить громкость телевизора. И все равно, такое нагромождение реальных звуков мне не по нутру. В обычной жизни я бы этих звуков не заметил, они проходят как бы фоном в лучшем случае, однако когда динамик телевизора направлен прямо на меня… И вот, припоминая эти впечатления, я вдруг подумал – не потому ли такая, прямо-таки довлеющая роль в фильме принадлежит именно звукам, уличным шумам… не потому ли это так, что Алексей Герман начинал когда-то свою карьеру в искусстве шумовиком в театре Товстоногова?
И снова сошлюсь на мнение Александра Сокурова: «Мало кто задумывается о том, какое влияние может оказывать звучащий мир на человеческую душу. Мы пытаемся добиться дозированного звучания, щадящего по отношению к человеческому уху. Создавать осторожное звуковое пространство… очень аккуратно обращаться с языком, смягчить, приглушить его звучание».
Добавлю, что мне такой взгляд на проблему звука в кинофильме кажется более обоснованным. Хотя допускаю, что возможны иные предпочтения. Наверняка кому-то хочется, чтобы фильм оказывал активное воздействие на зрителя, используя все возможности, в том числе и громкий звук.
Однако в чем причина такого увлечения мелкими, на первый взгляд, незначительными деталями, внешними и необязательными приметами бытия? Неужто цель исключительно в том, чтобы подражать методу отца, если таковой метод был в реальности? Но вот ведь в трилогии об Устименко у Юрия Германа совсем другой стиль, там мало внешних примет времени и гораздо больше психологии, описания внутреннего мира героев, их переживаний. Почему Алексей Герман не последовал этому примеру, не стал экранизировать поздние произведения отца?
Прежде чем высказать свои предположения, замечу, что в «Лапшине» есть сцены, которые впечатляют. Например, мастерски снята облава на убийцу. Туман, безлюдье, тишина, минимум деталей. Все происходит где-то на окраине городка. И в этой тишине, в этом безлюдье особенно выразительными кажутся и редкие крики, и звуки выстрелов, и маленькая фигурка убийцы с тесаком в руке.
Одна из причин того, почему Алексей Герман не стал экранизировать трилогию своего отца, в том, что, судя по всему, его не устроила ее идейная направленность. Там люди гибнут, защищая Родину. Там люди все свои силы отдают на благо страны. Даже находясь в застенке, даже после издевательств следователей и тюремщиков Аглая Петровна Устименко сохраняет веру в те светлые идеалы, борьбе за торжество которых посвятила жизнь, при этом не ставит знак равенства между своими мучителями и подлинными коммунистами. Прошу прощения за пафос этих слов, но именно об этом Юрий Герман и писал в своей трилогии.
Так вот, для сорокалетнего Алексея Германа все это стало чужим. Возможно, в юности он и верил в эти идеалы, особенно не задумываясь о том, что происходит за стенами его квартиры. Возможно, оправдывая вторжение советских войск в Чехословакию, он еще какую-то долю веры сохранял. Но через несколько лет все изменилось под влиянием событий. Во-первых, Алексей Юрьевич женился, но я уже писал, что ему досталась жена, весьма недовольная некоторыми действиями советской власти. В сущности, тут не на кого пенять, он же сам такую выбрал, поскольку решил, что главное в супружеских отношениях – любовь. Кто-то может сказать: «Какие пустяки! Да мало ли антагонистов можно встретить под одной семейной крышей». Однако я уже приводил красноречивый пример в книге «Дом Маргариты»: известный в свое время диссидент Валерий Тарсис не выдержал «общежития» с прокоммунистически настроенной женой и драпанул от нее прямо за границу. Вот даже до чего доходит! Еще вспоминается Елена Боннэр, преданная супруга и надежная советчица для Андрея Сахарова. Нет, не могу себе представить, как могут жить под одной крышей, проводя многие часы в бесконечных спорах, два близких человека.
И все же я готов согласиться, что это в какой-то мере пустяки, только в сравнении с более важным обстоятельством. На мой взгляд, основная причина в том, что у Алексея Германа при советской власти одну за другой закрывали все его картины, не считая ранних, где он работал сорежиссером и не имел возможности самостоятельно творить. Исключение составил только фильм «Двадцать дней без войны», да и то благодаря вмешательству Константина Симонова. А сколько пришлось услышать обидных слов, сколько перенес Герман унижений! Так можно ли было после этого в своих кинокартинах славить честных коммунистов? Да и где их взять? Ну разве что вспомнить все о том же Симонове.
А вот и еще один существенный момент:
«Вообще меня увольняли три раза и не брали на работу обратно. Сообщили, что я уволен, и все. А потом запускали с чем-то другим, потому что каждый раз находились какие-то люди, которые за меня заступались. А третий раз после «Лапшина» уже не было никаких людей, которые бы за меня заступились, все исчезли. Только один человек позвонил в мой день рождения, а у меня всегда собиралось по 30–40 человек. Вот это было тяжело».Можно понять общительного человека, которого осмелились лишить общения. Любой бы на его месте не только бы загрустил, а запил горькую, если бы здоровье позволяло. И все же версия, что всему виной обида, не совсем верна, поскольку не имеет отношения к первому фильму Германа. Никто не мог в то время знать, какая этому фильму предстоит судьба. Тогда единственное объяснение – обиды и унижения, пережитые в детстве. Отсюда и такое сострадание к тем мученикам войны, которые попали в фашистский плен, а позже отбывали срок в ГУЛАГе. Все для Алексея Германа стало меняться к лучшему только после смерти Брежнева. Многие тогда рассчитывали на перемены, хотя до реальных изменений было еще далеко.
«Первый, к кому я обратился, – когда мне уже нечего было терять, меня уже отовсюду турнули, – был Андропов. Мы со Светкой написали письмо и, не имея никаких верховных связей, просто сунули в окошечко ЦК КПСС. Каким образом это письмо прошло – вот фокус! Потому что, очевидно, подбирают те письма, которые нужны тирану в данный момент… Мы, правда, не писали только о «Лапшине», мы писали о положении в искусстве. Считается, что я дитя перестройки. Так нет, «Лапшина» выпустил Андропов».
Кстати, некоторые исследователи сомневаются: а было ли письмо Андропову и неужели оно дошло до адресата, вроде бы такого не бывает? Как бы в доказательство правоты своего рассказа Алексей Герман вспоминал о том, что письмо в Москву привез Александр Червинский, передал его отчиму Светланы Кармалиты, Александру Борщаговскому, и уже тот опустил письмо в почтовый ящик в КГБ. Читал ли это послание Андропов, боюсь, никто не сможет подтвердить.
Тут поневоле напрашивается аналогия с Булгаковым. Тот тоже посылал письма и Сталину, и в правительство – писем было не менее пяти. Но только один раз повезло – это когда по указанию вождя возобновили спектакль «Дни Турбиных» и помогли устроиться в театр режиссером. Вот и Алексею Герману удача наконец-то улыбнулась. Все дело в том, что время было сложное, переломное, и даже «тиран», бывший председатель КГБ, хотел выглядеть в глазах народа благодетелем. Сняли Филиппа Тимофеевича Ермаша, бессменного начальника советского кино, посадили на его место Армена Николаевича Медведева, и вагончик потихоньку сдвинулся. Было дано указание сделать несколько десятков копий «Лапшина». Тридцать из них были изготовлены по заказу КГБ и только остальные семь предназначены для широкого показа. Однако и это уже было хорошо. Фильм имел бешеный успех у тех зрителей, которым удавалось проникнуть в Дом кино или иные аналогичные заведения для избранных. Поклонников Германа можно тут понять – запретный плод, он очень сладок.
С началом перестройки многое изменилось и в жизни Алексея Юрьевича. Худо ли бедно, но фильмы его в кинотеатрах шли, им даже присудили премии. А началось все как-то днем в одном из кабинетов здания на Старой площади:
«Меня вдруг вызвал Яковлев и говорит: «Вы можете объяснить, за что были положены на полку «Лапшин» и «Проверка на дорогах»?» Я зарыдал.
Сказал: «Ну как вам не стыдно? Вы испортили мне полжизни, меня выгоняли, на меня орали, у меня мама была вся в экземе, когда сказали, что прокуратура должна мной заниматься, а теперь вы меня спрашиваете».Реакция режиссера была настолько впечатляющая, что идеолог перестройки враз понял бестактность своего вопроса, а потому больше не настаивал на объяснениях. Да и кому они нужны? Нужно было снять трубку и дать указание достать с полки эти фильмы, что и было сделано. А дальше «процесс пошел» словно бы сам собой. На Руси и прежде почитали мучеников – естественно, после смены власти.
«Меня-то стали выпускать, как подсадную утку перестройки. В те времена все картины как раз и выпустили, дали Государственную премию. И я был у них рупором перестройки».
Рупор не рупор, однако после этого хотя бы появились робкие надежды на то, что жизнь может измениться к лучшему. Замечу, что премий было три – две Герману, а еще одну дали Светлане Кармалите как соавтору сценария одного из фильмов.
Все эти реверансы власти, вроде бы перемены к лучшему были вполне объяснимы – новые руководители страны старались обеспечить себе поддержку в среде интеллигенции. К слову сказать, и Кире Муратовой тогда же повезло:
«Для меня государственная опека была смертельна, когда мне не давали снимать. Потом она стала для меня очень приятна, когда случилась перестройка, и я вошла в моду. Госкино давало мне деньги на кино, все разрешало и посылало на все фестивали».Да кто же станет возражать против опеки, особенно если она столь приятна?
Глава 13. «Опущенный» генерал
Словно бы желая отблагодарить новую власть за оказанные почести, Герман решает сделать фильм о страшных временах сталинского режима. На этом фоне и Горбачев, и иже с ним смотрелись бы едва ли не героями. Сценарий писали всей семьей:
«Я лежу на диване, Светлана сидит за машинкой, я диктую, а Светлана спиной изображает недоумение, неуважение или что-нибудь еще. Начинается скандал. В результате текст переписывается два-три раза, пока не устроит нас обоих. Хотя один раз я этих ужимок не выдержал, и сценарий полетел в печку. Я думаю, что поодиночке мы бы не смогли работать».
В принципе, совсем неплохо иметь домашнего редактора и критика, а заодно и машинистку. Особенно комфортно творить тандемом, если мировосприятие и идеологические установки у супругов совпадают. Конечно, я не пытаюсь сравнивать это семейное содружество с тем, как работали Ильф с Петровым или Борис с Аркадием Стругацким. Там недюжинный литературный дар, ну а здесь требуется всего лишь написать сценарий – это же не повесть, не роман.
Все бы ничего, но экономика в начале 90-х была в состоянии нокдауна, а потому возникли проблемы с финансированием:
«На «Хрусталева» французы дали полтора миллиона долларов. Русские обязались дать такую же сумму. А получилось как всегда: французы дали, русские – подвели… Не забывайте, какая в те времена была инфляция. Мы на год останавливались. Пока ничего не делали, расценки выросли в сто раз. Это не гипербола, а бухгалтерская статистика. Бюджет сокращался, как шагреневая кожа. Значит, надо было отказываться от всего, что было заложено в сценарии, резко его обрезать, сжимать, укорачивать… Французы – народ скупой. Полтора миллиона долларов просто так на ветер не бросают. Посол Франции написал в МИД, Собчаку, – и нам понемножку, пайками стали подкидывать… Поэтому мы столько проковырялись с картиной».Хвала французам и даже Собчаку, но все-таки жаль, что не нашлось заботливого спонсора среди новоявленных миллионеров. Видимо, в годы безудержного накопления капиталов им было совсем не до того.
Есть и другая причина затягивания съемок фильма, что называется, на выбор – кому что понравится:
«Я стал придумывать другой способ съемки фильмов… Мне кино к тому времени перестало быть интересно. Интересно было только одно: оказаться внутри мира, который я снимаю, вместо того чтобы рассматривать его справа и слева. Поэтому я стал работать так подолгу».Честно говоря, с трудом себе представляю, как можно оказаться внутри во время изнасилования генерала – это ключевая сцена всей картины. Я здесь не ерничаю, а лишь пытаюсь что-нибудь понять. Вот лично для меня, кого бы, где бы ни насиловали – это ужас! А если уж насилуют меня…
Жена, Светлана Кармалита, вначале встретила сцену изнасилования в штыки:
«Я про эту сцену молчал, пока она не села за стол. Но сразу сказал: «Если ты скажешь, что эта сцена не должна быть, мы с тобой разведемся». Потом Светлана ушла, долго ходила и сказала, что это замечательно».Ну, если альтернативой становится развод, тут ничего по большому счету не поделаешь – придется соглашаться, даже если взгляды на художественное творчество не совпадают, даже если видеть весь этот ужас на экране совсем невмоготу. Скорее всего, Светлана Игоревна поняла, что для любимого мужа сцена изнасилования в фильме если и не является потребностью души, то уж наверняка остается чуть ли не единственной возможностью избавиться от неких навязчивых кошмаров, вестников из прошлого.
Кстати, Алексей Юрьевич утверждал, что эту сцену вовсе не придумал, как могло бы показаться; о схожем случае с одним из пациентов ему рассказал будто бы знакомый врач. Пациент тот, конечно, умер, ну а фильм «Хрусталев, машину!» в 1998 году вышел на экраны.
В своих интервью Герман по-разному объяснял причины создания этой киноленты. Вообще-то художник иногда и сам не знает – почему? Почему решил написать вот именно этот портрет или же снять именно этот фильм. Все просто, когда делается ради денег, ради почестей, ради наград на кинофестивалях. Когда же мысли о другом, трудно разобраться, в чем побудительный мотив, даже самому себе это объяснить бывает невозможно. Вот и Алексей Герман вроде бы не все понял до конца:
«А с «Хрусталевым» было так. У меня ощущение, что я вот-вот умру… Ну, я подумал – вот, я помру, и все это уйдет… И, главное, уйдет эпоха, про которую совсем люди не знают. Ну, знают, как жили, скажем, инженеры, но не как жила вся эта высокопоставленная знать… А крути не крути, папа мой в 30-х годах со Сталиным водку пил ночами, в этих самых пирах участвовал… И все это так сплетено в картине… Что-то останется…»На мой взгляд, не слишком убедительная причина. Зачем нам россказни про всю эту партноменклатурную знать, неужто только ради этого картина и снималась? Не знаю, как тот генерал, однако многие пострадавшие от рук вождя народов сами успели поучаствовать в расправах. На мой взгляд, наиболее выразительный образ того времени создал Михаил Булгаков в главе «Великий бал у сатаны» романа «Мастер и Маргарита». Так ведь не каждому по силам написать что-то сравнимое с этим удивительным романом.
Но вот другое объяснение, почему Герман стал снимать именно этот фильм, а не какой-нибудь другой, например, о том, что происходило гораздо позже, в правление Хрущева:
«Папа – практически главный герой фильма «Хрусталев, машину!». Он не был генералом медицинской службы, но я писал свою семью, в которой жили еще две еврейские девочки. Муж маминой сестры угодил на север в лагеря, жена за ним уехала, а Веру и Лену оставили здесь. Всю первую половину я делал как мою семейную жизнь, а дальше пошли фантазии: папу никто не сажал, я его не предавал».Да, Юрию Герману в чем-то повезло, однако постоянное ожидание ареста не могло пройти бесследно ни для него, ни для семьи. Можно предположить, что юный Алексей очень за отца переживал, хотя никому не признавался в этом. А в этом фильме все накопившиеся страхи вдруг выползли разом на поверхность.
И в дополнение к этому фрагмент из другого интервью:
«В «Хрусталеве» я решил представить, что было бы со мной, если бы папу посадили, а нас с мамой переселили бы в коммуналку. Это фантазия, сон, наш ужас. В этом страшном сне мы были достаточно беспощадны к самим себе, и к любимой моей матушке, и к бабушке».Должен признать, что «беспощадность к любимой матушке» – это потрясает! Я не пытаюсь здесь иронизировать, тем более что во время съемок мать, Татьяна Александровна, скончалась. Можно с уверенностью утверждать, что тень этого печального события легла на весь фильм. Вроде бы и не стоит теперь объяснять, почему Герман снял такую страшную картину, и все-таки продолжим.
Напомню, что тема личных переживаний, воспоминаний о детстве, о родителях присутствует в творчестве многих режиссеров, сценаристов и писателей. Что уж говорить, если сценарий «Хрусталева» Герман писал сам, как я уже упоминал, вместе со своей женой. Однако нельзя же киномемуары, фильм о своей семье создавать, хотя бы и отчасти, за счет бюджета государства, когда обыкновенным людям жить попросту не на что. Поэтому было и третье объяснение:
«Хрусталева» я делал, чтобы объяснить себе и остальным психологию опущенной, изнасилованной страны. Почему это произошло и как с этим жить?»Вот это уже достаточно серьезно. Однако непонятно, почему символом «изнасилованной страны» стало изнасилование генерала? Неужели не нашлось кого-нибудь попроще? Сомнение вызывает и время, когда режиссер решил нас просветить. Для подавляющего большинства жизнь в России была очень нелегка в лихие 90-е. Кто-то жировал, кто-то беспредельничал, но режиссер снял картину не об этом, а почему-то о беспределе в сталинские времена. Как будто тем, кто месяцами не имел зарплаты, кто жил впроголодь, станет куда легче, если им скажут, и докажут, и в подробностях покажут, что все это пустяки, вот вы посмотрите, что творилось при ужасном Сталине!
Возможно, снял бы Герман и фильм с более актуальным содержанием, однако где же взять такой сценарий? Почему-то ни он, ни Светлана Кармалита о лихих этих 90-х так и не решились написать. Неужели ничего не знали, не догадывались? К слову сказать, были в то время писатели, которые пытались писать на злобу дня. Однако созданные ими образы таковы, что их реализация на экране могла вызвать все что угодно – шок, отвращение, тошноту, – но так и не смогла бы ничего нам объяснить и подсказать, почему все так и что же нужно делать.
Вот и отец Алексея Германа вовремя вроде бы не смог понять, что собой представлял товарищ Сталин… Скорее всего, причина тут одна: каждый человек по мере сил пытается приспособиться к той жизни, на которую по каким-то причинам обречен. Понять, кто в этом виноват, довольно трудно, тут требуется время, однако надо как-то жить, кормить семью, надо обеспечить детям безбедное существование. И если представилась уникальная возможность, надо уметь в любом времени устроиться так, чтобы не было обидно за бездарно прожитые годы… Ну, дальше вы и сами знаете.
Однако я, пожалуй, здесь не прав – дело, как выясняется, отнюдь не в конформизме или в неспособности сделать фильм о нашей жизни. Оказывается, причина куда как проще:
«Меня часто спрашивают: «Что вы не занимаетесь современностью?» Но мне не интересны ни бандиты, ни воры, ни те несчастные и ущербные люди, которые пострадали от них».Трудно в это поверить. Неужели мир, в котором мы живем, просто-напросто ему не интересен? И все-таки без некоторой доли лукавства здесь не обошлось. На самом деле этот мир Алексею Герману совсем не безразличен, однако он был не в состоянии понять, почему так все устроено, и потому пытался отыскать ответ в далеком прошлом: «Хрусталев, машину!» – обо всех нас: почему у нас ничего не получается и долго не будет получаться. Почему? Потому что нас вывихнуло, и вывихнуло не только тогда, в пятьдесят третьем, но и сейчас. Почему для России, перед которой раскрылись демократические просторы, огромные перспективы, все кончилось воровством гигантских масштабов, и что-то непонятно болезненное до сих пор сидит в нас с незапамятных годов и веков? Я не знаю».
Здесь налицо попытка режиссера связать прошлое время с тем, что происходило на его глазах. Однако связь эта слишком эфемерна и надуманна. А все потому, что между Сталиным и Горбачевым, а потом и Ельциным, не хватает самого важного звена. Алчность и лицемерие пышным цветом расцвели именно в эпоху Брежнева, в так называемый «застой», когда в тихом омуте делались темные дела, а будущие идеологи и олигархи готовились к тому, чтобы разорить страну. Так что извините, но как-то не срастается. Можно сколько угодно обличать товарища Сталина и его соратников, но это как заезженная пластинка – все что-то воет об одном, а нам от этого не холодно, не жарко. Причины наших неудач совсем в другом.
Немудрено, что на кинофестивале в Каннах этот фильм не поняли. Мало сказать – не поняли, еще и освистали. Зрители хлопали откидными сиденьями, покидая зал, а критики камня на камне от фильма не оставили, потрясенные его мрачной атмосферой. Это был провал! Во всяком случае, все тогда это сознавали и даже смогли бы популярно объяснить, почему с таким творением нельзя появляться ни в Венеции, ни в Каннах.
И вдруг все внезапно изменилось. Что там у них произошло, остается лишь гадать. То ли разруха виновата в головах, то ли наш дефолт подействовал, и картину из России пожалеть решили. Или же, наконец, нашелся тот богатый спонсор, который все всем объяснил. Я тут припомнил богатого дядюшку Германа из Соединенных Штатов… Впрочем, картину финансировали в основном французы.
Но все эти предположения как бы между прочим. На самом деле критикам потребовалось время, чтобы все обмозговать и отыскать смысл в этой необычной киноленте. И вот дошло даже до того, что знаменитый журнал Les cahiers du cinema включил эту кинокартину в список 50 лучших фильмов за последние полвека. Что тут скажешь, чудеса, и только! Неужели европейцы такие тугодумы?
В России же к картине было иное отношение. Несмотря на то что Владимир Путин наградил своего земляка президентской премией, в прессе самый мягкий отзыв о фильме был таков: эта гора родила мышь. Кто-то объяснял неудачу тем, что изнасилование генерала на экране есть не что иное, как изнасилование зрителя, «от которого требуют идентификации, требуют превратить визуальный ужас в собственный внутренний опыт». Кто-то настаивал, что для понимания картины нужны другие законы восприятия, иная система ценностей. Может быть, и так…
Я не берусь судить о художественных достоинствах этого фильма Алексея Германа. В конце концов, если отмечен премиями, какой смысл теперь на эту тему рассуждать? Но вот какой возникает у меня вопрос. Зачем столь натуралистически показывать ужасы сталинской эпохи? Возможно, Герман пытался показать глубину падения человека, переступившего ту грань, которая отделяет мыслящего индивида от омерзительного зверя. Но дело в том, что дна у этой пропасти не было и нет. И вот представим себе, что началось соревнование – кто более отвратительную сцену покажет на экране. Можно понять в этом смысле создателей американского кино – но там во главу угла поставлен коммерческий успех. Здесь вроде бы об этом речи не было…
Да, жизнь под пятой НКВД для многих превратилась в кошмар. Одна знакомая рассказывала мне, что в детстве пряталась под кроватью, если в их коммунальную квартиру приходили люди в темных плащах и в галифе. А началось все после того, как арестовали их соседа-еврея. Потом были обыски, допросы, даже устроили засаду в его комнате… Могу представить, как тяжело пережить такое в раннем детстве. А уж самим репрессированным как досталось! Однако тайная полиция, карательные органы даже в цивилизованной стране нередко действуют вопреки закону – достаточно вспомнить пытки заключенных в Абу-Грейбе, в Гуантанамо или в секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Естественно, это не оправдывает сталинский режим, однако хотелось бы разобраться не в очевидных проявлениях его, как в этом фильме, а в причинах. Хотя чувство страха и омерзения после просмотра такого фильма может вытеснить желание понять, почему все так произошло.
Уместно в связи с этим привести слова Сокурова:
«Два года назад, когда мне вручали в Венеции премию имени Робера Брессона, я обратился к руководителям международных кинофестивалей класса «А» – Каннского, Венецианского, Берлинского: прекратите поддерживать кино, где существует насилие! Не допускайте фильмы с такими сценами ни в конкурсные, ни в параллельные программы фестивалей! Вы думаете, хоть какая-то реакция была? Никакой. А ведь там собралось огромное количество всяких представительных людей, церемония была очень акцентированная, пафосная. И – никакой реакции на мой призыв! И это в демократической среде, где мыслят в категориях общечеловеческих ценностей!»Конечно, Александр Сокуров имел в виду другие фильмы – грязным потоком они изливаются на наш экран из Голливуда. И не хотелось бы верить, что создатель «Хрусталева» попал в эту самую струю. В конце концов, любую гадость можно оправдать желанием показать нам правду жизни. Только ведь нас уже ничем не удивить. Чего только за последние годы мы не насмотрелись!
Впрочем, снять фильм, речь идет о «Хрусталеве», – это лишь полдела. Надо еще найти деньги на тиражирование копий, иначе зритель так и не узнает никогда о том, зачем снимался этот фильм. Тут, как ни странно, повезло:
«Нашелся некий богатый человек. Он приехал, передал нам из рук в руки пачку денег и запретил себя упоминать. На эти деньги мы напечатали во Франции несколько копий».Кажется, звали этого благодетеля Сергей, но более точных сведений история не сохранила. А мне почему-то вспомнился аналогичный случай, имевший место в начале тех же 90-х годов. Как-то на встрече кинематографистов с представителями бизнеса возник разговор о том, что кинорежиссер Элем Климов мечтает экранизировать роман Булгакова «Мастер и Маргарита», но не имеет средств реализовать свой замысел. Тогда некий крупный бизнесмен прямо заявил: «Я дам денег Климову!» Рассказывают, что после этих слов зал завистливо охнул, однако в наступившей тишине раздался голос режиссера: «Хотелось бы еще знать, откуда эти деньги!»
Могу предположить, что, отвергая щедрый дар, известный кинорежиссер исходил из того, что, как ни отмывай их, деньги все же пахнут. Тут трудно кого-то в чем-то упрекнуть. Один человек менее щепетилен, а для другого такое подаяние совершенно неприемлемо. Вот взял бы Климов эти деньги – глядишь, и получился бы наконец-то фильм, достойный закатного романа, ну а теперь нам остается лишь гадать. Пожалуй, немного успокаивает слабая надежда на то, что к концу 90-х, когда Герман взял те деньги, их запах понемногу улетучился. Но оказалось, не совсем: как выяснилось позже, копии, изготовленные на деньги благодетеля, были выполнены с техническим браком – это в основном касалось звука.
И все же, стоило ли снимать этот фильм, если его создание было сопряжено с такими трудностями? Этот вопрос задавал себе и Алексей Герман:
«Уже был Горбачев, свобода, демократия, перестройка. Зачем нам снимать эту историю? Ведь можно все говорить своими словами. И надо от всего от этого отказаться и заниматься чем-нибудь другим».Однако чем еще можно было бы заняться, чему стоит посвятить оставшуюся жизнь? Мог ли Алексей Герман снять, к примеру, мелодраму о возвышенной любви или фильм о переживаниях бизнесмена-неудачника? Такое я не в состоянии представить, поскольку всеми чувствами и мыслями он был там, в 30-х и 40-х годах, когда многие тысячи людей пострадали от сталинских репрессий. Сам Герман в те времена ничего не знал или не понимал – в общем, ему было не до этого. А вот теперь словно бы надел черные очки и смотрел на прошлое только через них. Однако далеко не всем такие откровения, подобные «ужастики» были по душе. Сам режиссер рассказывал об одном случае из своего детства: «Мои военные воспоминания, которые, прежде всего, связаны с Полярным, где мы жили в войну (мой папа был спецкором на Севере)… Привезли как-то в Полярный спектакль про подводников. И вдруг все подводники в зале встали и ушли. Папа поймал кого-то из своих друзей: «Что такое? Спектакль же хороший». – «Может быть, – отвечал тот, – но я лежал на дне моря, задыхался, еле выбрался, пришел в Полярный, пошел с девушкой культурно отдохнуть и что – я должен смотреть, как я на дне лежал и задыхался? Зачем?!»
И возникает вопрос: для кого предназначен фильм «Хрусталев, машину!»? Вряд ли те, кто пострадал при Сталине, будут в восторге от натуралистических сцен, вряд ли будут с упоением вспоминать, как все это было. Да и потомкам жертв режима нужно ли сыпать соль на раны? Никто из них не сможет этого забыть, однако образ «опущенного» генерала способен преследовать и во сне, и наяву, словно оживший призрак, незваный гость, явившийся в наш дом, чтобы твердить о том, что мы и без того прекрасно знаем.
Тут самое время упомянуть характерное признание кинорежиссера Киры Муратовой:
«Мне это многие говорили после «Астенического синдрома»: «Вы меня так замучили, в моей жизни и так все плохо, а вы меня еще тыкаете носом в это плохое». Ну может быть, но мне хотелось сказать правду».На мой взгляд, и это ничего не объясняет. Понятно, что художник хочет говорить о том, что его особенно волнует. Написал же Гойя свои «Капричос», так ведь ужасы инквизиции не одному ему, а очень многим внушали страх и отвращение. В том и состоит обязанность художника – рассказать по-своему, образным языком о самых актуальных проблемах нашей жизни. Если же все сводится к тому, что волнует его одного, да еще узкий круг его поклонников, то стоит ли удивляться результату? А результат один – обида, потому что, увы, опять не приняли, не оценили.
Можно предположить, что Алексей Герман, поставив этот фильм, пытался избавиться от кошмара «опущенного» генерала, как бы переложив эти переживания на беспомощного зрителя. В жизни любого человека могут случиться страшные события, но каждый избавляется от их влияния по-своему. У кинорежиссера, живописца, композитора или писателя имеется свой метод, о котором я уже сказал. Похоже, этой методе следует и кинорежиссер Муратова:
«Однажды я случайно попала на живодерню, и мне открылась эта кровавая бездна, и с тех пор она со мной… Наверное, у меня тогда существовала какая-то подспудная вера, что если я сниму живодерню, проберусь туда с большим трудом, покажу эти кровавые дела, то я выполню свой долг. Может быть, сама излечусь, что меня преследуют эти мысли, а может, и живодерни начнут понемногу исчезать. Ничего не исчезло и не исчезает».Ну, если не исчезло, можно еще раз попытаться. И так за разом раз, пока и следа от этого кошмара не останется. Это если повезет… Однако в том, что касается «Хрусталева», у меня нашлось иное объяснение. Возможно, я не прав, но мне почему-то кажется, что своими фильмами Алексей Герман как бы замаливал «грехи» отца, дезавуировал его «сотрудничество» со сталинским режимом, оправдывал его слабость, малодушие – именно так он воспринимал некоторые поступки своего отца. И специально показывал, как все это было ужасно в СССР при Сталине – ну разве в силах противостоять этому кошмару даже такой благородный человек, как его отец? Впрочем, отцу была посвящена предыдущая глава, а здесь постараюсь сосредоточиться на сыне.
Один из признанных ценителей кино, Даниил Дондурей, так писал об Алексее Германе:
«Среди множества талантов у Алексея Германа есть уникальный дар – он бесконечный очиститель советского сознания. Это художник, способный снимать всю шелуху с советских мифов – исторических, человеческих. Избавляться от всевозможных фальшаков, пафоса… Он каким-то генетическим кодом мог очищать советские сказки и архетипы от бесконечных заносов».Вообще-то, когда нечего сказать по существу, обычно либо молчат, либо ткут словесные кружева со всеми этими «кодами», «бесконечными очистителями» и «заносами». Увы, к делу это не имеет никакого отношения. Если говорить о фильмах Германа, то, прежде всего, это художественные произведения, в которых вполне допустимы и преувеличения, и вымысел – и все ради основной цели, которую поставил перед собой кинорежиссер. Так что оценивать, насколько успешно боролся Алексей Юрьевич с советскими мифами, я бы предпочел, анализируя его высказывания разных лет. Ну вот, например, такое, посвященное взаимоотношениям Сталина с женой: «Я тут должен сказать, что мы с Кармалитой написали очень жесткую статью по этому поводу в «Известия», и «Известия» молодцы, они ее напечатали. Мы обращались к Аллилуевой, которая сказала: «Ну, вот мама застрелилась. Может, так оно и нужно». И мы начали статью, что «да, ваша мама застрелилась. Ей так захотелось. Это трагедия, это жалко очень, но давайте поговорим о тех сорока пяти миллионах, которые не хотели стреляться, а которых расстреливали, клали на края канализационного люка, палили в затылок…»
Действительно, в период сталинских репрессий в лагерях от голода и болезней, в застенках у расстрельной стены погибли сотни тысяч людей, а может быть, и миллионы – на этот счет есть разные мнения историков, нередко их данные различаются в десятки раз. Однако, если верить Алексею Герману, была расстреляна чуть ли не треть населения страны! Как же так случилось, что никто потери не заметил? А если добавить тех, кто закончил свою жизнь в ГУЛАГе, да еще десятки миллионов жертв Великой Отечественной войны, то остается удивляться самому факту существования России – нас с вами просто не должно быть! Увы, следует признать, что подобными преувеличениями, когда вместо одного мифа создают другой, очистить сознание еще никому не удавалось.
Глава 14. Последняя попытка
Последним фильмом Алексея Германа стала новая попытка экранизации романа братьев Стругацких «Трудно быть богом». За несколько лет до этого уже был поставлен такой фильм. Такой, да не такой, поскольку тот фильм был снят еще в советское время. В конце же 90-х Алексей Юрьевич получил возможность показать если не скрытый смысл романа, который большинству зрителей и так понятен, то акцентировать внимание на том, что его бесконечно волновало. Вот как он пересказывал сюжет:
«На некоей планете жило-было страшное государство. Ужасное, противное. Где серость привычно глумилась над разумом, и казалось, что так будет до скончания века. А оказалось, что это вовсе не конец света, потому что из-за гор пришел Черный Орден – и вот тут-то начался конец света. Главный герой дон Румата – ученый, прилетевший из нашего земного «светлого будущего». Ему ни в коем случае нельзя вмешиваться в ход событий, чтобы не испортить чистоту эксперимента. Позволено лишь бесстрастно наблюдать за эволюцией. Однако, видя, как гибнут лучшие из лучших, Румата не смог удержаться и стал тем, кого все боятся, кому из страха подчиняются».
А между тем роман Аркадия и Бориса Стругацких замышлялся как «веселый, чисто приключенческий, мушкетерский». В конце 1962 года братья вели между собой активную переписку по этой теме.
Вот что Аркадий сообщал из Москвы в Ленинград Борису:
«Это можно написать весело и интересно, как «Три мушкетера», только со средневековой мочой и грязью, как там пахли женщины, и в вине была масса дохлых мух. А подспудно провести идею, как коммунист, оказавшийся в этой среде, медленно, но верно обращается в мещанина, хотя для читателя он остается милым и добрым малым».Борис, в чем-то соглашаясь с Аркадием, излагал свою позицию: «А мне хотелось создать повесть об абстрактном благородстве, чести и радости, как у Дюма. И не смей мне противоречить. Хоть одну-то повесть без современных проблем в голом виде. На коленях прошу, мерзавец! Шпаг мне, шпаг! Кардиналов! Портовых кабаков!»
В сущности, замыслы обоих авторов совпадали, за исключением некоторых «подспудных» частностей. В итоге им удалось друг друга убедить, прийти к взаимному согласию. Однако после выхода романа в 1964 году Стругацким досталось по первое число. Какой-то академик обвинил их в абстракционизме и сюрреализме, а некий коллега по фантастическому цеху – в порнографии. И тем не менее роман за прошедшие годы был издан огромным тиражом во многих странах мира. Похоже, нравился он всем, за редким исключением. Вот так Борис Стругацкий объяснял популярность этого произведения: «Одни читатели находили в нем мушкетерские приключения, другие – крутую фантастику. Тинейджерам нравился острый сюжет, интеллигенции – диссидентские идеи и антитоталитарные выпады».
Напомню, что по роману однажды, в 1989 году, уже сняли фильм – это была картина Петера Фляйшнера с немецкими и советскими актерами. Впрочем, картина Фляйшнера тут явно ни при чем. Но прежде, чем рассказать о работе Алексея Германа, приведу цитату из интервью Александра Сокурова по поводу экранизации классики: «Я считаю, что вообще не надо экранизировать, потому что литература – самодостаточное искусство. То, что создается в литературе – высота, глубина, «вертикальное мышление», – никогда не будет доступно кинематографу. Кино в лучшем случае может попытаться что-то проиллюстрировать, воспроизвести слово в слово, например. Что касается фантастики Стругацких, то она отличается практически от всех других произведений этого жанра, потому что в ней почти не присутствует, как мне кажется, то, что называется «душевным началом». И потому ее очень просто экранизировать. В отличие, например, от произведений Станислава Лема: он – писатель с сильным душевным началом, и поэтому связь между книгами и фильмами очень сильная. Стругацкие – более формальные, более философичные, они представляют совершенно другую культуру. Их фантастика вызвана глубочайшим неприятием и раздражением сущностью советского строя. Именно поэтому у них возникали мощнейшие фантастические идеи».
Можно согласиться с тем, что многое из того, что доступно литературе, никогда не будет реализовано в кино. Правда, бывают исключения – это, например, замечательный фильм Андрея Кончаловского «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова или «Идиот» Ивана Пырьева по роману Федора Достоевского. А вот все попытки экранизации романа «Мастер и Маргарита» оказались явно неудачными. Видимо, бывают задачи неподъемные – тут многое зависит от мастерства и вдохновения художника. Однако есть, на мой взгляд, одно неоспоримое требование к режиссеру, который берется экранизировать роман. Можно убирать некоторые сюжетные линии, можно сокращать и немного изменять текст, однако нельзя приписывать авторам исходного произведения идеи, которых у них не было.
Так вот, повторюсь, читатели Стругацких сюжет романа знают хорошо. Знают они и то, что это в основном чисто приключенческий роман, а содержащиеся в нем антитоталитарные идеи при желании можно было бы не замечать. Однако они есть, и благодаря им роман Стругацких особенно привлекателен для публики.
И все же Алексей Герман ставил перед собой более конкретную, а потому и более сложную задачу, какую Стругацкие даже не надеялись реализовать полсотни лет назад:
«Это самая современная картина из тех, которые я снимаю. Это будет наш земной сюжет, как мы пытались построить демократию в стране, которая этому не поддается. А там мир этому не поддается. Нужны десятки и сотни лет. Я их не вижу. В России было несколько лет отсутствия рабства. И когда вдруг с людей сняли колодки, они взялись одни воровать, а другие бедовать».На отсутствии рабства я бы не стал очень уж настаивать. Особенно если речь, как я предполагаю, идет о 90-х годах. Когда не хватает самого необходимого для жизни, когда инфляция в тысячу процентов – ну разве это не рабство? Возможно, Алексей Герман имел в виду совсем другое время – то ли после ликвидации черты оседлости, то ли после отмены крепостничества? В любом случае заявление типа «мы не рабы» вызвало бы у меня в 90-е годы по меньшей мере удивление. Примерно такое же, какое сейчас вызывают разговоры о свободной прессе, о независимом судопроизводстве, не говоря уже о достижениях в борьбе с коррупцией.
Но приведу еще одно заявление кинорежиссера:
«В моем новом фильме есть одна фраза, которая должна вбиться в голову каждому человеку: там, где торжествует серость, к власти приходят черные».Пожалуй, я и здесь не соглашусь. Черные приходят к власти на волне экономического кризиса. Так было в Германии при Гинденбурге, а позже в некоторых латиноамериканских странах. В Италии накануне прихода Муссолини я бы тоже не заметил серости. Хотя при желании «серыми» можно было бы назвать очень многих из политиков и бизнесменов, если бы этим все определялось. Так что тут требуется дополнительное разъяснение. Режиссер его и дает, однако это больше напоминает то ли предсказание, то ли предупреждение лично президенту Путину, хотя формально эти слова относятся к Румате, главному герою фильма: «Будет терпеть долго-долго, потом озлится, поймет, что ничего из этих реформ в России не получится, потому что одни воры кругом, и тогда начнется… вторая половина моей картины. Ничего сделать нельзя… Если говорить о политике, этот фильм – предостережение. Всем. И нам тоже».
А ведь хорошо, что Алексей Герман так сказал! Что, если после этого предостережения, и в самом деле, что-то сдвинется, а там, глядишь, и покончат с воровством? Хотя, с другой стороны, подобные предсказания вряд ли смогут кого-то в чем-то убедить. Даже после просмотра кинофильма.
И вот уже совсем конкретное заявление кинорежиссера, чуть ли не с указанием календарных дат:
«Трудно быть богом» – это отчет о том, как я вместе со всеми проживал эти десять лет, как мы сами позвали серых и как они превратились в черных».Считаю необходимым уточнить, что народ, если правду говорить, никого не звал. Проголосовав в начале 90-х годов за Ельцина, доверившись ему, мы вовсе не хотели, чтобы реальную власть в стране захватили лживые и алчные. Это не результат провозглашения свободы, это ее неизбежные издержки, о чем нас тогда никто не предупредил. Серость же удобно устроилась во власти, потому что именно им демократы уступили место. Кто-то красиво ушел, обозвав «серых» агрессивно-послушным большинством и хлопнув дверью. Кто-то оказался не готов к борьбе, поскольку не обладал опытом управления даже свечным заводиком, не то что огромным государством, и уж тем более не имел навыка дворцовых интриг. Вот Анатолий Чубайс несколько лет назад признал, что молодые демократы, обсуждая в кабинетах проблемы государства, как оказалось, не знали своего народа – ни его желаний, ни возможностей. А ведь насильно осчастливить свой народ никому еще не удавалось, как ни стремились к этому большевики. В более поздние годы и Юрий Афанасьев разоткровенничался: по его словам, демократы начала 90-х были фактически ширмой, за которой грабили страну. Были это бандиты, пресловутые «серые» или просто ловкачи – не вижу большой разницы.
Надо признать, что в определенном смысле в начале 90-х все было очень просто, даже проще некуда. Тогда на всю Россию провозгласили лозунг: ВСЕ РАЗДАТЬ! Имелась в виду ликвидация госсобственности и передача экономики в руки частных лиц – всего, от театров и газет до крупных предприятий. Только досталось это все очень немногим – тем, кто имел полезные связи, кое-какой начальный капитал и кто не очень-то стеснял себя всякими там заповедями вроде «не убий, не укради». Теперь же миллионщики, неведомо как нажившие свой капитал, сидят в креслах госчиновников и радеют за интересы Родины. И вот поди пойми – он в самом деле желает блага государству или нагло врет? Судя по тому, что деньги из бюджета довольно часто как бы пропадают в неизвестности, при этом не минуя карманов некоторых важных лиц, второе предположение очень близко к истине.
Однако на время забудем о политике и обратимся к фильму. Первый его вариант, толком не озвученный, видели совсем немногие. Тем более ценно мнение тех, кто посмотрел. Впрочем, слова Петра Вайля не только о последнем фильме:
«Первый ли, четвертый раз смотришь, про Лапшина ли, Хрусталева или Румату, – неизбежно попадаешь в состояние некой завороженности, наваждения. Быть может, наваждение – самое подходящее слово для описания феномена Германа. Сновидческая природа кино вряд ли когда-нибудь проступала с такой отчаянной и наглядной выразительностью. В это погружаешься без остатка, что потом, по отрезвлении, кажется невероятным, когда на экране – обычные бытовые и исторические события: большая квартира, военная клиника, милиционеры, хоровое пение, провинциальный театр, черные машины на московских улицах, уголовники, полустанок. Никаких фантасмагорий».Кстати, и я хочу сказать о сновидениях. Бывает так, что реальность ужасает, но есть надежда, что вот уснешь и успокоишься, а утром отнесешься ко всему не так пессимистично, как накануне вечером. Однако в последних фильмах Германа показано то, что преследует именно во сне, поскольку, если бы это случилось наяву, нас просто не было бы, такое возникает ощущение. Разумеется, художник имеет право на преувеличение. Герман показывает страшный сон, не слишком далекий от реальности, но это все же сон, хотя бы потому, что мы это видим на экране.
Ну вот и Дмитрий Быков после просмотра фильма тоже пишет что-то о сновидческом:
«Это кошмары не натуралистические, а скорее сновидческие, клаустрофобные, из самых страшных догадок человека, привыкшего прикидывать эту средневековую судьбу на себя».«Не натуралистические» кошмары – что журналист имел в виду? Если речь о Змее Горыныче или о каком-то мерзком существе, засланном к нам с другой планеты, то Алексей Герман тут явно ни при чем. Кошмар у него – это скрупулезное воспроизведение самых отвратительных картин действительности – само собой, если они соответствуют сюжету и той сверхзадаче, которую режиссер поставил перед собой, снимая фильм.
Нужны ли человеку такие «страшные догадки» – это уже другой вопрос. Такая догадка может иной раз стать и предостережением. Последний фильм Германа я полностью не посмотрел, достаточно было и отрывков, на остальное просто не хватило сил. А вдруг решусь посмотреть фильм целиком и догадаюсь. Но о чем?
Про сны говорил и сам Алексей Юрьевич:
«Мне кажется, что кино – это искусство снов, оно вышло из снов… Кино – искусство снов, потому что только во сне мы видим что-то эротическое, погони, родителей и т. д. Мы просыпаемся, задыхаясь от слез, и не знаем, что делать».
Вообще-то сон – это совсем не то, что показывает нам на экране Герман. Он описал в приведенной фразе именно кошмар, ну а сон предназначен, на мой взгляд, для другого. Во сне мы неосознанно пытаемся избавиться от неприятных воспоминаний о прошедшем дне, распихивая их в дальние уголки своей памяти. Все это для того, чтобы утром проснуться, по возможности, свежим, отдохнувшим и способным пережить новые неприятности и неудачи. Кино, конечно, можно приравнять, в некотором смысле, и ко сну, но только если фильм воспринимается как материализованная мечта, как грезы, которые воплотились на экране в нечто восхитительное.
Понятно, что и «Хрусталев», и «Трудно быть богом» – это вовсе не мечта. Разве что кто-то мечтает о таком, показанном ему на экране ужасающем кошмаре, потому что привык жить только в нем, а другая жизнь его попросту пугает.
Тут кстати вспомнился отрывок из воспоминаний Михаила Германа, в котором он рассказывает о депрессии, изводившей его длительное время. После безуспешного блуждания по докторам, глотания лекарств в пугающих мое воображение количествах Михаил Юрьевич оказался на приеме у известного питерского психиатра Ефима Соломоновича Авербуха. И вот что тот ему сказал:
«Могу дать вам пилюльки, если хотите. А судьбу и характер я не лечу!»Возможно, это было написано на роду, запрограммировано где-нибудь в подкорке Алексея Германа – потребность снимать именно такие фильмы. Что же касается характера Алексея Юрьевича – тут не берусь судить. А близкая родня кинорежиссера или его немногие друзья по этому поводу так ничего и не сказали.
Но возвратимся к последнему творению Алексея Германа. Картина «Трудно быть богом» снималась и озвучивалась почти тринадцать лет! Причины затягивания этого процесса были разные – тут и отсутствие финансирования, и желание режиссера переснять какие-то сцены заново, и его болезнь. Но вот что рассказывала Светлана Игоревна Кармалита:
«Леша собирался снять картину за два года. Мы не потратили ни копейки государственных денег, хотя нас в этом часто обвиняли. И наступил момент, когда он застрял. Вот он приходит – репетирует, репетирует, репетирует – и не снимает. Главное, я знала, я чувствовала, почему. Потому что не сложилось: кино сложилось, а то, что он хочет, – нет… Не сложилось внутри его души… Между тем, что произошло во время репетиций на съемочной площадке, и командой «Мотор!» существует пропасть внутри него».Ну что поделаешь, у каждого кинорежиссера свой оригинальный метод. К примеру, Александр Сокуров несколько лет готовится, а снимает очень быстро. Что правильнее, я этого не знаю, однако догадываюсь, что и спонсоры, и актеры от метода Германа были не в восторге. Тут самое время рассказать о конфликтах кинорежиссера с членами съемочной группы. Вот о чем пишет в своих воспоминаниях Михаил Лемхин, который хорошо знал Алексея Германа: «Проверку на дорогах» снимал Герману оператор Яков Склянский. Склянский живет теперь в Лос-Анджелесе, но рассорились они с Германом еще до того, как Яша собрался уезжать. «Двадцать дней без войны» и «Лапшина» снял Валерий Федосов. Кажется, это был идеальный союз. Вот как Герман описывает их первый съемочный день: «Я сказал ему: «Валерий, я два года придумывал это кино, у меня уже все решено. А у тебя в голове никакого кино нет, есть только желание командовать. Если так, забирай свои вещи и расстанемся». «Хрусталева» снимать Герман решил с оператором Сергеем Юриздицким. Дело было в 91-м году, Юриздицкому был вручен сценарий… Последующие события восстановить трудно – Герман и Юриздицкий рассказывают сильно отличающиеся истории. Но факт – что они расстались, не сняв ни одного кадра. Снимал «Хрусталева» Владимир Ильин. Когда речь зашла о «Трудно быть богом», я спросил у Германа – кто будет снимать, Ильин? «Нет, я с ним расплевался… Будет, наверное, оператор Мартынов».
Проблемы возникали и с актерами, занятыми в фильме. То Леонид Ярмольник совсем некстати сбреет бороду, а это значит, что придется ждать три-четыре месяца, пока она снова отрастет, то местные статисты российского режиссера не устроили – фильм в основном снимали в Чехии. Да и вообще, иной раз Герману казалось, что из российских артистов просто некого снимать: «У нас мало хороших актеров. Это легенда, что у нас очень много хороших актеров. Хороших российских актеров можно на двух руках сосчитать. С женщинами дело обстоит еще как-то сносно, а вот с мужиками – труба».
Наверное, прав Алексей Юрьевич. Актеров уровня Иннокентия Смоктуновского, Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева, Олега Янковского уже нет. И сколько еще ждать? Когда появятся? Такое впечатление, что школы-студии и другие институты готовят актеров исключительно для съемок в заурядных телефильмах, ну а когда доходит дело до экранизации бессмертной классики вроде «Анны Карениной» Льва Толстого – все, конфуз, смотреть на их игру просто невозможно. Да рядом с ними в нынешних условиях даже хорошие актеры словно бы теряются. Тут речь идет не только об экранизации Толстого, вот и Алексей Герман тоже вспоминает: «Глядя сцену, где Янковский играет с Макдауэллом, хочется закрыть глаза, когда говорит Олег – и открыть их, когда говорит Макдауэлл. И это не потому, что один из них хороший актер, а другой – плохой. Оба – актеры одинаково высокого уровня, высокого класса. Просто один – колоссально натренированный, а другой – растренированный. Общество десять лет не нуждалось в высоком качестве актерской работы. Любая хреновина проходила под аплодисменты, все привыкли считать себя крупными мастерами. А это не так».
Кстати, не могу не удивиться выбору актера на роль Руматы. Конечно, прав Герман, утверждая, что «артист, не способный на клоунаду, это вообще не артист». И все же странно в главной роли в этом трагическом, по сути, фильме видеть актера, который когда-то начинал свою публичную карьеру в телепередаче «Вокруг смеха», изображая «цыпленка табака». В чем скрытый смысл такого выбора, я этого и не понял. А впрочем, где-то прочитал, что Герману в этой роли непременно нужен был «носатый». Может быть, и так.
Если уж зашла речь о «натренированном» Макдауэлле, то иногда у Германа возникала мысль снять фильм в содружестве с американцами:
«Американские артисты – даже в этих ужасных фильмах каким-то образом, как-то их умеют накачивать, они играют глазами все-таки. Они играют разными частями тела, но в сумму этих частей тела они вставляют глаза. У них есть напряженность глаз. У наших артистов, даже у самых знаменитых, у них коровьи глаза, выключенные глаза. Они глазами не занимаются».И здесь, пожалуй, соглашусь. Ужасно надоели пустые, ни о чем не говорящие глаза, которые очень часто приходится видеть на экране. Здесь речь не только о халтуре. Вот ведь и так бывает, что актер разуверился во всем, смирился с тем, что в жизни не везет, а тут его зачем-то пригласили в фильм. Приходится вытягивать роль за счет остатков мастерства, поскольку уже давно забыто, что такое вдохновение. Вот потому пустые, словно бы мертвые глаза и возникают на экране.
Однако содружество с американцами не задалось – так было с «Хрусталевым», – поэтому приходилось мучиться с теми актерами, которых смогли найти в России. Кстати, приходится признать, что совсем не зря Алексей Герман потратил столько лет на учебу в театральном институте и на работу актером в БДТ:
«Я любую сцену мысленно проигрываю за артиста. И чем бы он мне ни морочил потом голову, понимаю, что он плохой артист и ничего не может сделать».Пора, однако, от проблем, возникающих на съемочной площадке, вернуться к обсуждению причин, почему Герман решил стать политиком – не вообще политиком, но лишь в том, что касалось съемок фильма по сценарию Стругацкого. Михаил Лемхин в своих воспоминаниях приводит и такие слова Алексея Германа: «Я был всегда далек от политики. Я, например, никогда не был в комсомоле. Это можно считать моей заслугой, но можно и не считать, потому что я не был в комсомоле не из политических соображений… А просто, ну не нравилась мне эта компания – бегали, шушукались, Дудинцева клеймили… Они мне не нравились, но я мог себе это позволить при наличии такого папы, вот в чем фокус… Причем папа на меня все время орал, что сейчас такое время, когда лучшие люди должны быть в партии и в комсомоле… Но… в «Трудно быть богом» очень хочется немножко быть политическим режиссером».
Последние слова вполне соответствуют тому, что Герман решил в фильме рассказать о «серых» и о «черных». Но тут обращает на себя внимание другое. В юности, да и немного позже он был аполитичным баловнем судьбы, и вдруг вроде бы ни с того и ни с сего… Вот так примерно мой одноклассник Вадим Борисов, «номенклатурный мальчик», так его в то время называли, прочитав как-то за ночь «Раковый корпус» Солженицына, утром стал другим. Все будто бы то же – руки, ноги, голова, однако произошло нечто похожее на духовное перерождение. В итоге он начал помогать Александру Солженицыну, жившему в то время за границей, в издании его книг на родине. Появились новые друзья, в основном из диссидентских кругов, настроенные оппозиционно. Теперь многие из его друзей в полном порядке, а вот Вадим погиб.
У Германа все было по-другому – напомню, что он даже пытался оправдать вторжение советских войск в Чехословакию. Но вот и его привела судьба к тому, что жизнь стала казаться ужасающим кошмаром. Поэтому и сделал свой последний фильм. Возможно, поэтому его не стало…
Но возвратимся к съемкам фильма. Сменяются второй режиссер, ассистент и оператор. Не нравится отснятый материал. Приходится переснимать чуть ли не каждую сцену. Буквально все не так! Даже купленные на валюту мухи в сортире не желают правильно летать – то ли мало заплатили, то ли запах чешских сортиров английским мухам оказывается не по нутру. Ну до чего же он намучился!
Юрий Клименко, работавший какое-то время оператором на последнем фильме Германа, так вспоминал:
«Он достиг такой степени реализма, которой, по-моему, нет ни у кого, ни у каких других мастеров кино. И не только у нас, но и вообще в мире».Но снова возникает вопрос – зачем? Зачем нужны такие муки? Зачем расходовать последние силы, транжирить здоровье, которого уже нет? Зачем нужна эта скрупулезная, даже чрезмерная, удивительная достоверность?
Вообще-то в своем пристрастии к точному описанию реальности, я имею в виду ее видимую часть, Алексей Герман был не одинок. Продюсер и композитор Андрей Сигле так пишет о Сокурове, с которым сотрудничал при создании фильма о японском императоре, речь о Хирохито:
«Из «мелочей», внимания к каждому слову, жесту и состоит сокуровское кино. Когда мы снимали «Солнце», он требовал, чтобы я доставал настоящую рисовую бумагу, потому что император не мог писать на обычной. А стоил-то каждый листик по двести долларов за штуку! Мы поражали даже японских историков знанием эпохи. Наш художник Лидия Крюкова открывала им глаза на историю военного японского костюма. Сокуров контролировал походку актера, игравшего императора, ему специально сшили костюм, сдерживающий движения… Зритель, конечно, пропускает девяносто процентов из этих деталей, но подспудно вы понимаете, что это настоящее искусство. Это вам не американские поделки, где русские военные ходят с непонятными лампасами, в валенках и ушанках… У нас по сути рукодельное кино».Здесь интересно признание продюсера, что большую часть всех этих тщательно выверенных деталей быта и одежды зрители не замечают. Собственно говоря, об этом я уже писал, поэтому не стану повторяться. Конечно же явное несоответствие деталей заданному времени в некоторых фильмах бросается в глаза – только тогда, по сути, их и замечаешь. Иной же раз, если увлечен сюжетом, если в фильме есть интересные мысли и подлинные чувства, я бы многие мелкие неточности простил. А вот когда чего-то существенного в фильме не хватает, цепляешься за мелкие детали и говоришь себе: все так, наверное, и было, но зачем?
И все же Алексей Герман настаивал на своем:
«Правда – как жизнеподобие экрана, схожесть с жизнью – это, на мой взгляд, необходимый, но самый первый и самый тонкий слой искусства экрана. Это просто точка отсчета, ключ к шкатулке. Ведь что такое достоверность, документальность, хроникальность, правда экрана? Это все пустое, если не знать, что ты хочешь сказать своей правдой».Так что же он хотел сказать? Что ужас ужасен? Мы и без него об этом знаем. Или что в борьбе за власть люди не гнушаются никакими средствами? Пожалуй, так, однако суть этого утверждения в том, что оно относится не только к «черным», но и к «серым» – поскольку со временем, увлеченные своей борьбой, и они незаметно для себя чернеют. И даже «белых» эта страшная напасть тоже не минует – пройдет очередной этап борьбы, и белое от грязи неизбежно посереет, а там недалеко и до черноты. Печальная перспектива, если так.
Напомню, что в фильмах Алексея Германа мы видим смешение черного, серого и белого. Даже в «Лапшине» сюжет напоминает некие вкрапления белого на фоне общей серости, а рядом с ними несмываемые пятна черноты. Я уж не говорю о «Хрусталеве», где чернота преобладает. Но чем это объяснить?
Такое бывает, когда преследуют навязчивые сны, когда не в силах справиться с тоской, с переживаниями, когда понимаешь, что все лучшее осталось позади, когда надежды тают, как мартовский снег на берегах Невы. И в самом деле, можно ли после унижений, перенесенных от антисемитов в детстве, после запретов на свои фильмы, когда напрасно истрачено столько физических и душевных сил, – легко ли в этих условиях сохранять равновесие и не скатиться в жуткую депрессию? Единственная возможность – это убедить себя, да и других, в собственной исключительности, вообразить себя мессией, открывающим глаза на этот мир заблудшим чадам, мессией, несущим людям правду вопреки всему.
Вот и Алексей Герман об этом говорил:
«Ни кино, ни любое другое произведение искусства не делается просто так. Оно делается вопреки чему-то».Глава 15. Народ и обожание
Размышляя о фильмах Германа, сразу и не поймешь, что все-таки в них делалось вопреки, что стало следствием детских воспоминаний, а что – материализацией жутких образов, созданных воображением, и навязчивых кошмаров, которые на дают заснуть. Судя по всему, таким кошмаром для Алексея Германа стал товарищ Сталин:
«Я признаюсь, что он мне очень часто снится. И более того, во сне у меня к нему самое уважительное отношение. Но это только во сне… Когда мне снятся сны, «отец народов» там обычно смеется, что мне очень нравится. Это, наверное, эффект какой-то самозащиты организма».
Самозащитой мог бы стать и фильм. Выплескивая свои кошмары на экран, режиссер избавляется от того, что не дает ему покоя. Во всяком случае, такая иллюзия сохраняется до завершения съемок фильма. Ну а потом может оказаться так, что все начнется сызнова. Вот и в фильме его сына, о котором речь пойдет чуть ниже, то и дело возникает человек с портретом Сталина. Честно говоря, я даже предположить не мог, что этот кошмар передается по наследству.
«Вчера меня Светлана заставила в «Российскую газету» продиктовать все, что я думаю о товарище Сталине. Поскольку я нехорошо думаю о товарище Сталине, то я очень нехорошие слова туда и зашвырнул. Поскольку по телевидению все объясняют, что он в войну очень много помог людям, я сказал, что за предыдущее столетие из бездны выскочили три ужасных человека: Гитлер, Мао Цзэдун и Сталин… Мой папа обожал Сталина довольно долго. После войны он только понял, что это такое, – а он же у него был, он с ним сидел, со Сталиным, не вдвоем, естественно: там Фадеев пел, Шолохов плясал, папа сидел и наслаждался».
Согласитесь, такое перенести просто невозможно. Отец пировал вместе с вождем, а сын ненавидит Сталина, что называется, всеми фибрами души. Несоответствие, грозящее психическим изломом. Как можно в одну голову вместить и любовь к отцу, и презрение к его поступкам? Но это еще не все. «Бешеное обожание русского народа» – вот что в отце так возмущало. За что же обожать народ – за лагеря, за казни, за издевательства тюремщиков над зэками, за антисемитизм? Справедливости ради следует сказать, что после 1956 года «обожание» как-то поостыло. Но почему? Почему отец не смог понять в те страшные 30-е годы, что всему виною лишь народ? И почему прозрел с досадным опозданием, лишь через двадцать лет?
«Отец мой одним из первых получил доступ к документам ВЧК и ОГПУ и рассказывал мне, что большевики не сразу принялись запрещать в искусстве. До этого они с интересом знакомились с обращениями к ним этих самых работников искусств с просьбой запретить, наказать, изъять, а то и еще хуже… А уж потом почувствовали вкус и взялись, да еще как».
Писали в «органы» сначала работники искусств, потом рабкоры из Хамовнического района… Если этому верить, то выходит, что инициатива репрессий исходила от народа. Оказывается, что в СССР была самая подлинная демократия: народ потребовал, а карательные органы взяли под козырек и привели в исполнение всенародный приговор! Ну как же можно обожать такой народ?
Беда с этим народом! Вот что вспоминает Герман уже о 80-х годах:
«Мы сидели с местными и пили портвейн, заедали заливным. И меня очень привечали, потому что увидели – у них деньги кончились, а тут я. Я дал денег, привезли много портвейна. И гроза началась. Гроза началась, и что-то на крыше фукнуло. А мы в сарайчике сидим, и там вокруг – гаражи, гаражи, гаражи мелкие, на «Запорожцы», на первые модели «Жигулей», катера стояли. Вдруг врывается женщина, в народе это называют «кривоссыхи», с такими кривыми ногами, опрокидывает наш стол с портвейном, что вообще-то приравнивается к самоубийству, к детоубийству, и кричит: «Вы же горите, кретины, мать вашу перемать!» Мы выходим. Дальше как иллюстрации из Библии: наш сарай, а на нем – четырехметровый столб пламени… В это время молния попадает в прокуратуру, которая находится на расстоянии 150 метров… поднимается высоченный столб дыма, из прокуратуры. И дальше в этом столбе дыма все гуще и гуще начинают летать бумаги, какие-то бумаги. И появляется толпа старух каких-то монгольского вида, которые хватают эти бумаги на лету, бабки по 80 лет прыгают на высоту полутора метров, чтобы поймать бумагу. Зачем? Среди всего этого появляется прокурор с наганом, который наганом грозит пожарникам, чтобы сматывали и ехали тушить государственный объект, а не гаражи».Ну чистый анекдот! Так можно было бы сказать, если бы не потеря госимущества и совершенно некстати пролитый портвейн…
Но вот еще один анекдот от Алексея Германа:
«За Сосново были угодья, в которых охотились члены Политбюро. И когда туда переехал Романов Григорий Васильевич, в наши сельские угодья, это было полное несчастье. Потому что его страшно раздражали пункты по сдаче бутылок, и он их все запретил. А куда сдавать стеклотару – ничего не сказал. Но зато подарил всем колхозам и совхозам вокруг финские электродоилки. Может быть, ему тоже их подарили финны, но эти электродоилки смекалистый русский ум сразу приспособил под так называемые дуньки, а «дунька» – это газосварочный аппарат и одновременно как самогонный аппарат. И никто не стеснялся, что поразительно. Что значит конец советской власти: за колоски сажали, а тут в каждом дворе стоит эта немыслимой красоты вещь».Можно порадоваться за колхозников, хотя колоски тут ни при чем. Да и конец советской власти никак не связан с этими доилками. У нас ведь как – что скажут, то и сделаем. Сказали, что нужно сохранить СССР, – за то и проголосовали всем народом. Свергли КПСС и разогнали союзные республики – мы и тому несказанно были рады. Кое-кто готов даже поплясать на могиле Сталина… Но почему все так?
«В нашей стране столько времени свирепого рабства, от 1917 до 1953 года, вот в чем беда. Выбили умных, выбили производителей, выбили таких, сяких. Накопилась критическая масса жуликов и глупцов, критическая масса, придавливающая другую часть, которая в принципе могла бы что-то сделать… Я, например, в ужасе, потому что я не знаю, кто меня будет смотреть, кто нас будет смотреть».
Про ужас, про кошмары я уже писал. Надо бы только припомнить, что рабство в той или иной форме насаждала знать – сначала царская «номенклатура», затем советская в какой-то степени. Были среди знати жулики и бездари, но были люди честные, убежденные в правоте своих идей. Однако что поделаешь – жулики их придавили. Ну а глупцов при любом строе и в любом обществе хватает – против природы не попрешь, на некоторых она так или иначе отдыхает. Думаю, никого не удивлю, если скажу, что даже высшее образование не гарантирует наличие ума. Вот если бы интеллект можно было купить – ну пусть не оптом, но хотя бы в розницу…
«Уж не помню, когда была в СССР выставка Пикассо. На красивой тумбе лежала красивая книга отзывов и предложений, где было каллиграфическим почерком написано: «Тошнит, а сблевать негде». Дальше шли подписи… Надо было ту запись либо подписать, либо нет. Не подписать – уже был маленький поступок. А вспомнить американскую выставку, где курсанты лупили бляхами молодежь! Ты мог пройти на американскую выставку, посмотреть на товары, получить какие-то буклетики, потом выйти, а где-то за углом стояли курсанты училища, уж не знаю, Дзержинского, либо Фрунзе, либо еще какого-то, и ты должен был пройти сквозь строй блях».
Не знаю, сон это или снова наваждение? А потому что в Москве ничего такого не было. Помню и американскую выставку в Сокольниках, и картины Пикассо в Пушкинском музее. Странно, но никто меня там не лупил и ничего не заставлял подписывать. То ли это у Германа кошмар, порожденный болезненным воображением, то ли сказано «для красного словца». То ли в Ленинграде в те времена вообще все было по-другому.
«Во времена первой «оттепели» после сталинских холодов в Ленинграде прошел фестиваль итальянского кино. Билеты распределялись среди советской «рабочей элиты» – той, которая когда-то голосовала за расстрелы, запреты, скандировала «руки прочь от…». Нормальный человек – учитель, врач, читающий рабочий и тем более студент – купить их не мог: билетов не было в кассе. Сеансы начинались в 8 утра. Дрессированные рабочие, если была возможность поспать, спали. Или работали. А жены и дети продавали билеты. Мы их и покупали. И, потрясенные, смотрели феллиниевские «Ночи Кабирии», «Дорогу», фильмы Антониони».
И снова удивляюсь. На фестивали заграничных фильмов, которые регулярно проводились в кинотеатре «Ударник», ох как непросто было попасть! Зал небольшой, а желающих очень много. Понятно, что билеты распределялись на предприятиях – среди начальства в основном, но кое-что перепадало передовикам производства и наиболее активным членам профсоюза. Однако насильно билеты никто не распределял, не заставлял их брать под угрозой неминуемой расправы. Вот если бы кто-то отказался участвовать в первомайской демонстрации, тогда… Так что билеты брали иной раз только для того, чтобы перепродать – это же вполне естественно, если есть возможность немного заработать. И к этим людям, «любителям поспать», я не испытываю ничего, кроме благодарности, – если бы не они, не удалось бы посмотреть фильмы классиков зарубежного кино.
Должен признаться, что я так и не сумел понять, как относился Алексей Герман к нам, то есть к нашему народу. Конечно, такого «обожания», которое было когда-то у отца, он явно не испытывал. Однако что же за народ ему достался? С одной стороны – жулики и глупцы, с другой – нормальные люди, учителя, врачи. Но вот разделение рабочих на «читающих» и «дрессированных» мне не вполне понятно. А если рабочий человек читает каждый день газету «Правда» – тогда он кто, дрессированный или, не дай бог, оголтелый дрессировщик? А тут еще курсанты с бляхами… Да, видимо, с народом Алексею Герману не повезло.«Мы были идейные люди, мы считали, что история с власовцами коснулась двадцати пяти миллионов россиян, и мы должны про них сказать, поэтому не соглашались на переделки, считали, что это будет предательством… Мы совершенно всерьез считали, что народ – наш младший брат. Сейчас я понимаю, что я у народа пасынок, никто. А тогда мы всерьез считали, что обязаны народу. И, как идиоты, стояли насмерть».
Здесь «насмерть» – это сказано не о войне, а всего лишь о защите собственного детища, речь о фильме «Проверка на дорогах». Но вовсе не это потрясает. «Народ – наш младший брат». Это какое же требуется самомнение, чтобы так сказать! Пожалуй, цитированное утверждение верно только в том случае, если вообразить себя мессией. Впрочем, о мессианстве как о способе самозащиты от навязчивых кошмаров я уже писал.
Что ж, от народа перейдем к тем, кто «наверху». О Сталине все уже предельно ясно сказано. О Брежневе Алексей Юрьевич почему-то предпочитал не говорить. Ну а Горбачев не та фигура, чтобы ей посвятить хотя бы несколько строчек в этой книге.
Впрочем, о Брежневе все же нашлось одно высказывание:
«Я никогда не ненавидел Брежнева, про Сталина все понял уже много позже».Сталин тут явно ни при чем, а вот спокойное отношение к Брежневу удивляет. И это притом, что во время вторжения советских войск в Чехословакию рыдал Аксенов, плакала Светлана, будущая жена. Неужто понадобилось еще двадцать лет, чтобы что-нибудь понять?
«Ельцина я обожал. А когда Путин пришел к власти, я устроил в Чехии истерику, что нам на площадку не подали автобус с урной. Так мне хотелось за него проголосовать».
Видимо, такое обожание досталось от отца, только тот обожал почему-то Сталина. Кстати, и Александр Сокуров испытывал к Ельцину симпатию, только выражал ее весьма своеобразно: «По просьбе Бориса Николаевича я приезжал и читал ему лекции по своему выбору – об английском парламентаризме. В частности, о теории равновесия властей, известной как теория Болингброка. Это времена, когда парламент в Англии действовал еще рядом с монархической властью. Я привозил книги, делал выписки для него. Ельцин слушал с огромным вниманием. Но обстоятельства в России становились все сложнее. И когда стало понятно, что то, о чем мы с ним говорим, все больше и больше расходится с текущей практикой, мы прекратили эти исторические беседы, не было смысла, не работало».
Можно ли считать эти беседы историческими, не берусь судить, хотя бы потому, что не присутствовал при этом. Только сомневаюсь, что Бориса Николаевича могла заинтересовать теория равновесия властей. Вот если бы Сокуров подсказал, как реорганизовать экономику, как накормить людей… Однако Сокуров в экономике не разбирался, впрочем, так же, как и Ельцин: «Он сетовал в разговоре со мной: «Я все время сталкиваюсь с тем, что никто не знает, как поступать и что будет дальше. Отпускаем цены, вводим рыночную экономику, а что за этим последует – нет ответа».
А что мог сказать ему Сокуров? Разве что посетовать на то, что в России дефицит талантливых, знающих людей, озабоченных проблемами родного государства: «Ленин хоть «Развитие капитализма в России» написал перед революцией, сделав колоссальный анализ всей вертикали и горизонтали. Сейчас же этого анализа нет. У всех просто свое мнение».
От Ельцина с Сокуровым снова возвратимся к Герману и Путину. Эти слова Алексей Герман произнес в 2003 году, уже после того, как получил президентскую премию за «Хрусталева»: «Мне Путин нравится. Владимир Владимирович кажется абсолютно достойным человеком. Но в России достойным быть мало – стрельцов надо казнить… Не будешь казнить – закончишь как Александр II. Ноги оторвут. Заметьте, у нас все тираны благополучно закончили свою жизнь, а все хорошие люди… Плохо закончили».
Ну, это явное преувеличение – в том, что касается хороших людей. Нельзя же хорошими считать лишь тех, кто погиб в ГУЛАГе, от ножа убийцы или на войне.
И еще:
«Меня беспокоит 2004 год. При всей сложности, я бы даже сказал, драматичности происходящего с нами я боюсь, что не выберут Путина. Не потому, что я считаю его идеальным, а потому, что он сегодня единственный, с кем связана перспектива».Насколько я могу судить, на этом «обожание» закончилось. Осенью 2003 года был арестован Ходорковский. Возможно, именно тогда режиссер надумал переснять ряд сцен в своем последнем фильме, даже название изменил – вместо «Истории Арканарской резни» вернул прежнее название, придуманное братьями Стругацкими. Ну так и хочется сказать: трудно быть президентом. Надеюсь, против этого никто не станет возражать. Кстати, вот так же примерно и Михаил Булгаков, узнав о приговоре по делу «врачей-убийц» в 1938 году, решил заново переписать главу «Великий бал у сатаны», придав ей новый смысл – это вакханалия темных сил, образ сталинских репрессий. Так что Алексей Герман был не оригинален.
Глава 16. Мы не врачи?
Пришла пора от обсуждения народа и некоторых представителей власти перейти к интеллигенции. Об этом говорилось все в том же, переломном, 2003 году:
«Мне недавно сказали, что евреев в России живет немногим более двухсот тысяч человек. При Столыпине было десять миллионов. Думаю, в той же пропорции исчезла и интеллигенция».
Прежде чем прокомментировать это утверждение, хочу уточнить кое-какие цифры, при этом снова сошлюсь на Алексея Германа, но сказано это было им уже через семь лет: «Евреи, которые сейчас есть в России, остались, потому что любят эту страну. Они могли бы уехать в Америку или Израиль, где живется лучше. Сейчас оставшимся трем-четырем миллионам евреев рассеяться ничего не стоит».
Вот не могу поверить в такие успехи в деле повышения рождаемости. Скорее всего, Алексей Юрьевич и цифры, и аргументы брал, что называется, с потолка. Что тут поделаешь – художнику это в общем-то простительно.
Однако вернемся к проблеме исчезновения интеллигенции. Кому-то в сказанных Германом словах, в этой обнаруженной им «пропорции» почудится намек: вот даже как, неужто Алексей Юрьевич считал, что только евреи – это и есть интеллигенция? Да нет, пожалуй, вряд ли. Скорее всего, Алексей Герман как бы неосознанно выдает желаемое за действительное, хотя, конечно, в чем-то он и прав. После событий октября 1917 года началась волна первой русской эмиграции, затем на полях Гражданской войны полегли многие тысячи русских офицеров. Ну а когда приступили к строительству социализма, многие евреи, не только бывшие революционеры, но и те, что жили за чертой оседлости, получили шанс занять место тех, кто погиб или эмигрировал – свято место пусто не бывает. В каком-то смысле это можно было бы назвать ротацией кадров, если бы основной причиной не стал трагический разлом 1917–1922 годов среди отечественной интеллигенции, не считая последующих чисток командного состава армии и руководителей гражданских отраслей народного хозяйства.
Поскольку тема эта скользкая, из тех, что стараются не обсуждать в приличном обществе, здесь поставлю точку. Кстати, у Сокурова было несколько иное мнение об интеллигенции:
«Наша интеллигенция сегодня опасно близка к власти. Особенно творческая, особенно столичная».Вот прочитал и пытаюсь увязать эти слова с уже упомянутыми историческими встречами с Борисом Ельциным. По мнению Сокурова, тогда что-то вроде бы получалось, а вот теперь… Так, может быть, причина нынешних неурядиц в том, что часть интеллигенции ушла в оппозицию, по собственной инициативе отдалилась от этой самой власти? Или же здесь дело в том, что власть ее не слушает? Да в общем-то власть можно и понять – если опять начнут талдычить про теорию равновесий, тут впору то ли хохотать, то ли плакать. Толку-то от этих, никак не связанных с реальными проблемами речей? Нам бы бюджет как-то залатать…
Кстати, у Алексея Германа было собственное, оригинальное представление о роли интеллигенции в нашей жизни:
«Интеллигенция, талант не может быть вреден государству, он может быть вреден чему-то проходящему, никчемному. Вот это понять трудно. Мы говорим, талант – это сумма способностей, в эти способности не входит ненависть, а когда входит, уходит талант».Слышали бы это утверждение люди с Болотной площади, не миновать Алексею Юрьевичу беды – я об обструкции, которую могли устроить его фильмам. Мне как-то приходилось писать, что злость заменяет вдохновение. Но это временный эффект. Когда же ненависть компенсирует отсутствие таланта, недалеко и до беды.
Пора бы несколько слов написать о чем-нибудь хорошем. Вот вроде бы подходящий отрывок из интервью:
«Конечно, миром правит в какой-то степени и любовь. Но это любовь к близкому. А люди могут и любовью к близкому пожертвовать, и страшные кровавые бани время от времени устраивать, убивать друг друга, воровать, восхищаться несвободой. Все это душа человеческая. Я хорошо отношусь к конкретным людям, но к человечеству отношусь скверно. Единственное – женщина и ребенок: это сочетание, за которое человечеству можно многое простить».Увы, и в этих словах Германа все то же – страх, жертвы, кровь. Видимо, Алексею Герману в жизни здорово досталось, хотя и тут он отчасти прав. Устройство человеческого общества таково, что не вызывает особого почтения. Зависть, алчность, ложь, лицемерие – все это процветает: «Я иногда с ужасом думаю о том, что отец жил бы в наши дни, когда из демократических устремлений, из жажды свободы… образовалась воровская страна».
О том, что произошло с нашей страной, более образно и выразительно сказал ленинградский кинорежиссер Иосиф Хейфиц:
«Когда перед твоими глазами прошла жизнь огромной страны, невольно чувствуешь себя Голиафом или, скорее, этаким Гулливером в стране великанов. А теперь я ощущаю себя в стране лилипутов. Была великая национальная идея. Не важно, кто ее сформулировал и осуществил. Важно, что она была. Теперь ее нет. Великаны вымерли, остались лилипуты, у которых есть свой Гулливер. Но это не я».
Конечно, трудно представить, чтобы в подобных условиях наше кино сохранило первозданную чистоту, лишенную каких-либо изъянов. А ведь тут собраны едва ли не лучшие силы отечественной интеллигенции, по крайней мере, в том, что касается гуманитарной сферы, – актеры, режиссеры, сценаристы. Однако, по мнению Алексея Германа, и с ними что-то неладное творится:
«То, что я делаю в кино, уж точно не бизнес. И я стал присматриваться к тому, что происходит. Разговариваю с одним коллегой. Спрашиваю: как новая картина? «Хорошо, – отвечает, – взял 16 миллионов». – «Да нет, я не о том, кино-то какое получилось?» – «Да хрен с ним, какое кино, ведь 16 миллионов!»… Может, как-нибудь перекручусь без кино? Потому что не понимаю, куда кино движется… Вот смотришь какую-то погань, где актеров нельзя отличить друг от друга, я бы таких актеров на первый курс не взял, а все хвалят».Но что же такое получается? Там – «жулики и глупцы», «дрессированные рабочие», а здесь интеллигенция учинила свой собственный разбой по интеллектуальным правилам. Разбой не разбой, но вот когда вторгается в твой дом целая армия алчных бездарей, да сразу по нескольким телеканалам, тут так и хочется воскликнуть: господи, куда же катимся?!
«Мы действительно сделали разбойничий кинематограф, огромную часть которого я абсолютно презираю, и кинематографистов огромную часть презираю и не считаю их кинематографистами… Режиссеров в нашей стране можно на пальцах двух рук пересчитать».
О качестве режиссуры не берусь судить, тем более о количестве толковых режиссеров. Да просто некогда и незачем ходить в кино – есть девяносто каналов интернет-ТВ, на которых изредка, хотя бы раз в неделю, случается, что-нибудь блеснет. Если не для души и интеллекта, то хотя бы немного развлекает. Было бы что-то достойное, наверное, я бы и теперь в очередях стоял, как когда-то на фильмы Антониони и Феллини. Но Алексей Юрьевич несколько иного мнения – есть, есть настоящее кино!
«Увы, мы взяли розги и стали гнать зрителя от настоящего художественного кино в сторону телевидения, которое всеми способами пытается нормального, доброго, спокойного, рассудительного человека превратить в вампира. Зачем мы это делаем? Возможно, в будущей войне, которую кто-нибудь планирует, пригодится именно такой солдат. Страшно то, что происходит. Все больше и больше людей, потерянных для искусства. Их возвращать надо с нуля – их надо оглушать, везти в больницу, проводить курс терапии».
Вот это «оглушать», да еще рекомендация отправиться в больницу, возможно, что-то объясняют. Но вот что? Боюсь, мне сразу этого не понять, как ни стараюсь. И еще – «настоящее художественное кино». О чем это он? Вот посмотрел «Настройщика» Киры Муратовой. И снято замечательно, и сам настройщик хорош, особенно Алла Демидова впечатляет. Это, несомненно, то самое, художественное кино. Но можно ли назвать его «настоящим», если оно ничего не дает ни сердцу, ни уму? Увы, очень часто все ценное, оригинальное, что находишь в фильме, можно было бы вложить в одну строку, ну скажем: «голод, холод, две сиротки». Так Кира Муратова определила содержание одного из своих фильмов.
Возможно, объяснение нынешней ситуации в кинематографе найдем в этих словах Алексея Германа:
«Наступило такое время, когда непонятно, для кого я делаю свое кино. Раньше я понимал, что должен сказать правду, понимал, с кем должен бороться, и чувствовал, как это сделать. А сейчас сквозь шум не пробиться. Раньше мы могли, пусть и романтически, говорить о своих идеях и идеалах. И знали, что это не стыдно. Теперь этот романтизм вроде бы неприличен».Так, может быть, все дело в том, что режиссер не понимает жизни, не видит смысла в том, что происходит вокруг. Неужто для Германа, как и для Муратовой, это просто «шум»? И кроме вопля отчаяния, кроме безысходности в глазах главного героя, они предложить зрителю ничего не могут? Видимо, недостаточно быть талантливым художником, чтобы в это сложное время создать что-то настоящее. Но что? Вот написал Малевич «Черный квадрат» – казалось бы, всего лишь квадрат на холсте, закрашенный черной краской. Однако каждый может разглядеть в этом квадрате смысл. При желании, конечно. Это как слово, сказанное вовремя. К примеру, «агрессивно-послушное большинство» – просто и понятно. Однако сейчас другое время, и требуются какие-то новые слова. Кто-то подскажет – агрессивное меньшинство, другим до сих пор по душе слова, произнесенные Юрием Афанасьевым. Но повторюсь, не разобравшись в сути того, что происходит, нельзя сделать ничего стоящего, достойного той эпохи великих перемен, в которой мы живем, прошу прощения за излишний пафос. Однако Алексей Герман возражает: «Как говорили наши критические реалисты, мы не врачи – мы боль».
Увы, боль ничего не объясняет. Мало быть просто реалистом, повествователем. Надо уметь поставить правильный диагноз. Если болит нога, я обращусь к хирургу, если простудился, выпью чай с малиной, приму аспирин, лягу в теплую постель. А если болит душа, да не только у меня, в этом случае что можно сделать? На мой взгляд, тут лучшее лекарство – хорошая книга или фильм. Это самое действенное средство от такой болезни, оно может объяснить и успокоить, если, конечно, режиссер одновременно и философ, и психолог, и художник.
Но вот Алексей Юрьевич все же пытается что-то объяснить. Если не получилось в фильме, так пусть хотя бы на словах:
«Идея, объединяющая нацию, отсутствует. Работать никто не хочет. Нашим лентяям кажется, что жизнь станет лучше, если побить евреев, прогнать азербайджанцев… У нас любят строить концлагеря, тюрьмы, поскольку думают, что строят для интеллигентов, для всяких прочих непохожих. Не хватает воображения понять, что это строится для самих себя».
Опять иллюзии, словно бы после того, как разрушат тюрьмы, наступит истинная благодать. Увы, даже признанным интеллектуалам не хватает воображения понять, что тот якобы свободный мир, в который нас зовут, приятен только с виду, а внутри все то же самое, что было и сто, и двести лет назад – зависть, алчность, лицемерие. Только в России все это теперь разрослось до неописуемых масштабов. В своем интервью кинорежиссер сожалел о том, что у нации отсутствует идея, но даже не пытался что-то предложить взамен негласно принятой частью общества идеи – стремления к безудержному обогащению.
Сомнения в правильности того пути, на который нас настойчиво толкают, высказывал и Александр Сокуров:
«Верить в существование прозрачной демократии – огромная наивность и заблуждение».Но вот мнение другого кинорежиссера, поставившего два фильма по сценариям отца Алексея Германа, – эти слова были сказаны Иосифом Хейфицем в середине 90-х: «Если все будет идти естественным путем, без социальных катаклизмов и армагеддонов, то будущая формация людей должна прежде всего понять, что такое Россия. Что значит эта держава в масштабах истории человечества. Что значит ее духовная энергетика, рождающая Пушкиных и Достоевских, Чеховых и Плисецких, Гаврилиных и Свиридовых. Что значит мощь народа, не побежденного никакими гитлерами и наполеонами. Понять, в чем суть народа, – это и есть национальная идея. Если будущие правители – на нынешних я не надеюсь – смогут для себя понять, что такое эта страна и что такое ее народ, то надежда есть».
И что теперь прикажете делать? На что же нам надеяться – ждать, что все произойдет естественным путем? Надеяться, что люди вновь поверят в величие своей державы? Вряд ли гигантские проекты вроде сочинской Олимпиады этому способствуют.
Снова процитирую Сокурова:
«Власть не должна организовывать и цивилизовать. Цивилизовать может только искусство и культура, а власть должна создавать систему, которая способна обеспечить развитие экономики, во-вторых, и обеспечивать права отдельно взятой личности, которая живет среди десятков миллионов других людей, во-первых. И если мы на власть нагружаем еще эту функцию воспитания и образования, то это уже тоталитаризм, или нацистское государство».Ну, это уже явный перебор! Нельзя же воспитанием считать только хождение строем под грохот барабанов и отбывание трудовой повинности в концлагерях за колючей проволокой. Хорошие книги и фильмы, нормальное телевидение без назойливой рекламы, организация выставок картин великих художников, посещение театров и музеев – это и есть элементы воспитания, и тоталитаризм здесь явно ни при чем. А ведь исправить то, что наворотили в области культуры, под силу только государству, поскольку бизнесмен оценивает лишь финансовую выгоду.
Но вот и сам Сокуров высказывает схожее мнение:
«Важнейшей является задача формирования системы культуры и искусства. Если поднимать уровень культуры народа, тогда появится и другая армия, и другая внешняя политика, и другие заводы. Все будет другое, если народ будет цивилизованный, культурный, предсказуемый. И, если угодно, русская идея – это развитие культуры и образования в народе, очень часто диком, инерционном, нищем, разбросанном по огромной территории».Готов подписаться чуть ли не под каждым словом. Кстати, тут стоит привести и слова, сказанные Дмитрием Лихачевым в беседе с Алексеем Баталовым:
«Я общался с Дмитрием Лихачевым, когда его назначили председателем Российского фонда культуры. И он говорил, что надо спасать библиотеки, но, говоря библиотеки, делал ударение на букве «о».
– Зачем библиотеки спасать, когда люди перестали читать? – спросил я нахально.
Лихачев поворачивается и говорит:
– Однажды придет Ломоносов – а больше и не надо, – и нужно, чтобы, когда он пришел, книжка была на месте».Что ж, будем ждать прихода Ломоносова.
Глава 17. Друзья и враги
Коль скоро выше речь зашла о зависти и о лицемерии, самое время рассказать о друзьях и о врагах. Конечно, в жизни каждого человека бывают неприятности – какие-то обиды остаются в детстве, о чем-то просто неприятно вспоминать, но речь тут о другом. Реальные враги появляются лишь после того, как человек стал взрослым. У Алексея Германа со временем накопилось немалое количество явных и неявных недругов.
«Одних из тех, кто меня гнобил, я могу простить, других нет. С одними из близких мне когда-то людей я прервал отношения навеки, но это был третий случай предательства, поэтому я не выдержал. Когда начался успех и когда они все стали возвращаться, я помню, банкет был у нас в Доме кино. Я сказал: «Вы меня все предали, вы все исчезли из моего вида, перестали со мной здороваться, поэтому вот накрыт стол – жрите, а я с вами даже не сяду». Но потом все пошли со мной объясняться: «Ты нас не так понял…» Я выпил и всех простил. Но что касается этих злобных гонителей… Мы как-то сидели со Светланой и думали: вот кому из них мы желаем смерти, болезни тяжелой? Никому. Живите себе на здоровье, если живы. Никому, они были слуги этого режима, им за это платили деньги, ничего другого они не умели, а то, что они меня убивали, ну что поделаешь, что поделаешь?»
Когда читаешь такое, закрадывается мысль: а были у Алексея Германа реальные друзья или ему это казалось? Ну как можно обойтись без друзей, особенно среди коллег, среди тех, с кем работаешь бок о бок? Не может так быть, что кругом одни лицемеры и предатели. Вот у Андрея Тарковского при его-то непростом характере было немало интересных друзей, достаточно вспомнить хотя бы об Андрее Кончаловском и Владимире Высоцком. Но что же такое было с Германом?
«Про меня вообще очень много врут. Я не люблю свой цех, не люблю собратьев-кинорежиссеров. Ушел из Союза кинематографистов – это тоже злит. Так и написал в заявлении: «Пошли вы в жопу!» Я люблю людей, не люблю союзы. Люблю Вадика Абдрашитова, Миндадзе, еще нескольких человек – с которыми, кстати, не общаюсь. Просто их уважаю».
«Люблю, но не общаюсь». Я бы сказал, что это похоже на диагноз – здесь налицо болезнь души. Трудно поверить, однако неужели это зависть?
«Умельцев снять очень быстро очень плохую картину у нас до хера. Говорухин снял свою картину… «Ружье», да? Он снял ее чуть ли не за месяц. За отпуск в Думе».
Тут речь о картине «Ворошиловский стрелок». Душевный фильм с прекрасными актерами, особенно хорош был Михаил Ульянов. Что Герману в этом фильме не понравилось? Единственное объяснение в том, что Алексею Юрьевичу не по душе, если кто-то из его коллег делает кино, которым многие люди восхищаются. Вот было «Место встречи изменить нельзя» того же Станислава Говорухина – так этот фильм до сих пор регулярно показывают по телевидению. А почему? Потому что всенародная любовь! И я пытаюсь понять: что больше всего неприятно Герману – успех другого режиссера или то, что народ наш настолько неразумен, не обладает должным вкусом и потому не способен оценить фильмы его самого, Алексея Германа?
Но вот вроде бы подсластил пилюлю Станиславу Говорухину:
«Как в фильме «Среди серых камней» играл Говорухин! Я всегда говорил ему, что режиссер он средний. Но в нем есть такая потрясающая мнимая значительность. Я как-то хотел, чтобы он у меня снимался, мы ходили с ним по базару, и он рассматривал помидоры, редьку – так это был Жан Габен просто».Ну кто же спорит, что Говорухин интересно смотрится в кино? И все же «мнимая значительность» – это что-то другое. Еще не хватало, чтобы я начал рассуждать про мнимую значительность Габена… Так ведь и о творчестве Тарковского можно сказать, что ложной многозначительности у него хватает. А в принципе, это очень непростой вопрос – каждый режиссер видит в своем фильме некое значение.
Надо только, чтобы и зритель это в фильме обнаружил.
Еще одна фамилия из тех, кого послали «в ж…» – кинорежиссер Владимир Наумов, которого представлять нет никакой необходимости. Достаточно вспомнить фильм «Бег» по пьесе Булгакова, который он поставил совместно с Александром Аловым. И вот что сказано было Германом о Наумове:
«Допустим, были Ильф и Петров – это было что-то единое. Оно распалось, но это не значит, что все писал Ильф – это неправда. Но перестал существовать этот писатель Ильф и Петров. Так же, как, на мой взгляд, в общем-то, перестал существовать кинорежиссер Алов и Наумов. То есть существует Наумов, и вполне достойно, но, так сказать, режиссер номер один не существует».Тут уж я не в силах промолчать, поскольку лучший фильм, созданный за последние тридцать лет в России, – это «Десять лет без права переписки», снятый Владимиром Наумовым. Аргументов приводить не стану, поскольку у каждого кинозрителя свой вкус, да и книга посвящена не Наумову, а Германам.
Но вот вам другой режиссер, близкий Герману по духу, – Александр Сокуров. Автору «Молоха», «Тельца» и «Фауста» были посвящены такие слова:
«Сокуров – замечательный режиссер! Я отношусь к нему с глубочайшим почтением и уважением. Мы с ним дружим… ну, так сказать, идейно, теоретически. Мне нравятся его фильмы о Ленине, о Гитлере, мне нравится его картина по Платонову – я от нее в восторге, по тем же братьям Стругацким».Похвалы идейному соратнику и вправду впечатляют! Однако теоретическая дружба – это все-таки не то, чего бы мне хотелось. Так ведь и я могу записать себе в друзья немалое число людей, которые о моем существовании даже не догадываются. Вот Кира Муратова гораздо откровеннее Алексея Юрьевича: «Я вообще ни с кем не дружу! Это мне не свойственно».
Тут самое время как бы возвратиться к Бродскому, с которым мы расстались в одной из глав, посвященных отцу Алексея Германа. Вот ответ Бродского на вопрос, чьи влияния можно проследить в его поэзии: «Навалом… и ни одного».
Так, может быть, в этом разгадка и Бродского, и Германа, и Киры Муратовой? От неприятия окружавшей их жизни, обиды на людей, от презрения к власти – к своему, оригинальному методу в поэзии или в кино. Лишь бы не походить ни на кого!
Теперь несколько слов о полноправном соавторе, написавшем сценарии для лучших фильмов Германа: «Проверка на дорогах» и «Мой друг Иван Лапшин». В этом фрагменте интервью речь идет о выборе актера на роль бывшего власовца, которую в фильме «Проверка на дорогах» сыграл Владимир Заманский:
«Сценарист фильма Эдуард Володарский, которого Марина Влади охарактеризовала как злого гения Высоцкого, самовольно предложил ему эту роль. Я никогда не хотел, чтобы Высоцкий играл в этом фильме. Мой способ подачи материала не предусматривает столь яркой фигуры. Перебери я пафоса – получилась бы мелодрама… У меня было бы все чуть романтизировано, и в эту секунду «Проверка на дорогах» погибла бы – она стала бы «Восхождением».Опять же, не берусь судить. Возможно, режиссер был прав – у каждого свой стиль. Хотя тут можно и поспорить – ведь Анатолий Солоницын и Ролан Быков тоже довольно яркие фигуры. Ну а Заманский, на мой взгляд, слишком интеллигентен и староват для этой роли. Понятно, что по задумке режиссера он должен вызывать сочувствие у зрителя, но тут, похоже, перебор. Вот если бы это и в самом деле был молоденький лейтенант, тогда ситуация выглядела бы куда логичнее. Ну не разобрался, смалодушничал – с кем не бывает. Такого можно было и понять, и даже простить. Впрочем, это всего лишь мой субъективный взгляд, давать советы режиссеру я бы не решился. А вот сценарист в подобных спорах может оказаться прав. Однако о взаимоотношениях Володарского и Германа я расскажу чуть позже, ну а сейчас самое время вспомнить о клане Михалковых-Кончаловских.
«Мне неинтересен ни Андрон, к сожалению, неинтересен ни «Мавроди» (так я называю для себя Михалкова), мне они все неинтересны».
Здесь речь о дружбе не идет, и слава богу. Иначе я мог бы уличить Германа даже в конформизме, заигрывании с сильными мира сего. По счастью, этого и в помине нет. Да и зависти тут быть не может, поскольку лучшие фильмы Андрея Кончаловского остались позади, в далеком прошлом, и нечего рассуждать об этом. Однако Алексей Юрьевич не может успокоиться, и я могу его понять: «Есть люди, которые жизнь тратят, чтобы произвести на общество впечатление. Одновременно на двух программах телевидения блистают, но не справляется их ум со всеми проблемами века. Тут важно, чтобы от их самоуверенности не страдала культура огромного мегаполиса. А сейчас такая опасность существует. Предприимчивость и самоуверенность, объединенные в одном человеке, – страшная сила. А уж соединенные в один «разящий кулак»…»
Надеюсь, что угроза «кулака» тут слегка преувеличена. Мы за последние годы слышали с телеэкрана множество красивых слов, так что одной тысячей больше, одной меньше – это нам без разницы, как с гуся вода в хорошую погоду. Если и останется в памяти, так только два-три слова, как правило, не вполне приличные.
Выразив неуважение к старшему из клана кинорежиссеров, Алексей Юрьевич принялся и за другого:
«Я не хотел бы быть специалистом по истреблению или борьбе с Михалковым. Михалков для меня фигура скорее забавная, чем роковая. Потому что как художник он для меня давно кончился, он очень интересно начинал, но как художник он для меня давно кончился, гораздо раньше, чем для вас, потому что, насколько я помню, вам «Урга» нравилась, а мне это было уже смешно… Все эти его выкрики по поводу русского народа, непрерывных объяснений в любви, я в это не верю, великий писал «люблю Россию я, но странною любовью», этот просто кричит повсюду: «Люблю Россию, люблю Россию!» Это очень выгодно, живя в России, любить Россию».Вот тут можно и поспорить. А потому что иногда возникает впечатление, что гораздо выгоднее ненавидеть «эту страну» со всеми ее глупыми начальниками и вороватыми чиновниками, со всем ее народом, для которого иного названия не подберешь, кроме как «быдло» и «холопы». Вопрос в том, о какой выгоде идет тут речь – о сиюминутной, скажем связанной с получением бюджетных денег на создание картины, или о выгоде с дальним прицелом, рассчитанной на длительное потребление в образе борца с «ненавистным строем». В последнем случае можно рассчитывать и на поддержку «культурного сообщества», и на благосклонность жюри зарубежных кинофестивалей.
Ну а любовь к Родине – это дается от рождения. Если ее нет, так, значит, кто-то в раннем детстве недоглядел, а то и вовсе – что-то вроде врожденной патологии… Но речь тут о другом. Именно с этого довольно откровенного обвинения Алексея Германа все и началось – Эдуард Володарский не стерпел. А впрочем, нет – сначала вроде бы Никита Михалков на съезде кинематографистов заявил, что кинорежиссер Сергей Соловьев – вор. Понятно, что Герман этими словами был обижен:
«Там, возможно, все воры, других не держат. Но мне Соловьев был друг. И вряд ли он что-то крал из чьей-то кассы».Пожалуй, если я буду раскручивать всю цепочку от начала до конца, то окончательно запутаюсь. А потому вернусь к тому, что Володарский не стерпел. И в самом деле, можно ли молчать, когда поднимают руку на святое? Как-никак, вместе с Никитой Михалковым он начинал свою жизнь в кино, написав сценарий фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», кстати, весьма удачный вариант советского вестерна. Итак, слово Эдуарду Володарскому: «Ну, скажите мне, в каком кинотеатре кино «Хрусталев, машину!» зритель выдерживал больше получаса, после чего уходил, плюясь и бранясь?.. Как жил народ, вы, Алексей, никогда не знали и не узнаете, потому что как вы были жирным сынком «жирного» советского писателя, так им и останетесь. С презрением и ненавистью к людям. И без друзей… И какое еще кино ты снимешь в таком состоянии? Ведь между тем Германом, который снял «Проверку на дорогах» и «Лапшина», и тем Германом, который снял «Хрусталев, машину!», зияет бездонная пропасть!.. С некоторых пор мне стал весьма любопытен тот факт, почему мальчики, выросшие из сытого детства, в котором их возили на машинах, одевали в дорогие костюмчики, которым все давалось на тарелочке с голубой каемочкой, которые даже по счетам в ресторане не платили, к примеру, как вы, великий Алеша, как Ванятка Дыховичный или Сашок Зельдович с Сергуней Ливневым, снимают фильмы с таким презрением к людям, с такой ненавистью к той стране и к тому народу, где они родились и выросли, и главное – снимают о той великой нужде, о тех коммуналках (в которых они никогда не бывали), о крови и поте, в которых жил народ и которых ни вы, Алеша, ни Дыховичный, ни Ливнев с Зельдовичем вкупе никогда не знали и не узнают. В юности для подобных «плейбоев» высшей доблестью было переспать с женой товарища, устроить громогласную пьянку в «Метрополе» и чтоб официанты обязательно кланялись! Действительно, ну не снимать же этим людям кино про тот комнатный коммунизм, в котором они все выросли?»
Ну что ж, попытаюсь защитить хотя бы Ивана Дыховичного. Сытое детство, безусловно, было, хотя закончилось со смертью отца, когда Ивану исполнилось всего пятнадцать лет. Так что поспособствовать карьере никто уже не мог, ну а на машинах он сам себя возил после того, как стал прилично зарабатывать. Можно было бы отчасти согласиться с обвинением в «презрении к людям», но только в том случае, если бы речь зашла о его комедиях абсурда – «Копейка» и «Европа-Азия», да и там я особого презрения не заметил. Есть лишь сожаление, что вот такой народ, такие люди, причем из этого он не пытался делать никакого обобщения. Ну а начни Володарский «гнобить» фильм Дыховичного «Прорва», я бы нашел, как его пристыдить – сценария, который стал бы основой такой сильной, впечатляющей кинокартины, признанный мастер печатного слова за всю свою жизнь не сочинил.
Что же касается Алексея Германа, то в 2002 году он имел возможность защитить себя от нападок Эдуарда Володарского:
«Ночами я сочиняю ответ Володарскому, но днем понимаю, что и это, и это, и это говорить бессмысленно, поскольку ни то, ни другое, ни третье не документировано. Первым завелся, конечно, я: взбесился из-за Сокурова, и не потому, что верный друг. Но я в восхищении от него как от художника и не позволю абы кому его пинать. Взбесился и, наконец, сказал о Михалкове все, что думал… Спровоцировав скандал, я почему-то, честно говоря, ждал творческого спора. Но я не ждал, что, как в истории с неверной девушкой ассенизатора, мне в комнату засунут шланг и спустят пять тонн дерьма. Я забыл, что мы вошли в тот момент, когда можно писать все что угодно. Володарский обвинил меня в родиноненавистничестве за «Хрусталев, машину!». Это картина о России 1953 года. Как можно любить страну той эпохи, когда каждый день в подвалах Лубянки расстреливали лучших ее сынов?.. Хуже то, что мне стало трудно жить вообще и в этой стране в частности. Из-за предчувствия надвигающейся старости. И серости. Из-за ощущения, пусть и неверного, что я умею делать свое дело лучше других. Из-за ощущения, что это мое умение никому не нужно… У меня ощущение надвигающегося ужаса. Как тут быть?»Не стоило бы комментировать, оставив эту возможность Эдуарду Володарскому, но и смолчать тут не могу. А дело в том, что у Германа смешаны разные понятия – любовь к стране и обожание Сталина. Из первого вовсе не следует второе. Любовь к России – это вовсе не восхищение пытками, расстрелами, преследованиями идеологических противников. Можно любить Россию, но при этом ненавидеть алчных лицемеров, дорвавшихся до власти. И что еще в словах Германа коробит – «в этой стране». Как будто есть еще одна страна, любимая. И что совсем уж удивительно читать – это признание собственного превосходства над коллегами. А в самом деле – как тут быть?
Однако предоставлю слово Эдуарду Володарскому:
«Первые его картины были хорошие. А от последних ощущение блевотины… Меня взбесила его картина поганая – «Хрусталев, машину!». И потом он стал нападать на Никиту Михалкова, мол, ему за папиной спиной хорошо жилось. А ведь Герман – сам писательский сынок, жил как у Христа за пазухой. Куча денег была. Папашу его называли «Ленинградский Шолохов» по богатству… Его семье было хорошо и при Сталине, и при Хрущеве… В Канне, когда показывали «Хрусталев, машину!», все уходили, через сорок минут зал совсем пустой был. Даже журналисты и кинокритики, которые хорошо разбираются в кино, – и те ушли. Никто не выдержал. А он считает, что его не поняли».Суровое обвинение, но оно ничего не объясняет. На мой взгляд, было бы несправедливо упрекать режиссера в том, что он так и не создал тот шедевр, который можно было бы сравнить с лучшими фильмами Бергмана и Антониони. Каждый художник творит в меру своего таланта и своих сил, а потому заслуживает благодарности хотя бы за то, что попытался сделать нечто впечатляющее. Увы, признания широкого круга кинозрителей Алексей Герман до сих пор не заслужил. Но все же – в чем причина? По сути, целую главу этому посвятил, однако до сих пор ни в чем так и не уверен. Надеюсь, что-то могут подсказать слова самого Алексея Германа, сказанные в период съемок последнего из его фильмов: «Это кайф неповторимый – создать мир, быть автором мира, которого никогда не было… чтобы ты поверил, что этот мир есть и был, что он такой».
И тут закрадывается подозрение: а что, если все, что сделал Герман в кино, – это его авторская фантазия, которая не имеет никакого отношения к реальности? Все это он пытался нам внушить, хотя ничего подобного на самом деле не было. Он видел мир таким – для этого у него были веские причины. Можно предположить и то, что у большинства его поклонников точно такой же взгляд на мир либо им не под силу в этом мире разобраться, но вот нашелся человек – растолковал и объяснил. Все может быть…
Глава 18. Наследник
Честно говоря, не верю я в возможность существования династии кинорежиссеров. Вот если бы токарь, бригадир буровиков-нефтяников или столяр-краснодеревщик – там это ремесло, ему можно обучить, его можно передать даже по наследству. Однако попробуйте передать кому-нибудь талант! Трудно, даже невозможно представить себе династию поэтов. А почему династия режиссеров может быть? Ну разве что допустить, будто нынче в искусстве процветает ремесло, а подлинный талант так и остается раритетом.
Вот и Алексей Юрьевич тоже сомневался:
«Я был в полном отчаянии, когда Леша решил стать режиссером. Светлана говорила тогда ему: «Ты мне не сын, если пойдешь в кинорежиссеры!» Вы можете себе представить, я стоял перед ним на коленях и говорил: «Не делай этого. Давай я тебе машину куплю». А он мне сказал: «Нет. Машину покупай, но я все равно поеду учиться к Соловьеву». Правда, он говорит, что не помнит этого, маленький был. Но он поехал в Москву к Соловьеву во ВГИК, и мы за ним потянулись караваном, потому что скучали. Переезжая сюда, мы отчасти полагали, что здесь центр искусств. Но оказалось, это не так. Нам не понравилось. И мы из Москвы практически бежали».
Можно предположить, что, как и в случае с отцом, при поступлении в институт не обошлось без «блата». А почему бы нет, если сохранилось уважение к отцу? Впрочем, не всегда такие ожидания сбываются, ну вот и тут – казалось, встретят с распростертыми объятиями, а произошел конфуз: «Когда сын наш поступал, мы пришли во ВГИК, и на ступеньки вывели старушку-преподавательницу. Ей указали на меня и спросили: «Вы помните, кто это такой?» А она ответила: «Конечно, помню. Герман. Документы заставили в шестнадцать лет принять. Безобразие!»
Видимо, чтобы избежать подобного упрека, Герман-младший сначала два года проучился на театроведческом факультете в Петербурге. Однако его вступление в святая святых, то есть в театральную среду, обставлено было так непрезентабельно, что планы на жизнь пришлось радикально изменить: «На театроведческом факультете мне было интересно, но с конца первого курса учиться уже не захотелось. Я даже помню этот момент. Я сидел в библиотеке в читальном зале: это было в 90-е, здание разваливалось. Я пошел курить в какую-то облезлую комнату – профессора, доценты стояли в этом пропахшем дымом дешевых сигарет помещении, а посередине было ведро, в котором плавала отвратительная масса из воды и окурков… И вот в эту секунду я понял, что не готов таким образом провести свою жизнь».
После этого случая Герман и отправился во ВГИК, само собой, в сопровождении родителей. Кстати, у него с поступлением в институт все оказалось совсем наоборот, не так, как я предполагал, – место студента было куплено за деньги, а вовсе не благодаря вмешательству отца. Сейчас такой метод получения образования, что называется, в порядке вещей, ну а тогда в этом было что-то новое: «Отец как раз запустил фильм, получил гонорар и сразу же оплатил мою учебу. Другие варианты просто не рассматривались! Я никогда не понимал – почему дети кинематографистов должны учиться во ВГИКе бесплатно? Лучше заплатить, чтобы не шептались за спиной. Кстати, шептаться будут в любом случае».
И все же непонятно, зачем идти вместе с сыном на экзамен или собеседование, если поступал он не по «блату»? Разве что желающих купить себе престижную профессию хоть отбавляй, а потому и здесь пришлось отцу вмешаться, чтобы не толпиться в очереди. И вот еще вопрос: как можно получать профессию за деньги? Где гарантия того, что какой-нибудь богатенький папаша не только преподавателям приличное жалованье обеспечил, но и экзаменаторов тоже проплатил, так чтобы знали цену выставляемым оценкам. На самом деле, платить должно либо государство, либо будущий работодатель, делая отчисления то ли институту, то ли в государственный бюджет. Тогда еще кое-как можно быть уверенным, что выпускник не подведет, не посрамит свою фамилию.
Конечно, родители очень переживали за судьбу Алексея-младшего. Однако вызвано это было вовсе не страхом перед тем, что сын будет заниматься делом, к которому не приспособлен. Что и говорить, профессия трудная, даже при поддержке отца, даже если «бренд» не требуется раскручивать – вот же он, «Алексей Герман», вроде бы все этим сказано, и нечего устраивать разборки по поводу того, есть ли у наследника талант. Нет, дело не в таланте, тут исключительно забота о здоровье сына, желание избавить его от тех невзгод, которые пришлось пережить отцу:
«Я так не хотел, чтобы Леша становился режиссером. Я не профессии ему не желал, а этих людей, этих бессонниц страшных. Я не хотел этого отчаяния, как у меня».Что толку горевать? Наконец, ВГИК закончен, и впереди реальная перспектива внести свой посильный вклад в российское кино. Но интересно, как уживутся в одной семье два кинорежиссера? Вот что рассказывал об этом Алексей Юрьевич: «Я посмотрел первую его маленькую картину, она мне понравилась. Я долго думал, посоветовал, как ее можно подделать. Он посмотрел на меня так же, как я бы посмотрел, если бы вторглась в наш разговор Вера Холодная. Ничего не сделал… Я помню, как меня мучил папа (замечательный человек, которого я очень люблю), как он меня мучил, как надо и чего не надо. А я в ужасе смотрел на него и думал: «Уйди ты, папа, займись ты своим делом».
После этого случая Герман-старший фильмов своего сына больше не смотрел. Не знаю, насколько благотворно сказалось это на творчестве Германа-младшего, однако за десять с лишним лет он снял несколько короткометражек и три полнометражных фильма. Попробую рассказать о содержании хотя бы этих трех больших кинокартин.
Поначалу я решил, что «Последний поезд» – это ремейк киноленты Пьера Гранье-Дефера, снятой в 1973 году по роману Жоржа Сименона. На фоне событий Второй мировой войны развивается любовная история в исполнении замечательных актеров Роми Шнайдер и Жан-Луи Трентиньяна. С удовольствием посмотрел бы такой фильм. Но, к сожалению, и актеров этого уровня теперь днем с огнем не сыщешь, да и сюжет фильма Германа-младшего вовсе не о том.
Действие разворачивается в тылу немецких войск. В расположение прифронтового госпиталя на последнем поезде прибывает врач Пауль Фишбах, однако оказалось, что госпиталь эвакуирован в связи с приближением советских войск. Осталось несколько человек персонала, которые, по сути, брошены на произвол судьбы. Фишбах решает самостоятельно добраться до своих. В пути он встречает другого немца, почтальона, также отбившегося от части. Наткнувшись на заброшенную деревушку, они обнаруживают там нескольких русских, видимо, из бригады кочующих по фронтам артистов. Почтальон остается с ними, не в силах идти дальше, поскольку незадолго до этого был контужен, а Фишбах дальше идет один. Он видит, как партизаны уничтожают колонну отступающих немцев. Вместе с подошедшим почтальоном они пытаются найти среди немцев выживших, но их нет. Возвратившись к избушке, они обнаруживают, что почти все русские убиты, в живых осталась только одна женщина, но и она тяжело ранена, а позже в тяжких мучениях умирает. Почтальон тоже погибает, видимо, от последствий контузии. В финальных титрах сообщается, что Фишбах пропал без вести, тело его так и не нашли. Да это и не существенно – на войне правит свой кровавый бал смерть, и даже врач в этих обстоятельствах бессилен.
Итак, Герман-младший снял трагический антивоенный фильм. В наше время, когда то тут, то там ведутся локальные войны, совершаются террористические акты, такая тема все еще остается актуальной, поэтому фильм был доброжелательно принят на Венецианском кинофестивале в 2003 году, получив «Приз Луиджи де Лаурентиса – особое упоминание». А в следующем году он удостоился отечественной «Ники» в номинации «Открытие года».
Характерная деталь – я уже писал, что Алексей Герман-старший для своего первого самостоятельного фильма выбрал военную тему, по-видимому пытаясь повторить путь, пройденный Андреем Тарковским, который тоже кинематографическую карьеру начал с кинокартины о войне. Ну вот и Герман-младший не изменил этой традиции. Однако «Проверку на дорогах» спасли от заурядности сцены с участием Анатолия Солоницына и Ролана Быкова, а вот для этого фильма актеров такого уровня не нашлось, да и сценарий не позволил бы им показать свое подлинное мастерство.
Следующий фильм, «Гарпастум», тоже можно было бы при желании назвать антивоенным. События происходят накануне Первой мировой войны, однако фильм не о войне, а о футболе. В основе сюжета – история двух братьев. Отец их прежде увлекался футболом, но, неудачно распорядившись деньгами, разорился и сошел с ума. Вскоре умерла мать, а братьев приютил их дядя, человек довольно обеспеченный. Братья увлечены футболом, пытаются создать свою команду. Возникла мечта – иметь свой стадион, хотя бы свое поле, однако прежде надо выкупить участок на ближайшем пустыре. Чтобы скопить деньги, они начинают играть с другими командами по пятаку за гол, и вот наконец-то требуемая сумма собрана. Но, как нетрудно догадаться, мечты не всегда сбываются. На владельца пустыря наехали бандиты, погибает мальчик-еврей, который должен был передать собранные на покупку деньги, да и деньги вместе с ним пропали. Монотонное течение жизни ненадолго прерывается – рушится мечта, а вслед за тем старшего из братьев мобилизуют в армию. И снова унылая череда событий продолжается под звуки военных маршей, сменяемые очень грустной еврейской песенкой. Затем такое же унылое возвращение старшего брата из армии, снова игра в футбол, снова мечта иметь свой стадион. И почему-то возникает ощущение, что вот пройдет время, и снова будет всплеск в монотонном течении их жизни. Опять будет чья-то смерть, опять мечта погибнет, но через какое-то время вновь все то же самое – надежды, уныние и безысходность.
Этот фильм нельзя назвать трагедией, однако и крушение мечты, и гибель мальчика-еврея вроде бы должны вызывать сочувствие у зрителей. Если попытаться объективно оценить достоинства фильма, то их немало – добротный сценарий, мастерски все снято, да и игра актеров на хорошем уровне. Но дело в том, что главные герои фильма сочувствия у меня так и не вызвали. Сытые, всем довольные, симпатичные ребята. Кстати, заметьте, в чем они играют в футбол – пиджачная пара, белая рубашка, галстук. Россия стоит на перепутье, а у этих барчуков в голове один лишь спорт. В итоге возникает следующего рода ощущение: какие бы испытания ни устроила им судьба в дальнейшем, все у этих племянников аптекаря будет хорошо. Богатый дядюшка или еще какой-то родственник поможет, устроит на престижную работу или в университет. А то и вовсе увезут их за границу, подальше от непонятной, ставшей им чужой страны. Так что, повторяю – наверняка все у братьев будет хорошо, только вот мне это не интересно. Даже тот факт, что дядя Алексея Германа-старшего, Яков Александрович Риттенберг, тоже был аптекарем.
С этим дядей и другими родственниками из того времени непосредственно связано определение, которое дал своему фильму Герман-младший:
«Гарпастум» – это не реализм, не гиперреализм, а такая полусказка, которую я, тем не менее, пытался снимать достоверно… В общем, история о том, как закончилась эпоха».Для того чтобы понять смысл этих слов, надо бы учесть и то, что говорил кинорежиссер в одном из интервью: будто он предпочел бы жить в 1914, ну или хотя бы в 1912 году. Откуда же такая привязанность к той эпохе? Могу только предполагать, однако аргументов для таких предположений предостаточно. Надо лишь припомнить, что среди его предков были и статские советники, и богатые купцы. Кое-кто поговаривал, что был даже самый настоящий генерал. Так можно ли удивляться тоске по этому «сказочному» времени? Судя по всему, члены жюри на кинофестивале в Венеции так и не поняли, зачем нужно было снимать эту картину, так что никаких наград «Гарпастум» в 2005 году не получил. Правда, на следующий год ему снова досталась отечественная «Ника».
Глава 19. Бумажный солдат
Самым примечательным фильмом Германа-младшего стал «Бумажный солдат», снятый в 2008 году. В том же году он получил «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу на Венецианском кинофестивале, а в следующем году, в который уже раз, «Нику» снова за лучшую режиссуру. Вот об этой кинокартине стоит рассказать подробнее.
Основные события фильма происходят в казахстанской степи во время подготовки первого полета человека в космос. На этом фоне развивается любовная история, что-то вроде хорошо известного всем «треугольника». Помимо выяснения отношений главного героя, доктора Покровского, с женой, мы становимся свидетелями его странных рефлексий, не вполне осмысленных переживаний. Покровского мучают уже изрядно всем надоевшие вопросы, что-то вроде: зачем все это, для чего живем, что с нами будет? Впрочем, фон для всех этих перипетий снят просто замечательно – полуразрушенные бараки, степь и предчувствие чего-то страшного, неотвратимо безнадежного. Примерно то же было в «Лапшине», во время облавы на преступника. Но здесь предчувствия сбываются – «бумажный солдат» умирает во время старта ракеты с Юрием Гагариным.
И все-таки некоего подобия ремейка «Лапшина», однако на другой сюжетной основе, так и не случилось. Причина, на мой взгляд, в том, что для отца писал сценарий Эдуард Володарский, подлинный мастер пера, ну а здесь… Вот если бы фильм смотреть не слыша того, о чем персонажи фильма говорят между собой! Но как без этого? Впрочем, душевные и идейные метания главного героя, пожалуй, я назвал бы интересными, если б они не были столь расплывчаты, так что в причинах довольно трудно разобраться. Да вряд ли и сам Покровский смог бы объяснить все это внятно. В общем, со сценарием режиссеру не повезло – речь о беспомощных, совершенно бездарных диалогах. Я вовсе не хочу, чтобы диалоги были умные – пусть будут самые обыденные, пустые, почти бессмысленные. Но дело в том, что такой диалог написать куда труднее, чем содержательный, насыщенный оригинальными идеями текст беседы «рафинированных» интеллигентов, интеллектуалов. И вот возникло подозрение, что, как и в неудавшемся фильме «Вдох-выдох» Ивана Дыховичного, и здесь не обошлось без вмешательства в текст сценария самого кинорежиссера, что в общем-то вполне естественно. Так оно и оказалось:
«Сценарий был написан достаточно быстро – всего за два месяца. В итоге от первоначального варианта мало что осталось. Потому что я сам и начал переводить эту версию на киноязык, на тот «текст», который будет понятен мне. Для этого пришлось уединиться месяцев на восемь на даче».
«Понятен мне» – это еще не означает, что понятен многим. Добавлю, что и беседы интеллектуалов в фильме тоже не вызывают восхищения. Возможно, режиссер задал тему, интонацию и предложил актерам свободно говорить, но только ведь проблемы интеллигенции 60-х годов – это для нынешнего поколения совсем чужое. Не те нынче времена! Вот, например, в кинокартинах «Застава Ильича», «У озера», в «Девяти днях одного года» это получилось, поскольку разговаривали примерно о том самом времени, в которое снимался фильм. С другой стороны, в фильме «Гарпастум» текст, что называется, вполне на уровне, несмотря на значительный разрыв во времени. Но этому есть объяснение – весьма квалифицированные, на мой взгляд, сценаристы Александр Вайнштейн и Олег Антонов.
А вот из текстов, произносимых в «Бумажном солдате», тем более в переводе, члены жюри кинофестиваля в Венеции, скорее всего, не поняли буквально ничего. Так что «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу присудили фильму, по сути, за изобразительное его решение, за игру Чулпан Хаматовой, за мастерство оператора и за столь впечатляющие эффекты, как неоднократное появление в кадре портрета Сталина – его пытается продать какой-то бедолага близ космодрома Байконур. Напомню, что в «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова тоже не обошлось без портрета Сталина, но там его личность изобразили более масштабно, на воздушном шаре. Видимо, такой портрет – это тот ключик, который открывает сердца членов жюри на кинофестивалях.
Но предоставлю слово признанному знатоку кино, а также хорошему знакомому Германа-отца, Михаилу Лемхину. Вот у него возражения принципиальные, гораздо глубже, чем недовольство диалогами:
«Это обман. Обман, потому что доктор Покровский совершенно не похож на бумажного солдатика. Как не похож на бумажного солдатика умирающий от облучения Гусев из «Девяти дней одного года» (структуру которого повторяет фильм Германа). Как не похожи на бумажных солдатиков герои «Заставы Ильича» и «Листопада». Я перечисляю характеры, из элементов которых Герман сконструировал своего доктора Покровского… Очень похоже, что режиссер, родившийся в 1976 году, не видит разницы между интеллигентом 1961 года (скажем, Гусевым) и интеллигентом 1982 года (Горчаковым)».Здесь поясню, что речь идет о Горчакове – герое фильма Андрея Тарковского «Ностальгия». И далее: «Любой из тех, кто пережил это время, знает, что люди оттепели и люди эпохи «развитого социализма» – это довольно разные люди. Время изменилось. Можно последить за вехами этих перемен, но настоящая граница между двумя эпохами была проведена, как известно, на рассвете 21 августа 1968 года, когда советские танки вошли в Чехословакию. До 1968 года людей, о которых говорит Герман, можно было сравнивать со стойкими оловянными солдатиками (из сказки Андерсена, от которой отталкивался Окуджава, сочиняя свою песенку) – они хотели бороться и готовы были даже, сжав зубы, терпеть. После августа 68-го они (многие из них) превратились во внутренних эмигрантов, а позже в беглецов и в эмигрантов настоящих… часть зрителей – по крайней мере, та часть, о которой и пытается судить молодой режиссер, – посмотрев этот фильм, скажет: «Хорошее это кино или плохое – отдельный вопрос. Но оно не про нас».
В какой-то степени ответом на упреки Лемхина стал рассказ Германа-младшего о предыдущем своем фильме, о «Гарпастуме»: «Когда папа снимал «Лапшина», там была колоссальная основа, помимо литературной: дедушкины фразы, мелкие детали, которые папа с детства помнил. У меня подобное бы не получилось. Поэтому придумываю условия игры, в которых все происходящее должно выглядеть органично. На мой взгляд, любая история из прошлого – сочинение времени. Так что это никакая не историческая картина, а выдуманная история про выдуманное время и людей. Мы не претендуем на достоверность, это картина моего восприятия времени».
Но как можно воспринять время, если родился через несколько лет после событий, описанных в фильме «Бумажный солдат»? И возникает подозрение, что Герман-младший попытался сделать фильм о том, чего не знает и не в состоянии понять. Оказывается, это и не нужно, поскольку его интересует не время, а собственное представление о времени. То есть не важно, правильное или ошибочное – важен идеологический подтекст. Фильм антисталинский, пусть так, но и не только, он вообще какой-то «анти»… А потому что создается впечатление, будто со смертью главного героя жизнь закончилась, да и вообще не имеет смысла жить на этой территории, «в этой стране». «Поначалу я просто недооценил сложности материала. Понимать это начал по мере написания сценария. Первая версия была просто невнятной исторической мелодрамой. Абсолютно бессмысленной… И я стал вытаскивать из себя иные идеи… «Бумажный солдат» – не стопроцентная копия 60-х годов. Я допускал, что в картине могут быть некие расхождения с действительностью. Мне представлялось более важным передать дух времени, эмоции того поколения».
И снова как бы оправдания. Только откуда же ему знать про «дух времени», про «эмоции того поколения»? Ну разве что из рассказов своего отца. Так ведь у отца тоже субъективное, собственное представление. Я бы предположил, что Герман-младший задумал снять фильм о метаниях интеллигента в наше непростое время, однако не нашел подходящего материала, и еще очень уж хотелось показать в кадре тот портретик Сталина, «ущучить» мертвого вождя. Скорее всего, режиссер видел аналогию между началом 60-х и началом 90-х, понимал это по-своему, и вот, поскольку «оттепель» тогда закончилась и причины всем понятны, захотелось свое представление о 90-х реализовать, вернувшись в фильме на тридцать лет назад.
«Это было время, когда казалось, что скоро наступит новая прекрасная жизнь. В начале 60-х появилось совсем другое дыхание времени: буквально за два-три года до этого страна изменилась, у людей появилось ощущение невиданной свободы. Правда, все это довольно быстро закончилось. По большому счету это история потерянного поколения, которое в полной мере себя не реализовало».
Читаю эти отрывки из разных интервью Германа-младшего, и постепенно возникает ощущение, что приближаешься к разгадке, что сквозь завесу умных слов уже просвечивает лучик истины. И вспоминаются фильмы Бергмана, Тарковского, даже Ивана Дыховичного – я не пытаюсь сравнивать уровень мастерства, но всем им хотелось в своих фильмах вспомнить о прошлом, помянуть родителей. Ну вот и здесь наверняка что-то подобное:
«Мне хотелось сделать фильм о поколении моих родителей, чья молодость прошла с ощущением, что осталось сделать еще несколько шагов, и все получится… В итоге к 62-му году все начало заканчиваться, а к 68-му году закончилось совсем. Мне хотелось снять фильм о вере. О вере в страну, в возможность сделать следующий шаг. Это достаточно сложная тема, и сценарий писался достаточно сложно… Я пытался поместить в то время и в те обстоятельства людей, которых я знаю… Можно сказать, что я снимал сочинение по мотивам времени».О поколении родителей, о вере в страну… Довольно смелый поступок – делать фильм по мотивам времени, которого не знаешь, о котором судить пытаешься только по рассказам своего отца. Будь я на месте режиссера, переворошил бы воспоминания политиков, писателей и диссидентов о 60-х годах – без этого невозможно ощутить то время. Вот ведь когда писал об истории любви Булгакова к княгине, многие мегабайты информации пришлось переворошить. Однако у Германа-младшего свое понимание того, как нужно делать фильм о прошлом: «Я пытался поймать ощущение от времени, дух времени, но я вовсе не собирался делать «ретро». Я пытался поместить в то время и в те обстоятельства людей, которых я знаю. Я снимал фильм о своих знакомых – о том, какими были их родители или какими могли бы быть они сами, если б жили пятьдесят лет назад. Что же касается архивных материалов, то мне, например, кажется, что поэзия, музыка или живопись дают более достоверное ощущение времени, чем, допустим, кино».
Как можно поймать ощущение времени, если не жил тогда? Поэзия, музыка и живопись… Конечно, можно делать фильм «Трудно быть богом» на основе того, что навеяно картинами Иеронима Босха, однако какую живопись рассматривать как отражение 60-х? С музыкой чуть легче, но ведь это всего лишь несколько песен Галича и Окуджавы. Словом, о «достоверном ощущении времени» речь тут не идет. Печальная сказка, и не более. Но о ком?
И вот наконец-то самое ценное признание:
«В фильме «Бумажный солдат» разные смыслы. Те, кто не рожден в СССР, могут не до конца прочувствовать его в силу иного воспитания. Но в картине, на мой взгляд, есть вещи, которые не наложены только на российский контекст. Например, итальянцы приняли мой фильм очень эмоционально, а англосаксы – как тему ответственности и науки. На самом деле это повествование о невероятно хрупком и тонком человеке – о его судьбе. О том, что на самом деле у него нет настоящих друзей, а искренне его любят только родители».
Теперь становится понятно, что этот фильм навеян мыслями об отце, недаром в первом варианте сценария Даниил Покровский был евреем. Да и профессия героя фильма была Герману-старшему близка – напомню, что в юности он собирался стать врачом по примеру матери. «У него нет настоящих друзей, а искренне его любят только родители»… Теперь припомните, что я писал по поводу друзей Алексея Юрьевича, о добрых отношениях в семье. Этот фильм – о разочаровании, которое постигло Германа-старшего в 60-е годы. Сначала – любовь к своей стране, а затем дошло чуть ли не до ненависти. Героя фильма эти переживания свели в могилу, но вот и отец тяжело болел. Правда, и ненависть, и болезнь возникли гораздо позже, когда запрещали его фильмы. Подобный переворот произошел и в сознании деда, Юрия Павловича, который лишь после смерти Сталина стал осознавать, что в своем обожании вождя был, мягко говоря, не прав. В ка кой-то степени Покровский из «Бумажного солдата» – это и врач Левин из повести «Подполковник медицинской службы». Левин разочаровавшийся, Левин опустошенный, не видящий смысла дальше жить. Внук словно бы переместил Левина в другое время и попытался дописать историю, которую не завершил когда-то его дед.
Возможно, кто-то возразит, мол, все не так, у Алексея Юрьевича было огромное количество друзей. Что ж, в подтверждение своих мыслей приведу отрывок из ранее процитированного интервью:
«После «Лапшина» уже не было никаких людей, которые бы за меня заступились, все исчезли. Только один человек позвонил в мой день рождения, а у меня всегда собиралось по 30–40 человек».
Если и это не убеждает, то снова повторю то, что уже цитировал:
«Люблю Абдрашитова, Миндадзе, еще несколько человек, с которыми, кстати, не общаюсь. Просто их уважаю».Тут надо уточнить, что, предполагая отсутствие друзей, я, прежде всего, имел в виду друзей среди коллег. Однако были еще близкие знакомые Светланы Кармалиты, так что некий круг общения существовал, ну как без этого? Но если после смерти у Алексея Германа появилось великое множество друзей, я не стану удивляться – с известными людьми так обычно и бывает.
Словом, вот это я и пытался доказать: есть что-то общее в характерах этих людей, Алексея Германа и Даниила Покровского. Впрочем, по поводу упомянутых мною добрых отношений в семье возникает некоторое сомнение после такого признания сына:
«Папа всегда находился в мучительном диалоге с собой. Погружался в него глубоко, поэтому иногда, когда что-то вырывало его из внутреннего пространства, мог накричать. Но и я способен был ответить в том же духе. Мы в семье все сложные и нервные люди».Однако это пустяки, с кем не бывает. Совсем другое дело, когда возникают более существенные противоречия. Напомню, что говорил Алексей Юрьевич в 2004 году, комментируя высказывание Андрея Кончаловского о том, что «люди перестали искать ответы на экране»: «Люди хотят искать ответы, и люди хотят ставить вопросы. Просто люди стали очень разные, а не одинаковые, в кинематограф пришел другой зритель. Поймите, допустим, у нас уехало сто тысяч человек из Советского Союза, это уехало сто тысяч зрителей лично моих, это уехало сто тысяч зрителей Сокурова. Это не уехали сто тысяч зрителей Кончаловского, каковым является Кончаловский сейчас, не Кончаловский времен «Дяди Вани», эти уехали, да он и не пожалел, а это уехали зрители современные».
«Люди хотят искать ответы…» Возможно, я не совсем точно понял, но мне кажется, что речь тут и о том, что творчество кинорежиссера найдет признание у людей только при условии, что его фильмы в образной форме дают ответы на вопросы, которые волнуют зрителей. Однако у Германа-младшего иное понимание задач кино, он возмущен тем, что кое-кто занимается несвойственным ему делом: «Вместо того чтобы делать то, от чего замирает сердце, кинематографисты начали объяснять, почему все так, а не иначе. Не надо объяснять, надо делать».
Герман-младший недоволен, что некоторые кинорежиссеры увлеклись политикой и демагогией вместо того, чтобы снимать фильмы. Казалось бы, отец и сын говорят о разном, но по большому счету – об одном. В наше время делать фильмы, от которых «замирает сердце», – этого явно недостаточно. Слишком много накопилось проблем, слишком много вокруг вранья и лицемерия. Так вот задача настоящего художника в том, чтобы попытаться объяснить или хотя бы направить мысль зрителя в нужном направлении. Конечно, делать это надо средствами кино.
Однако возвратимся к фильму «Бумажный солдат». Кстати, вначале у него были другие варианты названия – «Отряд», «Гагарин & Co», – вполне соответствовавшие первоначальному замыслу. Потом, как мы знаем, все переменилось. Это признает и сам кинорежиссер:
«Изначально это был фильм только об отряде первых российских космонавтов. Мы их знаем улучшенными, «приодетыми». А суть в том, что интересна история смелых и прекрасных молодых людей, которые впоследствии были превращены в неодушевленные памятники из стали и бетона. Постепенно сценарий трансформировался, и теперь у нас история не только о первом отряде космонавтов, но и о тех людях, которые их окружали».Честно говоря, истории о первом отряде космонавтов я в этом фильме так и не нашел, сколько ни напрягал глаза. Да нет там этого! Впрочем, о космонавтах мы и без того довольно много знаем. Но вряд ли кто-нибудь мог предположить, что Герман-младший «перебежит дорогу» известному британскому кинорежиссеру Алану Паркеру. Вот что тот говорил за несколько лет до выхода в свет «Бумажного солдата»: «Есть у меня один хороший сценарий. Это о жизни Юрия Гагарина. Чтобы отразить отношение Запада к такому великому человеку, как Юрий Гагарин. Что-то в этом духе. Потому что в момент, когда Гагарин взлетел в космос, просто весь народ был шокирован. Это немыслимое, потрясающее достижение науки советской. Американцы потратили немыслимое количество денег, чтобы изобрести ручку, которой можно писать в космосе. А русские очень просто решили этот вопрос – взяли и использовали карандаш».
Могу сказать одно: жаль, что фильм так и не был снят. Реальные причины мне неизвестны, однако вряд ли фильм был бы посвящен душевным переживаниям врача на фоне унылых пейзажей казахстанской степи. Впрочем, бараки, оборванных туземцев и бескрайнюю степь исключить никак нельзя – это и есть тот самый «карандаш».
И, завершая рассказ о «Бумажном солдате», замечу, что все написанное мной выше о причинах довольно резкой трансформации замысла его создателя – это не более чем предположения. Скорее всего, Герман-младший, снимая фильм, этого не сознавал, просто делал то, что душа ему подсказывала. А вот что подсказала голова:
«Никому авторское кино в современном его состоянии не нужно, ведь сейчас в кино важно не художественное удивление, а удивление социальное. Я видел достаточно много успешных фильмов, построенных по единому принципу: про страдания беженцев, про несчастных детей на Ближнем Востоке, что имеет место быть, но эти фильмы не становятся актами искусства… потому что там есть все что угодно, кроме таланта. Само понятие «авторское кино» абсолютно и окончательно дискредитировано. Режиссеры перестали быть режиссерами, а стали журналистами».
Готов согласиться с этим утверждением, но вот что меня смущает. Фильмы Германа-старшего «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталев, машину!» тоже про страдания людей, причем об этих фильмах говорили, что это нечто среднее между документальным и художественным кино. Да и сам Герман-старший соглашался: «Я всегда был больше документалистом, реалистом, чем созерцателем». Так что довольно странно было бы слышать утверждение сына, будто отец его тоже «журналист». Но дальше – больше:
«Реализм – не как идея, а как манера – умер. Крупнейший всплеск, который завершит, видимо, развитие реализма, – папино кино. Он доведет эту идею до совершенства, до абсолюта. Поставит точку и подтолкнет к будущему. Мне кажется, должен возникнуть какой-то иной киноязык, который позволит говорить интереснее, умнее и точнее, чем нынешний».Вообще-то реализм, доведенный до «абсолюта», – это, на мой взгляд, не что иное, как натурализм, тупое копирование действительности. Существовало даже модное течение в американской живописи, когда на холсте изображался, скажем, мотоцикл, но так, что никакая фотография по качеству с ним бы не сравнилась.
Но вот что вновь меня смущает: свою мысль Герман-младший высказал, когда задумывал «Бумажного солдата». Что же такое этот фильм, если положенный в его основу метод к тому времени скончался? Ведь мы же убедились, что этот фильм – попытка повторить один из лучших фильмов своего отца, ну разумеется, использовав иной сюжет с другими персонажами. Ну а тогда мне вот что непонятно: как и к чему может подтолкнуть тщательное, скрупулезное воспроизведение действительности? Разве что художника постигнет разочарование, возникнет мысль, будто все сделано не так. Тогда впору вешаться или же лечь на диван, уставиться в потолок и ждать, когда снизойдет то ли новый язык, то ли новый стиль в кино. Абсолют или не абсолют, но к поиску новых форм это не имеет отношения. Поставленная художником цель, к примеру, идея, заложенная в текст сценария, сама диктует способ ее выражения. Если же из фильма в фильм повторяется одно и то же, то это всего лишь ремесленная поделка на потребу публике, ради достижения успеха.
Но вот еще об «абсолюте» – речь о последнем фильме Алексея Юрьевича, «Трудно быть богом»:
«Это вообще больше, чем кино. Это вообще другое. На мой взгляд, с точки зрения развития кинематографа, если говорить по аналогии с литературой, по аналогии с живописью, это вообще разговор на другом языке. Картина, во-первых, не имеет аналогов в мире, потому что так никто не говорит на языке такой сложности, такой интенсивности. Отец считал, что эта картина требует невероятной внутренней работы, внимания, внимательности и погружения. То есть условно не для дебилов».Честно говоря, так и не понял, то ли это реализм, доведенный до абсолюта, то ли там совсем «другой язык». Было бы неплохо, если бы этот язык оказался нам понятен. А то ведь кто-то что-то говорит, а ты, разинув рот, делаешь вид, что понимаешь, и восторгаешься, и рукоплещешь. Но все лишь потому, что создатель фильма – твой кумир. Или просто не решаешься противоречить наиболее ретивым его восхвалителям. Лично меня успокаивает только то, что этот другой язык «не для дебилов».
Кстати, у Александра Сокурова по поводу языка кино собственное мнение:
«Кино как искусство не сформировало еще своего языка, своего независимого языка. Я имел в виду, что кино постоянно пользуется услугами то литературы, то живописи, то фотографии, то театра. А вот собственного, абсолютно независимого, рожденного внутри у него еще мало».Ну почему же нет? Ведь был же свой язык у Дзиги Вертова, основанный на оригинальном монтаже. Да и не может быть киноязык универсальным. А впрочем, тут нет смысла спорить – у каждого кинорежиссера собственное мнение, не говоря уже о зрителях.
Вообще-то я далек от того, чтобы давать советы дипломированным сценаристам и режиссерам, однако вот что хотелось бы сказать. Конечно, есть некоторая часть зрителей, которые в восторге от фильмов Сокурова, Германа и Муратовой, им это, что называется, в жилу – не стану пояснять, по какой причине. Но если такие фильмы им нужны просто позарез, пусть они их и финансируют, если не хотят смотреть ничего другого.
Один из аргументов в пользу создания подобных фильмов может быть в том, что они предназначены исключительно для завоевания наград на кинофестивалях, в особенности тех, что проходят за рубежом, – а это уже работа на престиж своей любимой родины. Можно рассматривать такие фильмы и как авторский эксперимент, однако опыты дешевле производить на узкоформатной пленке и демонстрировать специалистам, скажем, на кинофестивале «Завтра», основанном покойным Иваном Дыховичным. Но все это не более чем мнение одного из обычных зрителей, а вовсе не кинокритика и не киномана.
А вот еще одно откровение Германа-младшего в связи с последним фильмом его отца:
«Картина технически будет доделана за три-четыре месяца. Потом будет премьера. Потом будет премьера соответственно в Петербурге. Первый показ. Возможно, будет на каком-то крупном международном фестивале, но не в конкурсе, потому что это неправильно. Папе не надо ни с кем соревноваться».Вот тоже не пойму – то ли не надо, то ли просто не с кем? На мой непрофессиональный взгляд, подлинное искусство существует отнюдь не по законам спорта, ну а распределение призовых мест на кинофестивалях – это как раз, может статься, для дебилов. Ну, чтобы знали, что следует, а что не следует смотреть, чем нужно непременно восторгаться, а что принято в культурном обществе ругать. Однако не стану вдаваться в эту тему – как-никак речь о последнем фильме недавно ушедшего из жизни кинорежиссера.
Глава 20. Кино как бизнес
От абсолютной реальности в кино перейдем к оценке реалий нашей жизни, высказанной Германом-младшим:
«Общество заблудилось в словах и лозунгах. Мы – страна растерявшаяся. Мы запутались. Разрушены глубинные коды социального поведения. Как поступать правильно? И, главное, зачем? Одни люди нам говорят, что мы должны почему-то немедленно ввести евро и войти в Европу, где нас не очень ждут, кстати. Другие твердят, что надо везде ввести танки и всех стращать. А консолидации нации так и нет. У нас общество болтологии. Все болтают – как вместе сделать так, чтобы жить стало лучше. Но при этом в стране уже нет базовых понятий «хорошо» и «плохо», есть лишь тактические ситуации».
Про болтологию все правильно, ну вот и здесь в какой-то степени болтовня по поводу весьма нетривиальных тем. Истина рождается, как известно, в споре, так что без дискуссии, хотя бы и заочной, нам никак не обойтись, поскольку в том, что касается базовых понятий, не могу с режиссером согласиться: есть они, есть – достаточно вспомнить известные всем христианские заповеди. Беда в том, что их почти никто не соблюдает, а в основном следуют законам рынка. Но почему?
«Мы сами уже не те. Тогда в глубине души мы верили, что мы лучше всех на планете. А потом поняли, что живем на общих основаниях и ничем не отличаемся от остального мира. Что у нас будут такие же супермаркеты, машины и марки чая, такое же потребительское общество. И вот мечты сбылись: у нас все – или почти все – такое же. Возникает во прос: чем мы как нация отличаемся от остальных? В чем мы другие? Жить в одном большом супермаркете – глобализованном мире – у нас как-то не получается. Выходит, что, как только мы потеряли мессианскую составляющую, мы проиграли».
По поводу того, что потеряли – это вряд ли. Есть еще Пушкин, Достоевский, Чехов, Лев Толстой, Булгаков и Платонов – книги их стоят на полках магазинов во многих странах мира, и никто не собирается их бросать в костер. Если позволительно так сказать, то мессианскую роль русской литературы еще никто не отменял, а потому рано горевать по поводу того, что мы все проиграли. Дело тут в другом. Если прежде на первом месте стоял человек с его нравственными переживаниями, поисками истины, попытками осчастливить человечество, пусть иногда крайне неудачными, то вот теперь приоритетом стал личный кошелек. И между прочим, не мы это придумали. А изменить такое понимание смысла бытия смогут только русская литература и русское кино. Тут, повторюсь, я согласен с мнением Сокурова.
Ну вот и Герман-младший не верит в то, что нас спасут политики:
«В глубине души и демократы, и недемократы понимают: во всем, что они говорят, есть какой-то изъян. Но остановиться и сказать: «Ребята, давайте разберемся!» – никто не хочет. Отсюда и эта истерическая попытка перекричать друг друга, как на стадионе: кто громче заорет, тот и прав. В итоге наша жизнь перешла из области движения вперед в область громкости звука».Все истинная правда! Я даже лет тридцать как перестал ходить на стадион – вместо того чтобы получать удовольствие от игры, старательно зажимаешь уши. Теперь весь смысл футбола в том, кто из болельщиков кого перекричит – к примеру, бело-голубые или красно-белые. Увы, дошло и до того, что даже художники не в состоянии между собой договориться. Ярким примером служит конфликт, связанный с попытками возрождения «Ленфильма».
Но для начала о том, что Герман-старший говорил о ситуации с московской киностудией:
«У нас существует стенограмма, где глава АФК «Система» говорит, что он лично назначил директора «Мосфильма» Карена Шахназарова. И, кстати, жалеет об этом, потому что творцов не надо назначать. Впрочем, насчет творцов не стоит преувеличивать – не Тарковского назначил. Так кто же этот человек? Я это говорю, и меня заливает непонимание и гнев. Как это может быть, что в демократическом государстве какой-то богатый человек назначает директором очень большой и важной для страны киностудии своего человека?»Вот это опасение, что киноискусством станет управлять бизнес, станет диктовать, какое кино надо снимать, а какое попросту невыгодно, – все это и вынудило известных петербургских режиссеров включиться в борьбу за возрождение «Ленфильма». Вот что на эту тему говорил Сокуров: «Культура – это индустрия. А кинематограф – тем более индустрия. Надо в этом разбираться. Надо понимать, зачем нужны киностудии, зачем нужен «Ленфильм», чем он должен отличаться от «Мосфильма» и каков политический подтекст существования такой сильной, мощной студии, как «Ленфильм». Мы декларируем «Ленфильм» именно как студию исторического, авторского, гуманитарного, национального кино и одновременно как студию дебютов. Ни одной такой студии в нашей огромной стране нет».
В принципе, довольно убедительно, тут есть что обсуждать. Однако у Германа-младшего несколько иное мнение, основанное на финансовых соображениях: «Надо понимать, что «Ленфильм» привлекает кредитные деньги, а их надо возвращать. Студия должна стать рентабельной. Требовать деньги и вместе с тем требовать, чтобы «Ленфильм» снимал только авторское кино, – это отложенная смерть студии. В советское время здесь снимали Авербах или Кира Муратова – но снимались и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Задача студии – собирать таланты не только в Питере, но и по всей стране, а потом способствовать тому, чтобы они могли снимать и развиваться. И создавать разное, но хорошее кино. И авторское, и массовое».
В итоге оказалось, что бизнесменам куда легче договориться, чем кинорежиссерам, которые еще только собираются заняться бизнесом. Возник конфликт: Сокуров был недоволен тем, что Алексей Герман – художественный руководитель студии, а кроме того, еще вроде бы и акционер, причем его жена Светлана Кармалита – руководитель общественного совета студии, и мало этого, Герман-младший входит в совет директоров. Если же принять во внимание, что кандидат на место директора, поддерживаемый Сокуровым Андрей Сигле, был стараниями совета директоров уволен, позже восстановлен по решению суда и вновь уволен, то возмущение Александра Сокурова вполне можно было бы понять: «Я решительный противник такого состава совета директоров, решительный противник захвата власти на «Ленфильме» семьей Германов».
Вообще-то в совмещении обязанностей кинорежиссера и руководителя киностудии нет ничего необычного и невероятного. Вот ведь и Карен Шахназаров снимает фильмы на той же студии, которой и руководит. Было бы странно, если бы он снимал свои кинокартины, скажем, на «Ленфильме». Да и кто бы ему позволил это, хотя я тут, возможно, и не прав. Влияет ли директорство на качество производимых фильмов, не могу определить – хотя бы потому, что не с чем сравнивать. Нельзя же Карена Георгиевича заставить отказаться от занимаемой должности, а вот тогда уж попытаться оценить, насколько это благотворно скажется на его новом фильме. Да это было бы и негуманно, и уж наверняка несвоевременно в преддверии девяностолетия «Мосфильма», который именно стараниями Карена Шахназарова был возрожден.
Прежде чем продолжить рассказ о конфликте, связанном с «Ленфильмом», приведу фрагмент из воспоминаний Николая Ароновича Коварского, первого мужа Татьяны Александровны Риттенберг, об Адриане Ивановиче Пиотровском – с 1928 по 1937 год он был художественным руководителем ленинградской фабрики «Совкино», позже переименованной в «Ленфильм»:
«Он часто менял комнаты, в которых работал. Каждый раз, когда я вспоминаю о нем, он видится мне в другом кабинете. Виноват в этом был, разумеется, не он, а та постоянная лихорадка организационных и административных перестроек, которою студия «Ленфильм» болела со дня рождения, болеет, кажется, и по сей день. После каждой такой перестройки кабинет Пиотровского переезжал в другую комнату. Все они были необжитыми, неуютными, обставленными какой-то случайной мебелью. Очередной директор студии (их только до войны сменилось, кажется, восемнадцать или двадцать) мог, заново придумывая организационную схему «Ленфильма», ограничить в своей вновь придуманной схеме должность Пиотровского такими-то и такими-то обязанностями. Но никто из сценаристов, режиссеров, операторов, художников с этими ограничениями не считался. К Пиотровскому шли и обращались не как к «главному» или «заместителю», а прежде всего и только как к Пиотровскому… Пиотровский был душой «Ленфильма».Эти воспоминания написаны в 60-х годах, а кажется, что в них рассказано о дне сегодняшнем – административные перестройки, нескончаемая череда сменяющих друг друга директоров. А между тем в 30-х годах на киностудии «Ленфильм» было снято много замечательных фильмов – это кинокартины Козинцева, Трауберга, Хейфица и других известных режиссеров. Видимо, творческий успех достигается не только и не столько благодаря умелому администрированию, но прежде всего наличием талантливых творцов и такого великолепного худрука, каким был Адриан Иванович Пиотровский.
«В необжитых, неуютных, скверно обставленных комнатах работал человек, без которого «Ленфильм» никогда не занял бы того высокого места в советском искусстве, какое занимал он целые десятилетия. С его помощью созданы были фильмы: «Чертово колесо» и «Обломок империи», «Катька – бумажный ранет» и «Одна», «Встречный» и «Депутат Балтики», «Юность Максима» и «Семеро смелых» и множество других, которые стали классикой советского кинематографа. К Адриану Ивановичу относились по-разному – одни любили его, другие – нет, но все решительно обращались к нему за советами и помощью. Ибо не существовало на «Ленфильме» картины, сценария, замысла, роли, которые не были бы в той или иной мере обязаны Пиотровскому своим существованием, своим возникновением, своей реализацией. Появлялся ли на «Ленфильме» новый сценарист или режиссер, привлекался ли к работе над сценарием тот или иной крупный писатель, поручалась ли молодому актеру ответственная роль – все это происходило по большей части по инициативе Пиотровского… В сущности, не было ни одного сценария и в немом периоде «Ленфильма», и в звуковом (до 1937 года), в котором он не мог бы считаться соавтором в прямом и точном смысле этого слова».
Рискую быть обвиненным в чрезмерном цитировании ради увеличения объема книги, однако так и не решился выкинуть из приведенных отрывков ни единой фразы. Уж очень привлекательный образ возникает, когда читаешь эти строки. Такие люди в нашей жизни встречаются нечасто. Можно только позавидовать сотрудникам «Ленфильма», которые работали под началом Пиотровского.
Не менее восторженно отзывался о ленфильмовском худруке и Юрий Герман в статье, написанной в 1964 году:
«Адриан Иванович Пиотровский, светлая память о котором никогда не изгладится из сердец людей, знавших его, получил в свое время подарок – часы, на которых была гравировка такого содержания: «Автору всех наших фильмов». И подписи – бр. Васильевы, С. Герасимов, Ф. Эрмлер, Г. Козинцев и Л. Трауберг, И. Хейфиц и А. Зархи, А. Иванов… Я помню, что «Чапаев» был выброшен из плана – был такой период. Адриан Иванович оглаживал братьев Васильевых по плечу, внушал им, сам измученный предельно:
– Не слушайте! Снимайте! Выходит! Очень выходит! А все эти пустяки оставьте мне. Я – управлюсь. Я – двужильный!
Г. М. Козинцев говорил мне, что, если бы не Пиотровский, фильма о Максиме вообще бы не существовало. А как Пиотровский защищал нас с С. А. Герасимовым, нашу картину «Семеро смелых»! И как по ночам помогал нам, совершенно запутавшимся в сценарии, распутать его и довести до нормы. А ведь мы были молоды, горячи, нас тоже нужно было уговаривать, нам приходилось объяснять довольно очевидные вещи».Жизнь Адриана Пиотровского оборвалась в 1937 году, когда он был обвинен в шпионаже и расстрелян по приговору трибунала. Печальная, трагическая история. Можно посочувствовать и работникам «Ленфильма», которые потеряли сильного и умного руководителя. Нынешние проблемы киностудии, конечно, не связаны с последствиями сталинских репрессий – это результат радикальной, но плохо продуманной перестройки экономики. Надеюсь, что со временем жизнь киностудии войдет в нормальную колею, только бы нашлись там люди, которые смогут стать душой «Ленфильма» – такие, каким был Адриан Пиотровский.
Однако вернемся к конфликту Германов с Сокуровым. Оскорбленный вроде бы незаслуженными обвинениями Герман-младший написал Сокурову ответ, из которого я приведу лишь несколько строк, поскольку к пониманию ситуации на «Ленфильме» это письмо ничего не добавляет:
«Вы утверждаете, что имел место некий заговор, в результате которого на открытых слушаниях была выбрана не поддержанная Вами концепция развития студии, а другая… Обвиняя других (в том числе и моих близких) в интригах и обманах, Вы узурпируете для себя право быть общей «совестью»… Читаешь Вас, и получается, что только благодаря Вам «Ленфильм» пока выжил».Здесь обойдусь без комментариев, поскольку о делах на «Ленфильме» можно судить лишь глядя изнутри – если же смотреть со стороны, тогда любое мнение может показаться субъективным и абсурдным.
Следующим этапом развернувшегося сражения стало открытое письмо Александра Сокурова, направленное министру культуры Владимиру Мединскому. Это уже что-то вроде ультиматума:
«Мое несогласие с процедурой принятия решений по проблемам «Ленфильма» и составом совета директоров Вам хорошо известно – и после моего обращения к председателю правительства, и из нашей переписки и личных разговоров. К сожалению, мои предложения о решительном препятствовании распространению семейственности, большей профессиональности совета не были услышаны, я даже не получил никакого ответа на мои системные возражения и вопросы. Из всего этого могу сделать вывод – мое нахождение в совете является формальным, символическим. Мой голос ничего не решает. А моральная ответственность остается. Могу ли я забыть, что существует моя личная ответственность перед президентом России в решении проблем студии? Вопрос риторический. В. В. Путин, приостанавливая приватизацию студии, прислушивался и к моим доводам, к доводам моих уважаемых коллег. И в этом доверии была надежда, что мы с Вами найдем неторопливое, честное, профессиональное решение с открытой процедурой. Конечно, я понимаю, что Вы как федеральный министр при принятии решений вынуждены принимать во внимание некие политические мотивы и разностороннее давление. Но я просто киноработник и в этих хитросплетениях почти политической операции даже на этом, начальном этапе уже запутался, а что будет дальше… Я вынужден сообщить о своем решении выйти из состава совета директоров киностудии «Ленфильм» по приведенным выше причинам».Должен признаться, что и я запутался. «Хитросплетения почти политической операции» – это уже нечто такое, что выходит за рамки этой книги. Это уже какой-то детектив, не исключено даже, что заготовка для сценария блокбастера или телесериала. А вот «личная ответственность» перед Путиным безусловно впечатляет, так же как упомянутые выше попытки кинорежиссера просветить первого российского президента, Бориса Ельцина, с помощью лекций по теории равновесия властей.
Но вот что странно: на письмо, адресованное министру, ответил почему-то Герман-младший. Причем заметно, что накал дискуссии повысился до критической отметки:
«На днях я прочел Ваше письмо министру культуры РФ о выходе из совета директоров, в котором Вы уже упрекаете в том числе и меня в не совсем правильном понимании вектора развития студии «Ленфильм», каких-то обманах и «семейственности»… Ваше письмо о выходе из состава совета директоров… по стилистике и содержанию напоминает завуалированный донос, вызванный некой не совсем понятной для меня обидой. Донос, обращенный в первую очередь не к широкой аудитории, а к начальству. Донос начальству и на меня, ибо Вы употребляете слово «семейственность». Удивительно, ведь если вспомнить, еще недавно Вас нисколько не смущало, что наша семья работает на киностудии «Ленфильм». И Вы даже считали нас рабочей династией… Вы поддержали инициативу членов общественного совета «Ленфильма» по включению меня в совет директоров студии… Как же художник может противостоять обступающей нас тьме и невежеству, если сам преступает этические нормы? Если сам переходит к площадной манере ведения дискуссии? Где же граница между человеком искусства и малограмотными доносчиками?»Понятно, что резкая отповедь Сокурову и неоднократное употребление таких обидных слов, как «доносчик» и «донос», вызваны одним-единственным словом в письме Сокурова министру – «семейственность». И Германа-младшего тоже можно было бы понять, поскольку защита своих близких – дело благородное, и не стоит обращать внимание, если в этой борьбе иной раз страсти готовы перелиться через край. Единственное, что может вызвать возражение в этом письме, так это не к месту упомянутая «рабочая династия». А дело в том, что популярный в свое время термин применим, прежде всего, к людям, работающим на производстве. Возможна, с некоторыми оговорками, династия музыкантов, конструкторов или даже актеров, как это было у Баталовых, но вот династия руководящих кадров – это уже нонсенс, хотя в нашей стране чего только не бывало. А ведь возражения Сокурова основаны именно на том факте, что члены семьи Германов входят в руководящие органы «Ленфильма».
Надо признать, что у Германа-младшего тоже есть повод упрекнуть Сокурова. В одном из своих интервью он так объясняет ситуацию, сложившуюся на киностудии:
«Почему из совета директоров ушел Сокуров? Это его неоправданная эмоциональная реакция. Он хлопнул дверью, после того как на общественных слушаниях, где обсуждалась судьба «Ленфильма», победила не его (и его продюсера г-на Сигле) концепция развития студии. Ну так Александр Николаевич регулярно хлопает дверью по любому поводу. К этому все уже привыкли. За последние несколько месяцев он делал это уже несколько раз».Честно говоря, трудно разобраться, кто здесь больше прав, а кто, возможно, виноват. И с той, и с другой стороны аргументы довольно убедительные. Я бы не стал углубляться в это дело, тем более что к моменту появления книги на прилавках магазинов ситуация наверняка так или иначе разрешится, но речь в этой главе вовсе не о скандале на «Ленфильме», а о том, к чему может привести явно несочетаемое – творчество и бизнес.
А между тем года за два до упомянутой выше переписки тоже возникал конфликт по поводу «семьи».
Участником его стал Герман-младший, и вот что он говорил тогда:
«Сегодня многое из канувшего в прошлое возвращается. К примеру, мы с детства знаем, как нехорошо, когда деньгами налогоплательщиков распоряжаются «семьи». Отчего же Артем Михалков назначен председателем правления РСП, а Никита Михалков – председателем совета РСП, учитывая, что совет должен регулировать и проверять деятельность организации?»Здесь речь о том, что в 2010 году федеральное ведомство Росохранкультура передала Российскому союзу потребителей во главе с Никитой Михалковым право взимать в пользу правообладателей по 1 проценту от всех проданных носителей аудиовизуальной информации. Что они там не поделили, мне неинтересно разбираться, одно лишь ясно: когда речь заходит о деньгах, тут без конфликтов обойтись просто невозможно.
Впрочем, взаимная неприязнь Германов и Михалковых имеет давнюю историю, кое-что на эту тему я уже писал. Добавлю еще несколько слов, сказанных Германом-младшим по поводу событий в Союзе кинематографистов. И речь здесь снова заходит о деньгах:
«Я находился на фестивале в Роттердаме и безумно рад тому, что меня не было на «Золотом Орле». Это премия, выдуманная барином, для того чтобы давать ее себе или кому-то, кто ему нравится. Вообще та история, которая происходит вокруг Союза кинематографистов, на мой взгляд, абсолютно постыдная. Никита Сергеевич Михалков обвиняет большое число благородных людей – Рязанова, Хуциева, Абдрашитова и других – в том, что они просто задали вопрос: что случилось с деньгами Союза кинематографистов? Это не более чем попытка понять, что случилось с недвижимостью, собственностью и так далее. И когда Никита Сергеевич пытается перевести все это в политическое русло и говорит об «оранжевой революции», на мой взгляд, он занимается постыдным передергиванием».Сначала конфликт с Никитой Михалковым, затем довольно длительное выяснение отношений с Сокуровым. Что примечательно, все крутится вокруг немалых денег. Возможно, я ошибаюсь, но создается впечатление, что Герману-младшему, при всей его нелюбви к Никите Михалкову, не дают покоя лавры достаточно успешного коммерсанта. Дело не только в его участии в коммерческом проекте возрождения «Ленфильма» – это дело благородное и пока еще не прибыльное. Но вот ведь он снимает рекламный клип по заказу какого-то банка, да еще и находит этому словно бы гуманистическое оправдание:
«Для меня было важно сделать историю, которая обращается к человеческому началу, чувствам и эмоциям. Мы стремились, чтобы герои этого проекта были похожи на живых, дышащих людей. Хотелось сделать качественную и запоминающуюся имиджевую рекламу, которой бы сопереживали зрители».
Да ладно, черт с ней, с этой рекламой, жить-то клипмейкеру на что-то надо. Но тут происходит событие и вовсе необычайное для нашего кино. Одна из крупнейших мировых фирм по производству винно-водочной продукции Pernod Ricard то ли спонсировала, то ли заказала Алексею Герману короткометражный фильм «Из Токио» – нечто вроде свадебного подарка по случаю его женитьбы. Десятиминутный фильм рассказывает о бывших спасателях, которые, узнав о землетрясении в Японии, летят на помощь. Ничуть не сомневаюсь, что долетели и спасли.
По поводу этого содружества с производителем вина и водки Герман-младший произнес довольно странные слова, вполне уместные в устах американца, однако от российского режиссера это странно слышать:
«Я вообще уже давно считаю, что за интеграцией большого бизнеса и кинематографа будущее».А ведь за несколько лет до этого он придерживался несколько иного мнения: «Во всей Европе существуют фонды, которые финансируют кино, у нас был только один фонд – Министерство культуры. Так вот, сейчас, скорее всего, деньги на кино будут уведены из Минкультуры в крупные частные компании. Об этом стараются не говорить, все держится в тайне. Это приведет к гибели молодого русского кино. Оно просто рассосется, рассеется, и мы лишимся всех тех фестивальных успехов, которые у нас появились».
Здесь речь о том, что недопустимо лишать кинематограф государственного финансирования, перекладывая эту обязанность на плечи частного предпринимателя. Но ведь такое «перекладывание» и есть начальный этап интеграции кино и большого бизнеса. Что ж, мнение для того и существует, чтобы изменяться под воздействием каких-то обстоятельств.
Впрочем, если припомнить еще одно высказывание Германа-младшего – «я человек абсолютно западной культуры, не принадлежу к патриотическому безумию, которое вокруг нас существует», – тогда многое становится понятным. Многое, однако же не все. Не ясно, например, о каком будущем шла речь в первой из приведенных мной цитат? Если на киносеансах будут разливать виски Chivas Regal с приличной скидкой, тогда и я склонен такие проекты поддержать. А если учесть, что Pernod Ricard владеет такими брендами, как Jameson, Ballantine’s, Habana Club, Beefeater, Abcolut, Martell, а также управляет армянскими и грузинскими коньячными заводами, есть надежда, что пьющий зритель из кинотеатров не будет вылезать, разве что его вынесут вперед ногами. Не дай бог, конечно…
И хотя по договору с фирмой Герман-младший должен был снять фильм, в котором нет упоминания о выпускаемых спонсором продуктах, а также сцен обильных возлияний, которые, на мой взгляд, были бы вполне уместны, все же трудно поверить, что мировой винно-водочный гигант не использует этот фильм для рекламы собственной продукции. Надо же понимать, что любое упоминание о фильме предполагает как бы между прочим ссылку на известный бренд – это тот самый Chivas Regal. Ну а в условиях экономического кризиса столь ненавязчивая реклама дорогого стоит. Понятно и то, что пьющей публике уже изрядно надоело глазеть на красочные бутылки и элегантных мужиков с бокалами, наполненными «живительным» напитком. А тут нечто совершенно необычное – фильм достаточно известного кинорежиссера с хорошо известной публике фамилией. Это ли не новые горизонты для рекламы?
Думаю, что Герман-старший не стал бы ни при каких условиях снимать рекламный клип или еще что-то подобное по заказу коммерсантов. Но что тут поделаешь, другие времена – другие люди. И что бы ни говорили о том, что деньги для художника не главное, жизнь берет свое. А все-таки не «барское» это дело – заниматься администрированием, лезть в экономику, коммерцию. Ну, если только исчерпан творческий потенциал…Вместо эпилога
У всякой книги должен быть волнующий финал, либо требуется написать что-то вроде эпилога. Если же ничего не приходит в голову, на этом можно было бы и так закончить, обойдясь без лишних слов. Но вот с какой-то стати возникло ощущение, будто забыл еще о ком-то рассказать. И правда, ведь у Юрия Павловича Германа был старший сын, Михаил, воспоминания которого я здесь уже цитировал. Так, может быть, и его следует отнести к династии? Смущает только то, что Михаил Юрьевич писал книги по искусству, исследуя чужое творчество, в то время как основные персонажи этой книги пытались создавать свое, будь то романы, повести, сценарии или кинофильмы. Что-то им удалось, что-то у них не получилось, но согласитесь – это интереснейший предмет для скрупулезного исследования. А вот анализировать труды исследователя – совсем не то, хотя и в них можно обнаружить что-то познавательное для себя. И все же, на мой взгляд, чтобы понять, кем был художник и почему писал так, а не иначе, нужно прочитать не монографию искусствоведа, а книгу настоящего писателя. В качестве примера упомяну роман «Жажда жизни» Ирвинга Стоуна, написанный о голландском художнике Ван Гоге.
Было и еще одно основание для того, чтобы не посвящать Михаилу Герману целую главу – мне показалось, что он бы не обрадовался, если бы я записал его в династию. Но прежде приведу отрывок из письма, полученного в начале 70-х годов Михаилом Германом от богатого дядюшки, Константина Клуге, в то время модного парижского художника:
«Мужик я богатый… Загребаю в один день то, что обычно зарабатывает приличный служащий в один месяц».
Этот зажиточный дядюшка был сыном того самого Константина Клуге, который женился на сестре Надежды Константиновны Игнатьевой, супруги Павла Николаевича Германа. Вместе с семьей он эмигрировал в Харбин, а позже нашел свое призвание во Франции. Михаил Герман называл его «коммерческим художником» – это что-то вроде Глазунова или Шилова, известных в свое время московских живописцев. Так вот, дядюшка слишком уж настойчиво приглашал племянника в Париж. Понятно, что такая поездка гораздо привлекательнее, чем осмотр достопримечательностей в составе организованной группы туристов под бдительным присмотром агента КГБ. Опуская рассказ о долгих мытарствах, связанных с ОВИРом, сообщу только, что выезд разрешили в основном благодаря тому, что Юрий Герман написал рассказы о Дзержинском. Ну хоть такая польза от покойного родителя.
А вот как реагировал Михаил Герман на длинные речи словоохотливого дядюшки:
«Я узнал, что на свете было три великих человека – Иисус Христос, Пьер Тайер де Шарден и мой батюшка Юрий Павлович Герман… Я робко рискнул напомнить, что кроме Юрия Германа были и другие писатели, скажем, Солженицын. Дядюшка разгневался и поставил меня на место: оказывается, именно Герман поднял отважно, гениально и впервые лагерную тему. Больше я не спорил. К тому же понял, что нужен ему не я, а некая инкарнация умершего кузена, каковой я вовсе не был, да и не хотел быть».Вот это «не хотел быть» и заставило меня отказаться от мысли посвятить Михаилу Герману целую главу. Однако почитал интервью Михаила Юрьевича, полистал его книги, и в результате возникло желание поспорить с питерским интеллигентом – не важно, принадлежит ли он к этой династии или идет своим путем. Собственно говоря, вся эта книга – заочный спор, попытка найти истину, разобраться в том, что всех нас беспокоит.
Начну с воспоминаний Василия Бетаки о том времени, когда он работал методистом в Павловском музее, а Михаил был одним из четырех экскурсоводов. Вот как Бетаки описал одного из Германов:
«Ходил с пижонской тросточкой, тщательно отглаженный, и видно было, что одежда значит для него весьма немало. Была в нем некая странная смесь денди и неуверенного в себе пай-мальчика. Плюс манеры сноба. И это была не поза. Сущность. Девочек он слегка сторонился и часто появлялся в парке под руку со своей стареющей и очень красивой мамой. Несмотря на несколько томный и вялый вид, интеллигентность до сиропности, разговаривать с ним бывало порой весьма интересно».Надо признать, ни про одного из героев этой книги не приходилось ничего подобного читать. Тут вряд ли мы обнаружим влияние отца, скорее наоборот – и неуверенность в себе, и томный вид могут быть следствием того разлома в семье, который случился, когда мальчику едва перевалило за три года. Родители развод переживут, а дети, так нередко бывает, еще долгие годы продолжают страдать – для них словно бы разрушилась связь времен, которую восстановить бывает очень трудно.
«Экскурсии он вел обстоятельно, ровным, пожалуй, даже слишком ровным голосом, знал много обо всех искусствах, кроме прикладного, но не было в нем той актерско-лидерской жилки, которая очень нужна при работе с людьми. Как у многих отличников, чувство юмора у него то ли отсутствовало напрочь, то ли тщательно скрывалось для солидности. В общем, не экскурсовод, а «двуногий суррогат магнитофона». Так его назвала заведующая Русским отделом Эрмитажа, старая и весьма ироничная Татьяна Михайловна Соколова. Ему бы в архиве копаться, сколько было бы пользы и себе и другим! Анна Ивановна явно придерживалась этой же точки зрения: при первой возможности она перевела Германа в библиотеку музея».
Видимо, после этого уединения в библиотеке и появилось желание пополнить ее полки собственными трудами по истории искусства. Впрочем, в Павловске Михаил Юрьевич работал не более двух лет. А напоследок еще один штрих к его портрету: «Про Германа надо еще сказать, что одно его свойство, которое очень сильно чувствуется и в его мемуарах, чувствовалось и тогда, при личном общении – это его скрупулезная порядочность».
Не смею ставить под сомнение порядочность, однако с некоторыми высказываниями Михаила Юрьевича позволю себе не согласиться. Но прежде приведу отрывок из его книги «Неуловимый Париж»: «В наше время Париж все чаще разочаровывает приезжих. Он устал, накопил равнодушие и скепсис, парижанки не поражают элегантностью, в ресторанах и магазинах нет особой пышности, лоска и тем более угодливости. А нуворишам он может показаться провинциальным: нет в нем блестящих, как прежде, бульваров, и сами Елисейские Поля не так уж сияют огнями, чтобы поражать воображение приезжих: нет в нем ни размаха Нью-Йорка, ни циклопической пышности Лас-Вегаса, ни бурной ночной светской жизни нынешней Москвы, ни ошеломляющего размаха новейших мегаполисов вроде Сингапура. Да, устал Париж. Он запущен, не всегда чист, он рано ложится спать, а знаменитые его соборы и дворцы подсвечены по вечерам сдержанно и почти незаметно».
Тут не к чему придраться даже при большом желании. Напротив, очень интересные и неожиданные наблюдения. Но вот читаю в одном из интервью: «Париж для советского человека был очень емким образом. Образ включал в себя много скверного».
А как же Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жан Габен, Жерар Филип и многие другие артисты, режиссеры и писатели? Как ни копаюсь в памяти, ничего «скверного» мне почему-то не приходит в голову. Даже к французским политикам, по большому счету, не было претензий. Возможно, Михаил Юрьевич перепутал Париж с германским Мюнхеном, где в прежние времена располагались и радиостанция «Свобода», и издательство «Посев», и даже штаб-квартира баварского ХСС с его реваншистскими намерениями. Вот уж эти заведения и впрямь считались рассадником всякой скверны. Так что, на мой взгляд, образ Парижа в глазах многих россиян за последние сто с лишним лет, то есть со времен Сезанна, Ван Гога и Дега, почти не изменился.
Теперь о личных впечатлениях Михаила Германа, связанных с оформлением поездки за рубеж:
«И овировские страхи, и рабская покорность судьбе. И характеристики: «Замечаний по поездке не имел». А если человек был разведен, там стояла фраза: «Причины развода парткому известны». Сейчас во все это уже трудно поверить».А по-моему – легко. Так же легко, как в то, что при получении визы на посещение Соединенных Штатов вы обязаны ответить на несколько неприятных вопросов, а в аэропорту Нью-Йорка придется снять обувь и милостиво согласиться на еще целый ряд такого же рода процедур, чтобы, упаси бог, вас не приняли за террориста. Каждая страна защищается, как может. Что же касается кое-каких обязанностей, которые власть в СССР возлагала на своих граждан при выезде их за рубеж, то здесь причина одна – «железный занавес». А все остальное – только производные.
И снова воспоминания Михаила Германа о Париже:
«То, что здесь драгоценно: легкость и любовь к жизни. Простота, улыбка, умение работать, чтобы жить. Рано утром человек идет по Парижу – у него горят глаза: «Я могу работать, у меня есть работа».Было бы интересно узнать, какие будут у него глаза, если потеряет работу в результате мирового кризиса. Вот только недавно слышал в новостях, будто во Франции планируются многотысячные увольнения ради сохранения рентабельности производства. В принципе, я могу понять желание автора показать, что там, у них, все хорошо, а вот у нас все хуже некуда. Однако же не стоит выдавать желаемое за действительное, даже если кому-то из его читателей такие выводы особенно приятны. Я было подумал, что Михаил Юрьевич заигрывает с публикой, хотя, скорее всего, нет…
Но приведу еще один пассаж из рассказа о Париже:
«Здесь у всех давно вошло в кровь: богатым быть хорошо. Но показывать это неприлично. А у нас… либо ты холуй, либо барин».За всю свою жизнь мне ни разу ни от кого не приходилось слышать, что плохо быть богатым. Совсем наоборот, даже в программных документах КПСС когда-то было написано о том, что через двадцать лет всех нас обеспечат в соответствии с потребностями – это ли не критерий самого натурального богатства! Людям состоятельным, как правило, завидовали и в советские времена – ведь богачом может быть не только жулик. Например, крупный дипломат или работник Внешторга, «отсидевший» длительный срок в Канаде или в Штатах, писатель ранга Сергея Михалкова или известный музыкант-виолончелист, объездивший с гастролями полмира. Есть, правда, странные люди, которым богатство совершенно ни к чему, но это не предмет исследования в этой книге.
Совсем другое дело – это отношение к постперестроечным рвачам, в одночасье ставшим миллиардерами. Можно ли не восхищаться их недюжинной хваткой, их уникальными способностями? Но как бы я ни относился к какому-нибудь нынешнему богачу, не сомневаюсь, что ему на это в высшей степени начхать – он чувствует себя прекрасно вне зависимости от того, любят его сограждане или же готовы на кусочки разорвать. Так что авторитетно подтверждаю, даже если меня обзовут за это холуем: и в нашей полунищей стране богатым быть очень-очень-очень хорошо!
Видимо, отношение к богатству – злободневная тема, поэтому Михаил Юрьевич пишет об этом и в своей книге воспоминаний «Сложное о прошедшем», впервые изданной в 2000 году:
«Богатство и богатых из той советской распределительной системы все равно ненавижу по сию пору. Можно ли сравнивать степень их мерзости с респектабельно-обыденным западным и даже нашим нынешним диким богатством! По мне, обруганные и завистливо презираемые всеми работяги-жулики и даже «новые русские», жирующие от Сочи до Багам, милее отечественной партийной номенклатуры».Я бы не обратил внимания на эту неуклюжую попытку оправдать абрамовичей, фридманов, березовских и потаниных, однако вот какой возник у меня вопрос: а разве нынешнее богатство нескольких десятков человек не было именно «распределено» в лихие 90-е? Только тогда сработала уже несколько иная система распределения – не в соответствии с должностью, а на основе полезных личных связей, «обыденных» конкурсов с заранее известным результатом и «респектабельных» залоговых аукционов, не исключая также рейдерских захватов с участием судей и милиции. Ну и само собой, как тут возможно обойтись без взяток и «откатов»? В этой распределительной системе все расписано, как говорится, «от и до». А вы, Михаил Юрьевич, почему-то стеснительно отводили от нее свои глаза…
Кстати замечу, что прежняя партгосноменклатура не так чтобы очень «жировала». Да то, что она имела, по сравнению с тем, что нахапали себе нынешние «жирные коты», – это сущие пустяки, не заслуживающие нашего внимания! Ну а причина вашей ненависти, Михаил Юрьевич, как мне кажется, отчасти в том, что право испить из этой благодатной чаши в 40-х и 50-х годах досталось Алексею Юрьевичу, а не вам… Но повторю, что это всего лишь мои досужие предположения, притом что я не собираюсь утверждать, будто Юрий Павлович принадлежал к столь ненавистному вам классу. Да нет, всего лишь литературный генерал со всем, что к этому званию когда-то прилагалось.
Жаль, что вы, Михаил Юрьевич, ничего так и не поняли, ведь за прошедшие тридцать лет по большому счету не изменилось ничего, только произошло перераспределение богатства – от прежней партгосноменклатуры к нынешним «жиреющим котам», и не забыть бы к этому богатству добавить несколько нулей, так, на всякий случай. А в остальном согласен с вами – милые, отзывчивые люди эти самые «коты». Помню, какой-то министр по телевидению все удочку бедным людям предлагал, мол, посидите как-нибудь на утренней зорьке у реки, глядишь, и вам что-нибудь обломится.
Теперь о том, что куда интереснее, чем отношение к богатству, – это то ощущение, которое испытывал Михаил Юрьевич в 80-х годах, когда вынужден был жить почти безвылазно в хмуром, неуютном Ленинграде, лишь изредка выбираясь в восхитительный Париж по приглашению своего богатенького дяди. Впрочем, дядюшка тут по большому счету ни при чем, поскольку речь идет об ощущениях:
«Сгущался не просто страх и даже не нужда – к чему мы только не привыкли. Все более мы погружались в беспросветный абсурдизм, выхода из которого просто переставали ждать».Для человека, живущего ожиданием очередного приглашения в Европу, беспросветная тоска – это норма, это вполне логично и естественно, и нечему тут удивляться. А вот откуда взялся этот «сгущающийся страх», мне, честно признаюсь, совершенно непонятно. Не знаю, как у вас, Михаил Юрьевич, а у меня была интересная работа и вполне приличный заработок. Надо признать, что физика – это одна из тех немногочисленных наук, где можно не обращать внимания на решения партийных съездов. Что было крайне неприятно, так это убогие речи наставников от идеологии да постепенно нараставший дефицит – даже в столице, я уж не стану обсуждать отсутствие сыра и колбасы в провинции. Впрочем, что касается нужды, то вот такое ваше откровение мне вполне понятно: «Я вез из Америки в Петербург целый чемодан с едой – сыром, колбасами, копченым мясом, кофе, чаем. Дома продуктов уже почти не было».
Это воспоминание относится к осени 1991 года. Закончилось августовское противостояние, члены демократической фракции на съезде народных депутатов обсуждали планы преобразования страны. Интеллигенция томилась ожиданием либеральных перемен и окончания эпохи дефицита. А тут какой-то чемодан… Наверное, не стоило писать об этом – с бытовыми неудобствами в то время мы как-то справились, однако остались нерешенными куда более серьезные проблемы. Описывать их нет особой надобности – все об этом знают. Известно и то, какие реформы удались, а что у реформаторов не получилось.
Но вот прошли годы, и вроде бы можно подвести итог:
«Надо отдать себе отчет, что интеллигенция проиграла. Нам бросили свободу. Дали ее сверху. Интеллектуалы совершили то, чем мы всегда будем восхищаться… В начале 1990-х я публиковал в петербургских газетах ликующие статьи, я защищал время, которое все порицали, я говорил, что не в колбасе счастье».Восхищаться тем, что развалили страну, – это мне как-то не с руки. Вот, скажем, Ельцину я благодарен за то, что он отставил от власти Горбачева и запретил КПСС. Еще бы хотел поблагодарить тех, благодаря кому в конце 90-х поднялась цена на нефть. А уж как я рад тому, что за последние тридцать лет еще не всю страну разворовали!
Кстати, я тоже, как и Михаил Юрьевич, в начале 90-х оправдывал реформы, однако в спорах защищал не время, поскольку надо честно признать, что время было гнусное, хотя кое-какая сладость на губах и ощущалась – свобода, она ведь поначалу очень сладкая бывает! Так вот, я защищал не время, а Егора Гайдара и прочих демократов – защищал, правда, не в газете, а в спорах с некоторыми из своих коллег. И если Михаил Герман в итоге разочарован, потому что «интеллигенция проиграла», то я удручен тем, что большинство населения России в результате демократических реформ так и осталось бедным, а то и вовсе – чуть ли не впроголодь теперь живет. И с болью в сердце вынужден признать бездарность тех из интеллектуалов, кто уверял тогда, что сможет возродить страну. Удобно устроившись в мягких креслах на загородной резиденции правительства, они спорили, писали программы, заимствуя цитаты из учебников, но оказалось, что не знали самого главного – своей страны, своего народа, не представляли, что будет все так сложно. Потому и проиграли.
«Сейчас говорят: «19 августа было инсценировкой, было фарсом». Черт вас возьми! Мы же были тогда людьми, а это – главное!»Да, было ощущение того, что мы все можем. Весна, потом эти незабываемые три дня в августе… Казалось, что еще чуть-чуть – и сбудутся давние мечты. Однако прошло несколько лет, и неожиданно выяснилось, что это было всего лишь заблуждение – наивное заблуждение, вызванное безоговорочной верой в то, что говорили на площадях, и очень поверхностными знаниями о том, что происходит в мире. А самое главное, сказалось нетерпение – только сейчас или никогда! Это нас и подвело.
«Но все-таки – чего мы не сделали тогда, чтобы не думать теперь так напряженно: чего мы не сделали?»
Вот и в этих словах Михаила Юрьевича чувствуется нетерпение, желание побыстрее добиться своего, даже если для этого нет ни малейших оснований. Увы, реформы в такой большой стране, как матушка Россия, нельзя свести лишь к изменениям в политическом устройстве, в экономике. Самое главное – это изменить психологию людей, отравленную лицемерием времен застоя. Однако лозунг «обогащайтесь все, кто может!» только навредил, поскольку лицемерие, соединенное с алчностью, дает именно тот результат, который мы в итоге получили. И возникает вопрос: куда смотрели, о чем интеллектуалы думали?
А для того чтобы попытаться в этом разобраться, приведу еще один отрывок из воспоминаний Михаила Юрьевича:
«Думаю, непременное качество подлинной интеллигентности – способность до конца отстаивать свою позицию, уметь убедить, не унизив, победить, по мере возможности, бескровно, взять на себя максимум тягот в бескомпромиссной интеллектуальной сече».Увы, ни Юрий Афанасьев, ни Егор Гайдар, ни Анатолий Чубайс в том, что касается убеждения, ничуть не преуспели. Да, были и остаются люди, которых не надо убеждать – это все равно что верующему христианину сообщать некие «факты», доказывающие существование Бога там, на небесах. Ну а другие чем «дальше в лес», тем все больше сомневались в том, что когда-нибудь дождутся обещанного им процветания под знаменем всеобщей и окончательной свободы. Именно этим объясняются неудачи «правых» – ничем не подтвержденной уверенностью в правильности выбранного ими пути, в том, что именно по этому пути должна идти Россия.
И кстати, та самая, упомянутая Михаилом Юрьевичем, интеллектуальная сеча – где она? И справа, и слева – желание победить любой ценой, унизить своего противника, обругать, слукавить, если представится возможность. Когда встречаются где-то у барьера, как правило, слышишь только крик. Ну а способность убедить – это и вовсе что-то уникальное, несбыточное. И правда, какой из нынешних публичных интеллектуалов позволит себя хоть в чем-то переубедить?
А между тем только способность сомневаться отличает настоящего интеллектуала от примитивного «зубрилы», раз за разом повторяющего когда-то выученный им урок. Как тут не вспомнить слова писателя Бориса Васильева, посвященные замечательному режиссеру Иосифу Хейфицу:
«Хейфиц еще раз убедил меня, что сомнение есть движущая сила творчества, ибо человек начинает заглядывать за грани привычного. Сомнения спасают нас от самоуверенности и самонадеянности. Сомнения не дают нам спать, заставляют хорошее переделывать в лучшее и беспощадно отказываться от посредственного. Сомнения есть признак здорового духа, эквивалент его мощности. Сомнения столь же свойственны таланту, сколь отсутствие их свойственно бездарности».Ну вот и я вовсе не уверен, что этой книгой смог заставить кого-то хотя бы призадуматься.