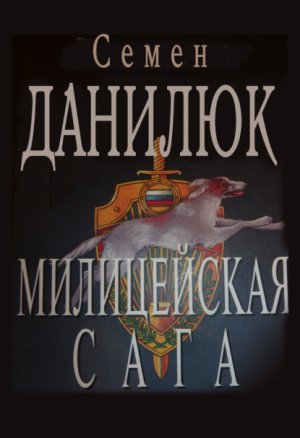
Год 2001. Возвращение
В один из сумрачных февральских вечеров 2001 года на вокзале областного центра, меж двумя российскими столицами, притормозил скорый поезд. Выпустив на завьюженный перрон единственного пассажира – скверно одетого крепкого мужчину с поношенной спортивной сумкой через плечо.
– Ваши документы! – из глубины зала ожидания вынырнул патрульный милиционер, определивший в сошедшем своего потенциального клиента.
И – не ошибся. В качестве удостоверения личности в руки его перекочевала справка об освобождении из мест лишения свободы.
– Так! Мороз Виталий Николаевич! Отбывал за… Серьезные статьи, – молоденький, явно из свежих дембелей милиционер с прищуром оглядел озирающегося мужчину. – И куда следуем?
– Домой.
– Все так говорят. Чем думаешь заняться?
– А вот это не твоя печаль, служивый…Ого, да нас встречают! – мужчина без усилия отстранил прилипчивого милиционера и подошел к ближайшему столбу, на котором среди налепленных объявлений о съеме комнат, приворотах и продаже щенков была приклеена предвыборная листовка. – «Голосуя за действующего губернатора, вы голосуете за правопорядок!» – процитировал он, недобро веселея. – Никак приятеля обнаружил? – подковырнул милиционер, отчего-то робея.
– Надо же. А еще говорят, нет судьбы, – мужчина озадаченно огладил шершавый подбородок.
– Кому судьба, кому заботы, – патрульный продолжал вертеть справку. Придраться было не к чему, но и отпускать нагловатого зэка как-то не лежала душа.
Тут он обнаружил старшего наряда, который перед тем задержался в Зале ожидания, а теперь стоял чуть в стороне, приглядываясь в происходящему.
– Видал, какой борзой? – при виде подмоги милиционер приободрился. – Едва освободился и уже гонор показывает.
Сержант отобрал у него справку, мимолетом скользнул глазом по фамилии, как бы удостоверяясь в очевидном, вернул владельцу, коротко козырнул:
– С возвращением.
– Да ты чего? – загорячился обескураженный напарник. – Могли бы поучить.
– Закройся, салага! – глядя вслед удаляющейся фигуре, сержант недоверчиво покачал головой. – Скажи пожалуйста, сам Мороз! Выжил-таки. М-да! Кому-то теперь мало не покажется.
Спустя минуту Виталий Мороз вышел через тоннель на привокзальную площадь и, глубоко вдохнув в себя гниловатый воздух, прикрыл глаза. Свершилось!
Он брел по улицам, жадно озираясь. Так бывает, когда после большого перерыва мы встречаем старого знакомого, только раздобревшего, в новом костюме. И приглядываемся, оценивая происшедшие перемены.
Проезжавшие мимо машины то и дело со скрежетом подбрасывало на ухабах – средств на ремонт асфальта в городской казне традиционно не хватало. Причину этого Мороз определил быстро – с переброшенных через улицы растяжек, с многометровых щитов прохожим свойски улыбался губернатор области Кравец – кандидат на переизбрание. Похоже, все недоразворованные финансовые ресурсы были брошены на битву за власть.
Зато среди унылых пятиэтажек то там, то тут проросли свежие броские особнячки с медными табличками у дубовых дверей, – городское строительство развивалось в основном силами частного бизнеса.
Мороз свернул на улочку, ведущую к горсаду. Прежде она содрогалась от громыхания трамваев. Ныне лишь в самом центре стоял одинокий трамвайчик-бистро с лихой надписью по борту «Эх, прокачу!». Рельсы, по которым раньше возил он пассажиров, с обеих сторон были закатаны в асфальт.
Слышались гортанные выкрики. У центрального ювелирного магазина сновали неистребимые цыганки, напористо наседая на редких прохожих.
Мороз незаметно «проверился» через плечо и свернул в городской сад. Смеркалось. Возле заснеженной карусели ещё копалась в снегу малышня. Но все больше попадалось девичьих парочек, торопившихся к областному Дому офицеров. На зиму Дом офицеров заменял дощатую танцверанду горсада.
Девчонки, среди которых было полно малолеток, обозначавших груди с помощью жестких маминых бюстгальтеров, скользили мимо, наивно бесстрашные в своих мини – юбочках под распахнутыми шубками и – удручающе безразличные.
Да и откуда им было знать о Виталии Морозе? Разве что из устных легенд. Не узнавали его и в мужских компаниях, многие из которых – это уж традиция – находились на подпитии. Мало – не узнавали. Но, похоже, не собирались и признавать. Во всяком случае двое шедших ему грудь в грудь нетвердых в ногах парней нехорошо меж собой перемигнулись.
– А закурить почему нет? – упустив по пьяному делу первую часть традиционного перед избиением ритуала, вопросил один из них. В то время как второй шагнул чуть в сторону, видимо, понимая это как обходной маневр.
– Брысь, – не снижая шага и не переставая грустно улыбаться, Мороз раздвинул их плечом и, обескураженных, оставил сзади.
А ведь было время – стоило ему ступить на территорию горсада, как впереди разносился подрагивающий шепоток: « Мороз идет!». И какие же бои разыгрывались! Особенно когда схлестывался он с братьями Будяками. Два сбитых, как бочата, брата-штангиста, царившие в Затверечье, пытались подмять под себя и центр города. Мешал – и очень – Мороз, считавший горсад своей вотчиной. Сходились на танцах, и импульсивный Виталий бросался первым. Прыгал, уворачивался, если успевал, бил. Когда же чувствовал, что дыхание иссякает и вот-вот «достанут» его самого, после чего безжалостно забьют, спасался, презрев гордость, от коротконогих братьев бегством. Потом отлавливал их по одному и колошматил нещадно. На следующих танцах все возобновлялось. Неизвестно, чем бы это кончилось. Может, и ножом в спину: о братьях ходило все больше нехороших слухов. Но однажды, презрев негласный уговор, Будяки привели с собой еще двоих. Они все точно рассчитали – Мороз не изменил себе и не спрятался. Отчаянный, делавший на спор стойку на коньке крыши многоэтажного дома, он бы бросился и на десятерых. И все-таки четверо «качков» для семнадцатилетнего парня оказалось большим перебором. Он это понял после первого же пропущенного удара, угодив во вражеское кольцо. Танцплощадка затихла, в ожидании падения кумира. И тут один из нападавших внезапно неловко поскользнулся, а на его месте оказался высокий коротковолосый человек, года на три старше Виталия и покруче его в плечах.
– Не дело это, мужики, четверо на одного, – укорил он. – Лучше бы разойтись по – тихому.
Но разойтись не дал Мороз. Воспользовавшись замешательством, он положил «крюком» ближайшего к себе. За Будяков вступились еще трое затверецких. И драка вспыхнула заново. Мороз привычно петлял, «вытягивал» на себя, доставал ногами. Пришедший на помощь, где остановился, там и встал. Он даже не уклонялся от ударов. Просто блокировал их предплечьями и – бил навстречу. Второго удара, как правило, не требовалось. Через две минуты все было кончено.
– Чего полез? Я бы и сам справился, – буркнул Виталий.
– Само собой. Просто я в самоволке. Времени в обрез. Не хотелось, чтоб танцы задерживали. Кстати, Валентин.
– Ну, Валентин и Валентин. Целоваться из-за этого, что ли? – неблагодарный Мороз подметил, что девочки, обычно ловившие его взгляд, все как одна разглядывали незнакомца.
Через неделю на тренировке сборной области по боксу им представили нового тяжеловеса – заканчивающего срочную службу Валентина Добрякова. Обманчиво расслабляющая фамилия не соответствовала цельному и упрямому норову ее обладателя, что очень скоро почувствовали окружающие. Потому первоначально напрашивавшееся прозвище «Добрый» как-то само собой исчезло из обихода и изменилось на более увесистое – «Добрыня».
И – город пал! Стоило Морозу и Добрыне появиться в центре, будяковцев просто сметало с тротуаров. А они шли по брусчатой мостовой единственной пешеходной улицы, как разогнавшие гвардейцев мушкетеры – по Лувру.
Виталий сам поразился, поняв, о чем он думает. Столько прожито за эти годы, стольких похоронил, столько раз сам чудом уходил из-под косы. И вот теперь, едва выживший, оббитый жизнью, вернулся в сонный свой городок и смешно обижается, что не сохранилась память о прежней, бесшабашной шпане.
Мороз вышел на центральную городскую площадь, окольцованную пятью старыми, козаковской еще постройки домами. От площади, будто лучи от звезды, разбегались пять улиц, одна из которых вела к набережной Волги.
Теперь этой улицы больше не было видно. В её устье, будто клык среди ровненьких отбеленных зубов, оказалось втиснута махина из тонированного стекла и бетона, на крыше которой неоном сияло торжествующее – «Губернский банк».
«Ну вот и с госпожой Паниной повидался, – пробормотал сквозь зубы помрачневший Мороз. – Похоже, вся кодла пребывает в полном порядке».
Стемнело. Переулками пробрался он к длиннющему дому из красного кирпича, посреди которого беззубо щерилась темная арка. За ней открывался заросший дикой акацией двор. Его двор! Прежде буйный, в дребезжащих гитарных аккордах, а ныне – тихонький, испуганно затаившийся. Проскочив под аркой, Мороз проскользнул к полуразрушенной беседке, от которой хорошо просматривался вход в его подъезд. И не только его.
В далекие семидесятые здесь, на пятом этаже, как раз над квартирой Морозов, жил знаменитейший по городу Андрюшка Тальвинский по кличке Поляк, кумир пятнадцатилетних пижонов. К восьми вечера специально собирались они у седьмого подъезда, чтоб не пропустить торжественный выход. Поляк, втиснув себя в узкие брючки и нацепив накрахмаленный, с взбитым жабо, рубашляк, гордо вскидывая острый подбородок с эспаньолкой, направлялся к кафе “Ландыш” – место сходок городской богемы. В руках его, одетых, несмотря на жару, в лайковые перчатки, неизменно находилась расписная трость с набалдашником, – всеобщий предмет зависти.
– Какой мужик, просто отпад, – прицокивала Маринка Найденова. – Я б его трахнула.
– Ну, и чего теряешься? – подначивал низенький светловолосый Коля Лисицкий, плотоядно оглядывая не по годам зрелую Маринкину фигуру.
– Да предлагала. Так он меня мокрощелкой обозвал. Главное – не пробовал ведь. Только других дезинформирует, – Маринка расстроенно качала рыжей своей копной волос.
Болтавшийся поблизости десятилетний Виташка тяжко вздыхал.
В детстве маленького Виташу впервые повели на елку. И там он пережил огромное потрясение – Снегурочка. Красивая, в блестках, в высоких сапожках и с длиннющей косой. Она подошла к конфузящемуся, обхватившему мамину ногу Виталику и улыбнулась. И вдруг он сам оторвался от мамы, протянул к ней руку и, покорно перебирая кривоватыми ножками, пошел следом. Кругом было много детей, искавших внимания Снегурочки. И она переходила от одного к другому. Но то и дело находила глазами Виталика и улыбалась особенно – ему одному.
После этого он часто бывал на елках, и всякий раз искал ту Снегурочку. Но – не находил. А другие были разными. Очень даже хорошими. Но они не были его Снегурочкой. Еще долго она снилась ему. В каждом сне она была другой, но он безошибочно узнавал ее. В десять лет, увидев во дворе переехавшую рыжеволосую девчонку-старшеклассницу, сразу признал. Как раз по этой капризной складке у губ. И хоть понимал, что та, прежняя снегурочка, теперь много старше, но в бойкую Маринку, не признаваясь никому, влюбился тихо и безнадежно.
А через некоторое время Поляк, видевшийся им зрелым, пожившим мужчиной, закончил юридический факультет университета, сбрил флибустьерскую бородку и, ко всеобщему изумлению, поступил на работу в милицию.
Спустя еще пять лет, в восемьдесят четвертом, по окончании Таллинской специальной школы милиции, ряды городского ОБХСС пополнил Николай Лисицкий.
И в том же году Мороз едва не угодил за решетку. Собственно, драка на сей раз возникла не по его инициативе. Наоборот, к нему самому пристали несколько крепко подвыпивших мужиков. И вина Мороза заключалась главным образом в том, что в больнице оказался не он, а двое из нападавших. Но уж очень хотелось городскому уголовному розыску посадить опостылевшую шпану. Просто – зудело.
На счастье Виталия, бывший Поляк, а ныне следователь Андрей Иванович Тальвинский, еще жил в их доме. И мать бросилась за помощью на верхний этаж.
Дело Тальвинский прекратил, а Мороз с этого времени стал дневать и ночевать в его кабинете. Старший следователь УВД Тальвинский специализировался на самой сложной категории уголовных дел– так называемых «хозяйственных», а потому работал в тесном контакте с городским ОБХСС[1] и его легендарным основателем – полковником Алексеем Владимировичем Котовцевым. Идея полковника Котовцева была проста до чрезвычайности. Прежде служба ОБХСС дробилась по районам, опутанная по рукам и ногам хлопотливой опекой районных властей. Создав городской отдел и сосредоточив в нем лучших оперативников, Котовцев получил возможность маневрировать такими силами и проводить такие операции, какие затюканному руководству областного БХСС не снились даже в цветных снах. Которые, как говорят, приходят после длительных мрачных запоев.
В устоявшуюся жизнь города Котовцев со своей летучей бригадой внёс несомненную смуту и даже, как не раз информировали обком КПСС, – дезорганизацию. С его возникновением было утрачено главное условие стабильности управленческого аппарата – чувство личной неприкосновенности.
И самое неприятное – невозможно стало предвидеть направление удара. Сегодня совершался массированный набег на “блатные” магазины, после чего на опустелых прилавках зацветал внезапный и короткий коммунизм. А уже назавтра оказывались опечатанными склады рыбокомбината, и через какое-то время его директор – орденоносец, растерянно озираясь, усаживался на скамью подсудимых перед смущённым председателем облсуда.
По непроверенным слухам, материально ответственные лица зачасти ли в церковь. И даже за двойными, из морёного дуба дверями имя Котовцева произносилось вполголоса и Боже упаси, чтоб к ночи.
Под стать руководителю подобрались и подчиненные. Всех живущих на планете эти безапелляционные в суждениях «сыскари» рассекали на две части – «вор – не вор». И всякий отнесенный к категории воров безжалостно исключался из списка имеющих право на сострадание. Исключение не делалось и для первых лиц области, которых здесь запросто и без затей причисляли к ворам. Не случайно несколько позже секретарь обкома по идеологии Кравец назовет горотдел БХСС клоакой вольномыслия. К людям этим, совершенно не похожим на затюканных, пугливых мужиков из его двора, Мороз проникся восхищением. В свою очередь и они охотно использовали дерзкого парнишку во всяческих оперативных каверзах. Дважды ему повезло съездить на обыски вместе с самим Котовцевым. И каждый раз, стараясь держаться поближе, Мороз мечтал, чтобы на Котовцева напали с оружием, и он, Виталий, заслонил его собой. Впрочем, Мороза и без того признали за своего, и даже постовые внизу перестали требовать пропуск.
Правда, резко испортились отношения с Добрыней, не одобрявшим тяги приятеля к «мусорам».
– Ну что, покружим, милицейская «шестерка»? – подначивал он в спортзале, натягивая перчатки.
Повторять приглашение не требовалось – Мороз тут же бросался на ринг.
В конце концов тренеру пришлось запретить эти бои: в результате одного из кровопролитных спаррингов перед чемпионатом спортивного общества « Буревестник» сборная области лишилась сразу двух лучших боксеров – тяжа и полутяжа.
Через короткое время Мороза призвали в армию, где он попал в спортроту и очень скоро выполнил мастерский норматив. Спустя два месяца пришло письмо от младшей сестренки, в котором та сообщала, что Добрыню посадили за грабеж. А в самом конце письма, пересказывая городские новости, приписала, что месяц назад кто-то убил милицейского полковника по фамилии Котовцев. И «теперь уголовный розыск роет носом землю, метут всех подряд, так что на улицу вечером лучше не выходить, даже на танцы. Но – пока никого так и не нашли».
Ближе к концу службы Мороз подал рапорт с просьбой направить его для учебы в Высшую школу милиции.
… Не терявший бдительности Мороз заметил тени неподалеку и, вглядевшись повнимательней, определил доподлинно – подъезд уже «пасли». Он задумчиво обошел дом снаружи – на кухне горел свет. Но попасть туда по голой, лишенной балконов стене старого дома было затруднительно. Прежде, правда, Виталик, часто терявший ключи, вскарабкивался в квартиру по водосточной трубе. Теперь этот путь не годился: и вес другой, да и проржавелая труба обветшала. Самое разумное было бы быстренько исчезнуть. Тем паче засада вполне могла быть внутри квартиры. Но уехать, даже не повидавшись с женой, – об этом не хотелось и думать.
Мороз прикинул, улыбнулся в темноте собственной выдумке и, развернувшись, затрусил в сторону троллейбусного парка.
Спустя сорок минут прибиравшейся на кухонке молоденькой женщине почудился прерывистый стук в окно. Понимая, что этого не может быть, она продолжала, пританцовывая, переставлять посуду: птицы не выстукивают морзянку, а те, кто этим искусством овладели, не умеют летать, – как-никак внизу метров десять пустоты. Но при повторном дробном стуке она все-таки оторвалась от работы, распахнула шторы и – обомлела: в проеме окна четко, по пояс, вырисовывалась фигура Виталия Мороза, который, даже не придерживаясь за подоконник, парил в воздухе, небрежно помахивая букетом цветов.
– О господи! – она начала медленно оседать по стене, впадая в предобморочное состояние.
Мороз, явно переусердствовавший в своем пристрастии к розыгрышам, вытянув руки, угрем ввинтился в открытую форточку.
«Стакан» технички, в котором его подняли наверх, начал медленно опускаться.
– Ну, прости подлеца! – захлопотал Виталий. – Хотел, знаешь, сюрприз…
– Сюрприз! Тогда это все-таки ты, – на всякий случай она ткнула в него пальцем.
Убедившись, что перед ней существо из плоти, обхватила руками и принялась целовать. Что-то сообразив, отстранилась, подбежала к подоконнику, глянула вниз, – никаких «лесов» и прочих приспособлений за последние часы не появилось.
– Вас что, в колонии, летать научили? – она помахала изящными кистями рук и с разбегу запрыгнула на него.
– Марюська! – кружа по кухонке, бормотал счастливый Мороз. – Но, пожалуйста, тише. За дверью могут подслушивать.
– Пошел к черту со своей конспирацией! – она потерлась носиком, провела пальцем по шраму над его губой, по вдавленной переносице. – А какой был роскошный греческий профиль!
– Увы! В топ-модели больше не гожусь. – Главное – вернулся!
– Пока нет.
– Нет?! Боже, Виташа, ты так и не оставил эту затею?
– Но теперь совсем недолго, – Мороз спустил ее на пол, покаянно склонил шею. – Дней пять-семь, не больше. Как только закончу, вернусь. После пяти лет пять дней, согласись, – это не срок.
– Тебя убьют, Виталий. Тебя просто у-бьют! И я не знаю, будет ли мне жалко. Ответь мне только: «Для чего все это?».
Мороз безысходно вздохнул:
– Ты, главное, не волнуйся. К утру выберусь через окно и – исчезну.
– Опять по воздуху?
– На антресолях валялся шпагат.
– Допустим. И что же конкретно ты собираешься делать?
– Хочу встретиться с Андреем, – пробормотал он, понимая, что за этим последует.
– Да ты!.. – она поперхнулась возмущением. – Виташечка, родной! Окстись! Он думать о тебе давно забыл. Он же первым тебя и сдаст! – Не перегибай. Это ведь он пробил, чтоб меня отпустили по двум третям. Да и тебя в покое только благодаря ему оставили.
– Конечно. Когда убедились, что я понятия не имею, куда ты эти документы заныкал. Мороз, город накануне выборов. И никому, кроме меня, ты живым не нужен. Неужели не понимаешь, что на тебя наверняка объявлена охота? Послушай меня хоть раз в жизни: раз так уперся, давай немедленно извлечем этот треклятый компромат, завтра же отвезем его в Москву и передадим в какую-нибудь газету или на телевидение. И – кончится этот кошмар. ..Что опять лыбишься?
– Думаю о нас, – что дальше. Ведь ты, хоть довелось со мной хлебнуть, всё ещё девочка. Чтоб любить тебя, нужно иметь деньги.
– Да ты!..
– Нужно много денег. А я даже не знаю, смогу ли достойно зарабатывать.
– Зато я знаю. У меня два языка, свободно – компьютер. И ты хочешь сказать, что мы не выживем?
– Да я вообще не хочу, чтоб ты выживала!
– И распрекрасно. Чего комплексуешь? Трудней, чем те годы, что ждала, мне уже не будет. Понимаешь ли, отморозок?
– Марюся! – Виталик утопил ее лицо в ладонях. – Ты только знай. Я для тебя – всё готов. Вообще – всё! Понимаешь?
– Вот и отлично! – она захлопала в ладоши. – Тогда поехали в редакцию. Да?!
– Да!.. Но после встречи с Андреем. – Предупреждая новый гневный выплеск, осторожно положил палец на задрожавшие губки. – Я должен дать ему шанс!
Боясь пошевелиться, чтобы не разбудить задремавшую юную жену, Виталий лежал в темноте. И потихоньку блуждающая улыбка выветрилась с его лица, уступив место привычной настороженности. Из головы не выходил отчаянный вскрик истомившейся, уставшей бояться женщины: «Для чего все?!» И ответ, казавшийся все эти годы очевидным, почему-то ускользал.
Год 1989. Четыре августовских дня.
Из журнала учета происшествий: « 14 мая 1989 года при внезапной инвентаризации магазина № 114 Горпромторга в пос. Знаменское (заведующая Лавейкина Л.Н., 1934 г.р.) выявлено наличие дефицитных товаров на сумму свыше двадцати тысяч рублей, по учету не оприходованных и в сеть горпромторга для реализации не поступавших. В том числе изделия из кожи и джинсовой ткани. По данному факту возбуждено уголовное дело. Источник поступления «излишков» устанавливается».
День первый. Среда
1.
Прокурор Юрий Иванович Берестаев с накапливающимся раздражением перелистывал уголовное дело. Время от времени рука его с дотлевающей сигаретой меланхолически оглаживала узенький, свежеподстриженный газончик волос на затылке. Порой что-то привлекало его особое внимание, и тогда той же рукой принимался он теребить лацкан форменного кителя, словно пытаясь выдрать из петлицы одну из двух звёзд, соответствующих его званию, – советник юстиции.
Андрей Тальвинский сидел напротив и с показным равнодушием смотрел в затушёванное летним дождём окно. В туманном отдалении заползал, погромыхивая, под мост маневровый паровозик, – районную прокуратуру, как водится, задвинули в пригород, в двухэтажное зданьице, которое она делила с райзагсом и специализированным магазинчиком по продаже гробов. Андрей предвидел реакцию прокурора, а когда тот, единожды прочитав дело, вновь открыл его с первой страницы, в догадке своей утвердился.
– Да, щучка с наглецой! – затягиваясь, оценил Берестаев. – А характеристика-то. Ишь ты – «высокоморальна, обладает чувством повышенной ответственности». И чего ещё, не разберу? «Душа коллектива»! – он аж поперхнулся. «Душа» его поразила особенно. – Ты погляди, что делают: у бабы три крупные недостачи за четыре года, дважды дело возбуждали, а она, оказывается, – «пользуется высоким авторитетом за бескорыстие и честность». С такой характеристикой не на скамью подсудимых, а прямо в Верховный Совет этим … спикером. Ты вот чего, вызови образину – кадровика, что характеристику состряпал, допроси по всей форме и – составь представление в исполком такое позубастей. Чтоб мёдом им, сволочам, не казалось. Считай, устное указание.
Он захлопнул аккуратно сшитый томик и, перегнувшись через стол, плюхнул его перед следователем.
– Сказать по правде, не ждал. Когда тебе дело это загубленное передали? Десять дней? Успеть выйти на хищение – это уровень. Просто приятно работать. Жаль даже, что на повышение уходишь. Хотя понимаю: расти-то надо.
Тальвинский тактично промолчал. Второй срок дохаживал Берестаев районным прокурором. Специалистом был он редкостным, а если б унять диковатую, сумеречную его натуру, так просто превосходным. Но в районе у него, увы, не заладилось. Сразу после утверждения на бюро райкома КПСС он, как водится, пригласил первого секретаря и председателя райисполкома отметить назначение. А после обильного возлияния уговорил продолжить у него дома. На этом, роковом решении карьера Юрия Ивановича и оборвалась – на длинный требовательный звонок из входной двери выглянула закутанная в затёртый домашний халат желчная женщина в бигуди.
– Опять нажрался, скотина, – с ходу залепила она. И без паузы, неприязненно оглядев изменившихся в лице гостей, констатировала. – Да ещё и пьянь какую-то очередную приволок.
С тех пор кандидатура Берестаева дважды выдвигалась на серьёзное повышение, да что там – заместителем облпрокурора. И дважды «рубилась» где-то в недрах партийного аппарата, добавляя прокурору сумеречности. Сейчас, в связи с обширным инфарктом первого зама, вопрос встал в третий раз и, похоже, – по возрасту – последний.
– И как ты эту бестоварку ухитрился зацепить? – Берестаев принялся поигрывать увесистой сувенирной авторучкой в форме серпа и молота – подарком из поднадзорной колонии.
Потянувшийся к отдельно лежащей тоненькой папочке Тальвинский встревожился – в оживлении прокурора сквозанула досада.
– Начал шерстить инвентаризационные ведомости и нашел нестыковку на девятьсот рублей. Только к «левому» товару это, увы, отношения не имеет.
– Сам понимаю. Хорошо бы, конечно, бухгалтерскую экспертизу назначить, – мечтательно прикинул Берестаев. – Да чего уж теперь: срок по делу на излёте, а идти в область за продлением, как понимаю, нам не с чем.
Тальвинский тоскливо вздохнул.
– Звонили мне из областной прокуратуры. Предлагают прекратить дело, – заигравшийся Берестаев принялся разбирать авторучку. – Может, и впрямь пойдем навстречу коллегам? Сумма хищения в общем-то плёвая. Чего там? Девятьсот рублей. С работы её уволили. По партийной линии, меня в райкоме заверили, – строгач с занесением будет. Серьёзные люди звонят, – он испытующе скосился на следователя. – Знаешь ведь, кто у неё, сволочи, в подсобке пасся. Да и тебе перед назначением – лишнюю мороку с плеч. Что мыслишь?
– Проще найти, кто не пасся, – в сейфе у Тальвинского покоилась изъятая при обыске записная книжка – едва ли не дубликат справочника горкома партии. – Мы-то с вами знаем цену этой «души коллектива».
Следователь точно использовал настроение тугого на нажим прокурора – Берестаев с ненавистью скосился на телефон.
Андрей вытащил из портфеля и развернул рулон бумаги, испещренный стрелочками, крестиками, виньетками, подвластными только ему самому, да разве что еще двум-трем особо опытным дешифровальщикам Генштаба. Пристукнул ладонью сверху:
– Вот они, все Лавейкинские связи. До донышка, можно сказать, шахта пробурена. Так?
– Так, – прокурор со сдержанным восхищением всматривался в диковинную схему.
– А вот и не так, – Тальвинский отпустил руки, и рулон скатался в центре стола. – Почему за два месяца не вышли на источник излишков?
– Чего спрашиваешь? Хреново искали.
– Не там искали! Зациклились, что пересортица внутри самого горпромторга затеялась. Мол, сами воруют, сами и химичат. А вот это что?
Из того же объемистого портфеля он вытащил и бросил об стол пыльный полиэтиленовый мешок.
– Ну, джинсы.
– Самострок. И, между прочим, «варенка». Самый сейчас писк. Что скажете? Или в горпромторге еще и подшивают? А кожу вы где-нибудь такую видели?.. Ее в кустарной мастерской не сляпаешь. Явно фабричная штучка. Любая из них в лёт уходит! И такого добра накрыли аж на двадцать тысяч. Почитай, две расстрельных статьи[2]. В этой истории, Юрий Иванович, Лавейкина, дама приятная во всех отношениях, даже не руководство горпромторга прикрывает, а кого-то куда покруче. Потому считаю – дело необходимо направить в суд.
– М-да. Жаль, поздновато дельце это тебе передали. Загубили на корню, пинкертоны, мать их!
В этих «пинкертоны» были все. И районные ОБЭХЭЭСники, при случайной проверке малюсенького поселкового магазинчика натолкнувшиеся на огромные, на двадцать тысяч рублей, излишки и так и не установившие их причину. И начальник следствия Чекин, передавший сложное «хозяйственное» дело пустейшему из следователей – Хане. И лоботряс Ханя, за полтора месяца не удосужившийся открыть папку с уголовным делом. Где-то сбоку «прилепился» и сам Берестаев, по нерадивости и некомпетентности исполнителей оказавшийся в каком-то мерзком, двусмысленном положении.
– Значит, полагаешь, под суд её надо, воровку? – Берестаев навис над перекидным календарём. – Ага! Сегодня у меня выездная сессия, завтра – я в колонии, в пятницу с утра уезжаю в район по «Урожаю», там они меня не достанут. Потом выходные. Это я на дачу смоюсь, – горячечно листая календарь, бормотал прокурор. – В общем, так, Тальвинский. Можешь не спать, не есть, ночевать в кабинете, но не позже чем в понедельник дело должно быть у меня на столе с обвинительным заключением. Всё, действуй!
Следователь заулыбался, почему-то обрадованный перспективе не спать и не есть несколько суток, но прощаться не спешил.
– Чего-то неясно? – теперь уж Берестаев, давно косившийся на сиротливо лежащую тоненькую папочку, заподозрил неладное.
– Вот, – Андрей положил-таки перед ним четыре отпечатанных через копирку листа бумаги.
Берестаевская лысина вспыхнула перезрелой малиной:
– Ты что, следопут паршивый, о себе возомнил? Над прокурором глумить?! Я тебе, мудрозвон, о чём тут битый час толкую?!
– У меня хороший слух, Юрий Иванович, – нахмурился следователь.
– Да пошёл ты! Арест ему подавай. Кого арестовывать собрался, опричник? Мать двух детей за девятьсот рублей в тюрьму?!
– Положим, детишкам за двадцать пять. А Лавейкина воровка.
– Эк удивил. Деформировался ты, Тальвинский: хватай да сажай. Не пацан, чай. Без пяти минут руководитель райотдела милиции. Пора мыслить по-государственному. Знаешь хоть, что по стране и так сажать некуда? Да и кто теперь разберёт? Сегодня матёрый расхититель, а завтра, глядишь, предприниматель, творец новой экономики, – он тряхнул головой, отгоняя одолевающие мрачные мысли, и принялся сгребать разбежавшиеся детали от авторучки. – А такое слово как гуманность, и вовсе, поди, забыл чего означает?
– Полагаю, что и раньше: милосердие к раскаявшимся. Только Лавейкина-то здесь причем? Все вокруг знают, что она прожжённая воровка, и все уверены, что ей опять с рук сойдёт. Ведь трижды! уголовные дела в отношении неё прекращали. А я хочу, чтоб люди увидели: не все можно «отмазать». Месяц до суда, но – чтоб на нарах! А то, что суд ей потом какое-нибудь условное наказание придумает, так это понятно – те же телефоны.
Под испытующим взглядом прокурора он сбился.
– Ты чего меня тут, как девку, уговариваешь? О людях какую-то демагогию развел, – Берестаев прищурился. – Выкладывай начистоту, чего в эту деревенскую бабу клещом вцепился? Андрей решился:
– Хочу ее в камере, «по низу» подработать [3]. В восемьдесят четвертом, когда Котовцева убили, мы как раз горпромторг «крутили». И Лавейкина была доверенным лицом у Слободяна, нынешнего директора. И сейчас концы излишков наверняка туда идут. Цепочка-то, похоже, все та же. Зацепим – может, и на убийство Котовцева выйдем.
– Опять за свое?! – Берестаев уронил на себя пепел, даже не заметив этого.
Не хуже Тальвинского помнил он ту историю. Когда в очередном, глубоком рейде по тылам противника котовцы выскочили на святая святых – оптовую базу горпромторга, паника проникла даже в ряды партийного аппарата. Шептались, что концы ведут аж к секретарю обкома Кравцу. Со дня на день ждали арестов.
Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не внезапная, глупейшая, надо сказать, смерть самого Котовцева – в случайной ночной драке, в которую встрял он, будучи на крепком подпитии. На розыски убийцы поднялся весь городской оперативный аппарат – Котовцев был популярен. Но преступника так и не обнаружили. Да к тому же важнейших, «убойных» доказательств, подтверждавших хищения на оптовой базе, при вскрытии сейфа покойного не оказалось. Как не было. А потому вскорости обезглавленная «летучая» бригада была разгромлена прямой наводкой тяжёлой артиллерии – по инициативе обкома партии горотдел БХСС за грубые нарушения социалистической законности и за нецелесообразностью был расформирован. Одиннадцать “возрастников” оформлены на пенсию. Ещё сорок профессионалов раскидали по другим службам.
– Эк тебя заносит! И что за норов ослиный? – прокурор пристально вгляделся в насупившегося следователя. – Алексей Владимирович, земля ему пухом, пять лет как в могиле! По тому делу все было по десятку раз копано-перекопано. И отдела давно нет, и людей, почитай, не осталось. А ты все взбрыкиваешь. Иль занять себя нечем? В районе два свежих нераскрытых убийства, серийные кражи опять захлестнули. Каждый штык на счету. А ты счеты сводить затеял. Словом, так, Тальвинский, серьезных аргументов в пользу ареста я не услышал. Потому – до суда будет твоя Лавейкина гулять на свободе. А там уж… Законность у нас одна для всех. Суд её и отмерит.
Берестаев примирительно хохотнул, давая понять, что аудиенция окончена.
– Законность одна, связи разные, – буркнул несговорчивый посетитель. – Потому на всех и не хватает.
– Интэррэсно у тебя получается: все вроде как конъюнктурщики, один ты за державу радеешь.
– Дайте санкцию, нас двое будет.
Берестаев поджал губы, рывком придвинул разбросанные по столу листы и в верхнем углу первого экземпляра наискось, взрезая пером бумагу, начертал: « В санкции на арест отказываю за нецелесообразностью. Избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде». И далее – озлобленная тугая пружина прокурорской подписи.
Швырнул через стол:
– Выполнять!
– Стало быть, на девятьсот рублей направляем в суд, а двадцать тысяч свалившихся с неба излишков «хороним»?
– Выделяем в ОБХСС для дополнительной проверки. Подсунули халтуру, пусть сами и расхлёбывают. Котовцы хреновы! Ещё вопросы?
– Вопросов больше не имею. Решение, достойное всяческого восхищения, – Тальвинский поднялся. – Разрешите идти?
– Слушай, ты! Тебя за что из следственного управления турнули?
– За волокиту при расследовании многоэпизодного хищения, – привычно отрапортовал Андрей.
– Врёшь, не за это. За склочность твою. Нет, не выйдет из тебя руководителя. Посторонний ты нашему правоохранительному делу человек.
– Честь имею, – Тальвинский открыл дверь.
– Одного не пойму, действительно шизанутый или цену себе набиваешь?
Дверь аккуратно закрылась. Оставшись один, Берестаев сгрёб развинченные детали «эксклюзивной» авторучки и швырнул всё это богатство в корзину для мусора.
На лестничной площадке среди кладбищенских венков и пахнущих стружкой гробов – свежее поступление в магазин ритуальных услуг, – курили три женщины с маленькими звёздочками в петлицах. Открывая дверь, Тальвинский по обрывку фразы и по сделавшимся смущёнными лицам уловил, что обсуждается злободневная проблема на предмет «сорваться» по магазинам.
– Ну что, Андрюш, накрутил Юру? – догадалась заместитель районного прокурора.
– Без жертв победы не бывает, – неловко отшутился Тальвинский.
– Как? Опять?! – в отчаянии она закрутила головой. – Да что ж это делается, бабоньки? Вы там с ним чего-то делите, а жертвами-то мы оказываемся.
Будто в подтверждение этих слов в приёмной раздался рык, и вслед за тем на лестницу выскочила расстроенная секретарша.
– Зовёт. Говорит, совещаться со своими дурами буду, – она осуждающе посмотрела на Андрея. – Ой, девочки, злющий!
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – хмыкнула зампрокурора. – Спасибо вам, товарищ Тальвинский, что не забываете. Вы уж почаще, а то без вас как-то пресно.
Расстроенный Андрей расшаркался. Надо было торопиться в отдел. На три часа назначено заседание аттестационной комиссии УВД.
2.
– Товарищ…! – вошедший в кабинет Мороз растерянно обвел взглядом трех увлечённых разговором мужчин в штатском и, повернувшись к более старшему, решительно закончил: – Выпускник Омской высшей школы лейтенант милиции Мороз прибыл для дальнейшего прохождения службы.
– Почему собственно ко мне? – начальник следственного отделения Красногвардейского райотдела милиции Чекин разглядывал рослого молодого парня в вытертом джемпере без ворота, окольцевавшем сильную шею. – Я операми не командую.
– Вообще-то направлен в угрозыск. Но там вакансия только через неделю откроется. Так что получил приказ руководства – быть пока в вашем распоряжении. Сказано, что у вас запарка с уголовными делами.
– Точно – запарка, – хмуро подтвердил Чекин. – Наше обычное состояние.
Взрыв хохота сотряс кабинет.
Следователь Ханя, тот просто сложился перочинным ножом. А сидящий напротив Чугунов не мог даже смеяться. Сняв круглые очки, он навалился на стол, и лишь сутулая спина его мелко подрагивала.
– Это у них от переработки, – хмуро пояснил Чекин опешившему новичку.
С демонстративной неприязнью оглядел подчиненных:
– Отставить ржачку! Давайте еще раз, как он позвонил и что сказал.
– Ну как как? – со скрытым кокетством человека, оказавшегося в центре внимания, повторил Чугунов. – П-полчаса назад. Спросили Т-т… Андрюху в общем. Говорю, что нет на месте. Может, чего п-передать? А п-пусть, говорит, п-подмоется. Это, говорит, муж п-полюбовницы егонной Валентины Катковой. Он, говорит, жену мою третий год д-дрючит. Теперь я п-приеду к вашему начальству, чтоб его самого п… Я, было, ему – чего, мол, горячиться, д-давай встретимся, п-п… А он, п-подлец, трубку бросил.
– Понятно. И чего гогочете?
– Так прикольно, – удивился Ханя.
– Балбесы вы все-таки. У друга беда. Назначение может сорваться, а вам всё смешочки.
Месяц назад измученный болезнями начальник райотдела подал рапорт на увольнение. И на свое место рекомендовал майора милиции Тальвинского. – В самом деле, п-плохие шутки, – Чугунов посерьёзнел. – Где гарантия, что сами мы не рогоносцы?
– Насчёт всех не знаю, а вот некоторым рога к строевому смотру подравнять бы не мешало, – в голосе Хани, как всегда, когда обращался он к невзрачному Чугунову, пробурилась презрительность.
И тот, только что ухохатывавшийся, на глазах скис: относительно супруги своей иллюзий он не питал и догадывался, что значительной частью ветвистых украшений обязан был неустанным трудам любвеобильного Хани.
Высокий, гибкий, будто хлыст, Вадим Ханя был по-мужски породист. Породу эту ощущали в нём все: друзья, сослуживцы, случайные знакомые, встречные прохожие. Даже потерпевшие женского пола ещё прежде, чем осознавали, что перед ними следователь, принимались интуитивно прихорашиваться. Отзывчивый Вадик не обманывал ни надежд, ни опасений, и неустанно, с щедростью подлинного таланта осеменял родной город.
– Валюхе не дозвонились? – уточнил Чекин.
– П-пробовал. На вскрытии она – неоп-познанный труп, – доложил Чугунов. – Г-главное, и вызвать-то п-просил всего на минутку. Так нет – судмедэксперт Каткова подойти, видите ли, не может. Срочно там. А куда п-покойнику торопиться? Ему уж и Ханя не страшен.
– Может, и Андрюхиной жене стуканули, – сообразил Ханя.
– Что жене? Пустое. Та давно догадывается. Лишь бы к руководству не пробился, – быстро прикинул Чекин. – Иначе места Андрею не видать.
– А то и из ментовки турнут, – согласился Ханя. – Наши старые импотенты на это быстры. На что другое реакции нет, а насчёт аморалки, откуда что берётся.
Пожилой полковник в самом деле слыл примерным семьянином, и причину такой очевидной неполноценности Вадим совершенно искренне связывал с проблемой эрекции.
– Во сколько у Тальвинского аттестация? – уточнил Чекин.
– Как будто в три.
– Тогда слушай диспозицию. Ханя, Чугунов, будете дежурить у входа в отдел. Задача ясна?
– Перехватить рогоносца.
– Умереть, но не п-п…
– Правильно понимаете задачу. Деньги есть? – Чекин снисходительно оглядел скисших следователей, отомкнул маленький сейфик. – Вот вам из кассы взаимопомощи десятка. Святые деньги.
– Так ведь и дело святое. Друга из беды идём выручать, – успокоил его совесть Ханя.
Чекин хмыкнул, ткнул через окно на крыльцо райотдела:
– Граница!
От привычной его скользящей иронии спокойнее стало остальным.
– Тальвинский – это Андрей Иванович? – Мороз едва дождался, когда следователи выйдут из кабинета.
– Да. Знаком?
– Так точно. Когда-то во внештатниках при нём ходил.
– Тогда к нему и приставлю. Вот уж кому помощь нужна. А кроме того, – Чекин выхватил из сваленных на столе папок самую увесистую, протянул новобранцу. – Такая фамилия – Воронков – что-нибудь говорит?
– Как будто нет.
– Нет?! – Чекин удивился. – Ты что, не местный?
– Только вчера вернулся.
– Тогда понятно. Ничего – скоро от зубов будет отскакивать. Начинающий миллионер из новых русских. Пройди пока в ленкомнату, изучи материалы. Закончишь – заходи с предложениями. Вопросы есть?
– Никак нет.
– Тогда у меня есть, – Чекин многозначительно окинул взглядом морозовский джемперок, натянутый на голое тело. – Костюм бы тебе не помещал. Или хотя бы рубаха цивильная.
– А чего? Нормальный джемперок, – огорчился Виталий. – И муха еще не сидела.
Ни костюма, ни рубахи у недавнего курсанта пока еще не было. И денег на них – тоже.
3.
Следователь Красногвардейского РОВД Андрей Иванович Тальвинский не был красив в строгом значении этого слова: и уши слегка оттопырены, и голова, если приглядеться, маловата, не по росту. Да и полные губы слегка влажноваты, отчего папиросина в углу рта выглядит приклеенной. Но в любой компании при появлении Тальвинского центр всеобщего притяжения неизбежно смещался.
«Медом ты, что ли, намазан?» – беззлобно ворчал Ханя, любовно глядя на друга.
Медом не медом, но было в Андрее это Богом отпущенное обаяние, перед которым отступал даже неотразимый Ханя.
Вот и сейчас, когда широким, размашистым своим шагом подходил он к райотделу, встречные завороженно оборачивались, пытаясь угадать причину глубокой задумчивости этого резко выделяющегося среди толпы человека.
Меж тем размышлял Андрей об извивах фортуны.
По странной прихоти судьбы именно сегодня исполнилось ровно десять лет, как начинающему следователю Тальвинскому были вручены лейтенантские погоны. Тогда ему здорово повезло – выпускника юрфака взяли сразу в следственный аппарат области. И – не прогадали. Новичок оказался талантлив. Его умение вгрызаться в уголовное дело поражало. Он настолько вживался в него, что, случалось, «просчитывал» даже те эпизоды, о которых забывал сам преступник. Он «вычислял» их как астроном новую, невидимую с земли звезду. Да и сам он быстро стал «звездой» и балуемой начальством областной достопримечательностью.
Он упивался своей работой и абсолютно не интересовался тем, чем жили другие, – продвижением по службе. От первого же, очень заманчивого предложения перейти с повышением на работу, не связанную с расследованием, Тальвинский отказался с таким небрежным равнодушием, что опешившие кадровики от него отступились и лишь потряхивали при встречах многомудрыми головами.
По установившемуся мнению, был он дерзок, резок в суждениях. К тому же без царя в голове: позволял себе игнорировать не только просьбы начальника следственного управления, но и прямые указания генерала. Другого за одно это вышибли бы, что называется, без выходного пособия. Тальвинскому до поры сходило с рук. Но вечно так продолжаться не могло. Многие со злорадством предвкушали момент, когда, наконец, неуправляемый «следопут» перейдет границу дозволенного.
И – дождались.
Ни с кем так не работалось следователю по особо важным делам Тальвинскому как с начальником горОБХСС Котовцевым и его «летучей» братией. Удивительное чувство единения установилось меж ними. Андрей мог проснуться от внезапно пришедшей во сне догадки. Среди ночи звонил Котовцеву. И тот, едва дождавшись утра, поднимал свои части на проверку новой версии.
Они, вроде взрослые люди, между прочим, члены КПСС со всеми вытекающими последствиями, жили в каком-то странном, заведомо несбыточном нетерпении очистить властные структуры от удушающей коррупции.
Всё обрушилось со смертью Котовцева. Всех разметали. И только Тальвинский, в производстве которого находилось то самое злополучное уголовное дело по горпромторгу, упрямо пытался довести то, что начали они с Котовцевым: уличить в хищениях его руководителей – Слободяна и Панину. Начальник следственного управления Сутырин потребовал прекратить дело как неперспективное, – со смертью Котовцева исчезли улики, что тот собирался передать для приобщения к уголовному делу. Тальвинский по своему обыкновению заартачился. Не помогла даже ссылка на указание из обкома. В тот же день от разгневанного генерала в кадры поступила команда: капитана Тальвинского из органов внутренних дел уволить.
Спас недавнего любимца все тот же Cутырин. Договорившись с Чекиным, он тихонько спрятал Тальвинского в Красногвардейском райотделе – подальше от генеральских глаз.
Внезапное стремительное падение потрясло Андрея. Не столько потерей должности, сколько уязвившей утратой гордого чувства незаменимости.
Здесь, в районе, он оказался в ошеломляющем потоке каждодневно возникающих отовсюду уголовных дел – близнецов. Их требовалось, как на конвейере, быстренько «упаковать» кой-какими доказательствами, отсечь все сомнительные, недоказанные эпизоды и незамедлительно переправить в следующий цех – народный суд, где его так же быстро «обшлепают», наряду с другими. И это не было чьей-то злой волей, а лишь результатом естественного отбора, – у каждого следователя находилось в производстве по двадцать – тридцать дел одновременно. На смену едва сбитой волне накатывался вал новых преступлений, отчасти рожденных паскудным бытом, отчасти – «придуманных» системой.
А потому первенство здесь принадлежало не пытливым исследователям, вытачивающим штучные образцы, а сноровистым мастеровым, вроде Хани. И Андрей предвидел, что может теперь произойти с ним самим: либо надорвется, как призовой рысак, впряженный в водовозку, либо свыкнется и вольется в общий строй не знающих колебаний следователей – мутантов.
Единственным выходом виделось теперь то, о чем прежде и не помышлял, – продвижение по службе. Только оно могло вернуть ощущение независимости и собственной значимости. Но – вот уж два года освобождавшиеся должности, самой природой для него предназначенные, перехватывали другие, более вёрткие. Предложение уходящего на пенсию начальника райотдела занять его место оказалось для Андрей неожиданным. Но и долгожданным.
Единственное, что саднило душу Андрея, был – Чекин!
Аркадий Александрович Чекин, легенда следствия. Худощавый, лысая головка огурцом, и маленькие чёрные, неизменно насмешливые глаза на подвижном лице.
Справа от него всегда лежал куцый, помятый и вечно заляпанный закуской лист бумаги с перечнем находящихся в производстве уголовных дел. Дел таких в подразделении редко бывало меньше двух сотен. И, тем не менее, листик поражал своей лаконичностью – номер возбуждённого дела, фамилия следователя и по соседству – фамилия обвиняемого. В разграфке этой не было ни краткой фабулы, ни даты предъявления обвинения и ареста, – ничего, что хоть немного могло освежить память. Все эти данные Чекин накрепко держал в голове и никогда, к чести его, не ошибался. Больше того: раз в десять дней он пролистывал дела, и этого хватало, чтоб каждое прочно оседало в его памяти. Поэтому всякий раз, когда приходил к нему за советом следователь, Чекин, не дожидаясь пространных объяснений, задавал два-три коротких вопроса и, не отрываясь от своей громоздкой, будто раскорячившийся краб, пишущей машинки, надиктовывал план дальнейших действий. А если у кого-то из подчинённых заканчивались сроки сразу по нескольким делам, он забирал часть их и быстренько набивал обвинительное заключение. Иногда доходило до хохмы: уголовное дело лежало в сейфе следователя, а вошедший Чекин клал перед ним обвинительное заключение страниц на десять.
– Держи. Только номера листов подставь.
К Чекину шли все, так что поток посетителей в его кабинете не иссякал. Он никому не отказывал. Быстро вникал и коротко, в энергичной своей манере, выносил вердикт. Ошибался редко.
А квалифицируя преступление, не ошибался никогда. Здесь он просто не имел себе равных, вызывая ревность областного аппарата. В самых трудных случаях из отдалённых районов области звонили не в контрольно-методический отдел. Искали Чекина и потом, в спорах с местной прокуратурой или судом, гордо ссылались на его мнение как на экспертное заключение. Даже самолюбивый Берестаев то и дело набирал номер чекинского телефона:
– Слушай, тут бэхээсники материал классный надыбали. Татары, понимаешь, по области работали. От зарплаты отказывались, а на эти деньги набирали в колхозе зерна и – на север, на перепродажу. Десятки тысяч! Ты представляешь, в каких масштабах орудуют, спекулянты! Но теперь прижмём к ногтю! Мало не покажется. На всю область грому будет.
– Из этого рая не выйдет ничего, – невозмутимо отвечал Чекин, продолжавший, по своему обыкновению, стучать на машинке. – Деньги они в руках держали? Нет. Стало быть, и скупки нет.
– Да ты вникни, бюрократ! – гремел Берестаев. – Они ж, по существу, скупали. Какая разница – взяли деньги и назад отдали или просто расписались в ведомости? Это ж политическое дело.
– Деньги не держали – скупки нет. Нет скупки – нет состава преступления.
– Скотина! Спекулянтам пособничаешь! Так я тебе докажу! – Берестаев швырял трубку.
Через полгода, намучившись с материалом и искостерив подставивших его обэхээсников, Берестаев по-своему признавал правоту Чекина:
– Ну, ты и гнус.
Талантливость Чекина была столь несомненна, что всякий пообщавшийся с ним задавался одним и тем же вопросом: почему этот сорокалетний человек до сих пор прозябает в районном следствии?
Причины назывались разные – и бесконечные фингалы и царапины, которыми густо украшала сластолюбивого Аркадия Александровича ревнивая супруга; и не скрываемая привычка к компанейским возлияниям, и панибратское обращение его со всеми окружающими, несовместимое с привычным обликом советского руководителя.
Но глубже всех определил причину, не делясь своим открытием с остальными, Андрей Тальвинский. Талант Чекина был сколь ярок, столь и несчастен. По натуре своей рождён он был именно руководителем следствия. Все другие милицейские службы знал, но не любил. А вход в «головку» областного следственного аппарата, где безраздельно царил полковник Сутырин, Чекину был «заказан». И Андрей Сутырина понимал – кому комфортно иметь в замах несомненно более талантливого человека?
Но вот чего не знал Андрей Тальвинский, так это того, что место своё старый начальник готовил как раз для Чекина. И всего неделю назад сделал последнюю попытку уломать его.
– Ну что ты со мной, Володька, в ромашку играешь – «люблю – не люблю»? А такое слово «надо» знаешь? Станешь номенклатурой. Побудешь годик в начальниках райотдела. А там, глядишь, и в областное следствие рокирнут вместо Сутырина. Иначе, помяни моё слово, сопьешься.
Он пригляделся к отмалчивающемуся Чекину и безысходно, не скрывая раздражения, отпустил:
– Так и катись по наклонной, самородок тупой!
Но то, что именно Чекин, не любивший хвалить в лицо, проталкивал во всех инстанциях Тальвинского, Андрей знал доподлинно.
Незаметно для себя подошёл он к райотделу, где увидел странное зрелище – метрах в двадцати от входа Ханя и Чугунов азартно теснили кого-то, скрытого за их фигурами.
«Уже гоношат», – проворчал Андрей, с удивлением обнаружив в себе новое ощущение: некое начальственное неудовольствие при виде разгильдяев – подчинённых.
Проскользнув мимо, Тальвинский поспешил к Чекину.
4.
Кабинетик начальника районного следствия, возле вечно протекающего туалета, как обычно, не пустовал. На этот раз напротив Чекина, скрытого за грудой разложенных на столе дел и материалов, на кончике стула нервно ерзал пожилой участковый с аппетитной фамилией Галушкин.
В прежней, доперестроечной жизни Павел Федосович Галушкин слыл за отдельского диссидента. Участковым Федосыч был очень хорошим. К тому же, в отличие от других стариков, грамотным: с грехом пополам, а закончил заочно юридический институт.
Но – не любило, признаться, Пал Федосыча начальство. Не было, пожалуй, директривы или указания, по поводу которых не прошёлся бы публично старый бурчун. Да и на партийных собраниях невоздержанный Галушкин «попил кровушку» не у одного состава президиума. Сформировав вокруг себя весёлую, проказливую оппозицию из небитой молодёжи, он проталкивал сомнительные, не согласованные в верхах резолюции. Долго ломало руководство голову, как бы обуздать въедливого старика.
Проблему с неожиданной элегантностью решил начальник отдела: полгода назад, на очередном отчётно-выборном собрании, к общему потрясению, предложил избрать Галушкина секретарём партбюро. И жизнь подтвердила, что истинная мудрость есть умение провидеть. Уже спустя месяц после избрания, отстаивая свежую установку райкома, Галушкин так ловко и кстати ввернул длиннющую цитату из последнего Пленума ЦК КПСС, что посрамил даже нового замполита Муслина.
Далее произошло вовсе непредвиденное: через короткое время Галушкин обернулся внезапной головной болью для всего отдела.
Неизвестно доподлинно, как именно инструктировали его в райкоме, но только в умудренном, битом жизнью мужике внезапно пробудили давно, казалось, потухший вулкан. Пятидесятитрехлетний ветеран воспылал лютой ненавистью к «субъектам хозяйственных преступлений». И для начала восстановил против себя родное село, поизымав все имевшиеся там самогонные аппараты. Так что односельчанам пришлось платить за то же самое в соседних деревнях.
Не удовольствовавшись этим, Галушкин отправился в отдел БХСС и попросил дать ему на исполнение какое-нибудь заявление о посягательствах на социалистическую собственность на вверенном ему участке. И получил, чего желал, – заволокиченную, «палёную» анонимку о хищениях в кооперативе по изготовлению памятников, что организовал на территории района некто Воронков. Воронков этот, несмотря на телячий двадцатитрехлетний возраст, слыл городской знаменитостью. В 1986 году, сразу после армии, едва был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», он, как позже сформулировал Гулашкин, ступил на стезю стяжательства. Деятельность его оказалась сколь разнообразной, столь и удачливой. Казалось, он хватался за все, и все приносило ему успех. К 1989 году молодой парень владел сыроварней, пекарнями, двумя кооперативными кафе, пошивочным ателье и даже прикупил оборудование для изготовления силикатного кирпича. Последним хитом оказалось создание мастерской по изготовлению памятников – как раз на галушкинском участке. Воронков привлек к делу нескольких скульпторов, которые и наладили производство гранитных памятников с портретами. Так что скоро халтурщики из государственной ритуальной мастерской, специализирующиеся на мраморной крошке, лишились самых денежных заказов. Именно там, кстати, очевидно, и рождена была пресловутая анонимка. Суть анонимки сводилась к двум пунктам: во-первых, часть памятников оплачивается помимо кассы; во-вторых, для каменотесных работ используется без оформления труд бомжей.
Энергия, с которой взялся за изучение материалов Галушкин, окружающих сначала веселила, потом начала пугать. В поисках «левых» гранитных плит Галушкин облазил шестнадцать кладбищ по области, опросил с пристрастием не менее двухсот владельцев «подозрительных» памятников, из которых лишь трое неохотно подтвердили, что передали сумму большую, чем указанная в квитанции, и еще трое показали, что памятники им изготовили за пределами мастерской. Добившись этого успеха, Галушкин потребовал от Чекина немедленно арестовать злостного расхитителя. Чекин озадаченно хмыкнул. Галушкин, подёргав пористый свой, мигом налившийся обидой нос, строго произнёс:
– Нас в райкоме недавно ориентировали – все силы на борьбу с кровососами, присосавшимися к перестройке. Они дискредитируют инициативу партии и под прикрытием кооперации эксплуатируют наёмный труд. Наша партийная обязанность – Воронкова этого колупнуть – в назидание прочему антисоветскому элементу.
Боясь обидеть старика, Чекин сдержал улыбку.
И напрасно. Потому что на другой же день Галушкин направился к руководству с рапортом. На общую беду начальника в отделе не оказалось, а был лишь замполит Муслин, который как раз корпел над англо-русским словарем, готовясь к заграничной турпоездке.
– Как на духу! Как коммунист коммунисту! Веришь ли еще в победу марксизма-ленинизма?! Иль, может, тоже перерожденец? – с порога страстно произнес Галушкин, выкладывая приготовленные материалы.
– Ай лаф ю, – пролепетал сметенный напором Муслин и, зардевшись, подписал оба постановления: о возбуждении уголовного дела и о задержании подозреваемого на срок до трёх суток.
И вот теперь, спустя двое суток, Галушкин требовал от начальника следствия получить у прокурора санкцию на арест задержанного им Воронкова.[4].
— Ты на чём дело в суд собираешься отправлять? – не в первый раз вопросил Чекин, скосившись на вошедшего Тальвинского. – На каких доказательствах? На показаниях трёх человек? Да они у тебя ещё на следствии вслед за остальными откажутся. Ведь на самом деле для них для всех Воронков этот – благодетель.
– Да! Мелки людишки! – печально согласился Галушкин. – Всё норовят собственную шкурную выгоду выше общественной справедливости установить. Тут ещё просто непаханное поле для наших идеологических органов. А кровососа этого необходимо изолировать. Дабы другим неповадно было на чужом горе деньги лепить.
– А ритуальные мастерские на чем?
– Так то государство! Чего ж равнять-то? – Галушкин с особым вниманием присмотрелся к начальнику следствия.
Чекин безнадежно вздохнул:
– Ну, допустим. Скажи, Воронков лично у кого-нибудь деньги брал? – Прям! Держи карман. Станет он мараться, мистер Твистер. Унего для этого холуи есть.
– Тебя спрашивают, – включился в беседу Тальвинский. – Кто из них показал, что передавал Воронкову «левые» деньги?
– Покажут они, как же! Одна сволочь.
– Тогда за что сажать-то?! По какой статье?
– А вам не все равно, какую цифирьку подставить? Тут главное, общество очистить, – Галушкин углядел, как Чекин и Тальвинский тонко переглянулись, и насупился. – А хотя б за частнопредпринимательскую деятельность. Ее-то из новых умников никто пока не отменил. Я специально проверил. Главное – чтоб на ржавый гвоздь его! Я вон всю жизнь честно прослужил. И чего нажил? А эта сопля едва за двадцать и –погляди каков выискался! Взрослые мужики на него пашут. Кофей ему с поклонцем подают! А он им эдак тычет. Коттедж, сволота, в три этажа отгрохал. Сарай на улице мореной доской обшил. А сортир! Сортир вонючий кафелем, поди ты, обложил, – взгляд старого милиционера сделался диким. – И не как-нибудь, а в цветочек. А на постаменте, стало быть, как на троне, компакт итальянский водрузил. О, как изгаляется, гад!
Галушкин в полном расстройстве принялся нещадно корчевать ногтями узенькую полоску волос, и без того быстро редеющую под натиском двух загорелых залысин.
– Да, щелей меж гнилых досок у него наверняка нет, – съехидничал Тальвинский. Вот уж какой год Галушкин не мог закончить с домашним ремонтом. Едва ставил заплату в одном месте, как прорывалось что-то по соседству.
– Потому и щели, что честный человек! – нервно вскричал участковый. – Еще не хватало: меня с расхитителем на одну доску.
– Стало быть, так, – констатировал Чекин. – Дело это мы у тебя , Федосыч, забираем. Воронкова немедленно выпустим.
– Да это что ж такое ты говоришь, Аркадий? Ты ж коммунист! – Галушкин поперхнулся негодованием.
– А ты заглохни, Павка Корчагин! – Чекин потерял терпение. – Скажи спасибо, если еще договоримся с этим Воронковым, чтоб без скандала. А то, гляди, вышибут тебя из органов за незаконное задержание.
– Ежели вовсе перерожденцы, так за правое дело готов пострадать!
– Словом … Ты все понял?
– Чего ж не понять-то? Дожили. Державу великую на наших глазах разворовывают, а мы вместо чтоб грудью, значит, единым фронтом…, – безнадежно махнув рукой, Галушкин удалился.
Чекин подвинул папку Тальвинскому.
– Возьми. Шеф просил выручить. На весь отдел пятно. Тут он нам, кстати, парнишку на неделю дал в помощь. Отправишь его в ИВС[5] к Воронкову этому. Проинструктируй, как складнее передопросить. А сам вынеси постановление об освобождении за нецелесообразностью. Втихаря прекратим куда-нибудь на товарищей и зароем в архивы. С Берестаевым договорюсь, Прокурор у нас хоть и баламут, а подставлять район под незаконное задержание не захочет. Хотя сегодня, после твоего визита, к нему лучше не приближаться.
– Стало быть, знаешь? – Андрей виновато потупился.
– А то! За тобой же след повсюду как за раненым кабаном, – Чекин был заядлым охотником. Правда, выехав из дома, не всякий раз доезжал до леса. – Только что Берестаев звонил, – привет передал: два дела со злости завернул на доследование.
– Александрыч, ты на меня зла не держишь? – Тальвинский, выбиравший момент для разговора, решился. – Ну, что вроде как в обход тебя иду на повышение. Я ведь понимаю, у тебя и прав больше, да и по жизни лучше кандидатуры нет… Ты только скажи, и я без звука…
– Даже в голове не держи, – невозмутимо пресёк разговор Чекин и, явно опасаясь новых излияний, демонстративно опустил руки на клавиши.
Андрей с нежным выражением глянул на начальника следствия и отошёл к окну. Там вновь увидел непутёвых Ханю и Чугунова, отступивших уже к самому крыльцу. Оба, размахивая руками, что-то быстро, не умолкая, говорили мужчине, который, судя по нервным движениям, упрямо стремился пройти в отдел. Но стоило ему сделать шаг в сторону, как кто-то из двоих вновь оказывался на пути.
– Вот разыгрались, мормудоны, – снисходительно пробасил Тальвинский.
– А, это, – Чекин равнодушно скосился в окно. – Это они от мужа твоей Вальки отбиваются. К руководству рвётся.
Андрей почувствовал, как по низу живота его растекается неприятный, унижающий холодок. С какой-то безысходностью привалился он к оконной раме, наблюдая, как в двадцати метрах решается его судьба. Андрей догадывался о скрытой неприязни к нему начальника райотдела и ничуть не сомневался, что если муж Валентины сейчас к нему пробьется, на назначении будет поставлен жирный крест.
– Трубку возьми, – вернул его к действительности голос Чекина. – Это тебя.
– Слушаю.
– Андрюша! Алло, Андрюшенька!
– Слушаю, слушаю, Валюх!
– Господи, как же это? Я только сейчас узнала. Он что, действительно пошёл к вам?
– Он уже у нас.
– Боже мой, но это ужасно! – голос Валентины сбился в судорожные всхлипы. – Он же на тебя столько грязи выльет. Это ж всё, о чём ты мечтал, рухнет!
Скосившись на Чекина, Андрей прикрыл трубку.
– Обойдётся. Лучше скажи, как твои украшения.
– Мои? Лечу по твоему совету бодягой… Подожди, где он сейчас?
– На крыльце.
– На крыльце?.. А что он там делает?
– С Ханей плюются.
В самом деле Ханя перед тем сказал что-то резкое и плюнул на асфальт, зло растерев плевок. И Он тоже плюнул, согласно кивнув головой. Понимающе скривился Чугунов и вновь принялся что-то говорить, на этот раз не нервно, а обстоятельно.
– Я тебе перезвоню, – Андрей вернул трубку Чекину, не отрываясь от происходящего на улице. Там как будто установилось взаимопонимание. Все трое закурили. Потом Он кинул окурок, махнул рукой и пошёл прочь, сопровождаемый приобнявшим его за плечо Чугуновым. Ханя же, крутнувшись лисом в курятнике, влетел в райотдел и через несколько секунд оказался в кабинете Чекина.
– О! Андрюха! Сквозанул-таки! А мы всё дёргались, как бы не появился. Словом, докладываю – операция «Рогоносец» проведена с присущим мне блеском. Противник разбит по всем позициям.
Он бесцеремонно открыл нижний ящик Чекинского стола, извлёк оттуда залежалый плавленый сырок и с жадностью хронического обжоры запустил целиком в рот. – Усовестили мы мужика, и под тяжестью улик он признал, что из-за собственной шлюхи ломать жизнь другим не стоит. Сейчас мы в него пару стаканов вольём. Закрепим, чтоб уж наверняка не вернулся… В общем, кто спросит, я на следственном эксперименте. Всем богатырское пока!
Провожая его взглядом, Андрей неприязненно представил, что говорилось и что будет сейчас говориться о нежной, беззаветно преданной ему Валюхе.
– Ничего, перемелется, – догадался, как всегда чуткий, Чекин. – Надо тебе с Лавейкиной поскорей заканчивать. Гнилое это дело.
Он прервался, заметив тихонько раскрывающуюся дверь.
…И вдруг – дуновение ветра, ощущение стремительного движения, и, прежде чем ошеломленный Чекин успел закончить фразу, на плечи стоящего перед ним Тальвинского обрушилось гибкое и сильное тело.
Обхваченный сзади Андрей сделал резкое движение, чтобы освободиться. Но, вопреки ожиданию, усилие его не привело и к малейшим результатам: будто он оказался опутан мотком стальной проволоки.
К такому уверенный в своей силе Тальвинский не привык, и оттого принялся пыхтеть, наливаясь злобой.
Напавший состояние его распознал и быстро распустил захват. А когда не на шутку разъярённый Тальвинский развернулся, уже стоял, вытянувшись во фрунт.
– Товарищ майор! Разрешите доложить! Лейтенант милиции Мороз прибыл в ваше распоряжение!
По мере того как ладный парень докладывал, весело поблёскивая глазами, гнев Тальвинского уступил место сначала недоумению, а потом радости.
– Виталик! – Андрей обхватил его за бицепсы, с силой, будто бы от избытка чувств, вжав в них длинные свои пальцы. С таким же успехом можно было пальпировать кору крепкого дерева. – Ты погляди, каким стал! А с виду сухощавый. Канаты у тебя там, что ли, вшиты?.. Знакомься, Александрыч. Мой крестник. В свое время едва по хулиганке не посадил. А теперь гляди каков – соратник. Сколько прошло?
– Больше пяти лет! Уже двадцать три исполнилось!
– Уже! – Чекин хмыкнул. – Так что, лейтенант, материалы, что я тебе дал, изучил?
– Так точно. – Стало быть, фамилия Воронков тебе теперь знакома. Скоро познакомишься лично. Придется съездить в ИВС. Андрей Иванович попозже разъяснит, что нужно сделать. Ну, и раз вы такие крестники, на неделю прикрепляю тебя к нему. Вопросы есть?
– Никак нет… Какие будут указания? – Мороз молодцевато повернулся к Тальвинскому.
– Подожди у меня.
– Хорош! Прямо гусар на плацу. Такие женщинам нравятся, – оценил Чекин, едва Мороз, чётко повернувшись, вышел. – Впрочем, в этом вы с ним схожи. Ступай-ка и ты. А то как бы там Лавейкина отдел не затопила. Рыдает перед твоим кабинетом.
– Тренируется! Ох, и не лежит душа концы по такому делу рубить. Умом все понимаю: и не ко времени, и сверху давят. Но как вспомню, что кто-то из этих сволочей организовал убийство Котовцева… – Это всего лишь предположение.
– Но это МОЕ предположение! Веришь: хоть какая-то зацепка – порвал бы к чертовой матери!
– Зацепка, говоришь? – Чекин вгляделся в Тальвинского. Он любил Андрея. Но, в отличие от других, ценивших того прежде всего как веселого, снисходительного приятеля, которому хотелось подражать, Чекин выделял иное его, несмотря на десять лет милицейской службы, не утраченное качество – совестливость. И теперь колебался, стоит ли продолжать: уж больно много неприятностей принесла эта черта бывшему «важняку».
Но и Андрей не первый день был знаком с Чекиным.
– Что-то появилось? – догадался он. – Не томи, выкладывай. Чекин прищелкнул пальцами, – де-сам напросился:
– Мне только что Галушкин поведал: оказывается, еще полгода назад в Знаменском была выездная торговля. Ну, он как участковый проверял накладные. Так вот с одного микрофургона нацмен торговал по документам, выписанным на Лавейкинский магазин. А с соседнего лотка продавала сама Лавейкина. И они общались. Вот он и решил, что вместе торгуют.
– Так, может, действительно?
– Наверняка. Но, как припомнил бдительный наш Галушкин, Лавейкина торговала обычным ширпотребом. А вот нацмен этот, – Чекин выдержал паузу, – один к одному с «левым» товаром, что через три месяца после того в лавейкинском магазине опечатали.
– И это все? – Тальвинский огорчился. – Я тебе и без того всю их схему расскажу. Дефицит систематически скидывался Лавейкиной. Она распродавала его на «развалах» под прикрытием магазина. Потом накладные рвались, а деньги делились. Во всем этом до сих пор неизвестен только один пустячок, вот такусенький, – откуда товар этот поступал. Могу, конечно, у самой Людмилы Николаевны поинтересоваться. Де, не желаете ли дать на себя новые показания. Но – там, сам знаешь, одна песня: «Делов не знаю».
– Чем богаты. Только нацмена этого Галушкин, по его словам, раза три потом встречал. Крутится близ Центрального рынка. Его Тариэл зовут.
– Тариэл! Всего лишь имя, – поняв, что существенной информации у Чекина нет, Андрей почувствовал невольное облегчение: в глубине души проблем перед самым назначением ему не хотелось. И тут же застыдился этого. – Но, с другой стороны, – грузинское имя в русском городе – почти фамилия. Шанс, конечно, тухлый. Но – попробуем?
Вгляделся в ухмыляющегося Чекина. И только тут окончательно понял, куда его загоняют:
– Погоди! Центральный рынок, говоришь! Да это опять к котовцам на поклон!
Чекин сочувственно смолчал.
После разгрома «летучей бригады» из всех оперативников, служивших под началом Котовцева, в службе ОБХСС были оставлены всего трое: бывший заместитель Котовцева майор Марешко, капитан Рябоконь и старший лейтенант Лисицкий. Они обосновались в тихом флигельке, в полутора километрах от Красногвардейского райотдела. И их-то, желчных, необразумившихся, выделявшихся на фоне сурового шинельного сукна эдакой канареечной заплатой, и называли по-прежнему котовцами.
Говорят, на очередное предложение кадровиков покончить с гнездом дерзости и смуты многомудрый, переживший многое и многих начальник УВД пренебрежительно отмахнулся:
– Зачем убивать ядовитых змей в серпентарии? Раз уж под колпаком.
Генерал любил выражаться аллегорически.
– Не пойду. Как хочешь, Александрыч, к Лисицкому с просьбой не пойду, – набычился Андрей.
Чекин сдержал улыбку. Причина столь резкого демарша была ему хорошо известна. Как, впрочем, и многим. О странных отношениях, сложившихся между следователем Тальвинским и оперуполномоченным ОБХСС Лисицким, рассказывали с хохотом, будто свежий анекдот.
Дело в том, что Лисицкий неожиданно для всего города «подвинулся» на национальном вопросе. После польских событий, начитавшись изъятой самиздатовской литературы, старший лейтенант милиции Лисицкий торжественно объявил себя поляком. И с тех пор при всяком удобном, а чаще неудобном случае плакался о тяжкой доле несчастного своего народа, распятого пактом тридцать девятого года между фашизмом и сталинизмом. Заинтересовавшемуся инспектору политуправления Лисицкий попросту и без затей объявил: «В этом затхлом городишке всего два порядочных человека: я да Тальвинский. И оба, кстати, поляки».
Произошло это как раз накануне дня, когда в очередной раз решался вопрос о повышении Тальвинского в должности. И хотя примчавшийся в инспекцию по личному составу Тальвинский безусловно оправдался, что никакой он не поляк, а самый что ни на есть заматерелый русский и даже представил какие-то дополнительные метрики на бабку, назначение на всякий случай «прокатили». Озверевший Андрей прямо из «предбанника» дозвонился к котовцам и пригрозил при случае набить морду. На что Лисицкий, известный своей вспыльчивостью, лишь кротко вздохнул: «Ну, что делают сволочи? Нас, поляков, всего ничего, и то норовят лбами столкнуть. Вот он, великодержавный шовинизм в действии. А приезжай-ка, дед, в самом деле. Я тебя манифестом «Солидарности» побалую. Недавно отксерокопировали».
Тальвинский бессильно швырнул трубку.
Когда же при случайной встрече в людном коридоре УВД Лисицкий выбросил вверх сжатую в кулак руку и громогласно поприветствовал его: «Аще польска не сгинела!», – Андрей сдался. Отведя неугомонного опера в сторону, признался, что он действительно поляк. Но поскольку для номенклатуры – это непозволительная роскошь, то поляк он тайный. Куцым объяснением Лисицкий неожиданно удовольствовался и с тех пор при встречах ограничивался многозначительным подмигиванием. Встреч с ним предусмотрительный Андрей старался, понятное дело, избегать.
Чекин, хорошо знавший и Лисицкого, и родителей его, тамбовских обывателей, как-то полюбопытствовал:
– Коля, и на хрена тебе вся эта галиматья?
– Знаешь, дед, так скушно иногда. Просто невмоготу. Вот еще пытаюсь предков на иудейские корни расколоть, – доверительно сообщил он. – Оченно я сионизму привержен.
Этот-то человек и курировал по линии ОБХСС Центральный колхозный рынок, вокруг которого роились представители братских закавказских республик.
– Не пойду, – решительно повторил Тальвинский. – Да мне под нож легче.
– Можно, конечно, и не ходить.
– Слушай, а если Виталика пошлем?! Парень очень толковый. Проинструктирую! Прямо сейчас и направлю.
– Мы ж его в ИВС планировали, Воронкова освобождать. – Завтра в ИВС. Ничего с выпендрюжником этим не сделается. Помаринуется лишние сутки, глядишь, поумнеет. А по Лавейкиной срок подпирает. Тут – если повезет, выйдем на новые эпизоды. Нет – отрублю концы и – в суд, с глаз долой. Но хоть совесть очистим. Так как, Александрыч?
– Ну, Виталика так Виталика, – согласился Чекин. – Тем более шансов-то за пару дней найти этого Тариэла, расколоть, обставить доказательствами, чтоб дело продлить, и впрямь с гулькин фиг.
Благодарный Андрей поднялся.
– Ты, кстати, на аттестации, держись без бойкости, – остановил его голос Чекина. – Клыками не клацай. – Так нет их боле. Повыдрали.
– Ну, зубами не скрипи.
– И зубы поистерлись.
– Тогда, стало быть, и впрямь созрел до начальника. – сыронизировал в своей манере Чекин.
Но когда Тальвинский вышел, с чувством постучал по дереву.
5.
… Лавейкина сидела всё в той же скорбной позе, в какой оставил её, уезжая в прокуратуру, Тальвинский. Она издалека заслышала приближение следователя, – веселый бас Тальвинского бежал впереди него, словно породистый пес, упреждающий появление хозяина. Заслышала. Но даже головы не подняла. И склонённая покачивающаяся спина, и обвисшие руки, и давно не налаживаемая химзавивка с колючей проседью, – всё говорило о безмерности унижения и отчаяния и готовности нести тяжкий крест до недалекого уже конца.
Но увидел Андрей и другое: она напряжённо ждала, кем-то настроенная на безусловное прекращение уголовного дела, готовая торжествовать, но и страшащаяся непредсказуемого нрава следователя.
– Заходите, – он открыл дверь, приветливо кивнул сидящему за свободным столом Морозу и этим же жестом предложил ему вникать в происходящее.
Шаркая отёчными ногами, втиснутыми в бесформенные боты, Лавейкина тяжело остановилась посреди кабинета.
– Слушайте, вам не надоел этот маскарад? – Андрей рассматривал полинялую её красную кофточку, перекрещённую на спине слёжанным, в скатанных ошмётьях пуха платком. – Что вы сюда, как на помойку, ходите? Помнится, в магазине на вас тряпки куда поприличней были.
– И детям зареку, – невнятно, слизывая потекшие обильно слёзы, забормотала Лавейкина. – Будь оно все проклято. И тряпки эти, правда ваша. И чтоб ещё когда в торговлю…
– О, заблажила, – он достал из шкафа и положил перед Лавейкиной типографский бланк. Заметил, как напряглась она, пытаясь сквозь слёзы разглядеть содержание.
– Стало быть, так, почтенная. В связи с отказом в санкции на ваш арест в качестве меры пресечения избирается подписка о невыезде. Вплоть до приговора суда не имеете права изменять место жительства. В противном случае мера пресечения будет ужесточена.
– Воля ваша, – выдохнула Лавейкина. Спавшая с лица при словах «приговор суда», она вдруг вскинула опухшее лицо к потолку. – Господи! Почему допустил? Почему не отрубил руку мою берущую!
– Не из библии, часом? – поинтересовался следователь. Крепкая фигура его производила впечатление свежести и озорной решительности, проблёскивающей из-под грозного вида.
– Почему помутил мой взалкавший разум? Всё бы отдала, в рубище поползла, только б без позора!
– Прямой намёк на взятку! – Андрей басисто расхохотался, безжалостно глядя в кроткие, страдающие глаза обвиняемой.
– Не любите вы меня, Андрей Иванович. А потому и в невиновность мою не верите.
– Да я скорее в невинность вашу поверю! Ровно полторы недели назад в этом самом кабинете вздевали вы руки, уверяя, что за свою жизнь копейки государственной не усвистали. Теперь, после того как я обнаружил бестоварку, безусловно доказавшую факт хищения девятисот рублей, мы вынуждены выслушивать новую сагу. И это при том, что в магазинчике вашем с общими остатками в восемь тысяч рублёв в советской валюте обнаружено аж на двадцать тысяч дефицитных излишков! Так что в подсобке повернуться негде. Должно, кто сверху подбросил! Через дымоход.
– Злы люди! Верите, ни сном, ни духом!
– Как не верить! – Тальвинский налился свежей яростью. – Да такую как вы за девятьсот рублей сажать, все равно что серийного убийцу за неуплату алиментов!
– Господи! Страсти какие рассказываете.
– Свечку вам, Лавейкина, стоит поставить – повезло. Поздно вы мне попались.
– Смеётесь над старушкой, Андрей Иванович. А ведь едва жива. Ноги вот отказывают. Закупорка вен. А тут ещё на нервной почве сердце. Не жиличка я, видать, на этом свете. Врачи на операцию уговаривают, а я им: раз следователь не велит, раз моему следователю надо, так хоть на костылях, а приползу по вызову. Он у меня такой редкий человек: зря не прикажет.
Подхалимаж Лавейкиной был столь кондовым, что Тальвинский всякий раз исподволь выискивал в её глазах чёртиков. И иногда казалось, – замечал.
– Стало быть, вы подтверждаете, что, кроме вменённой вам суммы в девятьсот рублей, иных хищений не совершали? – сухо уточнил он. – Или появилось дополнительное заявление?
– Не. Не совершала, – осторожная Лавейкина заново наполнилась тревогой.
– В таком случае до послезавтра. Будем направлять дело в суд.
– Ну, уж и ладно. И разом. Все равно позор, – она медленно попятилась, слегка двигая задом, словно нащупывая таким образом дверь. А, нащупав, выдавилась в коридор, откуда ещё какое-то время доносилось тихое её стенание.
– Видал, какова? Бабушка, божий одуванчик, – обратился Тальвинский к Морозу. – Много за ней грешков, ежели на скамью подсудимых на карачках ползти готова, лишь бы побыстрей. Только неправильно это – пробавляться щурятами, когда кругом акулы резвятся. Согласен, крестник?
– Безусловно. С тем и прибыл.
– Тогда споемся. Запомни: главное для нас с тобой в этом деле не хищение на девятьсот рублей – чепуховая по нынешним временам цифра, и даже не таинственные излишки на двадцать тысяч. Это всё наживка… Ты ведь покойного Алексея Владимировича Котовцева должен помнить?
– Еще бы! – Виталий встрепенулся.
– Так вот, акула эта, которую Лавейкина дряблой грудью прикрывает, наверняка не кто иной, как директор Горпромторга Слободян. Когда-то мы на него еще с покойным Алексеем Владимировичем охотились. Теперь Котовцев мёртвый. Доказательства, что собирали, после его смерти, как корова языком. Убийца не найден. Но выгодна его смерть была троим, которые ныне на рынке заправляют. И – все трое в полном порядке. Один из них – Слободян. Понимаешь, к чему я? – Всё, что могу! – выдохнул Мороз. Тальвинский удовлетворённо кивнул. – На самом деле, шансов почти никаких, – нехотя признал он. – Но, говорят, новичкам в первый раз везет. Я сейчас с начальником райотдела еду в УВД на аттестацию. А тебе предстоит некий необычный визит. Так что слушай внимательно…
6.
Виталий Мороз зашёл за трёхэтажное здание Центрального городского универмага, ловко протиснулся между приставленной к забору лестницей и гниющим под открытым небом огромным рулоном бумаги, – в подвале, под универмагом, размещалась переплётная мастерская.
За рулоном обнаружилась маленькая, ведущая во внутренний дворик калитка.
– М-да. Здорово замаскировались обэхээсники, – пробормотал Виталий. – Ещё пару пулемётов у входа – и ни один расхититель не прорвётся.
Пулемётов, правда, не оказалось, но и они не привели бы Мороза в то изумление, в коем застыл он, попав в тихий, засиженный лопухами дворик, в углу которого доживало свой век одноэтажное, облупившееся, с зарешёченными окнами здание. В самом центре его, над пронзительно-поносного цвета дверью ритмично поскрипывал на цепи огненно – красный фонарь с надписью по ободу “ОБХСС”, – свежая дизайнерская находка обитателей особнячка.
За входной дверью обнаружился короткий предбанник, обрубленный тремя внутренними дверьми. Прямо – “Фотолаборатория”, с карандашной припиской “Пыточная”; справа – клеёнчатая дверь с длинным полуистёршимся перечнем фамилий; левая дверь привлекала лаконичностью и нестандартностью оформления – “Старший оперуполномоченный Рябоконь. Менее уполномоченный, но еще более страшный опер Лисицкий”. Чуть ниже красовалось выведенное вязью напористое объявление: “Вниманию жуликов, тунеядцев и кровососов общества! Приём покаявшихся с 9 до 18 часов. Прочая нечисть – согласно повесткам. Хорошенькие расхитительницы обслуживаются вне очереди и вне графика”.
Эту самую дверь Мороз и толкнул. Далее открылся отсек, состоящий из двух комнат. В ближней, проходной, среди сиротливо пылящихся столов приквартированный к ОБХСС местный участковый колотил одним пальцем по разбитой пищущей машинке. При виде вошедшего он запустил палец в зубы и быстро им задвигал, что, очевидно, соответствовало крайнему напряжению мысли. Из состояния творческой задумчивости его не вывел даже взрыв хохота, обрушившийся в дальней комнатёнке и тотчас расколовшийся на несколько голосов. Мороз шагнул на звук, прислонился к косяку.
Первым вошедшего заметил сидящий напротив двери сухощавый, с обострённым колючим лицом мужчина. За спиной его прямо к стене гвоздями – соткой был приколочен круглый дорожный знак “Въезд запрещён”. Чуть ниже висела пояснительная надпись: ”Для несогласных с концепцией великого футбольного тренера товарища Лобановского вход через сортир”. Журнальное фото самого Лобановского было пришпилено здесь же, рядом с фотографией изможденного пожилого человека, в котором Мороз, едва глянув, узнал Котовцева.
Старший оперуполномоченный Рябоконь был страстным, бескомпромиссным футбольным болельщиком. По слухам, бывалые клиенты в поисках редкой доброй минуты старались подгадать свои визиты под победный график киевского “Динамо”.
Рябоконь не улыбнулся – казалось, что соответствующие лицевые мускулы на аскетичном его лице попросту отсутствуют, но всё возможное от увиденного удовольствие изобразил:
– Коля, твою мать! К нам человек от Тальвинского.
Мороз повернул голову вправо, где, как он и ожидал, восседал тот самый страшный оперуполномоченный Николай Лисицкий. Именно восседал. Он забросил на стол скрещённые ноги в микропорах – низкорослый Николай с юношества предпочитал толстые подошвы – и, покручиваясь во вращающемся кресле, подтачивал пилкой холёные ногти.
К слову сказать, хотя время было крепко к пятнадцати часам, столы в кабинете сохраняли девственную чистоту.
Лисицкий, узнавший в вошедшем прежнего своего внештатника, радостно осклабился, отчего загорелое лицо его с аккуратным пшеничным арийским пробором сделалось неотразимо привлекательным, и, сбросив ноги со стола, вскочил:
– Всем родам войск, смирнаа! Зиг коллегам!
При этом вытянулся в наигранном раже, давая возможность остальным оценить ловкую на нём импортную “тройку”.
– Так ты, стало быть, теперь подсобляешь моему «земеле» Тальвинскому? – сообразил он. – Говорят, его вот-вот нашим боссом назначат.
– А что ж ему, век в следопутах сидеть? – вступился Рябоконь. – Это мы, старые ищейки, на другое не годны. Или сдохнешь здесь, иль сопьёшься, иль какой-нибудь Муслин соберёт компру, да и вышибет за чрезмерное рвенье. Слыхали, чего опять этот замполит отмочил? Говорят, в Ленкомнате политзанятия с агентурой проводить собрался. О, курвы какие лезут! Не милиция, а помойка стала. Кого ни попадя родная советская власть пихает. Но таких духариков не припомню!
Надо сказать, что фамилию Муслина в оперативных и следственных кабинетах Красногвардейского райотдела милиции “полоскали” с особым, мстительным наслаждением. Полгода назад заместитель заведующего отделом горкома партии Валерий Никанорович Муслин погорел “на личных связях” и был направлен на усиление в милицию, как раз на вакантную должность заместителя по политической работе Красногвардейского РОВД. В отличие от прежнего замполита, бывшего председателя районного Комитета народного контроля, который за десять лет службы так и не удосужился заглянуть в Уголовный кодекс, зато слыл тихим, бесконфликтным человеком, новый зам оказался службистом рьяным и, на беду, безудержно инициативным.
Собственно, недобрые опасения овладели отделом накануне его появления: когда стало известно, что, отдыхая в Прибалтике, замполит на собственные деньги приобрел полное собрание сочинений Маркса и Энгельса.
И опасения, увы, стали сбываться.
Работу свою Муслин начал нетрадиционно – со шмона в столах сотрудников. А ещё через два дня под утро отдел был поднят по тревоге. Злые, небритые, с полузакрытыми глазами, в ожидании известия о дерзком побеге, взбирались сотрудники по крутой отдельской лестнице и утыкались в живот торжествующего, с иголочки замполита с секундомером в руке. “ Три минуты опоздания! А если бы за это время началась бомбёжка? На Западе опять оружием бряцают. Будем тренироваться”. Тренировались до изнеможения, по два – три раза в неделю. Самым страшным ругательством в эти дни стало слово “курвиметр” – какая-то неведомая никому загогулина, которую надлежало найти и засунуть в “тревожный» чемоданчик. Поскольку показатели раскрываемости резко упали, вмешался замначальника УВД по оперативной работе, и тренировки, несмотря на сопротивление Муслина, были прекращены. Но и замнач УВД отступился, когда на отдел обрушилась новая инициатива беспокойного Муслина и ужасом предчувствия сковала весь городской гарнизон. А именно: в преддверии праздника Великого Октября задумал замполит сколотить милицейскую “коробку” и в торжественном марше пройти во главе её перед гостевой трибуной на площади Ильича. Дело серьёзное, политическое. И вот уж третью неделю, с трёх до пяти, потея от духоты и злости, молотили каблуками городской асфальт следователи, гаишники, опера из ОБХСС и уголовного розыска. Неявки, объясняемые работой по раскрытию преступления, приравнивались к идеологическому саботажу.
Страдающий плоскостопием следователь Чугунов, отчаявшись, сделал официальный запрос в областной психоневрологический диспансер. Долго в полном отупении вертел он поступивший через секретариат ответ: « Сообщаем, что гр-н Муслин Валерий Никанорович на учёте в диспансере не состоит”.
– Представляешь, не состоит, – пожаловался Чугунов подвернувшемуся Рябоконю. – Кого ж там тогда вообще держат?
– Сам ты козёл, – с привычной безапелляционностью отбрил Рябоконь. – Да этот малый хитрожопей нас всех вместе взятых. Давай на “пузырь” побьёмся, что через неделю после парада он будет сидеть в политуправлении, а мы с тобой, как всегда, в дерьме.
– Ну, с последним-то чего спорить, – уклонился от пари прижимистый Чугунов.
Сам Рябоконь, а за ним и Лисицкий от занятий на плацу увиливали, объясняя причину коротко и неоригинально: “Ухо болит”. Но всё явственней и настойчивей становился нажим Муслина, и всё больше вырисовывалась перед последними фрондёрами дилемма: либо натянуть сапоги и встать в общий злорадствующий строй, либо…
При одной мысли об этом “либо” Рябоконь заходился.
– Несчастная всё-таки наша ментовка. За семьдесят лет – ни одного министра с юридическим образованием! Один Федорчук, курва, чего стоил – последние профессионалы при нем сгинули, – Рябоконь ностальгически глянул на висящую фотографию, – в маленьком подразделеньице громогласно поддерживался культ погибшего Котовцева.
– Скоро останутся одни Муслины, – подвел он итог спича. Неодобрительно присмотрелся к скупому на эмоции новичку. – Да вот еще желторотики.
– Звонил нам Андрюха, – перебил впавшего в желчь приятеля Лисицкий. – Так что немножко в курсе проблемы. Тем паче сами эти излишки на свою голову и вывернули. Уж кому-кому помочь, а Тальвинскому-то…
– Да! – согласился Рябоконь. – С ним еще сам Котовцев работать любил. Этот, если на след встанет, не сбивался. За то и пострадал вместе с нами. Но не пофартило вам на этот раз, ребята.
– Мы уж меж собой вопрос этот обхрюкали, – растекся в обаянии Лисицкий, и Мороз понял причину щедрой его улыбчивости. Своей обходительностью он как бы компенсировал угрюмую недоброжелательность нелюдимого соседа. – Есть такой Тариэл среди нацменов. И даже в авторитете. Тариэла этого прихватить заманчиво! Богатая бы информация пошла, – Лисицкий разве что не облизнулся. – Только не на чем. Подходов у нас к нему нет. Крутится при властях. Теперь вот кооператив организовал… Как это? – Лисицкий припоминающе пощелкал пальцами, заглянул в ящик стола. – Да вот! По доставке на дом обедов ветеранам войны и инвалидам.
– О, дает, курва! – Рябоконь коротко, от души снецензурничал.
– Ну, ветераны его, понятное дело, заждались. На самом деле под крышей кооператива цветочками приторговывают.
– И цветы эти с юга возят, – уточнил Рябоконь. – А наших садоводов, что свое выращенное торговать пытаются, через купленный исполком шугают. А где исполкома не хватит, так по сусалам учат, – не лезь-де русс Иван в чужой бизнес. Их же тут, сволочей, целая колония. Талдычат: маленькие республики, маленькие республики! А мы вот с Колей прикинули: да если их по остальной России хоть полстолько, как здесь, кто ж там-то остался? Во где демографическая загадка!
– Главное, даже на такой туфте, как цветы, не зацепишь, – Лисицкий сцыкнул. – Они ж, хитрованы, сами не высовываются; через наших бабок торгуют. К тому же вот уж два месяца как Тариэл вовсе с горизонта соскочил.
– Хотя в принципе всё можно найти, ежели умеючи, – Рябоконь прикрыл один глаз и стал похож на подбитого ворона. – Сколько у Андрюхи сроков?
– Нет сроков. В понедельник дело должно быть или на продлении, или в суде, – буркнул безнадежно Мороз.
– Хо! – даже Лисицкий поперхнулся.
– Нет сроков, нет разговора. Я не шаман, чтоб за полчаса любую черную задницу из-под земли выдернуть, – сгрубил Рябоконь. – И вообще передай ему, чтоб не дергался. Подметил, как на лице Мороза заходили желваки. Понимающе усмехнулся. – Не пацан ведь вроде тебя. Получил раз по сусалам, ну, и умойся. Слава Богу, опять в гору пошел. Так и – дуй, пока фарватер чистый.
– Тогда лучше вообще ничего не делать, – съязвил Мороз, откровенно вызывая желчного Рябоконя на ссору.
– Лучше, – неожиданно миролюбиво согласился тот. – Но нельзя. Положено шевелиться. «Палки» строгать[6].
Тут он кого-то увидел и нехорошо оживился:
– А кстати!
В предбанник вошел и под недобрым взглядом Рябоконя смущенно затоптался сдобный мужчина лет пятидесяти. Он собирался что-то сказать, но сбился, вопрошающе глянув на незнакомца.
– Новенький опер угро – Мороз, – коротко представил Лисицкий. – Может, помнишь, когда-то у нас пацаном крутился.
Лицо вошедшего осветилось стеснительной радостью.
– Очень, очень приятно. Растет, стало быть, смена. Исполняющий обязанности начальника ОБХСС Красногвардейского РОВД Марешко.
Мороз с трудом сдержал разочарование и, кажется, не вполне удачно. В самом деле, трудно было угадать в этом благообразном человеке знаменитого в прошлом опера, о котором им рассказывали еще в школе милиции на семинаре по оперативному мастерству. И даже Тальвинский, на что не любитель цветастых комплиментов, инструктируя сегодня Мороза, назвал Марешко саблезубым тигром сыска. Если и был это тот самый тигр, то изрядно потрепанный и – судя по тусклому взгляду – с искрошившимися клыками.
Марешко робко взглянул на Рябоконя, зловещее молчание которого, казалось, заполнило кабинет.
– Из прокуратуры звонили. Материальчик у вас заволокичен, – искательно произнёс Марешко.
– Сами заволокитили, сами и разволокитим, – мрачно обрубил Рябоконь и – демонстративно харкнул на пол. – А скажи-ка мне, начальник хренов, давно ли воровством промышляешь?
Мороз опешил. Даже Лисицкий встрепенулся. Но Марешко, с самого начала понявший, о чём пойдёт речь, лишь кротко вздохнул:
– И всё-то ты, Серёженька, сердцем принимаешь. А мы ведь товарищи.
– Чего?! – поразился Рябоконь, поворачиваясь правой стороной лица, которую, захватив кусок брови, пересёк тонкий, жилистый шрам. И когда Рябоконь оживлялся и быстро говорил, правая щека двигалась не в такт с левой, а чуть опережая. Смотреть на это было жутковато. – Он, курва, чего удумал? Материалы чужие тибрить. С каких это пор ты строительство стал курировать?!
– Так беспокоить тебя не хотелось, Серёженька, – расстроился Марешко. – Материальчик-то мелкий, пустяковенький. Прорабчик досок для дачи вывез. Тут же и попался, тут же и признался. И сумма какая-то смешная – чуть ли не сорок пять рублей.
– Пятьдесят три! Пятьдесят три рубля, паскуда! – совершенно не владея собой, загремел Рябоконь. – Ты мою “палку” себе на учёт поставил[7].
— Ладно, Серёга! Прости старому лису, – попытался разрядить обстановку Лисицкий. – Год до пенсии мужику.
Марешко благодарно закивал, будто ему сейчас сказали нечто приятное, просто-таки умасливающее душу.
– У меня у самого последняя десятка пошла! Вон демобильские зарубки делать начал, – непримиримый Рябоконь ткнул в косяк, истыканный ножом. – А только подлянки никому не кидаю.
– Ну, уж и подлянки, – осторожно обиделся Марешко. – Хочешь, ставь себе эту “палку” на учёт. Подумаешь, находка.
– Так чего, отдаёшь?
– А то из-за всякой ерунды ссоримся, ссоримся.
– Значит, не отдаст, – мрачно констатировал Рябоконь. – Этот паучило чего под себя подгрёб, так уж не выпустит. А ведь человеком при Котовцеве был: “головку” вагонзавода обложил и затравил в одиночку, – не стесняясь присутствия Марешко, припомнил Рябоконь. – Равнялись мы на тебя, скотина!
Марешко зябко, едва заметно скосившись в сторону выхода, поёжился.
– И в лапу не брал! А теперь рад бы, да не дают, поди, – не за что! Вот только и осталось последнее – “палки” у корешков тибрить.
Он замолчал: под прозрачной кожицей на лице Марешко – словно подсветка включилась – расцвели и зашевелили отростками обширные кусты капилляров. Тяжёлое молчание наполнило комнату.
– Воды? – догадался Мороз.
Марешко жестом отказался.
– Всем нам… досталось, – тихо произнёс он.
– Да, я чего зашел-то, ребята, – сделав над собой усилие, Марешко слабо улыбнулся. – Агент мне только что позвонил: в горсаду нацмены-цветочники появились. Тариэла видели.
– Сильна твоя фортуна, парень! – Лисицкий вскочил.
– Если еще зацепим, – Рябоконь, сомневаясь, покрутил тоненькую папочку. – Будем документировать или ну его?..
Метнул папку в сейф.
– Я прихвачу понятых и зайду от набережной! – выбегая, азартно крикнул Лисицкий.
– Может, и мне с вами?.. – засомневался Марешко, но, наткнувшись пасмурный взгляд Рябоконя, передумал. – А впрочем, работы много.
Когда он повернулся, у Мороза подкатило к горлу: над лоснящимся, усыпанном перхотью воротником старого пиджака на дряблой шее задрожали от сотрясения слежанные ошметья седых волос. Мороз уже слышал, что полгода назад у вдовца Марешко от лейкемии умерла единственная дочь.
7.
Рябоконь шел быстро, напором своим раздвигая встречных. Они прошли пивной бар, за которым открылась узорчатая решетка городского сада, – и вдоль нее фанерные, уставленные цветами ряды. Шла оживленная торговля. Но южан за прилавками не было. Правда, чуть в стороне, облокотившись о табачный киоск, углубился в газету «Правда» грузин лет сорока, в кремовом, прекрасного покроя костюме.
К нему-то, не задерживаясь, и направился прямиком Рябоконь.
– Ба, Сергей Васильевич, – с теплым акцентом поприветствовал тот, неспешно складывая газету. – Давно не видал.
– Давно, – Рябоконь, помедлив, пожал протянутую руку, не переставая зыркать по рядам цветочниц. – Давно, Тариэл.
Сердце у Мороза екнуло.
– Опять чего ищете? – посочувствовал Тариэл. – Работка же у вас. Ни сна ни отдыха измученной душе. Так у классика?
– Так, так, – насупился Рябоконь. С классиками он был не в ладах. – В Знаменское чего таскался?
– Какой-такой Знаменское? – удивился Тариэл. Чересчур быстро удивился.
– Со шмотками. Вместе с прошмандовкой этой, ну… – Рябоконь припоминающе пощелкал пальцами.
Тариэл со снисходительной вежливостью ждал.
– Да сам знаешь. Лавейкина, во! Кожей, замшей торговали, – совсем уж безнадежно попытался освежить его память Рябоконь.
– Ко-ожа, за-амша, – мечтательно поцокал языком Тариэл. – Какое торговать, Сергей Васильевич? Подскажи, если узнаешь, где купить могу.
– Не помнишь, стало быть. Бывает. Цветочками без разрешения по-прежнему приторговываешь?
– Сергей Васильевич, дорогой! Да я уж и думать забыл. Злопамятный вы человек.
– Профессия такая, – Рябоконь продолжал вглядываться в торговые ряды. – Так кто на тебя сегодня торгует?
– Обижаешь, дорогой. Честное слово, обидно, – разгорячился Тариэл. Разгорячился, впрочем, в меру. Так, чтоб не рассердить оперативника.
– А ну, цыц! И за мной, – взгляд Рябоконя обострился, он шагнул к цветочному ряду.
Следом под бдительным присмотром Мороза со вздохом двинулся и Тариэл.
Резко отодвинув одну из палаток, Рябоконь оказался внутри рядов. Растолкав перепуганных торговок, пробился к затихшей в углу пьяноватой старухе. Ни слова не говоря и никак не представляясь, выволок из-под прилавка огромную, на молниях спортивную сумку, в которую свободно можно было упаковать и саму старуху, заглянул внутрь. Перевернув, встряхнул. На прилавок высыпалось несколько чахлых гвоздичек.
– А ничего и нетути, – резонно продребезжала торговка. – Да уж и было-то два цветочка. Так ить своим потом растила.
Она икнула и, отчего-то повеселев, тихо запела. Ни сада, ни огорода старуха отродясь не имела.
Рябоконь швырнул сумку об асфальт и мрачно уставился на поющую. Рубец его на правой щеке заметно побелел.
– Ты что орешь, шкура? – прошипел он. Песнь оборвалась. – Имеешь умысел на нарушение общественного порядка?
– Да ить и не ору я вовсе, а как по правде хочу, – струсившая торговка быстренько вернулась к прозе.
– Кто цветы дал? – не сводил страшного, злого взгляда Рябоконь.
Старушка боязливо «стрельнула» в сторону Тариэла.
– Никто не давал. Свое, – еле слышно, но упрямо повторила она.
Рябоконь прикинул, что можно выжать из той паскудной ситуации, в какой оказался. Повел головой, подавляя загулявший по рядам ропот:
– Что? Игрища веселые с органами затеяли? А ну, вы, оба два, сюда!
Патрульные сержанты, которые при виде обэхээсника попытались незаметно улизнуть, вынуждены были вернуться.
– Куда смотрите, раззявы? Пьяные торгуют. Ее, курву, в вытрезвитель надо, а она в рядах буянит.
– Сергей Васильич, да ить сто грамм всего, – задохнулась торговка.
– И с памятью чего-то на почве хронического алкоголизма. А нам советский торговец трезвым нужен. Лечить будем, – пообещал Рябоконь, подозрительно оглядывая остальных. Остальные, впрочем, давно уж энергично спрыскивали свои букеты и глядели на власть предельно честно и лояльно.
– Тащите ее в отдел и оформляйте протокол по пьянке, – принял решение Рябоконь.
– Чего?! Что ж это, бабы?! – взвизгнула старуха, ухватив за рукав ближайщую к ней полнолицую, с неестественно поблескивающими глазами хохлушку. – И не вступитесь?!
– Да отчепись ты, зараза! – поспешно оторвала ее от себя та, не забывая искательно улыбаться Рябоконю. – Все на халяву хочешь. Вот и наварила!
– Катись, катись, пока остальных не трогают, – поддержали из дальних рядов.
– Ах, во как?! – поразилась старуха. – Так-то вы, козлищи? Да вас самих пошмонать если… Може, рассказать?
Голос ее прервался, маленькое тельце, выдернутое, будто брюква из грядки, крепкой рукой патрульного сержанта, метнулось к асфальту. И оббилось бы об него, если б не было подхвачено его напарником. Стремительно козырнув, милиционеры шустро поволокли старуху-штрейкбрехера в сторону: у патрульного наряда к цветочным рядам был особый, «неуставной» интерес.
– Горячий вы, Сергей Васильевич, – с легким сарказмом упрекнул Тариэл. – А в вашей работе голова должна быть холодная. Так ваш зачинатель товарищ Дзержинский учил.
– Да пошел ты, – огрызнулся оплошавший Рябоконь. Но вдруг взбодрился, будто застоявшийся «на номере» охотник, уже отчаявшийся подстрелить дичь и вдруг увидевший ее перед собой. Изменился в лице и Тариэл.
Прямо на них, помахивая небрежно такой же объемистой спортивной сумкой и приплясывая, двигался молоденький южанин. Был он в хорошем настроении, увлечен какими-то своими, очень приятными мыслями и оттого поджидавших его увидел лишь метров за пятнадцать. В полной растерянности застыл он на месте.
– Иди сюда, поросенок! – подозвал Рябоконь.
Тот потоптался в нерешительности, беспомощно глянул на гневного – роли переменились – Тариэла, что-то прикинул, резко повернулся, готовясь рвануть в сторону, и… остановился. Сзади, в сопровождении двух парней, к нему спешил невесть откуда взявшийся Лисицкий.
– Старина Хассия! – метров с десяти прокричал он, радостно улыбаясь попавшему в ловушку подносчику товара. – Чертовски рад тебя видеть! Что ж ты стоишь? Что ж не торопишься обнять своего старого друга Лисицкого?
Подойдя к тому, кого назвал Хассией, Николай восторженно потряс его за плечи.
– Уж и не чаял встретиться. А сумка у нас какая! Ну, какая. Все хлопочешь. Ни разу чтоб налегке. И что на сей раз?
– Да так, по дому, – Хассия бессмысленно попытался спрятать сумку за спину, но тут подошел Рябоконь и без всяких церемоний ее отобрал.
– Здорово, хрен. Приехал на заработки к дядьке Тариэлу?
– Да ну бросьте вы. Люди или нет? – сбивчиво заговорил Хассия. – Всего и взял-то самолет окупить. Денег надо.
– Смотри-ка, бедный, – изумился Рябоконь, с особым наслаждением погружая руки в сноп гвоздик, которыми огромная сумка была набита доверху. Внутри, не сдержавшись, сжал он со всей силы пальцы, мстительно сминая и корежа подвернувшиеся стебли. – Чего ж нам с Лисицким тогда говорить? Шагом марш в отдел!
– Зачем в отдел? Не надо в отдел, – включился мрачный Тариэл, чутко отреагировав на слова Рябоконя о их с Лисицким бедности. – Ну, что в самом деле? Ничего, в самом деле. Ведь разве теперь восьмидесятый? Для людей делаем. Есть разрешение, нет разрешения! Ну, штраф заплачу. С квитанцией, без квитанции – как скажешь. А?
– Заплатишь, говоришь? – задумался Лисицкий, быстро переглянувшись с Рябоконем.
– Заплачу, без разговора! – захлопотал Тариэл, тянясь к выпуклому карману. – Прямо здесь, как скажешь!
– Да ты никак спятил, – Лисицкий сделал страшное лицо. – Совсем, видать, ополоумел. В отделе разберемся. Пойдем, дорогой. Я ж тебя в наших угрюмых северных краях лет сто не видел.
Обхватив Тариэла за объемистую талию, нежно повлек вперед.
– Чайку выпьем, о политике похрюкаем, – бормотал он, тая от удовольствияи. – Отделяться, может, надумали, – в голосе Рябоконя блеснула надежда.
– Шутит Серега, – успокоил обидчивого южанина Лисицкий. – Куда ж вы без нас? Некому будет продавать, так с голоду опухнете.
Мимоходом потрепал за щеку подвернувшегося Хассию.
– Мальчишку бы отпустили, слушай, – вяло попросил Тариэл. – Чего с него? Студент. Случайно он.
– Случайно? – задумался Лисицкий.
– Кто случайно? Этот хорек?! – приготовился зайтись в праведном гневе Рябоконь.
– Это бывает, – особенным голосом произнес Лисицкий.
– Бывает?!
– Бывает, бывает. Просто – подвернулся человек. Помог по-родственному. Без корыстного умысла.
Под настойчивым взглядом Лисицкого в голове у Рябоконя что-то провернулось.
– Тогда как скажешь! Ладно, хрен с тобой, катись!
Бросив на полдороге опешившего от крутых зигзагов судьбы Хассия, шумная кавалькада направилась к райотделу милиции.
Двинулся следом и подзабытый, впавший в тихое бешенство Мороз.
Все происшедшее было столь откровенно, что он едва сдерживал зубовный скрежет. А когда Тариэл попросил отпустить племянника – это челнока-то! Источника поставки! – и Лисицкий на просьбу эту незамедлительно откликнулся и отпустил – без опроса, без документирования! – надо быть законченным дураком, чтоб не понять причину невиданного этого гуманизма: взяточнику лишние свидетели ни к чему.
Особенно злили его теперь красивые слова об уважении к Тальвинскому, обернувшиеся готовностью быстренько сдать того же Андрея ради возможности взять в лапу. Котовцы хреновы!
Процессия зашла в обэхээсный дворик, где Лисицкий, прихватив нервничающего Тариэла, скрылся в фотолаборатории, а Рябоконь с Морозом в сопровождении двух внештатников-понятых ввалились в дальний кабинет.
Швырнув в угол сумку, Мороз демонстративно отошел к окну.
– Чего невеселый? – подметил Рябоконь. – На тебя работаем!
– Вижу! Аж запарились.
– О, да ты телок!
– Но не лох! И, промежду прочим, не для того в ментовку шел, чтоб старух-цветочниц гонять да «черноту» ощипывать. Иль думаешь не знаю, как положено документировать?
– Ах, знаешь?! И чего ты знаешь?
– Знаю, что попался этот Тариэл на незаконной торговле цветами, а после того как пацана вы за здорово живешь отпустили…
– Да чхать он хотел на эти цветы! – вскипел Рябоконь. – И на нас с тобой с ними вместе! Он тебе, салаге, правильно дал понять, только у тебя уши зашиты: теперь не восьмидесятый и за торговлю травой этой без разрешения никого не посадишь.
Рябоконь в сердцах двинул ногой по сумке.
– Вот и решили, похоже, с паршивой овцы хоть шерсти… да? Огрызнулся Мороз. – Только меня не за этим к вам послали!
– А для чего ты сюда вообще приперся? – Рябоконь, обнаружив на подошве прилипшую грязь, принялся старательно очищать ее о бок изъятой новенькой сумки. – Чтоб цветочников штрафовать или чтоб ключевую информацию надыбать?
– Ключевую! – он воздел длинный узловатый палец. – То есть важнейшую. За которую, случись чего, и башку оторвать могут. И ты, умник, полагаешь, что человек, пользующийся у этих «случись чего» доверием, тебе эту информацию за цветочки выложит? Шоб, не дай Бог, не штрафанули?
Вспомнил о внештатниках.
– Вы еще мне! Что услышите, чтоб ни гу-гу!…Ты вообще кто есть? – вернулся он к Морозу.
– Вообще-то я опер угрозыска.
– Вот и занимался бы, чему учили. С убийцами да ворами попроще – меньше грязи прилипнет.
Подняв ногу, он с удовлетворением оглядел очищенную подошву.
– А насчет крохобора Лисицкого! Так он в отличие от тебя, салабона, работу сейчас делает. Деликатную… А ну все цыц!
Он сделал «стойку». Через стену донесся приглушенный хриплый крик Лисицкого и вслед за тем грохот падающей аппаратуры.
– За мной! – Рябоконь первым бросился к лаборатории.
Когда он, а за ним остальные, подбежали к двери, она распахнулась от сильного удара изнутри. И при свете тусклой лампочки все увидели, что в дальнем углу среди развалившихся коробок лежит придавленный свалившимся фотоувеличителем Тариэл и, подрагивая распустившимися от ужаса разбитыми губами, затравленно смотрит на сбежавшихся людей. Возле пятнистого от химикатов стола, на котором валялось несколько смятых пятидесятирублевок, взъерошенным грачонком нахохлился Лисицкий.
– Мразь! Я ж предупреждал, что пасть порву! – перекошенным ртом прохрипел он, обращаясь почему-то к прибежавшим внештатникам.
– Так, все ясно! – громогласно сориентировался Рябоконь. – Прошу понятых поближе. Перед вами в углу лежит статья сто семьдесят четвертая УК Российской Федерации – попытка дачи взятки должностному лицу.
– Какая ука? Чего говоришь?
– Уголовный кодекс, – безжалостно отрезал Рябоконь. – От трех до восьми лет.
– Зачем пугаешь? Какой ука? – пытаясь подняться, бормотал Тариэл. – Забыл деньги в сигаретах. Петрович говорит: дай сигарету. Даю пачку. Бери, не жалко. Почем помнил, что там мелочь?
– Забыл?! – Лисицкий яростно подался вперед, и Тариэл, совсем было выкарабкавшийся из угла, кулем шлепнулся на насиженное место. – Ты не про деньги забыл, ты про советскую власть забыл. Авторитет органов подорвать пытался. Пресечем коррупцию! Серега, в камере места есть?
– Если и нет, любого выкину, но для этой мрази освобожу, – решительно пообещал, выбегая, Рябоконь.
Тариэл больше не пытался подняться. Всего час назад был он при деньгах, независим, с новой подружкой собирался «сгонять» в Сочи (школьница, правда, но больно бойка). А теперь возникло из ниоткуда и колотило в мозгу липкое, в проржавелых металлических прутьях слово – «камера». В глазах его застыл безнадежный ужас.
Стремительно ворвался Рябоконь.
– Все в порядке, – успокоил он вытаращившегося Тариэла. – С посадочными местами в изоляторе теперь трудно. Но для тебя «выбил». А ну подымайся, скот, не на Ривьере!
Тариэл тяжело поднялся и грузно возвысился над низкорослым Лисицким. Вид его после лежки был более не безукоризнен. Он провел языком по распухшей губе и, ощутив вкус крови, обрел утерянный дар речи.
– Николай Петрович! Сергей Васильевич! Поговорить хочу. Очень!
– Отговорила роща золотая, – Лисицкий пренебрежительно ткнул в лежащие деньги.
– Ну, извини, дорогой. Что хошь сделаю.
– Нет тебе прощения! – неожиданным фальцетом вскрикнул суровый Рябоконь. – Ты на неподкупность друга моего посягнул. Товарища по работе. В клетку гнуса общества!
Внештатники, забалдевшие от предвкушения того, как будут они сегодня рассказывать о происшествии в общаге, подхватили Тариэла под локти. Но тут как-то по особенному задумался Лисицкий.
– А что, Серега? Может, и впрямь поговорим? Попробуем спасти человека для общества. Может, просто оступился.
– Оступился, оступился, – гортанно запричитал Тариэл, крутясь меж оперативниками. – Давай поговорим! Зачем камера? Не убийца какой. Сергей Васильевич, любимый ты мой, ну давай присядем! Очень прошу!
Он осторожно потянул хмурого Рябоконя к свободному стулу, беспрестанно оглаживая за рукав.
– Отходчив ты больно, Николай Петрович, – недовольно пробурчал Рябоконь.
– Да что ты меня, как бабу в постель, тянешь! – раздраженно вырвал он руку. – Ладно уж, послушаем, может, и впрямь раскаялся. Хотя лично я очень сомневаюсь.
– А ты пока, – обратился он к Морозу, – возьми деньги, составь протокол, объяснения от понятых, – тебя ж, наверное, учили… Да, кстати, – он ткнул в утирающего кровь Тариэла. – Упал, потому что поскользнулся. Ну, да сами видели.
– А вам, деды, заранее спасибо, – Лисицкий, жестом предложив Рябоконю располагаться, увлек влюбленно глядящих на него студентов юрфака, а с ними и Мороза в дальнюю комнату. – Закончите и – свободны. Только отберите по букету побольше. Такие орлы, да с такими цветами – сегодня все крошки в общаге ваши будут.
– А может, подождем, Петрович? И с нами? Мы там для тебя свежий экземплярчик припасли.
– Не, не! – сконфузился Лисицкий. – Это по вашей части, по молодой. А наше дело стариковское – работать, работать и работать. Обеспечивать вам светлое будущее.
И без паузы, показывая, что сказанное – не более чем шутка, удрученно вздохнул:
– Хотя изредка и отдыхаем. Так что в другой раз подгребу. Да вот хоть с Виталием. Ну, хоп!
Заговорщицки подмигнув всем разом и оставив за собой шлейф обаяния, маленький опер захлопнул дверь лаборатории жестом капитана подводной лодки, задраивающего люк перед нелегким погружением.
Виталий же, спохватившись, глянул на часы и предвкушающе улыбнулся – он уже придумал спич, который произнесет по поводу утверждения Тальвинского начальником райотдела.
8.
Хмурый Андрей Тальвинский вышел из здания УВД и остановился на крыльце, колеблясь, возвращаться ли в райотдел. Или – гори оно огнем – перейти площадь и накатить демонстративно сто пядьдесят в популярной среди ментов рюмочной – прямо под окулярами управленческих окон. За очередное несостоявшееся назначение!
От пережитого на аттестационной комиссии унижения и, главное, от краха надежд, которыми жил последний месяц, его то и дело потряхивало. А может, и вовсе пора написать рапорт на увольнение, да и закончить с этой незадавшейся милицеской эпопеей?
– Погодите! Вы Тальвинский? – остановил его выскочивший следом незнакомый капитан с повязкой дежурного по УВД. – Хорошо, что догнал! Начальник следственного управления Сутырин передал, чтоб вы срочно к нему поднялись.
– Какая уж теперь срочность? – буркнул, неохотно возвращаясь, Андрей. По правде, после случившегося никого из прежних своих руководителей видеть ему сейчас не хотелось.
– Разрешите?
Не услышав ответа, Тальвинский прошел по ковру и остановился посреди объемистого, обшитого мореной доской куба.
Сидевший за столом человек в штатском читал лежащий перед ним текст, увлеченно прочищая ухо остро отточенным карандашом.
– Ну, так в чем дело? – в голосе хозяина кабинета звучало легкое раздражение отрываемого от дела человека.
— Товарищ полковник, майор милиции Тальвинский прибыл по вашему приказанию.
– Прибыл – припрыгал, – забормотал, чиркая по полям, сидящий. – По моему, как я слышу, при – ка – занию.
Он с разлету поставил подпись и оторвался от бумаги.
– Ба, Тальвинский. А чего выстаиваешь? Не в очереди. Проходи, садись. Не чужой пока.
Его округлое, с широкими порами и оттого как бы промасленное лицо излучало доброжелательное любопытство.
– Как дела?
Андрей хмыкнул: за двадцать минут перед тем они виделись на аттестационной комиссии.
– Не жалеешь, что ушел тогда от меня?.. А, ну да, – Сутырин словно припомнил. – Сам, брат, виноват. Так говорю или нет?
Начальник следственного управления области испытующе осмотрел угрюмого подчиненного. Что-то прикинул.
– Вижу, ничего ты так и не понял. Я думал, тебя хоть район пообтешет, приблизит, к слову сказать, к реалиям наших будней. Последняя фраза явно поразила его самого, потому что, подхватив карандаш, он принялся вписывать что-то в текст.
– К докладу готовлюсь. Такое, брат, занудство. А куда денешься? Первые люди будут. Надо, знаешь, показаться… Что ты на мне все разглядываешь? Блох, что ли, ищешь?
– Перхоть, – предплечья полковника Сутырина были густо обсыпаны жирным белым конфетти.
– Нахал ты, братец, – Сутырин легонько побил себя по плечам. – И появилась-то недавно. Пробую вот себарином.
– Говорят, банфи помогает. Венгерское.
– Поищу… Стало быть, все обиду вынашиваешь? А напрасно, между прочим. По справедливости получил. Самостиец! Повторись – и еще бы добавил!
– Не сомневаюсь. Товарищ полковник, у меня там срочная работа по уголовному делу.
– Подождет твоя работа, – Сутырин жестом приказал оставаться на месте. – А ведь не любишь ты начальство, Тальвинский.
– Товарищ полковник, сроки поджимают.
– Отставить! – Сутырин с неожиданной резкостью отпихнул из-под себя кресло. – Нельзя было то дело по горпромторгу в суд посылать. Политически нельзя. Нецелесообразно.
– В уголовно-процессуальном кодексе такого термина нет.
– Там много чего нет. Да, наконец, я тебя попросил. Твой начальник. Да что я? Генерал попросить не погнушался. И чем ты ответил?
– Черной неблагодарностью.
– Э-э! А знаешь, кто ты есть? – Сутырин будто только что сделал важное и чрезвычайно приятное для собеседника открытие и теперь приглашал оценить его прелесть. – Ты, брат, альфонс!
– Это в порядке служебной аттестации или могу ответить?
– Ну, точно! – Сутырин даже головой покачал: и как это такая очевидная мысль раньше не приходила? – И ведь что обидно? Сам же таким и взрастил. Ты сколько лет в управе просидел?
– Восемь.
– Во! И все подо мной. Я ж, как квочка, охранял вашу гребаную процессуальную независимость. Думаешь, на меня никогда не давили? Ого-го! – он постучал кулаками по столу. Вообще руки, да и все тело этого увесистого, с животиком человека непрерывно совершали такие быстрые финты, что только по ним и можно было угадать в нем бывшего дриблера баскетбольной сборной города. – Это для вас я фигура. А там!.. Об какие только ковры меня мордой не возили! А до вас разве докатывалось? Вот скажи, был случай, чтоб я кому-то диктовал?
– Не было.
Все, что говорил Сутырин, было правдой. Он мог бы сказать и куда больше. Например, когда против одного из следователей прокуратура возбудила уголовное дело о взяточничестве, Сутырин, несмотря на начичие косвенных доказательств, единственный из руководства не поверил и не отступился. Напротив, рискуя окончательно поломать и без того натянутые отношения с облпрокурором, бросился в Москву по старым связям и добился-таки своего: дело приняла к производству прокуратура республики, и через три недели все обвинения порушились, как костяшки домино. Кажется, после этого случая получил Сутырин лестную кличку «батяня».
– А было, чтоб?..
– Не было, – Андрей не сдержал улыбку.
– Вот ты и получаешься гад после этого, – Сутырин уличающе, словно доказал трудную теорему, с чувством прихлопнул плексиглаз, отчего карандашница в левом углу подпрыгнула, и он, даже не скосившись, привычно поймал ее в воздухе. – И чего своим упрямством добился? Дело и без тебя закончили, как надо. А где ты сам теперь? Что-то мне тебя не разглядеть. Ау, бывший важняк Тальвинский, где вы? – он заглянул под стол. Злорадно рассмеялся. – То-то. И генерал твою фамилию на дух не переносит. И аттестацию какой раз прокатывают. А сделал бы как просили: и сам был бы на месте, и для дела польза. А говоришь, нет целесообразности… Да успеешь!
Через его голову Тальвинский поглядывал на циферблат настенных часов с кукушкой – эксравагантная прихоть хозяина кабинета.
– Догадываешься, почему в аттестации отказали? – Что ж тут хитрого? Холуи – народ чуткий. Помнят, что из управы в свое время меня меня по личному указанию генерала выкинули. Это у меня, как вы знаете, не в первый раз. Так что начинаю даже получать мазохистское удовольствие.
Демонстративная разухабистость его Сутырину не понравилась.
– Ты, Андрей, по уровню управленческому давно свою должность перерос. А вот что касается человеческих, так сказать, хитросплетений, тут работать над собой и работать. После твоего ухода мне удалось убедить членов ком иссии, чтоб вопрос повторно вынести. И полагаю, назначение твоё через неделю состояться все-таки может. Если созрел.
– Перезрел. Как раз прикидываю: может, пошло оно всё, а, Игорь Викторович? Ну, что, в самом деле, будто напрашиваюсь. Следователь я не из последних. Да и на гражданке, если что, не пропаду, – в адвокатуру и сейчас зовут. Хоть деньги в кармане появятся.
– Можно и так, если кишка тонка. Мы вообще-то на эту должность Аркашку протаскивали. Да он в твою пользу отказался. В Андрее, говорит, стержень есть. Или ошибся Чекин?
От неожиданности Тальвинский смутился.
– Только вот дни эти, оставшиеся до повторной аттестации, надо бы, как говорится, без сучка и задоринки. Там у тебя, кстати, Лавейкина застряла.
Тальвинский, не скрываясь, неприязненно скривился.
– Во-во! Потому и кончай её поживей.
– Думаете, из-за этого прокатили?!
– Пока нет. Вообще-то думать ты, Андрей, должен. Постоянно думать и – соотносить. Тогда, может, что и позначительней угадаешь. Ты теперь – без двух минут номенклатура. А это, знаешь, особый стандарт. Дружки-то, поди, в отделе наизготовку стоят. И стаканы сполоснули.
– Наверняка.
– Вот это и есть самое трудное. Работать с теми, с кем ещё вчера вровень был.
– От выпивок можно отказаться.
– Отказаться – полдела. Тут и впрямь недолго недругов из прежних друзей нажить. Наука – так себя поставить, чтоб не предлагали, – Сутырин почесал мочку уха. – Говорите уж все сразу, – заметил его колебание Тальвинский.
– Ладно, хоть и неприятно, но скажу главное. Для руководителя умение разобраться с собственными бабами – это тоже, знаешь, показатель компетенции.
– Так вы что ж, полагаете?…
– Тут и полагать нечего. В кадры поступил сигнал о твоей связи с судмедэкспертом Катковой.
– Кроме меня, никого это не касается!
– А ты не горячись. Подружек, их у кого нет? – Сутырин нетерпеливо скосился на часы, и блестящие его глазки-бусинки на мгновение зажглись предвкушающим, похотливым огнем. – Только вот все должно быть тип-топ. Без лишних всплесков. С сигналом этим я договорился, чтоб пока попридержали. Но вопрос стоит так: либо отказываешься от Катковой, либо… даже я тебе помочь не смогу. А сказал, потому что мне тоже в районах свои люди нужны и лучше тебя кандидатуры не вижу. Так что, если ты меня правильно понял, повторная аттестация станет твоим, будем говорить, бенефисом.
Полковник Сутырин числил себя в завзятых театралах.
То, что слух о его любовной связи с Валюхой, «запустил» по управе длинноязыкий Ханя, Андрей почти не сомневался. А потому, едва добравшись до райотдела, яростный, кинулся к нему. Распахнул дверь. И – обомлел.
В затенённом углу, с занесенным ножом над кем-то невидимым застыл Ханя. Андрей рванулся вперед. Но, сделав шаг, разглядел общую картину. Хмыкнул, успокоенный. На столе, на промасленных клочках газеты, возлежали исходящие соком три бревна палтуса, – подношение от обвиняемого, в отношении которого Ханя накануне прекратил дорожное дело. Надо сказать, что милицейские следователи, при всей внешней грубоватости, были тонкими лингвистами. Неприличным, например, считалось слово «взятка». Его произносили сквозь зубы и только, если кто-то попадался на получении денег. Материальные же подношения, будь то тот же балык или какая-никакая мануфактура, общественным мнением не порицались и, напротив, именовались деликатно и возвышенно – «отблагодарение». При звуке шагов Ханя взметнул голову и, прежде чем Андрей успел хоть что-то сказать, воткнул нож в рыбий бок, и бросился к нему.
– Андрюха, что?!
Такое проступило в нем неподдельное участие, что обида схлынула с Андрея. – В целом нормально, – буркнул он.
Не дав договорить, Ханя обхватил друга, принялся вертеть, стучать радостно по плечам. Потом вытащил в коридор и поволок в сторону чекинского кабинета. Откликаясь на пронзительный Ханин голос, выскочил Чугунов и, побросав на столе дела, увязался за ними. Кабинеты распахивались один за другим. Так что к Чекину ввалилась буйная ватага, нависшая над печатающим шефом.
– Новое начальство п-привели, – доложился Чугунов.
Чекин продолжать невозмутимо печатать. Потом высоко поднял левую руку и резко бросил её на клавишу.
– Точка. Чего столпились?
– Так отметить бы. Валюха Каткова звонила, – искательно напомнил Чугунов. – П-приглашают.
– Ну, Александрыч? Вино, бабы, – искуситель Ханя нагнулся к шефу. – Нонка пренепременно будет.
О слабости Чекина знало всё отделение.
Освободив каретку, Чекин вложил новую закладку.
– Александрыч, такой день! – всё ещё надеялся Вадим.
– День точно особый, – согласился Чекин. – Конец месяца. Так что все по боевым расчетам! Тальвинский, задержись.
Дождался, когда разочарованные следователи вытеснятся в коридор. Коротко бросил:
– Знаю.
– Сутырин напрямую сказал, что из-за Валюхи, – пожаловался Андрей. – Дал понять, чтоб выбирал.
– И что выбрал?
– Не во мне дело. Думаю, сколько можно ей жизнь портить… Что-то сказать хочешь? – подметил он. – Скажу одно: такие, как Валентина, один раз в жизни выпадают. Да и то не каждому, – Чекин сдержал вздох. Сам он время, проведенное с женой, зачитывал себе один к трем. – И если и впрямь так, что под горло подкатило, – женись. Ни одна карьера не стоит настоящей женщины. А твоя нынешняя семейная жизнь все равно что есть, что нет.
– Да ты!.. – Андрей поперхнулся. – Это ж сына бросить? Чтоб Котька без отца рос?! – Тебе жить, – Чекин, потеряв к разговору интерес, провернул каретку. Разговаривая, Андрей механически перебирал сложенные на углу тоненькие папочки с выведенными на обложках номерами и фамилиями, – свежие уголовные дела. Одна из них привлекла его внимание.
– Дело по обвинению гражданки Садовой, – произнес он озадаченно. – Вот это номер так номер.
– Знаком?
– Более чем. Никогда б не подумал бы: эдакая гордячка и – чтоб такое.
Отбросил уголовное дело в общую пачку, озадаченно глянул на часы:
– Что-то от Мороза нет информации.
9.
Прошло полчаса, час. Давно покинули здание ОБХСС расшалившиеся студенты, а из тесной фотолаборатории по-прежнему не доносилось ни звука. Будто там и вовсе никого не было. Только еще через полчаса раздался скрип внутреннего засова, и все трое, усталые, распаренные, выбрались наружу. Особенно скверно выглядел полнотелый Тариэл: пот сквозь промокший носовой платок струйками стекал прямо под распахнутый ворот влажной рубахи, кустарники волос на хрипящей груди вздымались и опускались.
— Сергей Васильевич! Николай Петрович! – умоляюще прошептал он. – Но я прошу…
– Будешь хорошим мальчиком, все будет тип-топ, – безразлично пообещал Лисицкий, обмахивавшийся двумя мелко исписанными листами бумаги. Он открыл сейф и под безысходным взглядом южанина небрежно забросил их в металлическое нутро.
Мороз без труда сообразил, что это было, – подписка о согласии на негласное сотрудничество. Тариэл, в свою очередь, понял, что человек, не принимавший участия в сделке, обо всё догадался. И такой всеобъемлющий, неконтролируемый страх утвердился в лице его и в съежившейся обреченно фигуре, что даже Рябоконь счел необходимым успокоить:
– Не дергайся, здесь чужих нет. Сказано – как заперто. Но и ты гляди, курва. Попробуешь натянуть – двурушничества не прощу.
Не постращать для острастки Рябоконь не мог.
Униженно покивав, согбенный человек с гордым именем Тариэл, пятясь, вытеснился на улицу.
– Как там Тальвинскому звонить? – полюбопытствовал Лисицкий. Не дожидаясь ответа, набрал номер.
– Это знаменитый следопут Тальвинский? – уточнил он громогласно. – Твой «земеля» Лисицкий беспокоит. Попахали мы тут на тебя с Рябоконем, как два подержанных бобика… Да. Нашли и даже «развалили». Но – не знаю, обрадую ли? Нацменов этих «крышуют». Появился такой кооперативчик с развеселым названием – «Пан спортсмен». В основном из бывших боксеров. Вот по их поручению Тариэл и торговал. Они ему и товар передавали. А вот от кого они сами берут, это он не в курсе. Не тот уровень. Фамилию Котовцева вовсе не слышал. Единственная слабенькая зацепка – по обрывкам разговоров он понял, что с этим как-то завязана старший товаровед Горпромторга Марина Садовая. Слышал про такую?
– Вот уж подлинно – тесна земля, – прогремел ликующий голос Тальвинского.
– Ещё бы тебе не помнить. Когда-то в нашем дворе жила. Слюной на тебя исходила. Но особенно губы не раскатывай. По мнению моего доверенного человечка в горпромторге, Слободян ее использует вслепую. Знает, что не болтлива. И еще, когда будешь ее допрашивать, поимей в виду: на Тариэла не ссылаться. Дорог мне отныне нежный, трогательный этот южный человек. Ну, ты понял… Словом, мы свое дело сделали. Если ещё что понадобится, пишите письма в голубых конвертах! Не прими как намек… Мороз? Здесь… Даю.
Он протянул трубку Морозу.
– Слушаю, Андрей Иванович! – Мороз подтянулся.
– Виталик! Завтра с утра двигай в Горпромторг и – живую ли мертвую – волоки ко мне эту Садовую.
– Понял! – возбужденный голос Тальвинского предвещал удачу.
– Хотя лучше живую. Только поимей в виду: баба с большим гонором. Меня на дух не переносит. Так что, если будет упираться, хватай через плечо и – волоки. Довольно хохотнув, Тальвинский отключился.
10.
Рабочий день закончился.
Распрощавшись с ОБЭХЭЭСниками, Мороз направился в гости к сестренке, с которой после возвращения еще не виделся. От матери узнал, что, не ужившись с отчимом, сестра, натура, как и сам Виталик, независимая, ушла из дома и теперь живет в общежитии квартирного типа – от химического комбината, где после окончания политехнического института работает сменным инженером.
С трудом разыскав общежитие, запрятанное в глубине рабочих пятиэтажек, Мороз нажал на дверной звонок. Ещё и ещё. Впрочем, последние две минуты – больше из упрямства. Если бы сестра была дома, то, конечно бы, давно открыла. Поколебался, стоит ли оставить записку, и даже в поисках карандаша начал присматриваться к соседним дверям. Но тут неожиданно щелкнул замок, и сквозь щель высунулось женское лицо, на котором недовольство сменилось сконфуженной радостью.
– Виташка! Роднуля! – сестренка бросилась на него прямо в накинутом наспех халате.
– Здравствуй, Аленка! Зайти-то можно?
– Да. Конечно, да! – спохватившись, она запахнулась – халат оказался наброшен на голое тело. Сестренка была младше на два года и всегда находилась под его покровительством. В младших классах – оберегал, в старших – гонял ухажеров. Поняв причину ее смущения, нахмурился и – будто и не было этих лет, – грозно шагнул внутрь.
– Я уже большая, – беспомощно напомнила ему Алена.
– А вот и поглядим! – Мороз прошел на середину комнаты. Увидел заставленный стол, расстеленный диванчик. Сурово огляделся. – Ну что, Геракл сушеный? Так и будем прятаться? Сам объявишься или помочь?
– Что ж ты буянишь-то, гражданин начальник? – дверь в ванной раскрылась. Перед Виталием в майке и джинсах предстал не кто иной, как Валька Добряков.
С удовольствием оглядел побагровевшего Мороза, мимолетом заглянул в зеркало и, как бы увидев обоих со стороны, расхохотался:
– Будет тебе бычиться! Мы с Ленкой неделю как расписались. Теперь-то здорово, что ли? Или – все-таки покружимся по старой памяти, а, милицейская «шестерка»?
– Больше не «шестерка», – У Мороза отлегло от сердца. – Здорово, Добрынюшка!
Друзья обнялись. … Через час Аленка убежала на смену. А они все сидели и сидели за столом. И пьяноватому Витальке было чудесно рядом с другом, а теперь и ближайшим родственником. Как все-таки удачно сложилось.
– Как тебя в ментуру-то угораздило? – поинтересовался Добрыня. – Сажали-сажали. А вместо этого – в литеры произвели. – Считай, повезло.
– Вот они, взбрыки фортуны, – Добрыня недобро усмехнулся. – А меня через месяц после того, как тебя в армию огребли, посадили. За грабеж. Кстати, Тальвинский твой разлюбезный. – Мне писали. Но я не поверил. Какой из тебя грабитель!
– И правильно делал, что не верил. Не было никакого грабежа. Обычная ресторанная драка, к тому же и случилась она за полгода до того. Да ты сам ее должен помнить.
– Я?!
– Конечно. Ты ж ее и «завязал» по обыкновению. Девка тебе, видите ли, в банкетном зале приглянулась. А и х там полная свадьба гуляла. Любой нормальный человек прикинул бы силы, прежде чем кидаться. Но вы ж, ваше благородие, в математике никогда сильны не были.
– Ну, наверное, приглянулась. Мало ли драчек этих было? – Мороз озадаченно потер подбородок. – Только – если вдвоем, так почему тебя одного? А я ни сном ни духом?!
– А чего ты? Из потерпевших тебя в лицо никто не знал. Так что по делу прошел как неустановленный соучастник.
– Не въезжаю. Т ы что, меня покрыл и все на себя взял?! – Мороз помотал головой, как делал при пропущенных мощных ударах.
– Можно и так сказать, – согласился Добрыня. – М-да. Судьба! Я ведь тогда в самой форме был. Режимил. ЦС «Буревестник» выиграл. В сборную Союза на Европу котировался. А вместо этого с песнями на зону. И вот встречаемся – оказываемся по разные стороны баррикад. А не прикрыл бы я тебя тогда, глядишь, и с одной стороны были бы. Ты-то со своими закидонами куда ближе моего к тюрьме стоял.
– Но – почему грабеж?! – вскинулся Виталий. – Чтоб Андрей «навесил» явную лажу!
– Андрей! Андрей! Нашел себе свет в окошке. Мент он – и все дела. Да и не он там приводным ремнем был. Просто – звезды для меня неудачно сошлись, – Добрыня осушил бокал водки. Прищурившись, вгляделся в дружка. И желание выплеснуться взяло вверх над обычной рассудительностью. – Ладно, скажу. Полкана милицейского как раз «завалили». Громкое было дельце. Не верили менты, что в случайной драке погиб. Всё искали. Исполнителей, подельников, заказчиков. И еще документы кой-какие, – он подмигнул многозначительно. – Ну, и стуканули им, что я вроде как причастен.
– А ты… причастен? – голос Мороза дрогнул.
– Ни боже мой! – Добрыня слегка протрезвел. – Так, зацепил случайно чуток информации. Вот и поставили перед фактом: или – солью, или – накрутят и посадят. И – сдержали-таки слово. Один из потерпевших «котлы» в драке потерял. Ну, и три года – денек к деньку – за липовый грабеж отмотал.
– Так что ж не сдал информацию?! Ведь не шуточки – человека убили.
– Эва как в тебе мент взыгрывает! Вот и видно, что мы из разных амбразур глядим. Да нет, браток. Не человека – мента завалили. Кроме того, есть немалые люди, что добра не забывают. Ну, а забудут – можно напомнить!.. Какие еще вопросительные вопросы имеете, гражданин литер?
Он вскинул глаза на Мороза. Взгляд Добрыни был всё так же тверд. Но если прежде в нем угадывалась насмешливая снисходительность сильного человека, то теперь на Виталия глядел матерый, которого загоняли, да не загнали, а лишь внушили неистребимую ненависть к загонщикам.
И Мороз, как прежде на ринге, принял вызов. Молча, упершись локтями о стол, не отводили они друг от друга взгляд. Но раньше это было соревнование в удали. Теперь же Мороз почувствовал, как с каждой секундой злой этой дуэли все дальше и дальше разлетаются их души. Добрыня стал ему родственником, но перестал быть другом.
– Ладно. То в прошлом, – спохватился Мороз. – Чем сейчас жив?
– Осваиваюсь. Улаживаю всякие разборки. Кооперативы «крышую», какие попросят. А то больно много беспредельщиков развелось. Да и боксеры наши ко мне жмутся. Тоже стараюсь без куска хлеба не оставить. В нынешней жизни, чтоб подняться, друг дружку поддерживать нужно. Так я про это думаю. Да вот хоть тех же Будяков помнишь? Под крыло взял. Чего без дела болтаться? А через них и Затверечье под приглядом. Собственный бизнес отстраиваю. С серьезными структурами на поставки «завязался». С властями контакты налаживаю. С теми же ментами ныне куда легче договариваться стало. Может, примкнешь, родич? Чем чужим платить, приятней со своим делиться…Э, ты чего сник? Перепил? – подметил Добрыня.
– Похоже на то. Зашумело чуток с непривычки. – Мороз поднялся. – Завтра с утра на службу. Я ведь теперь государев человек. – Ну, ну. Тогда бывай, служивый! А то подумай. Может, не понял до конца, о чем говорю?
Мороз попрощался – с тяжёлым чувством. Он всё понял: Валька Добряков, недавний друг и муж его любимой сестры, стал криминальным «авторитетом».
11.
Начало смеркаться. Дважды звонила Валентина. Во второй раз с плохо сдерживаемым недовольством. Андрей обещал ускорить. Но – к Чекину не шел.
Время от времени из своего логова выходил сам Чекин. Приглядываясь, проходил дозором по кабинетам. Иногда приглашал то одного, то другого следователя к себе. Запирал дверь, наливал из початой бутылки четверть стакана, протягивал карамельку, дожидался, пока бурлящий поток исчезнет в истомившейся глотке:
– Проявился? Ступай. Часа на полтора тебя еще хватит.
Таков был Чекинский стиль работы, когда в последнюю декаду месяца сутками корпели следователи, не разгибаясь, над уголовными делами: направляли в суд, прекращали, приостанавливали, – чтоб сбросить с остатка всё, что возможно. Потом Чекин закупал литр водки и уезжал с отчетом к прокурору. А возвратившись, принимался игриво улыбаться. И это было сигналом: в первые дни следующего месяца в отделе можно было найти разве что дежурного следователя, да и тот то и дело таинственно исчезал. И появлялся вновь несколько растерзанным и не всегда адекватным.
Порочный, надо признать, был этот стиль. Выматывавший, развращавший, но и сделавший каждого из них добротным трудягой.
В девять тридцать Чекин объявил отбой.
– Кто не закончил, завтра крайний срок.
Обрадованный Ханя захлопотал над телефоном.
– Нонна Геннадьевна, Вадим Викторович на проволоке, – промурлыкал он. – Мою машину к подъезду.
Выслушал что-то горячее, хмыкнул:
– Ах ты, козлик. Ну, попасись еще чуть-чуть. Папа приедет, погоняет.
Повесил трубку.
– Шлюшка. Звездит, будто все выпили. Благородные сэры, карета будет подана.
По отходящему ко сну городу с жуткой, пугающей редких прохожих сиреной пролетел «Рафик» скорой помощи. На территории больничного городка он покружил по аллеям и остановился у заброшенного, стиснутого кустами одноэтажного здания, на котором фары высветили угрюмую табличку «Городской морг».
Поносно-жёлтого цвета дверь распахнулась. – Слава тебе Господи, добрались-таки. А мы уж хотели за другой партией мужиков посылать, – Нонна была пьяна. И, как всегда, пьяная, бесстыдна. – Ба, и Аркашенька здесь. Что ж давно не захаживал? Я ведь всегда. Ну, ты понял?
– Понял, – невозмутимо подтвердил Чекин и прошел мимо нее в приемную, даже не обернувшись на возню, поднявшуся за его спиной: Ханя шел на Нонну приступом.
В кабинете экспертов за уставленным закусками столом сидела в обнимку с гитарой молодая раскрасневшаяся женщина с красивым русским лицом – судмедэксперт Валентина Каткова. К столу подкатили каталку для перевозки трупов. Накрытая свежей простыней, она служила сервировочным столиком.
– П-пусто, – Чугунов рысьим взором прошелся по столам. – Совсем ничего не осталось.
– Чтоб меня без спиртного встретили! – Ханя сноровисто залез в шкаф с хирургическим инструментом и выудил оттуда не много-не мало – три бутылки спирта.
– Вот стервец! Ты б так кражи раскрывал, – Нонна от души хлопнула Ханю по заду. – Ладно, следопуты! Давайте за стол и – надо эту бодягу кончать к чертовой матери!
– Кончать, чтобы начать к-кончать! – скаламбурил Чугунов и, единственный, смутился.
Через час стол «развалился».
Ханя потащил в санузел затеявшую блевать Нонну. Быстро опьяневший Чекин невнимательно улыбался вяловатым Чугуновским анекдотам. Андрей, сидевший на диване с Валентиной, коснулся губами ее локона. Она рассеянно улыбнулась. – Господи! Как хорошо. Так бы сидела и – ничего не надо.
Будто что-то расслышав в нем, встрепенулась:
– Не думай. Все будет хорошо. Вот увидишь – тебя назначат.
Андрей заметил глумливую ухмылку Чугунова, поднялся. – Покурить хочу на воздухе.
На крыльце он перегнулся через перила, потряхивая шумящей от выпитого головой. Услышал легкие шаги. Повернувшись, поймал разгоряченную выпитым Валюху.
– Простил? – заглядывая в глаза, с показным смирением прошептала она.
– За что?!
– За него.
– Полно. Это я перед тобой кругом виноват, – Андрей осторожно провел пальцем по тронутому оспинками лицу, обводя следы побоев.
– Господи! – Валентина жадно вдохнула острый запах увядающей зелени. – Как же на самом деле немного надо, чтоб быть счастливой! Знаешь, что я подметила? Люди не умеют быть счастливыми. Они никогда не счастливы в настоящем времени. Всегда – в прошлом. Вот живет, суетится, бьется с кем-то или за что-то. Жалеет нескладную свою судьбу. А потом, когда пройдут годы, вспомнит и скажет: “Счастливое было время”. Не знаю, может, в этом заложен стимул для совершенства. Но оттого люди обедняют и укорачивают свою жизнь. Это я тебе как патологоанатом заявляю. А надо как у нас с тобой. Вот я каждое утро просыпаюсь. Какие-то болячки, проблемы впереди, муж в нижнем белье дефилирует, мальчишки опять передрались. И вдруг говорю себе: “ У меня есть мой Андрюшка”. И – совсем другой день! Цвета другие. Понимаешь, как много ты для меня? А ты все ревнуешь, боишься чего-то.
На крыльцо рывком выбросился Ханя. Увидев Андрея, метнулся к нему и, ни секунды не медля, сообщил:
– А я щас Нонку прямо на “очке” дернул! Класс!
– Постыдился бы, Ханя, – равнодушно произнесла Валентина.
Вадик только теперь разглядел ее в полутьме, но на упрек обиделся:
– А чего мне стыдиться? Вот если б не смог, другое дело. А так я в норме. Это еще что? У меня тут такой прибабах заготовлен!Обхохочетесь.
Но Андрей, которому сейчас было совсем не до Ханиных комплексов, молча оттолкнул его от себя.
– Понял. Ребята, понял. А где, кстати, Чекин? – Ханя приложил руку к губам и нетвердо пошел назад по коридору морга, выкрикивая:
– Чекин! Лысый Чекин! Аулечки!
– Не за себя боюсь, – Андрей притянул Валентину и приподнял пальцами подбородок. – Послушай, что скажу, Валюха. И попытайся понять.
– Какое жуткое начало.
Он почувствовал судорожное ее движение и заговорил быстро, стараясь выглядеть страстным и, по мере того как говорил, страстью наполняясь:
– Мы с тобой сегодня как дети, заигравшиеся допоздна в песочнице. И расставаться не хочется. Но когда-то, да надо. А нас с тобой не мамы ждут. Мы сами… И это – иная категория ответственности. Я ведь знаю, как дорожишь ты своим домом. Сыновьями своими. А я – столько зла тебе причинил. И – не могу, не имею права дальше ломать твою жизнь.
Он прервался, теряясь от непонятной ее усмешки.
– Опомнился! Глупый ты все-таки, Андрюшка. Ты уж два года как сломал и – не заметил. Как раз хотела сказать – я ухожу от мужа.
– Уходишь?! – Андрей растерялся. – А дети? Сама рассказывала – отец-то он прекрасный.
– Я не стану мешать им видеться. Потом, когда он смирится, может, будет приходить к нам.
– К нам?! Ты сказала, к нам?
– Да. Как мы мечтали.
– И – твой муж, он что? Знает?
– Скажу сегодня.
Даже в полутьме ощущалась счастливая улыбка решившейся женщины.
Валентина в свою очередь ощутила наконец в нем неясное беспокойство и встревожилась:
– Что-то не так, Андрюшенька? Ведь ты сам столько уговаривал.
– Уговаривал, – тяжело – и чтоб видела, что тяжело, – подтвердил он. – Я б и сейчас. Не уговаривал. Умолял бы! На руки взял бы и…
Он задохнулся от чувства.
– Но тогда…Я чего-то не понимаю. Это из-за твоего назначения?
– Ну вот, и ты туда же! – раздраженный, он отстранился.
– Но – что тогда?
– Знаешь, я вчера вечером пришел домой. Котька не спит. Раскрылся. Мокрый, растрепанный. Я его к себе прижал и… так он обхватил. За сердце! Поймешь ли?
– Понятно, – из ниоткуда подтвердил Валин голос.
– Ну, как он без меня? Знаешь же сама, что из него супружница моя вырастит.
– Стало быть, все по-прежнему! – Валентина сдержала тяжкий вздох. Всполошилась. – По-прежнему, да? Что молчишь, Андрюша?
– Валечка!
– Не смей! – пальцами она сдавила его губы. – Не говори ничего. Не спеши. Я сама. Мы просто переждем. Пусть сперва тебя назначат.
– Да что ты в самом деле с ерундой этой?!
– И пусть. Это нужно, Андрюша. Просто сам пока не понимаешь, но тебе без этого нельзя. Без этого – застой. И – не спорь! А я подожду.
Она вслушалась в его отчужденное молчание.
– Ну, хочешь, мы долго-долго встречаться не будем? Аж, – задохнулась, – целый месяц! А потом, если ты скажешь, что – совсем, тогда и – совсем. Хорошо, да?! Так да?
– Да, – выдохнул Андрей, понимая, что порвать с ней здесь же, раз и навсегда, не хватит в нем ни жестокости, ни решимости.
– Подождем, – пробормотала она.
В милом, с оспинками лице ее, всего за пять минут до того переполненном счастьем, проступила такая безысходность, что Андрея заколотило. Да стоит ли что-то в этой жизни таких жертв? Ведь никто и никогда не будет любить его так. И ничего потом не вернешь! Все решается в мгновение: обхватить ее, вжать в себя и – больше не выпускать.
Он заколебался.
Истошный, откуда-то из самых глубин морга вопль разорвал минорную тишину.
– Ты уверена, что сегодня всех покойников вскрыли? – Андрей первым устремился внутрь.
Возле дивана стоял всклокоченный Чугунов и с раскрывшимся непроизвольно ртом смотрел на дверь “мертвецкой”, откуда выскочила растерзанная, непрерывно кричащая Нонна. Следом появился обескураженный Ханя.
– Что, Нонночка, что?! – Валентина подскочила со стаканом воды и чуть не силой втиснула его в зубы подруги.
Та сделала судорожный глоток, взгляд приобрел что-то похожее на осмысленность.
– Паскуда! – выдохнула она. – Да он же, извращенец, меня прямо на трупе пытался! Пристроил к каталке, а потом распахнул, а там…голова к голове! – Нонуль, но ты сама хотела чего-нибудь остренького, – расстроенное Ханино лицо было полно тайного восторга.
– Да любви я хотела! Любви! – снова закричала она.
И тогда в наступившей тишине раздался смешок. Вслед – еще. И еще. Безнадежно, казалось, уснувший Чекин сидел на диване и, не в силах остановиться, заливался прерывистым, как икота, пугающим тонким смехом. По пьяному его лицу непрерывно текли слезы.
– Я ведь с тобой всегда хотела, Аркашенька! – откликнулась Нонна. – Не с коблом этим! С тобой!
– Да, это клиника, – определилась Каткова. – Такого сабантуя в моей жизни еще не было.
Скосилась печально на бледного Тальвинского:
– И, похоже, уже не будет.
Андрей шел по ночному городу, с остервенением втаптывая ботинками антрацитовые лужицы на асфальте. Давно не чувствовал он себя столь погано, потому что давно не было в его жизни любви, подобной той, что одарила его Валюха. Порой, вспоминая произошедший разрыв, он скрежетал зубами и принимался озираться, будто в поисках такси. Но даже в эти секунды понимал, что не поедет он, как мечталось, к Валюхе, не вытащит ее от растерянного мужа и не увезет в темноту. Потому что сколь угодно можно гнуть ветку, испытывая на прочность. Но, сломав, не восстановишь. Можно, конечно, попытаться перевязать, вылечить. Но – никогда больше это не будет ТА ветка. И никогда не будет к нему прежней Валюха. Помани – и она вернется. Но – уже другая, надломленная. А другая Валюха – это другая история. И – ничего тут не вернешь. Ни-че-го!
Возле собственного подъезда он долго стоял, уткнувшись лбом в проржавелую подъездную дверь.
День второй. Четверг
1.
– Подожди у ворот, – потягиваясь спросонья, Виталий Мороз вылез из отдельского УАЗика прямо перед прикрепленной на заборе вывеской « Оптово-производственная база горпромторга».
Внутри узенькой проходной, перед турникетом, возле единственного, подвешенного на стену телефона, толпились люди. В стороне позевывал пожилой охранник.
– Вертушку запусти, – Виталий показал мельком милицейское удостоверение.
– Сначала надо пропуск выписать, – охранник ткнул в сторону телефона.
– А это тебе что? Или у тебя, батя, режимный объект?
– Какой надо, такой и объект. Молод еще шутки шутить. Без пропуска начальства не пущу.
– Ну, и – молодец. Бди дальше, – Мороз перемахнул через турникет и шагнул на самую блатную в городе территорию.
Сзади послышались запоздалые всполошные крики.
Длиннющее здание со всех сторон было облеплено загружающимися фурами. Вход на административный этаж Мороз нашел не без труда. Взбежал по гулкой металлической лестнице и уткнулся в надпись «Приемная».
В «предбаннике», возле стола скучающей секретарши, терпеливо подремывали несколько посетителей.
– Мне сказали, что где-то здесь Садовая.
– Да, она у директора… Эй, эй, парень, ты куда?! Там совещание.
– Как же это без меня-то начали?
В кабинете оказалось трое: две женщины и розовощекий мужчина с хрупкой, юношеской фигурой. Все трое склонились над длинным кожаным диваном, на котором, как заметил из-за их спин Мороз, были разбросаны целофановые пакеты с дефицитными шмотками. На столе лежало несколько заломленных десятирублевок, явно только что вынутых из портмоне. Портмоне могло быть только в пиджаке у мужчины.
– Я не пускала. Он сам, – испуганно произнесла вбежавшая следом секретарша.
– Точно, сам, – подтвердил Мороз. – Я ищу Марину Всеволодовну Садовую.
Это я, – к нему повернулась молодая рыжеволосая женщина. Что-то смутно знакомое было в ее глазах и припухлых капризных губах. Что-то тревожащее.
По губам этим Мороз ее и узнал. Перед ним стояла Маринка Найденова, соседка по двору, в которую когда-то был безнадежно влюблен маленький Виталик.
Все эти годы, особенно в школе милиции, Мороз жил нормальной жизнью нормального холостяка. То есть периодически менял подружек, с некоторыми из которых устанавливались бурные, плещущие страстями отношения. Пару раз эти отношения переплескивали через барьеры и докатывали аж до порога ЗАГСа. Но страсть на этом роковом рубеже сама собой затихала, сменяясь штилем.
Ни с кем никогда не делясь, Мороз ждал встречи со своей снегурочкой.
И вот теперь она стояла перед ним наяву и, не узнавая, с тревожным любопытством разглядывала влажными беличьими глазами. Жесткие витые проволочки волос клубились вокруг лица и норовили попасть в глаз. Она их привычно сдувала.
– Лейтенант милиции Мороз, – представился Виталий. – Приношу извинения. Но мне поручено доставить вас для допроса к следователю.
– К какому еще следователю? И почему собственно? – Садовая растерялась.
– На основании уголовно-процессуального кодекса. Да Вы не волнуйтесь, – раскрасневшаяся от волнения, женщина сделалась еще привлекательней. – Насколько я знаю, два-три формальных вопроса. А потом я вас сразу доставлю назад в лучшем виде.
– В лучшем виде, – озадаченно повторила Садовая. – Миленько! А вот у меня на сегодня совсем другие планы. Рабочий день, понимаете ли.
– Вижу, – реплика скосившегося на дефицитные товары Мороза получилась желчной.
– Ну, это вообще не ваше дело. Вот если я сейчас, допустим, откажусь. И что?
– Вынужден буду доставить.
– Неужто силой? – губки оправившейся Садовой принялись лукаво подрагивать.
Мороз давно заметил, что и Садовая, и – особенно – директор базы требовательно посматривают на мужчину. Их молчаливый призыв был услышан.
– М-да, вот оно, бескультурие наше, – мужчина значительно, с неприязненным видом обошел вокруг Мороза. – Вот потому и называют ментов ментами. Повестку покажите.
– Я сам за повестку.
– Понятно. Нарушение номер один. Тогда удостоверение, плиз.
Требование было справедливым.
– Опять же понятно, – мужина попытался вынуть удостоверение из цепких пальцев Мороза, но, дернув пару раз, безумную эту затею оставил.
А сам Мороз, разом невзлюбивший этого выеживающегося перед бабами мужичка, будто ненароком подтянул локоть повыше и тем заставил «контролера» приподняться на носки. Заметил, как спрятала усмешку Садовая. Заметил это и мужчина, потому что торопливо отступил на шаг, разрывая дистанцию между собой и высоким Морозом.
– Стало быть, так, – произнес он, едва сдерживаясь и показывая голосом, что он именно сдерживается. – Во-первых, вижу, пора представиться. Не повезло тебе, лейтенант. Вдвойне не повезло. Потому что перед тобой не просто старший по званию – майор милиции. Но еще и – замполит Красногвардейского отдела, где тебе предстоит служить. Фамилия моя – Муслин. Надеюсь, слышал?
Он впился в лицо лейтенанта, предвкушая, как оно начнет покрываться краской. Но не дождался. Разве что позой своей Мороз постарался выразить некую меру уважения, необходимую, по его мнению, в разговоре со старшим по званию. А сопоставив вчерашний рассказ Рябоконя с наваленной на диване мануфактурой, он с некоторым трудом удержал себя от иронической реплики, – похоже, замполит специализировался на шмонах по всему городу.
– Удостоверение, гляжу, только вчера выдано, – Муслин оказался наблюдательным.
– Так точно.
– Что, лейтенант? Власть в голову ударила?
– Я выполняю поручение следователя, товарищ майор.
– Погодите! – встрепенулась Садовая. – Если вы из Красногвардейского…Так вы меня не по делу ли Лавейкиной, часом, собираетесь доставить?..Так это вам и на аркане не удастся!
– Не расстраивайтесь, несравненная Марина, – Муслин оказался галантен. Мороз заметил, что, говоря и действуя, он как бы опосредованно косится на реакцию Садовой, прикидывая, как сам выглядит в глазах очаровательного товароведа. – Никуда против вашей воли вы не поедете. Это я могу обещать твердо. Напротив, к вам приедут и принесут извинения. Так к кому вызов, лейтенант?
– Дело ведет следователь Тальвинский.
Садовая презрительно фыркнула. И тем значительно поумерила Морозовские симпатии.
– Вот что, лейтенант, – отчеканил Муслин. – Предлагаю развернуться на сто восемьдесят градусов и дуть быстрым шагом в райотдел, пока я не передумал. Потому что если передумаю… Словом, парень ты, вижу, понятливый, так что повторять не придется?
– Думаю, да, товарищ майор. Марина Всеволодовна, нас с вами торопят. Мешаем людям.
Собравшаяся добавить что-то неприязненное от себя директор базы осталась стоять с приоткрытой челюстью. Напротив, карие глазищи Садовой принялись живо перебегать с одного мужчины на другого.
Лицо Муслина раскраснелось. Охота шутить пропала. Да станет ли шутить мужчина, боящийся оказаться посмешищем в глазах интересной ему женщины?
– Вот что, парень. Или ты по-хорошему валишь отсюда, или, – он значительно посмотрел на телефон, – это будет самая короткая служба из всех мне известных. Ты вообще удосужился дисциплинарный устав изучить?
Виталий сокрушенно вздохнул. – Правда ваша, товарищ майор. Насчет дисциплинарного кодекса – тут у меня руки не дошли. А вот УПК проштудировать успел. И знаю, что, получив поручение от следователя, орган дознания обязан предпринять все усилия для скорейшего и качественного его выполнения.
С выражением давящей безысходности посмотрел на развеселившуюся Садовую. Происходящее она воспринимала как некое рыцарское противостояние.
– Вот что ты, ноль без палочки!…Или – пшел вон, или сгною! «Йесс!!» – восторжествовал про себя Мороз. Это было произнесено вслух, и это было то, чего он добивался. Первое правило любой драки – вывести соперника из равновесия. Нервы у Муслина сдали. Не ожидавший встретить странное сопротивление со стороны подчиненного мальчишки-лейтенанта, он перестал себя контролировать. Как учил преподаватель философии в школе милиции, налицо адская смесь достаточного и необходимого. Какая оказалась нужная наука. Вторая после ОРД[8]. – Что ж, слово сказано! Придется выполнять, – грустно констатировал Мороз.
Муслин торжествующе скосился на Садовую, заметно разочарованную быстрой капитуляцией.
– Позвольте, товарищ майор, мне в свою очередь убедиться, что передо мной действительно… Вы уж извините.
– Да нет. Теперь не извиню. Вляпался ты, лейтенант, из-за своей упертости, – Муслин выбросил руку с зажатым удостоверением, и тут же удостоверение это было из ладони его бесцеремонно, без видимого усилия вынуто.
Мороз внимательно изучил его содержимое.
– Ну что, убедился, на кого рыпнулся? – замполит нетерпеливо пошевелил пальцами.
– Да, – вынужден был признать Мороз. – Надо же. Никогда бы не поверил, что старший офицер милиции способен оскорблять младшего по званию при исполнении служебных обязанностей, да еще в присутствии посторонних. Вот уж век живи, век учись.
С тяжким вздохом он убрал удостоверение в нагрудный карман своей рубахи.
– Да я!.. – Муслин в запале дернулся к карману. Мороз, не меняя сокрушенного выражения лица, словно ненароком, развернул его, загородившись как барьером от оторопевших женщин.
– Тихо, ты! – едва слышно процедил он. – А то я тебя сейчас положу прямо на глазах у бабья – со всем возможным чинопочитанием. То-то веселья по отделу будет!
Незаметно отпустил захват. И совсем другим голосом отчеканил:
– Товарищ майор! Ваше удостоверение будет мною сегодня же передано по инстанции начальнику райотдела одновременно с рапортом о попытке противодействия сотруднику милиции при исполнении им служебных обязанностей. Если я неправ, старшие товарищи меня поправят. Быть может, мне будет больно. Уверен, кстати, что вы находились в этом кабинете в рабочее время исключительно по делам службы.
Он небрежно кивнул на разваленные на столе десятки.
– Марина Всеволодовна, – Мороз покаянно склонил крепкую шею. – Я вас умоляю. Готов, конечно, нести до отдела на руках. Но завистники не поймут.
– Делать нечего, пойдемте, – Садовая посмотрела на директрису, которая кивнула, обескураженная. – Тем более защиты мне ждать, похоже, больше неоткуда.
Небрежной фразой этой добив униженного Муслина, она первой вышла из кабинета.
Раздолбанный УАЗик поджидал их у проходной.
– Куда мне здесь? Надеюсь, не за решетку? – Садовая так быстро обернулась, что увлекшийся Виталик не успел отвезти глаза от предмета своего созерцания – хорошенькой, обтянутой кожаной юбкой попки.
– Выбирайте, – пряча смущение, он распахнул обе двери – переднюю и заднюю.
– Лейтенант! – послышалось сзади. К ним спешил Муслин.
– На минутку, – попросил майор.
Они отошли в сторону.
– В общем, давай так. Мы оба погорячились. Наверное, и я был не до конца прав. Ты все-таки и впрямь при исполнении, – Муслин хмуро разглядывал свою начищенную обувь. – Так что предлагаю – забыть и – без последствий. Как?
– Без проблем, товарищ майор, – Виталий протянул ему отобранное удостоверение и сел в машину.
– Чего-чего, а как раз проблем у тебя теперь хватит, – пробормотал Муслин. Так, как сегодня, его давно не унижали. Унижать – это была привилегия его должности.
– Вернул? – догадалась Садовая. – Ну, и дурачок. Теперь он тебя сожрет.
– От кого бы услышать, – буркнул Виталий. Он и сам жалел, что так легко разрядил ситуацию, – больно недобрым взглядом провожал машину замполит Красногвардейского райотдела майор Муслин.
2.
– Товарищ майор, гражданка Садовая по вашему пору… – с показной лихостью начал рапортовать от порога Мороз, но кабинет оказался пуст. Он посторонился, пропуская доставленную. – Похоже, вышел. Прошу, Марина Всеволодовна, присаживайтесь пока.
Садовая брезгливо провела пальчиком по перепачканной стене.
– Вот еще, – Мороз показал на бурый подтек на потолке, – жильцы сверху регулярно заливали служебные помещения, и райотдел годами безуспешно с ними судился. – Даже на конуру для вас ваши хозяева пожилились, – съязвила Садовая. – Зря вы так настроены , – Мороз нахмурился. – Всего два-три формальных вопроса. В понедельник дело передается в суд. – Уже?! Лих Тальвинский. И Лавейкина, само собой, арестована?
– Избрана подписка о невыезде. Учитывая состояние здоровья.
– Или состояние связей. Попугали, стало быть, заблудшую овечку. – Набрали что сумели! – в кабинет ввалился Андрей Иванович Тальвинский. Стащил с себя мокрый от дождя плащ, встряхнул его на пол. – Потому что одни краснобаи кругом. А вот чтоб реально помочь… Да хоть вы. Ведь знаю – не любите Лавейкину!
– Не люблю. За жадность.
– Неужто не поделилась?
– Оставьте свои подколы, Тальвинский. Я ими еще пять лет назад наелась. И вами, кстати, тоже. У нее в магазине девчонки, пацанки совсем работали. Только-только училище закончили. А им по мозгам: коллективная ответственность, платите на всех. А чем? На панель, что ли? Теперь жалеют: зря, мол, сами не тырили. Было б за что страдать. Воруешь – воруй, твои проблемы. Но зачем же за счет других?
– Вот и помогите. Подскажите, через кого излишки свалились.
– Увольте! – Садовая презрительно шмыгнула носиком. – Да и – не знаю я ничего толком. Не было у Лавейкиной доверенных. Сама воровала, сама концы прятала.
– Воровала, может, и сама. Но не одна. Кто-то же ей на двадцать тысяч дефицитных тряпок отвалил. По нашим сведениям, торговля этим «левым» товаром велась и раньше. – Не помню, – отрубила Садовая. – А вспомнить придется! – Ко мне что-то еще?
– Что значит «что-то»? – удивился Тальвинский. – Мы еще и не приступали.
– Повторяю. Сказать мне вам нечего. Засим прощаюсь, – Садовая в самом деле поднялась и пошла к выходу.
– К чему такая внезапная спешка? – Тальвинский шутливо перехватил женщину за талию.
Не приняв игривого тона, Садовая сбросила с талии обнимающую руку.
– Да пустите же! И не распускайте лапы. В конце концов, куда я приглашена? Для официального допроса или на какую-то хазу?
– Для допроса. – В таком случае повторяю для особо непонятливых: ни-чег-го не знаю!
– И все-таки разговор этот нам придется продолжить, – в свою очередь ужесточил голос Тальвинский.
– Ну-ну, – Садовая достала из сумочки платочек, с демонстративной брезгливостью протерла пряжку, которой коснулась рука Тальвинского, многозначительно посмотрела на циферблат и вновь опустилась на стул, небрежно закинув ногу на ногу. – Надеюсь, иголки под ногти загонять не станете.
– В крайнем случае продезинфицирую, – от прямого обещания Тальвинский уклонился.
– Давайте покороче и без ерничества.
– А вопрос у нас всё тот же – откуда и кем завозились левые товары, которыми Лавейкина периодически торговала и которыми набита ее подсобка? По нашей информации, фиктивные документы на «левый» товар составлялись как минимум в вашем присутствии. Поэтому если мы сейчас не договоримся, то придется, не обессудьте, заняться внимательным изучением круга ваших близких знакомых мужского пола. Я достаточно политесно выражаюсь?
Садовая заметила, что и Тальвинский, и – исподтишка – Мороз то и дело поглядывают на скрешенные женские ноги. Тонко усмехнулась.
– Похоже, меня пытаются шантажировать. Это и есть два-три формальных вопроса? – она даже не удостоила Виталия презрительного взгляда. – Вот что, Тальвинский, плевала я на вас и на ваши намеки. У нас с мужем доверительные отношения. И скрывать мне от него нечего. Да и не вам мне нотации читать. Или тоже моралистом стали?
– Только если для пользы дела.
– Оно и видно. Господи! И в это мурло я пацанкой была влюблена. Дело! Излишки! А у самого глазёнки бегают. Так бы и разложил прямо здесь. Только ни-ког-да! Хоть ты переблюйся от злости. Понял?!
– Понял. И не возражаю, – подтвердил Тальвинский. Бас его погустел. – Наверное, я жутко старомодный, но в числе моих немногих принципов – не входить в половой контакт с венерическими больными!
Даже готовый к подвоху Мороз поразился, как отхлынула кровь от женского личика, как забегал по губам язычок, бессмысленно слизывая неналоженную помаду.
– Откуда вестишки? – пробормотал он, ошеломленный не менее самой Садовой.
– Из вендиспансера, вестимо. Все-таки в религии есть своя мудрость. Сказано ведь – женщина скудель зла. И – в точку. Кто бы мог подумать, что очаровательная наша и изысканнейшая Марина Всеволодовна – переносчик сифилиса. А говорите, нет предмета для мужа. Так как?
Садовая затравленно скосилась на Мороза. Но тот молчал, раздавленный, – Снегурочка оказалась заурядной сифилитичкой.
– Ну и сволочи же вы оба! – выдавила она. – Гаденькие сволочи. Только и умеете, что грязь собирать. Так вот запомните. И ты в первую очередь, – почему-то потребовала она от Виталия. – Болела я или не болела, это касается меня и моего мужа. А с ним мы без вас разберемся. Во-первых, потому что он знает. И, во-вторых, потому что вас это не касается.
– А вот тут-то вы ошибаетесь, милейшая! – рявкнул раздосадованный Тальвинский. – Мне глубоко плевать, что обо мне думает каждая…, но если мы сейчас не договоримся, – он выдержал зловещую паузу, – то вы, гражданка Садовая, будете привлечены к уголовной ответственности по статье сто пятнадцать прим – за уклонение от лечения венерического заболевания.
– Неправда! Я полностью вылечилась. Еще полгода назад! Можете проверить!
– Проверял, – охолонил ее Тальвинский. – Вы, уважаемая, бросили лечение, не пройдя провокацию. И вендиспансер направил нам материалы для возбуждения уголовного дела.
– Я прошла весь курс! – Вскочив с места, Садовая яростно затопала об пол каблуком. Она была близка к истерике. – Я совершенно здорова. Совершенно!
– Может, в медицинском смысле вы и здоровы. А в юридическом смысле больны уголовной статьей. И сажать вас или не сажать, буду решать в зависимости от результатов этого разговора… Короче, если венерический больной не прошел провокацию, он считается не вылечившимся и уклоняющимся и подлежит уголовной ответственности.
– Господи! Что же это? – обессиленная, она нащупала стул.
– А то, что вы сейчас расскажете все, что знаете. Если, конечно, за решетку не желаете, – стараясь выглядеть твердым, отчеканил Тальвинский, – В конце концов, что от вас требуется? Всего лишь сказать правду о ворах, которых сами не любите. Ну!
Мороз изо всех сил делал вид, что роется в бумагах. Было невыносимо смотреть на сгорбившуюся, потухшую женщину, совсем недавно наполненную гордым пленительным кокетством.
Плечи Садовой задрожали. Она плакала.
– У нас мало времени, – напомнил Тальвинский, отводя глаза в сторону, – взваленная неблаговидная роль шантажиста давалась ему с усилием.
– Пишите, – не поднимая головы, произнесла Садовая, и от сдавленного, задыхающегося ее голоса у Виталия самого перехватило горло.
– Да пишите же! – требовательно повторила она. Тальвинский подхватил ручку.
– Готов! – сдерживая азарт, сообщил он.
– Тогда абзац первый. Я, Садовая Марина Всеволодовна, в девичестве – Найденова, венерическая больная, сообщаю, что следователь Тальвинский, – она набрала воздуха, вскинула распухшее от слез лицо и изо всех сил закричала: – Подонок! Подонок!
Посмотрела на ошеломленных милиционеров:
– Больше по существу заданных вопросов показать ничего не могу. А теперь сажайте, твари!
– Шутки шутить, стало быть, затеяла! – Тальвинский отшвырнул ручку, грозно поднялся. – Ну, так не обессудь!
– Прекрати, – услышал он.
– Ты это мне? – не поверив, обернулся Андрей к Морозу.
– Вам, товарищ майор! Мороз упрямо поджал губы, повернулся к Садовой:
– Вы вот что, выйдите пока. Обхватив руками лицо, Садовая выбежала в коридор.
– И что сие означает?! – прогремел Тальвинский.
– Андрей Иванович!..
– Я спрашиваю, лейтенант, что это означает?
– Она – женщина.
– Как не заметить! Думаешь, не вижу, как она глазками в тебя постреливала? А ты уж и поплыл. Бабы – это нормально. Но прежде всего для нас – интересы дела. Не забывай: мы – следаки.
– Мы – офицеры! И не можем опускаться ниже городской канализации!.. Я точно не смогу, – Мороз потупился. – Андрей Иванович! Я тебя очень уважаю. И дело раскрыть хочу…Но если иначе нельзя, прошу освободить меня от работы в группе.
– Даже так? – Андрей, готовый взорваться, разглядел что-то, что удержало его. – Допустим, я тоже иногда вспоминаю, что офицер. И что отсюда вытекает? Да что ты себе в самом деле навоображал? На нее ещё пять лет назад по делу Котовцева опера установку делали! Искали источники, откуда у девки, которая за два года до того занимала на джинсы, появились вдруг дорогие побрякушки. Узнали, откуда. К престарелому Слободяну, своему шефу, на содержание пошла. При живом-то муже. Офицере, промежду прочим! И, что всего паскудней, на денежки того же Слободяна еще одного дружка припасла. Здесь пробы ставить негде! Почему она на меня кидается? Потому что тряс её, как грушу. Садовая – последний, единственный шанс выйти на Слободяна и всю эту шоблу! И выбор на самом деле прост: либо дожмем ее и двинемся по цепочке дальше, либо – закроем к чертовой матери дело и разбежимся пивка попить. Зато все из себя при офицерской чести. Так что? Отпустить? Только живо. Да? Нет?
– Да. И – прекратить это смердящее венерическое дело.
Тальвинский обескураженно потряс головой.
– А знаешь что? Мне все это тоже порядком надоело. Сам иди и – отпускай. Гони эту прошмандовку к чертовой матери! Раз тебе дело наше не дорого.
– Спасибо, Андрей Иванович!
– М-да! Хороший ты парень, Виталик. Кивер бы тебе, на коня и – в атаку. А вот станешь ли настоящим сыскарем, это я теперь крепко сомневаюсь. Все! Езжай с глаз моих в ИВС. Давно пора Воронкова освобождать.
Мороз вывел заплаканную женщину из отдела.
– Досталось тебе из-за меня? – Марина оторвала от лица перепачканный тушью платок.
– Бывает и хуже, – буркнул Мороз. – Андрей Иванович, он тоже такого не хотел. Просто – дело это для нас очень важное. Вот и сорвался. Да полно рыдать. Насчет венерического материала тоже, считай, уладили, – похерим. Мужу можно ничего не говорить. Все-таки семья.
– А семья, как известно, – ячейка общества, – Садовая странно посмотрела на него. – Дурачок ты еще. Хотя – очень необычный. Такая вещь в себе. Она потянулась погладить. Мороз с непроизвольной брезгливостью отшатнулся.
– Что ж, не навязываюсь, – по лицу Марины пробежала тень. – Прощайте, следователь по венерическим делам Мороз. Руку не подаю, дабы не заразить.
Садовая сбежала с крыльца под моросящий дождь, даже не раскрыв болтающийся на руке зонт.
3.
Спустя сорок минут после отъезда Мороза к Тальвинскому вошел мрачный Чекин:
– Что по Воронкову?
– Все по плану. Мороз уехал в ИВС. Проинструктировал его детально. Постановление об освобождении, подписанное мною, у него на руках. Так что не переживай: выпустим и сегодня же закроем проблему.
– Сие теперь не факт.
– То есть?!
– Галушкин опять пыль поднял. С утра в райком сиганул за подмогой.
– Заноза старая! – выругался Тальвинский.
– В общем он в жилу попал: в райкоме на Воронкова этого с его публичными взбрыками насчет партноменклатуры давно зуб наточен. Те надавили сверху на Берестаева. Звонил он только что. Едет срочно в отдел. Требует готовить постановление на арест Воронкова.
– Арестовать по фуфловому делу? Без доказательств?! – не поверил Тальвинский. – Он что, опять надрался?
– Запаха по телефону не уловил. А насчет доказательств, так не тебе говорить: если уж арестует, так, протрезвев, что-нибудь, да найдет, – Чекин потеребил нос. – Так что отзывай быстренько Мороза из ИВС. Приедет Берестаев – кину ему материал в морду: пусть сам арестовывает. Я в эти игры не играюсь. Пацана вот только – Воронкова – жаль. Они-то, молодые, все эти игрища в перестройку всерьез восприняли. Теперь ею досыта и накормят.
4.
Виталий Мороз покачивался на стуле в кабинете для допросов Изолятора временного задержания и с возрастающим любопытством вглядывался в возбужденного парнишку напротив, одетого в то, в чем задержали: тонкого сукна клетчатый пиджак, алая, явно не из нашенских магазинов рубаха, полированные пластины итальянских ботинок. За два дня валяния в камере все это подмялось и выглядело несвежим. Но парня это, похоже, не смущало. Конечно, волнение и некоторая оторопь проступали. Странно было бы иначе. Но страх, если он и был, тщательно скрывался под самоуверенной манерой держаться. Будто находился он не в зловещем ИВС в ожидании ареста перед человеком, от которого, быть может, зависит судьба, а отчитывал нерадивого подчиненного.
« Без комплексов мальчуган», – подметил Мороз. С уважением и удивлением. Потому что предположить такую силу в коротконогом низкорослом пареньке с круглым, будто головка сыра, личиком победителя школьных олимпиад вряд ли смог бы и хороший психолог.
«Вот на этом Галушкин и прокололся», – сообразил Мороз, вслушиваясь в то, что не говорил, – «гвоздил» Воронков.