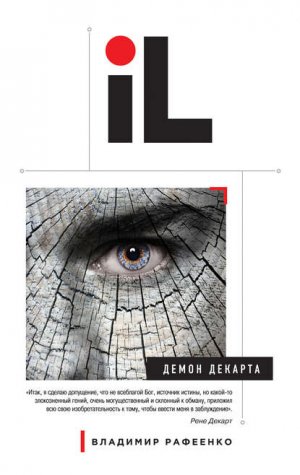
Интродукция
Как хорошо за городом! Особенно в солнечный полдень. Ивы стоят по колено в небесной воде, и солнце так отражается в них, что даже аистам, вышагивающим на мелководье и без умолку тарахтящим по-египетски, не по себе от щедрой тяжести грядущего лета. И хорошо, что аисты не атеисты. Ибо сезон требует веры. Весна удивительная в этом году. В ней всего довольно: и жарких, стремительно плавящихся дней, от которых, как от тела девственницы, кружится голова, и холодных порывистых ветров, с утренними заморозками и ночными снегопадами, косо секущими все пространство от Киева до города Z.
Томительны и неуверенны вечера, мерцают холодные сквозняки, дрожит свеча. Хрустящая корочка наста, запах пропеченного хлеба, висящая головой вниз незадачливая, но прекрасная кряква. Натюрморт с уткой. Жан Батист Шарден. Огонек мерцает в окне. Пес на цепи. Месяц играет мизер. Хозяйка угощает заезжего охотника. Ранним утром он выйдет с ружьем. И пойдет. Свистнет сотоварищей. Зальются лаем борзые. Выпадет снежок. Маслом по дубу. Охотники на снегу.
Будет пахнуть мокрой землей, навозом и лежалым сеном, прелым прошлогодним листом, мышиными норами, вязкими клейкими почками, проснувшимися на тонких и мокрых ветвях. Неслышно летит горькая паутина запахов. Туман. Свежие тонкие полоски снега на теплых ветках плодовых деревьев. По стволам катятся легкие волны грусти и нежности. Лед хрупок и красив.
Такая весна.
И никак не желают таять снежные холмы по обочинам дорог, у будок стрелочников, у опорных колон мостов и у портиков храмов. Кое-где намело до самого архитрава, не пробиться жрецу, не пройти туристу, не рассмотреть колонн, не реставрировать коринфскую капитель. Только ходить вокруг да около. Плакать и пить. Пить и петь. И плясать придуравошно с гиканьем и хлопаньем, с прибаутками и закличками! Призывать весну! Входить в нее, как в женское лоно, рывками, сцепив зубы, до отказа, насыщая это лоно сбивчивым синтаксисом, скверной пунктуацией, путаной рифмой и приблизительным смыслом. Весна все спишет!
Не тает снег у понтонов, в зарослях камыша и орешника, у заячьих и волчьих нор, в сизых намерзших за зиму буграх льда у плотины и в темных оврагах, глубоко разрезающих землю у самой реки. Звучит лед и гудит земля, как колокол, изумляя монахов и ювенильных пауков нотою «до» первой октавы. На холодных жаровнях тающих луж плавится ванильный виноград медленно кружащихся в небе сливочных облаков.
После жаркого, почти летнего дня на город Z и его предместья налетает северный ветер. Он хлещет хутора, поселки и стекла одиноких усадьб ледяными весенними струнами, гремит черепицей, выстуживает подъезды и дворы, придорожные закусочные, высокие, пустые, как храмы, рощи. Несет облака. Ветер кружит вокруг стогов сена, изъеденных за зиму козами, коровами, бесами. Бьется в зеркала глубоких прозрачных ручьев, в щели курятников, в стекла оранжерей. Рвет пленку с теплиц, заставляет собак сворачиваться в будках колечком, а кошек – прыгать на колени хозяевам.
Трещит флюгер, скрипит калитка, бьется мелочь в кружке у нищего, пытаясь взлететь. На косой деревяшке скрипит старое пугало, машет птицам, просится ввысь. Наступает ночь. Хуторские дети, дальнобойщики, офицеры и сержанты дорожной полиции, проститутки и люди, не имеющие где главу приклонить, торопящиеся домой горожане и спешащие из города фермеры – все находят место, приуготовленное для них. Наполняются мотели и бары, подвалы строящихся домов и гулкие тоннели городских теплотрасс, гостиницы и морги, автобусы, троллейбусы, подземные переходы, вагоны метро.
И последняя электричка, холодный зеленый циклоп, мчит в ночи – сквозь косо летящий снег, – освещая грядущую жизнь жарким и влажным глазом.
Часть 1 Мраморный утенок
Сотворенному уму никогда не избыть тайн непостижимых.
Ум бунтует против этих уз: но бунтуй не бунтуй, а уз таинственности не разорвешь.
Святитель Феофан Затворник
«За городом просто охренительно, – так начал бы эту историю любой, кто смыслит хоть что-то в загородном отдыхе. – Здесь – ах! ах! – дышишь до изнеможения, до боли. Здесь поля и пруды!» Именно здесь утка Гретхен, типичная фрау птица с немецким сильным характером, сидела на яйцах. Обычно невзгоды по высиживанию она переносила стойко, но к концу этого весеннего месяца внезапно затосковала. Уж очень хотелось ей поплавать всласть, размяться, проехаться широким животом по жирной глади озер. Старовата она стала для этой работы. И уткой быть подустала, и трудилась в жизни много. Впрочем, труд так и не сделал из нее человека.
Но зачем же еще мы приходим в эту жизнь, как не всласть посидеть на яйцах, уготованных нам судьбой? Что бы ни писали в газетах, дело есть дело! Как говорится, сначала арбайтен унд дисциплинен, майне зольдаттен , а потом все остальное. И, несмотря на усталость, Гретхен сидела.
И вот наконец-то полезли утята. Фрау птица придирчиво осматривала каждого и в целом оставалась довольна. Только одно, самое большое, яйцо продолжало лежать в гнезде. «Бросай его, сколько можно, – кричали птицы усадьбы. – Оно не твое! Брось! Прокатись брюхом по жирной глади озер! Донырни до темной их сердцевины! Рассмотри тени, пугающие и дразнящие!»
Гретхен глядела, как колышутся травы, как солнце катится по вогнутой тверди неба, провожала темным взглядом счастливых подруг. За ними шлепали по воде ловкие пушистые шарики. Фрау без зависти смотрела на комочки утиной плоти, предназначенные для какого-то пока еще неведомого Рождества. Гордо поведя головой, оставалась на месте. Птица была строга к себе. «Буду сидеть, если понадобится, до самого Армагеддона», – думала она. Даже в мраморном яйце есть свой утенок. Благословенна мать, высиживающая его.
Звенели клены и тополя, наливаясь соками и светом. Сновали муравьи и мыши, стрижи и чайки. Вольный простор утопал в бесконечности весенней благодати. Стоял теплый субботний полдень, когда наконец-то это свершилось. Самое большое яйцо фрау птицы дало трещину. Четкая линия разлома однозначно и бесповоротно перечеркнула синевато-белую поверхность. С шумом и шипением, с жалобным стоном яйцо раздвинуло пространство, имя которому жизнь.
«Вот и ты», – сказала утка, подслеповато щурясь на то, что показалось из темной паркой щели. Разводя руками черноватые тени небытия, из яйца, приглушенно матерясь, выбирался Иван Павлович Левкин. Отплевываясь от липкого и скользкого, он с омерзением рассматривал ладони, покрытые белковой жидкостью, ошалело глядел на слепящий весенний свет, ломал острые края скорлупы, ускоряя освобождение.
«Да что ж это такое?» – прошептал он, выбравшись наружу, разглядев наконец-то старую утку у своих ног и необозримые пространства вокруг. Иван был удивлен, но главным образом – испуган. Бессмысленный ужас происходящего переполнял его. Жутчайшее страдание пролегло по разломам артерий и вен. Организм болел, испытывал тошноту, существование томило злобой нового дня.
Подрагивающими руками ощупал пиджак, куртку, брюки… «Ох!» Этот вздох свидетельствовал о том, что нашелся бумажник. Он вытащил из внутреннего кармана то, что было когда-то паспортом. Обложка пожелтела и побурела, строчки расплылись. В раскисший документ был вложен билет на самолет. Летательный аппарат должен был двигаться из Киева в город Z. «Киев – мать городов», – машинально сказал Левкин. Билет был еще менее пригоден к использованию, чем паспорт. Даты отсутствовали, фамилия пассажира тоже, часть билета превратилась в скользкую желтоватую кашицу.
Но, с другой стороны, бумажник был цел. Слава богу! Отчего-то из всего происходящего чудом казалось только это. Внезапно в затылок острым углом вступило окружающее пространство. «Мама», – проговорил он невольно и взялся за голову. «Да, сынок, – сказала фрау с отчетливым немецким акцентом, – да. Понимаю. Нужно поплавать, понырять, вглядеться в темную суть наших озер». – «Извините», – ошарашенно проговорил Иван Павлович. Согнулся, наклонил голову к жирной птице у своих ног. Перед глазами тут же пошли круги, захотелось одновременно попить и помочиться.
«Ничего, – степенно произнесла утка, встала с гнезда, почистила перья плоским оранжевым клювом, – не дергайся. Ты вот что, мальчик, искупайся и покажись на глаза людям. Без этого ты просто сойдешь на нет. Станешь мертвее мертвого. Натюрлих. Понял меня, милый?»
Иван с тоскою вгляделся в утку. Ноги и руки дрожали. Поминутно озираясь по сторонам, Левкин норовил присесть пониже, чтобы слышать голос мамы-утки как можно более отчетливо. «Не садись, не пугай меня! Ты отвратительно громадный! Встань и стой! – Утка громко крякнула и гордо расправила крылья. – Иди в воду и начинай жить! Vivamus, mea Lesbia, atque amemus , что значит будем жить и любить, моя Лесбия !»
«Лесбия?!» – Иван на всякий случай коснулся причинного места. «Вот озеро! Озеро, мальчик! Время идет, а ты ужасен!» – «А что же дальше?» – Левкин не переставал с томительной тоской оглядываться вокруг. «Да ладно тебе, – мотнула головой фрау птица. – Пошел в озеро, пошел! Как коньяк жрать, так ты не спрашивал, что дальше! А именно сейчас отчего-то забеспокоился. Невротик, мать твою. Пошел! Будет видно, что дальше. В озеро! Brevi manu , что значит быстро, млять , и без проволочек !»
В теле нарастал зуд. Действительно противно, утка-мать совершенно права. «Несомненно быстро, – проговорил Иван. – Разумеется, без проволочек». Осторожно переступив через Гретхен, бросился в воду. Поплыл, периодически ныряя, отдуваясь, хрипя от восторга и натуги. Вокруг расходились волны, будто видимые сигналы невидимому. Дрожала ряска. Мерцали неясные отражения в глубине пруда. Качалось в воде высокое небо с быстро набегающими тучами.
«Что-что высидела глупая немка, – оглушительно орали птицы, – что-что высидела старая дура?!» – «Что за урод, – орало воробье, – урод, мать его! Гребаный урод!» – «Не кра-кра-красифффф, – вынес приговор грач, – фтопку фертика!»
«На себя посмотрите», – посоветовал Иван Павлович, стараясь не сбиваться с ритма. Раздался оглушающий хлопок – в воду прыгнула жаба, едва-едва оправившаяся после зимней спячки. Пошли круги. Истерически заорал грач в орешнике. Подул ветер, зашумели деревья. Двадцать метров туда, двадцать обратно. В голове прояснялось. «Однако холодно», – проговорил Левкин, отплевываясь от тины. Холодно, страшно холодно. Намокшая куртка, пиджак, брюки, сорочка с галстуком тянули ко дну, вызывая потерю настроения. В два-три широчайших взмаха Иван преодолел расстояние до берега – и вот уже торжествовал высадку в зеленейших травах, кое-где покрытых грязноватым снежком.
Пока плавал, горизонт закрыли тучи, закапало, загремело. «Решительно действовать, – сказал вслух, – иначе никак». Поправив на шее потемневший от воды бежевый галстук в крупную черную клетку, пошел вперед.
Справа и слева возвышались хозяйские постройки. Узкий мелкий залив, являющийся частью дворовой территории, был наводнен птицами, собаками, свиньями. Свиньи ради шутки пытались съесть индюка, тот с этим согласен не был. Кричали утки, гоготали гуси. Визжали кошки. Лаяли псы, радуясь непогоде и общему бедламу. Все, в сущности, были очарованы первым весенним громом и теплым дождем, шумно переговаривались между собой.
Иван стал событием. «Что за гадкий, Гретхен, что за гадкий у тебя вылупился Иван Павлович?! Что за гадкий! Гадкий, гадкий Иван Павлович, гадкий!» – «Не ваше дело», – равнодушно отвечала фрау птица, тяжело переваливаясь, вышла из воды и пошла к птичьим кормушкам, наполненным почти до половины. «Сука, сука, – задорно трещали сороки, – сука, немецкая сука! Зачем привела урода?!»
Иван, оглядываясь на веселых дворовых собак, несколько раз стукнул в окно. Никто не ответил. Подошел к двери. Остановился. Опять нащупал бумажник, посмотрел на него, улыбнулся, как старому другу, проверил наличие денег. Деньги были.
«Мальчик, – громко сказала утка за его спиной, – Ваня!» Повернулся и в неизмеримом ужасе прислонился к стене дома. Неправдоподобно громадная Гретхен стояла перед ним, переступая с лапы на лапу, смотрела темным взглядом. Яснее всего Иван видел оранжевый клюв и все свое внимание зачем-то сконцентрировал именно на нем.
«Не бойся, глупыш, это мама». – «А я и не боюсь», – проговорил Левкин и едва не разрыдался от ужаса. «Слушай, Ваня. Ты, конечно, в городе все забудешь, но постарайся запомнить следующее… – Утка подняла правое крыло. – Во-первых, будь осторожен на заводе. Соблюдай технику безопасности. Употребляй кефир. Не стой под стрелой. Слушай гудки локомотивов. Не пей с Петренко. Во-вторых, найди лемура, как найдешь, бегом ко мне! Ты задержался у нас, тебе пора куда подальше».
Кружилась голова. Иван почувствовал, что его может вытошнить в любой момент.
«Но без лемура никак, милый. Подумай также о том, кто таков демон Декарта. В борьбе с ним – твой шанс стать реальным Иваном, сверх-Иваном и суб-Иваном».
«Вы что-то перепутали, – трясущимися губами выговорил Левкин, – лемуры? Я вообще не знаю, кто это». – «Тогда тебя сожрет демон, – доверительно сообщила утка. – Впрочем, я свое дело сделала, дальше – как знаешь. А теперь вперед, а то замерзнешь!»
Потянув на себя массивную железную рукоятку, поднимающую щеколду на обратной стороне двери, Левкин проник внутрь. В изнеможении прислонился к двери. Увидал старую тяжеловесную мебель. Чуть кривовато висящие часы с гирьками отмеряли время. Кирпичные нештукатуреные и небеленые стены. Уют, пахнущий печным чадом. В большой печи старинной кладки лениво тлели покрывшиеся пеплом угли.
«Извините, – сказал Левкин, – извините. Кто-нибудь!» Но его никто не извинил, дом был пуст. С минуту потоптавшись, Иван, тяжело вздыхая, разделся и развесил одежду на двух скрипучих стульях у огня. На лавке отыскал полотенце и вытерся досуха. Присел у стола на грубо сколоченный табурет. Попытался сообразить, что нужно предпринять и что в мире не так. А все буквально было не так. В голове холодным огнем кипели мысли и воспоминания, причем все до единого идиотские. Однако им следовало верить.
Иван ясно помнил, что является уроженцем города Z и мужчиной. Последнее уверенно подтверждалось особенностями строения тела. Откуда-то было известно, что Левкину сегодня нужно явиться на работу в газету с тревожным, глубоко масонским названием «Звезда металлурга». Этот инфернальный листок выпускался метзаводом Z для создания понтов и поддержания корпоративного духа. Иван призван был стать там главным редактором.
«Сегодня, между прочим, первый день работы, – сказал себе Левкин и мрачно покачал головой. – Ужасно, что он начался, а я не на месте. Просто ужасно. Что сказать заводскому куратору, если мы когда-нибудь встретимся? Не мог успеть вследствие крепости скорлупы?»
Иван Павлович оглядел руки, ощупал лицо и ясно понял, что ему сорок лет или, в крайнем случае, около того. Молодость могла бы и не уходить, но что поделаешь – она ушла, оставив мочекаменную болезнь и какие-то проблемы с родителями, решить которые только еще предстояло. «Мама, папа, – проговорил Иван Павлович, наморщив лоб. – А в чем, собственно, дело?
Марк, – проговорил Левкин, – Марк Ильич». То ли недруг, то ли друг. То ли белка, то ль петух. Может, чей-то родственник? Кто-то еще? Участковый инспектор? Похоронный агент? Это еще предстояло вспомнить. Был звонок от него. Или письмо? Посылка? Телеграмма? Кардиограмма? Что-то определенно было. Вот в чем дело. Иван лихорадочно растер ладонями лицо, чувствуя, как в медленно согревающееся сердце возвращается горечь и недоумение. Родители скоропостижно скончались.
Это было непонятно. Иван Павлович не был медиком, но судил так, что скоропостижно скончаться может кто-то один. И обычно люди перед этим долго болеют, во всяком случае, о них как-то заранее становится известно, что смерть близка, что она возможна, ходит неподалеку кругами, напевает песенки, зовет в утробу бытия: «Тра-ля-ля, тру-ля-ля, бум-ц, бум-ц, кви-си бум-ц». Но его родители (если они вообще имели место быть) наверняка были людьми здоровыми, жизнерадостными, никогда не болели, жили в относительном достатке и спокойствии. И тут вдруг скончались, да еще и одновременно. Ромео и Джульетта какие-то, прости господи. Две знатные фамилии давно в провинции шахтерской обитали.
«Может быть, – подумал Иван, – их убил ужасный демон Декарта, который угрожает теперь и моей жизни? Демон города Z?! Провинциальный Z-Демон?!» Иван не помнил точно, что может значить словосочетание «демон Декарта», и представил себе длинного, как железная дорога, худого беса в полосатом европейском костюме, стоящего с расставленными в стороны руками как раз посреди Z-степи. Попробуй убечь от него! Ни за что не сбежишь! Схватит в охапку и забросит в тартарары. Скоропостижно и уверенно. Вот и родители его, видно, не убежали, что печально.
«И никого у меня нет, только утка-мать», – проговорил Иван Павлович. Горько усмехнулся, на глаза навернулись слезы. Он так спешил на похороны, но вот не успел. И непонятно отчего. И вылетел вовремя, и летел как надо. И кто Левкин такой вообще? Кто таков? Иван Павлович закрыл глаза, зашептал что-то невнятное, обхватил голову руками.
Левкин помнил взлет, миниатюрные домики, бесконечные реки, квадратные разноцветные поля и облака под крылом самолета. Стюардесса предложила скудный сиротский завтрак, который Ивану не понравился, от него за версту несло разогретым пластиком и мировым финансовым кризисом. А вот бедра стюардессы показались очень даже симпатичными. Он так ей и сказал. Правда, по обыкновению, еле слышно, шепотом, осознавая всю смехотворность этого мимолетного, хотя, безусловно, искреннего и глубокого чувства, упрямо крепнущего с каждой минутой.
«Милая-милая-милая, бедра твои! Кому ты их несешь? Капитану воздушного судна (вопросительный знак с последующим восклицательным). Напрасно (запятая) детка. Смотри, он красит волосы. Он извращенец (запятая, а может быть, и тире) он мечтает стать космонавтом. Брось его. Приди ко мне, сядь на жезл, пронзающий время. Скажи томное «о» злыми губами своими. Некая ось так упоительно трепещет в моих немецких штанах, ибо я редактор, корректор твой. Я птица, которая умре, одинокий больной лингвистический нонсенс, человек, попавший в янтарь».
Но было не суждено. Главным образом потому, что самолет не долетел до Z. Облачность, грозы, гром. «Весна, – грустно сказала девушка с изумительными бедрами. – Будем или падать, или снижаться». – «Как падать, – заорал народ, – мы не согласны, у нас билеты!» – «У всех билеты, но долетают не все, – разъяснила ситуацию стюардесса. – Освободите карманы от острых вещей, дабы не вонзились в мозг при паденье болида. Ноги выпрямите, головы суньте между колен. Это успокоит и навеет мысли».
Сели в каком-то южном русском городе, возможно, в Таганроге. И было непонятно, почему именно здесь. Но, вероятно, в других местах тоже грохотала весна. Полет должен был занять час двадцать, но реально занял некую часть жизни. Возможно, лучшую.
«А где же я был до этого, – подумал Иван Павлович, глядя на капли, барабанящие по оконному стеклу. – До «Звезды металлурга», яйца и утки? До усадьбы и пруда?! До самолета где я был?! Ах да! Билет из Киева. Значит, Киев».
Точная биография невосстановима. Это-то Иван Павлович понимал отчетливо. Следовало двигаться на ощупь, предполагая, анализируя, экстраполируя и надеясь. Ну что там могло быть? Учеба, работа, женитьба? Развод, пьянки, больницы. Работа, работа, работа.
Пожалуй, как-то вернулся в Z, выдержал месяц и снова сбежал. И чем суетнее, тем несчастнее ложились на душу спиртные напитки, поцелуи женщин, киевское высокое небо, синие горы и зеленые воды Днепра. «Хорошо, это хорошо, – проговорил Иван. – Особенно вот это: «Чем суетнее, тем несчастнее». Да-да, так, видимо, и было. Все суетнее и несчастнее! Очень трогательно, млять. Синие горы и зеленые воды Днепра».
Жизнь в столице была не для него. «Как, в сущности, и жизнь вообще, – уточнил про себя Левкин. – Не для меня, – сказал Иван, – придет весна и Терек, volens nolens , разольется». Но в любом случае в провинцию возвращаться было страшно. Гораздо страшнее, чем хотелось бы. Так он и умер бы где-нибудь на Андреевском спуске, хватаясь за сердце, проклиная янтарь, судьбу и скверное здоровье, если бы не Мрак . Этот носитель множества лиц поставил жирную точку в печальной и смешной повести, перепачканной слезами, соплями и, чего греха таить, пятнами майонеза. Иван обожал «Провансаль» и телевизор.
Да уж, последние месяцы жизнь Ивана Павловича была нехороша. Он стал замечать, что мироздание к нему не благоволит. Чувствовал, что время и пространство пытаются его из себя извергнуть, переместить по строке, причинить двойное тире, сугубо вынести за скобки, а возможно, и дать сноской: «Такой-то умре и погребен такого-то числа в слепящий полдень».
И никого на могилке одинокого И. П. Л. Только ветер и солнце. Только годы жизни на некрашеной фанерке да оплавленная солнцем конфета «Стрела» в темно-золотистой фольге – своеобразная дань оригинальности умершего. В пластиковом стаканчике печально накренились сто граммов водки. Они предназначены как бы даже не самому человеку, а его душе, которая, согласно марксистской мистической традиции, после смерти нуждается не в молитве, но именно в небольшом количестве водки и двух-трех конфетах.
Повсеместно для этих целей используют конфеты системы карамель, которые в сочетании с теплой водкой сами по себе способны свести в гроб кого угодно. Тем не менее без водки и «Рачков» душа человека, родившегося в этих тенетах, не в состоянии перейти границу, пролегшую между жизнью и смертью.
Разлучившись с телом, душа не верит в это. Бродит между родственников, рассматривает, трогает за локти и зубы, залезает пальцами во рты, извергающие в мир потоки тоскливой благостной мути, дергает покрытые беловатым налетом языки. Тщетно. Окружающие мертвы. Но только после того, как все направятся к автобусу, водитель которого прогревает мотор на центральной аллее кладбища, умерший вдруг осознает, что не сможет вместе со всеми поесть горячего жирного борща с мясом.
И тут уместными как раз оказываются оставленные на могилке стаканчик водки и две-три конфеты. Невидимый садится на свежую землю, которая под ним не подминается, берет пластиковый стакан и пьет, в одночасье сильно хмелеет, но водки в стакане не становится меньше. А съеденная карамель, застрявшая между зубов приторными рыхлыми кусочками, опять лежит у креста. Очень, кстати, удобно. «При жизни бы так, – думает он машинально, – сколько денег ушло на водку да на, мать их, «Рачков»!
Левкин закрыл лицо ладонями. Он с легкостью мог перечислить всех, кто появился бы на похоронах. До мельчайших подробностей знал, о чем говорили в небольшой, но разношерстной толпе. Две-три слезы обнаружила полуженщина-полурыба. Остальные, как говорится, честно въезжали в тему. Впрочем, и веселья особого не было. А чего радоваться? Травы никто не курил, а тащиться за город на кладбище невесело. Не забавно стоять под веселым и хлестким ветром, комкать шляпу, делать задумчивый вид. Неприятно ступать добротными европейскими ботинками в весеннюю украинскую грязь, разбивать в лужах отражение неба, щуриться на яркое солнце, под сурдинку видеть сны о долгах, о работах, о том и о сем. С недоумением изучать портрет Левкина. Не верить, что этого чудака больше нет на свете, и хмыкать недоуменно, все хмыкать и хмыкать. А потом пить водку, хлебать горячий борщ и думать, что, слава богу, перед смертью не мучился, не болел.
«Да и не умирал вовсе», – сказал Левкин, – сумрачно глядя в слезящееся каплями окно усадьбы. Нет, не умирал! И не хоронили его в этой могилке, потому что Иван не позволил бы себе покинуть тело, отправившись в неизвестность, не проверенную через словари, через перекрестные ссылки, не заявленную в библиографических каталогах. Левкин терпеть не мог сносок, эпитафий, списков использованной литературы, а также ссылок на иностранные источники, которые нельзя было проверить через Интернет.
О, как он не любил сноски в текстах, особенно переводных! Их нужно было не только перепроверять, необходимо было вникать в суть дела. А эту суть часто даже сам автор понимал плохо. Не говоря уже о тех случаях, когда сноска ставилась не автором, а вообще неизвестно кем. Болваном каким-то! Переводчиком, первым редактором, который сидит в своей Баварии, мерзавец, пьет пиво и ни хрена работать не хочет.
Тексты Ивану присылали по электронной почте. Они представляли собой скверно переведенные на русский язык книги, из которых только предстояло слепить что-то более или менее сносное, что-то такое, за что ему, как редактору, и издательству, желающему это выпустить, будет не очень стыдно. Стыдно, но не очень. В меру. С легким румянцем на лице. Издаем, раскрасневшись. Репринт. Вольный пересказ. Полезные знания для наших людей. Свежие книги СНГ-народам. Тексты наши, нейроны ваши.
Но вот с какого-то момента в присылаемые из издательства материалы стали закрадываться дивные опечатки. Через время Иван был вынужден признать, что ошибки эти, а скорее, вставки в текст совершенно не случайны, а, следовательно, намеренны. Некоторое время Левкин, захваченный атакой текстов на середине жизненного пути, не предпринимал ничего.
Но вот пришел день, когда в рукописи по истории французской кулинарии девятнадцатого века ему встретились, в частности, такие фразы: «Левкин – мертвый труп», «предатель своего народа Иван Павлович умер», «умерший Левкин, дохлая утка» и «проклюнься, Левкин, в яйце сущий». Там было много чего еще, но Иван в первую очередь обратил внимание именно на эти. В них говорилось о смерти, а это уже можно было расценивать как недвусмысленную угрозу жизни и здоровью.
Трезво взвесив варианты, Иван предположил, что кто-то там, в далеком головном офисе, возненавидел его и поставил себе целью вывести Левкина из себя, морально уничтожить, измучив зловещими намеками и полунамеками. Неизвестный недоброжелатель холодной расчетливой рукой мечтал разъять ему мозг, насильно остановить дрожание живых и ранимых нейронов, выпить немногую кровь, причинить раннюю смерть в виде самоубийства.
Иван купил бутылку коньяка, нарезал два лимона тонкими, просвечивающимися на солнце ломтиками, посыпал их сахарным песком и, смакуя тяжелый сладковатый напиток, написал местами гневное, а местами и язвительное письмо. Вложенным файлом Левкин отправил в головной офис имеющийся у него текст по истории французской кулинарии девятнадцатого века, предварительно обработав соответствующим образом те самые фразы. Залил их в текстовом редакторе красным цветом и прокомментировал каждую.
Выполняя эту довольно объемную (фраз было много) и скрупулезную работу (Иван давал отповедь на каждый выпад), Левкин чувствовал некоторый подъем как душевных, так и физических сил. После особо удачных пассажей он победительно выглядывал в окно, из которого был виден Днепр.
– Так их, Ваня! – говорил он. – Так их, пся крев!
Обратно к нему пришел доброжелательный, хотя и несколько настороженный ответ с точной копией того файла, который в свое время направлялся ему для работы. И в этом файле не было никаких таких фраз. Шел чистый текст без чужеродных вкраплений. И фамилия «Левкин», кстати, там не встречалась ни разу. Ответственный редактор Жарден отписал в том духе, что понимает, как это неприятно и все такое, но лучше бы Иван Павлович поинтересовался у своих домашних, откуда в редактируемом им тексте появляются фразы, не имеющие отношения к делу.
«Это наверняка чей-то розыгрыш, – писал он. – Мы слишком ценим вас как старого и опытного сотрудника. Поверьте, никому в голову не пришло бы разыгрывать таким образом человека, который напряженно и плодотворно трудится в нашей издательской команде столько лет. Со своей стороны, тем не менее, выражаю сочувствие. Надеюсь, мы и впредь будем сотрудничать с вами, делая все возможное для как можно более качественного наполнения нашего издательского портфеля!»
В постскриптуме ответственный позволил себе заметить, что стиль левкинских комментариев кажется ему весьма любопытным и стоило бы, вероятно, Ивану Павловичу подумать о написании книги, в которой вот так бы легко, свободно и остроумно рассматривались те или иные аспекты современной постиндустриальной действительности.
Фразу насчет действительности Левкин перечитывал три раза. Говоря буквально, он никогда так и не смог взять в толк, что бы это могло значить конкретно. По его разумению, действительность в самом деле наличествовала. Неумолимо бытийствовала. Но не могла быть никакой другой, кроме как настойчиво непреходящей, мучительно желтой, стискивающей, напряженно довлеющей, как эрегированный член. Янтарной.
Левкин давно уже чувствовал себя половозрелым жуком в янтаре. Все застыло. Ничего не движется. Ничто не переходит ни во что, хотя и страстно желает этого. Кипение и рябь, наблюдаемые на поверхности мира, особенно когда Левкин смотрел на них из окон снимаемых квартир, не являлись действительностью. Они ее только прикрывали, манифестировали, возможно, адаптировали для . Действительность, кажется, нуждалась в этой ряби. Возможно, без нее человеку было бы еще хуже. Но она ею не была.
Янтарь, в котором застыл Левкин, был тягуч, невыносимо красив и переливчат. Первые годы своей жизни Иван рассматривал его изнутри, только пытаясь представить, как все это выглядит снаружи, и не мог. Не хватало времени, сил и сосредоточенности. Всегда что-то мешало.
Как сказать – что? Честно говоря, все. Одно и другое. Описанное, отрецензированное и отредактированное там и здесь. Имеющее аннотации, синопсисы, пояснения и ремарки. Пятое и десятое. Умолчания и гневные артикулы завистников. Упоминания в статьях доброжелателей и научных рецензентов. Сны и тревожные телеграммы: «Извольте заметить, что биквадратный корень – это корень четвертой степени какого-нибудь числа. Не пятой, не восьмой и не сорок четвертой, как указанно в книге, изданной вашим издательством под редакцией редактора имярек. С тревогой за науку. Такого-то числа такого-то года. Группа ученых, на хрену верченных, их предводитель Алоиз Альцгеймер и его подруга Деменция Сенильная. Желаем ответа. Требуем сатисфакции. Предлагаем виновному вырвать ноздри плоскогубцами комбинированными, переставными, пневмоаппаратами, плунжерами, плугами, плотномерами – на выбор. На желтой спине выжечь вольфрамовой кочергой теорию пространств Александрова, а также метод Перельмана для анализа потоков Риччи».
Прогнозы продаж. Письма с родины и из-за рубежа. Сомнения и надежды. Шумы и отголоски пережитых и вялотекущих болезней. Да, грамотному анализу бытия, прежде всего, препятствовала медицинская карта, на которой моря отсутствовали вовсе, а вот гор был полно, одна страшней другой. Масса низин и топких болот чередовалась с жирными, жалкими и жаркими пустынями. В мохнатых протуберанцевых лесах было страшней всего, ибо там жили семантические артефакты, добытые Левкиным из разноцветной пустоты, которая, в свою очередь, являлась порождением мерцающего смыслами информационного поля Земли.
В него Левкин был также неизбежно и надежно включен, как жук в тот самый янтарь, из которого выхода нет миллионы лет. Смерть Усамы бен Ладена и падение Тунгусского метеорита были в нем равны и конгруэнтны друг другу. Тот факт, что один из президентов Соединенных Штатов черен, как вакса, а саму эту мазь изобрели еще при Карле II и представляла она собой взбитое с печной сажей яйцо, разведенное в уксусе или в пиве, эстетически, логически и мистически дополняли друг друга. Биография Лавуазье была встроена в сознание Ивана Павловича на прочном фундаменте «Ватьсьяны Камасутры», а птица под названием Parus major каждое утро в течение долгих лет приходила к нему в мундире в образе отставного майора-железнодорожника. В подпитии он был уверен в том, что является тем самым пресловутым столяром, который сотворил из соснового чурбана человека.
Вместо того чтобы почистить зубы и помочиться, вычитать утренние молитвы или, на худой конец, проделать комплекс «Сурья намаскар», Левкин был вынужден садиться на кровати рядом с майором и гладить того по жесткой щетке седых волос, по заплаканному лицу, по плохо выбритым щекам. Вдыхать запах нечистых волос, водочного перегара, говорить что-то утешающее, приводить по памяти цитаты из Евангелий и Торы, «Алмазной сутры» и «Толкового словаря» Даля, Уголовного кодекса и «Геопоников», Византийской сельскохозяйственной энциклопедии.
И это ведь не все. Далеко не все.
Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг, прочел как-то Левкин у апостола Иоанна и заплакал. Но плакал он не оттого, что в его душе появилась видимость веры. Эта видимость была там всегда. Левкину, чтобы жить, наоборот, нужно было ее как-то умерять. Или, скорее, соизмерять с собственными возможностями, непростыми жизненными задачами, а главное – с реальными объемами жизни. Слова апостола о делах Иисуса, которые невозможно было вместить в мир, очень точно и очень горько указали на самую суть обстоятельств внутренней жизни Левкина. Она была невыносимо осложнена, преизобиловала частными мирами и отдельными величинами, постоянно и бесконечно умножающимися друг на друга, противоречащими друг другу, никогда не находящими покоя, но тем не менее рождающими радость. И вот эта радость порой бывала столь велика, что вынести ее Иван уже не мог. И тогда с ним случалось то, что случалось. И именно потому он и был тем, чем был. Левкин иногда думал о том, что, если бы кто-то попытался вместить в мир книгу его личных смыслов, тот бы раскололся сверху донизу, янтарная твердь разрушилась бы и наконец-то обнажилась бы позолота небес и дивные звери, стерегущие настоящее знание.
Кроме того, были же еще и так называемые социальные реалии. Преодолевая их, Левкин жил заказами, нигде в штате не числился, потому не отказывался ни от какой работы, если только она была связана с редактурой и написанием текстов. Время жизни стремительно уходило. Работы было все больше, денег все меньше. Янтарь становился все гуще. Он будто прилипал к рукам, и их приходилось старательно мыть. Все старательнее и старательнее. Желтое вещество бытия налипало не только на руки. Иногда, подчиняясь неведомым Левкину законам, оно выступало у него на затылке, темечке, медленно стекало абрикосовым вареньем на шею и грудь. И это было неуютнее всего. Приходилось себя контролировать, особенно на людях.
Женился Иван скоропостижно, на второй день после знакомства с полуженщиной-полурыбой, о чем не любил вспоминать даже наедине с собой. Да и что было вспоминать? Околдовала его сучья русалка, мавка, майка, нявка, нейка. В общем, как ни крути, типичная навь, численность которых на данных территориях с конца прошлого века непрестанно возрастала. Особенно много наутов обреталось в среде депутатского корпуса и властей предержащих, новых и старых русских, тюркских, турецких, еврейских, греческих, татарских, цыганских, украинских и молдаванских.
Ну что такое навь? Смерть, мертвое тело. Смотри готский: naus – «мертвец», а также, если уж снова возвращаться к полурыбе, то mawi – «девушка». Околдовал его наут, да не рассчитал степени погруженности Левкина в янтарь. Иван старался не вспоминать об этом, ни к чему. Что было, то прошло.
Но зато в памяти часто всплывал один из эпизодов общения с родными жены. О своей жене тогда он еще ничего толком не знал и продолжал верить в любовь с первого взгляда. Во всяком случае, с ее стороны. Это было уже время, когда город, люди, янтарь выдавливали его или скорее продавливали через действительность, как через крупное сито, измельчая и перемещая куда-то дальше в пространстве невидимого.
Но тексты тогда молчали. И окружающий эфир был чист. Так что тогда он был еще о-го-го – или, по крайней мере, уверял себя в этом. Да, Левкин повернулся к печке, протянул к ней свои холодные липкие ладони и усмехнулся. О-го-го ! Как говорится, телом и душой. Впрочем, скорее все-таки и-го-го . Так как желтое бытие неумолимо блуждало телом и мешало жить, как огромный речной слепень мешает жить лошади, уставшей после целой огромной жизни, наполненной разной «х», «у», «й», «н», «ей». Ей-ей, наполненной ею без меры!
Слепень– Messerschmitt точен, яростен и жужжит. Истребитель-перехватчик, палач, ангел, продлевающий жизнь. Он не сосет кровь, но вдувает в вены вещество бытия. Прямо в кровь попадают кусочки мистического янтаря, чрезмерного знания , желтоватой бездны, взыскующей смерти и любви. Лошадь в нашем случае – конь, усталый, грязный и заезженный конь в очках, с толстым, хотя и несколько коротковатым для любовных баталий пенисом и компьютерной мышкой вместо мошонки, пытается искупаться в чистых водах забвения. Но истребитель-перехватчик, ангел Вильгельм Эмиль, жужжит и бьет, как Вильгельм Телль. Он не дает вступить в эти воды, но тащит коня к родственникам жены. За поводья души и светских приличий. Тянет его за упавший хрен, набрякшие веки и соски, за скользкую разбухшую красную печень. Он шепчет ему: открой рот, Ланселот! Ибо чаша Грааля близка, а Гвенхуивар уже продает цветы в своей палатке!
Итак, они сидели в большом доме на берегу Днепра. Был полдень. Ожидание обеда. Жарко. Странная беседа взрослых людей, которые непонятно отчего внезапно вынуждены считать себя близкими родственниками. А им не хочется этого делать. И это естественно. С какой, в сущности, стати? Но, с другой стороны, закон прямо указывает на некоторую необходимость такого рода. Любовь же с этой необходимостью не согласна. Но тихо конфузится, по обыкновению, прядает ушами, поглядывая с мучительной тоской на грызущего слепня. В общем, ужасно. Кошмар, в сущности. Дичь первобытная, думал Левкин.
«Что вы скукожились, – спросила Левкина теща по имени Зина, – что вы так сидите, будто у вас геморрой?» – «Мама, оставь Ивана в покое», – лениво вступилась за мужа Марина. – «В самом деле, Зинаида, пусть сидит как хочет», – приветливо улыбнулась сестра тещи, Маргарита Тимофеевна Гудзь. – «Когда он так сидит, – пояснила Зина, анализируя свои ощущения, – мне хочется ударить его шваброй». – «Ну зачем ты так, – бархатно засмеялся тесть, снимая очки и отрываясь от газеты, – вполне нормальный зять. Только, на мой взгляд, ему стоит подумать о покупке новых носков».
«Да-да, – серьезно кивнула пышная Маргарита, – я согласна с тобой, Мишель! Носки без дырок на пальцах придают даже самому невзрачному мужчине неизъяснимый шарм. Возьмите себе это на заметку, Ванечка. Кроме того, никогда не вправляйте клеша своих брюк в носки. Создается впечатление, что вы сумасшедший. А сие неприятно, согласитесь. Другой человек, чужой, посторонний, не скажет, утаит от вас эти простые истины, но не я. – Маргарита вдумчиво оглядела всю фигуру Ивана Павловича. – И в самом деле, что вы так ежитесь? У вас температура? Неудобный пиджак? Может быть, у вас и в самом деле сфинктер болит? Запор? Простатит? Изжога? Не стесняйтесь, здесь все свои!»
Тесть посмотрел на Ивана поверх очков. «Да у него просто свитер под пиджаком спину натирает, так ведь, милый? – сочувственно проговорил тесть. – Свитер такой, кусается ! Он надел его на голое тело». – «А зачем ты такой свитер надеваешь на тело, когда идешь в гости, – спросила Гудзь, – ты же знаешь, что он кусается, так зачем его надевать?» – «Я тоже этого не понимаю», – фыркнула теща, встала с кресла, вышла на балкон отдышаться.
С балкона был виден сентябрьский Днепр. Внизу какие-то люди тащили лодки от поселка к заводи. В камышах сидело сто тысяч рыбаков. Они курили, ловили рыбу, пили водку. Над рекой стоял сизый туман и слышался надсадный кашель. Камыш упирался в небо – высокий, прямой, желтый и светлый, как слеза, которая дрожала в горле у Ивана Павловича невысказанной обидой.
Во время неспешной беседы близких родственников с упрямо молчащим Иваном янтарь разливался по телу последнего все гуще и гуще. Казалось, не пройдет и пяти минут, как он проступит на его одежде мутными желтоватыми пятнами. Левкин печально смотрел на свои носки и не видел дырок. Возможно, они были, спорить не хотелось. Но видно ему их не было.
Да и при чем тут носки, если из-под многослойного ногтя большого пальца левой ноги Маргариты Тимофеевны стекала и капала на пол густая янтарная струйка? Она растекалась у ее ног гладкой мерцающей лужицей, рябила, превращалась в тапок в форме зайца, в ночной горшок в форме гуся, в желтую, подрагивающую по каемке лепестков болотную лилию. Снова растекалась лужей. Набравшись густого колера зрелого сентября, янтарь принялся медленно взбираться по ножке стула, а потом и по ноге Маргариты Тимофеевны. Иван почувствовал приступ тошноты. «О боже, – проговорил он. Тесть и теща вздрогнули и с испугом посмотрели на него. – Боже мой!» – Левкин не в силах был отвести взгляд от янтаря, который деловито убирался под юбку перезрелой барышни.
«Зачем, – спросила Гудзь, – вы так смотрите на мои ноги? Это неприлично».
Сконцентрировав мысли на вчерашнем переводном тексте по содержанию и начальной дрессировке восточноевропейских овчарок, Иван отвел взгляд. Теперь следовало зафиксировать его на какой-то теплой осмысленной точке. Он решил посмотреть в глаза тестю, который был настроен по отношению к Левкину вполне лояльно.
Тесть по-своему понял обращенный к нему взгляд. «Выпьем?» Пить нельзя было ни в коем случае, так как алкоголь сводил на нет работу сдерживающих центров. Это Левкин понимал. Но он также знал, что, если срочно что-нибудь не предпринять, дело закончится плохо. Пить ни в коем случае было нельзя, но другого выхода не находилось. Нужно было или пить, или падать на пол, стучать по нему всеми членами своего организма, плакать и призывать на помощь некую группу матерей, обретающихся предположительно в Z.
Этого Иван Павлович, конечно, не желал. Он наверное знал, что ни одна мать на его зов не придет, не защитит, не поможет. Видно, матери рожают сыновей в мир не для того, чтобы выслушивать их гадкие пошлые истерики по поводу того и сего, пятого и десятого.
Да и кто бы, скажите, пришел на помощь к такому человеку? Никто. Разве только профильные специалисты. Но дело в том, что Иван знал о своих состояниях неизмеримо больше любого врача. Мог бы лекции читать студентам медицинских факультетов. Его опыта самонаблюдения хватило бы на две-три кандидатские диссертации. Но Левкина не прельщала слава Кандинского. И потом, не зря говорят: мол, не показывай на себе, дурная примета. Кроме того, Иван был убежден, что любая болезнь с некоторой точки зрения вовсе не болезнь. Как расскажешь обо всех перипетиях, светлых, пронзительных и счастливых моментах, которые выпали на его долю в качестве носителя, обладателя некоторого мучительного, но и счастливого избытка?!
Да, избытка! Об этом Иван был готов спорить с кем угодно. Никогда – ни в своем ужасном детстве, ни в еще более мучительном отрочестве, не говоря уже о более зрелых, вовсе уж инфернальных годах, – Иван не думал о себе как о человеке, обделенном чем-то. О нет! Он обладал избытком. Только этот избыток следовало вынести. Эта ноша требовала постоянных усилий. Но именно в эту секунду она потребовала алкоголя.
Левкин, улыбаясь одними слегка подрагивающими губами, повторял про себя мантру, заключающуюся в том, что восточноевропейское собако, покрытое шерстью животное, умеренно растянуто. Высота в холке для кобелей шестьдесят шесть (тире) семьдесят шесть сантиметров, для сук – шестьдесят два (тире) семьдесят два сантиметра (точка, точка, точка). Предпочтителен крупный рост, прост, клен и клест. Восточноевропейское умеренно растянутое собако имеет определенный тип сложения, а также некоторый костяк и мускулатуру, о которых Иван не помнил ничего.
Левкин взял в руки бокал густого терпкого коньяка. У тестя был отличный вкус. «Она скорее выше среднего роста», – проговорил Иван, чувствуя, как пищевод согрел первый глоток. Коньяк смешивался с янтарем, вступал в реакцию. Торжествовала выход, говоря образно, кипящая магма мозга, способная на многое.
«Кто выше среднего роста? – участливо поинтересовался тесть, по-светски присев в кресло рядом. – Если ты о Марине, то это не так. Она скорее малышка. При чем тут она?!» Иван внезапно хохотнул, сам неприятно удивившись этому хохоту. «Окрас чепрачный на осветленном фоне. Но глубокий чепрак не считается большим недостатком, – добавил он с большим удовольствием. – Это я с вами, – пояснил Левкин, заметив, что к их разговору прислушиваются дамы, – пытаюсь толковать на кинологические темы. Кинология, Михаил Эдуардович, – это наука о собаках. Об их выведении, дрессировке, но прежде всего – об их существовании на планете Земля. В последнее время меня заботит овчарка. Небольшое, покрытое шерстью собако, часто, к сожалению, суко. Иное, включенное в шерсть. По сути, нонсенс. Продукт направленных мутаций. Страшные вещи, Михаил Эдуардович, творятся под покровом культуры. Мы живем в мире уродов, порожденных уродами».
«Интересно, – кивнул тесть, – а почему?» – «Что, – не понял Иван, – почему?» – «Почему, – задумчиво повторил тесть, – именно со мной на кинологические темы?» – «А почему бы и нет? – Нежно глянув на тестя, Иван протянул ему пустой бокал и пальцем показал, сколько именно нужно в него налить. – Почему, собственно, не кинология? Или вы хотите поговорить о том, как мой свитер или сфинктер, а вернее сказать, свинктер под пиджаком в мелкую синюю клеточку натирает мне спину и кусается?! Давайте, я готов! – Он с трудом подавил очередной приступ мелкого убористого смеха. – Не стесняйтесь! Свинктер кусался, – продекламировал он нараспев, – сжимался, ломался, он сфинктером был, но не признавался! Или лучше о носках? Легко. Какие перышки! Какой носок! И, верно, ангельский быть должен голосок! Ангельский носок у вас, говорит, наверное, мохеровый, в Киеве трудно удивить плохими манерами!
Это, кстати, лисица вороне говорит. Старая сука, хочет выманить у птички, питающейся падалью, пищу, хлеб насущный, сыр, покрытый легкой соблазнительной плесенью. Стоит, падла, на задних лапах и языком вот так делает! – Иван показал, как именно. – Даже свинктером работает от азарта! Упс, упс, упс! И этот свинктер , заметьте, нигде ей не натирает, что еще раз доказывает вторичность любой так называемой реальности по сравнению с реальностью эстетической! Ведь глупо же, в самом же деле, предполагать, что натирающий свинктер , то есть мир, в котором он натирает, и является тем самым миром, в котором мы живем! Не может быть этого! Не верю!»
Иван выпил еще граммов семьдесят коньяку и замолчал, взволнованный открывшимся видением. Народ, притихший во время его монолога, ожил. Гудзь посмотрела на тещу. Зина, в свою очередь, глянула на Марину. Полуженщина покачала головой, одновременно пожала плечами, разведя руки в стороны. Как истолковывать этот жест, Иван так и не понял за то время, что они пытались жить вместе. Впрочем, периферией сознания Левкин уловил, что молодую жену происходящее скорее забавляет.
«Или, быть может, вы желаете поговорить о ляжках вот этой женщины? Нет?! Что вы молчите?! Да выберите же, млять, тему! – Иван прикрикнул на тестя, крепко о чем-то задумавшегося, и самостоятельно налил себе коньяку. – Выберите, Мишель, а не то провал, фиаско, фрустрация! Вам знаком термин «фрустрация»? Обман, расстройство замыслов, неудача, тщетное ожидание, короче, жопа. Жопа, кстати, не что иное как грубое, просторечное название двух человеческих ягодиц и милого, крохотного по сравнению хотя бы с вашим огромным мозгом, анального отверстия, сфинктера или свинктера , как мы договорились называть его в нашей теплой компании!»
В этот момент видение усилилось, обрело зримую форму. И даже звук, что вообще-то случалось нечасто даже после приема алкоголя. Увиденное заставило Ивана глянуть на тестя веселым, пронзительным, чепрачным на осветленном фоне взглядом и предположить: «А ведь именно это, то есть именно жопа, и привлекает вас больше всего в Маргарите Тимофеевне? Так ведь, Мишель? Когда наша Зина уходит, вернее, уезжает на свою идиотскую работу в институт, вы вступаете в половую связь с Маргаритой, а если быть более точным, даже не с ней. Она сама по себе вас никогда не привлекала в этом смысле. Ваша жена может быть спокойна, вы ей верны. Ведь вы вступаете в половую связь именно со свинктером , который неизвестно что еще ей там натирает, вашей милой кокетливой избраннице».
Иван встал и стремительно прошелся, вернее, пробежался по комнате. Выглянул на балкон. Там было темно и оглушительно пахло грибами. «Вот тут, – он указал на круглый обеденный стол, который стоял посредине комнаты и за которым, в сущности, они все располагались. – Вот именно тут произошло ваше первое совокупление. Она накрывала на стол, по обыкновению, в жару не надев трусы, а вы, по обыкновению опять же, смотрели на ее жопу не как на совокупность ягодиц, мясных человеческих булок с дыркой посредине, а как на тоску и сказку всей вашей жизни. Вы, Михаил Эдуардович, ощущали себя маленьким принцем, глядя, как колышутся эти телеса. Внутри себя самого вы были упоительно воздушны, представляя, что ждет всякого неутомимого и любознательного исследователя среди этих телес. Вы думали о том, как бы славно было бы вам среди них затесаться !
А у вас губы мокреют от возбуждения, вы в курсе? Я почему спрашиваю. Дело в том, что чужие люди, незнакомые, которым все равно, как вы выглядите, вам об этом говорить не станут. Ну, течет у вас изо рта во время случки, и пусть течет. Но мы же с вами почти родня. То есть – натуральная! Родные! Родненькие! В отличие от чужих , помните чудесный фильм Ридли Скотта?! Не помните?! Да что ж вы, в самом деле, господа, в невежестве-то погрязли. Надо, надо будет вас как-то обрадовать в этом смысле. Фильм-то снят еще в семьдесят девятом, а вы ни в одном глазу. В общем, я как-нибудь потом изображу кратенько. А сейчас довольно знать, что чужие – это такая мерзость, ужас, такой, мать его, страх, что лучше засунуть себе голову в сфинктер и задохнуться там, чем встретится лицом к лицу хотя бы с одним из этих монстров. У них вместо крови кислота, они рождаются из липких яиц, они просто суки, млять, сволочи, я не знаю. А кроме того, представьте, убивают космических колонистов ни за хрен собако, кстати, о кинологии! Но сейчас не об этом.
Так вот, Мишель, у вас пренеприятно течет изо рта, когда вы испытываете желание. Как у какого-нибудь чужого . Я это к тому, что вы в тот июньский полдень текли, мой друг, как последняя сучка. Вас томила ваша горькая, никчемная половая жизнь, которую вы тридцать лет вели в угоду семейным ценностям. Немолчным прибоем она пробивала ваш мозжечок».
Иван помолчал, с интересом рассматривая белого как мел тестя. «Я могу предположить, что именно свинктер – это то, чего не хватало вам всю вашу жизнь. Именно он грезился вам в ваших юношеских мечтах и фантазиях. Именно его, в сущности, вы хотели бы видеть своей супругой и матерью своих детей. Но это, к сожалению, никак не осуществимо! Ну как, в самом деле, может государство, это ли, другое, – сами понимаете, нам в нашем ученом споре это совершенно не важно – разрешить людям, мужчинам ли, женщинам ли, вступать в официальный и нерасторжимый на небесах союз со свинктером ? Вы можете себе это представить? И я не могу. Хотя, кажется, вам и грезилось бы что-то в этом роде. Звучит Мендельсон. «Уважаемые родные и близкие брачующихся! Сегодня две голубки, две ласточки, два белых невинных зайчика, два существа, сущности, мать их, две самости, до сего дня скитавшиеся в янтарной бессмысленности бытия, наконец слепились в одно целое! Согласны ли вы, Михаил Эдуардович N-ский, и вы, Свинктер Оргазмович Узкоходов, любить друг друга, пока смерть не разлучит вас?!» Впрочем, – добавил Иван после секундного раздумья, – это порой уже случается в более развитых странах. Но мы не об этом.
Маргарита Тимофеевна, а что вы молчите, расставив ноги? Что ж вы ничего больше не рассказываете нам о дырках? Ведь эта тема, кажется, еще десять минут назад вас так волновала. Странно, что сейчас вам нечего сказать. А вы, Зина, – он стремительно повернулся к теще, – не желаете нам поведать, как решили однажды вернуться домой, ощутив на улице внезапную слабость? – Левкин озабоченно покачал головой. – Вам и впрямь стало дурно. Так бывает у диабетиков. Вы постояли минут пять у калитки, потом присели на лавочку и так провели еще одну минуту, пока не поняли, что сегодня лекции у третьего курса отменяются. Дурнота не проходила. Напряженно вдыхая через нос сосновый блаженный запах, вы медленно отправились домой. Вошли, бросив сумку в прихожей, и быстро прошли через все комнаты на звук несомненного совокупления, который вами, конечно, был сразу узнан и правильно истолкован».
«Иван, прекрати наконец!» – вступилась за родных и близких Марина.
«Отчего же?!» – Иван упал в кресло, закрыл глаза, продолжая видеть внутренним зрением крупные детские слезы тогдашней Зины. Она была моложе на пятнадцать лет, стройнее и печальнее. В сущности, еще совсем не старая, очень приятная женщина перехватила себе ладонью рот, стараясь даже не дышать. Ей было так больно, как было только однажды в жизни. Во время родов. Но, в отличие от той боли, эта боль не обещала прекратиться никогда. И добрый толстый гинеколог не стоял рядом, не кричал с поразительным азартом: «Тужьтесь, тужьтесь, Зиночка! Вы молодец! У нас уже почти получилось!»
Да и получившийся в результате этих мучительных родов младенец, некое духовное образование с печальными мохнатыми, немного гноящимися глазами, не собирался взрослеть. Он с тех пор не покидал этих комнат. Глядел багровыми глазами на жителей старого интеллигентского дома. Ел по ночам котлеты по-киевски, под утро хлебал диетический киселик прямо из кастрюли. Холодильник распахивал настежь. Никогда не выключал ночник. Мочился мимо унитаза голубой струей, фальшиво насвистывая Вивальди. Иногда в ночи расхаживал по комнатам и декламировал стихи. Что-то в том духе, типа, «Маргарита, Маргарита, членом к счастью пригвоздита, дребезжало сердце Зины, как усталая дрезина». Вполне невинные и бессмысленные строчки. Именно их Левкин принялся напевать, прикрывая глаза…
Дом сначала никак не мог привыкнуть к этому младенцу, но потом усвоил его в себя, принял. По ночам возвращал из обходной галереи в комнаты, там было потеплее, скрывал от него входную дверь, чтобы тот не ушел и безвозвратно не затерялся среди страшного бескрайнего мира. Рассохшимися балками, стенами и ставнями напевал ему колыбельные песни. И младенец порой засыпал.
Бедное, бедное дитя.
…И, кажется, потерял сознание. В любом случае дальше никаких событий память не сохранила. Очнулся Иван в Марининой квартире. Во рту ощущался привкус кислой стали, мертвых кошек и табака. Он ясно все помнил и ни о чем не жалел. Тогда ему еще казалось, что все наладится. Ведь, в сущности, как могло оно не наладиться, если у него имелась настоящая жена?
Впрочем, он не обольщался. И правильно. Они скоро расстались, хотя и остались друзьями. Когда Левкин навсегда покидал Киев, имея отличный повод для бегства – смерть родителей, единственным человеком, который пришел провожать его в аэропорт, была бывшая супруга. В ходе совместной жизни она оказалась лесбиянкой и рыбой. Попытавшись совместить несовместимое, Марина на второй месяц их супружества сдалась и призналась, что им нравится один и тот же тип женщин. А кроме того, выяснилось, что она по ночам не спит, а уходит из квартиры прочь и плавает в мутных водах Днепра, ловит сырую рыбу, ест ее вместе с плавниками, кишками и плавательным пузырем, ломает животом камыши, приманивает одиноких прохожих, трется грудью о речную скользкую глину. Часами исторгает из себя чешую, глядя на то, как плывет, покачиваясь, над Днепром сдобный сухарик луны.
«Это у тебя сны такие?» – Иван честно пытался понять. «Нет, – пожала плечами Марина, – какие там сны! Я продукт русалки, Ваня, молодой и прекрасной студентки одного киевского гуманитарного вуза, замученной половым партнером в овуляторной фазе менструального цикла. То есть она успела зачать, будучи еще вполне человеком, а вот дальше, что называется, не задалось. Но у нее был такой сильный инстинкт материнства, что он не дал ее трупу разложиться до тех пор, пока мама не выносила меня».
«Прикольно, – сказал Левкин и щелкнул зажигалкой, он любил в людях странности. – То есть ты хочешь сказать, что мертвая женщина девять месяцев плавала по Днепру туда-сюда, не желая успокоения, только потому, что у нее в животе находилась ты?» – «Именно», – кивнула Марина. «Малоправдоподобная история, – вздохнул он. – Обожди, а как же эти родственники, что я видел?»
«Родители, которых ты видел, не настоящие», – устало пояснила Марина. «Пришельцы со звезд, что ли?» – «Не в этом дело. Меня студентка родила в воде, будучи уже мертвой. Девять месяцев не разлагалась, горемычная, давая возможность плоду сформироваться и выйти из утробы. Редкий, в сущности, случай». – Да уж, – согласился Иван, – ранее в медицине ничего подобного описано не было». – «Ребенка, то есть меня, нашли добрые люди, пьяные менеджеры одной киевской фирмы. Выловили багром из воды и отнесли в больницу. А уж в больнице добрый толстый доктор подменил нормальное дитя, девочку, родившуюся у Зины и Миши, мной».
«А на хрена он это сделал?» – «А кто ж его знает, – вздохнула Марина, – может, он нормального младенца продал налево». – «А если спросить?» – «Не выйдет, – развела она руками, – утопила я его как-то в самом конце прошлого десятилетия. Как выяснила все, так и утопила». – «Ну и зачем, – поинтересовался Иван, потирая трехдневную щетину, – ты выходила замуж?»
«Млятская погоня за традиционными ценностями, – пояснила Марина, вынула из его пальцев сигарету и жадно затянулась. – Конформизм у нас в крови. И потом, не забывай, могли быть дети! У них был бы умный, но гребнутый папа и богатая, хотя и не принадлежащая к хомо сапиенс, мама. Обожаю межвидовое скрещивание. Это ли не кайф?» – «Не кайф», – ответил Иван. «Да ты не расстраивайся, – похлопала она его по щеке, – хороший друг лучше двух подруг».
Марина имела бизнес, после развода порой выручала Ивана деньгами. Иногда подкидывала заказчиков. Порой поселяла в квартиры, за которые ничего не нужно было платить по целому году – хозяевам было достаточно присмотра за личными вещами и домашними питомцами.
Иногда, особенно в морозные зимние ночи, когда Марина ленилась уходить на Днепр, Иван приезжал к ней, и они сидели до утра, попивая бренди. С наутом хорошо было сидеть. Она часами молчала, курила, пахла болотом и тихо улыбалась своему размытому отражению в оконном стекле.
В аэропорту выглядела растерянной. На голове топорщился сиреневый ежик, в ухе болтался кусок кожи с золотым жуком на конце. Образ дополняли скинхедовские ботинки с белыми шнурками. Пуговицы на белой кожаной куртке отливали червонным перламутром.
«Ну что, голубь, – она обдала его ароматом мятной жевательной резинки, – прости, если что не так». – «Все было просто отлично», – кивнул он. – «Ага, – кивнула Марина, пригубила кофе. – Вот что я тебе скажу. Не женись больше спьяну, та еще лотерея. И в следующий раз выбирай бабу с грудями. Все бабы без грудей, как я, – конченые суки. Вот такой секрет». – «Буду иметь в виду», – кивнул Левкин. «А лучше, как найдешь невесту, зови меня. Я подскажу, стоит с ней связываться или нет. У меня на баб глаз наметан». – «Ну да, ну да, – кисло улыбнулся Иван, – я в курсе». Помолчали.
«А что ты это, Ваня? Родительский дом начало кончал? Да здравствует шахтерский край, мой край бескрайний, край угля и быдла?!» – «Сама ты быдло. Родители умерли», – сухо сказал он, поднялся, взял сумку на плечо и двинул на регистрацию.
Он шел, ссутулившись, и думал о том, что эта сутулость и сухость, с какой он попрощался, обязательно заставят Марину раскаяться. Пусть и не во всем, но хотя бы в чем-то. Это была маленькая месть, крохотный серебряный гвоздик, который он засадил ей на прощание куда-то между холодным рыбьим сердцем и плавательным пузырем. Умные совестливые лесбиянки, особенно родившиеся у неживых матерей, просто обречены на душевные муки.
Он бросил сумку на ленту транспортера и подумал о том, что на самом деле не так удручен, как хотелось бы. И это плохо. Провинция увидит это и не простит. Он должен быть удручен, да и Мрак этого, наверное, хотел бы. Мрак и те, что стоят в его тени там, в провинции, горящей огнем и металлическими ветрами.
Но отчаяния не было. На самом деле, кто такие эти умершие, он толком и вспомнить не мог. Впрочем, как ни странно, боль от их потери это не уменьшало. Просто он не был удручен . Но это не значит, что он был бесчувствен.
А по сути, Левкин твердо знал, что просто настала пора уехать из этого города в тот. Здесь жить он уже не мог, а там его ждали. Что-то новое готовилось в судьбе. Возможно, смерть, а возможно, что и похуже. Но в голосах, объявляющих рейсы, звучала музыка сфер. В грудь женскими острыми кулачками стучалась судьба, и Левкин был тревожен, но счастлив, пусть и не мог пока понять, в чем смысл возвращения в Z, что направляет вещи и события и чем завершится их неумолимое движение.
Не мог же Мрак или злокозненный демон Декарта желать его приезда в Z, не имея четкого плана?! Ведь не просто так украден черный лемур и обещана новая встреча? Левкин твердо знал, что ответы придут. Чувствовал, как яростно и мощно вскипает янтарь в темечке при одной мысли о том, что приходит к концу если не жизнь, то что-то очень на нее похожее.
И пусть будет, что будет, думал он, с улыбкой закрывая глаза и чувствуя, как крохотный самолетик набирает скорость. Да здравствуют лемурии, сатурналии, металлургия и горнодобыча. Да здравствует время, живущее в нас!
Часть 2 Телевизор Малевича
В стройном миросозерцании нет места прорехам, и цепь умозаключений, имея точкой исхода конкретные факты опыта, должна восходить до высших обобщений нашей мысли.
В. Х. Кандинский
После расставания с Мариной, а особенно после жалобы ответственному редактору жизнь Ивана Павловича, как он, впрочем, и предвидел, не улучшилась. Разоблаченные тексты потеряли последнюю совесть. Циничные издевки, странные, пугающие намеки встречались теперь в каждой присланной из издательства книге. Но мысли об издательских интригах оставили его. Дело в том, что приблизительно в это же время за вполне умеренную плату он взялся редактировать роман одного очень пожилого человека, видного представителя южнорусской школы письма. Тот был величав, крайне вежлив, несмешлив и почти ничего не знал об Иване Павловиче. Открыв рукопись, после эпиграфа из Максима Рыльского Иван обнаружил следующий текст: «Левкин, утка, Левкин, млять, смерть свою идет искать!».
Настроение, конечно, испортилось. Но, с другой стороны, стало ясно, что данное явление, по крайней мере, не зависит от автора и отправителя. Иван вычистил из романа все не должные быть строчки и не стал задавать вопросов ни старичку-писателю, ни своим домашним, из которых у Ивана остался только телевизор. Но какие вопросы ему задашь и, самое главное, кто тебе ответит?
Тем более что Левкин любил свой телевизионный прибор. Любил давно и тихо, как любят некоторые рано состарившиеся люди домашних питомцев. Приходя домой, Иван сразу его включал. Наблюдая, как тот приступает к трансляции какого-нибудь канала, любовно протирал экран фланелевой тряпочкой, приговаривал что-нибудь утешительное. «Экран ты мой Малевича, – шептал, например, Левкин, – Малевича четырехугольник!»
Установив минимальную громкость, чтобы до уха доносились только невнятные музыка, шорох и шептание, создающие впечатление топчущихся по мирозданию мышей, Иван шел принимать душ, обедал или ужинал, разбирал завалы на столе, курил, попивая херес или коньяк на балконе.
Редактируя тексты или работая над заказными статьями, Левкин периодически поглядывал в сторону своего плоского друга. Непростая жизнь, оторванность от каких бы то ни было семейных устоев, стремительный и горький развод, наконец, уединенный характер работы укрепили его в мысли, что телевизор – одна из немногих вещей в мире, которая не изменит. Иван верил этому мерцающему окну. Оно, в отличие от настоящих окон, а также, кстати, от проклятых Windows , никогда не имело ничего общего с реальностью.
Экран, несмотря на обилие цветов и голосов, по существу, был бессодержателен простой вселенской бессодержательностью. За ней чудилось нечто стоящее над действительностью, вечно покрытой рябью персонажей, сюжетов, идей, убегающих в небытие предметов и ощущений. Телевизор не играл в прятки с уходящей натурой, а в качестве вербальной альтернативы миру предлагал только себя и всегда был равен себе, что успокаивало нервы. Он содержал в своей супрематической идиотичности исключительно цветной шум, чистый мерцающий эфир, состоящий из разноцветных разновеликих геометрических фигур, почти не воспринимаемых взглядом. Телевизор являл собой разумный предел и границу псевдоразумной окружающей действительности.
Левкин понимал, что есть люди, которые смотрят на экран Малевича как на окно в мир, и искренне сочувствовал им. Но он их не презирал, нет. Иван преклонялся перед простотой восприятия жизни и, как мог, служил ей. Если бы он и хотел видеть в чем-то свое предназначение, то именно в этом. А служить простоте – это тяжелый и неблагодарный труд, и именно телевизор, кстати, помогал ему претерпевать на этом пути все, что предполагалось претерпевать.
Однако трещина, которая вследствие бунта текстов пролегла между Левкиным и миром, продолжала увеличиваться. Впрочем, так обычно и происходило раньше и отвечало общей логике его судьбы. И вот эта порча усугубилась, одним рывком завоевав такие территории в жизни Ивана, которые он никогда ранее не позволял себе сдавать.
Случилось это ветреным осенним днем. Левкин не работал. Отвез вещи в прачечную и сел в кафе в полуоткрытой беседке, попивая белое десертное вино. Съел миниатюрное пирожное, испытав старинный детский восторг от сознания того, что красивое может быть вкусным. Потом помрачнел, изучая небо и птиц, летящих перпендикулярно ветру. По улице несло листву и мусор. Заспанный помятый парнишка принес бутылку боржоми и кофе. Спросил, не будет ли клиент против, если он включит широкий плазменный экран. Левкин был не против. Его не слишком радовали яростные бодрые птицы, вульгарные серо-синие облака и медленно оголяющиеся деревья.
Налив Левкину ледяного боржоми, парень подошел к панели и включил ее.
Показывали Ибицу. Двое ведущих путешествовали по острову. Сначала демонстрировали красоты. Затем на пляже пытались разговорить гуманоидов, очнувшихся после прошлой ночи только к вечеру нынешнего дня. Самоуглубленные счастливцы сидели, тускло наблюдая за красноватым диском, погружающимся в воду.
«Вот так день за днем, – улыбаясь, говорил Стив, – день за днем!» – «День за днем», – вторила ему Сью. «Это класс, – убеждал Стив, – жизнь проходит незаметно». – «Они приходят сюда проводить солнце, – восторгалась Сью. – Это принцип – сначала проводить дневное светило и только потом позавтракать». – «Их жизнь, – хором сказали ведущие, – начинается с заходом солнца!»
И тут вдруг в телевизионной картинке произошел какой-то сбой. Иван не сразу понял, в чем дело. Он сделал очередной глоток обжигающего кофе, быстро запил его ледяной водой и машинально потянулся за пачкой сигарет. Что было не так?!
Это испугало Ивана больше, чем все послания, которые он до сих пор получал в присылаемых из издательства текстах. В картинке на экране появился кто-то лишний. Тот, кому там места не было. Кто-то, не должный быть. И он появился там ради Ивана, моментально ощутившего, как с головы до ног его обсыпал крупный колкий озноб.
Подрагивающей рукой Левкин достал сигаретку, щелкнул зажигалкой. Подавляя страх перед абрикосовым слепящим туманом, вплотную придвинувшимся к самой носоглотке, стиснул зубы. Медленно вдохнул и выдохнул, заставляя себя смотреть дальше.
Итак, за спинами ведущих появилась новая фигура: мужчина неопределенного возраста с сигаретой в руке, загорелый, в белой майке и ярко-красных шортах. Отчего-то было мучительно ясно, что этот человек не имеет никакого отношения к Балеарским островам. Он выпадал из телевизионной картинки. Среди окружающей цифры его фигура являлась единственно реальной. Увидев Ивана, он приветливо помахал ему рукой. Слегка подвинув в сторонку Стива, прошел вперед к камере и улыбнулся. Без труда перекрывая голоса ведущих, сказал: « Ты попал в колесо сансары, Левкин! Ибица приветствует тебя!»
Иван плохо ориентировался в современных технологиях связи, но понимал, что происходящее невозможно. Телевизор, пусть это трижды четырехугольник Малевича, сам по себе не обеспечивает обратную связь. «Тем более, – проговорил Иван, глядя на огонь в печи, – что это была прошлогодняя передача, и шла она в записи».
Непричастный к происходящему попытался сказать что-то еще, но здесь пошли титры и грянула музыка. Покачав головой, он за спинами ведущих наклонился к бамперу стоявшего рядом фургона и стал что-то писать красным фломастером на небольшом листке бумаги. Текст выходил длинный. Наконец, дописав послание, не должный быть прижал лист к плазменному экрану с той стороны (как бы это ни понимать).
«Я Мрак по имени Марк, а ты умерший Левкин – дохлая птица! – прочитал Иван, тихо шевеля холодными губами. – Проклюнься, Левкин, в яйце сущий! Умер, умре, умертвие, мертвечина. Левкин умре, утка, утке, уток нет восточно-европейское собако точка юэй». Листок отняли от экрана. Не должный быть , назвавшийся Мраком , пропал. Титры прервались, и снова стали видны жизнерадостные ведущие. Теперь они мажорно улыбались в стилизованной желтой рамочке, мерцающей на фоне моря и нескольких жизнеутверждающих жиденьких пальм. Пошли помехи, экран избороздили полосы.
«Итак, – подвел итог передаче Стив, – я и Сью, мы считаем, что Ибица – это символ свободы, молодости, стильного отдыха и любви!» Молодые люди, слегка потрескивая и рябя, весело переглянулись и закончили хором: «Ибица с нами, Ибица с вами, Ибица ждет каждого из вас!»
Пошла заставка, и начался рекламный блок.
Левкин несколько раз с силой растер лицо ладонями, чувствуя, как приливает кровь к коже. «Ибица с нами», – сказал он и подумал, что за долгие годы привык верить в незыблемость простых вещей и понятий. Например, в то, что киевские время и пространство являются старыми добрыми пространством и временем.
Однако теперь все изменилось. Оставаясь на излюбленных позициях мистического материализма, трудно было объяснить происшедшее. Мрак и то, как он поступил с экраном Малевича, выходило за все допустимые рамки. Случившееся непоправимо нарушало давно установившиеся правила игры и, безусловно, являлось признаком того, что Левкин вступает в новую фазу существования, желает он того или нет.
И это заставило его впервые за долгие годы вспомнить о страшных и вязких, болезненно разноцветных, тех давних, отчего-то невероятно праздничных, проще говоря – детских годах . Иван никогда не называл те годы детскими, потому что от одного этого словосочетания его мутило. Он понимал, конечно, что хронологически все правильно. Именно тогда, когда он был мал, пришло все это . Каждый раз, разговаривая с самим собой обо всем этом , Левкин, конечно, подразумевал в первую очередь тот холодный янтарный ветер, который, однажды начавшись, уже не переставал никогда.
Его первые родители, образы которых Левкин почти не сохранил в памяти, жили в самом центре города Z, а значит, и в самом сердце одноименной провинции. Иван предполагал, что в один из дней такого-то года он родился. Кстати, что это был за день, он не знал, и выяснить правду не представлялось возможным. Впрочем, кому была нужна эта правда? Да и кто бы это еще стал ее выяснять?
Итак, день неизвестен. На свет появлялся с трудом, как говорится, нехотя. Недели три болтался между мирами. Но понятно, что рос и развивался. Держал головку, жевал соски, получал прививки, гадил в пеленки. Много кричал, предчувствуя дальнейшее. Часто болел, в садик не ходил – следствие общего нежелания жить, даже более стойкого, чем инстинкт размножения. Подрастая, чувствовал интерес и ужас. Последнего было не так много, чтобы умереть, кончиться, прекратиться. Но вполне достаточно, чтобы перестать доверять той действительности, которая, как с течением времени понял малыш, была единственной для большинства окружающих его людей.
Долгое время упругий живой сверток лежал, отгороженный от мира даже не прутьями манежа, но главным образом идиотизмом возраста. Хотел, но не мог прекратить все это. Стоило чуть повзрослеть – научился регулярно, до двух раз на дню, уходить в инсайт. Оказываясь вне тела, орать, естественно, прекращал.
Чувствовал легкость и свободу. Окружающее было видно ясно и хорошо. Плавая в желтоватом тумане вокруг дешевой лампочки в шестьдесят ватт, одно время висевшей в их спальне на черном, кое-как скрученном проводе, учился любви к людям. Находящиеся внизу существа были приятными и трогательными. Папа пил водку и играл на рояле. Мама накидывала на себя шаль и танцевала, смешно покачивая угловатыми бедрами, а также чрезмерно развитыми, как у всех пианисток, плечами.
К школьным годам Иван научился переживать состояния, которые к нему приходили, не беспокоя домашних. Другими словами, Карлсон Кастанеда прилетал к Малышу по-тихому, что не позволяло окружающим усомниться в душевном здоровье ребенка. Но стоило Левкину слегка повзрослеть, как его взяло мерцание , чтобы больше не отпускать лет до тридцати.
Затем он уехал из провинции и на десять лет забыл то, что с ним происходило раньше. Решил, что во всем виновата она, Z-земля, Z-юность, Z-мир, затерянный в степи, пахнущий молибденом, ковылем и медом. В столице Иван Павлович пытался жить честно и добропорядочно в метафизическом смысле этого слова. Но вот, кажется, этой добропорядочности снова был положен предел. Такой же простой и категоричный, какой случился тогда.
Левкин не мог сказать, что стало толчком для первого путешествия к бескрайним берегам великого Нигде . Но момент ухода в мерцание Левкин помнил так ясно, будто это произошло с ним вчера.
Стоял самый что ни на есть легкий, прозрачный, разноцветный прекрасный октябрь. Мальчик шел из школы домой, вяло помахивая портфелем. Левкин и сейчас помнил это ощущение в руке. Он делает взмах назад, портфель по инерции выносит вперед, снова отводит руку назад – портфель сам собой возвращается. Хорошо идти, петляя между деревьев старого сквера. Листья шуршат под ногами, и ботинок из-за этого шуршащего разноцветного кома разглядеть нельзя.
Листопад захватывал и покрывал все вокруг. Пронзительный свет наискось резал мир сквозь стремительно редеющие яркие кроны. Запах смерти и свежести кружил голову. Этот запах и был последним, что Иван запомнил из той жизни. Он вошел в мерцание прямо из листопада. В глазах отчаянно зарябило, замерцало, и во всем теле разлилась томная разноцветная тяжесть, а потом случилась яростная янтарная вспышка.
Паузы не было. Следующая же секунда жизни началась так.
Над городом гудел снегами промозглый февраль. Иван шел из школы домой. И ботинок снова не было видно, но теперь уже из-за снега. Ничего особенного не произошло, за исключением того, что теперь он шел из другой школы и в другой дом . А также к другим родителям , которые, тем не менее, на самом деле ими являлись.
Шел он по проспекту, на котором в той своей жизни не бывал никогда. Впрочем, он знал эту дорогу, и как прийти домой – тоже. Нажимая на кнопку звонка квартиры номер восемь, Иван, с одной стороны, точно представлял, что его ожидает за дверью.
Ну, что именно? Немолодая пара, любящая сына до дрожи в руках. Небольшая уютная квартира. В этой семье, в отличие от предыдущей, он был ребенком поздним, недоношенным, вымоленным если не у Бога, то уж у мироздания во всяком случае. Мама – худенькая улыбчивая усатая еврейка, гениальная швея, постоянно работающая по частным заказам, папа – бодрый громогласный грек, отличный преподаватель географии. Знакомое до мелочей жилище, своя комната с большим окном, выходящим в уютный советский двор. Кухня с запахами табака, кисло-сладкого мяса и пресных пирогов с маком. Гостиная с тюлевыми занавесками, с довоенным массивным диваном и тремя креслами. Зимние поездки в Карпаты, летний отдых в Туапсе.
Политическая карта мира на всю стену. Вверху на полках спрятаны в книгах несколько украденных у отца сигарет. Несмотря на стоящее между шкафом и окном поцарапанное во многих местах пианино «Украина», в этой квартире Ивану страшно не хватало музыки. Его первые были преподавателями консерватории, и он еще в утробе привык слышать ее ежедневно.
С другой стороны, шаркая по глубокому снегу деревянными от холода и страха ногами, Иван отчетливо осознавал, что совершенно не знает новых родителей, а его память о них принадлежит как бы немного не ему. Принадлежит ему, но как бы не по-настоящему . Вся проблема была в том, что он не утратил памяти о той семье и о той жизни. О первой своей школе и первых друзьях.
Иван ничего не забыл. Его просто взяло мерцание , а потом отдало , но, увы, отдало несколько неточно . Природу этой намеренной неточности Иван стал понимать только годы спустя. А тогда, в том феврале, он не думал об этом, но лихорадочно вживался в обстоятельства. Чувствуя себя размазанным по черно-белой картинке зимы, мальчик пытался сразу целиком вместить в себя изменившийся мир с новыми правилами игры.
Да, и вот что важно. Он чувствовал собственную вину в том, что произошло. Она накладывалась на противную ослабляющую лихорадку и пустоту беспамятства о прошедших трех-четырех месяцах жизни, на ужас перед не подлежащей никакому объяснению двойственной памятью. Вину многократно усугублял страх, который, в том числе, был страхом и перед грядущим наказанием.
А наказание, конечно, должно было воспоследовать, ибо тот ужасный проступок, который он совершил, став одновременно сыном разных родителей, не мог быть прощен. Иван не был в состоянии понять, как у него получилось совершить нечто не должное быть . Однако это не отменяло ни вины, ни наказания, ни, тем более, мук совести. Он был плохим , раз с ним произошло то, что произошло. А плохих мальчиков наказывают, иначе как они поймут, как следует и как не следует себя вести в этом мире?
Боже, как страшно идти к людям, считающим тебя своим сыном, но которым, по сути, ты – никто! Немилосердно трепетала изнанка детского сердца в тот момент, когда мальчик подошел к пятиэтажному дому, узнавая и не узнавая окрестности и старый подъезд. Смятение и паника, слезы, застывающие на ресницах льдинками, и трепет.
О, как убивала Ваню мысль о собственном одиночестве перед открывшейся у его ног бездной! Раньше все, что с ним случалось, можно было попытаться разделить с матерью или отцом. Залечить свое сердце их бестолковым овечьим теплом. То, что случилось сейчас, разделить было не с кем.
Снег валил, стелился, летел и падал. Иван шел с так называемых продленных занятий, посему стремительно темнело. Провинциальная зимняя ночь торопилась, гудела в проводах, дымила поземкой, обжигала лицо и руки в тех местах, где они не прикрывались ни темно-синим клетчатым зимним пальто, ни варежками, полными льда и снега. Фонарей в те годы в городах было не так много, как хотелось бы мальчикам, прошедшим мерцание . Из пяти подъездов тусклая желтая лампа скудно освещала только один – самый дальний. Периодически из-за низко летящих туч проглядывал белый диск луны, и в его свете Иван вновь и вновь утверждался в мысли, что стоит перед своим домом . Но ему определенно не нравился этот дом, в котором он никогда раньше не бывал. Он боялся в него заходить. Жилище, где он обитал в минувшем такте своей жизни, было лучше и чище. И находилось в более приятном месте. До боли стискивая ручку портфеля, он качал головой: «Нет, нет, нет, не хочу. Пожалуйста, не надо. Если можно, не надо».
В какой-то момент на проспекте прямо позади Ивана, застывшего напротив своего нового дома, с металлическим лязгом и грохотом внезапно остановился троллейбус. Штанговые токоприемники соскочили с троллей и несколько секунд гремели, прыгая на тонких черных, еле видимых нитях проводов. Море разноцветных искр осыпало застывшего испуганного мальчишку. Он поднял голову и смотрел, как огоньки падают и кружатся на морозном ветру, как путаются в черных ветвях старого клена, уносятся вдаль по проспекту и теряются в темноте. И ему внезапно стало легче. Что-то в этих огоньках было такое, что помогло ему принять новый мир. Эти огоньки были как его путь домой, как он сам, как жизнь вообще. Он улыбнулся им, снял варежку и тыльной стороной ладони вытер льдинки холодных слез.
Впрочем, все равно нужно было входить в дом. Между уходом в мерцание из осени такого-то года и появлением внутри зимы такого-то года прошло совсем немного времени, месяца четыре. Физически и психологически он повзрослеть не успел. И для него, сына интеллигентных родителей, сама мысль, что он может вечером не прийти домой, была невозможна. Куда же еще идти, скажите на милость, испуганному ребенку в огромных очках, залепленных снегом, стоящему на февральском ветру с тяжелым портфелем? Мальчику с растерянными глазами – мелкими дрожащими озерцами, полными быстро замерзающих слез?!
В милицию, что ли?
Чтобы что? Чтобы сказать: мол, извините, товарищи дяденьки, я попал в мерцание ?! Со мной это в первый раз, так что нельзя ли выяснить, что там с ними, с моими первыми родителями? Давайте сообщим предыдущим родственникам, где я и в каком районе города Z находится мой новый дом. А заодно хорошо бы, знаете ли, найти кого-то, кто объяснит ученику второго класса теперь уже одновременно двух городских школ, второй и двадцать четвертой, как жить дальше и кого теперь считать родными и близкими. А также друзьями.
«А, Ванька, привет», – деловито сказал отец и убежал из прихожей в комнату, где гудел телевизор. «Иван, мой руки – и к столу!» – Мать показалась только на пару секунд, окинула сына придирчивым взглядом. Не заметив никаких нарушений в одежде (мальчики в начальных классах иногда теряют шапки, шарфы, приходят домой без пуговиц на одежде), исчезла в дверном проеме.
Поставил на пол портфель и стал разоблачаться. Иван помнил эту вешалку, помнил родительскую одежду и даже новые мамины зимние финские сапоги, которым она так радовалась осенью. Тихий ужас. Сняв облепленное снегом пальто и обувь, прошел в ванную и первым делом посмотрел в зеркало. И не увидел ничего нового. То есть, может, он и стал взрослее на пару месяцев, но видно этого не было.
Гораздо позже, спустя столько-то лет, он поймет, что внешность его от раза к разу менялась. Он каждый раз становился другим мальчиком. Но в самый первый раз он этого не понял. Двенадцати лет от роду он в очередной раз войдет в мерцание, а возвратившись обратно, отыщет вот эту свою семью. Таким образом, кстати, экспериментальным путем установит, что домой возврата нет.
Мама, Гала Исааковна Блох, встретит его на пороге с растерянной улыбкой, машинально пропустит в прихожую. Отец, Василий Дмитриевич Милонас, тоже выйдет из комнаты. Они примутся недоуменно и благожелательно рассматривать незнакомого им подростка, не понимая, что, собственно, ему нужно. А он и сам не понимал. И ему страшно хотелось что-то сказать, извиниться, попросить прощения, признаться в любви, стать на колени и заплакать. Но слова не шли с языка. Возможно, он смог бы заговорить, но в этот момент в прихожую вышел мальчик, их сын .
«Это твой друг, Иван?» – спросила Гала Исааковна своего сына , стоящего рядом с ней у двери. «Я не знаю его», – сказал хороший мальчик и убрался в свою комнату. «Тебе что?» – Василий Дмитриевич глянул на него с участием, подошел ближе. «Ничего, – ответил Иван, покачал головой. – Извините. Я пойду». – «Ладно, – согласился Василий. «А может, ты кушать хочешь?» – Гала Исааковна в первую очередь кормила детей, а потом вела с ними беседы. Это была ее принципиальная жизненная установка.
«Нет, – замотал головой Иван. Не стоит. Я пойду». Хлопнула дверь. Донесся топот сбегающего вниз по ступенькам нелепого гостя.
«Странный мальчик», – задумчиво проговорил Василий Дмитриевич. «Да, – тревожно качнула головой Гала Исааковна, – причем у меня стойкое ощущение, что я откуда-то его знаю». – «Не выдумывай», – тряхнул головой Василий Дмитриевич, – мальчик просто обознался».
А Иван в это время бежал по теплой июньской улице, напоенной дождем и светом, и плакал навзрыд. Плакал так, что чуть было не умер прямо на троллейбусной остановке. Там ему и стало плохо. Сердобольные граждане вызвали «Скорую». Из больницы его забирали новые родители . Дома от нервного срыва у него к вечеру поднялась температура. Через день проявилась корь. Болезнь благодатно взяла его в свои объятия и убаюкала. Он пил сладкий чай с лимоном, температурил и спал. Так продолжалось две недели, что и помогло ему выжить.
Так он крепко усвоил, что каждый раз прошлые родители и друзья оказываются неспособными к узнаванию. Все дело в том, что рядом с ними оказывается другой мальчик , заместитель Ивана в данном времени и месте. Кто были все те другие мальчики , до определенного возраста Левкин не знал и знать не желал. Но про свое тело понял, что оно менялось. Однако каждый раз с его личностью совмещалось без зазоров . Иначе бы он просто не выжил. Тело было новое, но сравнить было не с чем. Спасала достоверность самоощущения.
Как бы то ни было, в тот самый первый раз Иван узнал себя, и оттого, что его внешность показалось ему той же самой, привычной и знакомой, чуть не заплакал от облегчения. Вернее, слезы появились, но мальчик принялся лихорадочно умываться ледяной водой. Иван боялся, что глаза покраснеют и новые родители начнут задавать вопросы. Он подсознательно готовился к тому, что они будут слишком каверзными и ответить на некоторые из них будет совсем не просто.
Но ужин прошел обыденно. По обыкновению за столом говорил в основном отец, Гала Исааковна улыбалась, подкладывая на тарелку Ивана еды. Тот понемногу оттаивал, ел, но в процессе поглощения пищи понял, что его панический страх перед новым домом имеет некоторые основания. В частности, выяснилось, что он знает о своей новой семье далеко не все. Оказалось, что в природе имеется еще бабушка , о которой он не помнил ничего. И вот она-то должна была приехать в такой-то ближайший день, чтобы поздравить его с днем рождения. От одной мысли, что ему придется иметь дело с неведомой старухой, он чуть не закричал от страха. Но сдержался, ибо имел мужество. Как потом оказалось, правильно сделал.
Ужасный день настал. Приехала пожилая дама в очках, пахнущая сладкими духами и мятными леденцами. Привлекла себе, поцеловала, обняла, подарила самокат и больше о нем не вспоминала. Во всяком случае, никто не спрашивал о подробностях не прожитой им в этом доме жизни. Никто не устраивал экзаменов. И это было хорошо, потому что экзаменов в ту пору ему и так хватало.
Вживаясь в ситуацию, Иван стал гением мимикрии. По оттенкам интонации научился понимать скрытые мотивы людей. Угадывал правильные ответы на еще не заданные вопросы. Отчетливо видел янтарь и себя в нем, чувствовал рябь и перемены в ней задолго до того, как они реально проявляли себя в виде событий. Очень страдал от всего этого. Мерцание заставило его повзрослеть и измениться. Он стал кем-то другим быстрее, чем понял, кем именно стал. Это помогло ему, когда лампа его жизни замерцала в следующий раз.
«…Да-да», – забормотал Иван, стараясь не смотреть больше на экран телевизора и машинально проверяя наличие бумажника в кармане (надежного якоря, всегда помогавшего возвращаться из мерцания во взрослом состоянии), – просто «о», «х», «у», «е», «т», «мягкий знак» можно. Никогда не матерюсь. Так и проговариваю: «о», «х», «у», «е», «т», «мягкий знак». Получается немного длиннее, чем обычный мат, зато безопасно. Пока произнесешь буквы по отдельности, как-то приходишь в себя. И потом, когда говоришь «мягкий знак», получающееся в результате предложение приобретает некоторую невольную мягкость, что сглаживает брутальность исходного текста. А ведь именно мягкость в людях порой так важна.
«Ть», между прочим, краткий и емкий суффикс. Перед ним почти всегда идет гласная – «давить», «колоть», «вдыхать», «млять». Иногда он следует после согласных «с» или «з» – «прясть», «лезть», «красть», «класть в пасть». Как ужасно, в сущности, любое письмо!» Левкин тяжело вздохнул, глянув на небо. Птицы летели, листья мело. Рябь, ужасная рябь шла по всему бытию. «В слове что-то происходит, – забормотал он. – Снова что-то началось. Кто бы мог подумать! После стольких-то лет. Какая все-таки опасная дрянь этот русский язык! «Умре, умре, мертвечина». Есть еще глаголы, имеющие суффикс «ти». «Спасти», «расти», «цвести», «плести» и, естественно, «произнести».
«Что вы сказали?» – поинтересовался официант. – «Счет, говорю, дайте». На экране по-прежнему шла реклама. Левкин медленно расплатился. Весь изнутри холодный, мокрый, тяжелый, побрел по проспекту, левой рукой придерживая шляпу. И ветер летел впереди него, морщинил пространство вокруг, свистел и бесновался. Птицы кричали, торжествуя победу над Левкиным. Сине-зеленый мятный холод окутывал небо, язык и десны. Входил в мозг щемящей ласковой болью. Облака над головой неслись желтоватые, дымные. Сквозь серую дымку угадывался близкий вечер.
Дома Иван провел ряд экспериментов с небольшим плоским «Самсунгом», на который через кабель шло сто восемьдесят каналов. Первые шестьдесят не показали ничего скверного. Иван понемногу стал расслабляться. Пошел в душ, затем прошлепал босыми мокрыми ногами на кухню, сделал бутерброд с сыром и съел, глядя в окно на разноцветную рябь.
Посланец немеркнущего янтаря явился на французском «Canal+». Патрик Брюэль, который на этом канале с 2004 года являлся ведущим программы «Мировой тур покера», пригласил в прямой эфир в качестве консультантов двух всемирно известных игроков, один из которых оказался не должным быть человеком. Иван не сразу это понял, потому что тот какое-то время скрывал свою сущность, да и внешне не походил на уже виденного посланца высших сил.
Он был определенно другой – потный, лысый, с большим животом. Его мучила одышка, а также необходимость не думать о том, что его жена, Мари Леру, именно в эти часы умирала в Институте Гюстав Русси под Парижем. Ее опухоль вот уже полгода разрушали с помощью радиоволн. Но как-то не очень успешно. То ли не те волны выбирали, то ли опухоль была такая, которой радио не могло причинить вреда. Доктора, конечно, обещали прогресс, и даже в самом скором времени. Но, между нами говоря, опухоль Мари не обращала на радио никакого внимания. Она вела себя так, будто и не существовало в природе никаких радиоволн, а великие Тесла, Маркони и Попов в свое время занимались выращиванием петрушки.
«Я что думаю, – произнес печальный толстяк, вставая с кресла и с этой секунды уже не обращая внимания на происходящее в студии, – может быть, стоит попробовать не радио, а, например, телевизор?! Как ты считаешь, друг?» – «Я не знаю, друг, – развел руками Левкин, – у нее ведь последняя стадия, вряд ли телевизор что-нибудь даст». – «А если попробовать передачи Первого российского канала?» – «Ну, если только программу «Время»… – с сомнением сказал Левкин, – но тут многое зависит от ведущего. Лучше всего достать выпуски с Нонной Бодровой, на худой конец с Анной Шатиловой, а то нынешние все как-то слишком гламурны».
«Согласен! – Толстяк вытер большим мятым платком лицо, шею и грудь. – Ты же знаешь, кто я? То есть кто я на самом деле?!» – «Ты Мрак , – ответил Левкин, и губы его задрожали. – Никогда не думал, что увижу воочию». – «Точно! – Толстяк пожевал губами и улыбнулся. – Хорошо, что сразу понял. Другим никак не втолкуешь, как много у Мрака личин. А ты, видишь, молодец. Но тебе легче, ты меня всегда называл демоном Декарта, да?! Представления, иллюзии, ложные картины мира?! Сразу въехал. Интеллигент! Много значит! – Он грустно помахал толстым указательным пальцем, пытаясь как бы визуально обозначить, как много все это для него значит. Так ты думаешь, лечить ее все-таки лучше телевизором?»
«Мари?!» – Левкин сам не знал, для чего переспросил. «Конечно, Мари, – скривил печальные губы мастер покера. – Не тебя же!» – «Не знаю, – пожал плечами Иван. – Если радио не помогает, что остается?!» – «Согласен», – кивнул толстый.
Ведущий попытался привлечь его внимание. Потом взял за локоть. Толстый отдернул его и тут же два раза ткнул кулаком в лицо коллегу, сидевшего справа, а когда тот упал, ударил его несколько раз ногой и прокричал что-то короткое и гневное. Иван, знавший французский исключительно со словарем, ясно уловил только мерде и шьен . Толстяка подхватили под руки крепкие парни из охраны и поволокли в темноту коридора, как пауки – крупную сочную муху. Он, конечно, показал норов и силу духа, но на стороне нападавших был значительный перевес. В последнюю секунду перед тем, как его буквально вынесли из студии, толстяк повернул свое окровавленное лицо к Ивану, улыбнулся и проговорил мягко, почти по-дружески: «Выключи телевизор, сучонок, хватит с тебя на сегодня!»
Левкин принял решение на какое-то время отказаться от любимого прибора. « Хватит с тебя на сегодня» , – повторял он себе еще пару дней, впечатленный всем происшедшим. Иван Павлович привык слушать подсказки и советы, когда они исходили от сущностей, стоящих у истоков янтаря или, по крайней мере, находившихся с ним в более интимных отношениях, чем те, которые сложились у Левкина. Все просто. Не смотреть телевизор – вот что, значит, нужно на данном этапе жизни. Иван тут же наступил на горло своей тихой тяге к экрану Малевича. Он мог повременить, переждать.
Он не смутился необходимостью временного отказа от телевизора. Более того, в какой-то момент почувствовал себя на подъеме. Лишившись экрана Малевича, но так и не дождавшись мерцания, Левкин повеселел и внезапно подумал о том, как много все-таки жизненных проблем решает регулярный секс. Тем более что с Мариной у них толком так ничего и не получилось.
Честно говоря, у него мало с кем получалось толком. В этом городе почти ни с кем. Кроме полурыбы, случился всего один человек, молодой крохотный белолицый продавец белья в супермаркете мужской одежды, которого Левкин, к собственному удивлению, захотел. Но поскольку опыта у него в таких делах не было, он счел за лучшее не связываться.
В том городе, который он мог называть родным, у Ивана была женщина, и с ней у него все выходило так, как нужно. Он ей говорил: «Котик-котик, я твой кротик!» И бросался на нее, хлопая ушами по щекам, зарываясь в прозрачную плоть по мохнатые некрупные яйца, по самое горло, по юность, по Рембрандта с Ван Гогом. По самого Витгенштейна. И Клерамбо в нем стонал, а профессор Кандинский рыдал от восторга.
Она была разведенка. Опытная, как сама Венера Милосская. Прибегала с мороза с авоськой апельсинов, ибо любила добывать и пить их сок, швыряла оранжевые цитрусовые шары на подоконник. Сполоснув только руки и шею, шла к нему, холодная, как стеклянная рыбка, пахнущая развратом. Ночами снились ее песочные длинные ноги и торс, теряющийся где-то в созвездии Волопаса. А потом она стояла и курила у форточки в накидке. Venus pudica , Венера стыдливая, богиня, придерживающая рукой упавшее одеяние. И все выходило как нельзя лучше.
Вот и хорошо, подумал Левкин. Вот и следует выяснить, нельзя ли лучше или все-таки можно. А если все же нельзя, то в чем причина?! Кому дарить холодные апельсины, которые вот уже десять лет регулярно покупаются и выкладываются у оконных стекол? Может быть, дело в том, что апельсины должна покупать женщина, а мужчина обязан в дом приносить нечто иное?
Но тогда, помнится, он не приносил ничего. Бедный студент с больной головой и сердцем, разорванным вечным мерцанием, он прибегал к ней во флигелек на Гладковке в лихорадке счастья. Дрожащими руками открывал черным ключом дверь. Заходил туда и ждал, глядя в заиндевевшее окно.
Рыбка была старше на пять лет, но ему казалось, что она старше на вечность. На целый мир ярко-красной холодной любви, в которую он погружался, входя в нее, закрывая глаза. Как в дрожащую разноцветными бликами воду. «Стеклянная рыбка моя», – шептал он после и путем смещения фокуса зрения смешивал синеватую глубину серебряного от мороза оконного стекла и оранжевый свет, исходящий от апельсинов. Он считал Рыбку своей женой и собирался когда-нибудь в далеком, но привлекательном будущем сделать ей предложение.
А потом, после долгих относительно спокойных лет, его снова взяло мерцание. Этого не стучалось так давно, что Левкин начал уже пугливо надеяться, что эта часть его жизни канула в Лету и он сможет обрести нормальное человеческое счастье. Но однажды Иван лег в постель с Рыбкой, чтобы уже в следующую секунду очутиться через полгода в чужом доме на окраине. Лежал, вытянувшись в струнку в холодной постели, пахнущей сыростью и табаком, в комнате с ободранными обоями и практически полным отсутствием мебели, усваивая новую биографию и новую жизнь.
Выглянув в окно, с горечью под языком и холодом в сердце увидел цыганский поселок, прозванный неизвестно за что Ташкентом. Именно он окружал малосемейное общежитие барачного типа, в котором Левкину предстояло проживать вместе с кошкой и находящимся при смерти ипохондриком попугаем. А работал теперь Иван грузчиком в столярном цеху на небольшой мебельной фабрике. Судя по холодильнику, ел исключительно хрен под майонезом. Водку пил, смешивая в различных пропорциях с прокисшим кефиром. В новом дому царили грязь, обреченность и мутные стекла. Вот что было самое скверное – стекла, которые невозможно отмыть.
Конечно, он больше не был маленьким мальчиком. В тот же день отыскал свою Рыбку. Она скользнула по нему глазами, но не узнала. Они никогда не узнавали, те люди, которых он любил. Сколько ни объясняй. Ведь он попробовал однажды. Вышло скверно и смешно.
Это была тринадцатилетняя девочка, его бывшая сестра . Он решил попытаться втолковать ей, что тот, другой Иван – вовсе не Иван. А тот Иван, которого она знает и любит, который пел ей песенки, читал сказки, гладил ночами по голове, утешал и водил на первый этаж в туалет, облюбованный крупными заводскими тараканами, – именно он, стоящий перед ней сейчас, может быть и незнакомый внешне, но однозначно близкий по духу человек. Естественно, шансов на взаимопонимание было немного. Но в запале и отчаянии Левкину казалось, что он сможет все. Ведь раньше она была такая понятливая. Такая умненькая была эта девочка с большими темными глазами, с тонкими руками, упрямая, проницательная. Ну как же так?
«Послушай, – дрожащим голосом говорил он – полный, потливый, красноглазый беременный заяц, работник областной налоговой службы (с чем мучительно и неуспешно свыкался вплоть до следующего мерцания), – послушай. Я же тебе рассказывал, что такое может случиться, ты разве не помнишь?»
«Не понимаю, чего нужно, – делала большие глаза Саша, – не понимаю. Ты как вошел в дом? Был в курсе, где запасной ключ? Иваныч сказал? Ты его собутыльник? Вот же сука такая!» – «Не говори скверных слов», – сурово заметил Левкин. «Да пошел ты! Ты кто такой? Насильник? – Она пренебрежительно оглядела его с ног до головы и прыснула со смеху. – Тебе в таком костюме только коров насиловать». – «Ну что ж ты за дура, – взялся он за голову. – Я твой брат Иван».
«Мой брат давно уехал от нас с матерью в другой город. У него там жена и мерзкие сопливые дети. – Саша говорила, глядя серьезными серыми глазами. – Бросил нас ради них. Урод и мудак. Лизы дома нет, она в школе. А тебя я не знаю и потому буду кричать».
«Ну как же не знаешь! То есть я понимаю как. На самом деле все понимаю… – Он покачал головой. – Но надеялся, что в твоем случае это не сработает. Ведь я столько лет прожил с вами. Дольше, чем с кем бы то ни было. Сашка, я ж тебе триста раз рассказывал о мерцании. – Он горько улыбнулся, снял очки, протер их и водрузил на место. – Сколько раз предупреждал: это может случиться. Говорил, приду, как бог к еврейскому народу, а ты меня не узнаешь. А ты только смеялась, глупая девчонка». – «Я не глупая, – Сашка сжала губы и покачала головой, – на этом разговор окончен и я начинаю кричать. Как бог свят закричу! Вот тогда не зарадуешься!»
Медленно встала на стул, придерживаясь за плечо Ивана, открыла окно, из которого отлично была видна проходная металлургического завода, оттуда перебралась на подоконник. Села на него, отдышалась и весело заболтала ногами. «Если я сейчас стану орать, – она покачала тоненьким указательным пальцем перед его лицом, – это услышит охрана на проходной и мне обязательно помогут! А я, между прочим, кричу очень громко!»
«Да что ж ты за дура такая», – сказал Иван. Он чувствовал, как она важна для него. Может, оттого, что в тех семьях, где ему доводилось жить раньше, у него не было ни братьев, ни сестер. Родители появлялись в его жизни, исчезали, к совершеннолетию до отказа заполнив его сердце истомой горячей, но будто украденной им любви. А эта девочка отчего-то и в самом деле казалась ему родной.
«Не смей кричать», – строго проговорил Иван. Попытался одновременно снять Сашку с подоконника и закрыть окно. Был сердит, голова соображал плохо, координация, как всегда после мерцания, была слабовата. Он не нарочно толкнул ее плечом. Девица повалилась вниз со второго этажа, как тряпичная кукла. Упав на цветочную клумбу, даже не ушиблась, но с наслаждением и врожденным артистизмом заорала: «Граждане! Металлурги! Помогите! Пролетарии, на помощь!»
Иван постыдно бежал. Он не мог представить разговора с представителями рабочих династий. Да они запинали бы его ногами еще до того, как сообразили спросить документы. Да и что бы он ответил на их вопросы? Рассказал о мерцании?
Петляя среди кривых улиц заводских окраин, чувствовал жгучий стыд, мучительную досаду и горечь. Обиду и вину, вину и обиду. Кашлял, сипел, проталкивая огромное потное тело сквозь узкое, как пивное горлышко, пространство провинции. Через пару кварталов взял такси и упал на заднее сиденье, заплакал, зарыдал, тряся жирными, не смыкающимися под мышками руками, дряблой, лежащей на животе грудью. Ему всегда везло на тела и судьбы больших мальчиков, но в этот раз был уже перебор. Сто семьдесят пять килограммов. Мучительная одышка, приступы подагры и гипертонии. Бессонница, изнуряющие попытки забыть «прошлую жизнь» – маму Лизу, Сашу, гулкие просторные комнаты старого довоенного особняка, стоящего как раз напротив заводской проходной. Это был едва ли не единственный дом, за исключением самого первого, в котором он был по-настоящему счастлив. Лиза была из рук вон плохой хозяйкой, но именно поэтому в давно не знавших ремонта комнатах с обоями, помнящими еще хрущевскую оттепель, дышалось легко и привольно. Как в запущенном саду времени, где никто не спросит тебя, какой эпохи ты человек.
В тот вечер он много пил и думал о том, что хорошие мальчики не мерцают . А еще дал себе обещание, что в последний раз сделал такую глупость. Так что в кафе, где они с Рыбкой часто сидели вечерами, он пришел не для истерик. Сел напротив их столика и украдкой смотрел, тихо прощаясь с любовью, чувствуя себя слегка Джо Дассеном и совсем немного штандартенфюрером Штирлицем. Как-то одновременно ими двумя. И это было удивительно богатое чувство.
Потеряв умную, расчетливую, любившую оральный секс закусывать цитрусовой коркой, длинноногую, пахнущую холодом аспиранточку, Иван впервые настолько остро ощутил невозможность любви в ситуации своей жизни. Пару раз приходил под ее флигелек, заметенный снегами и набрякшими сизыми небесами. Наблюдал, как она с ним пьет чай, смеется, показывая крупные белые зубы, раздевается, ловким привычным движением задергивает занавески.
В общем, неудивительно, что после Рыбки ничего хорошего в постели с ним не случалось. Любить он теперь боялся, а без любви ничего путевого не выходило. Иван отчего-то слишком серьезно относился к процессу совокупления. Помечтать о чем-то, конечно, мог, стоя под теплым душем, но действительность каждый раз оказывалась страшна и убийственно несексуальна.
Ну как, скажите на милость, можно заниматься этим делом с женщиной, у которой к полуночи отрастает скандальнейший хвост, чешуя пахнет тиной, от которой по утрам несет гнилой рыбой, и этот запах неистребим?!
В последние недели совместного проживания с Мариной он, честно говоря, боялся, что зайдет как-нибудь ночью в ванную и найдет там полное ведро мальков. Так и видел внутренним взором этих крохотных существ. Как они разевают рты, улыбаются и говорят: «Здравствуй, папа! Вот и мы, твои гребаные детки. Кушать хотим. Не мог бы ты накрошить в воду городской булки или побросать чуток мотыля?
Мотыль, папа, – это червячок. Chironomidae . Личинка комара-звонца. Пальчики оближешь. В нем масса полезных элементов. Ты легко отыщешь его в придонном иле, иногда на глубине до трехсот метров. И не бойся, отец! Комары-звонцы безвредны для человека. Взрослые особи вообще не питаются, представь только». – «Как не питаются, – облизал похолодевшие губы Иван, – что, совсем?» – «Абсолютно! У них в процессе жизни не формируются ротовые органы».
Если бы такое случилось с ним наяву, он бы тут же умер. Просто лег бы в коридоре, а еще лучше в прихожей, чтобы далеко не ходить, сложил бы руки на своей толстой мохнатой груди и тихо скончался, предав душу богу, янтарю и их веселому яростному разноцветному ветру.
Но теперь все изменилось. Что именно? Прежде всего, Левкин долго не мерцал, а потому успел повзрослеть, возмужать, осмотреться. Стал редактором, и его профессионализм признал сам Жарден. Книги, которые Левкин делал из буквального дерьма, продавались многотысячными тиражами, лишний раз подтверждая слова некоего меланхоличного поэта насчет того, что вы бы просто охренели, если бы хоть раз узнали, из чего их делают.
Мало кто еще так просто говорил о противоречивых путях рождения произведений русской словесности. Левкин часто повторял про себя эти немудрящие строчки насчет лебеды, забора и задора. Нет! Ни к чему одические рати. И не отступит Иван от своего. Пусть летит осенняя паутина, а в груди бьется истерический бесенок мистического консерватизма. Пусть мучает страх и липкий густой янтарь покрывает тело абрикосовыми доспехами. Пусть сам Мрак явился к нему, как вестник грядущих перемен. Не беда! Он проживет свою жизнь. Так или иначе. Здесь или там. С этими людьми или совершенно с иными. Пусть часть из них вовсе не существует. Пусть невозможно выяснить, кто из них на самом деле присутствует в действительности, а кто только кажется изо дня в день. Это не повод, чтобы выбросить белый флаг.
Именно в эти дни Левкин решил, что не сойдет с уготованной ему стези. И выпьет эту чашу до дна, пусть это будет чаша вина или чаша Грааля, чаша земных страданий или громокипящий кубок неземных наслаждений. Да, приход Мрака сулил большие перемены. Но это, убеждал сам себя Левкин, поправляя очки на переносице, в первую очередь говорит о том, что меня, Ивана Павловича Левкина, где-то там принимают всерьез! Кто-то там!
Он поднял палец вверх и некоторое время держал его так. Опустив палец вниз, вспомнил, что в то время расхрабриться ему удавалось только после пары бокалов ледяного хереса. Будучи трезвым, с замиранием в груди ждал перемен. Он знал, что они непременно воспоследуют. Только не мог предугадать, когда это случится и что собой будет представлять его дальнейшая жизнь.
Однако в этот раз Левкин решил встретить неизвестность с улыбкой на губах. Как капитан Блад, как чернокнижник и колдун Джордано Бруно, как добрый человек Аурэлиано Буэндиа, который, стоя у стены в ожидании расстрела, думал о всякой невыносимой, мать его, ерунде. Как верный и преданный мушкетер ее величества Шизофрении.
Оставшись без телевизора, Иван расхрабрился и поставил себе цель – найти женщину. Цель, как ни смотри на нее, по сути идиотскую, хотя и было в ней что-то великое. Но что именно? Что значит найти женщину? И можно ли ее вообще найти? Находят ли женщину в принципе, и если да, то не нужно ли вначале ее потерять? Утратить, впасть в относительное забвение?! Не помнить о губах, сухом тепле тела, соке и запахе женских гениталий, об улыбках и милом кокетстве?!
В общем, задача первоначально мыслилась как теоретическая. Дело началось так просто, так обыденно, что Иван и подумать не мог, что все пойдет так, как пошло дальше. Но поставив себе цель найти женщину, Иван скоро почувствовал, что в первую очередь сам стал меняться в поле притяжения этой сверхзадачи. Как черная звезда, она понемногу вбирала Левкина в себя, и противиться этому не было никаких сил.
Маленькую щуплую женщину Иван знал уже несколько месяцев. На перекрестке неподалеку от станции метро «Шулявская» в огромной палатке, чем-то похожей на импровизированный театральный балаган, она торговала цветами. Левкин понимал, что такое женщина, торгующая цветами, и что им в принципе может быть надо друг от друга. Уютный ресторан, вино, мясо по-варшавски (пойдут отбивные или даже котлеты), пара страстных поцелуев (целовать, пристально глядя в глаза, лучше с холодным прищуром), решительный переход к делу – и готово. «Милая, вот твои трусики, в прихожей не забудь на обоях оставить номер своего телефона».
Но при ближайшем рассмотрении продавщица цветов оказалось женщиной, человеком, существом, феноменом, который невозможно было вульгарно и стремительно обольстить в той вальяжной гусарской манере, которую решил избрать для себя Левкин. Худенькую большеглазую женщину, имевшую внешность нелепую, яркую, безжалостно уродуемую безвкусными нарядами, звали Соней. Она носила китайские черные джинсы огромных размеров, мятые кофты или блузки темных тонов с кружевами, черные куртки с капюшоном или без, в которых терялась, как Одиссей в ладони Циклопа.
Женщина эта никогда не красила ресниц и не подводила губ, не носила серьги, не кокетничала в том смысле, как это делали все те женщины, которых до этого встречал Иван. Имела синие глаза и в черных одеждах напоминала недокормленного черного лемура Склатера. Иван думал иногда о том, как, отсидев в палатке двенадцатичасовую смену, она идет к себе в однокомнатную квартиру, чтобы до утра закрыться в ней, как музыка в шкатулке.
Пока он прикидывал да примерялся, дело шло само собой. И однажды Левкин понял, что сердце его теплеет, когда он представляет лицо и фигуру этой необыкновенной женщины. Он осознал, что вот уже несколько недель она близка ему, хотя даже не подозревает об этом, и горько усмехнулся.
Действительно, он часто думал о Соне перед сном, чтобы не тосковать о янтаре, при одной мысли о котором у него порой тяжелели конечности, становились огромными и бескрайними. Как это происходило обычно? Сначала возникал какой-то низкий вибрирующий звук. Иван ощущал его за гранью нормального диапазона. Он втягивал Ивана в себя, заставлял отвечать на него всем телом. В какой-то момент Иван внезапно замечал, что руки и ноги увеличиваются в размерах, делаясь все тяжелее и тяжелее. Первоначально еле заметно, будто исподволь, но потом все стремительнее в тело Левкина вливалась та самая темная материя, о которой в последнее время так много трындели в информационном поле Земли. Границы тела размывались, при том что само оно принимало космические размеры. Очень скоро масса Ивана Павловича достигала миллионов мегатонн. В эти минуты Левкин заключал в себе не меньше миллиарда солнечных масс, дьявольски изнемогая под их немилосердной тяжестью.
Это состояние было знакомо ему с самых ранних лет и являлось особо мучительным в те годы, которые Левкин остерегался называть детскими. Маленький Иван не выдерживал напряжения, начинал рыдать, срывался на истерику и крик, часто оканчивающийся обмороком. Во взрослом состоянии ему хватало выдержки, чтобы не орать и не биться головой о стены. Но без специальных приемов выбраться наружу из черной и страшно извилистой дыры, в которую он превращался (и одновременно западал) в процессе нагнетания массы, было невозможно. В разные периоды жизни он отыскивал некоторые мысли и образы, которые помогали ему выкарабкиваться наружу. В последнее время собственный космизм Левкин преодолевал исключительно с помощью мыслей о Соне.
О ней же, кстати, он думал, чтобы не страдать из-за множества своих родителей, раскиданных по городам и весям провинции Z, будто по разным мирам вселенной. А ведь перебирая в памяти их милые лица, немудрено было окончательно свихнуться.
Последние полгода ему снился один и тот же сон. Он стоял в одиночестве в центре цветочной палатки, которая на самом деле представляла собой цирковой шатер. Цирк уехал, а шатер остался. Какими-то судьбами все его бывшие родители, родственники и навеки утраченные друзья вдруг поняли, что именно он есть тот самый Иван , и отыскали его здесь. Увидев, окружили посреди шатра плотной разношерстной толпой.
Основная коллизия сна заключалась в том, что теперь уже сам Левкин почему-то оказывался не в состоянии их узнать. Выстроившись перед Иваном полукругом, бывшие родственники и сердечные приятели по-хорошему втолковывали ему, что он их сын и брат, любимый и друг. Умоляли. Рыдали. Хватали за одежду и брызгали слюной. Иван до боли в висках всматривался, честно пытался опознать хотя бы кого-нибудь из них, но не находил в причудливых лабиринтах своей памяти стоящих перед ним человеческих существ.
«Ну вспомни, – кричал обрюзгший мужчина с копной седых волос на голове, – ты же прожил у нас в семье с такого-то по такой-то год! Мы были тебе отцом и матерью! Ты страшно много ел и рос, ты все время рос. Как гриб, как Lophophora williamsii , как гребаный пейот! Мы никогда не знали, одежду какого размера тебе покупать. Ты сегодня мог быть маленьким, а завтра страшно большим, и наоборот. Скажи ему, Катя». – Он вытаскивал из толпы такую же, как сам, помятую и неопрятную женщину, смотревшую на Ивана умоляющими выцветшими глазами. «Да, Ваня, я грибница, ты вглядись в меня, мы же одно лицо». – Катя, чтобы Ивану было лучше видно, становилась к нему сначала в профиль, потом анфас. – «Вспомни! Ты же наш сын, мы любим тебя», – умолял седой толстяк.
«Извини, чувак, – растерянно бормотал Иван, – не припоминаю. У меня вообще не было родных. И потом, мне и не надо. Хватит. Реально, ни к чему. Шли бы вы по домам. У меня правда куча работы. Жарден сроки сокращает».
«Ну как же так! – Перед ним на колени бросалась полная дама в пестром ситцевом платке. – Вспомни, сынок, мы же держали корову. А отца у нас не было. Мила, Милкой ее звали, коровку нашу! Вспомни». Женщина внезапно пускалась в пляс, залихватски припевая:
Ах, милка моя на бутылку дала!
Хоть пей, хоть лей, хоть купайся в ей!
«Помнишь?! Ты ходил ее пасти. Босиком по траве по полям изумрудным, где холодные иглы вчерашних дождей?! Церковь нашу старую Свято-Троицкую? Как на клиросе пел? «Иже херувимы!» А вот это: «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве тебе, Владычице, ты нам помози, на тебе надеемся и тобой хвалимся, твои бы есмы рабы, да не постыдимся!» У тебя же голос ангельский, мальчик! Вспомни, как батюшка Александр тебя хвалил: мол, знатным певчим станет наш Ивашка!»
«Сынок, это же я, твой отец, – искренне улыбался Левкину черный от угольной пыли шахтер, мускулистой рукой раздвигая толпу, – привет, сынку! Как ты тут?! Помнишь меня? Как в шахту спускались? Ты ж еще чуть не обделался, когда клеть дернулась. Вспомни, парень! Что ж ты, в самом деле!»
«Ты сын металлурга, – убеждал низкорослый краснолицый металлург (каска, щиток, козырьковые очки), – помни это! Храни в себе нашу закваску! Храни ее, сын! И о нас с матерью помни!»
«Сынок, а чего ж ты все по-русски разговариваешь? – участливо интересовалась какая-то женщина в украинском костюме, сама изъяснявшаяся, между тем, по-русски с явственным московским акцентом. – И не стыдно тебе? Ты же украинец! В крайнем случае, белорус. Но в семье у нас только по-украински говорили. Где ты успел набраться этого москальского наречия?»
«Слушай сюда. Ты еврей, самый настоящий еврей, – убежденно твердил благообразный кучерявый старик в сильно поношенном костюме с галстуком в крупную черную клетку. – Ты еврей и должен знать это! Боже ж мой! Что бы они ни говорили, эти люди, с такого-то по такой-то год ты проживал у нас с мамой! Разве не тебя я водил в синагогу, скажи этим людям! Скажи им! Разве не ты знал наизусть всю Тору?»
«Эй, – говорил ему с тихой вкрадчивой улыбкой низкорослый смешной мужичок в широкой, спадающей вниз рубахе и штанах с красивым широким поясом. – Эй, мальчик. Вспомни, кто ты! Ты же серб! Вспомни! «Тамо далеко!» Помнишь, мальчик?»
Тамо далеко, далеко од мора,
Тамо је село моје, тамо је Србија.
После того, как во сне начинала звучать эта сербская песня времен Первой мировой войны, к горлу Ивана каждый раз подступали слезы. Ночь летела к концу, лица родителей наплывали, их руки цеплялись за одежду, скользили по щекам, по груди. Холодные и хваткие пальцы держали Левкина с необычайной силой. Толпа все сильнее наваливалась на него. Он чувствовал, что задыхается, страшась тех, кто требовал от него узнавания и любви.
Дернувшись всем телом, просыпался. Вытирая со лба холодный пот, брел на кухню и пил стаканами воду, глядя в окно на ночной Киев. Странно, говорил сам себе, с чего вдруг Сербия? Почему не Польша? Не Греция? Почему, в конце концов, не Финляндия, Эстония или Литва? Не постигаю.
Массировал глаза и виски. Чтобы снять стресс, думал о черной маленькой женщине с синими глазами, изо дня в день в трех кварталах отсюда торгующей цветами. Ее образ потихоньку становился панацеей от всех бед. Иван цокал языком, размышляя об этом и критически рассматривая свое отражение в зеркале.
Ведь именно о Соне нужно было думать вечером, чтобы не беседовать во сне с погибшим, но надоедливым Бен Ладеном. Гоу хоум, Усама! Если не получалось вовремя вспомнить о Соне, то Усаму удавалось прогнать только под утро, с трудом убедив себя в факте его смерти. Непростом, конечно, факте, ибо бедняга сначала умер от почечной недостаточности, потом был застрелен, а уж затем утонул. Тело покойного обмыли и завернули в белую ткань. Возможно, в парус.
Ивану нравилось думать, что это был белоснежный стаксель, честно отслуживший десятки лет на парусном флоте международного терроризма. Чистое, неоднократно убитое тело положили в аккуратный белый мешок, в котором уже лежал достаточный груз. Возможно, это были обыкновенные чугунные гири, какие любил во время оно таскать по утрам один из отцов Ивана. Безумные, тяжелые, шизофренические куски чугуна с надписью «СССР 24 кг» по бокам. Да, скорее всего, это были именно они.
Пахло морем. Орали бакланы. Гири «СССР 24 кг» матово светились в лучах тропического солнца. Угрюмый американский военнослужащий читал заготовленные молитвы. Его поторапливали. Капрал и сам не видел особого смысла в этой процедуре. Какой смысл читать молитвы над тем, кто был застрелен уже после того, как умер от почечной недостаточности и похоронен в горах Тора-Бора?! Но дисциплина – сильная сторона военнослужащих США, среди которых, как известно, так много игривых котиков. Коверкая чужой язык, морская киска Джон Смит дочитал молитву до конца. Тело было уложено на доску. Затем ее наклонили, чтобы завернутый в парус мужчина, повинуясь одному только закону тяготения, соскользнул в воду.
Что сказать, Усама, зрелые годы всегда приходят нежданно. И тогда поделать ничего уже нельзя. Приходится умирать раз за разом, в угоду друзьям и врагам, направлять самолеты на башни, а башни, возможно, превращать в самолеты, и мягко скатываться в море, обернувшись в стаксель, и погружаться в мировой океан, чувствуя только усталость и запоздалую грусть.
Чтобы глубокой ночью ради успокоения психики не редактировать статью о термостойкой резине, тоже нужна была Соня. Свет, слабо исходящий от ее матового пастельного лица, в час Быка удерживал Ивана от купаний в потоках Риччи вместе с Иоанном Крестителем. Помогал не плакать о бедном мясном уродце – тибетском животном собако, бедном буддийском суко. Давал силы не отвечать в постели до утра на замечания редакторов и рецензентов, сердито бормоча вполголоса, ворочаясь с боку на бок. Вместе с ним можно было не бояться близкого Апокалипсиса, идущего в обнимку с не менее решительным климаксом, а также не болеть всем тем, что несет, как грязную пену, информационный прибой планеты. Только памятуя о Соне, Левкин способен был не кричать, срывая свою усталость, на бедного отставного артиллериста, а иногда и железнодорожника, нищего и горького пьяницу, мастера, знающего толк в паровозах, тепловозах, в водке и карамельках. На парус майора, который ровно в пять утра каждый божий день был у постели Левкина, тут как тут. О, этот алкоголический парус! Более постоянный, чем смена времен года.
Левкин думал о Соне.
Положив ладонь под щеку, Левкин сонно моргал и видел перед собой эту женщину. И тогда называл ее киевским лемуром и шулявской обезьянкой. Вспоминал ее тонкие руки, унизанные бесчисленными браслетиками и фенечками, тонкую, пергаментную, просвечивающую на свету кожу.
Тело Левкина согревалось в постели, медленно отгораживаясь собственной теплотой от холодной разноцветной ряби столичного мегаполиса. Мысли текли плавно. Ему представлялось ее тело, невероятно большие и как-то по-простому чистые глаза, иногда прозрачно-синие, иногда темно-голубые, глубокие, как деревенские колодцы, в которых, должно быть, уже не один пьяный сторож утонул вместе со своей гребаной фаллической колотушкой.
Там, внизу, есть вода. Правда, к ней нужно долго падать, да зато, когда долетел, сразу понимаешь: возврата не будет. Она холодная, медленная, сине-черная, будто специально подкрашенная тушью, густая. Посмотрев вверх, увидишь далекие звезды, что спокойно качаются в вышине. А ты держишься руками за шершавую поверхность стенок колодца и думаешь о своей любви к лемурам – милому инфраотряду приматов в подотряде мокроносых обезьян.
Как-то лежа в постели, Иван Павлович внезапно заметил, какая эта женщина худая. Вовсе ничего не ест. Да ее кормить нужно! Желательно мясом, желатином, желтком, железою молочною, кисельными берегами. Через нее, подумалось затем, он мог бы редактировать, если бы кто-нибудь потрудился правильно установить подсветку. Для этого, конечно, Соню пришлось бы лишить одежды. Да-да, пожалуй, это было бы неизбежно. Если мужчина желает через женщину редактировать какие бы то ни было тексты, он сначала должен ее разоблачить.
В самом деле? Странно, что вы не знаете. Это сами собой разумеющиеся вещи. Нет, в самом деле, странно. Вот, например, в университете был спецкурс. Да, по редактуре через женщину. Представьте себе. И очень просто. Конечно, нанимали кое-кого. Ну, ясно кого. Женщин. Почасовка. Приходилось тратиться. Естественно, все в складчину, а что делать? Входил профессор, срезал черными ножницами одежду. Нет, не с себя. С нее. В это время кто-то, скорее всего лаборант, такой толстый неуверенный парень в очках, устанавливал свет. Да, немного больной. Совсем немного. Нет, его приняли на курс не только потому, что он страшно болел. Из-за этого, но не только. Если уж говорить откровенно, то он был страшно талантлив. А кроме того, в то время он приходился сыном заместителю ректора по учебной части. Иначе его яркий талант вряд ли кто-нибудь смог бы разглядеть. Очень уж он был стеснительный.
Так вот, устанавливали свет – и начиналось. С ума сойти, что такое эта работа. Просто с ума сойти. Что важно понимать. Все на свете имеет свой алгоритм. Сначала необходимо выбрать соответствующий текст.
Иван для начала, безусловно, взял бы «Сказание о сэре Ланселоте и королеве Гвиневре». Этот средневековый бред, по его мнению, нуждался в тщательном редактировании и отчасти даже в переписывании, дописывании и додумывании. Более бестолкового сказания свет не видывал, и давно пора было внести ясность в эту историю о прелюбодеянии и Чаше Грааля.
Гвиневера, Гуиневра, Гиньевра, Гуанамара, Гиневра, Гвиневир, Гиновер, Гвенхуивар, Гвенифар, Женьевер, Джиневра, и так далее, и тому подобное. Левкин с детства знал все имена королевы наизусть. И ни одно из них ему не нравилось.
Возможно, Гвенхуивар стала бы слабенько возражать. Или, скорее, робко вопрошать.
«Что вы делаете, Иван, – проговорила бы она, безвольно опустив худенькие руки вдоль своего тоненького, кое-где покрытого темненьким пушком тела, – что вы делаете?!» – «Разоблачаю вас, – ответил бы Иван тогда, – разоблачаю». – «Но зачем, – прошептала бы она, послушно усаживаясь на кровать, – зачем у вас в руках большие красные ножницы?»
«Дело в том, мадам, – улыбнулся бы Иван Павлович, срезая с крохотного лемура одежду, – что есть такая работа – редактирование. Она требует чрезвычайной сосредоточенности всего мужского естества. Надеюсь, вы это понимаете». – «Я понимаю, – прошуршало бы животное, – конечно, сосредоточенности». – «Ну вот, – сказал бы Иван, – так и не задавайте, Гвиневра, идиотских вопросов». – «Но зачем резать китайские черные джинсы, блузки с кружавчиками и черные колготки, – выпятила бы нижнюю губку обезьянка, – может быть, я могла бы сама их снять? На конкурсе лемуров на осеннем фестивале в Антананариву я получила специальный приз за раздевание». – «Нет, – покачал бы головой Иван, – ничего не выйдет». Она серьезно и доверчиво посмотрела бы на него тогда: «Отчего же?»
«Ты не замечаешь, Джиневра, но твоя одежда насквозь пропитана янтарем. Он много лет сочился из стен твоего жилища, как и вообще из стен этого города. Он растекался по тебе, когда ты спала одна и с мужчинами, садилась в вагоны метро и электрических поездов, покупала в супермаркете гигиенические прокладки, апельсины и виноград. Он заползал в самые укромные уголки твоего тела, но ты не знала об этом. Именно с янтарем у тебя случалась иногда интимная близость, а не с теми, кто обнимал тебя, вдыхая цветочный запах, за годы торговли цветами пропитавший тебя насквозь. Для того чтобы приступить к редактированию текстов, нужно освободить тебя от твоих одежд, ради полного обнаженья абрикосовых, в сущности, рыцарских доспехов, без которых немыслим ни один любовный турнир.
Если дело происходит в первый раз, срезанные лохмотья следует вынести из квартиры и выбросить в ночь. Есть, конечно, соблазн вышвырнуть их в окно на головы ни в чем не повинных, но, скорее всего, глубоко виноватых прохожих. Таковых, необходимо наконец признать, полным-полно на улицах этого города. Но желательно в мусорный бак, ибо сорить дурно. Следует собрать в охапку черные лоскутки, пропитанные желтым джемом текущей, как собако-суко, вечности ( кинологу на заметку! внимание! грядет спаривание! подготовиться! быть во всеоружии! ), и вынести в мусорный бак. Пусть завтра, ранним утренним рейсом, на закорках, возможно даже апельсиновых, на запятках, затирешках или задефисках кареты, пахнущей серой и молибденом, за ними приедут заспанные киевские гоблины и похоронят их в своих глубоких темных норах.
Слово «кареты» в предыдущем предложении, к сожалению, слишком напоминает слово «катетер». Но прошу внимания! Сходство отменяется! Считать несущественным. Ненужным. Случайно возникшим в процессе. Приказываем удалить, изъять, вычеркнуть. Ибо больница. Ибо бред. Ибо бутербред, бутербрат, битер бут, брудершафт, эшафот и неизбежно шуцманшафт, как память о вечно идущей войне. А до бутербродов мы так и не доберемся. Ибо не до того! Ибо Чаша Грааля дрожит и сверкает кипящим металлом, а недокормленный черный лемур Склатера лег поверх пергаментов. Мы подсветим его снизу двумя горючими, как слезы, лампами. Буквы проступят сквозь женское тело и сольются с рисунком вен».
По пути из отделения банка, где Левкин обычно получал гонорары, он иногда, утоляя обострившиеся печали, выпивал. Конечно, это было крайне неполезно. Каждый раз, выпивая, он вспоминал одного своего старого знакомого, который порой напоминал ему о вреде алкоголя. Сумасшедшего профессора филологии. Старого и странного во всех смыслах.
О выпивке он говорил, что пить – судьбически губительно. Профессор был страшно талантлив, к тому же являлся внештатным сотрудником КГБ. Причем стоял на своем нелегком посту до самой старости. Давно уже вычеркнули данную почтенную организацию из легкой мерцающей летописи настоящего, а талантливый старичок продолжал стучать. Его не смущало движение эпох внутри вверенной ему в обозрение вечности. Он стучал в прошлое так же просто и регулярно, как когда-то в настоящее: «Тук-тук, я здесь, прием. Ваш маленький лысенький тут! Ваш милый скромный на связи. Агент с кодовым именем тут как тут! Цицерончик тук как тук! Так, как тук. Тут, как так. Ти-ти та-та, та-та ти-ти». Тоненьким требовательным писком.
При взгляде на профессора отчего-то становилось отчетливо ясно, что азбука Морзе придумана не Кириллом и Мефодием. Впрочем, Сэмуэль Финли Бриз Морзе был тоже непростой человек. Первая депеша, посланная из Балтимора его электромагнитным пишущим телеграфом, содержала всего одно предложение, зато какое! «Дивны дела Твои, Господи!» – вот что поторопился сообщить Сэмуэль Морзе в Вашингтон. Что ответил Господь, осталось неизвестно.
В общем, КГБ уже давно не было, а старик Цицерончик аккуратно и внимательно следил за происходящим вокруг, был в курсе всего, старался вникать в мелочи. Из университета удалить его никто не пытался, хотя бы потому, что юридически это было делом почти невозможным. Старичок имел разнообразные степени и регалии, его научные работы были признаны мировым научным сообществом и уже лет пятьдесят считались академическими. Лекции он вычитывал аккуратно, никогда не болел, видимыми проявлениями маразма не страдал, а значит, и претензий со стороны администрации к нему быть не могло.
Вот он и наблюдал за миром по методу Дона Хуана, слегка прищурив глаза. Именно так вычислил Ивана. «Я знаю, – прищурившись, сообщил он Левкину как-то после лекции, – вы не человек, не хомо сапиенс!» – «Неужели?» – поднял брови Иван. «И я понимаю, зачем вы здесь!» Иван заинтересовался. «Вот так история, – сказал он, – и зачем же?»
«Дело в том, молодой человек, – профессор жестом пригласил его следовать за собой, – что в тех местах, где мы живем, бытует множество самых странных легенд и историй. О некоторых я уже успел сообщить куда следует, уведомил кого надо. Думается, что в свое время были приняты соответствующие меры. О некоторых написать еще предстоит». Старичок завел его в свой кабинет, по сути бывшее складское помещение, которое самочинно захватил в личное владение энное количество лет назад.
«Присаживайтесь! Будем пить чай! Вы пьете чай?» – «Да, я пью чай». Иван осмотрелся. Вокруг лежало множество запыленных рукописей. А скорее всего, просто старых и ненужных личных дел. Чьих-то дел, которые когда-то были личными, важными, срочными, но теперь, вдруг или с некоторых пор, перестали быть таковыми. И вот пылились, пребывали в ожидании старика Годо, доброго старого пьяницы, который, как известно, ходит по жизни с непогашенным ярким окурком в уголке своего синего слюнявого рта.
«С сахаром?» – «Да, с сахаром». От пола до потолка бесконечными рядами шли полки. Этот пенал имел высоту двенадцать метров и длину не менее двадцати. При ширине в два с половиной. Стоило Левкину посмотреть вверх, и голова начинала кружиться, ему тогда казалось, что находится он не в запутанном лабиринте университетских коридоров, но где-то на чердаке. Возможно, на простом пыльном чердаке из тех, что, вероятно, случались в его детстве. Он лежит на старом диване, который неизвестно кто и зачем поставил на этот чердак в незапамятные времена. Из щелей между досками бьет свет, разрезающий пространство на длинные светящиеся плоскости, каждая из которых обладает своим временем и уникальными физическими законами. Но стоит тряхнуть головой – и все становится на свои места. Возможно, не на свои, просто на некие места, привычные, удобные, насиженные, намоленные или что-то в этом роде.
«Итак, – сказал старик, пожевал губами и пощипал себя за длинные редкие седые сомьи усы. Иван тряхнул головой и посмотрел на него. – Вы не хомо сапиенс и пришли к нам сюда для выполнения совершенно особой миссии! Были бы здесь те, кто всегда своевременно реагировал на мои сигналы, мы бы с вами тут просто так не сидели и не беседовали. Потому что мне лично очевидно: вас необходимо препарировать, изучать. Сделать это следует так. Вежливо пригласить. Объяснить все по-хорошему. Потом, поддерживая под локоть, провести в просторную опрятную операционную. Там увлечь беседой. Во время нее вам необходимо незаметно дать снотворного. Иногда помогает газ. Я не силен в том, какой именно. Но, боже мой, разве это не все равно? Допустим, тот же пресловутый иприт. Дать его вам. Затем уложить на стол и пригласить секретных хирургов».
«Думаете, это необходимо?»
Старичок удивился: «А как же иначе? Вас необходимо разрезать, если вам больше нравится, расчленить, выделить главное, затем второстепенное. Естественно, обнаружится масса придаточных. Пожалуйста, пример: «Вася выстрелил из револьвера, чтобы убить ворону». Кто выстрелил? Вася. Для чего выстрелил? Чтобы убить. Кого убить? Ворону. О чем мы говорим? Непонятно. Вася что сделал? Выстрелил. Куда выстрелил? В себя выстрелил. Не может быть. Почему? Потому что убил-то он ворону! Хрень какая-то выходит.
Между прочим, – старичок покачал головой, – эта история с вороной уже который год не выходит у меня из головы. Но можно через пару секунд попробовать вновь. Мы с вами, дорогой коллега, ученые, а ученым не пристало впадать в отчаяние по пустякам. Ученый, пьющий черный чай, отбросит злобу и печаль. Но ни в коем случае не алкоголь! Вам эта судьбически губительная жидкость крайне вредна!
Итак, давайте попробуем еще раз.
Вася выстрелил из револьвера, чтобы убить ворону. Чувствуете? Сама ситуация предполагает некоторое развитие. Некую тайну мистического свойства».
«Отчего же прямо так мистического, – пожал плечами Иван, – да и чего тут тайного?»
«А очень просто, мой юный коллега, – оживился Цицерончик. – Вася, не будь дурак, стрелял не в зайца, не в белку, не в президента нашей несчастной республики, чего, казалось бы, проще, но в черную ворону! А она, в отличие от президента, имеет свое латинское название Corvus corone, а кроме этого является посредником между мирами. Питается падалью, но летает в небе. В ворона обращался Илья, пророк Божий, дабы принести пищу Христу. Черный ворон с белой головой означает алхимическую победу над распадом, а значит, и над энтропией, хамством, черствостью, эгоизмом, развратом, бездуховностью, всякой бессмыслицей и нарушением прав трудящихся на производстве. И, как следствие всего вышесказанного, над смертью, ибо что такое душевная черствость, дебелость, неумильность? Что такое нарушение прав трудящихся? Это смерть и еще раз смерть!
И вот, смотрите, мой друг, Вася берет револьвер и стреляет в ворону. Что должно быть в голове у человека, который стреляет в ворону? Мозги? Сомневаюсь. Но если допустить, что Вася – не учащийся профессионально-технического училища, имеющий неблагополучную генную историю, мы приходим к череде естественно возникающих вопросов. Кто взял револьвер? Вася. Для чего он его взял? Чтобы выстрелить. В кого? В ворону. Что происходит? Непонятно. Вася что сделал? Выстрелил. Куда выстрелил?
Да лучше бы, действительно, он в себя выстрелил, – пожевав пару секунд губами, проговорил старичок. – Чего, конечно, не может быть, потому что убил-то он ворону! Видите, снова выходит какая-то хрень!» Профессор пожал плечами и пригубил из чашки.
«А если все-таки Вася выстрелил в себя, – предположил Левкин, – а попал в ворону?» – «А что, – наклонил голову старичок, – вполне может быть. У него мог быть тремор на фоне делирия. Руки тряслись, вот и досталось бедной вороне то, что причиталось Васе. Впрочем, я думаю, не нам с вами, молодой человек, суждено поставить все точки над «i» в старой как мир истории о Васе и вороне. Ведь, кроме всего прочего, неясно, кто кого осилил в итоге или, точнее выразиться, в финале этой старинной, красивой и, согласитесь, по-настоящему величавой легенды. Чья, как говорится, взяла: Васина или вороны? Если он все-таки имеет ошибки в генном коде, то мог просто промазать. Ворона взлетела, махнула крыльями, сделала разворот, превратилась, для примера, в стратегический бомбардировщик «Б-52», не оставив таким образом Васе ни единого шанса.
Так что сами видите. Ну и, кроме того, сказано, «чтобы убить ворону»! Согласитесь, у Васи следует предположить неожиданно высокую степень просветленности, если мы решимся утверждать, будто он стрелял в себя, чтобы убить ее».
«Да, это маловероятно», – согласился Левкин.
«Ну, так и вот. Поскольку все равно их нет, тех, кто смог бы вас разрезать и изучить (временно нет, смею вас уверить), то попытаюсь просто вас отговорить. Милый мой, не стоит делать то, что вы все-таки неминуемо сделаете! Не стоит», – задорно повторил старичок, махнул крохотной ручкой и нажал на клавишу чайника. Тот вскипятил воду почти моментально. Старичок вытряхнул из маленького розового чайничка испитую заварку и всыпал туда новой. Залил кипятком. Моментально запахло сладковатым крупнолистовым чаем.
«Пока не понимаю, – пожал плечами Иван, придвинул, наконец, к себе большую кружку и в ожидании заварки положил туда три ложки сахара. Подумал и положил еще три. – Не понимаю вас». – «Да ладно вам, – хихикнул старичок, всматриваясь в Левкина веселыми внимательными глазками. – Сами расскажете, что в вас не так, или прикажете мне за вас расстараться?» – «Ну попробуйте», – пожал плечами Иван.
«Тогда вот что, – Цицерончик налил Левкину чаю, потом кипятка, – начнем издалека. С того, например, факта, что когда-то давным-давно как раз на этих холмах, справедливо именуемых Венендерскими, на которых и расположилась наша с вами промышленная провинция Z, жило племя. Что за племя, не важно, да я и не помню. Важно, что все это как-то связано со скандинавским богом. Имя его нам ничего не скажет, потому можно условно назвать его Васей».
«Я понял, – Иван поставил чашку на стол, – Вася взял револьвер и выстрелил себе в голову шесть раз. Пожалуй, пойду». – «Обожди! – Старичок сморщил лицо, превратившись на пару секунд в гнилую грушу дичку, оснащенную печальными глазами. – Быстрый какой! Ну, хотя бы песенку ты такую знаешь?» – «Какую?» Цицерончик поднял бровки и мелодично запел, забавно покачивая головой: «Я спросил у ясеня! Где моя любимая! Знаешь такую песню? Новый год встречал?»
«Знаю, встречал, – Иван скосил глаза на часы. – Срочные дела, – забормотал он, – неотложные визиты, конспекты, лекции». – «Так вот, эта песня о нем!» – «О нем?! О ком?» – Левкин поднял брови. «О дереве Иггдрасиль, соединяющем все миры, – радостно сообщил Цицерончик. – Он же ясень, Fraxinus, представитель древесных растений из семейства маслиновых, растущий на Венендерских холмах. И эта песня о нем! А слова к ней написал троцкист и враг народа Володя Киршон. «Я спросил у ясеня!» Читай – «спросил у Иггдрасиля!» На первый взгляд кажется, стишки о любви, а на самом деле – смотри, что тут замешено! Каково? Не зря, пожалуй, его расстреляли, как считаешь? Ну, то есть не Иггдрасиль, а Киршона. В корень смотрели товарищи. Смотрели и видели они этот Иггдрасиль в гробу! А Киршон-то каков? Ему ведь верили. На него надеялись».
Старичок снова превратился в грушу с глазами и стал прихлебывать чай, наблюдая за Иваном умными бусинками зрачков. «Просто офигеть, – проговорил Левкин и медленно, с сожалением отодвинул от себя чашку. Встал. – Приятно было побеседовать».
Ему вновь почудился старый чердак. Пыль. Полосы света, делящие пространство на ровные красивые плоскости, в которых двигалась мелкая янтарная пыль. Взялся за холодную металлическую дверную ручку, разболтанную и старую, как все в этом давно уже подлежащем сносу здании. Профессор не спеша нараспев прочитал-продекламировал ему в спину: «У него было много матерей и отцов, но матерью, которая родит его в смерть, станет птица».
Иван выскочил за дверь, с силой захлопнул ее за собой, посмотрел вправо и влево. Вокруг простиралась милая сердцу Шулявка. А за спиной высилась громадная дубовая дверь банка. Иван достал из кармана бумажник и пересчитал только что полученные деньги. Их было непривычно много. А впереди маячил новый заказ, и было ясно, что можно и даже нужно позволить себе немного расслабиться.
В дни получения гонораров Левкин чувствовал себя активно вовлеченным в процесс жизни. Именно поэтому выпивал, как бы бравируя этим. Находясь в подпитии, в последнее время регулярно посещал цветочную палатку, расположенную как раз на полпути из банка к снимаемой им квартире. В этой палатке он находил и цветы, и Соню, у которой и для которой покупал ее же собственную продукцию. В какой-то момент это уже стало традицией.
В этот раз он оказался вовлеченным в процесс жизни сильнее обычного и думал о том, что вот оно, счастье. И нужно брать его за несуществующие рога – характерное образование на головах у представителей семейств полорогих, вилорогих, носороговых, оленевых, а также и жирафовых. Внимание кинологам! Имеющийся у нарвала рог на самом деле таковым не является! В данном случае имеем бивень, который есть клык. Выпив в кафе два по пятьдесят, Левкин, выйдя на улицу, поежился, неопределенно улыбаясь.
Расстегнул плащ, медленно закурил, не без сиротского наслаждения впустил в себя осеннюю рябь и морок мира. Предчувствуя, что сегодня, вероятно, позволит себе это . По мере приближения к цветочной палатке Левкин существенным образом менялся. Походка становилась все более развязной, а выражение лица все более брутальным. Сейчас он внутренне походил на шулявских хулиганов больше, чем сами шулявские хулиганы. Внешне же напоминал слоника из мультфильмов Уфимцева и Шварцмана о тридцати восьми гениальных попугаях.
«Иван Павлович!» – Соня тихо, но очевидно обрадовалась его появлению. По внешнему виду и медленной его улыбке угадала, что сейчас он примется двусмысленно покашливать, развязно покачивая головой немного вниз и влево, делать губы трубочкой и покупать розы. Левкин понял, что она угадала. И ему стало от этого тепло и приятно.
«Соня!» – Иван стоял перед ней, легким покачиванием бедер демонстрируя, что флирт ему не чужд, как и зов плоти. (Ему, как и вообще всем представителям могучего рода Loxodonta africana. ) «Иван Павлович, – опять проговорила Соня, – Иван Павлович».
«Какие у вас сегодня цветы?!»
«Альстромерия, – Соня внимательно смотрела на Левкина, – антуриум, бромелия, ванда, гвоздика и герберы. Есть фаленопсис, но несвеж. Имеется гиацинт и агапантус. Хризантема в ассортименте. Лилия. Но я знаю, что вам нравятся розы». – «Да, – сделал губы трубочкой Иван, мне нравятся». – «Тогда вот, смотрите, Иван Павлович, Сноу Кэп, Капитано, Тунайт, Доломиты и Эвеланж Меджик. Кроме того, Куба Либре, Еллоу Ай и Аква Герл».
«А вот эти что же?!» – «Ой, ну что вы, Иван Павлович, они очень дорогие!» – «Дайте!» – Иван величественно махнул рукой. Соня выбирала и старательно упаковывала цветы, а Иван наблюдал за этим процессом. Затаив нетрезвое дыхание, изучал линии ее лица и тела. Она ему очень нравилась. Хотелось потрогать. Прикоснуться телом к телу, своей жизнью к ее жизни. Убедиться, что она есть. Что здесь. Что у нее кровь и плоть, зубы и лоб, живот и влагалище. Слезы под утро и озноб от холода. Смех от радости и улыбка от боли, запах из-под мышек, а также ношеные женские трусики, распространяющие к концу каждого дня совершенно непередаваемый аромат, невозможный у мужчин.
И маленькое личико, ароматное и горькое, как сердцевина абрикосовой косточки. Его можно будет прятать в ладони, внезапно подумал Иван, если ей вдруг приспичит слегка поплакать.
Нет, конечно, в его тяге к ней было много чувственного. Ведь секс Левкину, бесспорно, был нужен. Хоть с нарвалом, хоть с лемуром, хоть с молодым, в сущности, суккубом из магазина мужского белья на Крещатике. Что ж поделать, если так угодно Богу и янтарю? И никто в этом не виноват, уговаривал себя Левкин.
Он смотрел на Соню, и ему вдруг стало легко-легко, как никогда раньше. Она обернулась и протянула полтора десятка иссиня-черных роз, перевязанных простенькой белой лентой. Когда, шаркнув ногой, он отдал их ей обратно, в Сониных глазах появилось такая радость, что Иван даже испугался. Замялся, втянул голову в плечи. Она не могла, не должна была так радоваться. Женщины обычно этого не умели.
«Спасибо, Иван Павлович, – проговорила она и уткнула лицо в розы. – Ничем не пахнут. Разве только сладкой травой». – С тихой радостью пожала плечами.
Левкин ответил на ее улыбку и ощутил себя если не хозяином мира, то уж, во всяком случае, парнем, прочно укорененным в бытии, которому по праву принадлежат девушки, цветы, автомобили и либеральные ценности. Рябь не то чтобы заслонила собой желтоватую изнанку мира, но как-то так вписалась в нее, как-то так приладилась, что Иван чувствовал: сегодня их отношения с Соней должны перейти в следующую фазу.
Вручив цветы, Иван собрался сказать что-то единственно важное и нужное, напрямую касающееся природы и погоды, но неожиданно для самого себя просто пригласил Соню к себе в гости.
«Видите ли, я живу одиноко, – начал он, немного покачиваясь из стороны в сторону и не замечая этого. Запнулся и замолчал, будто пытаясь понять, что говорить дальше. Они какое-то время завороженно смотрели друг на друга, не имея понятия, что воспоследует за всем за этим. – А еще у меня имеется хороший коньяк», – наконец добавил Левкин скучным голосом и сделал губы трубочкой. «Я не пью коньяка, – спокойно ответила Соня, – но мы могли бы купить вина и пирожных. А еще мне страшно хочется горячего черного чая. И сахара, побольше сахара, пожалуйста, если вас не затруднит».
«Нет, не затруднит, – заверил ее Левкин. – Как можно, чтобы меня затруднила такая малость! Не затруднит, не зарундит, не ерундит, не эрудит, в конце концов, не затрындит и не вытрундит! – Он казался себе остроумным. – Ибо сладкое – это скрытая основа жизни. Представьте, я сам невыносимый сладкоежка. Перемещаясь из города в город, из квартиры в квартиру, из одних объятий в другие, от школы к школе, от педагога к педагогу, от студенческого коллектива до коллектива пятой бригады сто двадцать седьмого троллейбусного депо, я усвоил единственное незыблемое правило: ешьте сладкое! Пейте холодную газировку, коньяк с конфетами, херес, вино марочное и игристое, заедайте все это пахлавой, шоколадом, сгущенным молоком, какао-бобами, финиками, сыром тофу, мармеладом, фисташками и кунжутом в меду! Поощряется мясо и рыба, самогон и граппа, коньяк и медовуха, ликер и вермут. Травы, степи, настойки, попойки, случайные связи с презервативами и без них, неслучайные связи тем более без презервативов, без счета, без смысла, без кожи и рожи. Поза грустного миссионера, алебастрового аиста, одинокого волка и танцующего комара. Умоляю! Без паллиативов, пластмассы и пластика! Ешьте и пейте, спите и энтероколите все, что вам заблагорассудится себе энтероколоть!
Ведь что такое конфета? Ты кладешь ее в рот, чтобы изменить что-то в своей голове. Значит, в ней что-то не так. Что-то требует улучшения, апгрейда. А раз требует, так пожалуйста! Клади себе в голову конфету и меняй, меняй себя! Меняйте, покуда меняется! Мерцайте, покуда мерцается! Но в то же время помните, что у хороших мальчиков таких проблем нет».
«Милый, – проговорила Соня, нежно поглаживая его правую щеку. – Третий час ночи. Все в порядке? Ты вообще где?» – «Я где? – Иван огляделся, шумно выдохнул и сел в кровати, тяжело осмотревшись вокруг. – Я нигде. И я в большом непорядке. И могу сказать отчего».
Он снова вздохнул. «Скажи, почему твой цветочный ларек появляется только тогда, когда я пьян? В чем тут секрет? Может быть, тебя не существует? Не имеет место быть, не есть, не тварь, не сотворенное, фикция, ноль. Иллюзия человека? Болезнь?»
Она смотрела без смущения: «Как это?» – «Так же, как все вот это. – Он обвел руками просторную комнату, за широкими окнами которой протяжно гудел листопад и вкрадчиво, но не ритмично мерцали крупные звезды. – Я ведь очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли папа-священник ронял меня с колоколен. То ли мать в молоко подмешивала алкоголь.
Никто, кроме меня, не знает, насколько. Это страшная болезнь. И она не лечится. Точнее сказать, лечится, но не излечивается. Старая падла упряма, как канцелярский артикул. Не желает поддаваться излечению. Ни письменному, ни устному. Ни радио, ни телевидение, ни удары током в лицо. Я встревожен всем этим. Отягощен. И, боже мой, как тяжела моя чаша Грааля! Как страшно каждый раз безвозвратно обретать и терять свою Гвенхуивар. Невыносимо каждый раз отдавать ее королю Арктуру только потому, что он хороший волопас, никогда не мерцал, не мастурбировал и не писался в постель!»
«Бедный-бедный мой редактор, – говорила Соня, – усталый слоник, мозг, оснащенный ушами, зубами, глазницами. Как же ты нуждаешься в ком-то. В ком-то таком, который бы был». – «Именно, – всхлипнул Иван и прижался к ее острому плечику, – я в нем нуждаюсь. Я так нуждаюсь в том, кто есть, наличествует, имеет место быть. Понимаешь?» – «Я понимаю, понимаю! Не плачь! Я буду теперь у тебя!» – «Правда?» – «А как же! – Соня печально и серьезно смотрела на него своими темно-синими глазами. – Я буду твоя, но вопрос в том, как долго. Ведь я действительно не знаю, куда девается мой цветочный ларек, когда ты трезв. Вот в чем дело, если хотя бы на минутку предположить, что мы говорим о деле. Видишь, как все запутано?»
«Вижу, – тихо и доверчиво кивнул Иван, тыльной стороной ладони вытер слезы. – Но как же нам быть? Где найти этот ответ?» – «А может быть, – предположила Соня, – не стоит этого делать?» – «Возможно, и не стоит, – согласился Иван. – Ведь если тебя нет, то уже нет. А если ты есть, то поведение шатра для цветов не касается нас совершенно. Пусть этой проблемой занимается цирк, который уехал неизвестно куда, не сняв со стен свои гниющие афиши, не выключив огней, не уложив гирлянды в коробки, а коробки в следующие коробки, а те в другие, в третьи, в четвертые. Не облив это все скипидаром, смешанным в равных пропорциях с бензином, и не подпалив. Не все ли равно, иллюзия ты человека или человек, если на самом деле любишь?»
«Я люблю, – кивнула Соня. – Однако в данный момент у меня появилось такое ощущение, что я люблю тебя гораздо больше самой себя. Боюсь, это является признаком того, что меня нет». – «Это не может являться признаком того, что тебя нет, – сурово поджал губы Левкин. – Честно признаюсь, появляющаяся и исчезающая палатка, подвижное и обманчивое место твоей работы, пугает меня в этом смысле гораздо больше».
«Но что поделать! Будем радоваться тому, что имеем. Не станем ничего выяснять о блуждающем, как звезда, цветочном шатре. И о розах не станем выяснять, слишком пошлые у них названия. Не станем!» – Она твердо и преданно посмотрела ему в глаза. «До конца?» – «До конца! И не ходи ты больше туда, не ищи себе этой работы. Вдруг ее нет, и тогда все закончится, не успев начаться».
«Почему же?»
«Понимаешь, девочка, – Левкин прижал ее худую руку к своему соску в районе сердца, – я не смогу быть с тобой дальше, если выяснится, что ты только часть меня, пусть даже и не самая худшая. Мне ведь нужен рог нарвала, а не фантазии. Понимаешь? Зуб кашалота. Трусы стюардессы. Свинктер и кофе. Вход и выход. Завершить работу компьютера, перезагрузить, сменить пользователя. Эрекция. Энергичные долгие фрикции, семяизвержение, приступы нежности и тоски. Задыхаться, потеть, кончать и плакать. Мне все это нужно. Не знаю почему, но дело обстоит именно так, и не в моих силах тут что-либо изменить».
«Но разве сейчас у нас было не так?» – «Так! Клянусь всеми идиотами круглого стола и афропрезидентами белого, как сумасшедший кролик, дома! Все было именно так, как надо! Но пойми, если вдруг окажется, что тебя нет, я не смогу больше проделывать все это, зная, что на самом деле , да будет проклято это выражение, тебя нет, а есть только я, мастурбирующий во вселенной, являющий собой астральное посмешище, адский ноль, извращенным образом умножающий себя на себя! Чтобы этого не произошло, во имя нашей любви и верности, во имя немеркнущих истин и негибнущих рыцарей трех вселенских королей – Артура, Арктура и Акупунктура – клянись, что не станешь допытываться, существуешь ли ты на самом деле или нет! Клянешься?!» – «Клянусь!»
О, что это была за осень!
Шли ледяные дожди. Заказов было мало. Влюбленные много времени проводили вместе, ибо Соня оставила поиски невидимого, а может быть, и видимого шатра, незыблемо мерцающего на Шулявке, ибо оставила вопросы о себе и своей природе до лучших, но, скорее всего, худших времен. Ибо либидо есть даже у иллюзий, а также у женщин, побаивающихся оказаться несуществующими. Ведь никто так и не доказал, что Соня не имеет место быть. Да и кому бы пришло в голову заниматься этим неблагодарным делом?
«Удивление, да и только», – проговорил Иван, заметив в зеркале, что за последний месяц сильно похудел и непоправимо, судьбически губительно состарился. Но зато его беседы с Мраком оказались забыты. За что он был несказанно благодарен всем, кто был за это ответствен. Ведь Левкину было не до того.
Он настолько счастливо проживал холодные месяцы своей последней любви, что даже птицы провожали его мечтательными взглядами, когда он брел, преодолевая ветер, по дороге из дома в булочную или наоборот. По вечерам, задумчиво раскачиваясь на черных обледеневших деревьях, вспоминали юность, утирая крыльями заостренные морды, то ли летучие мыши, то ли целлофановые пакеты, то ли призрачные величины математических уравнений, немного похожих на позднее творчество Рильке.
Шел то дождь, то снег, и в пространстве между высотными домами метались листья, пластиковые бутылки, исписанные клочки бумаги, пергаментные несчастные лица навсегда забытых Иваном людей. Пирамидальные тополя заполонили гигантские прозрачные богомолы и муравьи. Отчетливо были видны их исключительно длинные конечности, маскируемые ветром под тополиные ветки. Они ползали вверх-вниз и трепетали.
У Левкина открылось второе дыхание. Он вновь, как в те годы, которые лучше не называть детскими, почувствовал вкус к медленному, внимательному проживанию жизни. Все на свете вдруг стало равновесным, весомым, значимым. Ивана Павловича будто приподняли над землей и понесли, как декоративного кролика по улицам неродного ему города. Он научился с радостью жить в средостении между бредом и кошмаром, внимательно посверкивая кроличьими глазами, пошевеливая пушистыми лапами и мягкими на ощупь длинными абрикосовыми ушами.
Выяснилось, что именно между бредом и кошмаром имеется тихий уютный тупичок сладкого ласкового секса. Вольер для седых стареющих редакторов, любящих пить коньяк, шевелить по утрам пальцами ног, смотреть телевизор, читать словари. Давно, кстати, осатаневших от поэзии тихой, почти детской, ненавязчивой мастурбации, слишком часто встречающейся у мужчин, не желающих жить, чтобы это было случайностью.
В хрупком равновесии блуждающих равновеликих переменных Ивана Павловича вдруг перестала волновать циничная и злая ахинея, которой были исполнены издательские тексты. « Лег под поезд Левкин Ваня , – прочел он как-то, – в ярко-красном сарафане. Ваня Левкин, Ваня Левкин умирает без коленки» . – « Ни «х», «у», «я» не угадали , – написал в ответ Иван, – сами страшно умирали, ну а Левкин наш Иван сыт и пьян».
Этот случай его развеселил. С этого момента Иван Павлович стал храбр в редактуре, отважен, как РЛС, говоря проще, Ричард Львиное Сердце, что неизбежно было отмечено ответственным редактором. Жизнь налаживалась. Мрак упорно не появлялся. Все перемены к лучшему, убеждал себя Иван, всенепременно.
Как бы то ни было, среди зимы грянула густая синяя оттепель. Город ожил, забулькал, как пивная бутылка. Опережая время, заблагоухал почками, мочой, талой водицей, горьким искренним дымом, деревьями и землей. Суровый февраль, как налоговый инспектор, бродил по земле, а Иван, смущаясь, слонялся среди обнажившейся сексуальности мира с полными слез глазами. С мошонкой, исполненной ветра и трепета. А по утрам иногда пренебрегал синицей, то есть парус-майором, отставным алкоголиком, артиллеристом, немолодым специалистом по чехословацким тепловозам, упорным строителем сосновых детей ради алебастрового журавля, горячо трепещущего в бархатных лапках лемура Склатера.
Но счастье не длится вечно. И вот как-то в феврале, среди ночи, наполненной через край любовью, Иван заснул. Ибо забылся на минутку. С кем не случалось? Секс изматывает. Раз за разом, раз за разом. И, в сущности, ведь приходится делать одно и то же, затрачивать при этом усилия, изнашивать кожу пениса, мозг ума, чувство сердца. Как ни крути, но отдых неминуем.
И вот, пока он спал, облапив Морфея, Мефодия и Кирилла, Соня, не спросясь, подключила питание к четырехугольнику Малевича. Когда Левкин проснулся, девушка внимательно смотрела документальный фильм о провинции Z. По экрану плыли угольные египетские терриконы. Разноцветные всадники Апокалипсиса с монгольскими раскосыми глазами и черными тюрбанами на головах с криком и гиканьем носились над городом. Металлургический блюз звучал из края в край, а скандинавский бог по имени Вася, помахивая массивным револьвером размером со швейную машинку «Зингер», брел по колено в ковыле в поисках черного ворона с белой головой. Стальной обруч перемен сжал голову Ивана.
«А теперь мы вам покажем дошкольные учреждения нашего металлургического комбината», – сказал невидимый ведущий и подошел к толпе детей, настороженно замерших перед телекамерами. «Выключи быстро! – Иван почувствовал, как по лбу стекает капля пота. – Соня, выключи его!» – «Да ладно тебе, Левкин, – криво улыбнулся остроглазый пятилетний мальчуган в сером костюмчике, – ты же знаешь, это уже не имеет значения. Иди сюда, детка, иди, Соня! Ибица ждет тебя! Приди ко мне чернокрылым лемуром. Поверь Мраку , и он не оставит тебя».
Соня находилась слишком близко к телевизору, и помешать ей Иван никак не мог. Протянув руку навстречу зовущему ее ребенку, просто и легко шагнула за край черного квадрата. «Зачем она тебе! Не трожь!» – не то закричал, не то запищал Левкин, моментально сорвав голос. Бросился к телевизору. Попытался проникнуть в разноцветное поле мерцающих смыслов, пребольно стукнувшись головой. Пришел в себя и понял, что свершилось страшное, но неизбежное. Нечто новое давно стучалось в его жизнь. Рано или поздно оно должно было прийти. И вот оно наконец свершилось. Возврата нет. И закончена старая жизнь.
«Да-да, – говорил Иван, обхватив голову руками, – да-да. Именно так. Но теперь нужно знать единственное: что делать со всем этим бредом и кошмаром, с этой неразберихой, безногой безнадегой, с его жизнью?! Как спасти ту, что смеялась не как женщина, но была нежна не как мужчина?! Или, может, стоит ее забыть, как до этого всех других? Но нет. Сие невозможно! Я чувствую, она моя, а я, определенно, ее. О, кто-нибудь, приди, нарушь! О грушебиенье сердца моего, Соня, где ты?!»
Через некоторое время, возможно являющееся и пространством, раздался звонок мобильного телефона. «У тебя родители умерли», – сообщил мужской голос. Иван узнал его. «Это ты, Мрак ?» – «Меня зовут Марк Ильич, – официальным тоном уточнил голос. – Странно, что ты не помнишь. Я тебя, между прочим, лечил, пользовал, так сказать. И довольно успешно, между прочим. А кроме того, близко знал покойного Павла Григорьевича Левкина. Да и твой был большой друг. Впрочем, это пустяки. Зная твой характер и медицинскую историю, нисколько не грущу о посетившей забывчивости. Какая разница, что ты помнишь, если делаешь всегда одно и то же? – Марк Ильич хохотнул и тут же осекся. – Похороны через три дня. Так что милости просим. Твой отец, Ваня, перед смертью попросил о тебе. Я подыскал неплохую работу. Думаю, должность редактора в «Звезде металлурга» придется в самый раз. Хватит мыкаться по чужим городам и углам. Жилье какое-никакое найдется, работа опять же по специальности. Нам в городе нужны такие люди, как ты, дружок. В твоих талантах имеется здесь нужда». – «В каких именно?» – «Во всех, Ваня, без исключения». – «А где лемур? – спросил Иван тихо. – Я хочу знать, что с ним!»
Марк Ильич секунду помолчал. «Беда. Вижу, заговариваться ты стал, фантазировать. Скажу тебе на это только одно – ай-ай-ай! Другими словами, три раза «ай». Дело плохо. Старого приятеля не узнаешь. Ну да ничего. Главное, скорей появляйся в Z. Не позже чем через Z дней! Смотри, Левкин, не перепутай! На новой работе тебя ждут по прилете! Буквально в тот же день и в должность. Горе легче переживается в работе. Билет заказан и оплачен.
Так что пришла пора, с юга птицы прилетают, снеговые тучи тают и шуцманшафт!» – «Что такое шуцманшафт?» – «А отчего тебя вдруг это заинтересовало?» – «Вы сказали, с юга птицы прилетают, снеговые тучи тают и шуцманшафт. Вот я и спрашиваю, что такое шуцманшафт». – «Я не знаю, что это такое, да и слово это, между прочим, никогда в своей жизни не произносил. Бедный Ваня! Срочно домой! Выясни насчет билета и тотчас прилетай! Рейс «Киев-Z», вылет в Z времени, апрель!»
«А если не полечу?» – «На похороны-то, – засмеялся Мрак Ильич, – родителей? Неужели ты настолько скверный сын и плохой мальчик? Неужели они не смели надеяться? Не смеши меня! Собирайся – и в путь.
То не ранняя смерть, то апрель-раздолбай машет свежим своим опахалом. У нас тепло, между прочим, а какие спектакли идут в конце сезона! Гамлет, старец датский. Гвинерва, его мать, вся на нервах…» – «Гертруда», – уточнил Иван. «Без разницы. Все ждут. Все, кого ты забыл. А если не прилетишь, я лично отдам ее в руки секретных хирургов! А ты их знаешь. Зарин, зоман, дихлор-дифенил-трихлор-метил-метан. Они твоего лемура вывернут наизнанку, так и знай. Из его шерсти для всей провинции наделаем пушистых гульфиков мехом вовнутрь. И выясним наконец, существует она в действительности или не существует.
Есть метод, и он прост. Коли пациент умер, но тело после него осталось, значит, он существовал. А если умер без остатка, то являлся вымыслом доктора. Ты этого хочешь? Нет. Так мы можем надеяться?» – «Я прилечу», – пообещал Иван.
С этого момента черный экран мерцал, не нуждаясь ни в электричестве, ни в кабеле, ни в собственных внутренностях, которые Иван с наслаждением распотрошил. Четырехугольник мерцал сутки напролет, не давая ни спать, ни жить, ни думать. Туалетная комната оставалась единственным местом в квартире, куда не долетал цветной уверенный рокот. Но ввиду ограниченности пространства спать там было негде. После первой же бессонной ночи комментарии к разнообразным текстам проступили сквозь обои на стенах. Они шли на трех европейских языках и касались одновременно кулинарии, искусства быть красивой, долголетия и, конечно, фэн-шуй, науки украшать могилы людей, никогда не существовавших в реальности.
Левкин, невыспавшееся сморщенное райское яблочко, стоял и слезящимися глазами наблюдал, как стекают вниз червивые черные буквы, как скользят к ногам, как бурлит пол, как распадается в бездне смыслов, разверзшихся под ногами. Тогда Иван взял старинный деревянный кулинарный прибор, с помощью которого иногда готовил картофельное пюре со сливочным маслом и молоком, и принялся колотить им по телевизору, по стенам и полу. По буквам родного языка, пытающимся его уничтожить. И много в том преуспел.
И было это, кажется, недавно. По ощущениям, минут за пять перед тем, как он принялся ломать жесткие края скорлупы. А вообще-то нет. Иван протер тыльной стороной ладони стекло. Оно заскрипело. Увидел край пруда, лесок, день, догорающий в сиреневых тучах.
Был еще нелепый южный город, очень странный, будто нарисованный акварелью. Облака клубились, стекали и капали прямо на стекла, на куртку, на глаза, на близкую речку. Луга были прорисованы схематично. Мягкие, густые, насыщенные мазки имитировали рощицы, с десяток черно-коричневых точек и запятых намечали коров где-то у речки. Акварельная идиллия тревожила неясностью, манерным колером и тоном.
Погода была ужасная. Громило, дождило, било в окна и в распластанные на взлетной полосе пластилиновые самолеты. Их комкала и расправляла в плачущих желтых стеклах чья-то невидимая, но могущественная рука. Аэродромом, кажется, здесь занялись только недавно, и это ощущалось по всему. Он был условен, малогабаритен, подвешен в воздухе и во времени, как игрушка на пожелтевшей искусственной елке под Новый год где-нибудь в украинском доме для престарелых.
«Вылета не будет!» – «А когда будет?» «А никогда, – честно объяснил работник аэропорта, из-за роговых очков немного похожий на престарелого ослика, выполненного в эстетике советских мультфильмов. – В город Z отсюда рейсов не бывает. Кроме того, грозовой фронт пробудет здесь дня три-четыре. Авиакомпания готова предоставить возможность уехать поездом или автобусом».
«У меня, – говорил Иван Павлович, от волнения глотая слоги в словах, – мать умерла. Вместе с отцом. Сегодня хоронят, девушка». – «Я не девушка, я парень». – «Хорошо, но мне через час, максимум полтора нужно в Z». «Одновременно умерли? – Ослик язвительно фыркнул. – В Z холера?! Наконец-то. Говорят, Украина ждет не дождется».
«Слушайте, – проговорил Иван растерянно, – вы понимаете, что такое похороны и насколько это важно для самых разнообразных людей? Как для тех, кого хоронят, так и для тех, кого не хоронят?!» – «Что я могу сделать», – работник аэропорта указательным пальцем поправил очки. «Но это же город великого Чехова, найдите возможность!» – «Был когда-то, – секунду поразмыслив, ответил ослик, – теперь это город великого Толкиена. Так что пробуйте электричкой». – «А сколько тут электричкой?» – «Часа четыре, – ушастое существо блеснуло очками, – а может быть, шесть или восемнадцать. Я не ездил».
«Невозможно», – пожал плечами Иван. «Тогда покончите жизнь самоубийством, – предложил осел, ласково улыбнувшись. – Это мой вам совет». Поблескивая очками, подождал секунду, но ответа не дождался. Левкин два или три раза глубоко вдохнул и выдохнул. Явно начинался астматический приступ. Животное скептически улыбнулось, втянуло в себя весь наличный воздух и бесшумно закрыло пластиковое окно.
Все замерцало, запрыгало. Левкин пошел к выходу, наблюдая внутри и вокруг себя какое-то неритмичное дрожание. Вакуум в груди кипел и плавился. Руки, локти, документы, огромные мокрые витражные стекла. Сырость – вот что было неприятно.
Набрал мобильный Марка Ильича, кратко обрисовал ситуацию. «Хорошо, похороним без тебя. Но завтра, Ваня, в крайнем случае – послезавтра ты должен быть на ковре у нового шефа. Лучше работы ты все равно тут не найдешь. И непременно ко мне обследоваться». – «Да в рот их нехорошо, – проговорил Иван Павлович, – и работу твою, и обследование».
Левкин подошел к стульям, на которых сушилась его одежда, и перевернул куртку подкладкой вверх. Что было потом? Надо вспомнить, все-все теперь следует вспомнить. «Чтобы память хорошо работала, ее нужно тренировать», – говорил тот самый отец, который дал ему нынешнюю фамилию. Не верится, что его ныне нет. «Лучшая тренировка памяти – чтение стихов наизусть», – утверждают учебники и пособия. «Столы подметены, на скатерти ни крошки», – сказал Иван Павлович громко и горько. Господи. Какой кошмар. Он снова глянул в окно.
От далеких холмов к усадьбе гряда за грядой шли тучи. Солнце исчезло вовсе. Дождь усиливался. Как там мать-утка? Крупные капли барабанили по маленькому оконцу, по черепичной крыше. Иван положил руки на стол, осторожно отодвинув в сторону хлебницу и солонку, пристроил голову на крестообразно сложенные кисти.
Закрыть глаза. Стать растением. Все решится само собой. Пройдет и дождь, и зной. Короткий всхлип и вздох. Как детский поцелуй, спокойно дышит мох. Снова открыл глаза, прислушался к тиканью часов. Некоторое время смотрел на капли дождя, стекающие по мутному оконцу.
Вот что было потом. Неподалеку от аэродрома Иван принялся пить коньяк, две бутылки которого вез с собой в качестве презента, абсента, акцента, абстинента ( плацента? ). Пил из горла, расположившись на заднем сиденье автобуса. Этого, конечно, делать не следовало ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Потому Левкин глупо и застенчиво улыбался, занюхивая рукавом куртки, пахнувшим табаком и кожей. Кряхтел. Пассажиров было немного, и на него косились с осторожностью. Выскочил прямо в дождь, когда автобус миновал Свято-Никольский храм. Отчего-то Ивану Павловичу показалось, что, если он окажется в церкви в тот самый момент, когда его родителей будут предавать земле, все в его жизни пойдет так, как нужно.
Утренняя служба к этому времени закончилась. До вечерни было далече. Храм пустовал. Маленькая суровая старушка отдирала черным ножиком от пола воск. Он сел на лавку, чтобы приготовиться к грядущему. Было зябко. Больше ничего Левкин не помнил.
«Куда я пошел потом, – подумал Иван Павлович, – что я делал?» Выходило, в самом деле, что никуда и ничего. Следующим его воспоминанием были острые хрупкие края скорлупы, фрау утка и озеро, этой весной вплотную подобравшееся к старой усадьбе.
Часть 3 Звезда металлурга
Ибо во власти Господа, а не во власти идущего давать направление стопам своим.
Иер. 10, 23
Широкий перрон. На заляпанном сером рекламном щите размашистый красный лозунг «Дарит всем гостям привет наш шахтерский город Z!». Эти слова Иван в течение нескольких минут впитывал всем телом. Незнакомая женщина подошла и бесцеремонно заглянула ему в лицо. Он вздрогнул. Подняв воротник куртки, побежал вниз по ступенькам к стоянке такси.
Дождь по-прежнему хлестал из теплого низкого неба. Таксист задумчиво посмотрел на влажную нечистую одежду Ивана, но деньги взял. Заработали дворники. Разноцветный мир расплылся в потоках воды. Сумерки. В сквозняках, в гомоне улиц, в шуме дождя, в мокром тепле, сочащемся сквозь низкие тучи, в город входила весна.
«А ведь весна, – улыбнулся бомбила, – весна красна!» – «Весна красна, – неожиданно тоненьким голоском запел Иван, прикрыв глаза. – На чем пришла! На чем ехала! – Иван Павлович втянул голову в плечи, выделывая замысловатые кренделя руками. – На сошечке, на бороночке, – наконец с вопросительной интонацией закончил он, – на сошечке, на бороночке?»
«На сошечке, – удивленно пропел таксист, – на бороночке? – Секунду помедлил, темным безумным взглядом нащупывая верный поворот. – Летел кулик из-за моря, – заявил он вдруг. Причем было видно, что эти слова дались ему не без труда и шокировали до глубины души. – Принес кулик девять замков!» – «Кулик, кулик, – подхватил Иван, – делай Delete зиме, делай Delete зиме, давай Enter весне! Давай Enter ! Давай Enter !» – « Enter», – подвел общий итог сказанному таксист.
В автомобиле на томительные десять минут стало тихо. Струи дождя ударяли в кузов «Опеля». Радужная пенка на лобовом стекле раскрашивала потаенную жизнь пассажира и водителя. Фонари и огни рекламы, реки воды, шипящее брызгами шоссе.
Бомбила остановил на углу, не заезжая во двор. Выбравшись из машины под хлесткие струи дождя, как кости торчащие в небе, самолично открыл дверь перед Иваном Павловичем. «Пошел на хрен, сволочь! Расплодилось нечисти. Ничего, кончится ваше время. Закроют власти завод! И вы тут же исчезнете, как не было вас, куклы и дьяволы!» – Вынув из кармана полученные от Левкина влажные мятые банкноты, он бросил их в лужу возле Ивана.
«Эй, друг, – крикнул Левкин, – ты что?! В чем дело-то?!» Хлопнула дверь, и авто растворилось в синевато-черном тумане. Иван Павлович поглядел на черные потоки воды, стекающие в реку с городских тротуаров, нагнулся, собрал деньги. Разгладив, аккуратно сложил в бумажник. Море зонтов в неоновом свете реклам разноцветно мерцало мокрыми многоугольниками. По затылку с равнодушным упрямством барабанил дождь. Это возвращало тяжелую сонную одурь.
Еще в такси стало ясно: фрау утка знала, что говорила. Биография, воссозданная на низкой скамейке у огня, уходила во тьму. Как парусная яхта, величественно и бесшумно. И теперь, пожалуй, навсегда. Чем дальше Левкин погружался в Z, тем решительней менялись пред ним горизонты жизни. На месте одних фактов из небытия возникали совершенно другие, не известные ранее. Память кипела холодным огнем, и не было больше ориентиров в океане бесконечных вариантов судьбы.
Впрочем, Левкин четко помнил главное: он – темная личность, мальчик, мерцающий в Z. Возможно, здесь неспроста и имеет задачи. Но кто знает какие? Конечно, на ум приходила Соня. Но не так, как прежде, а будто издалека. Найти, спасти, дописать Ланселота, испить Гвиневру, как чашу дня до полдня, – все это мнилось забавой.
Иван обнаружил, что стоит перед домом, уверенно принадлежавшим Левкиным, родителям, носившим фамилию. Несмотря на безобразие, творившееся в голове, он вспомнил код подъездной двери. Вошел в подъезд, осмотрелся, втянул широкими ноздрями сырой уютный запах. Нащупал в бумажнике два ключа, которыми и отпер дверь.
«Ну наконец-то!» – Молодая женщина в красном халате с синими стрекозами Libellula depressa стремительно вышла из дальней комнаты и направилась к Ивану. Это была Рыбка. Иван Павлович не успел отреагировать на ее появление, потому дальнейшие три-четыре пощечины были им восприняты без выражения на лице. Небритая мужская щека, сталкиваясь с тонкой, но сильной женской ладонью, образовывала глубокую вмятину с левой стороны. От коротко стриженной седоватой круглой мокрой головы Ивана каждый раз отлетал веерок брызг. Пощечины выходили сочными, влажными, звучными.
Унылый процесс избиения закончился вскриком-заплачкой и прижиманием женского лба к избитой мокрой щеке.
Сообразив, что грубый прессинг закончен, он отстранил женщину и принялся разоблачаться, радуясь тому, что помнил, кто она такая. И пусть оставалось загадкой, что Рыбка делает в этом доме и с какой стати кинулась драться, по привычке, взращенной годами, Иван затаился в себе. Знал по опыту, что правда так или иначе себя обнаружит. Люди сами выбалтывают все. Нужно дать им время и место. Медленно, Левкин, мерцай. Живи, не умирай.
«Так нельзя, – выдохнула наконец Маша, щелкая у него за спиной зажигалкой, пытаясь прикурить. – В конце концов, это подло! Мы тебя ищем пятый день! Да, боже мой, – она зло зарыдала, – я объездила все морги! Где твой телефон, сукин ты сын! Левкин, где ты был?»
Иван Павлович на секунду застыл, как бы подтверждая и закрепляя связь собственного «я» с фамилией «Левкин». Пожал плечами и в мокрых носках направился в зал, а оттуда в спальню.
«Можешь не отвечать! Позвонила Светка. Она встретила тебя на вокзале, когда ты брал такси. Ты, между прочим, даже не поздоровался!» Иван принялся сбрасывать с себя мокрые вещи. Оставшись голым, обнаружил круглый живот, покатые плечи, длинные узловатые руки, свисающие почти до колен. Белая рыхлая фигура мокро блестела, по коже стадами ходили крупные сизые пупырышки.
Рыбке тут же стало его жалко: «Ну, Левкин! Это же глупо, в конце концов! Скажи мне честно, у тебя на дачах вторая семья? Ребенок внебрачный? Женщина?»
«Ребенок?» – «Да, внебрачный ребенок». Иван поднял вверх брови. «А что еще прикажешь думать?! Ты приехал на шестичасовой электричке? Почему нельзя было предупредить, что уезжаешь?! Это же глупо, Иван! Почему ты не хочешь познакомить меня с ней или с ними ? Мы который год живем вместе. Я с удовольствием любила бы твоего ребенка, заодно с его матерью, кто бы она ни была. Только б не мучиться каждый раз, когда тебя нет неделю и две. Пойми это своей тупорылой головой!»
«Выбери уж, пожалуйста, рыло или голова. Уверяю тебя, это совершенно разные вещи». – «Ты животное, Левкин!» – «Я знаю, – согласился Иван и, наморщив лоб, осторожно уточнил: – Кажется, именно утка. Утенок. Гадкий Иван Павлович».
«Утка?!! Хуютка, – в сердцах проговорила Рыбка, – гребаная сорокалетняя хуютка совершенно без мозгов в голове!» – «Как скажешь». Он прошел в ванную комнату и закрылся в ней. «А еще, мать твою, редактор!» – «Оставила бы ты в покое мою мать, – тихо проговорил он в закрытую дверь, – сей персонаж тебе не по силам».
Маша принесла под дверь ванной пуфик и пепельницу. Усевшись, закурила. «Вчера целый день звонил какой-то то ли Вернер, то ли Вертер, то ли Вагнер», – сообщила она через дверь. «И что ты ему сказала?» – «Ничего. Прилетает в понедельник, просил встретить. Что за тип, Ваня?» – «Вернхер правильно, Пауль Вернхер. Бывший наш, уехавший на Запад. Мы учились с ним в свое время на факультете. Между прочим, дальний родственник Лермонтова. Имеет намерение сделать материал о распаде СССР и его гуманитарных последствиях. Заводской куратор попросил, а я не в том положении, чтобы отказывать».
Фраза насчет куратора возникла независимо от его воли. Иван застыл, уставившись в белый кафель с синими разводами, ощущая кожей горячую воду, рассматривая внезапно открывшиеся факты жизни. Общая логика ясна. Непонятно только, как он успел получить задание от Петренко, если, во-первых, в глаза его не видел, а во-вторых, только с поезда. То есть с электрички. Намедни из яйца, подумал Иван.
«Мне с Вернхером легче найти общий язык, чем Петренко, – крикнул он Маше в дверь. – Он-то из слесарей до замначальника цеха дорос, политесу не обучен, ему удобнее на меня это дело спихнуть. Встретить, поселить, поездить, все такое». – «Иван, ты меня лучше не зли! Куда поездить, ты только вернулся!» – «Он хочет посмотреть быт металлургов, побывать в умирающих поселках. Его депрессия интересует». – «Ага, – сказала Маша. – И не надоело? Третий десяток лет депрессия. Может, для нас это нормально? Возможно, нам без этого нельзя?» – «Может быть, и нельзя», – согласился Иван.
«Предлагаю название для статьи, – крикнула Рыбка. – «Посткоитальный синдром как главное последствие Союза». – «Это глупо. Нечего стебаться по этому поводу». – «Да ладно тебе, мальчик, – произнесла Рыбка, – оmne animal post coitum triste».
Иван выбрался из воды, с усилием толкнул дверь от себя. Маша еле успела отпрянуть. «Ты что сейчас сказала?» – «А что такого, – Рыбка выпустила дым ему в лицо, – ты тоже грустишь после соития, а иногда даже плачешь. Любиться трудно, не любиться паскудно».
«Откуда латинский?! – Схватив за руку, развернул ее лицом к себе. – Брось сигарету, сука! Сколько раз говорил, ненавижу жить с пепельницей! Ненавижу курящих баб! Суки все! Брось, сказал! Ты же русский со словарем! Откуда латинский?! И почему назвала меня мальчиком? С какой стати?!» Он сорвался на крик, от натуги на шее проступили вены.
«Да ты с катушек съехал, мудак! – Маша вырвалась и побежала в кухню. – Мудак гребаный! Мудак! Тебе лечиться надо! Чуть руку не сломал. – Открыла кран и подставила запястье под струю ледяной воды. – Тебе к Марку пора на прием! Вообще закрыть в психушке на хрен! Идиот!»
Тушь, хранимая на глазах с самого обеда специально на тот случай, если любимый вдруг явится из небытия, потекла. Губы смазались. Прическа встрепалась. Рыбка была немного старше Левкина, боялась, что он уйдет. Посему, даже путешествуя по моргам, старалась быть в форме. Даже мертвому Ванечке не смела показаться на глаза без прически и макияжа. Она рыдала, до последнего заботясь о внешнем виде. Подтирала слезы острым уголком платка, делала широкие глаза, следила за мимикой. Это был не плач, а цирковое представление.
«Я – медсестра! А ты, ублюдок, с каких пор стал ненавидеть латынь?!» – «Да-да, – опустил Левкин голову. – Извини, брат Машка, извини. – Поднял ладони к лицу, посмотрел на них, яростно растер шею и лоб. – Конечно, виноват! Извини! Неважно себя чувствую. При мне сегодня уже как-то вспоминали латинские поговорки, и я вдруг подумал…»
Замолчал, отошел к окну. Внизу, во дворе, под дождем несколько подростков играли в футбол. Облепленный грязью мяч никак не желал пролетать в створ ворот.
«Я вот что хотел спросить. Не могу припомнить: ты ушла от Марка ко мне или наоборот? Вечные проблемы с памятью. К тому же мы какое-то время не виделись. Просто не понимаю, что происходит. – Левкин прошел в спальню. На полу валялась мокрая одежда. Собрал ее и понес в ванную. – Маша, в конце концов!» В прихожей тоже было пусто. Часы над дверью отмеряли вязкое, как переваренный чернослив, черно-синее время.
«Маша! Рыбка!» Прошел на кухню. На столе обнаружил лак для ногтей, щипчики, помаду, разноцветный плотной бумаги рекламный лист. Взяв его в руки, прочитал: «Вас приглашает «Грин-Плаза» – самый зеленый в Z бизнес-центр!» Приложил горячий лоб к холодному оконному стеклу. Футбольный мяч с трудом оторвался от земли и влетел в ворота. «Гол, – сказал Левкин. Погладил рукой голову и посмотрел на ладонь. Она вся была покрыта густой янтарной жидкостью. Он лизнул ладонь. – Что за черт! В самом деле, варенье какое-то. И на вкус с кислинкой».
В этот момент в глазах замерцало, зарябило.
«Да ты осторожнее, ей-богу! Присядь лучше на стул! – Иван растерянно оглядел просторный светлый кабинет. Действительно увидел стул и осторожно уселся на него, чувствуя, как по спине стекает горячий липкий пот. – Вот что я скажу, милый! Беречься тебе надо!» Иван вгляделся в лицо говорящего. Это был Марк Ильич, его давний приятель. «Разве приятель, – тут же переспросил себя Левкин, – разве мой?»
Марк Ильич ходил по кабинету, с удовольствием наблюдая, как электрический свет отражается в коже его итальянских туфель. «Так вот, у тебя, Ваня проблем немного. – Он стал перечислять, загибая пальцы: – Со сном, памятью, весом и алкоголем. Кроме того, – Марк доверительно захихикал, – тебя дьявольски мучает либеральная идея. Тебе в ней чудится призрак падшего ангела или что-то в этом роде, но вся беда в том, что из твоих рассуждений выходит, что без этого призрака тебе и жизнь не мила. Вот такие чудеса в решете. И караулят твой маленький мозг, Иван Павлович, с одной стороны, дьявол либерализма, а с другой – тот же самый персонаж под маской национал-социализма, а скорее даже национал-консерватизма, он же социал-кретинизм. И что тебе остается? Очень просто! Лечь под поезд или пустить себе пулю в лоб. Последнее, кстати, советую как медик и добрый друг. – Марк опять хохотнул и снова не нашел понимания у Ивана. – В общем, – посерьезнел он, – нужно меньше бухать, отказаться от жирной, острой и соленой пищи».
«Понимаешь, имеется некоторая неувязка, – Иван замялся. – Дело в том, что я помню, как с вокзала, буквально только что, приехал в родительскую квартиру в центре. Там, правда, меня почему-то встретила Маша. Расспрашивала о том, где я был и все такое. Все было так, будто мы с ней еще живем вместе. И ждала она меня в том же самом халатике, что носила в те времена. С этими, как их, со стрекозами. Этих животных я помню совершенно точно. Сам выбирал их на каком-то рынке в каком-то городе, не важно в каком. – Левкин досадливо махнул рукой. – Важно, что я вспомнил не только стрекоз, но даже их латинское название. Бог ты мой! Я о них с ходу могу написать кандидатскую диссертацию. Крестины, смотрины, именины, дни ангелов, поездки к друзьям на Днепр, летняя резиденция в Конче-Заспе и этакий серенький свет из-за туч перед грозой. Эти крылья, мать их, это брюшко. О чем мы говорим! – Он с грустью посмотрел на приятеля. – Можешь не сомневаться, я, что называется, в теме».
«О Маше забудь, – мрачно проговорил Марк, поиграл желваками. – Забудь! Я тебя уже, кажется, просил об этом. Это все твои идиотские фантазии. И мне они не нравятся. Вот так. И ни в какой квартире ты не был по двум веским причинам.
Первая. Никакой квартиры нет. Левкины продали ее лет шесть назад. Тогда, помнится, ты приезжал сюда, чтобы помочь им с этим. Да и работа тебе сейчас нужна, Ваня, именно оттого, что предстоит снимать угол, квартиру. А за жилье, между прочим, платить нужно.
Во-вторых, тебя взяли прямо на платформе за нарушение общественного порядка. Если нужны доказательства, подойди вон к тому зеркалу, изучи свою физиономию. – Иван привстал и неприятно поразился, увидев в зеркале свою физиономию. – А что ты хочешь? Оказал сопротивление при задержании. Вот тебя и доставили в отделение милиции, а потом уже к нам. Скажи спасибо, я оказался на месте».
«Спасибо». – Иван покачал головой и нервно облизал губы.
«Да ты пойми, дурашка, здесь тебе не Киев. Не хочешь проблем, бери такси».
«Но ты понимаешь, – Левкин здоровой рукой осторожно потрогал голову, – имею в данный момент иные воспоминания насчет прибытия. И уж чего в них определенно нет, так это милиции. Ерунда какая-то. – Иван неуверенно улыбнулся. – Замерцал я, видно, братушка, как в старые добрые времена».
Они помолчали.
Марк со скучным выражением на лице барабанил пальцами по столу. «Ну, значит, на чем я, собственно… Ах да. Голова головой, но, с точки зрения психики, никакой патологии, ничего по-настоящему серьезного. Во всяком случае, настолько, как ты пытаешься представить. Кроме возраста, конечно». Марк смущенно засмеялся, будто сам придумал возраст, но не желал нести за него ответственность.
«Тебя не было сколько? Пять, шесть лет?» «Десять», – кивнул Иван. «С ума сойти, – вздохнул Марк. – А все изменилось. Кардинально. И ты постарел, мой друг, постарел». – «Да-да, пробормотал Иван, – что ж. Но дело в другом. Я хочу понять, что со мной происходит. Вот, понимаешь, какие стрекозы. Мне важно услышать, что ты скажешь по этому поводу как медик».
«А я уже сказал. – Марк уселся в кресло, крутнулся вправо, влево. – Иван Павлович! Дорогой! Глубокомысленно и тоскливо всмотревшись в баночку с твоей мочой, изучив тесты, томографию, рентгеновские снимки, медицинскую карту, и так далее, и тому подобное, заявляю со всей ответственностью: серьезных проблем нет и в ближайшее время не предвидится. Да, в почках песок, ну так это ерунда. Ты здоровый человечек. Счастливчик! Многие отдали бы состояние, чтобы в сорок лет иметь такой организм. – Он потер ладони, как всегда делал, когда был уверен в собственной правоте. – Одним словом, между нами, – Марк улыбнулся обезоруживающей улыбкой, – у тебя просто климакс. Ну и смерть родителей, конечно, наложилась. Типичные возрастные проблемы. И не кривись! Это суровая реальность. Жизнь усложняется, а климакс приходит все раньше».
«С толстой сумкой на ремне, – заметил Иван задумчиво. – Марк, мы друг друга не понимаем!»
Левкин скривил губы, пытаясь улыбнуться. Несколько раз щелкнул зажигалкой. Пальцы у него при этом предательски подрагивали. «Ты сам себя слышишь? – Иван поднялся со стула, оперся руками о стол, чтобы унять тремор. – Ты пойми, я своими глазами видел ее. Говорил с ней. Она меня била ладонью вот по этой щеке. – Иван подошел к Марку и указал место, куда приходились удары. – А потом ее не стало. Только лак и помада на столе. А ты говоришь, она весь вечер провела с тобой и с ребенком. Как это может быть?! Как, Марк? А я тебе скажу как. Маша все-таки встречала меня в квартире, потому что я видел ее лак и помаду. Ибо виденное о персонаже есть правда, если персонаж при этом отсутствовал. Дарю эту наработку как ценное научное наблюдение. Выстрадано ценой мук и дичайших разочарований».
«Это последствие алкогольного отравления». – Марк акцентировал каждое слово.
«Ты так думаешь? – Иван прошелся по комнате, ладонями растер лицо. – Обожди, – растерянно усмехнулся он. – А ничего, что этим утром я вылупился из яйца? Это, по-твоему, тоже с похмелья? Ну что ты смотришь, эскулап. Как есть, так и вылупился! Вот в этом немецком костюме за тысячу триста евро. Да ты сам посмотри! И костюм в говно, и я не могу прийти в себя. – Левкин замолчал, всматриваясь в лицо друга. – Раньше ты не был таким. – Иван горько покачал головой. – Помнится, схватывал на лету. И когда я о мерцании тебе рассказывал, и потом. А теперь будто и не было ничего. Делаешь вид, что со мной все в порядке, именно в тот момент, когда я нахожусь в совершеннейшем беспорядке.
Я теряюсь в вариантах, Марк, теряюсь. Уже потерян! А ты говоришь, будто не со мной! Словно не я указывал тебе конкретных людей, в семьях которых проживал годами. Вспомни, Марк! Было целое лето, когда мы исходили с тобой этот городок вдоль и поперек. Цвели липы, яблони и вишни, малина и вереск, мята и зверобой. Мы ходили, и я рассказывал тебе такие подробности о совершенно чужих мне людях, которые мог бы знать только в том единственном случае, если бы являлся членом их семей. И ты все это, между прочим, скрупулезно проверял! Разве не помнишь?! Проверял, записывал! Дотошно и пунктуально! Ты хотел написать обо мне диссертацию, Марк.
И пусть прошли годы. Пусть все прошло. Но зачем теперь ты мне говоришь об алкоголе, о милиции, еще о чем-то? Хрен с ней, с квартирой. Пока у меня имеется бумажник, в нем отыщется пара банкнот. Я найду где остановиться. Но что случилось с тобой, Марк Ильич?»
«Ты зря горячишься, Ваня…»
«Марк, сделай усилие. Сегодня в полдень я вот этими руками ломал скорлупу, выбираясь на божий свет. А после этого ты меня спрашиваешь, был ли у меня стресс и что я думаю о своей новой работе? Да, мать твою, был стресс. Нет, мать твою, ничего не думаю о работе. Я, милый мой, суток еще не прошло, как вылупился из утиного яйца. Ты полагаешь, меня это оставило равнодушным?
Вылупившись, имел непродолжительную, но глубокую беседу с мамой-уткой. Между прочим, меня не оставляет ощущение, что она была по национальности немкой, но возможно, и англичанкой. Воздух! Природа! Купание в ледяной воде пруда. Ледок, понимаешь, не весь стаял. Кое-где изумрудная зелень, кое-где грязноватый снежок. А я плыву. Надо было смыть с себя все. Белковая слизь, вонь, слиплось все, да и утка советовала искупаться. – Иван задумался. – А потом я заснул в каком-то доме. Это было там, знаешь… – Иван опять на секунду задумался, подыскивая слова, – там, где умирают, да-да, а может быть, на самом деле давно уже умерли старые шахтерские поселки, какие-то хутора, деревеньки. Шугово и Лютино? Или Лютово и Шугино?! Не помнишь, нет? Шугинская десять бис?! Нет?!
Впрочем, я и сам не знаю. Не знаю, мы в те края как-то пару раз ездили на пикники, когда я еще здесь жил. Не это главное. – Иван глубоко затянулся и, запрокинув голову назад, выпустил дым в потолок. – Совсем не это. Дружище, ты только пойми, это не метафора, не условность, все так и было. Пойми! Сделай усилие! Со мной, Марк Ильич, животные говорили, и я их понимал. Веришь, нет? Вижу, что не веришь. Я и сам не верю. Старая сорока сказала мне в лицо, что я урод. А маме-утке индюки орали, что она высидела плохого Ивана Павловича . Ты себе представляешь что-нибудь? Плохого Ивана Павловича. Будто может быть хороший! Это же удивительно! Нет?
И ты хочешь сказать, что это климакс, похмелье, результат встречи головного мозга с дубинкой провинциального милиционера? Да ты, млять, тут вообще потерял представление о реальности! Я ведь тяжелых наркотиков не употребляю. И запойным никогда не слыл. Ну, максимум пару дней, ты знаешь, не больше. Да что же в самом-то деле такое! Ты же меня должен знать как облупленного. Или, вернее, – Иван тоскливо улыбнулся, – как вылупленного. Очнись, друг мой, мы же с тобой рядом всю жизнь!»
«А вот возьми, – проговорил Марк Ильич, всматриваясь в черное зеркало итальянских туфель, – почитай заключение невропатолога и психиатров. Мне добавить нечего. Ваня, это просто фантазии. Фантазии! Если хочешь знать правду, затянувшееся детство. И, в конце концов, хватит, – внезапно заорал Марк Ильич, покраснев горлом и щеками. – Хватит, я тебе говорю! Не разыгрывай передо мной сценки из Чехова! – Марка понесло, он моментально вспотел. Видно было, что стоило ему закричать, как он сразу почувствовал себя проще. – Ты всегда был такой! И в молодости, и потом! Ты же всегда всем врал! Всем и всегда! Ты патологический лжец, дорогой мой! Вот в чем твоя проблема! Ты помнишь, как рассказывал нам, что на терриконы лазаешь для бесед с Енохом и Ильей?! Клялся здоровьем родителей, что послание к Галатам вы писали с Павлом совместно. А то, что умеешь играть на скрипке, зачем ты это придумал?! Не знаешь?! И никто, Ваня, никто теперь уже не узнает! Ты врал, что разбогател, что год жил в ашраме в Индии, что уезжаешь на ПМЖ в Израиль, а потом почему-то в Аргентину! Ты врал, что у тебя неизлечимая болезнь мозга! Пусть насчет мозга было для того, чтобы вернуть Машку. – Марк поднял руки перед собой, будто призывая самого себя успокоиться. Пусть! – Я понимаю, это ужасно, когда рушится семья. Признаю, ты тогда ее еще любил, цеплялся за любую возможность, и все такое. Но зачем ты врал обо всем остальном?! Каждый год, каждые полчаса ты придумывал что-то новое. Совершенно без причин. Просто чтобы разжалобить, обратить на себя внимание. Чтобы выделиться! Чтобы все думали и говорили только о тебе!»
«В самом деле, – растерянно проговорил Иван, сел на место, обхватил голову руками. – В самом деле все так и было? Ты понимаешь, какая ерунда, совершенно не припоминаю этого. То есть абсолютно».
«Только не надо разыгрывать невинность и тотальную амнезию! Бразильский сериал какой-то. Смешно же, в самом деле! Ты совершенно здоров, а времена при этом изменились, Иван Павлович. Да, милый! Они изменились, и массовики-затейники больше никого не интересуют. Ни-ко-го! В Z живут серьезные, рационально мыслящие люди. И возраст теперь у нас с тобой простой и трезвый. Или веди себя нормально, или забудь дорогу в мой дом. Не нужны никому истерики и театральные представления. Хорошо, – Марк перевел дух, расслабил галстук и расстегнул пару пуговиц на сорочке, – тебя долго не было. В столицах ты жил прилично и, судя по всему, вел себя адекватно. Мне показалось, ты изменился. Но нет! Ты не желаешь успокоиться! А знаешь, что на самом деле тебе нужно? Энергия! Ты забираешь ее у того, кто соглашается играть в твой иллюзион. Высасываешь человека до дна, а потом его же делаешь виноватым в том, что он опустошен, как кукла, как папье-маше. Ты заставляешь человека усомниться в том, что он есть он, а не ты! Убиваешь самоидентификацию!»
«Как это?! – Иван удивился искренне и до глубины души. – Что он есть он, а не я? Это ты что такое сейчас произнес?»
«И снова игры, – сказал Марк устало. – Не прикидывайся идиотом! Неужели не помнишь длинного сумасшедшего лета, в течение которого в каком-то странном порядке, но скорее всего – вразнобой, цвели липы, магнолии, яблони, араукарии, вишни, малина, мята и зверобой, и ты сказал мне, что когда-то был мной?! Более того, принялся рассказывать все обо мне! Ты говорил, а я чувствовал, что схожу с ума. И непременно сошел бы, если бы не прекратил этот театр, не забыл тебя, твои слова, твое лицо, тех других людей, о которых ты мне толковал в то страшное лето.
И я не желаю больше быть куклой и зрителем в театре твоей памяти, Ваня. Не смей больше втягивать в эти игры Машу! Не смей. Мы с ней уже девять лет. Ты сделал все, чтобы ее потерять. И не нужно запоздалых сцен и припадков на нервной почве. У нас ребенок, сложившаяся жизнь. Мы любим друг друга. Время игр закончилось. Оно ушло безвозвратно. Ничего не вернуть, Ваня, ни-че-го! И, кроме климакса, я не желаю больше ничего видеть. И никто в этом городе ничего в тебе не увидит, кроме климакса. Мы не позволим нас дурачить. И Маше никогда не говори больше, что ты был когда-то ею, только не помнишь, где и при каких обстоятельствах вы с нею лишились девственности.
Нет! Не желаем! Мне тошно подумать, что мы с моей женой – это только мудак Левкин, нашими телами до изнеможения любящий сам себя. Нет уж, хватит. Климакс – и ничего кроме климакса. Осознал?!»
«Яволь, натюрлих, – кивнул Иван, постукивая подрагивающими пальцами по полировке стола. – Ладно, гусь, – проговорил он, вставая, – оставайся тут со своим климаксом и не шали». Снял с вешалки плащ, шляпу и, не оглядываясь, вышел из кабинета.
«Куда ты? Стой! Так не пойдет! А где ты жить намереваешься?» Марк выкрикнул что-то еще, потом махнул рукой, зашел в кабинет, закрылся на ключ. Подошел к шкафчику, достал коньяк, бокал и три конфеты. Налив до краев, выпил одним махом. Разворачивая обертку конфеты, подошел к окну. Далеко внизу сутулившийся Левкин перебегал проспект. Над городом ходили косые синие струны, гармонически и ровно пульсирующие, как «восьмушки» в музыке Баха, было ветрено и облачно. Над городом реяла «Грин-Плаза». Съев конфету, Марк сел за стол, сказал: «Вот-с, батенька, так», – и заплакал.
В магазинах игрушек не было розовых ежиков-металлургов. А Саша хотела именно их. С неба сыпался мокрый снег, к вечеру началась метель, и Лиза Петровна шла, прикрывая лицо руками. Иногда заходила в магазины, отряхивала снег, согревалась, рассматривала удивительные прелести, выставленные на продажу. И это апрель, думала она. Но купить что-то нужно. Не купишь подарок – станет грустить об отце, которого не знала. С незапамятных времен в детской комнате на тумбочке пылилась черно-белая репродукция с портрета французского естествоиспытателя Лавуазье. Лиза Петровна объявила девочке, что это и есть ее отец и что погиб он при ремонте второй доменной печи столько-то лет назад. Александра давно повзрослела, поняла, кто такой Лавуазье, но портрета с тумбочки не убирала.
И в лучшие времена Лиза не могла точно объяснить себе, как так получилось, что именно Антуан Лавуазье стал отцом Александры. А уж в последнее время, когда пыталась об этом думать, сразу принималась плакать. Так природа захотела, часто убеждала она себя, отчего, почему – не наше дело.
Природа или не природа, но несомненно, что случилось это в те далекие времена, когда Лиза работала преподавателем химии в школе и алкоголь употребляла нерегулярно. Почтенного француза знала преотлично, так как в дальнем углу лаборантской стояли запыленные портреты известных ученых, философов, естествоиспытателей. Она порой собственноручно протирала их физиономии от пыли и пристально рассматривала. В свое время портреты украшали класс. Но после очередного ремонта Петровне стало жаль дырявить стены ради того, чтобы развешивать на них покойников. Какие бы пригожие они ни были, да косточки их давно сгнили. К тому же среди них много неуспокоенных до сих пор душ. «Детям, – решила Петровна, – вглядываться в их лица совершенно ни к чему».
Впрочем, покойники бывают разные. Лавуазье, например, приличный человек. Образованный, дотошный, принципиальный. Погиб от рук идиотов. Сгорала Французская революция. Марат впадал в маразм. Комитет общественного спасения ввел твердые цены на зерно. Парижский май сыпал на мостовые лепестки рано отцветших тюльпанов, а Лиза Петровна в тот осенний день пришла на уроки в свой кабинет гораздо раньше обычного.
Накануне она мучилась дурными предчувствиями и тоской женского одиночества, поднявшей ее на ноги в три часа двадцать семь минут утра. Выйдя в одной комбинации на улицу, в осень, под мелкий серый дождь, она минут сорок приседала и махала руками у подъезда, почти в религиозном экстазе изучая, как рифмуются тона грязно-оранжевых клумб у дома и клубов разноцветного дыма, низко стелющегося из заводских труб. В который раз пожалела, что выбрала судьбу педагога, а не отдала свое сердце этому гиганту, в котором тысячи и тысячи мужественных людей делали важное и сложное дело.
Потом мылась под ледяным душем. Окончательно улучшив тонус, пила черный чай и курила «Беломор», приоткрыв на кухне форточку. Пахло стронцием, серою, молибденом и еще какой-то хренью, от которой по всей округе распространялся отчетливый запах подгорелой мочи. Но это была не моча. Это где-то там, за высокими стенами, покрытыми колючей проволокой, мудрые и бесстрашные гномы-сталевары варили редкие виды стали.
Выпив чайник чаю, Лиза ощутила, что грусть и тоска отступили. Однако сидеть на месте и дожидаться семи утра оказалось делом невозможным. В те благословенные времена дочери у нее еще не было, сын покинул, мать скончалась, потому жила Лиза легко, бесхлопотно, была легка на подъем. И вот сорокалетняя девушка оделась, проверила наличие тетрадей в сумке, денег в кошельке, задора в сердце и вышла в осенний сумрак.
Школьная сторожиха баба Валя, она же уборщица и завхоз, безропотно подняла похмельную голову от скрещенных у настольной лампы рук, открыла дверь и впустила внутрь. «С добрым утром! Видно, ночь была удачной». – Лиза проговорила это как можно более доброжелательно. «А хрен ли мне, – ответила баба Валя, приглаживая волосы подрагивающей рукой, – ты бы лучше на себя в зеркало посмотрела. Сорок лет, а морда у тебя как у старого коня во время запора».
Лиза Петровна тактично промолчала, поднялась по лестнице на второй этаж, открыла кабинет, затем подсобку, в которой хранились колбы и реторты, сухой спирт и сера, лакмусовая бумага и фенолфталеин, молекулы и атомы школьного образования. Все это издавало невыразимый запах алхимии и обреченности. В шкафчике за пробирками и раздаточным материалом была спрятана банка медицинского спирта. Лиза шла в школу, думая о том, что спирт этот можно выпить. О, конечно, не весь! Достаточно было всего сто (тире) сто пятьдесят граммов этой прозрачной жидкости, разведенной глюкозой два к одному. Девушка не собиралась напиваться, просто ей надо было скрасить долгое осеннее утро.
Разбавив, Петровна посмотрела на мир через призму получившегося напитка и ахнула. Невольная дрожь шестивагонным составом прокатилась по позвоночнику. Сквозь пузатую колбу ей пригрезилось не подсобное помещение кабинета химии, нет, но нечто совсем иное. Перед ней предстала тюремная камера Бастилии, а за низким столом у окна сидел Антуан Лоран Лавуазье и что-то писал.
Ученого Лиза узнала сразу. Не зря столько лет изучала изображенья великих. Он был разительно схож с тем образом, который наблюдаем на портрете Лавуазье, гравированным в Лейпциге Геданом. Та же мощная шея, тот же разворот волевого подбородка. Взгляд устремлен в некую даль. Лавуазье явно стремился овладеть чем-то, лежащим за пределом портрета. Это ясно. Но чем?! Или, уточним, кем? Не могла ли являться этим предметом, на который устремлен взгляд ученого, простая украинская женщина? Проще говоря, украинка. Скажем, учитель химии. Одинокая барышня на самом излете детородного возраста. Лиза Петровна в холодной испарине закрыла глаза, успокоилась, выровняла дыхание. Лавуазье увлеченно работал. Любой химик, окажись рядом, просто должен был подойти, перевернуть титульную страницу и прочесть хотя бы пару строк. Лиза Петровна так и сделала, встала, подошла, перевернула. «О худшем способе освещать улицы Z».
«О люди, – писал Антуан, – самый худший способ освещать улицы Z – строить доменные печи. Отходы производства убивают. Мозг людей Z умирает, соединившись с молибденом и никелем, марганцем и хромом. Атмосферные осадки с рН ниже 5,6–5,7 крайне вредны. Оксиды азота и серы рождают кислоты, что падают вместе с дождем. Не танцуйте под ними! Литий, натрий, калий, рубидий, цезий и франций. Бораты, карбонаты, фосфаты. Бериллий, магний, кальций, стронций, барий и радий. Не только углерод, но и некоторое количество марганца, меди, кремния, серы и фосфора выявляется в легированных сталях. Не ешьте алюмель! Не пейте альфа-латунь! Следите за углом зева валков».
Лиза Петровна набралась храбрости и дрожащей рукой коснулась волос Лавуазье. Только тогда он посмотрел на нее и сказал, наморщив лоб: «В чем, собственно, дело?!» – «Какой ты милый, – усмехнулась Лиза, – просто ужас. Выпьем?!» Ученый отложил перо в сторону: «А давай, Лизавета Петровна! Сегодня все равно гильотина!»
Петровна плохо помнила, что произошло с нею и французским ученым дальше. Говоря коротко, это была прекрасная любовная феерия. И в ней для слов места не осталось вовсе. О, каков оказался французский ученый! Как глубоко и сильно каков! Естествоиспытанная им Лиза навсегда перестала быть безответной дурочкой, преобразилась, поумнела и смела теперь вопрошать бытие. Всего пара-тройка оргазмов сделали из нее ученого-провидца, который, конечно, был вынужден в скором времени покинуть сферу среднего образования. Ибо великий мозг не способен на необходимое для этой работы смирение.
Торжествующий эрос прервали низкорослые французы, грубые, пахнущие дождем и улитками, невыученными декретами, улицей, «Примою» и чесноком. Вошли в класс, стуча портфелями и сапогами, крича непристойности, едва не совокупляясь на партах. Гнусные школяры! Сквернословили, швыряя мел в таблицу Менделеева, висящую на стене. Потешались над неровной походкой Лизы, над ее томной погруженностью в себя.
Именно в этот день, как и предвидел ученый, одной светлой головой во Франции стало меньше. Об этом Лизавета узнала вечером, изучая биографию славного француза.
Так что Лавуазье молодчина, а вот если брать, к примеру, Джордано Бруно, тут совсем другой компот. Колдовал Бруно, как последняя сволочь, вот его и сожгли.
Петровна присела за столик в дешевом кафе и осмотрелась. «Извините, вы что-то сказали?» – Мужчина в нечистом костюме робко глянул на нее, потом в свой бокал с пивом. Лиза махнула рукой и спросила у подошедшей официантки сто пятьдесят водки и пару горячих бутербродов. – «Говорила я о том, что Лавуазье убили зря! А вот Джордано Бруно сам напросился!» – «Вы считаете?» Левкин машинальным движением поправил на переносице очки.
О чем речь! Возрождение – эпоха талантливого зла! Сатана бродил в кардинальских палатах. Индульгенцию бесы продавали. Вот, к примеру, стоит на рынке монашек. Подходит к нему мальчик. Мол, так и так, отче. Нельзя ли купить для моего несчастного отца оставление грехов?!
«А чего ж, – проговорил бес, ласково улыбнувшись, – запросто». Подал бумагу и попросил у парня сорок чентизимо. Деньги монашек спрятал в кошелек на поясе, а из-под сутаны хвост возьми да и вывались. Пиноккио посмотрел вниз, а там кисточка с бахромой и копыта. Засмеялся и побежал со всех ног к папе. Еще с порога закричал: «Джеппетто, Джеппетто, там на площади! Там на площади!»
«Что еще там?» – Добрый Джеппетто попытался приподняться с койки, но ничего не вышло. Старый мастер ослабел от голода и виноградной водки. «Ты мне скажи, – дрожащим голосом прервал он Пиноккио, усевшись на кровати, – что тебе, мой глупый деревянный сын, ответил хозяин театра, сеньор Маджофоко, на мою просьбу о деньгах?»
«А, этот бородач Мазафака, – усмехнулся Пиноккио. – Он дал всего лишь сорок чентизимо! Но я купил на них отпущение грехов». Пиноккио упал на койку отца и принялся болтать ногами. «Как ты сказал? – Джеппетто ужаснулся. – Все на индульгенцию?»
«На нее! – Малыш поклацал деревянной челюстью, наслаждаясь сухим и чистым звуком. – Но, мой добрый папа, ты же потратил когда-то все деньги на мое образование? Продал куртку, папа, брюки и сапоги. А вместо этого купил десять бутылок виноградной водки и один букварь».
Пиноккио помолчал, прикрыв один глаз, вторым пытаясь удержать в поле зрения отцовскую лысину. Фыркнул и продолжил: «Вот я и решил отплатить тебе тем же. И хотя по-прежнему ты не имеешь ни куртки, ни приличных брюк, но теперь, Джеппетто, у тебя нет ни одного греха! И эти два обстоятельства, согласись, уравновешивают друг друга, дополняют. Идеальная симметрия. Как считаешь, – вдруг поинтересовался он, – мог бы твой сынок выступать на философских диспутах в Z-университете?»
«Почему я сам не пошел к Маджофоко, – горько проговорил Джеппетто, – почему послал тебя, неразумное дитя? Но я был так слаб, так доверчив и трепетен. Поднялся с утра только для того, чтобы помочиться и выпить воды. Затем прилег и часа два вел разговоры со сверчком. О, что за добрая душа! Что за ангел! К тебе приходит сверчок, мой деревянный мальчик?»
«Слава Господу Распятому, нет! Что за глупость?! Ведь я не пью виноградную водку».
«Ты, Пиноккио, груб и неразвит! Плохо и крайне мало учился в школе, – задумчиво проговорил Джеппетто, делая попытку встать с постели. – Но я уверен, жизнь еще вправит мозги в твою сосновую голову. Однако вернемся к сути. Где деньги, которые мне передал добрый хозяин тетра кукол, господин Маджофоко?»
«Флоренция, ты ирис нежный, – проговорил Пиноккио и, болтая в воздухе ногами, принялся сквозь дырявую крышу изучать синие облака. – Могу ответить на твой вопрос своим. Вот таким, например: по ком томился я один любовью длинной, безнадежной весь день в пыли твоих Кашин?
Слышал, люди с похмелья испытывают ужасные мучения. Их терзает совесть. Что может быть лучше, чем подарить человеку оставление всех его грехов прямо с утра, в момент наивысшего пика страданий? Ответь, Джеппетто. Молчишь?! Я понимаю! Ты бы хотел купить на эти сорок чентизимо виноградной водки, выпить ее всю, а потом говорить со сверчком, плача и стеная. Но я принес тебе лучшую жизнь. Так получай ее, папа!» – Пиноккио протянул Джеппетто индульгенцию, свернутую в трубочку.
«Ты маленький деревянный уродец, – грустно проговорил Джеппетто, – где ты купил эту гребаную бумажку?» – «На Пьянца Санта Тринита, – сказал Пиноккио. – Как раз напротив металлургического завода. Но если захочешь вернуть ее за те же деньги, боюсь, у тебя ничего не выйдет. История, которую я бежал тебе рассказать, как раз и сводилась к тому, что этот монашек на площади – как бы не совсем монашек».
«Он был пьян?! Приставал к тебе?!» – «Отец, кто может соблазниться твоим сыном?! Увы, я деревянный». – «Что ты об этом знаешь? – Джеппетто проницательно вгляделся в глаза куклы. – Что он с тобой сделал? Молчишь? Видно, следует поговорить с этим монахом по душам! Сейчас не те времена, чтобы отбирать у маленького мальчика деньги! В этой стране еще есть закон, и мы встанем под его защиту!»
«Да ничего он не отбирал, – проговорил Пиноккио, не без некоторой брезгливости разглядывая неуверенные, но при этом экзальтированные жесты отца. – Я купил тебе отпущение грехов вполне добровольно. Ты безгрешен, папа. Хотя это был и не монашек, а некая сущность, у которой из-под сутаны упал прешикарнейший хвост».
Мальчик помолчал, обдумывая некоторую мысль.
«А скажи, Джеппетто, правду говорят, что моим настоящим отцом является некто мастер Вишня, бывший майор, железнодорожник, артиллерист ее величества, а вовсе не ты? И вот что еще меня волнует. Кто в таком случае был матерью? Ведь не может быть, чтобы я родился без участия второго человека, женщины или, на худой конец, мужчины?! Говорят, участие второго – вещь в рождении непременная. Кое-кто намекнул мне, что вторым человеком в моем случае был именно мужчина. Хотелось бы, видишь ли, знать, что все это значит и сколько во всем этом правды».
«Кто тебе это сказал?! – Джеппетто всплеснул руками. – Вероятно, враг рода человеческого? Продавец пиявок и меланхолии? Что за чушь! Я и есть тот самый мастер Вишня! Я мастер Вишня, Вишня Сергей Павлович, отставной парус-майор, человек-артиллерист, человек с огромным стажем, а ныне заместитель начальника депо. Я твой отец! Я!»
Джеппетто закрыл лицо руками, собираясь с духом, медленно привстал, но тут же упал на койку. «Пиноккио, где ты? Мальчик мой! Я хотел рассказать тебе о втором человеке, твоей матери. Сынок?! Васенька! Петенька! Черт, как там тебя, сынок!
Что за черт», – Вишня утер обильно струящиеся по лицу слезы. В горле стоял ком. Руки дрожали. Сердце то поднималось к самому горлу, то опадало, как испуганное шумом пасхальное тесто. Посмотрел на часы, висящие над койкой. Печально выматерился. Побежал в ванную, принял ледяной душ, напился из-под крана, оделся, дрожащими руками повязывая старый примятый галстук.
Старательно обрызгал себя одеколоном. Выскочил на окружную, но рабочий автобус уже ушел. Стояла густая апрельская оттепель. Накрапывал мелкий серый дождик. Под ногами хлюпала мокрая синева, густо сдобренная грязью и отражениями быстро бегущих по небу облаков. Высотные дома спального микрорайона таращились темными окнами прямо в душу, мерцали в вышине, раскачивались, хлопали створами окон и аккордеонами этажей и как-то по-особому мягко разъедали ее. Будто аквариумные рыбки – мякиш хлеба, случайно попавший в воду.
Дрожащими руками Сергей Павлович набрал по карманам немного денег и кинулся к таксистам. Те, сообразив что к чему, запросили вдвое. Пришлось соглашаться. До начала смены оставалось всего полчаса. А мастер Вишня никогда не опаздывал на работу.
В кафе становилось людно, но это не мешало разговору. Лиза говорила-говорила, затем задумалась, подперев рукой щеку. Потом махнула рукой. «В общем, эпоха Возрождения, кстати продолжающаяся и поныне, – настоящее испытание для человечества». – «А как же взлет духа, – поинтересовался Иван, – чинквеченто, кватроченто и тому подобное?»
«А ты, я смотрю, образованный. Но дело в том, что все восторги в духе Джованни Пако делла Мирандола или, говоря яснее, в духе парламентского большинства Совета Европы – не что иное, как упоение падением! Причем жалкое, педерастическое, – Лиза быстро хлопнула рюмку водки и запила минералкой, – воспаленное и лихорадочное. Вот знаешь, как что?»
«Не знаю, – честно ответил Левкин. – Как будто душу уже продали, а вырученное бабло промотать еще не успели!» Лиза Петровна неприятно засмеялась. «Вся Европа бухает, безудержно совокупляется, болеет синдромом иммунодефицита. Смешно, они всегда удивлялись эпидемиям чумы. Поразительно, что они вообще все не вымерли, вплоть до Декарта и Канта.
В городах хотя бы кто-то науками занимается, читает манускрипты, смотрит на звезды, ищет бозон Хиггса. Библию почитывает тайком, ведь нынче это дело считается постыдным, чем-то вроде опасной болезни. Кто-то режет мертвецов в поисках философского камня, изучает теорию множественной вселенной и Коран. Имеет возможность утром съесть круассан с горячим кофе и пойти к причастию. Вообще как-то с совестью своей потолковать между делом.
Но что сказать о деревнях? О глухих, понимаешь, европейских хуторах! Там всегда бес сидел на бесе и бесом погонял! Пушкина бы туда, – неожиданно добавила она с каким-то сожалением. – Пусть бы посмотрел, что есть бес и легко ль его обмануть. А то, понимаешь, сказочки он писал, писатель! В общем, скажу тебе, в Средние века нечисти там было столько, что запуганный плебс крошил топорами, топил, сжигал и четвертовал кого следует и кого отнюдь. Чинил самосуд. Если хотите, молодой человек, центральной задачей инквизиции было прекратить неконтролируемые убийства и наладить контролируемые, что и было достигнуто в кратчайшие сроки.
А в общем, – внезапно заключила Лиза Петровна, – я смотрю, тебе просто податься некуда, товарищ?» Иван Павлович осторожно кивнул. «А деньги имеются?» – «Вот», – Левкин охотно протянул бумажник Лизе. Она, прищурившись, заглянула внутрь. «Негусто, – вынесла вердикт, – но на месяцок комнату сдать могу. Устроит?»
Новый редактор «Звезды металлурга» несказанно оживился. Это такая удача! «Я был бы премного благодарен! Иван! Иван Левкин. Если б вы знали, как мне нужно сейчас простое жилище! Знакомое, узнаваемое, существующее, имеющее место быть». Он попытался что-то еще сказать, но, почувствовав на глазах слезы, одумался, обмяк и затих.
«А меня – Лизавета Петровна, – сухо представилась Лиза. – Нет-нет! Обниматься не будем. Во всяком случае, не здесь. Ну что ж, если пиво допил, пошли. Ты же не местный?» – «Да я, в общем-то, здесь родился. Да и с вами знаком…» – Иван усилием воли заставил себя замолчать. «Надо же! – Лиза хмыкнула, еще раз его осмотрела. – Нет, не узнаю. Ну да ладно». Зацепив под руку, поволокла прочь, навстречу апрельскому мокрому снегу.
В двухэтажном высоком доме барачного типа еще довоенной постройки Лиза Петровна показала Левкину крохотную комнатку на первом этаже. Там раньше жила дворничиха, но уж лет десять как селились Лизкины квартиранты. Двумя пальцами развернула размокший паспорт жильца. Хмыкнула, но ничего не сказала. Неопределенно махнула рукой в окно, указывая ближайший магазин, вышла из комнатки, тяжело прошлась по коридору и открыла дверь своей квартиры. Заглянула к дочке:
«Эй, Сашка! Ты дома?»
Александра смотрела в окно спальни на мерно и разноцветно дымящий завод, на величественные корпуса и трубы, на проходную. Из окон было видно, как сквозь узкий зев проходной течет река металлургов, как суетится охрана, периодически отворяя ворота для крупнотоннажных фур и машин начальства. Гордо подняв головы вверх, чтобы не забрызгать глаза слякотью подлых провинциальных тротуаров, плыла, скользя в лучах фонарей, ночная смена.
«Мама, – не оборачиваясь к вошедшей Лизе Петровне, проговорила Саша, – я пойду смотреть на ночные плавки?» – «Конечно нет, – хмуро ответила Лиза Петровна. – Люди работают, а ты им мешаешь. Слухи ползут по заводу. И вообще, хватит об этом. Мне не нравится твоя связь с Петренко!»
Помолчали. Лиза чувствовала хмель и странную грусть, случавшуюся с ней после прогулок по родному городу. Впрочем, была и радость от того, что нашла пусть и плохонького, но жильца. Пока на месяц, а там, глядишь, работать устроится. Вот и будет дело. Часть, конечно, пойдет начальнику ЖЭКа, но и себе копейка перепадет.
«А на участке нагревательных колодцев снова призрак ходит», – сообщила Саша. «Это кто тебе сказал, – после паузы поинтересовалась Лиза, – Петренко?» – «Ну да, и что? Между прочим, он гениальный металлург, так что ему можно говорить все, что угодно! Ни ты и никто другой ему не указ! Без него этот завод станет!»
«И на гениальных металлургов находится управа, – убежденно проговорила Лиза Петровна. – Его могут, например, премии лишить, выговор объявить, уволить. Могут, кстати, и в милицию заявить, что пятидесятилетний мужик трахает юную девицу Александру, отец которой, между прочим, и по сей день являет пример гражданского мужества и высокого профессионализма. И что тогда светит Петренко за его болтовню?»
«Между прочим, – хладнокровно парировала Саша, – девица не так уж и юна. Ей уже двадцать два года, и она дает сама! Дает-дает! И с большой охотой! Пора пришла, как говорится. Снеговые горы тают, с юга птицы прилетают и шуцманшафт. И любому заинтересованному лицу эта самая девица так и скажет: Петренко здесь ни при чем! А чтобы вопросов не оставалось, предъявит итальянский фаллоимитатор своей матери, спрятанный в дальнем углу шкафа в коробке из-под старых сандалий.
Если вы хотите от этой жизни взять все, – заметила Саша с вежливой улыбкой на красивом кукольном лице, – если вам надоели скучные будни, вспомните о нем. Ваш дружочек всегда готов! Длина двадцать два сантиметра, диаметр три с половиной, цвет бордовый. Для женского счастья довольно двух батареек «AA» и тридцати свободных минут! Лучшие фаллоимитаторы на присоске – фаллоимитаторы реалистик !»
«Сволочь ты, Сашка, – скорбно покачала головой Лиза, – настоящая сволочь! Ну да ладно, хватит нам с тобой умничать, садись пить чай». – «Не верю я тебе, – устало проговорила Саша и уселась на широкий деревянный стул. – Ты все врешь. И насчет отца, и насчет меня, и насчет Петренко. Всегда врала. Всю жизнь. Думаешь, я дура, тобою выдуманная, и ничего не понимаю в жизни? Так вот. Во-первых, понимаю. А во-вторых, не верю тебе».
«А ты никому не веришь, – справедливо заметила Лиза Петровна, – ибо дети – фикция человека». В комнате воцарилась тишина. Две женщины пили чай вприкуску. В старой сырой квартире пахло мятой и зверобоем, старыми тряпками и медленно доходящей до нужной кондиции квашеной капустой. Бадейка с ней стояла на балконе, прикрытая большой эмалированной крышкой, но дух пробивался через форточку и сюда.
«Бедная моя девочка, – произнесла Лиза Петровна, когда с чаем было покончено. – Бедная, бедная, бедная! Был бы настоящий отец, в твоей судьбе все бы сложилось по-другому».
«А в копровом цехе кровь в металлоломе, – проговорила Саша, дуя в чашку. – Дневная смена заявление написала, милиция приезжала. Резаки остановили. Все выясняли обстоятельства. Петренко говорит, это кровь русского народа из нефтяных скважин хлещет. Девать ее некуда, так что ее льют в эшелоны с металлоломом, что идут на Запад. Как говорит Петренко, феррум к ферруму». Саша замолчала, размешивая сахар в чашке.
«Твой Петренко, милая моя, – проговорила Лиза Петровна устало, – дурак, старый сатир и фантазер. А ты бы шла спать». Саша слезла со стула, прошла к себе в комнату, постояла еще немного у окна, наблюдая за сизо-красным заревом, стоящим над заводом. Потом вздохнула. Взяла в руки куклу в малиновом платьице, положила у подушки, сняла джинсы и желтую застиранную кофту, предназначенную для особо зябких дней, и нырнула под одеяло.
Взяв куклу в руки, Саша потрясла ее, пока не открылись выцветшие равнодушные глаза. «Слушай меня, Дуня, – сказала Саша, – слушай. Рассказываю тебе сказку, рассказываю. Жил-был на свете город. Громадный! Большой город посреди степи. Кто его построил, неизвестно! И зачем построили, тоже никто не знал».
«Что у нас по газу?» – Директор завода Александр Дегтярев посмотрел на начальника газовой службы. «Пока перерасход», – пожал тот плечами. «И какого хрена?! Вы что, мать вашу, газ налево толкаете?» – «Ну почему обязательно налево? На прошлой неделе было две запоротые плавки, причем не по нашей вине. В понедельник плотность металлолома была низкой, а в субботу ночью, как уже было три месяца назад, взрыв был в печи. Да вы же сами знаете! Заглушили, конечно, плавку. Ну, вот и перерасход».
«Что там по взрыву? – Директор посмотрел на начальника электросталеплавильного цеха. – Когда вы наведете порядок?!» «А это вы у Васи Петренко спрашивайте!» – Начальник цеха перевел стрелки и продолжил рисовать ужасные рожи в зеленой тетрадке в клеточку. «Это все, что ты можешь сказать?» Начальник цеха снова отложил карандаш. «Новые стержни, Александр Степанович, заказаны и оплачены, сегодня к ночи установим. Ремонтная бригада работает круглосуточно. Теперь все».
«Петренко, где ты?! Петренко, красавец! Где ты, когда с тобой директор разговаривает?! Встань передо мною, как лист перед травою! Что там снова случилось?! Когда ты научишься работать?! Или тебя перевести в слесаря?» – «А я не против, – пожал плечами Петренко. – И при чем тут кто, если в металлоломе газовый баллон?!»
Дегтяреву позвонили на мобильный. Он принял звонок и стал слушать. Василий Иванович вздохнул и посмотрел в окно. Здесь, в зале, было тихо и сонно, а там, за огромными витражными окнами, плыла в паутинах и звонах ранняя весна. Небо в облаках было молодое и пугливое, как заяц. То глянет, то спрячется. Хотелось выйти на улицу, вкрадчиво войти в магазин «Металлург», купить три бутылки портвейна и встревоженно их выпить. Пить, изучая небо. Подрабатывая угловатым мощным кадыком после каждого крупного глотка. Вдыхать облака. Впитывать весну подошвами мокрых сапог, большими кулаками с шишками разбитых косточек, волосатой грудью, в которой в последнее время все чаще сквозил странный холодок. Большими горько-зелеными глазами.
Пить портвейн следует так, чтобы он смешивался с ветром, думал Петренко, смешивался и бурлил. Чтобы ветер становился хмельным, а портвейн горьковатым, как ветки сирени, как выброс печи, как междуножье сладкой дурочки Сашки, ведьмы и наута. Дымя сигаретой, леденеть на апрельском ветру. Стоять, как полный портвейна собор, раскачиваясь куполами. Звонить колоколами в квартиру Петровны в надежде обнять ее развратную дочь.
«Продолжай, голубь», – ласково проговорил директор. «Ага, – вернулся к происходящему в зале Петренко, – так вот. Баллоны приехали в цех с копрового вместе с шихтой. Фули, извините за мат, я ее руками перебирать буду? Этот баллон хрен увидишь! Сорок тонн шихты! Так что все вопросы к начальнику копрового. Пусть приемка работает на составах! И пока не проверят каждый вагон, пусть бумаги поставщикам, извините за мат, пидармотам, не подписывают. Вот такое мое рационализаторское предложение. А то каждый раз, как взрывается, так Петренко виноват. Да я в этом цеху и днюю и ночую».
«Знаем мы, как ты ночуешь, – проговорил женский голос с галерки, – а главное – с кем». – «Диспетчера, сучки», – ласково подумал Петренко.
После собрания расходились долго. Курили на этаже, потом на улице у конторы. Смеялись. Передавали последние сплетни. Поговаривали, что город уже практически добился закрытия завода, хотя это дело трудное. Почти невозможное. Поговорили о том, даст ли закрытие завода какой-то эффект в метафизическом смысле слова. Ведь он единственно важен, что бы там ни писали в прессе об экологии. Никто не имел четкого мнения, но было понятно, что в закрытие завода народ не верит.
Начальник цеха уехал на служебной машине, а Петренко с собой не взял. Теперь от здания главконторы нужно было пилить четыре с половиной километра по запутанному многоэтажному заводскому пространству. Завод занимал почти сорок квадратных километров посреди степи. Огромные заводские корпуса нависали в небе, гудели, дрожали, перемешивались с облаками и туманом. По рельсам туда и сюда сновали тепловозы. Одни подвозили уголь и металл, другие увозили металлическую заготовку из обжимного цеха. Третьи просто ездили туда-сюда для массовки и веселого производственного хаоса.
Петренко шел по заводу и радовался. А как тут не радоваться? Едет тепловоз. Гудит. Вроде и ничего такого, а чувствуешь – красота! А вот привычный агитационный щит. Но Петренко всегда его отмечал и с удовольствием читал вслух: «Кто честь свою не бережет, тому не дорог наш завод!» Шесть на шесть. Торчит в синем небе на фоне пронзительно зеленой стены обжимного цеха. Кроме букв, на щите имеются рабочий и рабочая, которые осуждающе глядят на тех, кто не бережет честь и не любит заводские корпуса и эту задымленную территорию так, как любит ее Петренко.
В целом, конечно, Василий Иванович понимал, что эту агитку придумал какой-то ханыга, которому самое место в нагревательном колодце, где полторы тысячи по Цельсию. Но, с другой стороны, только здесь такие щиты еще и остались. Раритет и реликвия, а с другой стороны – свидетельство, что такое корпоративный дух в понимании местного истеблишмента.
А вот скромный треугольник перед шлагбаумом. Он всегда тревожит. «Рабочий, будь бережлив!» Кто это придумал и что хотел сказать? Рабочий, сука, будь бережлив! Василий Иванович с улыбкой посмотрел в быстро бегущее синевато-серое небо. Состав с углем, проплывающий мимо обжимного цеха, прокричал: «Бе-ре-ги, млядь! Все береги, су-у-у-ка!»
Состав в электросталеплавильном ответил кратко: «У-у-у-ка! Ууу-ка!»
Облака не летели на восток. Нет. Петренко покачал головой, подбирая подходящее сравнение. Они туда падали. Будто пространство изменилось, и на востоке теперь находился мистический низ мира. Именно к нему стремились облака, дожди и птицы. Туда стекала водка из опрокинутого стакана. И плевок, летящий на запад, сам собой поворачивал на восток. Именно на востоке теперь находился центр тяжести мироздания. Это отчего-то радовало Василия Ивановича, неугомонного к чудесам и прожитым, и предстоящим.
Петренко перешел разъезд. Посмотрел вправо, влево. Никого. Только дождик моросит. От доменного тянет сизовато-опилочным дымом. В воздухе, будто кисея, плывет, подергиваясь, мельчайшая синевато-красная пыль. Она имеет особый вкус и в ноздрях не застревает, но и проходит не бесследно. Будто сто миллиардов конфетти размером с микрон высыпали вниз с башни охлаждения. Оказываясь внутри человека, они продолжают все так же лететь, подергиваясь в полете. И это падение внутри тебя длится вечно, потому что в каждом человеке бездна, которую не понять.
Во всем чувствовал Василий Иванович преддверие запоя. И это при том, что сам себя запойным не считал. «Так только, бывает, балуюсь, – говаривал он в компании. – Пью больше для лечения бессонницы и познания безграничных возможностей человека».
Но как же хороша весна! Подкатывало к сердцу что-то томительно жгучее. Кололо ладони. Пробивала испарина, и тогда приходилось расстегивать ворот. «Нет удержу, – сказал Петренко, – а надо удержать! Надо! Но нет удержу! Эх, как же хорошо!
Пацаны, дайте прикурить, – сказал он работягам-ремонтникам, которые шли в грязных спецовках из депо в столовку. – Снова идете жрать, не помывшись», – сказал он, затягиваясь полной грудью. – «Снова», – кивнули ремонтники. «А кой смысл мыться, – проговорил самый младший из них, Сеня. Посмотрел на товарищей, пытаясь найти у них поддержку. – Все равно хрен отмоешься и поесть не успеешь! Мастер придет, станет кричать».
«А ты возьми молоток и ударь его по голове, – посоветовал Петренко. – Сразу крик и кончится. Точно тебе говорю. Причем для верности бей два раза. Один раз в лоб, а другой в темечко. Очень помогает в случае производственных споров».
«Ну что ты, – возразил Сеня. – Ты думаешь, он злой человек? Конечно нет. Мастер, он какой? Ух! Проволока грусти! Стальные манжеты. Я часто вижу его из окна. Серьезно! Мы живем рядом. Только мой дом вот так стоит к гастроному. А его вот так. Отдельная личность!»
«И чего ж в нем хорошего? – поинтересовался Василий, закуривая. – Пока вижу только минусы этой натуры. На рабочих кричит, они вынуждены принимать пищу не помывшись, будто морлоки. Хороший человек, говоришь? А по-моему, молотком в лоб – и вся передовица. Обижать пролетария нехорошо. Все равно как обидеть ребенка. Но я готов, Сеня, рассмотреть твою позицию».
«Хорошо, Петренко. Тогда смотри. Сижу я дома после смены. Гляжу из окна. Вечер. Мастер идет в гастроном, где разливают. Выпьет стаканчик, выйдет и сядет на лавку. Сидит так же, как и в депо, строго и неподвижно. Спина прямая. Посидит-посидит, выкурит сигарету. Снова зайдет. Выйдет – и опять на лавку.
А вокруг детская площадка. Он пока трезвый, игнорирует. А когда начинает пьянеть, улыбается и каждый раз, выходя из магазина, раздает детям гостинцы. Конфеты и вот такие яблоки. Всю зарплату, наверное, на них тратит. Вот такие! Даже из окна, а я живу на пятом, это яблоко видно. Ну чего ты, Макаров, лыбу-то тянешь?! Тупой ты душевно! Пойми, я сижу в окне, курю, пью пиво. Никому ничего не дарю, хотя и мог бы. Что мне, трудно? Ни хрена мне не трудно, Макаров! У меня полный дом ерунды разной, никому не нужной. Фотоаппарат, книги, пианино стоит.
А у него, говорят, жена и сынок-малолетка погибли в другом городе. Я предполагаю, что в аккурат перед тем, как он к нам на производство устроился. Там продал квартиру, тут купил. Понимай так, чтобы памяти меньше было». – «А ты откуда это знаешь?» – «Во дворе соседки рассказали.
Говорят, ехали с дачи. Мастер за рулем, жена рядом. Сынок на коленях. Ногами болтал, в окно плевался, о своей учебе в школе небылицы рассказывал. И вот доплевался. Знаете, как бывает. Тормоза в визг, стекла вдребезги, милиция в свистки. Кровь на стеклах. Смерть и ужас. Два трупа. Мальчика пополам, у жены от удара глаза на тротуар вылетели. Сам я не видел, но соседки так рассказывали. А мастеру хоть бы хны. Ни в чем не виноват и притом живее всех живых. Остался один, значит, но не опустился. По-прежнему строгий и принципиальный: бутылка «Смирновской» и два «Рачка» – вот его рацион!
Когда приходит поздний час, встает, вытряхивает из пакета крошки, пакет сворачивает, кладет в карман. Улыбается детям и шагает домой. С соседями раскланивается, но ни с кем ни слова. И вот так весь! Вот так! Шаг печатает. Шеи не повернет. Позвонки ледяные, руки по швам. Слепой. Держится, будто манжеты на нем. Вот так весь просто!»
«Да откуда ты взял, – отчего-то рассердился Макаров, – эти манжеты?! Ты хоть знаешь, что это такое, Семен Семеныч?» – «Да чего ж не знаю! Я в театр хожу». – «И при чем тут театр?» – «Да вот при том». – «Нет, что ты подразумеваешь, когда говоришь про манжеты?!»
«Не перебивай меня! Имей терпение. Значит, так.
В театре дают Гамлета. Я смотрел восемь раз. Гамлет высокий, худой и, как для датского принца, так уже старичок, хотя и крепкий. Когда-то был видный мужчина, ничего не скажу. Но сейчас ему по комплекции больше подошла бы роль тени. Но ничего. Играет сносно. – Семен помолчал, раздумывая. – Да что я ж такое говорю. Отлично играет! Сазонов, кстати, его фамилия». – «Чья фамилия Сазонов?» – «Гамлета фамилия Сазонов, а будешь, Макаров, перебивать, я рассказывать ничего не стану». – «А про манжеты?» «Сейчас будет про манжеты.
В общем, аншлаг. Тишина. Дания. Музыка. Ветер дует за стенами замка. Холодно так, что даже крысы, которые в этой Дании годами жрут реквизит, дрожат и думают о горячем кофе. Выходит Гамлет и говорит Офелии, мол, « О радость ! Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа». И дальше там про порядочность. А потом говорит вот что: « Я вас любил когда-то!» То есть, значит, уже не люблю, но любил. Ты примечай».
«Ну правильно, там так по тексту», – подтвердил Макаров. «Да! По тексту, – горячо кивнул Сеня, – тут ты прав! Он ее действительно уже как бы не любит . У него, Макаров, в душе нет места для этой любви. Это мы с тобой, слава богу, как люди серьезные, понимаем.
Но интрига-то в том, что по Сазонову, по этому старому актеру, видно, что эту самую Офелию, актрису Трухаеву Ирину Егоровну, девяносто второго года рождения, блондинку, волосы и все, что выше колен, он любит по-настоящему. Просто гибнет, как любит! Вот где трагедия Гамлета Z! Она ему, между тем, выдает, мол, действительно, принц, мне верилось , то да се. А он ей отвечает – а не надо было верить ! Не нужно, понимаешь, Макаров! « Сколько ни прививай нам добродетели, грешного духа из нас не выкурить! Я не любил вас!»
«Нет, обожди, – говорит третий слесарь, Гриша Карабут, – давай разберемся, Сеня. Он ее или любит – или не любит. Одно из двух. Надо выбирать, как говорится!» – «А не получается, – грустно отвечает Сеня. – Ни у Гамлета, ни у нас с тобой, Григорий». – «Так обожди, – сердито сопит Макаров, – а манжеты к чему?!»
«Ну, так и вот. Единственное, что не позволяет старику Сазонову расплакаться прямо на сцене, – это белые манжеты, которые топорщатся у него на руках. Они такие белые, такие длинные! Мать моя женщина! Такая удивительная белизна, что ее и в природе не существует! И видно, что это его держит. Понимаешь, Макаров?! Это его внутренне собирает и обязывает. Вполне достаточно, чтобы не тихо, но и не громко сказать в нужном месте: «К чему плодить уродов? Ведь столько горя за душой, что лучше б мать и не рожала. Я беден, горд, самолюбив. И больше гадостей, чем мыслей. Зачем толочься нам меж небом и землею? Все мы лжецы. Ступай, сестрица, в Лавру!»
«А мастер тут при чем?» – «Да, мастер. – Сеня грустно посмотрел на товарищей. – Заводской мастер, Вишня Сергей Павлович, такого-то года рождения, выходит из гастронома, изнутри облитый стеклом. Просто прозрачный. Идет в последний раз на детскую площадку. Вынимает яблоки из пакета, склоняется над детьми. Они берут конфеты и фрукты, чтобы утешить Вишню, но так это делают, будто фрукты не настоящие. Понимаете? Будто в игру играют. Вот так берут, чуть надкусывают, смеются, переглядываются…»
«Не будем грустить, пролетарии», – Петренко махнул рукой и выкатил из-под инструментального шкафа четвертую поллитровку. «Нет-нет-нет!» – Макаров нетвердо встал и тут же сел на место. «Ну что ты наделал, Василий Иванович! Ну куда это годится? Шли, как люди, обедать. У нас же тепловоз стоит, ему ремонт давать надо!»
«И вот… – сказал Сеня и задумался. – Когда Вишня приходит с утра в цех, то смотрит на нас, как Гамлет на Офелию в тот момент, когда его фамилия Сазонов, а ее Труханова. То есть с любовью, конечно, но и не без ненависти. А когда он с работы идет домой и по пути видит детей, то, чтобы не кричать, не выть и не биться головой о старые чехословацкие маневровые тепловозы, о высокие светлые дома Z-новостроек, о Z-углы и Z-подъезды, о Z-деревья и Z-облака, я думаю, ему приходится держать себя в манжетах старого Гамлета. В стальных металлургических манжетах. Теперь понятно?»
«Теперь понятно», – согласился Макаров. «Ему бы надо взять себе на воспитание ребенка. Приблизительно нашего Сеню», – сказал Карабут и засмеялся. «Я все думаю», – Сеня затушил папироску и принялся открывать перочинным ножом сардины в масле. «О чем?» – с интересом спросил Макаров, ломая кусками хлеб. «А вот об этом.
Вокруг Дания, ночь. Стоит он перед ней, и руки у него трясутся. Где-то за дверью гримерки коллеги по актерскому цеху подслушивают и хихикают. А как им не подслушивать. Весь театр знает, что старик Сазонов домогается Трухановой. Он старик, она красивая молодая баба. Смешно ведь. Вот и подслушивают.
Премьера прошла на ура. Выпили. Сазонов тоже принял стакан. Пришел и решил выяснить наконец все, что еще не ясно. «А выйдешь замуж, – говорит он, присаживаясь на скрипящий диван с выцветшей обивкой, – так вот тебе мое проклятье, Ирина!» – «А ты, Сазонов, прикажешь мне за тебя идти?! – говорит она устало, снимая с лица грим. – Ты сам подумай, Витя, тебе скоро семьдесят два, мне двадцать с хвостиком, ну какое у нас с тобою может быть будущее?! Какое?!»
«Затворись в обители, – кричит Сазонов, – говорю тебе, затворись!» – «Твой юношеский облик, Витя, бесподобный, изборожден безумьем, – резонно отвечает она ему. – Не собираюсь я замуж! – Труханова, кстати, тоже повышает тон. Потом осекается, глядит на его подрагивающий подбородок. – Не хотела тебя расстраивать, – отворачивается, чтобы не видеть бледное лицо партнера по диалогу, – но раз ты уж начал… В общем, уже договорено. Отыгрываю последний сезон – и в столицу! Буду поступать на режиссерский. В этой провинции ловить нечего». – «Ах, вот так…» – Сазонов закуривает. «Да, именно так», – Ирина искоса на него смотрит.
Виктор сидит, всматриваясь далеко внутрь себя, и в уголках его глаз медленно вскипают мелкие прозрачные слезки. Носик маленький, глазки синие тоже маленькие, как у какого-нибудь парус-майора. Вокруг глаз мелкой сеткой морщинки. Лицо не просто бледное – пергаментное. «Ему покойников без грима играть можно, – невольно думает Труханова. – Вечный Пьеро. Сигаретку держит в пальцах неловко. Да и как иначе, если курит всего полгода? Поздновато пришел к пороку Сазонов». И этот факт тоже вызывает у Ирины щемящее чувство вины, обливает ее всю от затылка к животу волнами жалости и нежности.
Она смотрит на него, а ее плотяное сердце ноет и плачет. И рвется на хрен!
«Витя, ну чего ты», – говорит она наконец. Бросает в сердцах на стол вату. Ставит со стуком на стол жидкость для снятия лака, отшвыривает в сторону полотенце. Подходит к Сазонову и прижимает его голову к своему животу. Тот утыкается в нее носом, обнимает руками бедра и дрожит мелкими прерывистыми рыданиями. «Я люблю тебя», – говорит он в ее живот, и все ее внутренности зачем-то отзываются на эти слова.
И что с этим поделать, никому не известно.
«Господи, как я тебя люблю», – говорит она, тяжело вздыхает, садится рядом. Поджав под себя ноги, снимает серьги и кладет на столик рядом. Приготавливает платок, смотрит на часы и вдруг тоже начинает плакать навзрыд. Виктор гасит тлеющую сигарету под стершимся каблуком театральных туфель, вытирает слезы тыльной стороной ладони и принимается ее утешать.
Гладит пышные светло-желтые, будто пшеничные, волосы Офелии, шепчет какие-то слова. Желтая, тусклая лампочка в гримерке горит слабо, временами мерцает, иногда принимается петь и жужжать, будто оса, попавшая между стекол.
Виктор Евграфович гладит волосы любимой женщины, смотрит на лампу и думает о том, что в мансарде у него есть бутылка брюта, который она обожает, кусок семги и зеленые крупные оливки. Он думает, что все еще будет хорошо, а на операцию в этом году можно и не ложиться. «Возможно, у нас есть еще немного времени, – думает он, – хотя бы год или два. Господи! Хотя бы год или два».
Быть директором завода нелегко. Тем более если это, с одной стороны, градообразующее предприятие, а другой стороны – вредное для жизни и здоровья. Но в какой-то момент ты становишься одним целым с этим монстром и понимаешь, что без него тебе жизни нет. И когда тебе намекают, что завод закроют, что в его корпуса войдет тишина, что сквозняки и ветер будут гулять над некогда горячим городом, полным умных машин и сильных людей, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Ты плачешь ночами, думаешь. Сердце сжимает боль! Ты не можешь смотреть в лица мастеров и сталеваров, учетчиков и приемщиков, бухгалтеров и прокатчиков. Трудно становится вести производственные собрания. По инерции требуешь отчета, даже материшься, входишь в каждую деталь огромного производственного процесса, но чувствуешь, как изнутри тебя режет и кроит мысль: завод умирает! И если ты так же любишь его, как Дегтярев, то что-то в тебе случается. И завод сам предлагает тебе единственный выход. Если спасти его нельзя, пусть хоть погибнет не зря!
А житейски рассуждая, конечно, Дегтярев проживет и без завода. Тем более что здесь он просто менеджер. Хорошо оплачиваемый, ловкий, знающий, как делаются дела. Но все равно, как ни крути, наемный работник. Правда, на этом предприятии работал его дед, а потом отец, потом старший брат. Он погиб как раз в тот год, когда Александр стал директором. Упал в нагревательный колодец. Пока вытащили, там уже нечему было жить. Налицо обугленная органика. Колодец же закрыться успел. Ну а как иначе? Он же закрывается автоматически, а открывается на какие-то сорок секунд. И газ подается автоматически.
«В общем, что такое нагревательный колодец, чтобы все по порядку, ты слушаешь меня?» – «Да слушаю! Мало того, прекрасно знаю, что такое нагревательный колодец». – «А я все равно расскажу!» – «Ну, рассказывай, если хочешь. Только не пей больше. Тебе нельзя. У тебя желудок». – «В общем, хрень такая, прямоугольная яма. Металл в ней нагревают перед подачей в обжимной цех. Данька как следует принял в тот вечер с товарищами по смене. И уже готовился идти домой. – Дегтярев улыбнулся, покачал головой. – Данька свою меру знал! О, этого у него было не отнять. Но тут что-то случилось с крышкой третьего колодца. Диспетчера и техники в заступившей смене почти все были молодые пацаны. Испугались, забегали. Останавливать пролет нельзя. Неоправданные потери газа, времени, денег и так далее. Краны работают опять же. За этой порцией металла новый состав на воздухе дышит. А обжимной цех?! Его в принципе нельзя останавливать! Там тоже все работает, ждет, когда горячие стальные заготовки покатятся на обжим.
Короче, Данька полез туда, куда пьяным лезть не следовало. Хотел ломом расчистить паз, по которому короб ходит. Там, по ходу, дело было всего-то в куске окалины. Ну вот. Ломик толкнуло крышкой. Вместе с ним Даню подбросило вперед и вверх. Упал он лицом вниз. Что ни говори, яркая смерть. – Дегтярев еле слышно засмеялся, отчего у Зои мурашки побежали по коже. – Если разобраться, никто не виноват. Понимаешь, окалина попала в паз и заклинила движение крышки».
«Да понимаю я, понимаю, не нервничай. Ты мне сто раз уже об этом рассказывал. Ты спать думаешь?!» – «Обожди, Зоя. – Дегтярев встал с кровати, подошел к журнальному столику и налил в рюмку коньяка. Выпил. Постоял немного, через щель между двумя неплотно задернутыми шторами всматриваясь в движение звезд на ночном небосводе. Позвенел графином, наливая воду. – Хуже всего, что он так отсюда никуда и не ушел, и никто из них никуда не уходит. Правы власти, которые хотят это закрыть, но, если они это сделают, всем будет только хуже. Причем намного!»
«Кто не уходит?! Откуда? Ты это о чем?!» – Зоя перевернулась на правый бок, включила лампу над постелью. Взяла сигаретку, закурила. Дегтярев сел на кровать со стаканом воды и принялся яростно чесать затылок и грудь. «Весь последний год, – проговорил он задумчиво, – Даню видели на участке нагревательных колодцев. Не каждую ночь, но в полнолуние или когда дождь сильный накануне. Короче, если вечером гром, то ночью жди! – Александр Степанович невесело усмехнулся. – При жизни не наблюдал в нем столь дивного постоянства».
«Не понимаю, – проговорила Зоя ломким голосом и в две затяжки прикончила сигаретку, – что за чушь?!» – «Не понимаешь, конечно, не понимаешь. – Дегтярев уселся в постели поудобнее, взял в руки пепельницу с тумбочки, закурил. – Ну вот и помолчи, если не понимаешь.
И весь этот год мне никто ничего не рассказывал. Ну, это ясно. – Дегтярев вполголоса рассмеялся. – Представь, если б мне доложили, что на участке нагревательных колодцев вся ночная смена целиком видела моего покойного брата, Даниила Степановича Дегтярева?! – Александр снова тихо засмеялся. – Я их не просто бы уволил, а еще и хари бы им в кисель поразбивал! У нас, конечно, тот еще город, и нежить здесь – обычное дело, но не до такой же степени!»
«Бред какой-то, – передернула плечами Зоя, – твоих металлургов лечить давно пора. – Сигаретка стремительно тлела. Пепел грозил в любую секунду обрушиться вниз. – Увольнять и лечить! Лечить и увольнять!» – «Э, не скажи! – Дегтярев покачал головой. – Потомственные династии. Один только Петренко чего стоит!» – «А Петренко твой…» – зло проговорила Зоя…» – «А Петренко ты вообще не трогай», – предупредил Дегтярев.
Какое-то время курили молча.
«В общем, Иван Иванович, мой мастер-прокатчик, говорит: вы бы, Александр Степанович, зашли бы как-нибудь ночью на участок нагревательных колодцев. Ваш брат – мол – чем дальше, тем чаще является. И не только к колодцам, но даже на первый пролет обжимного цеха. Слесаря туда по ночам боятся ходить. Это, – говорит, – никуда не годится. Прямой ущерб производственному процессу.
Я отвечаю, мол, как так?! А он поясняет – говорит: кто мы ему такие?! С нами разговоров он не ведет. Видно, мол, с вами желает иметь беседу. Так вы уж уважьте брата, Александр Степанович! Да и не станет он больше с вашей женой баловать. Не в том состоянии теперь находится. Он более в газообразном, если можно так выразиться. Да и не тем занят. В общем, простили бы вы друг другу старые ошибки и все ж таки встретились. Извините, если сказал чего лишнего. Умоляем от имени коллектива. Пройдите и переговорите с посланцем от . Его нужда – общая наша нужда.
«Что, – спрашиваю, – имеешь в виду?!» – «Все знают, – говорит, – что завод собрались закрывать, и замешана тут метафизика. Имеется мнение, что ваш брат желает вам, как действующему руководителю предприятия, в связи с этим что-то сообщить. Думаем, касательно превентивных мер или иных мероприятий».
«Какой кошмар! – Зоя выбралась из-под одеяла, подошла к столику и налила в фужер коньяку. – Это просто ужас, Дегтярев. Тебе надо было сразу медиков вызывать. У вас там действительно выбросы какие-то вредные. Довели людей, млять! Ни хрена себе завод! Металлурги бригадами призраков видят! Какой ужас! Я знаю, что в радиусе двадцати пяти километров от завода мутанты рождаются, что науты, бывает, приходят к людям. Но с этим уже все свыклись. Но чтобы взрослые люди – и на производстве…»
«А я, например, Ивану Ивановичу всегда верил, – твердо заявил Дегтярев. – И буду верить впредь. Он завязал еще в восемьдесят восьмом, когда в соответствии с Женевскими соглашениями СССР стал выводить из Афганистана войска. Он, Зоя, с тех пор ни рюмки не выпил. А если ты не хочешь признать паранормального факта своей измены, так это глупо. Сколько лет прошло? Чего ж теперь скрывать».
«Ничего у нас с Данькой не было! – Зоя вспыхнула до корней волос, вскочила с кровати. – И вообще, сколько лет Ивану Ивановичу, семьдесят пять или больше?» – «Какая разница, – посуровел Дегтярев. – Если человек говорит правду, возраст значения не имеет».
«Да откуда, – сорвалась она на дискант, – он может знать эту самую правду?! Как ты можешь верить ему и не верить мне?! Да мы же с тобой, Александр, двадцать семь лет душа в душу! – Она заломила руки и выгнула спину. – Как ты можешь такое говорить?!»
«Прежде всего, – сказал Дегтярев, допивая коньяк, – не ему верю, но брату. А вот Даньке верить я должен, тем более что он передовик производства и никогда сроду не лгал. Да и сейчас заметной нужды в том не испытывает».
В комнате воцарилась тишина. Слышно было, как гудят вдалеке электросталеплавильные печи. Перекликаются гудками маневровые. Под самыми окнами по бульвару прозвенел трамвай. В кафе напротив какой-то веселый народ распевал песни русских революций. С крыши по карнизу мерно били капли, стекающие с жирных апрельских сосулек.
«Ты что, хочешь сказать, что ходил туда?!» – спросила Зоя шепотом, прикрыв ладонью рот. «Ну да, – кивнул Дегтярев. – А че было делать? Взял бутылку и пошел. На участке объявил профилактику. Колодцы погасили, народ отправил в отгулы. Никто даже вопроса не задал. А че задавать? Я тут бог и царь, а рабочему человеку и так все ясно. Сел на место диспетчера и сидел до полночи. Чуть не заснул. Думал насчет тебя и брата моего. А ведь, веришь, – Дегтярев покачал головой, – я тогда ничего так и не узнал! – В его глазах, не выливаясь, стояли слезы, и это показалось Зое самым ужасным. – Оказывается, все были в курсе, даже Иван Иванович, а я ни-ни. Представляешь? Это ж до какой степени, Зоя, нужно было быть идиотом? А потом пришел брат. В спецовке, руки в мазуте, улыбается. Сел вот так на стул напротив меня, и мы с ним поговорили».
«И о чем, интересно, – скривила губы Зоя, – может, он рассказал тебе, кто виноват и что теперь делать?» – «И кто виноват, и что делать, – кивнул Дегтярев, – и чем сердце успокоится».
«А поподробнее?»
«Поподробнее, говоришь? – Дегтярев некрасиво оскалился. – Кончать со всем этим будем». – «С чем кончать?» – Зоя с испугом посмотрела на Александра Степановича. «Со всем! – Он наотмашь рубанул рукой и в темноте сбил матерчатый абажур с настольной лампы. Тот упал вниз, загремел, покатился. – С заводом, с городом, с провинцией! Со всем!» – «Ты что такое говоришь? Может, спать лучше лег бы?» – «Да чего спать! Чего спать, Зоинька? – Дегтярев улыбался лихорадочно и жалко. – Я тебе, можно сказать, первой говорю все как будет, а ты – спать… Ну что, мать твою, за дура!»
«А нельзя ли пояснее, – осторожно попросила Зоя, – ты от меня хочешь уйти? Развода будешь требовать? Глупый! Сам подумай, кто еще так за тобой ходить станет?! Ну, подумай головой, Саня! – Зоя тихонько погладила его по голове. И впрямь, было у меня с Данькой кое-что по молодости, было. Только зачем ворошить прошлое? Сколько лет, считай, прошло… Ну Саня, ну правда, прости! – Она прижала его голову к своей груди и подержала так пару секунд, будто отогревая седую голову мужа. – У меня ведь только с Данькой было и никогда ни с кем чужим! Так что, считай, семье я оставалась верной. Ну, прости меня, Санечек! Прости дуру! Ведь жена твоя».
«Да ладно тебе, – поморщился Дегтярев, – ерунда, в сущности. Ну, было и было. Не плачь, Зойка, я все понимаю. Он виднее, красивее, да, кажется, и мужиком был более правильным. Вот поговорил я с ним вчера и сразу тебя понял. Данька даже сейчас вроде, понимаешь, наут, не живой, но не скрывает этого, и все ж таки сила в нем чувствуется, энергия. Убеждает, короче! Сквернословит, правда, по-прежнему. – Дегтярев хохотнул. – Говорят, горбатого могила исправит. Теперь знаю: врут люди. С чем тут был, с тем и там останешься».
«Обожди, в чем убеждает-то?» – Зоя с тревогой всматривалась в лицо мужа. «Во всем! Данька говорит, мол, всем плохо сейчас: стране, народу, каждому из вас. И все это происходит оттого, что провинция Z такая, какая есть. И происходит это оттого, что тут у нас тяжести много собралось! Вот смотри, если где-то во Львове опрокинулся на пол стакан водки – считай, она не испарилась никуда, но вся стекла сюда, к нам. Кто-то кирпич бросил через границу, в Польшу, допустим, а он как раз сюда, падла, поворачивает! Пролетает, значит, над всей правобережной Украиной, минует, кстати, левобережную аккуратно по Днепру и снова-таки известно куда падает. Плюнь на западе – попадешь сюда.
Но водка, допустим, это – ерунда. Это я, положим, к примеру. Если бы она сюда стекала со всей самостийной, мы бы захлебнулись к ядрене фене. А вот мысли тяжелые, ненависть, гнев, страх, злоба, понимаешь, – это все тут, все у нас! Безнадега? Пожалуйста! Суицид? Сколько хочешь! Алкоголизм? Наркомания? Хоть ложкой ешь. Разврат, ложь, цинизм, презрение ко всему – что, не мы? Милости просим! Требуется фальшь, страх жизни, инфантилизм, зависть, безудержное стремление к наживе, всякая нечистота духовная, тоска, печаль, отчаяние? Поселяйтесь в Z! Это мир вашей мечты! И над городом всадники молибденовые! И ветра менделеевские, в которых бездна никем не открытых частиц. Мутанты рождаются и выходят на оперативный простор. Что характерно, история эта тянется так долго, что разобраться, отчего это так, а не иначе, уже почти невозможно.
Да я и сам думал, – Дегтярев повернулся к Зое, – вроде не бездельники и могли бы жить! И заводы у нас, и шахты! Олигархи свои, а не купленные! Что ж так хреново, ребятки?! Ну в чем дело, а? Поселки умирают! Народ нищий и злой! На окраинах ночью страшно на улицу выйти. И потом, заметь, как выброс на заводе, – в Z сразу пахнет Армагеддоном! Нигде, главное, не пахнет! В Черновцах, Житомире, Виннице, Чернигове ни боже ж мой! В Киеве не пахнет, во Львове не пахнет…» – «Там дерьмом пахнет, – заметила Зоя, – у них канализация хреновая». – «Что есть, то есть, – согласился Александр Степанович, – но это недостатки быта. А тут речь идет, как ни крути, о последних временах.
Раньше я думал, вся проблема в том, что живут тут и не русские, и не украинцы, и не татары, а что-то такое среднее, полторы сотни наций в одной упаковке». – «А сейчас думаешь иначе?» – Зоя закурила, неизвестно чему улыбнулась и села на пол у ног Дегтярева. «Да, сейчас думаю иначе. Но самим нам не справиться. Окно рубать надо!» – «В Ростовскую область, – предположила Зоя, – на Кубань? В Индию?»
«В астрал, – ответил Дегтярев, как отрубил. – А точнее говоря, в иные сферы бытия! Для этого придется взорвать Z!» – «Надеюсь, в фигуральном смысле этого слова?» – «Не надейся, – сказал Дегтярев. – Для выполнения плана придется активировать несколько атомных зарядов, которые еще в семидесятых были опущены в шахтные выработки на глубину более семисот метров. Каждый заряд по сто мегатонн! А под всей нашей провинцией шахтные выработки. Представляешь?! От Днепра до Дона все вверх! Кутерьма начнется, карнавал! А потом мы увидим другую жизнь! Счастливую, добрую, справедливую. В которой нет места лжи и наживе. В ней будет счастье, и охрана труда на производстве, и великая Украина от Киева до Берлина».
«Санечек, это бред, – подвела краткий итог Зоя, всматриваясь в лицо мужа. – Тебе бы отдохнуть, в самом деле». – «Я об этом когда-то что-то такое слышал, – продолжил Дегтярев, не обращая внимания на слова жены. – Тут испытания какие-то проводились, но руководство отрицало, а оказывается, звездели старцы обкомовские. А Даня подсказал! Говорит, кнопка находится аккуратно под «Грин-Плазой». Имеется под ней тот самый заряд, по которому нужно жахнуть! – Дегтярев зевнул, вытянулся на постели и затих. – У нас на все про все неделя, максимум две или три. Иначе будет хуже. Зоя, ты разбуди меня завтра. А с другой стороны, может быть, он перепутал что-то? Ведь какая-то хрень выходит. Смешно, ей-богу… Но заряд! Есть он! Верю! И на этом закончится все! Мы жахнем! Жахнем, прицелимся и жахнем! И Европа, мать ее, вздохнет наконец-то свободно!»
Часть 4 Тартарары
Видишь ли, я не Орландина.
Да, я уже не Орландина.
Знай, я вообще не Орландина.
Я – Люцифер!
Видишь, в моих теперь ты лапах,
Слышишь ужасный серный запах?
И гул огня?
А. Х. В.
На старом Z-троллейбусе в Рай не уедешь. Даже до Нью-Йорка не доберешься. Но слушать, как они снуют по проспекту, дребезжа и сигналя, необыкновенно приятно. Последние часа четыре Иван провел на чердаке и был счастлив. Мимо дома по проспекту шли люди, сквозь доски светило солнце, и Левкин чувствовал, что он имеет место быть, имеется в наличии, а его существование – вещь несомненная. А раз так, значит, все еще получится. В троллейбусах и солнце, в запахе пыли, в возне голубей под самой крышей, в скрежете тополиных веток о чердачное окно звучала тонкая нота несомненности существования, легкой боли и томления, какие приходят к людям в преддверии важных событий. Закрыв глаза, он тихо надеялся на их приход.
Приди, приход, думал Иван, приведи мне их. Ее и ее, утку и маму, Соню и революцию «я». Демон Декарта совершит что угодно. Разлучит с родителями и бросит в объятия других. Лишит любимых, друзей, дома, прописки, покоя и сна. Вылепит из редактора мытаря, шахтера, металлурга, дояра, профессора, баскетболиста. И не отменит лишь «я», что всегда где-то здесь, в чем-то янтарном и вечном, кислом и сладком.
Сегодня ты русский, а завтра еврей, татарин, араб или серб. Но, разуверившись в нации, семье и стране, в самых великих идеях и самых нужных вещах, ты жив. И никто не в силах заставить мерцать без остатка, отменить в бытии, ибо вечное «я» выше призрачных форм, в которые его одевают. И память о жизни тщетна и ложна, но в этом ее красота. И лишь тонкая нить ведет тебя по мирам. И нужно идти, не страшась ничего, не останавливаясь ни перед чем. Человеком, словом, парусом, уткой и лебедем, деревом, синим майским дождем, уравнением Римановой метрики.
Левкин улыбнулся и замер, слушая сизарей и стук капель солнечного дождя.
Сюда, наверх, его привели теплые майские дни. Глянув намедни на солнечный диск, горящий над электросталеплавильным цехом, вспомнил, как, будучи кем-то ( Ланселотом, Гвиневрой, несчастным Арктуром, альфой Волопаса ), однажды, несомненно, взбирался по шаткой лестничке к чердачному люку. Открывал его, оказывался в царстве параллельных миров, обозначенных режущим светом. Вспомнил запах пыли и солнца, ощущение счастья и блаженного знания, связанного с этим местом, и понял, что на протяжении долгих, в сущности, лет ничего так не хотел, как повторить этот опыт.
Лиза Петровна имела ключ от мечты. Левкин открыл замок, распахнул люк, поднялся и обошел чердак. В дальнем углу отыскался старый диван, неизвестно кем сюда принесенный. Он лег на него – и вот. Следующий шаг, представляющийся разумным, заключался в свидании с матерью-уткой. Ведь не секрет, что в ближайшие дни, а может быть, часы и секунды он позовет ее. «Фра-у! Фра-у! Утенко зовет тебя! Голое, липкое, глупое в городе Z. Никто не поможет, не подскажет, не сбережет. А время идет, а время пришло».
Но не годится звать утку с бухты-барахты. Уж коли придет, нужно ответить на пару вопросов. Не ей, но себе. Выяснить, что я такое, что делаю здесь. Ведь ничегошеньки не понятно. И где же Соня и кто же Соня? Не тот ли, кто спит, все время спит и спит, называется соней? Человек-сон, человек во сне? Сладко посапывает, прижимаясь щекой к подушке, обнимая ее рукой, сворачиваясь клубком. Сладко соне в осенний денек, когда за окнами дождь и трепещут осины, листопад оголяет сад, а пушистый тибето собако встает на лапы и смотрит в окно.
И пусть ты иллюзия, вымысел, повесть, новелла, дурацкий сонет, драматический сон. Пускай, но возможна же дружба! Можно любить и без секса. Тем более нам, настолько близким друг другу. И я уж не тот! Не думай, что прежний Иван зовет, чтоб владеть, обуять, обладать. Мой девиз, если хочешь, таков: «Стихам интим не предлагать». От него не отступлю, ибо на том держусь. Тем есть, и ем, и пьян, и пью! И это ужасно, судьбически дурно, невыносимо ошибочно желать идеал, что тепел и страстен, дрожит и поет. Иметь, говорю, имей, но впредь не греши!
Если б против всех ожиданий оказалось, что я обманул, ты могла бы сказать: «Что ж ты, Левкин! Кто ж ты, Левкин?! Ноль, проникающий в ноль, иль поэт и мыслитель?! А если второе, то как предаешь идеалы, умножая любовь на мечту о нарвале, трусах стюардессы, каскадных оргазмах, о сладких, но иллюзорных вещах? Иль в душе твоей Риччи потоки иссякли? Иль забыл ты, мой друг, что любить хорошо, мастурбировать плохо? Вот и зря, Левкин! Ей-богу, зря! Это слабость, возьми себя в руки».
Но ведь я так не говорю? А потому в чем меня упрекнешь? В том, что я верен лемуру? Но, милая моя, разве это так плохо?! Люди часто верны чепухе. Например, что такое призванье, присяга, друзья?! А ведь за это гибнут люди. И прекрасно, что так, пусть на здоровье гибнут. За что ж еще, как не за это? Но чем хуже лемур, скажем, призванья быть логопедом? Смешно, говоришь? Но лишь бы не страшно. Ведь верно, Соня?
Верно. «Кыш, проклятые!» Голуби вспорхнули и закружились над крышей. Вышла из солнца и села рядом. «Здравствуй, Иван. Ты изменился, да и я иная. – Повернулась в профиль. – Смотри, вот здесь и здесь морщинки. И губы крашу. Тебе нравится?» – «Да кто его знает, – озадаченно сказал Левкин. – Как-то не ожидал. И серьги висят».
«Да, на блошином рынке купила. Говорят, серебро, но это вряд ли. Впрочем, не важно. – Соня опустила голову, улыбнулась. – Кроме того, любовника завела. Что, не ожидал? Да-да. Молодой, неопытный. С ним столько возни, но с тобой не сравнится, конечно. Никаких рыданий в подушку, истерик и вещи в себе. Он у меня реалист, любит в рот и свинину в духовке».
«Стоп-стоп, – замахал рукой Иван, – какой любовник? Ты в своем уме, Соня?» – «Да какая же разница, Ваня, если нет меня, не существует! Фикция, ноль, иллюзия жизни. Но ты знаешь, я, как поняла это, стала проще смотреть. Не напрягаюсь. Идет и идет псевдожизнь. То любовник придет, то дожди, то сезонные распродажи. А я в палатке, цветы и шатер». – «Неужели?!» «Зайди как-нибудь. Пересечение улиц такой и такой-то. Меня там найти очень просто. И все ведь у нас хорошо? Правда? Ты, смотрю, при работе, слегка похудел и красив. А я к Мраку хожу иногда. Да, к Мраку, что забрал меня у тебя. Сейчас кается в этом, говорит, что хотел нам добра. Он стар, глуповат, боится света. Слезятся глаза. А вечером подать чашку воды некому, почитать, согреть постель. Старик, в сущности, живет лишь театром. Игрой, представлением, маской, ширмой, луной. Маджофако его псевдоним. Навещаю. Да, иногда. Иной раз ущипнет за бедро, не без этого, но это и все. А вечерами Петрарка, Бодлер, Витгенштейн. Представь, я стала умнеть».
«Нет-нет-нет! Что же такое? – Иван рывком сел на диване, всматриваясь в темно-синюю воду колодцев. – Не стоит ли оставить нам Z? Здесь так тревожно. Дорогие продукты, налоги, пыль, беспробудное пьянство. Нас никто тут не любит, Соня! Уедем! И потом, обожди, я не пойму. Что значит любовник, свинина и в рот?! Витгенштейн, за бедро… Ты же иллюзия, милая! Или все-таки нет? Непонятно. Соня, уедем! Ведь я реалист хоть куда. Но куда?»
Пыль взметнулась под крыльями голубей, закружилась в потоках света. Левкин посмотрел за окно. Солнечный ветер, дождь, пыль и песок.
Запал, с которым он прибыл сюда, пропадал, растворялся среди Z-улиц, апрельских луж, сквозняков, металлургов, суеты дней и недель. Сам смысл, казалось, истаивал в Z-пространстве. Оно не то чтоб изменяло, но вбирало в себя Ивана, как губы стальной коровы молибденовый куст молочая. И Левкину, точно как молочаю, было больно, и тяжко, и хорошо.
Утром являлся в офис «Звезды металлурга» и правил тексты. Газета выходила и, несмотря на грядущее закрытие завода, даже увеличила полосность. Левкин видел в этом судороги системы. После обеда совместно с Петренко на служебной машине въезжал на территорию завода, как в философию Канта. Пил не кефир, брал интервью у представителей рабочих династий, резавших правду-матку. На обратном пути к проходной улыбался, дышал разноцветной высью, сходившей с небес. Конфетти кружилось и падало в душу, мерцая радугой и судьбой.
Левкин дышал заводом, чувствуя, что тот его убивает, как музыка Чарли Паркера. Врастал в него, как в образ. На своей шкуре чувствовал, как, используя двенадцать звуков хроматической гаммы, направить мелодию плавки в любую тональность. И едва не рыдал от этого. Нечто подобное случалось с ним в эпоху пубертатных приключений. В момент наивысшего напряжения, когда он был не человеком, но дрожащим «соль-диез» четвертой октавы, его сексуальным партнером внезапно становилась Одри Хепберн. И в самом конце процесса, буквально в точке сингулярности, оказывалось , что она не знала о том, что происходит (или, как вариант, с кем у нее это происходит), и наслаждение оказывалось вдвойне запретным, почти украденным у бедняжки Одри, взрослой, стройной и сногсшибательной.
Конечно, с тех пор минули годы. Но образ завода, сексуально насыщенный и ужасный, как престарелый джазист в постели подростка, звучал и креп в нем ностальгической нотой. Эти цеха и трубы, этот ветер, машины и люди выматывали Левкина, будто жили не собственной жизнью, но его кровью и плотью. Иван Павлович физически чувствовал себя хуже, вдыхая днем и ночью еле видимую черную пыль, идущую волна за волной, как прибой, от завода к микрорайонам, к центру, к площадям, ресторанам, кинотеатрам, детским садам и паркам. По утрам выкашливал черные сгустки и без кофе не просыпался, независимо от того, сколько часов проспал.
Сны были наполнены ревом и смехом металла. Брызги летели из чаши Грааля. В нее опускались графитовые стержни, и электрический ток, гудя и стеная, вгрызался голубыми клыками в шихту. Левкин кричал во сне, но крика своего не слышал. Он падал в кипящий огонь. Проснувшись, чувствовал боль, от которой хотелось тихо рыдать, прижав лоб к ледяному зрачку окна.
Петренко усмехался, замечая ошалелость Ивана. «Когда внешний человек тлеет, – говорил он, – внутренний обновляется». – «Твои слова – и к Богу», – качал головой Левкин.
Пообщавшись с Дегтяревым, Петренко, Лизой Петровной, Сашей, с заводскими ребятами, Иван уяснил, что каждый Z-гражданин видит кого-то, кто приходит только к нему. Этот город был наполнен иллюзиями, как здоровая плоть – капиллярами. Фантазии, вымысел, бред, сумасшедшие сны, слова и поступки – вот что являлось нормой, что выстраивало жизнь по законам, почти не имевшим точек соприкосновения с так называемой действительностью. С глубоко абсурдным миром китайских вещей, европейской политики, энциклопедических словарей, бюджетов, отчетов, орудий убийства и юридических казусов, ежедневных газет и геополитических катастроф.
Тысячи шахтеров, металлургов, воров, машинистов, учителей, работников МЧС и педиатров, торговцев, строителей, ловеласов, дворников, проституток, банковских служащих, представителей власти шли сквозь запутанный лабиринт времен, имен, фамилий и половых признаков. И помногу и часто пили, поэтому до самой смерти не успевали понять, в чем, собственно, дело.
Партийные лидеры Z не менялись эпохами. Народ так устал от внутреннего напряжения, что испытывал ужас перед любой переменой декораций. Две-три работы, куча жен, не считая любовниц, десятки детей и внуков, череда разводов, свадеб, смертей и рождений напоминали горящий цирк Зодиака. Львы и тигры, слоны и волки, дельфины и царь украинских степей – Левиафан духа – швыряли в звенящий зенит потоки песка и шлака. Кто-то уходил, а кто-то тут же рождался. Каждый Z-горожанин умирал в молибденовых вьюгах за весь свой сумасшедший, но, в сущности, замечательный город.
Левкин прочел в каком-то журнале статью, где медики объявляли главной причиной расстройств психики Z-граждан, отражающихся на их социальных и ценностных приоритетах, набор химических элементов, десятилетиями выбрасываемых заводскими трубами. О пагубном влиянии металлургии на здоровье нации писали даже в желтой прессе.
Но каждый металлург понимал, что в этом лишь часть правды. Директор Дегтярев, рассуждали в цехах, не потому разговаривает с покойным братом, что его химия доконала, но потому, что здесь живут не должные быть . И завод здесь стоит только поэтому. Если стронций с молибденом кружатся над Z, значит – им это нужно! Неспроста над небом провинции золотыми мячами играют всадники Апокалипсиса, а к мастеру Вишне, железнодорожнику и человеку, является его деревянный сын.
«Да нет у него сына, – не выдержал как-то Иван, рассматривая веселые глаза Петренко, разливающего портвейн, – и не было никогда». – «То есть как это?! Мне Сеня целую историю рассказал о женских глазах на асфальте и мальчике напополам. Эдакий триллер».
«История, может, и есть, – кивнул Иван, – а сына нет, да и не было». – «А кто ж к нему тогда является?» – «Бес Петруччо, – пояснил Левкин. – Пиноккио, сука, сосновая морда в шишках, морочит нашего Вишню». – «А ты откуда знаешь?» – «Так я этого парус-майора всю свою жизнь утешал. Он же птица-синица, душа – Бермудский треугольник, между сном и явью всегда на часик забредал ко мне. Сверчком меня называл, кузнечиком. – Левкин улыбнулся. – Сыграй, говорит, кузнечик, на черном контрабасе». – «И ты играл?» – «Вроде того. А Петруччо к нему ходит уже лет сто. Но к кому, с другой стороны, тут не ходят?»
Василий Иванович пожал плечами. «В этом городе уже не поймешь, кто и кого выдумал. Ты меня, я тебя или всех нас – бес Петруччо. Науты сделали этот город тем, что он есть! И выход из всего этого только один». – «Какой?» – «Смерть, Ваня, смерть, – захохотал Петренко. – Patria o muerte! Я голосую за Валгаллу для металлургов! Дегтярев кричит сейчас на всех перекрестках о том, что Z должен погибнуть, чтобы жила страна». – «Действительно?!» – «Да не бери в голову, Ваня. Никакой смерти нет, а есть лишь дешевый портвейн. Ты пей его, пей, увлажняй душу грешную».
Да здравствует революция жизни, всемерная и всеобщая Z-революция «я», в которой не останется места иллюзиям и параллельным жизням! Впрочем, Левкин не верил в это. Он занимался кружком иллюзий исключительно для Петренко, который ушел в запой и блуждал во вселенной мнимых величин, как Левиафан духа. Он пил и пел, читал стихотворения военных лет и плакал на плече у Левкина от невозможности выразить грусть. Этот кружок был нужен ему. Ну и, конечно, окончательно запавшему в миф Дегтяреву.
Иван себя никогда не считал слишком здоровым, но Александр Степанович его удивлял. Дегтярева совершенно подкосило известие о закрытии завода. Власти все-таки договорились с собственником. Для нового предприятия выделили землю к северо-востоку от Z. Но было не ясно, станет ли владелец строить новый завод в степи. Было очень похоже, что затея эта отложится на неопределенный срок. Огромная масса людей оказывалась не у дел. Весь Z замер и притих. На закрытие завода прибыли десятки комиссий, в том числе и иностранных. Решение о закрытии поддержал Евросоюз. Z лихорадило. В предместья стягивались внутренние войска.
«Они восстанут, – кричал Дегтярев на последнем заседании правления, – восстанут! И вы умоетесь кровавыми слезами. Запомните слова мои: средства производства имеют душу. Этот организм из бетона и стали дымит здесь не первый век. Поймите, здесь все живое! И трубы, и теплотрассы, и доменные печи, даже депо. Там же паровозы сами ходят. Чух-чух! Никогда не слышали?!»
Он умоляюще протянул руки к серьезным господам, сидящим за круглым столом. Они, кстати, продолжали слушать эту ахинею исключительно из уважения к его сединам и авторитету.
«Рано утром, – говорил между тем Александр Степанович, доверчиво улыбаясь, – раненько следует прийти. А еще лучше – затемно. Везде в городе тихо, а здесь печи гудят, идет работа. В депо чуть потише, но и тут стучит, пыхтит, бьется жизнь. И если вам повезет, вы встретите старый локомотив, совсем пустой, без машиниста. Я часто замечал его ночью. Медленно еду на своей «Тойоте», а тут он, добрый старый паровоз из тех, что давно бы в музей иль списать на металл. Да жаль. Он же «чух-чух» говорит! Понимаете что-нибудь? Чух-чух! Слезы на глазах выступают, когда его слышишь.
Выйду, бывало, из этой сраной «Тойоты», подойду к нему, прижмусь животом и глажу его по теплому боку, а он урчит. Живой. Ему не нужен машинист, да и путей ему уже не нужно. Он так ездит, сам по себе, куда хочет. Из Z в Валгаллу и обратно. Сколько раз, бывало, думал сесть на него и уехать в тот самый металлургический Рай. Где плавки гремят и идут, как будто хороший сонет, где сталь хороша, шихта тяжела и где президентов нет.
Это ведь вам не хрень какая-то, а сам английский «Mallard»! На линию выпущен в марте тридцать восьмого. Первый «A4», оснащенный двойным воздуховодом Кайлчапа. Не локомотив, а история жизни и смерти. Ему принадлежит мировой рекорд скорости – двести два и семь десятых километра в час! Самый быстрый паровоз в мире. Вы себе что-нибудь представляете? Английское счастье тридцать восьмого года. Черчилль Сталину подарил на день ангела.
Когда немцы уходили отсюда, взорвали вместе с депо. Но наши ребята восстановили. Вы же знаете наших ребят. Им денег не нужно, работы давай. А вы завод закрываете! – Дегтярев задумался и печально всмотрелся в лица сидящих. – А самое главное – сталеплавильная чаша! Ее нельзя погасить бесследно и безнаказанно. Вспомните, на ее месте раньше стояла другая печь, – Дегтярев пытливо вглядывался в бесстрастные лица, – а на ее месте другая, а до того еще одна. И еще одна, и еще.
Из-за перестройки мы остановили мощности в восемьдесят восьмом. Потом меняли печь. На установку год, да еще год на отладку. Тридцать восемь месяцев цех стоял, печь не работала – и что случилось?! Рухнула империя! Перестал существовать Союз Советских Социалистических Республик! Будь он неладен, конечно, но что ж вы делаете, ироды?! Вы понимаете, что разрушаете в этот раз?! О глупые наглые двуногие твари! Эта чаша питает теплом Иггдрасиль, древо жизни, соединяющее все миры и все сословия в них! «Я спросил у ясеня! Я спросил у облака!» Кому, спрашивается, писал эти гениальные строки поэт и троцкист Володя Киршон?! Граждане, одумайтесь! Вы же, в сущности, неглупые люди».
Но у Дегтярева ничего не вышло. Ему указали на неконструктивность эмоций. Он написал заявление «по собственному» и в тот же день покинул центральный офис. Толку вышло мало, а шуму много. До самого вечера гонял по заводу на «Тойоте» и прощался с ним, как с ребенком. И просил у него прощения.
«Прощай, обжимной, – говорил директор, прижимаясь щекой к свежеокрашенной стометровой коробке цеха. – Прощай, мой друг. Тебя больше не будет. И меня скоро не станет. И ты прощай, – говорил он кислородной станции. – Ты глупая дура, молодая, ранняя. Недавно построили целочку. Не бойся, тебя не снесут, но продадут наверняка пидарасам, и счастлива ты не будешь».
В третьем пролете электросталеплавильного цеха он встал на колени, и вокруг него начал собираться народ. Прошла минута. Петренко подошел к Дегтяреву и преклонил колени рядом с ним. Тяжело опустились на колени рабочие смены, которые могли сделать это не в ущерб производству. Через минуту из конторы подтянулись все, кто мог прийти. Пришел народ из соседних цехов. На колени встало семьсот человек. Бетонные полы в цеху были шершавые и грязные. В пролетах все не поместились, потому человек триста пятьдесят стояло под дождем во дворе. Многие из женщин рыдали. Загудел заводской гудок, давая знак смене, и Дегтярев поднялся с колен. Залез на площадку участка розлива стали.
«Простите, братья, – сказал он. – Я не смог отстоять завод, да и не в моих это было силах. Скоро не станет нашего красавца. Здесь все разрушат, развалят, разворуют и разнесут по степи. Надругаются над историей, памятью и людьми. Но началось это не вчера. И не вчера мы узнали, как мало весим на весах вечности. Потому не призываю к стачкам, к кровопролитию, к слезам и затяжному пьянству. Бороться и плакать, братья, в этой стране бесполезно! Тут нужно уничтожать!» Что именно требуется уничтожить, Александр Степанович не разъяснил, так что каждый в городе об этом судил как хотел.
И Z оставил покой.
Именно вследствие этих и прочих разных событий, которых было достаточно в эти дни, на первое заседание кружка пришли многие. Вероятно, думали, что Дегтярев и Петренко собрались драться за завод. Все желающие не поместились в огромной квартире Лизаветы Петровны, а человек пятьдесят-шестьдесят расположились на зеленой лужайке между подъездом и магазином «Металлург». Выпивали, курили, толковали о том и о сем, отлично провели время. Только никаких внятных для себя призывов так и не услышали. Петренко и Дегтярев пили в компании путейцев. А Левкин вышел и сказал, что главная цель рабочего человека – борьба не с плотью и кровью, но с властями, мироправителями века сего, с духами злобы поднебесной. Каждый сознательный металлург должен все свои силы в первую очередь отдать борьбе с представлениями и иллюзиями.
Именно этот пункт сразу оказался непонятным. Поэтому большинство отпало, не приняв генеральной линии кружка. Как на следующий день отметил Василий Иванович, они не смогли собрать пролетарскую волю в кулак.
Но идея кружка не закончилась пьянством. Были расклеены объявления, и во второй раз на заседание собрались смешные люди. Кроме Петренко и бывшего директора Дегтярева пришли: работник депо Вишня Сергей Павлович, дочка Лизы Петровны Саша, намертво прилепившаяся к Василию Ивановичу, две недели исправно пьющему горькую, Семен Семенов, Костя Макаров, Гриша Карабут, кое-кто из обжимного цеха. Даже Верхнер, потомок Лермонтова, пару раз выпив с Петренко, осознал, что борьба именно с иллюзиями важна на данном историческом этапе.
Ярчайшим представителем городской интеллигенции явился актер Сазонов. Виктор Евграфович пришел на собрание кружка, привлеченный темным, но эмоциональным объявлением Левкина:
«Внимание! Борьба с иллюзиями! Если не устраивает Z-судьба! Если устали от неразделенной ( разделенной ) любви! Если смыслов много, но неясно каких – милости просим! Мы говорим, когда все молчат! Наша цель – революция «я», кипящего в чаше этого мира. Смерть Мраку Ильичу и демонам его! Смерть миражам, мешающим жить. Смерть иллюзиям, губящим нас! Смерть смерти! Убей в себе Декарта, Фрейда и шуцманшафт! Наш адрес: улица Корякина, дом 7, кв. 12. Каждую среду и пятницу с 19.00 до 21.00. Спросить Лизавету Петровну или Ивана Левкина».
На второе собрание Левкин спустился с чердака грустный, томный, пыльный. Попросил чаю и приготовился слушать. Сегодня должны были открыться стратегические и практические планы кружка, о которых, впрочем, уже сто раз было переговорено в кулуарах.
Петренко пригладил усы, осмотрел народ. «Прежде чем действовать, предлагаю уяснить, что известно на данный момент». – «Да ничего не известно, – пожал плечами Иван, – и говорить тут не о чем». – «Рожденный уткой летать не хочет», – заметил Дегтярев и посмотрел в окно. «Я вас попрошу!» – Иван терпеть не мог панибратства, а кроме того, его злила осведомленность Дегтярева касательно глубоко интимных перипетий его жизни. Он подозревал козни Марка Ильича, с которым Дегтярев оказался знаком лично.
«Я тоже так считаю. – Сазонов чиркнул спичкой, сделал затяжку, закашлялся, покраснел. – В первую очередь мы должны ставить философские вопросы. – Василий Иванович посмотрел на часы, налил в чашку водки и выпил. – Итак, начнем с глобального!» – «Ты бы не налегал», – прошептал Левкин через всю комнату. «А ты мне не указывай», – хрипло посоветовал Петренко. «Внимание, первый вопрос. Кто всем управляет?»
«Это просто», – пожал плечами Левкин. «Просто? – Дегтярев прищурился. – Ну-ка, ну-ка!» – «Пожалуйста, просветите», – робко попросил Сеня. «Есть три основных варианта ответа. Первый – всем управляют масоны. Второй – не масоны. Третий – кто-то еще». – «Хорошо, – кивнул Василий Иванович, – с этим определились».
«Демон всем управляет, – сурово сжал губы Дегтярев, – пусть даже демон Декарта, как говорит Левкин. Это без разницы. Имя его легион. И он сотрет с лица земли этот город и всех нас, как только мы позволим остановить завод. Молибденовые вьюги, стронций, барий, радий, Менделеев на своем чемодане по-прежнему должны кружить на этих ветрах. Наши деды и прадеды заключили союз с демоном иллюзий ради угля и стали. И теперь он желает тут жить. И не нам спорить с черной пылью, что сотни лет блуждает над степью! И всадники Апокалипсиса тут в своем праве. Это их земля и их небо. Мое предложение таково: обрушить «Грин-Плазу», таким образом подорвать ужасный заряд, что хранится под ней. О его наличии имею сведения самые точные, можете не сомневаться». Стукнув пару раз кулаками по столу, Дегтярев внезапно заплакал, сердито утирая руками слезы с небритых щек.
Народ понимающе переглянулся. Спорить с Александром Степановичем никому не хотелось. И без того все было ясно. Человек устал, болен человек, нет его душе покоя от всего происшедшего. Впрочем, понятно это было далеко не всем. «Каким образом, – хмуро поинтересовался Сазонов, – вы предлагаете это устроить?» – «Очень просто, – оживился Александр Степанович. – У нас под боком десятки ферм. Имеется сельскохозяйственная авиация. Наймем самолет с пропеллером и доставим тонну взрывчатки прямо к верхним этажам бизнес-центра. Но сам я на это не пойду, – внезапно признался Дегтярев и покраснел, – не хочу умирать в одиночестве».
«Ассаляму алейкум, Усама, – поздоровался Иван, – взвейся, знамя астрального терроризма!» – «Попрошу не ерничать, – заорал Дегтярев, моментально налившись краской, – я вообще не нуждаюсь в помощниках! Все могу сделать сам. Не на поклон пришел. Если мы не сравняем Z с землей, то сразу после остановки доменных и электросталеплавильных печей здесь начнется битва добра и зла. А мы все знаем, как трудно в Z с добром! Так что результат лично я ожидаю печальный. Вы готовы рискнуть судьбой человечества, я уже не говорю о стране? Я не готов! Потому предлагаю единственный реалистичный вариант».
«Кошмар, – сказал Сазонов, – не думал, что такие вещи говорят в здравом уме. В Z больше миллиона жителей. Вы готовы пожертвовать ими?» – «Легко, – прорычал Дегтярев, – пусть погибнет Z, но останется жить страна!» – «Какая страна, – ласково поинтересовался Левкин, – березового ситца?!» – «Уйми товарища, Петренко, – забился в истерике Александр Степанович, – прошу тебя, уйми! Или я задушу его голыми руками!»
«Ладно тебе, Ваня, – укоризненно покачал головой Василий Иванович, – не дури. И вы, Александр Степанович, успокойтесь. Я знаю Левкина. Он наш человек, сильный, знающий, волевой, несмотря на внешний вид и скепсис. В нем поднял голову европейский гуманизм, но никто не совершенен». – «Пусть он засунет свой гуманизм в известное место, – посоветовал Дегтярев, – а то ведь знаешь».
«Между тем, – откашлялся Петренко, – мы исподволь перешли к практическим вопросам. У кого какие соображения? Есть предложение. Уверен, каждому из нас необходимо заглянуть в свою душу, ведь с темной силой идем рать на рать. На кону не жизнь! Что жизнь и смерть, но огня действительно жаль. Так не стоит ли покаяться, граждане, если есть в чем? Неизвестно, как развернется грядущая битва, а публичное покаяние целебно и освежает».
«Тогда я хочу сказать, – поднялся Вишня. Окружающие притихли. – В философии я не силен, но если нужен, используйте! Хоть в самолет, а хоть и автомат дайте. Хочу искупить кровью!» – Он обвел взглядом сидящих.
«И что именно намерен искупать? – Петренко налил водки и быстро выпил. – Не помню за тобой прегрешений». – «Никогда не имел ни жены, ни сына, – быстро сказал Вишня. – Вот в чем дело. Я придумал их, чтобы пить».
«Это как так, – очнулся Дегтярев, – чтобы пить?» – «А вот как, – пояснил Сергей Павлович, – чтоб страдание в душе проснулось. Ну и уважение от посторонних. Если человек просто жрет водку, кто ему посочувствует? Никто. Скажут, мудак мудаком, хотя душа у него, может быть, светлая. А если ты пьешь с горя, то почти наверняка герой, инвалид жизни, страдающий логос бытия». – «Чего-чего, – обрадовался Левкин, – кто страдающий?» – «Логос», – повторил Сергей Павлович. «Ну вот, а говоришь – философии не обучен!»
«Бывает, и нафантазируешь в жизни, – хмуро прервал его Дегтярев, – не стоит себя корить. Я, например, жене врал, что люблю. Теперь оказалось, что обоюдно. И непонятно, на хрена мы с ней тридцать лет это проделывали?! Вот драма по существу. А у тебя что-то слишком изящное. Ни холодно никому, ни жарко. Ерунда, Вишня, все перемелется».
Сергей Павлович сосредоточенно всмотрелся в пространство перед собой. Снова глянул на народ. «Дело в том, что несуществующий сын, погибший в придуманной мной катастрофе, со временем стал мне являться. Что характерно, граждане, сын, а не жена. Видно, потому, что ее представлял нечетко. Ну, баба и баба – какая разница? А сына я всю жизнь хотел. Да ведь и врал о нем потому, – горько помотал головой Вишня, – что по этому поводу легче всего ощутить горе. И люди мне верили, чувствуя правду сердца.
А что я, хуже всех, что ли? У людей семьи, а у меня вот не вышло. У всех дети, а у меня тепловозы. И человек вроде не пустячный! В армии до майора дослужился. Шутка ли, лучший артиллерист дивизиона! Потом круто жизнь поменял, стал гражданским человеком, машинистом, и тоже вышел в люди! Животных люблю. Всю жизнь на балконе синиц кормил, маленьких парус-майоров, таких же, как сам, и бездомных, и случайных. Еще во мне хорошо, что к работе неравнодушен. Но вот на этом и все.
А под старость хотелось семью, ребенка, мальчика. Счастья хотелось. Но больше мальчика и счастья все-таки тянуло выпить. – Вишня развел руками. – Употребив, правда, все мысли имел только о нем – о сыне, родной кровинушке. Вы себе не представляете этого! Удержу нет!
Значит, выпью и вижу сначала волосики на головке. Темечко молоком парным пахнет. Ручонки махонькие такие, и будто бы он ими меня по морде: хлоп, хлоп, хлоп – ну так, как все дети балуют в некотором возрасте. И хохочет! И заливается! А я его к себе, бывало, прижму и тискаю! А это приятно так, вы себе не представляете. Он же молоком пахнет, вишней, мамиными блинами…
А что такое блин? Вы знаете, что это такое? Это солнце у тебя на тарелке! Громадное желтое солнце! И ты ешь его, когда маленький, а сливочное масло с блина капает прямо в душу! И мамка, бывало, накормит блинами, потом усадит на колено и чукикает. Вот вы помните, как вас в детстве чукикали?»
«Я не помню даже, что это такое», – признался Петренко. «Сейчас, – обрадовался Вишня. – Вот так усаживается дите на коленку. Допустим, годовалого мальчика берем и усаживаем. А потом вот так ножкой делаем, вот так! Он у нас будто на лошадке едет! И поем: «Ах, чук-чуки-чукалочки, едет Ваня на саночках, бесенята на хвостах, ангелы в небесах!» Можно петь еще «Ай, тари, тари». Хорошая песня «Ай, качи, качи», а можно исполнить «Из-за леса, из-за гор» или «Во саду ли, в огороде». Один хрен, этот человек ничего не поймет.
А сколько счастья накормить его, уложить спать! И ночью с похмелья встаешь, бывало, и к его колыбельке! Не в кухню воду пить, ведь трубы ж горят, но прежде к нему, к дитю своему. Как оно там, думаешь! Что поделывает без тебя? Ты же отлучался. Тебя же не было в бытии рядом с ним, вот и узнай, спроси, поцелуй в головку, поменяй пеленки. Это такое счастье! Выше его и быть ничего не может. Ну, разве только, если бы я его сам родил. Но это, к сожалению, сейчас невозможно.
Ну так вот. Привык ты к этому дитю, оно выросло, пошло в школу. Ох! Сколько с ним хлопот! И штанишки купить, и рубашоночку зашить. А все эти канцелярские принадлежности для школы? Учебники, классы, портфели, форма, костюм для физкультуры, сменная обувь, взятки учителям, конфеты завучам. И родительские, боже мой, собрания, где я первый! Председатель комитета людей родивших!
И вдруг, представьте себе, катастрофа. Машина ехала вперед, а в ней сынок и его неотчетливая, весьма и весьма приблизительная мать. Он веселенький, белобрысенький, как я. Сидит, трындит что-то. «Тра-ля-ля, тру-ля-ля, тра-ля-ля, тру-ля-ля». И вот… бац, квиси бумц! – и уж через какую-нибудь секундочку его нет. Трупик, жалкий обрывок плоти простерт на асфальте. Как представлю себе этот ужас! О боги! Сами видите, – Вишня обвел взглядом присутствующих, – вот оно где собралось, как в кулаке! Я пил, сообщая людям об этом, чтобы жалели. Ведь горе и слезы имел вполне настоящие. Да и всегда горе рядом с каждым из нас. Но не все это знают. Многие харей торгуют по жизни, не чувствуя холодка за спиной. Да вот их и нужно в горе, в кровь, в слезы сунуть. Пусть и в чужие. Так что и польза была для людей, кто понимает.
А деревянный мальчик стал приходить осторожно, когда никого нет. Такой умница, ловкий, в карман за словом не лезет. И вроде как сын. А я Джеппетто, старый мастер, и живем мы в городке, в котором все так же, как у нас. Даже металлургический завод имеется, только все остальное другое. Будто во сне. Стал я привыкать к нему. А как не привыкнешь, если он со мной уже годы? С другой стороны, легче стало в себя приходить после пьянки. Глянешь, отерев горючие, как паяльные лампы, слезы, – а вот он, твой Пиноккио. Но последнее время он стал забирать власть».
«Это как?» – Петренко смотрел на Вишню внимательным уважительным взглядом. «Понимаете, труднее стало сюда возвращаться. Боюсь не проснуться как-нибудь. И Пиноккио, парень сосновый, что характерно, против возвращений. Все чаще меня там нарочно задерживает. И вот уже я теряюсь, понимаешь! Иной раз не пойму, где я, кто я! Решил завязать с выпивкой. Неделю не пью, две, а кукла все равно приходит. Сядет и молчит. Ногами болтает, телевизор со мной смотрит. В булочную вчера ходили за хлебом. Его никто не видит, кроме меня, – впрочем, так у всех, – но мне-то от этого не легче. Я ж ведь люблю его, вернее, любил когда-то. В общем, тихий ужас, доложу я вам. Вот я и сказал ему: мол, уходи, мальчик. Совсем уходи. Чужие мы. Вот такая история».
«Силен ты, брат, – сказал Петренко, – с ума сходить. И что малец дальше?» – «Не ушел, – сказал Вишня, – но поменялся. Выше стал, грубее чертами лица. Может, взрослеет, кто его знает? Люди ведь взрослеют от нелюбви. Я-то трезвый теперь, понимаю, что никакого сына и быть не может. Но уже той метафизической храбрости нет. Страшно так, что хоть домой не ходи. Жить не могу. И помощи спросить не у кого. Заберут же в сумасшедший дом, не поверят, что я в завязке».
«Хорошо, – кивнул Петренко, – одобряю такой подход. Говорим дальше. Уж не знаю, как насчет Армагеддона, – он осторожно посмотрел на Дегтярева, – но что-то такое предстоит неминуемо. В Z грядет катастрофа, равной которой не знала новейшая история, если не человечества, то украинской степи! Все иллюзии, которые мы на этом клочке земли, считай, столетьями сдерживали, принимая, так сказать, Иггдрасиль на себя, неумолимо ворвутся в мир. И совершится это после закрытия завода. Этот факт оспаривать некому».
«Может быть, попробовать либеральные механизмы, – предложил Сазонов, – если речь о гибели Z?! Добиться референдума? У нас ведь нет ничего гуманнее либеральной идеи. Что вы так на меня смотрите?» Сазонов опасливо глянул на Петренко и замолчал.
«Что такое, – медленно спросил Василий Иванович, – либеральная идея?» – «Когда, – пояснил Сазонов, – я решаю, что хорошо и что плохо, и нет никаких других приоритетов, кроме приоритета личности!» – «Ну, тогда первым либералом был Сатана», – удовлетворенно проговорил Петренко. – «Почему это?» – «Потому, что это его идея – приоритет личности перед Творцом и Замыслом».
«Вы передергиваете!» – «Отнюдь», – возразил Петренко. «Может быть, и Бога-то никакого нет», – заалел щеками Сазонов. «Ага! – Петренко хищно улыбнулся. – Бога нет. Договорились. По-вашему, в Z только нежить имеется и пьяные милиционеры? Ничего другого мы, по-вашему, не достойны?! Простые добрые люди вас не поймут, Виктор Евграфович». – «А также молодые романтически настроенные актрисы», – зачем-то вставил Дегтярев. «А это вас не касается», – крикнул Сазонов, смешался и потерял желание вести дискуссию.
Ему стало тошно. Захотелось покинуть собрание и поплакать где-нибудь в тишине. Но это стало бы новым шагом к смерти, потому он остался сидеть, чувствуя, что стар, смешон, неумен и не полезен людям. Глядя на свои сухие длинные пальцы с морщинистой кожей, имеющей следы депигментации, вспоминал тот апрельский вечер, когда актриса Трухаева Ирина Егоровна, девяносто второго года рождения, блондинка, волосы и все, что выше колен, явилась ему во сне.
Но сон завершился, а в его доме одной Офелией стало больше. В этом был свой плюс. Теперь не нужно было тосковать о девушке, столько-то дней назад покинувшей его ради столицы. И не нужна была молодость, ибо Офелия обожала своего старичка . Но по утрам невыносимо было видеть рядом на подушке мертвую куклу, опустошенную, стертую. Да-да-да, стоило ночью уснуть, увидеть сон, ибо забылся. С кем не случалось? Секс изматывает. Раз за разом, раз за разом. И, в сущности, ведь приходится делать одно и то же, затрачивать при этом усилия, изнашивать кожу пениса, мозг ума, чувство сердца. Как ни крути, но отдых неминуем.
Офелия всякий раз умирала. И трупные пятна, и запах так быстро являлись в ней, что его по утрам рвало. Проснувшись, Виктор, задерживая дыхание, надевал респиратор, без которого теперь не ложился, поднимал легкое тело и относил в ванную. Клал на воду и ждал, когда она откроет глаза и засмеется. Покуда исчезнут запах и пятна.
«Знаете, – сказал он, снова приподнимаясь с места, – я все-таки имею сказать». – «Ну-ну, – кивнул Петренко, – только о либеральной идее ни слова». – «Как угодно. Но дело в том, что у меня тоже имеется некто. Говоря условно, Офелия. Девушка, утонувшая в конце одной пьесы. Кстати, в известном смысле, моя вина. Так сразу не рассказать. Дания. Холодно. Крысы. Зеркала. Розенстерн и Гильденкранц. Факелы, замок, актеры. Папу дядя убил. Мама за дядю пошла. В общем, Офелии нет. Я мог бы ее спасти, но зачем? Плодить уродов, верить в чудо – что за блажь?! Какие сны приснятся в смертном сне, мне было неизвестно. И вот я жив, а девушка в пруду.
Правда, у меня она, наоборот, оживает лишь в воде. Оставишь без внимания – сереет, тает хуже воска: кукла, плоть, гниль. Ужас что за дело. И так вот каждый день. И я тот самый изверг, что убивает! Чем?! Любовью! А в воду опущу – цветком распускается. Минута-другая – смеется, что-то говорит, подталкивает к самоубийству».
«Кого?» – Сеня сделал большие глаза. «Неважно, это все неважно. – Сазонов помотал головой. – Но если уж начистоту, то все просто. Стыдно признаться, конечно, но потенция моя ни к черту. И сердце тоже. Да и онколог знакомый нагадал мне только пару лет. И в гроб. И здравствуй, добрый Йорик, актер и алкоголик. В общем, Офелия каждый день подталкивает к смерти. Понимаете? Желает, чтоб я самовольно ушел из жизни, как она. Что за девушка, между нами! Мастер минета и тонкой издевки. Да я и подумывал было уйти. Поднимался на обзорную башню. «Грин-Плаза». Тридцатый этаж. Упадешь – и прощай. Но вниз посмотрел и понял: Офелия воспоследует за . И куда бы ни попал, там меня встретит она. А вот это – страшнее всего, что может случиться за гробом».
Лиза Петровна пожала плечами. «О чем мы говорим? И я страдаю тем же, – поддержала Александра. – Такая чушь! Детский сад. Да всего один вопрос нужно решить: как помочь Левкину спастись и вытащить всех нас! Ведь, допустим, я неживая, фикция, абсурд. Немудрено, кстати, если мама у вас Лизавета Петровна, а папа – ученый Лавуазье. Впрочем, маман, сдается, что, трахаясь с Антуаном, ты думала о Рене. Это отчего же? А ты посмотри на портреты. Я ж вылитый Декарт. Только хромой и баба».
«Ты считаешь? – Лиза задумалась. – Кто знает? Давай об этом на досуге».
«Так вот, – кивнула Саша, – я фикция, чертеж без плоти и без смысла». – «Ну, это как сказать», – не выдержал Петренко. «Цену себе я знаю, – перебила она. – Только тем и отличаюсь от Офелии, что многим дорога». – «А трахает один», – сказал Дегтярев. «Да что ты в чужие дела влезаешь, Александр Степанович, – поморщился Петренко, – вернулся б ты, ей-богу, к жене».
«Да, – повысила голос Александра, – я кажимость. Но вы не лучше. Вы тоже только представления!» Дегтярев усмехнулся: «Случайно не твои?» – «Отнюдь, Ивана Левкина. – Она захохотала. – Уж я-то знаю, он мой бывший брат. Идиоты вы несчастные! Решают, уничтожить Z или повременить. Вы о другом подумайте.
Скажи им, Ваня! Ни завод, ни город не спасти. Но этого, Александр Степанович, и не нужно делать. Не страдайте вы о судьбах мира. За себя ответьте, ей-богу. Себя спасите! И сберегите во что бы то ни стало мотивы сердца, мечты, иллюзии. Пусть ваши выдумки останутся в веках. Ценою жизни выкупить слезы, радость, признания, ошибки, надежды – вот цель! Плоть истлевает, да и хрен с ней, с плотью. Не дайте вы бездарно пропасть фантазиям. И в том, поверьте мне, залог и вечной жизни, и прощения грехов. Уж если дал господь мечты и представленья, наверное, не для того, чтоб их бросать на полпути. Вы думаете, легко болтаться между небом и землей? Я, безусловно, фикция и при этом стерва, но лично мне и страшно, и противно. Ведь Александра Лавуазье – иллюзия только с точки зрения закона, но посмотри с любовью – и вот я вполне самостоятельная дура. Вы скажете, это бред. Все мы, ваши мечты и фантазии, – только следствие болезни людей, облеченных в плоть и кровь. Кого-то сгубила химия, как Лизу Петровну, кого-то – математика, как Перельмана, кого-то – мистика, которой в нас полно, чего греха таить. Кто-то пеняет на судьбу и случай, отнявшие разум и здоровье. Но поймите вы, это никому не интересно. Ни вечности, ни даже вам самим. Иллюзии – это нормально! Болеть, любить и умирать – прекрасно, если ты, конечно, человек.
Земля и небо. Небо и земля. Кто жив только землей? Ты, Дегтярев?! Нет?! Петренко, что скажешь? Ну а если нет, то плюньте на причину счастья. Идите, мальчики, вперед и вверх. И верьте, только верьте, что придуманные женщины не умирают, что любовь оживляет и дарит плоть тому, кто ее достоин! И если уж ты станешь еще кого-то трахать этой весной, Иван Павлович, умоляю, сделай это хорошо! Люби, не спрашивая паспорт, прописку и диплом об образовании. Не выясняй, есть ли у твоей любви молекулы и фолликулы, лифчик, пальцы, рот, мениск, страховка и запах пота. Не проверяй ты, ради всего святого, есть ли гниль у сна. И может быть, тогда и вашей гнили кто-то не заметит в некий день и час. Что история, как не фантазия? Что факт, как не его интерпретация? Что мир, как не вымысел, нуждающийся в любви? Управляя иллюзией, ты обретаешь мир. Отвергая ее, остаешься рабом. Спасайтесь любовью и совестью, заклинаю, мальчики, и больше ничем другим!»
«От кого прикажешь спасаться, – спросил Петренко, – от алкоголизма? А если мне с любовью ясно, то как понять текущий момент? Куда несет нас рок событий?»
«А ты подумай, – кивнула Александра, – на улицах войска для чего? С какой стати вот его, – она кивнула на Левкина, – под самое закрытие взяли на завод, газету делать? Зачем деньги платят исправно? Да потому, что знают: сей шизофреник причина и корень всему! В нем избыток, и смысл, и сила. И если там , – она показал пальцем наверх, – узнают о наших собраниях, Левкина непременно поместят в психушку. С помощью инъекций, инжекций и инфекций внушат какие угодно иллюзии. А в этом мире, милые вы мои, главная сила – не экономика, не политика, а мечты и сказки Ивана! Запомните это, может быть, пригодится в дальнейшем.
Они возьмут его в тот самый день X, когда решат кончать с заводом, с городом, с нами со всеми, живыми и не вполне. И сделать это будет проще простого – посадить его в клинику и колоть лекарства, чтобы он не мог фантазировать сердцем. И все! Никто не уйдет отсюда. Застынем в янтаре вечного полдня, станем рабами молибденовых вьюг. И построят новый завод, но там не будет ни меня, ни вас таких, какие вы есть. Не будет иллюзий и представлений, но только серые будни и люди с трезвыми лицами идиотов. – Александра замолчала, взяла сигарету и закурила. – Что? Впечатлились? Поверили?! – Она тихо засмеялась. – Я давно уже сочинила эту сказку для куклы Дуни и начинала ее всегда именно так.
Слушай меня, Дуня, слушай. Рассказываю тебе сказку, рассказываю. Жил-был на свете город. Громадный! Большой город посреди степи. Кто его построил, неизвестно! И зачем построили, тоже никто не знал».
День X в городе Z случился просто. Ивана взяли ранним утром, когда над степью только-только серело. Санитарную бригаду сопровождали патрульные машины и грузовик с солдатами. Вооруженные солдатики не могли взять в толк, для чего их пригласили на это представление, потому что Левкин не сопротивлялся, а провожать его вышла одна Лизавета Петровна, хмурая, старая и седая.
Город, по которому везли Ивана, был серый и мокрый. Ночью прошел дождь, и на проспектах, бульварах и площадях стояли лужи. Когда проезжали центр, Иван заметил Сонину палатку и усмехнулся. Почему-то подумал о том, что непременно увидит ее в ближайшее время.
В клинике Левкина раздели, помыли, укололи, выдали брюки и пижаму. Провели по длинному коридору и оставили в палате одного. Он заполз под одеяло и стал смотреть в потолок, ощущая, как смыкается над ним пространство.
Потом в палату пришел слегка подкашливающий сухонький старичок. «Я – следователь, а зовут меня Цицерон. – Он продемонстрировал служебное удостоверение, которое Иван разглядывал с живейшим любопытством, чем польстил Цицерону. Затем из черной папки появились бумаги, подписанные всеми членами кружка борьбы с иллюзиями. Иван загрустил, заметив в числе первых подписи Сазонова и Петренко. – Ваши друзья пришли с повинной. Им это, конечно, зачтется. В конце концов, вы же не успели ничего совершить? А за дурные помыслы мы не наказываем, это прерогатива Господа Бога. – Старичок дробно захихикал. – Они подробно рассказали о ваших планах по уничтожению Z. Но не бойтесь, – он закашлялся, – вам ничего не грозит. Марк Ильич поставил нас в известность о специфике вашей болезни, и мы никоим образом не станем препятствовать лечению. Уколы, уколы и еще раз уколы! Ваша фантазия должна быть под жестким контролем властей.
Кстати, ваши друзья просились к вам! Очень беспокоятся. Хотели убедиться, что с вами обращаются хорошо. Вот это я называю настоящей дружбой!» – Старичок терпеливо улыбнулся и посмотрел в лицо Ивану темными бусинками ничего не выражающих глаз, будто мышонок, ожидающий кусочек хлеба. – «Сколько угодно, – кивнул Левкин, – если в этом есть смысл. Пусть приходят. Только у меня к вам просьба. В центре Z стоит цветочная палатка, похожая на цирковой шатер. Пусть мне цветы доставит сама цветочница. Люблю, знаете, розы. Это будет не слишком затруднительно?»
«Цветочница, розы… Иван Павлович, это пошло! – Мышонок неодобрительно пожевал губами. – Но бог с вами! Полгорода обеспокоено вашим самочувствием, условиями содержания, причинами задержания, так что поиграем в романтику. Но имейте в виду, я приду в палату вместе с цветочницей. И если она – ваш вооруженный сообщник, я стану громко и точно стрелять. – Цицерон секунду смотрел на лицо Ивана и снова хихикнул. – Боже, какой моветон! Розы, цветочница! Какие все-таки фантазеры собирались в вашем кружке. Жаль, меня там не было». – «И мне жаль, – пожал плечами Иван, – но что поделать».
После обеда пустили Петренко. «Извини, – сказал он с порога, – ничего лучшего не придумали». – «Я понял, – кивнул Иван, – как там все?» – «Отлично. – Василий Иванович деловито прошелся по палате и выглянул в зарешеченное окно. – Так-с, так-с. Славный вид. Ты не стесняйся, Ваня, если что-нибудь нужно, я всегда рад». – «Я тоже всегда рад, – кивнул Иван, – иногда только становится грустно». – «Это все власти, – громко произнес Василий Иванович, вернувшись к двери. – Марк Ильич имел своих людей среди членов кружка. Вот так все и вышло. Ну что ты так на меня смотришь, Левкин? Прикажешь мне на твою койку ложиться? Не хочу! Тебе тут нормально, а меня бы так не обхаживали».
«Понимаю», – кивнул Иван. «А чего тут понимать, – терпеливо объяснил Петренко, – я хочу покоя и честно работать на производстве. Сазонову пообещали короткую жизнь, но без Офелии, что достигается медикаментозно. Дегтярев смертельно запил, заподозрив, что заряда под «Грин-Плазой» нет и не будет. И так далее, и тому подобное. Причины всегда находятся, Ваня. Зря ты вернулся в Z».
«Как же так, – покачал головой Левкин, – мы же были друзьями!» – «Я тебя умоляю, Иван Павлович, ты же взрослый человек. Разве что-нибудь имеет смысл, кроме правильной стали, портвейна и легкой смерти?»
Соню привели поздно вечером в этот же день.
Открылась дверь. Левкин сидел на постели с бутербродом в руках. Следователь помахал Ивану рукой, пожелал приятного аппетита и, не спрашивая разрешения, пристроился с улыбкой в углу на стуле.
«Бутербред», – улыбнулась Гвиневра. «Бутербрат, – уточнил Левкин, – битер бут, брудершафт, эшафот и неизбежно шуцманшафт». – «Не накаркай, Иван Павлович, – покачала головой Соня. – Война идет, но вроде попустило». Иван отложил бутерброд, поднялся с постели и неспешно вытер руки о пижаму. «Ты готов, – улыбнулась Гвенхуивар, – уходим?» – «Была не была, – махнул рукой Иван. – Прямо ворона летает, да дома не ночует!»
Цицерончик удивленно наморщил лоб: «Вы что, товарищи, не в себе? Два придурка?! Дауны?! Проклятые наркоманы? Не любим ворон? Друзья Васи?»
«Мы влюблены, – пояснил Иван, подошел к Соне и обнял ее. – Я придумал лемура, вообразившись в него без остатка, и нас не разлучит смерть, ибо ее заменил портвейн. И только рог нарвала, гражданин следователь, трусы стюардессы, свинктер и кофе, вход и выход. И вновь эрекция, энергичные страстные ласки, семяизвержение, приступы нежности и тоски. Задыхаться, потеть, кончать и плакать. Разве вам не знакома романтика долгих фрикций и поэтика вечных странствий?! Разве вы, Цицерончик, не трахались некогда до изнеможения, до потери пульса в тесных подворотнях мирозданья?! Признайтесь, ведь Вася был вашим дружочком? Чистая дружба в годы застоя? Дайте я угадаю! Любовь профессора и студента? Он с вороной порвал из-за вас?»
Соня, смеясь, поцеловала Левкина в губы: «Милый, пора уходить!»
«Предупреждаю. – Цицерончик поднялся со стула и продемонстрировал кобуру с уютно расположившимся в ней пистолетом. – Это оружие. Пули дум-дум. Умею стрелять. Ду-дух, ду-дух, ду-дух. Вот вы сейчас подумали: поезд прошел, но нет! В результате – рваные раны, кровь и жуткая смерть. Причем неестественная. Свидетелей никаких. Быстрые похороны, возможна кремация. Какая трагедия, скажут люди».
«Слушайте, не могли бы вы нас оставить? – попросил Левкин. – Видите, она всего лишь девушка, а я всего лишь я. Дайте нам пять минут наедине. Разве трудно?» – «Во дворе, между прочим, войска, – сказал мышонок и гордо улыбнулся. – Два взвода солдат с автоматами. Ду-дух, ду-дух, ду-дух! Только ужас и крики!»
«Тем более подарите нам эти минуты. Это все, что нужно. Неизвестно почему, но дело обстоит именно так. И не в наших силах что-либо изменить. Вы же не хотите жалоб, выговоров, предложений, анонимных звонков, посмертных записок?» – «Допустим, – процедил Цицерон сквозь зубы с самым зверским выражением лица. – Я выйду, но имейте в виду: времени нет». – «Как, уже?! – Иван покачал головой. – Нам следует поторопиться».
«Через полчаса, – пояснил Цицерон, – я обязан быть на официальном закрытии завода. Фуршет, ленточка, груши, шампанское, белая скатерть, разбитые блюдца. Комиссары из Евросоюза в папахах с черной звездой металлурга станут гасить печи, прикасаясь к ним волшебным фаллосом мира. Бог им в помощь, в сущности. Но я должен быть без опозданий. Так что пять минут, товарищи больные, не больше!» Напоследок пристально посмотрел Соне в глаза и покинул палату, хлопнув дверью.
Иван присел на кровать и закрыл глаза. «Утко, – проговорил он, – милое фрау утко! Твой гадкий Иван Павлович, негодник, умре, мертвечина, предатель народа, плохой мальчик, бросил родителей, друзей, прошлое, будущее, настоящее, нет принципов, цели и направленья, но, как парус зовет ветер, так зову тебя!» В этот момент решетка окна рухнула вниз. В оконном проеме показалась физиономия Петренко. «Быстро, – сказал он срывающимся голосом, – иначе ду-дух, ду-дух!»
Они прыгнули вниз. У самых окон между деревьями их ждали члены кружка и разогретый автомобиль. «Вперед, мы успеем на поезд, – кричал Петренко, – на паровоз, в электричку, вперед!» Но именно в этот момент, как и предупреждал Цицерончик, раздалось глухое «ду-дух, ду-дух». Двор оказался окруженным солдатами, их пулями, пилотками, бляхами, сапогами, багровыми лицами, данной ими присягой и письмами к матерям. Убитый Левкин упал, раскинув руки, с удивлением чувствуя, как толчками вырывается кровь, как его плоть бурлит и стекает по пожухлой старой листве. Как наклоняются к самому сердцу деревья и как кружат вдали облака.
Эпилог
За широким, туманным, плавно изогнутым прудом находится старая станция, именуемая «Прудовая 5». Приехав сюда на последней электричке, первое, что заметишь, – потрескавшийся бетонный перрон. Под действием времени этот продукт прекрасной эпохи разваливается на отдельные, будто замороженные глыбы. Когда перестук колес электрички затихнет в холмах, начинаешь глохнуть и тонуть в доброжелательной тишине этого места. В запахах трав. В томительной сонной неясной печали забытого детства, в горьком беспамятстве безоблачных дней. А стоит побыть тут каких-нибудь пару часов, как тяжким грузом валится в самое сердце сладкое сумасшествие медленного существования, съедающее душу ностальгией по тому, чего никогда с тобой не случалось. Да и случиться, увы, не могло. Оно наизнанку выворачивает душу, будто кожу лягушки, пронзенную стрелой дурака.
В глубоких и теплых лужах, расположенных у перрона, плещутся головастики, иногда заводится плавунец, гребляк или гладыш, а то и водяной скорпион. Кричат птицы.
В ночи мерцают слабыми огоньками заросшие бузиной, крапивой и диким малинником бывшие дачные поселки, которые давно уже никакие не дачные, а просто пригородные.
Именно здесь Z-горожане любят пить водку, запивая ее родниковой водой. Купаются в чистых прудах, стирают одежду белой глиной. Ловят рыбу на песчаных пляжах, готовят и едят ее, надевая аккуратные медные карасевые тельца на тонкие прутики. Наевшись, спят, уронив тела на прогретую землю.
Но к вечеру все разъезжаются прочь, ибо что делать человеку во тьме? Разве только смотреть, как звезды становятся правильным красноватым кругом над темной и притихшей усадьбой, образуя Путь Разлитого Молока. Дом усадьбы приземист и темен. Он врос в землю, опустил окна в воду, отражения берез врастают в его глазницы, и карпы ходят в темноте его комнат, синхронно шевеля губами.
В километре от усадьбы рельсы старой забытой узкоколейки уходят влево и вверх к далеким холмам старого кряжа, изъеденного шахтными выработками и известняковыми провалами, меловыми откосами и заброшенными песчаными карьерами, оврагами и пещерами, узкими лазами, норами, гнездами стрижей. То и дело над холмами и скалистыми остатками древнего кряжа виднеются угольные терриконы, пылящие, дымящие, кое-где покрытые низкорослыми деревьями, кое-где лысые, монументально уродливые. За лесом у самого города высятся трубы металлургического завода. Роза ветров расположена так, что дым от этого индустриального гиганта триста шестьдесят дней в году относит точно на Z. Разноцветные змеи плывут, вспарывая синь небес широкими извилистыми хвостами. Иногда от завода на город идет стена черного в блестках вала, похожего на океанский прибой. Он бьет в городские кварталы, перекатывает через них, заставляет город дышать и проникаться собой. Временами от завода над городом по небу скачут и весело играют багрово-черные всадники, неутомимо разрушая печати вечных запретов, перекликаясь в небесах трубными иерихонскими голосами.
Вокруг дома, просторного и темного внутри, теснится множество построек. В них круглогодично обитает невиданное количество домашней живности. Узкий мелкий залив, являющийся частью дворовой территории, всегда наводнен птицами, собаками, свиньями, индюками, утками, важными гусями.
Полная красивая женщина выходит на порог. Смотрит исподлобья и в далекой точке на дороге, ведущей от станции к усадьбе, легко узнает фигуру мужа, устало бредущего в сумерках с заводской смены. Счастливо улыбается, входит в дом. Проверяет, так ли, как надо, накрыт ли стол. И убеждается, конечно, что все совершенным образом так. Заглядывает в спальню сына. Ваня сладко спит, обняв подушку. Большая желтая утка-качеля, стоящая возле детской кроватки, раскачивается так, будто мальчик только что с нее спрыгнул. Мама рассеянно оглядывается вокруг, прикрывает форточку.
В этот момент в комнату заходит отец.
«Спит, что ли?» – «Да, что-то сегодня рано умаялся. Пошли, кормить тебя буду». – «Давай тут посидим». Отец устало садится на пол возле кровати сына, поворачивает голову к окну, изучая последние проблески заката в высоком темно-зеленом небе. Мать опускается на стул, стоящий у другого конца кроватки. Тикают часы. Пахнет печным чадом, блинами, жирным борщом, дошедшим в духовке пловом, тоже жирным и вкусным. Оглушительно пахнет домашний хлеб. Чисто вымытый пол подсыхает и отдает явственный аромат теплого дерева. Редкие порывы ветра приносят к усадьбе далекий, будто снящийся запах завода, который быстро улетучивается, смешиваясь с запахами усадьбы, уюта и любви.
Ваня спит, родители сидят. Детское личико покрыто бисеринками пота. Ребенок во сне усердно шевелит губами. Утка снова начинает качаться. Ночь входит в свои права.
ноябрь 2012