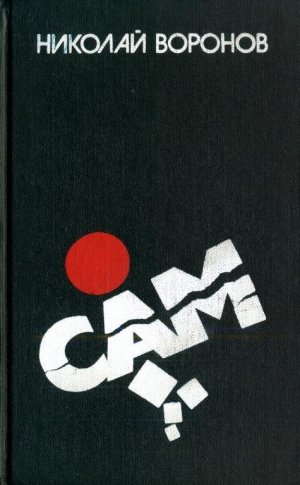
От автора
Чтобы далось ви́дение человеческих свойств, сложившихся на планете, необходим интерес к вселенской истории и, конечно же, к ее результату: современности. Под результатом подразумеваю не подведение окончательных итогов (их, убежден, делать рано), а то, что получилось у людей и с людьми на Земле. Сколько мудрых, благородных, изумительных затей было у них! Сколько совершено прекрасных дел! Сколько чудовищного возникло в противоток им. И вот то, чему сегодня мы наследники, свидетели, чего участники, разрушители, спасатели… Если минувшее в душе и уме литератора взаимодействует с теперешним только ради суда над действительностью, где люди стали всем или почти всем, а природу превратили в рабыню (правда, время от времени, с годами все чаще, она протестует, обороняясь, припугивая, поднимаясь до яростного возмездия), то сейчас этого уже недостаточно. Взаимодействие прошлого и настоящего для сохранения будущего — такую духовную задачу писатель не может не решать, ибо сегодня мерило ценности бытия — сохранение его грядущего.
Говоря так, я стремлюсь подчеркнуть свою приверженность гуманистическим идеалам свободы, равенства, братства. Из них я исходил, работая над романом «САМ».
Писался роман долго: больше двадцати пяти лет. Шел он к читателю трудно: не совпадал для некоторых рецензентов с другими вещами автора, якобы определившими раз и навсегда его лицо. Тенденция к замораживанию писательского лица, увы, существует. Причины ее кроются в циркулярно-бюрократических воззрениях, внедрившихся в «эстетическую» практику.
Эпоха нового мышления убыстрила понимание романа «САМ». Собственно, оно было и раньше, но перекрывалось наличием разноречий.
Хочу обратить внимание читателей на соображения оценщиков «САМОГО». С их помощью, предполагаю, будет проще входить в роман. Прозаик, доктор филологических наук, профессор, определил роман «САМ» как антиутопию. Рождение антиутопии он выводит из убеждения, будто бы пора утопий прошла, идеалы добра, справедливости, народного самоуправления в той или иной степени материализовались… Распространение антиутопии возбудило и то, что планета, испытала и испытывает кризисы духа, идей, нравственных ценностей, что в XX веке демонстрируют себя деспотические системы, возможность которых не мыслилась прежде, что мощный технический прогресс легко сошелся, переступив через «незыблемые», казалось, нравственные «принципы», с фашиствующими деспотиями, геноцидами, массовым истреблением людей, «опытами» над человеком… При всем желании согласиться с ним я не нашел с собой согласия. Действительность не исчерпала себя, человечество остается, присущая его сознанию и практике утопичность — тоже, следовательно, и в литературе она будет продолжаться.
Критик и эссеист не пытался определять родовую принадлежность «САМОГО»: он лишь подчеркнул, что Н. Воронов — реалист «по строчечной» сути, на этот раз выступает как фантаст, философ, иносказатель, причем остросовременный. Критик выделил в романе присутствие фантасмагории, мифа, политического памфлета, лирики, восточных и иных легенд, а также поверий далеких нам народов. Роман, по его мнению, драматичен и едок, очень серьезен. Это не чтиво, а чтение, побуждающее к размышлениям всякого толка, но непременно актуальным.
Сексрелигию, введенную в Самии дворцовыми сержантами, совершившими смещение Главного Правителя, он воспринял как превращение мысли в чувственность. Аналога, близкого этому роману, он не видит в нашей литературе.
Для прозаика, публициста-международника «САМ» — «роман будущего». Он пишет: «…такими именно — мыслительными, мне думается, станут романные книги, возможно даже в недалеком будущем. Николай Воронов, пожалуй, первым демонстрирует новое мышление в литературе в нашу переломную эпоху — перед возможностью всемирной катастрофы, в любом случае перед неизбежностью победы научно-технической революции, которая, безусловно, радикально переменит мир и человеческое сознание…» Им подчеркнуто, что автор размышляет о двадцатом веке — прежде всего. «Но время в романе значительно протяженней — на всю памятную историю; протяженнее и пространство: это и глубины океана и запредельность Космоса. Но и человек в романе-фантазии «САМ» присутствует, если так можно выразиться, в глубинах и запредельности, отчего, кстати, не перестает быть реальным человеком».
Ссылками на главные высказывания писателей я надеялся передать их объективное впечатление от романа, что, конечно же, не отменяет самовосприятия и личного взгляда на роман «САМ».
Я не фантаст, а фантазер. Без выдумки изображаемая литературой жизнь не была бы способна оборачиваться человеческими типами и метафорами социального существования. Этот роман несет в себе попытки подобного свойства. Проза, больше всего проза, еще с молодости притягивала меня своей пытливостью. Уже один метод аналитических проб на добро и зло, на вину и бесстыдство, на правду и ложь, снимаемых прозой с личности, классовой среды, общественной формации, создавал предпосылки для понимания человека и человечества, а также, что не менее важно, для образования собственной души. Методом таких проб стремился идти автор. Отчасти он пытался установить через проявления характеров пределы веры и кощунства, благородства и беззастенчивости, истины и обмана…
В форме романа «САМ» я различаю сплав не только разных жанров, но и видов литературы… Утопия соседствует в нем с антиутопией, реалистическое с фантазийным и романтическим… Ничего тут необычного нет. В словесном творчестве нашего века за счет увеличения веса его мыслительности стихийно, подспудно, да и сознательно совершаются слияния стилевых, жанровых, видовых признаков.
Благие умозаключения оценщиков приятны, пожалуй, большинству писателей, однако они и страшны им, в особенности тем, кому не удалось привыкнуть к расточительству критических похвал.
Что еще скажу о романе «САМ»? Для чего? Для затравки? Пускай для затравки.
Я занимался им, думая о судьбах людей и обществ на Земле, стремясь что-то от этих судеб привнести в природу своих героев и в здание воображенной страны.
А вообще-то мой роман о любви, прежде всего о любви неискоренимой, любви человека к человеку, человека к семье и народу, к миру и милосердию, к жизни и вечности.
Танаакин,
Танаакин,
Танаакин!
ПОСВЯЩЕНИЕ
Книга первая
Очень хотелось Курнопаю, чтобы неуступчивость бабушки Лемурихи растеребило, как однажды повыдрало смерчем оперенье грифа, который нападал на мальчишек, едва они появлялись на рыжем берегу Огомы: ко всему, о чем ни заспорят, бабушка Лемуриха относилась так, будто бы он нарочно ей перечит.
В тот день, когда начали стрелять на рассвете, ее самоуверенность стала приседать, словно гейзеры возле Огомы: то бьют чуть ли не до солнца, то сникают до накипей. Перед завтраком Курнопай сказал бабушке Лемурихе, наспех гладившей его школьный костюм типа десантной формы, что сегодня им торопиться некуда: наверняка бунтует военный гарнизон, — чему она сразу нашла опровержение:
— Ничего неожиданного у нас не бывает. — Но поверх деревянного жалюзи опустила пулезащитную сетку. Всякое случается в столице, где ловко налажена тайная продажа огнестрельного оружия.
Собственное злорадство огорчало Курнопая, и все-таки он поехидничал в душе, заявляя бабушке Лемурихе о том, что сегодня струсит прилететь за ними телевизионная «стрекоза». Бабушка Лемуриха разгневалась на Курнопая, однако не взяла его с собой на крышу дома: проверит, потом позовет. Конечно же, он, чтобы застыдилась при нем за свое наглое несогласие, пока она ехала на лифте, выкрутился на дом по винтовой лестнице. Крыша пустовала, и его глаза затосковали об орхидеях, из которых колибри пили нектар, — такими расписными картинками был покрыт вертолет, — и удивились, что вместо стыда на бабушку Лемуриху напало потрясение. Ее лицо, обычно крепкое, как на деревянных статуях красавиц знатного рода, размягчалось и подплывало в нижней части щек, словно она перед этим плакала долго-долго. Сам Курнопай хотя и чувствовал себя бодрячком, как прежними утрами, перед отлетом на телестудию, тем не менее слегка испытывал тревогу и от перемены в бабушкином лице, и от вида неба, заполненного белыми и черными дирижаблями в шахматном порядке: дирижабль, ближний к восьмиграннику их фиолетового здания, висел над свинцовым рудником. Из гондолы дирижабля дали по ним предупредительную очередь из пулемета. Пули, отскакивая от крыши, прошили лицо Главного Правителя, проницательно смотревшего с фотощита. Бабушка Лемуриха погрозила дирижаблю кулаком.
На стенке лифта Курнопай заметил голубое воззвание.
— «Главный Правитель смещен!» — прочитал он с торжественным выражением.
— Негодник! — закричала Лемуриха. — Высеку.
— Не я ведь наклеил.
— Дальше читай, да только не напрягайся.
— «Он был величайшим правителем Самии, поэтому сполна вознагражден: мы позволили ему застрелиться. Он умер с сознанием выполненного долга. Почему он смещен? Внутреннюю и внешнюю политику определяет САМ, но Главный Правитель перестал различать, где проводит политику САМОГО, где личную политику. САМ, когда ЕГО спросили, как поступить с Главным Правителем, разъяснил: «Должен самоустраниться, в силу благородства положения». Когда же мы спросили ЕГО, чем нужно заниматься Самии, ОН предписал стране совершить три прыжка: в БЕССОННОСТЬ, в БЕСКОРЫСТИЕ, в БЕСПЕЧАЛЬНОСТЬ. Это курс на три «Бэ». Всем гражданам от четырнадцати лет в обязательном порядке принимать лекарство антисонин (кстати, это средство безграничной бодрости скрывалось покойным Главправом), дабы они неустанно предавались всеблагому труду и очистительной деятельности; детям антисонин назначается по рекомендации полицейских медиков; изучение оружия всех родов войск начинать в раннем возрасте; кто против САМОГО и приспешников САМОГО, тому нет места в обществе свободных самовитцев.
Мы полны веры в ресурсы приспособляемости самовитцев. Их жизнеспособность не знает границ, прежде всего — биологических, психических, исторических.
Отныне, как сказал САМ, у граждан Самии нет и быть не может причин для прискорбия. Мы рекомендуем вам смеяться и проявлять другие формы радости на похоронах, то есть в конце эпохи незабвенного высокопревосходительства Главного Правителя, а также в начале эры сержантов, фермерства, женщин, остального высокосознательного населения. Наша эра устанавливается на несокрушимые времена.
За Революционный Сержантитет Дворцовой Охраны, произведший смещение Г. П., его предводитель Болт Бух Грей».
— Дрянь дело, — промолвила поникшая Лемуриха.
Из решетчатой отдушины для вызова дежурного лифтера гаркнул каменный бас:
— Что ты сказала?
— Правильно сделали. Браво дворцовым сержантам! Молодец Болт Бух Грей. Я всегда уважала Болт Бух Грея, поскольку он умница и наш добрый знакомец с Курнопаем.
— Бабк, зачем ты перевернулась? Эй, бармен Хоккейная Клюшка, я тебя не боюсь. Ты меня никогда не догонишь на своей припадочной ноге.
— Я припадаю на правую, смотри, будешь шкандыбать на левую.
Ночью по приказу Сержантитета город вышел на похороны Главного Правителя. Дирижабли, освещаемые вспышками пушечных салютов, волочили за собой грозди воздушных шаров, но чаще грозди таскали за собой эти подобные марлинам корабли. Дирижабли дергались, вихляли, пропарывали друг друга, вспыхивали. Ныряя к земле, они поджигали шары. Бегучий треск шаров напоминал стрельбу пулеметов. Толпы шарахались, сшибались, их месиво попадало под огонь и взрывы дирижаблей. Тротуары, устланные крытыми лаком и эмалью портретами Главного Правителя, хрустели наводящим ужас хрустом, как будто под ногами радующихся, шарахающихся, сминающихся толп замыкалось высоковольтное электричество. На шоссе рычали танки.
Гудели от танцев установленные на танковых башнях металлические помосты. Мужчины Самии носили обувь с клацающими подковками, женщины — с бубенцами и колокольчиками. На клацанье подковок, зум бубенчиков, трезвон колокольчиков откликались гулкие помосты. Там же, на помостах, играли электронные оркестры, бесновались гитаристы, кривлялись, игогокая, квакая, трубачи. Жонглеры метали гранаты, бомбы, мины, гимнастки в зеркальных одеждах, сворачиваясь в обод, катались среди музыкантов.
Сквозь танцевальные звукопады, музыкальное брунжание, храп моторов просекались, подобно пехотным вибротопорам сквозь броню, надрывные команды:
— Хохотать!
— Выражать победные эмоции!
— Бдеть!
Чем задорней пытался смеяться и торжествовать город, тем резче получалось, что он ржет, квохчет, бурчит, гнусавит, хлюпает, кхекает, лает, шепчет молитвы.
Дети ревели. Старухи причитали.
Курнопай поглядывал на мрачных родителей и на бабушку Лемуриху, пытавшуюся изображать восторг. Веселых людей было мало, даже армейцы кривились, точно бы отрыгалось им кислым сыром из снятого молока антилопы. Напропалую радовались только подростки. Разливанными были их сборища, свирепыми потехи. Моментами хохот подростков перекрывал все шумы, и тогда возникало впечатление, что их легкие вот-вот не выдержат и начнут лопаться, как воздушные шары. Но ничего карающего с ними не происходило: они делались смешливей, яростней, обезьянистей. Потешались над взрослыми, нажатьем пальцев, между которыми закладывали скользкие диски семян плода чику, они стреляли в лица, швырялись шкурками бананов, кокосовыми орехами, припугивали ножами, опускали за шиворот шлаковату, принесенную для восхитительного удовольствия с отвалов металлургического завода. Бабушку Лемуриху, которая отстала от семьи, вытянули по спине бичом, обругали экранной гиеной. Лезвиями для бритья посрезали банты — ими была украшена вельветовая юбка Каски; Ковылко заставили жевать лист бетеля, обмазанный вонючим трубочным никотином, после чего отец вдруг поднял Курнопая на руки и стал пробираться к их кварталу. Отца пробовали задержать солдаты и полицейские, но он выкрикивал прерывисто от волнения и одышки, что заболел его ребенок. Те злобились: «Ишь, ребенка выискал… Большой пацан!» — однако пропускали, потому что он без удержу пер на них, следом за Ковылко проскакивали бабушка Лемуриха и Каска.
Возле фотощита, продырявленного пулями, отца задержал офицер дворцовой охраны. Отец выкрикнул:
— Ребенок заболел!
Офицер не посторонился.
— Почему не смеешься? — процедил он сквозь зубы. — Пока хохотальник исправный, горгочи.
— Господин майор, он у горячей смолы работает, — вступилась за Ковылко бабушка Лемуриха. — Хохотальник смолой связало.
— Горгочи, смоляная пасть, иначе — тюрьма!
— А и верно, господин офицер, есть над чем смеяться.
Отец взаправду засмеялся. Засмеялась бабушка Лемуриха. И мать засмеялась. Офицер пропустил их, и вдруг рассвирепел — пальнул из пистолета-автомата в фотощит с Главным Правителем, устремившим мудрый взор в небо.
Около подъезда Ковылко остановился перевести дыхание, и Курнопай увидел саркофаг Главного Правителя. Саркофаг висел на золотых цепях, притороченных к вертолетам. В одном из вертолетов Курнопай узнал телевизионный вертолет. На его лесенку вылез, судя по желтому комбинезону, войсковой сержант. Он натянул между аэростатами серебристое полотнище со словами: «САМ хохочет вместе с массами».
Прежде чем скрыться в подъезде, семья увидела, как гроб с телом Главного Правителя сорвался с золотых цепей и полетел на подростков. Мигом бросившиеся врассыпную, подростки походили на койотов из-за рыжих брюк и безрукавок.
— Поделом Главправу, — буркнул отец в кабине лифта.
Возмущенная бабушка Лемуриха выговорила ему за ненависть к администраторам. Он презрительно ухмыльнулся, и это вызвало у нее отчаянное восклицание:
— Да что он сделал тебе?
— То-то и оно: что́ он сделал для меня?
— В соседних странах…
— Я знал — ты обязательно скажешь: «В соседних странах…» Ты не знаешь соседних стран. И нашу-то не знаешь.
— В других странах есть голодающие.
— И у нас.
— Нет. Там безработные.
— И у нас.
— Мы б информировали про это народ и мировую общественность. Будь жив Главный Правитель, я б тебя…
Они поднялись к себе в квартиру на двадцать первый этаж. Темноту родительской комнаты расшибали брызжущие отсветы салютов. Каска при своей потерянности внезапно кинулась зашторивать окна. Кольца с карканьем проносились по туго натянутым медным жилам. Зашторившись, Каска опять сникла. Она свернулась на полу, словно волчица в зверинце, которой смертельно надоели зрители и клетка.
Ковылко присел возле Каски на корточки. Опираясь локтями о колени, вдавил кулаки в глазницы.
Так обычно сворачивалась колесом мать, так сидел перед ней отец, когда их, вернувшихся из стриптиз-бара, настигала тоска. Бабушка Лемуриха входила к ним в комнату, стояла, негодующе встряхиваясь.
— Пустоцветы, все б вам глотать пьяную отраву.
Она возвращалась в кресло, читала войсковые и телевизионные журналы.
Курнопай потихоньку выбирался из-под москитной сетки. Хотя бабушка пыталась его уторкать в кресло из бамбука, по-поросячьи визгливое, он вырывался из ее рук, ластился к родителям, не зная, как их утешить. Сперва они словно не ощущали, что он приникает к ним, поглаживает их, целует, потом начинали приникать к нему, гладили, обцеловывали. Зачастую здесь же, на полу, они трое засыпали в обнимку.
На этот раз бабушка Лемуриха не возмущалась, когда встала подле зятя и дочери.
— Да нечего себя зря огорчать. Вы сердились на Главправа, сейчас жалеете. На такой манер устроено нутро человека. От революций всякое… Будем надеяться: поштормит — и штиль. САМ бы не допустил, если б было к худу.
— Кабы революция, — страстно прошептал Ковылко. — Захват власти.
— Как отличить?
— Воззвание. Прочитай.
— Мне Курнопа читал. Мало ли что пишут. И хорошего в нем много.
— Завидую тебе, мамаша. У меня на смолотоке помощник из молодых, да ранний. Не тебя ли он пришпилил: «Легко живется при всех режимах начальстволюбивым людям». На твою судьбу падает третья смена власти. Раньше ты устраивалась о’кей и теперь устроишься о’кей.
— От власти порядки.
— Порядки вопреки порядку.
— Сынок, не паникуй заранее. Природой как устроено: кто приспособился, тому жить. Планеты тоже очень приспосабливаются, к солнцу, к полям гравитации.
Не ожидал Ковылко от тещи ученой прыти. Рассуждать горазда, но по-народному, а тут, поди-ка ты, высказывается наподобие какой-нибудь профессорши. Вскочил, как счастливым известием изумленный. Рот развело едва ли не на ширину океана.
— Неужто твоя придумка?! На телестудии, там, должно, и почище разговоры разговаривают.
— Ых, сынок, Ковылко ты мой чернозубый. Я одна сто образованных перевешу. Вместо блудных песенок в баре слушал бы мои выступления с Курнопаем, уж столько б лет ценил мое разумение. Я воздерживалась уважать твою умственность, сейчас вижу — у тебя голова более-менее.
— Уф, мама, наконец-то ты оценила мой глобус.
Растроганные обоюдной признательностью, они обнялись. Ковылко потянуло, как в детстве, уткнуть лицо в глубокое и уютное междугрудье Лемурихи. Она приложила ладонь к его угловатому затылку, рассказывала со щедрой простоватостью, что, когда она была кормящей, молока в титьках у нее хватило б на всех младенцев родильного дома, но он почти все вытягивал один, жадничал, торопился, из-за этого захлебывался.
Мать Ковылко умерла после родов. Лемурихе, ее соседке по койке, приходилось сцеживать из груди молоко, так как Родинка (первоначальное имя Каски) чуть-чуть пососет грудь — и отвалилась. Лемуриха сцеживала молоко с досадой: она испытывала наслаждение, едва дочка приникала к ее розовому, как земляничка, соску. Для Лемурихи было неожиданным то, что кормление Родинки отзывалось в сердце такой нежностью, которая затмевала памятную ласку загадочного мужчины, целую неделю проведшего с нею в темноте. И Лемуриха не упускала счастливую возможность пригрести к своим молочным цистернам осиротевшего мальчугана. Едва она приставляла сосок к губешкам Ковылко, он прикусывал его, ей было больно, однако она, уливаясь слезами, не могла не улыбаться.
Лемуриха принялась раздумывать над младенческой ненасытностью Ковылко и согласилась сама с собой на том, что, наверно, он чуял, какую придется ему ломить адскую работу.
От бабушкиных слов Курнопай пригорюнился. Пытаясь выразить отцу жалость, накручивал на палец его гудроновые волосы, белые у корней в цвет ковыль-траве.
Черствое хмыканье, разнесшееся по комнате, пронзило, как током, Лемуриху, Ковылко, Курнопая; Каска шевельнулась и села, сложив ноги восьмеркой.
Чувство родства, владевшее ими, помешало сразу угадать хмыканье всеслышащего бармена Клюшки. Хотя они привыкли к присутствию бармена, взорвались таким гневом, что никому из них не удалось заклеймить его убийственным словом: из глоток выхлестывалась смесь клекота, рычания, хрипа, рева, хорканья.
— Отбесновались?
Они выкричались до безгласности и не в силах были ответить. Он добавил, смягчая обдирающий, прямо шершавости ракушечника голос:
— Правитель устранен, но почти все, кем он держался, уцелели. В мюзик-холле власти правитель выступает в роли звезды первой величины. Публика славит звезду, не подозревая о режиссерах. Считается, что Гитлер являл тип неограниченного диктатора. Недальновидно. Он сам заблуждался на личный счет.
— Из тебя режиссер, как из моего уха радар, — с издевкой сказал Ковылко.
— Ты безыдейный пролетарий, Чернозуб. Я имел в виду САМОГО. Всему в Самии он режиссер.
При имени САМОГО Ковылко отпрянул от вентиляционной отдушины и, опомнившись, выставил к отдушине грозные кулаки.
Еще мальчишкой, едва ровесники заводили разговор о САМОМ и у них на мордашках, точно орхидея с восходом, расцветала святая непререкаемость, он распознал в собственной душе неудобство, которое не смел не скрывать, но которое оберегало его от участия в нахваливании САМОГО. Он догадывался, что сверстники заложили бы его предводителю химической школы, где учился, тем более донесли бы в полицию, если бы он зубатился с ними о чем-то, касающемся САМОГО, а потому делал лишь вкрадчивые замечания, не совпадавшие с их отношением к САМОМУ. Иногда они примолкали, явно согласные с Ковылко, однако трусили поддакнуть: их сдерживало убеждение, что САМ неоспорим, и почти непреодолимым препятствием для них была бессомненная вера в то, что никому не дадено право думать по-другому, чем ОН, а тем более думать, что и они способны думать.
Время от времени Ковылко набирался решимости не то чтобы противостоять утверждению САМОГО, а как бы прибавлять кое-что к тому, о чем он рассудил. Однажды кто-то из мальчишек восхитился изречением САМОГО: «Нет на земле существа красивее человека». Тогда Ковылко и пролепетал, что гуанако тоже красивое существо. С ним согласились, что глаза у ламы действительно такие же красивые, как у нас, притом лучистей, и ресницы длинней, а вот нос с заметным разрезом между ноздрями, и это ее уродует. Он возразил: ничуть не уродует — делает милой рожицу гуанако. У всех гуанако милые рожицы, у людей часто препротивные хари. Ему сказали, что милые-то милые у гуанако рожицы и лучистые глаза, но тупые, а у людей не в настроении — тусклые или рассерженные хари, зато обычно умные. Коль это до него не доходит, значит, он тупой, как гуанако. Ковылко мерещилось, что земля под ним, хоть он и стоял на твердой обочине, подобна пойменной скользи, когда после разлива Огома вправляется в берега, а лишь только пацанва взялась ожесточаться, он словно бы стал съезжать по склону, но не пе́редом, а боком, и как ни старался задержаться каблуками, катился, готовясь половчей плюхнуться в желтую жижу, издороженную моллюсками.
Настырное заявление бармена о том, что всем в Самии правил и будет заправлять САМ, помешало Ковылко сохранить осмотрительность. Несмотря на то что провокационная цель Клюшки была ясна, он все-таки не утерпел:
— Довольно прикрываться божественным именем САМОГО.
В раскидистом свете салюта он увидел испуганные лица Лемурихи, сына, жены. Свет распался, оставив в черноте воздуха париковые деревья дыма, и Ковылко очутился на моховом покрове, который зыбился над болотом и мигом просел, без задержки опускался, будто в воде не было тины, гниющих деревьев, путаницы таких густых водорослей, что среди них еле проскальзывали рыбы, провиливали змеи, протискивались крокодилы. До жути перепуганный, Ковылко успел удивиться, каким образом опять тонет в болоте, куда забрел ночью, удрав с океанского побережья, где по вербовке заготавливал из орехов веерной пальмы койру, копру, масло. Тогда он спасся благодаря лиане, нечаянно задетой им в момент погружения в топь. Теперь он знал, что уцепится за лиану, но его лапающие движения над головой были движениями в пустоте, где и воздух неосязаем. Он продолжал тонуть и, чтобы не захлебнуться и отпугивать болотных тварей, бултыхал ногами, но вода теряла плотность и не оставалось надежды задержать гибельное погружение. Едва кто-то схватил Ковылко за руки, он обреченно обмяк: напал крокодил. Захлюпает хвостом, поволокет.
Вместо хлюпанья он услыхал одышливый голос Лемурихи:
— Сынок, да ты что?
Оказывается, он дома, удерживаемый за руки Курнопаем и матушкой. На тахте сидит Каска, покачиваясь от уныния, повторяет:
— Педали были. Педали останутся.
Стало невмоготу смиряться, проговорил, уставясь в круг вентиляционной решетки:
— Жадный оцелот, тебе бы только высмотреть жертву и сожрать с потрохами.
— Хотел бы я походить на оцелота. Ягуар картинный и свирепый. Оцелот еще картинней и свирепей, — тихо отозвался Клюшка. — Я слабый человек. Изучаю в ущерб бизнесу поведение людей в семье.
Бармен вздохнул. В этом вздохе уловил Ковылко покаяние.
— Сынок, ты понапрасну на господина бармена… Он к нам всем сердцем.
— Всем сердцем? Хы! Ему синтетическое вшили.
— А ну прикуси язык. Он о тебе сожалеет. Ты недопонимаешь САМОГО. Он подправляет. Доведись кому другому услышать, что ты спьяну несешь, — работу отнимут.
— Ученый благодетель выискался.
— Сынок, ты жизнь принимай, какая есть. Сомнения пахнут расстрелом.
С ноткой уважения бармен Хоккейная Клюшка поддержал Лемуриху. Прежде чем отключился, подбросил скорпиона: намекнул, что при всех, мол, ухищрениях не сумеет, в случае чего, спасти Ковылко от революционного цунами.
Лемуриха покружила по комнате недовольная. После спохватилась: все, чего не следовало Курнопаю знать, он слыхал и как бы не ляпнул товарищам, беды ведь не оберешься, да и не вобрал бы в головенку — загинет, как олененок в пампасах в пору пожаров.
Торопливо, будто внук мог позабыть то, что услышал, Лемуриха увела Курнопая.
Ковылко приткнул к вентиляционной решетке подушку, придавил стремянкой, лег к Каске в постель, и они обвились, отдаваясь любви, словно ночная свобода от проклятого человеческого мира могла утешить и защитить их навсегда.
На рассвете Курнопай пробудился в тревоге, выскочил в коридор, где, морщась и обкусывая ногти, топтались полицейские. Он проскользнул в комнату родителей. Голый отец сидел на стуле, туловище пригнуто к коленям. Квартальный врач Миляга кипятил в стеклянном судочке шприц. По балкону расхаживал вчерашний офицер. Он говорил о революции в области человеческой энергии.
Как только Миляга собрал шприц, офицер вошел в комнату.
— Саданите месячную дозу, — не без удовольствия приказал он Миляге. — Радуйтесь, Чернозуб, эпохе Сержантов. То вы ходили на работу, возвращались домой, торчали перед телевизором, околачивались в баре. Отныне вам не нужно мотаться туда-сюда. Целесообразность. Никаких распылений мускульных сил. Жизнь души по законам энтузиазма. Беззаботность и бодрствование — никто не ожидал такого чуда. История — неожиданности! Разве кто-нибудь мог себе представить, что САМ войдет в духовное соитие с Болт Бух Греем и внушит ему, на какой бок положить историю и как к ней приладиться. Мадам Каска, готовьтесь. Антисонин безболен. Не стесняйтесь, цесарка!
Курнопай залез к матери под одеяло, потихоньку плакал.
Страдая от жалости к сыну, Каска спросила офицера:
— Куда заберете моего Курнопу и маму?
— Пока останутся здесь. Послужат вместе воспитанию очередного поколения. Если не оправдают надежд Сержантитета, Курнопая препроводят в школу военных термитчиков. За маму не беспокойтесь. Она — тетка вырви глаз. Ее определят при дворце. Днем будет надраивать полы дворцовой казармы, ночью обучать новобранцев… Доктор Миляга, вы все молчите?
— Тружусь.
— Считаете ли вы создание антисонина прогрессивным явлением с точки зрения научной и державной?
— Влияние антисонина не исследовано.
— Исследовать — подозревать отрицательные последствия. Выходит, задачу на беспечальность, поставленную Болт Бух Греем и Сержантитетом, подвергать сомнению? Заботиться о последствиях чего-либо не в природе людей. Заботиться — терять оптимизм, впадать в корысть.
— Что вы? Вполне вероятно, что именно я произвожу первую инъекцию эпохального препарата.
— Благодарю вас, Миляга. Вы со временем станете величайшим образцом беспечальности. Пожалуйста, впорите месячную дозу антисонина любимцу телезрителей Курнопаю.
Утреннего отца Курнопай всегда помнил медлительным, какой-то чугунной тяжести. Теперь он быстро вскочил, заговорил, совсем не похожий на себя: слова наезжали на слова, звуки сплющивали звуки. Ни мать, ни Курнопай не поняли, что говорил он, но это понял офицер.
— Новая эпоха, господин Чернозуб. Уверяю вас, освоитесь в исключительном довольстве. Сплошное служение державе и народу — необыкновенно, праздник счастья.
Укол антисонина произвел на Курнопая воздействие, которого не ожидал офицер. Курнопай нападал на полицейских с вилками, с молотками, с плоскогубцами. Ловить его было невозможно: он скакал, как богомол, уворачивался, выскальзывал. В момент, когда офицер вводил антисонин доктору Миляге, Курнопай выхватил у него из кобуры термонаган.
— Где САМ? Вези к САМОМУ.
— Требование невыполнимое.
Офицер пренебрежительно приспускал длинные ресницы.
— Попрошу за папу и маму.
— Никто не имеет права обращаться к САМОМУ, кроме главсержа Болт Бух Грея, и то лишь телепатически.
— Вези к Болт Бух Грею.
— Он не отменяет приказов, ноздредуйчик.
— Ты обзываться, издеватель? Сейчас прожгу.
Термонаган, наставленный на офицера, вздрагивал в кулаке Курнопая.
— Никогда ты не прожгешь меня.
— Почему думаешь — никогда?
— Смелости не хватит.
— Ты врун. За врунство прожгу.
Офицер попятился, якобы заслониться дверью, Курнопай невольно шагнул за ним. Ударом ботинка полицейский, таившийся возле косяка, выбил у Курнопая термонаган. От боли в руке Курнопай набычился, и как торо сшибает рогами матадора, так он сшиб головой полицейского. Два других полицейских кинулись на Курнопая, но Лемуриха гаркнула:
— Стоп! САМ изничтожит вас! — И они нырнули в стороны, точно грифы, которым фермер помешал напасть на теленка. И впрямь, они походили на грифов в желто-черных сюртуках, в темных беретах с красными гребнями, в ботинках кольчатого рисунка цвета охры.
При Главном Правителе полицейских провозгласили неприкосновенными стражами державы с инструкциями без ограничений. Хотя инструкции не отменены, полицейские сдержались: им было известно, что предводитель правительственного переворота главный сержант Болт Бух Грей не пропускал ни одной телепередачи Лемурихи с внуком и предполагает им доверить воспитание свежих поколений.
Полицейские подняли рухнувшего сослуживца, подобострастно извинялись за то, что пришлось выбивать термонаган у славного мальчишки Курнопая, в противном случае он по горячности нрава мог бы продырявить огненной струей офицера войск трудовой организации индустриальных предприятий.
— Таких войск не существует, — возмутилась Лемуриха. Она вскинула стеклянисто-черную голову, как человек неопровержимых армейских знаний.
— Мадам, совершилась революция дворцовых сержантов! Ваш апломб потерял неукоснительность.
— Чем она отличается от преступного захвата власти? — спросил полусникающий Ковылко.
Офицер пропустил мимо ушей выпад трудяги. Тоном, приправленным вежливым ехидством, он объяснил не ему, а Лемурихе, что любому перевороту предшествует подготовка программы. Эта революция создала общество труда без ликвидации капитала. Во исполнение одного из дерзновенных замыслов сформированы войска трудовой организации индустриальных предприятий. Он отогнул борт мундира. На форменной рубашке красовался зубчатый эмалевый знак: на голубом фоне географическая карта Самии, подобная носорогу, который нацелился для удара по врагу; на боку «носорога» труба и террикон, а на хребте, словно бы прогибая его, стояли бетонно-серые буквы ВТОИП.
Офицер подпрыгнул и козырнул Лемурихе в воздухе, что означало — он превосходно начал несение служебного долга, чем и премного доволен.
Едва вложив в кобуру термонаган, офицер велел Каске и Чернозубу побросать в рюкзаки все необходимое и проследовать за ним для доставки на бронетранспортере к воротам их предприятий.
Курнопай просил родителей не собираться, с воплями и ревом вырывал вещи, но они хмуро его отстраняли.
— Их воля, сынок, — успокаивали они Курнопая.
Трогательный, он заявил, что не даст им выйти. Тогда мать и отец при свирепой поддержке бабушки привязали Курнопая к бамбуковому креслу, заваленному армейскими и телевизионными журналами, и ушли.
Он плакал о странной покорности взрослых, о мировой несправедливости, не позволяющей детям распоряжаться ими, тогда бы повсюду на свете жилось честно, бойко, и люди бы сопротивлялись, и всегда бы побеждали.
Единственное, чем он мог приуспокоить обиду и достоинство, было то, что бабушка Лемуриха опозорила свое гордое изречение: «Ничего неожиданного у нас не бывает».
Отец его был курносый. И он уродился курносым. Когда мать приехала с ним из дворца младенцев, бабушка Лемуриха, раздувая кружева над личиком внука, потрясение сказала:
— Ноздри торчком. Ну и курнопай!
Уж так уж он уж был курнос.
В большинстве стран имена даются, как монеты чеканятся. В Самии считалось неудобным называть одинаково. И дали ему имя Курнопай. Точно. Кроме того, что похож на отца, еще и сумел, по восторженному замечанию бабушки, уподобиться курносости военного министра маршала Данциг-Сикорского. Глядишь, из этой похожести выпадет для ее внука счастливая доля. А где внуку перепадет ананас, там бабушке достанется сладкий кругляш.
Отец Курнопая работал на эстакаде, откуда жидкую смолу заливали в цистерны. В трубах, по которым текла горячая смола, налипали сгустки. Отец проталкивал сгустки стальной лопатой с длинным черенком. Пока он шуровал в трубе, из клапана фыркало смоляным паром. Лицо покрывалось налетом, красивым с виду: лаково-черным, мерцающим. До работы отец втирал в кожу маслянистую смазку, благодаря чему удавалось снимать тряпьем вязкий налет. Смола, накипавшая на зубы, полностью не счищалась. Детское имя отца, Ковылко, к рождению Курнопая для многих потерялось, и звали его Чернозуб.
Мать Курнопая штамповала каски. Она стояла на педалях с запятниками, держась за поручень, и топталась враскачку, будто велосипедистка, поднимавшаяся в гору, и на конвейер падали стальные каски, подобные черепашьим панцирям.
Отец с матерью до того уставали на заводе, что было им не до Курнопая. Отсыпались. Бродили в сквере среди дынных деревьев, банановых пальм, каштанов, миндаля, манго. Безмолвно смотрели по телевизору длинносерийные фильмы про гангстеров, террористов, карабинеров, о масонах, враждующих роботах, благородных акванавтах, о пришельцах из космоса…
Курнопая родители отдали на попечение Лемурихи, бабушки по матери. Бабушка была верткая, по-девичьи гибкая, лоб выгнутый, подбородок острый, голова широкая в висках. Всех удивляли ее огромные глаза мадагаскарского лемура. Бабушка Лемуриха, прежде чем родить Каску, служила в армии.
В часы дневного Курнопаева сна бабушка посещала ипподром, чтобы проехаться на иноходце, позубоскалить с жокеями о доверчивых игроках на бегах. В секрете от дочери и зятя Лемуриха наведывалась на тот же ипподром раз в неделю вечером. Она делала только одну ставку и уносила домой горсть золотых монет с профилем Главного Правителя на орле. Она любила золотые монеты и никогда на них ничего не покупала, тем не менее ночью спокойно, будто сдирала фольгу с молочных бутылок, закладывала половину выигрыша в наконечник брандспойта, находившегося в коридоре, откуда монеты забирались той же ночью.
Лемуриха не обижала Курнопая, однако и не нянькалась с ним. Намочил под себя, орет — чепуха, уймется. Мужчине позарез нужна привычка к сырости. Зато на войне целыми днями в земляной жиже улежит и не чихнет.
Она разговаривала с младенцем Курнопаем мало, больше гулькала да корила за родителей: сроду не покатают на ноге собственное дитя, не поподбрасывают к потолку.
Ее словоохотливость не знала удержу, когда Курнопай не хотел засыпать. Она выдумывала снотворные байки об удавах, не пробуждающихся годами, о кондорах, дремлющих в полете, о глубоководных рыбах, которые не видели свету белого, но которым снятся радуги, небо, апельсиновое солнце. Не помогали байки, Лемуриха напевала колыбельные песни, чаще других колыбельную, составленную лично ею.
Однажды Лемуриха убаюкивала Курнопая, сидя под бразильской сосной, окутанной теплым запахом живицы. Неподалеку от дома находился свинцовый рудник. Пыль, которую выбрасывали из рудника вентиляторы, вызывала у Лемурихи кровотечение десен. Запах сосны врачевал десны. Лемуриха прижмуривала глаза от встречного света и не заметила, как поблизости остановился телевизионный корреспондент.
Незадолго до получки, чертыхаясь на зятя и дочь, заснувших в креслах перед телевизором, Лемуриха вдруг увидела на экране себя с Курнопаем, правда, голос едва узнала, он был глаже, а ей-то мнился занозистым, вроде неоструганной сосновой доски, просторней, с подвывом причитальщицы…
— Э, господа рабочие, очнитесь. Меня с Курнопой кажут.
Они не шелохнулись, пришлось будить пощечинами.
Слушая колыбельную про САМОГО, Ковылко (Лемуриха ненавидела его взрослое имя Чернозуб) пьяно бормотал:
— И откуда что выцарапала, моя храбрая теща?
Он стыдился того, что она когда-то стреляла из миномета по толпам безоружных рабочих. Мины были пластиковые, внутри мин находилась клейкая масса, сделанная из каучукового «молока» гевеи. Разляпистые брызги, попадая на людей, стягивались в шарики — разлазилась одежда, лопалась кожа, вырывались с корнем волосы. Хмельной Ковылко всегда метил напомнить Лемурихе о ее карательном прошлом. Не пощадил и теперь, в час, когда вся Самия слушала ее колыбельную и любовалась Курнопаем, который не хотел засыпать, тараща глазенки сквозь боковые оконца фаэтона.
Каска, глядя на экран, расплакалась от умиления.
— Ковылко, мама наша отмочила так отмочила! И склад, и лад! Глянь на нашего сыночка. Хо-о-ро-шенький! Нос сделался совсем перекурносей всех. Даже перекурносей маршала Данциг-Сикорского.
Ковылко мрачно позевывал.
— Чего ты, моя пулевая теща, колыбельную на манер плача? Дула бы на манер марша, с каким вы шарахали по народу.
— Марши, вишь, не по нутру. Ты, может, на САМОГО замахнешься?
— САМОГО не затрагивал.
— Еще бы затрагивал. Да вы б, ежели б не САМ, черви червями…
— Неужели к вашей расправе еще САМОГО пригребешь?
— Кабы ведала, было ли касательство САМОГО, пригребла. Марш, вишь, не по нутру. Я горжусь. Я дочке моей, внуку моему, тебе, смола, счастье обеспечила. Другой бы хвост по ветру распушил похлеще мустанга: матушку-тещу с сыном показывают на всю державу!
— Пыль — для рабочего человека это дело, никчемная трата судьбы. Наша душа в скромности. Ты ж свою душу для жаднюг, какие все бы капиталы мира захапали, все бы награды, все бы звания с чинами. Главправ твой за весь народ почести стяжал, один якобы за народ работу ломил. Кучка круг него тоже красовалась, будто бы всё за всех делала, и всё от нее и только от нее, впереди с Главправом. А уж после них — САМ.
— Ты против кого высказываешься?
— Нечисть, скупердяи, эксплуататоры, славолюбы, тупари, завистники к тем, у кого совесть, ум, таланты…
— Ты шиш, чтоб выступать против них. Может, тебя САМ не устраивает?
— Заладила. Все САМ да САМ. Ты хоть видела его?
— Свихнулся. Покажись он нам, мы будем думать, что всё понимаем. И у нас, мол, духовная и телесная красо́ты сродни звездам.
— Ничего подобного.
— Все подобрано. Покажи ему САМОГО… Да от нашего грешного взгляда асфальт на тротуарах коробится. Замолчи.
— Я что? Я поддамши. Во хмелю, что хошь намелю, проснусь — от чего хошь отопрусь. САМ, САМ… Я-то сам что-нибудь значу?
— С НИМ значишь, без НЕГО — микроорганизм.
За Лемурихой и Курнопаем приехал белый автомобиль с золотыми астрами, припаянными к фюзеляжу. Автомобиль отвез их в резиденцию Главного Правителя. В зале для торжеств, в присутствии тайных советников, иностранных послов, журналистов, Главный Правитель вручил Лемурихе почетный знак «За воспитание потомков в духе САМОГО». И Курнопая чествовали: положили в серебряную коляску, увитую эдельвейсами, королева красоты, фиолетовые волосы пущены поверх открытой груди, прокатила коляску по залу. На приеме не было других женщин, за исключением Лемурихи. Королева красоты петляла вдоль офицерских рядов, сверкавших металлизированной формой и драгоценностями орденов. Сановники, стоявшие кольцом у подножия стула, на котором сидел Главправ, посылали младенцу поцелуи, но их губы подлетали к губам королевы, подкрашенным оранжевой помадой, и мало-помалу их лиловые рты принимали цвет спелой хурмы.
Телевидение показывало в подробностях церемонию катания Курнопая и присвоения ему звания питомца САМОГО, о чем вечерние газеты писали как о ликовании народного сердца. Установлением Главного Правителя женщинам с детьми вменялось слушать по телевидению советы Лемурихи о воспитании детворы в духе САМОГО.
После завтрака за Лемурихой и Курнопаем прилетал вертолет, они стрекотали до студии над городом, там и сям затененным громадными фотощитами.
Блюдцеглазый Курнопай, когда подрос, делал на высоте досадливые наблюдения.
— Бабк, в городе кишмя кишат машины. Люди где?
— Заняты.
— Бабк, птиц на картинках навалом. Почему живых мало?
— Забабкал. Перед камерой не бабкни. Неслухи вроде тебя птиц перебили, да угар усыпил. Папки твоего Смолоцианистый завод премерзко чадит.
— Бабк, где живет САМ?
— За стенами, вон, из мрамора.
— Там же Главный Правитель.
— Правитель в небоскребе. САМ… Видишь розовый дворец?
— Фу, круглый, чересчур много колонн, потолка в серединке нету. Значит, Правитель важней?
— Что ты, что ты, детка? Главный Правитель на время, САМ на вечную вечность.
— Какой из себя САМ, бабушка?
— Во, молодец! Как что — перед камерой погромче: «Славная моя молодая бабушка!» Никому ОН не показывается. Есть молва, что никому не удавалось лицезреть.
— ОН женатый?
— Ты что?! ОН чистый-пречистый. От нашей сестры всякий грех превзошел.
— Надо «произошел», а не «превзошел».
— Спасибо, отблагодарил… Ведь тебя каждая собака в стране знает. Без бабки тебя б в подъезде не знали. На вертолете никогда б не полетал.
— Прости, славная моя молодая бабушка.
— Ладно, прощаю. Про САМОГО разъясню. От него сытость, рассудок, радость. Вертолет вот, мы летим, без САМОГО до вертолета б не додумались. Птиц ОН завел — мы уничтожаем. Незачем САМОМУ образ свой выказывать. Зрители как стервятники: каждого по косточкам разбирают. ОН красивый, благородный. Большинство б говорило: прям такой красавец, аж глазам неприятно, прям такой благородный, аж поташнивает. ОН, сдается мне, родился из Духа Вселенной. Понял?
— Да-а… Нет.
— Дух Вселенной без тела. Он везде присутствует среди звезд и планет. Духу Вселенной надоело наблюдать людское самоизничтожение, он и создал для нас САМОГО. САМ укрощает наши гибельные страсти.
— Как?
— Всяко. Кровопролитиям мешает.
— Почему у нас страсти?
— Слишком жжет солнышко.
— А.
Курнопай рос отходчивым. Дети быстро, зачастую мгновенно смягчаются и прощают обиды, чувство оскорбленности от которых аукается в сердце до конца жизни. Развязывая джутовые шнуры, ими Курнопай был примотан к бамбуковому креслу, бабушка пыталась применять, чтобы успокоить внука, неотразимые интонации мудрого успокоения, выработанные в ее голосе режиссерами телестудии, но он молчал, хотя и совсем не походил на надувшегося пострела. Когда человек оскорблен, да так, что не хочет с этим чувством примириться, у него возникает закрытое выражение лица.
Лемуриха, как она ни всматривалась в лицо внука, улавливала не закрытость, не отчуждение — не совсем ясную ей светлоту выражения. Она терялась, склоняясь к мысли, что это, должно быть, сердечно трудное удивление добряка. На самом деле она не умела высмотреть в лице внука горестное самоуглубление. Теперь он догадывался, что на сопротивление властителям большие не очень-то решаются. Честно говорил отец: «Любим мы повыступать между собой насчет произвола администраторов. Нужно по зубам съездить — делаемся пластилиновыми, и лепят они из нас, кого вздумается: трудрабов, оккупантов, дрессированных животных, наподобие цирковых собачек, — нас хлыстом, мы покорненько служим на лапках. Кто-то из нас же взъярится, как медведь, нам уськнут, мы и обвиснем его на зубах, точно акулы кита».
— Внучек, ты что затаил? — с опасливым подозрением спросила бабушка Лемуриха.
У Курнопая был музыкальный слух и раздольный голос.
С тех пор как ходит в школу, он часто сманивает сверстников на Огому. Там они стреляют из пружинных парабеллумов по крокодилам.
Долго идут через огромную пойму и, конечно, потому, что вырвались из железобетонного города, где улицы узки, как пазы между панелями, из которых свинчены небоскребы, начинают горлопанить. Каждый горлопанит то, что просится из потрохов. И взъерошивают, пропарывают, прошивают воздушные дали поймы рявканье, визги, хохоты, верещания, ауканья, гулы на манер авиационных, танковых, поездных гулов.
Почему-то Курнопаевы кишки под пупком пронизывала судорога, и ток, вызывавший ее, всей мощью своего заряда двигался вверх, отворял гортань, рот, потом уже из утробы, как рев из чрева бизона, вырывался взмык. Взмыки вытягивались в басовое мычание, накрывавшее глухим звуком береговой простор.
Реветь бизоном, потерявшим стадо, Курнопаю быстро надоедало. Он принимался напевать куплеты о мальчишках-гангстерах, совершивших налет на виллу скотопромышленника и забавлявшихся с его толстомясой супружницей и тощими дочками, не без хитрого соучастия с их стороны. Услышь бывалая Лемуриха, как лелеемый ею внук орет куплеты, она не поверила бы, что это может происходить наяву: так они были ругательны, похотливы, грязны.
В ответ на бабушкино выведывание, что, мол, ты затаил, он прокричал куплет:
Лемуриха вздрогнула, как дерево, перерезанное электропилой, и рухнула. Нет, не на пол, он каменный, гранито-гнейсовый, — на тахту, покрытую одеялом из японской махровой синтетики. Как хладнокровно отметил Курнопай, она выставила руки, боясь зашибиться грудью. Но он не подал виду, что засек бабушкино притворство.
Курнопай чуть не надорвался, переворачивая Лемуриху на спину. Он злобился на ее тяжелень, однако проникся к ней жалостью: из-за него притворничает. Курнопай был далек от истины о бабушке, а также и она совсем не подозревала, каков он наедине со сверстниками.
Успокаивая Лемуриху, Курнопай прошептал ей в ухо, что он самый примерный мальчишка на свете. Едва она, стонущая, начала приходить в себя, с уловкой, неотличимой от искренности, добавил, что ни в одной стране обоих полушарий нет бабушки образцовей, чем она, и тогда бабушка Лемуриха сразу очнулась и притянула его к себе, и лепетала, что полностью верит ему, а сама прикидывала: если не выведает, что он затаил, тогда он преподнесет ей горькую пилюлю.
«Обдурю», — с удовольствием подумала она.
Но не успела она обдурить Курнопая — появился вчерашний офицер из войск трудовой организации индустриальных предприятий. На нем была новая форма: накрахмаленный до мерцания полотняный берет в печатных накрепах носорогоподобной Самии, белого батиста куртка с черным кантом по воротнику и карманам, желтые шорты-патронташ. Лемуриха поклялась в день увоза Ковылко и Каски отомстить офицеру за вежливую бесцеремонность, а лишь только он объявил, что прислан за ними главарем Болт Бух Греем, польщенно засияла громадными глазами, похвалила его за изысканность да еще игриво прибавила, что он красавчик, каких поискать. Офицер назвал себя Бульдозером (он победно подчеркнул, что наделен от природы всесметающим упорством) и остался равнодушен к льстивому восхищению с привкусом запоздалого женского кокетства. Курнопай не простил бабушке Лемурихе предательства: «Неужели бы я стал привязывать ее к бамбуковому креслу?» За ее переменчивостью он невольно ощутил то, чего раньше не замечал: унижение.
Суетливость, с которой она искала в шкафу его костюм, рубашку, босоножки, а также настырная привычка распоряжаться им (она нацелилась одевать внука при Бульдозере) вконец возмутили Курнопая.
— Не-е сме-ей, — запищал он позорно сузившимся горлом.
— Чего «не смей»? — озадачилась она. С приходом офицера Лемуриха забыла об опасном настроении Курнопая. Нелицемерность ее тона он воспринял как притворство и еще сильней возмутился. Голосок Курнопая и вовсе истончило, как будто бабушка навалилась на него, лежащего на брюхе.
— Не-е сы-сымей!
Она спохватилась («Проклятый возраст!») и опять забыла об осторожности.
Зная о слабинке внука: каешься — губы распустит, промолвила еще искренней:
— Виновата перед тобой, хоть удушись. Простишь, а? В ноги, что ль, поклониться?
— Не нуждаюсь. Не какой-нибудь диктатор.
Ее обеспокоенный слух уловил в словах внука смягчение, и, чтобы умиротворить Курнопая, она сказала, что забылась: ведь он почти большой и уже, должно быть, погуливает вечерами в обнимку с девицами.
Лемуриха уметнулась переодеваться в свою комнату. Бульдозер, красота и стать которого не вязались с его именем, мигом заговорил о том, что ему понравилось, как Курнопай показывал бабке характер. И все же он укорил Курнопая за покладистый норов. Не так показывают предкам мужскую непреклонность: днями, неделями, месяцами необходимо держать их в напряжении, иначе не уступят позиций, не спровадятся в подземное царство.
Бульдозер примолк. Он подступил к тайне и прикидывал, открывать ее Курнопаю или нет. Дальше он говорил шепотом, слегка задевая губами волосы Курнопая на затылке. Он из окружения главсержа Болт Бух Грея. Что существенней — предводитель государственного переворота склонен к восприятию политической философии, поэтому охотно взял на умственное вооружение две, именно ему, Бульдозеру, принадлежащие идеи: идею надводную, служащую приманкой для наиболее многочисленного слоя народа, наиболее темного и физически прочного — для фермерства, идею о том, что землепользователи — сердцевинный слой общества, следовательно, соединительный, связывает верха, технобюрократию, рабочий класс; идею подводную, не объявляемую в программных документах: власть в державе подпирает и охраняет свирепейшая часть народной массы — подростки. По какой причине именно они? По той именно, что предрасположены к восприятию нового в силу необремененности старым организмом, старым опытом, старым знанием; доброхотство и мягкота в них не созрели, чистоплюйство не появилось, жестокость и стремление попирать, подчиняясь власть имущим, в них без предела и сомнения. Ты — как раз подросток: тебе ведь четырнадцать. Так что знай и храни в тайне.
Открылась дверь, впрыгнула в комнату, крутнулась, взметывая подол, бабушка Лемуриха. Она была в платье темного шелка, шелк отливал сталью.
Бульдозер оценочно покосился на Лемуриху. В ожидании лифта он подрагивал треугольными коленями. Едва лифтовая дверь, открываясь, поползла вниз, Бульдозер начал издавать свисты, они распадались на тонкие вьющиеся струйки. Полный значительности, уже в опускающейся кабине, он вывел алмазно-острым дискантом фотографически зримое слово:
— Дельфинариум.
Лемуриха, когда ей мнился в ком-то подвох, делалась такой нахрапистой, что человек терялся и виновато сникал.
— Ты, господин Бульдозер, глаженый-разглаженный интеллигентик. Всем выкаешь, но любишь зажирать людей. Не затрагивай нас. Я больше вешу, чем ты прикинул.
— Извините, мадам, вы страдаете манией подозрительности. Кстати, мое воображение улетало на берег океана, потому и сказалось «дельфинариум».
— Сказалось? Ишь, подделывается под народ. Меня не проведешь. Я тебя позатрагиваю! САМ указал переносить унижения, пока терпит душа. Моя душа прекратила терпеть. Ты моих дочку с зятем увез в первые сутки революции. С нами высокомерничаешь. Замкни рот.
Бульдозер не пытался оправдываться. Бабушкины нападки совсем на него не навели шорох, и Курнопаю вспомнился отец, деливший людей на беззащитных и непробиваемых. После посещения бара отец завидовал непробиваемым, но Курнопаю почему-то казалось, что он гордится тем, что незащищенно чуток перед вероломством, несправедливостью, насилием. Курнопай продолжал сердиться на бабушку, отца, мать, а красавчика Бульдозера зачислил в непробиваемые, невзирая на то, что мысли офицера кое в чем совпадали с его давней надеждой, что когда-нибудь у детей от четырнадцати до двадцати лет будет власть над взрослыми. Он даже обрадованно предположил, что главсерж Болт Бух Грей с этой целью пригласил его в небоскреб Сержантитета: поручит командование сухопутными войсками и подразделениями подростков. Прежде всего он займется подростками. Подобно лету, которое вводит Огому в берега, и он будет вводить в берега их кровожадный нрав койотов.
На двадцать первом этаже, где была резиденция Главного Правителя, теперь разместился Болт Бух Грей.
Поднимались на эскалаторах. Редко кому не надоедало переходить с эскалатора на эскалатор: их количество составляло двойное очко: 21+21. В том же небоскребе ходили скоростные лифты, и только в резиденцию поднимались на бегущих лестницах. Согласно замыслу Главного Правителя, каждый, поднимавшийся на двадцать первый этаж (никто не смел являться без вызова), должен был проникнуться священным трепетом перед тем, к кому его пригласили.
В праздник Нации Лемурихе присылали билет на правительственный прием. Чтобы встать у столика, который находился поблизости от кабины Главного Правителя, отлитой из оптического стекла, неуязвимого для пуль и пластиковых бомб, она поднималась к залу торжеств раньше всех. Ждала около резных дверей, старалась впрок надышаться их сандаловым ароматом, поглаживала инкрустацию географической Самии, набранную из кусочков черного дерева, фисташки, жемчужного клена, можжевельника, атласского кедра, пенсильванской акации.
Едва половинки дверей разъезжались, и тоненькая девушка не протиснулась бы меж ними, Лемуриха проскальзывала, к всеобщему изумлению, в зал: силы преклонения придавали змеиную эластичность ее тугому телу, обозначенному такими выпуклыми контурами, что ничего другого, кроме кипучих междометий, они не вызывали в сердце вельможного старичья.
Зал был убран георгинами цвета бархатистой сажи. Георгины носили имя Главного Правителя, покамест он не стал к штурвалу державы, — Черный Лебедь.
В ту же секунду, когда она проскальзывала в зал, в кабине возникал, увеличенный до громадности площадных монументов, Главный Правитель. Черный костюм отливал теплым тоном, как горный хребет, за который закатилось солнце, коричневые глаза светились усталой грустью, седые пряди просекали волосы, как белая молния тьму.
Лемуриха пробегала к столику, гордо слыша за собой стадный топот государственных гостей. Когда все пристраивались к облюбованным кушаньям и напиткам, выдыхала всем объемом своего колоссального бюста невольное восклицание:
— Какой человек!
Как эхо, повторялось в разных местах зала сквозь лязганье вилок, свистящий скрежет ножей, разрезавших ломти копченой анаконды, королевского лосося, каучуково-упругие черепашьи яйца, годами выдерживаемые в земле:
— Какой человек!
Звяканье, сладострастное пришлепывание губ, гулкое еканье пищеводов, разверзнуто принимающих охлажденные в антарктическом льду соки ананаса, смоковницы, лимона с брусникой, сливы с дыней, плодов хлебного дерева с персиками, арбуза с манго.
И опять, опять, словно в плотском бреду:
— Какой человек!
В отличие от большинства гостей, Лемуриха не прикасалась к питью и закускам. Кощунственно отвлекаться от восхищения отцом нации. Она до того боготворила Главного Правителя, что не замечала в кабине его супругу. Если Курнопай или Каска пытались узнать у Лемурихи, какая из себя жена Хозяина, то она свирепела от недоумения:
— Д’разве супруга была?
В газетных отчетах упоминались присутствующие на приеме в честь праздника Нации (телевидению не разрешалось их показывать, фотокорреспондентам снимать) знаменитые богачи, манекенщицы, дикторши, наркоманы, яхтсмены, дизайнеры, послы, экономисты и политические деятели. О ком из них не спросят Лемуриху, никого не помнит. Про то, что подавалось на стол, не спроси — забыла, еще и вызверится:
— Д’разве за тем ходила?! Главным Правителем любовалась. У него на шее родимое пятнышко. Скорлупочка такая, от маиса. Из пятнышка волосик торчит. Волосик не успел срезать. Все ради нас пластается. Ночь-полночь в резиденции свет. Не спит, бедолага, мозгами ворочает. Ох, вовсе о себе забывает!
Преклонение Лемурихи перед Главным Правителем было замечено. Решили поощрить. Эскалаторный путь кончился, провезли на электрокаре по кольцу двадцать первого этажа. Ввели в кабинет, предварительно внушили, как что должно происходить. Идет по шкурам зебр и снежных барсов, останавливается у торца стола, он протягивает руку, она слегка пожимает ее и возвращается.
Глаза Главного Правителя смотрели на розовую страницу с цифрами, когда Лемуриха зажала в своей вдруг накалившейся ладони его почти безжизненные, вялые и безтемпературные пальцы. Лемурихе велели выпустить руку. Чурки бесчувственные, они ли не понимают, что этой руке приходится каторжно трудиться: подписывать бюджеты, назначения послов, реестры с изменением цен, дарственные указы на владение отрезками океанского берега и лагунами, тексты запретов, статистические ежегодники об успехах державных земельно-производственных и частных фирм.
И Лемуриха подосадовала, что приходится расставаться с его рукой, совсем не отогретой. Она склонилась, принялась дышать на нее, как дышала на свои застуженные пальцы, патрулируя по военному лагерю в горах близ снежных пиков.
Главный Правитель отвел глаза в сторону, на дырчатую пальмовую панель, отполированную до зеркальности. За панелью возникло шевеление, но Лемуриха не могла сосредоточиться на нем: внезапно ей увиделась изумрудно-зеленая вода, обтекающая поросшую пушистыми водорослями скалу; треугольные рыбы, голубые, желтополосые, с оранжевыми шапочками на узких черепушках, щипали водоросли.
«Ждет, — подумалось Лемурихе. — Давно я не купалась в океане. Д’есть ли еще лагуны, где чистая вода и пасутся рыбы?»
Она поцеловала пальцы Главного Правителя, так и оставшиеся безтемпературными. На губах вился душок сандалового дыма. Что-то в ней огорчилось и потерялось, но лишь только она очутилась за тамбуром кабинета, прокричала обступившим ее чиновникам:
— Жалейте Главправа. Он — чудо! И все исполняет в точности, как велит САМ.
Теперь во время эскалаторного пути Лемуриха спохватилась, что не следовало бы внуку и ей надеяться на благодеяния главсержанта Болт Бух Грея. Никто в стране не забыл об ее очумении от Главного Правителя. И она стала убеждать себя в том, что после поощрительного рукопожатия в ее душе прекратился восторг настраивать себя на голубое почтение к наместнику САМОГО. И это ей удалось. В действительности же досада, вынесенная ею из правительственной резиденции («За мой-то патриотизм — крокодилью лапу!»), быстро улетучилась, и она продолжала относиться к властителю с той же зачарованностью. Самогипнотизировалась подчинением. Сейчас Лемурихе было необходимо проникнуться предрасположением к новому хозяину. Чтить не слабей, чем старого, — вот она и склоняла себя для внутреннего удобства к правдоподобной неправде, ибо с Болт Бух Греем она была знакома с поры его мальчишества, когда он прислал ей из деревни письмо, где попросил, чтобы она приехала к ним домой и рассказала бы на всю Самию о том, как он воспитывает приличного фермера из своего маленького братика. И она побывала в гостях у Болт Бух Грея, и вместе с двухлетним карапузом, получившим за любовь к синим стрекозам имя Дозорщик-Император, по советам Болт Бух Грея сажала в землю алые кукурузинки, вычесывала пух из козы, кормила кроликов листом японской гречихи.
Отец Болт Бух Грея, Батат, во время войны находился при ставке верховного главнокомандования, где она бывала. Батат был единственным штабным солдатом, кто не приставал к ней. Они подружились, в свободные минуты откровенничали.
Съемку фермерского сюжета Лемуриха предложила завершить их, Батата и ее, воспоминанием о восьмилетней войне, благодаря которой они постигли глубокий смысл мирной жизни и сумели к нему приохотить потомство.
Лемуриха с Бататом принялись за воспоминания, сидя на скамейке под секвойей, а ребятишки должны были поочередно выскребать из кокосового ореха вкусную, как финский сыр «Виола», копру и лакомиться ею, но они вдруг разодрались, и Лемуриха, спасая фермера от конфуза, вскричала обрадованно, что пацаны демонстрируют самую мудрую форму разрешения боевых конфликтов.
Приемная осталась в прежнем зале, вымощенном коврами. Правда, ковры сменились: вместо персидских ковров постелили тканьевые. Крестьянский стиль Болт Бух Грея пришелся ей по душе. Однако стоило ей надеть очки, она пришла в ужас: ох, обмишулилась — на коврах в обнимку женщины с мальчиками, мужчины с девочками.
Курнопай, едва рассмотрев, кто на коврах, сразу посмурнел. Откровенно, чем и перепугал Лемуриху до коликов в животе, он ставил ногу то на рожу мужчины-самца, то на гладкое, правильное, не знакомое со стыдом личико женщины, и делал оборот на каблуке, и поле ковров покрывалось воронками, подобно тем, которые оставляют в песке береговые смерчи.
Рявкающим шепотом Лемуриха приказала Курнопаю не портить ковры, в противном случае его, заодно и ее, вышвырнут отсюда, потом вывезут из их квартиры все вещи (и тех-то кот наплакал) за издевательство над государственным имуществом. Вместо того чтобы поостеречься от наглой выходки, он возмутительно крутнулся на прекрасно-нахальной морде бородача ассирийского типа, под каблуком затрещало, и образовался рваный кратер.
Без промедления к злоумышленнику Курнопаю подошел помощник главсержа. Приветственно щелкнул каблуками ботинок, голяшки до колен, на голяшках золотые крючки под вид головы ксенозавра — местной ящерицы, по крючкам крест-накрест серебряная шнуровка. На фиолетовых шортах по краю билась платиновая бахрома. Куртка вся в провесях аксельбантов, которые вытекали на грудь и спину из-под золотых погон, пластинчатых, гравированных чернью, похожих на крышу.
— Мародер! — воскликнул помощник главсержа. — Молодцом! — и хлопнул Курнопая по плечам длинными, как лопасти весел, ладонями. Не задерживаясь, помощник проскочил к тамбуру, и едва Лемуриха попыталась понять, почему помощник похвалил ее внука, он позвал его в кабинет. Привычка бывать с Курнопаем вместе в телецентре, в пунктах медицинских прививок, в бассейне, где пропадала одежда и волей-неволей приходилось ее караулить, эта привычка заставила Лемуриху податься за внуком, но помощник главсержа запретно махнул длиннющей, будто ее специально вытянули, дланью. Махнул сверху вниз, Лемуриха присела, повалилась на ковер передом, будто бы высокопоставленный сержант приказал ожидать приема лежа.
«Так вот зачем новые ковры!» — догадалась она и от восторга объюлила чуть ли не половину приемной.
Помощник подбежал к Лемурихе, обеспокоенный тем, не плохо ли ей, и засмеялся, едва она в свое оправдание пробормотала, что приняла его взмах за команду. Лемуриху раздосадовал смех сержанта: «Какая безголовость!» Но он попросил не сердиться, подчеркнув, что, как и главсерж Болт Бух Грей, воспитывался на их с Курнопаем телепередачах, и она перестала обижаться и полюбопытствовала, кто придумал обмундирование, которое идет к его исключительной наружности. Лемуриха была противницей неожиданностей. По ее разумению, в жизни человечества (так уж ведется — общие законы для мира почти все люди выводят, устанавливают или пытаются вживить, исходя из личных представлений, выдаваемых за действительно существующие) не должно быть ничего не предусмотренного. Внезапным для Лемурихи был ответ помощника: «Образцы формы для всех родов войск незадолго до революции предложил САМ». Она еще надеялась, что свержение Главного Правителя случилось без ведома САМОГО, и вдруг, нате вам, не только знал о подготовке к свержению — наверняка руководил им, коль впрок придумал образцы обмундирования. Ей трудно было принять даже неожиданность, связанную с непререкаемым правом САМОГО на самые невероятные решения.
— Ай-яй-яй, мадам Лемуриха, — промолвил помощник главсержанта, его кофейные глаза построжали. — Не вам бы, не вам бы… — Кончик его идеально закругленного носа, словно бы выточенного при уточняющем участии циркуля, поклевывал усы, оттягиваемые коротковатой верхней губой. — Не у вас бы проявиться недопониманию. Если доложить Болт Бух Грею, а он уведомит САМОГО, представляю себе, как они отреагируют…
Устыдив, примирил он Лемуриху с участием САМОГО в низложении Главного Правителя.
Остаточные токи неприятия покинули душу, когда Лемуриха спохватилась, что про нее известно САМОМУ. Как тюлень в цирке перед укротителем, она запрыгала перед сержантом, умоляя его не доводить до сведения Болт Бух Грея об ее ошибке: срам на веки вечные, мы-то присутствуем на свете, как спичка сгорает — пырх, и пламя уж до ногтей взвилось, а САМ-то бессмертен.
Он мило заверил Лемуриху в том, что не настучит на нее главсержу.
Приглашенный один к Болт Бух Грею, Курнопай поверил в свое недавнее убеждение: выдвинет. Столько постов освободилось! Куда девать? Да и кого назначить, если не их с бабушкой Лемурихой.
Бабушка с Болт Бух Греем переписывалась, зачитывала его мечтательные послания телезрителям, а мечтал он о военной судьбе, которая привела бы к высотам, каких достиг маршал Данциг-Сикорский. В конце концов, прямо с экрана, она попросила Главного Правителя зачислить в училище державных курсантов умницу Бэ Бэ Гэ. И умница был зачислен, старался, получил сержантство и место во дворце. Там увлекся карточными играми, преуспел, потому что измыслил собственную систему. Купил с аукциона, на который съехались богачи страны, автомобиль «Казуар». Машина принадлежала Черному Лебедю в годы, когда он являлся всего лишь послом Самии в Люксембурге. Главный Правитель оценил фантастическую трату Болт Бух Грея, выкупил у него «Казуар» за израсходованную сумму и все же подарил. Ликующий Болт Бух Грей утратил чувство самоконтроля и подзалетел с такой безудержностью, что им были проиграны не только деньги, но и, сие не позволялось древним законом отечества «Дареное недаримо», исторический автомобиль. Однако краем болтбухгреевского азарта была игра в долг, чему предел его партнер установил на пятистах тысячах золотых огомиев. Главный Правитель, оскорбленный до самых уязвимых глубин, по скором размышлении простил Болт Бух Грею проигрыш «Казуара» и даже не изгнал из дворца. Но вот неуплата карточного долга для чести державных сержантов заканчивалась смертью. Через трое суток Болт Бух Грей выстрелил бы себе в сердце, если бы Батат не отдал в заклад свою форму и если бы Лемуриха не ссудила его ста тысячами огомиев.
Как пить дать, ему, Курнопаю, сошьют форму получше, чем у сержанта-помощника, который прет впереди, словно вызван он, а не Курнопай, и не видать из-за него главсержа, хотя полностью открылся сандаловый стол, резной, как двери зала приемов: муравьеды, держа в лапах львиные головы, сторожко вынюхивают воздух.
Очутился Курнопай не перед Болт Бух Греем. Перед красавицей. Как неожиданный выстрел в упор, его поразила горячая смоляная чернота глаз. Раструб алого кактусового цветка заслонял губы. Сквозняк вызывал быстрые всплески, перевивы, вздувания ласково-зеленого шелкового платья.
Красавица ждала Курнопая. Призывно протянула руки. Свою неподвижность он ощутил точно тяжесть: с ней не шагнешь — не устоять на ногах. Но красавица заперебирала пальчиками, дескать, иди ко мне, ожидание унижает, и Курнопай шагнул; ее ладони покружили по его щекам и затылку, отбирая застенчивость.
Красавица и он куда-то помчались. Возле его локтя скользило обжигающее, окутанное трепетом шелка бедро. Светлел мрамор коридора. Мелькали склепного типа входы, задернутые портьерами.
Не здесь укроются. Лететь им долго. Превратиться бы в дельфинов и прошивать, резвясь, океан и небо. Но тише гладкое биение бедра. Коридор уменьшился до уличного тупика. Плотная нахлынула портьера. Выпутываясь из ворса ткани, невольно плавал он незрячими движениями по волосам красавицы, по сглаженным углам лопаток, по бокам, сужающимся до жадного желанья нападать и чувствовать, что ярость твоя желанна.
Была портьера, будто встречная волна, и оттого, что перехлынула по ним, они невольно задержались перед серебристым сумраком, зовущим в комнату, где в синих лампионах сверкали трассы возбужденной ртути.
Красавица заметно построжала и повела на мягкий свет экрана, на котором прядала, дробясь и стягиваясь, загадочная тень. Порой она слагалась в лик, задумчиво склоненный над равниной тьмы, похожей почему-то на толпу, бредущую в ночи. Тот лик, возникнув, никогда не повторялся, и невозможно было его запечатлеть, чтобы потом зарисовать для бабушки, для мамы, для отца.
Красавица ждала, дойдет до Курнопая или нет, кто завладел его вниманьем. А в Курнопае наметилось прозренье, и она сказала, что перед ними образ САМОГО, что не случайно он явился на экране: САМ одобряет инициацию, ее не кто-нибудь, она должна осуществить. Но прежде она откроет ему напутствие главсержа Болт Бух Грея: «Отныне и до смерти твои желания и ум, и тайны тянуться будут перво-наперво ко мне. Ты от меня ничто не волен скрыть. Твои сомненья разрешаю я, пусть если даже годы пролягут между нами. Ты, может, женишься, однако не она, а я правительницей буду тому, кто имя носит милое: Курнопа-Курнопай. А я зовусь Пригожей Фэйхоа».
Простор кровати вызвал у Курнопая наивное соображенье: установи тут стол, лупи в пинг-понг.
Горячесмологлазая красавица прижгла душистых палочек лучи, они слагались в образ солнца оранжевой и розовой расцветки.
Амуры греческого серебра, охваченные теплотой, с пластин литого складня лукаво метили в красавицу из луков. Привинченные в ноготках к хрустальным зеркалам, они двоились в лепестковых скосах веерной огранки. Амуры на цепочках — вестники влюбленных, с пытливою острасткой засматривают в трубы, подобием в цветы агавы, но только ни тычинок в них, ни пестика: на донце мерцает бриллиантовая крупка, как звездные скопленья Скорпиона.
Наверно, чтобы застить отраженья, Фэйхоа муслиновые одеянья развесила на складне. Волоконца ароматических дымков, источаясь из палочек, вились вокруг нее змеею найа, найа, найа[1].
Курнопай то обмирал от волнения, наблюдая за Фэйхоа, то егозился, с головою укрываясь, и взбуровливался плед, как воды океана, когда забухтят придонные вулканы. Но по мере того как завершалось ее раздевание, ему становилось совестней, и только она ударом пальцев отбросила со спины умащенные волосы, весь скорчился, забоявшись, что Фейхоа готовно очутится рядом, и тогда он погибнет от стыда.
Фэйхоа не спешила, чутка. Была она в тайном гареме Главправа, так называли наложницы между собой Хозяина государства. Лишь только сержанты дворца дотянулись до власти, целую ночь Болт Бух Грей кутил в гареме с соратниками, а наутро объявил незаконным супругам Главправа, что их не посадят в тюрьму за угодливость узурпатору, ежели согласятся они осуществить одну из задач революции. Ну, конечно, они согласились с условием и остались во дворце. Для виду сержанты поспорили. Не собирались они выдворять из дворца восходно-красивых женщин, отовсюду свезенных евнухами. Лично ее, говорили, привезли маленькой девочкой, а откуда — лишь слухи: из Перу, из Гранады в Испании, с острова Бали, из Аравии, из рыбацкой деревни в Гоа, а в последние месяцы уже доставляли из Японии, Бирмы, с Таиланда, с Аляски…
При дворце просвещали, холили, в день совершеннолетия перевели из питомника, проказливого и дружного, в тихий гарем соперниц и ожидания, которое, как исполнится, приносит только отчаяние.
Хозяин государства, ни с кем не делившийся властью и правом на щедрость, подарил ей на вечное пользование именно эти покои, где теперь Фэйхоа никак не могла подготовить душу к посвящению Курнопая в мужчины.
За коричнево-нежную теплоту ее тела дали девочке имя Корица. В присутствии евнухов с глазами удавов — могли бы они загипнотизировать даже торпеду, пущенную на корабль, — Главный Правитель изрек, что не было никогда на земле девушки такого окраса, но при этой неповторимости куда исключительнее невинность ее, чудом каким-то не канувшая среди беспечных страстей питомника.
Водили Корицу евнухи перед Главправом, как скаковую лошадь на ярмарке перед ордой покупателей, и сделалась она зачарованной, и повеяло от нее ароматом весенней пустыни и легкого зноя песков, а ему показалось — духом плодов фэйхоа. И нарекли Корицу именем Фэйхоа.
Есть в Ориссе[2], в окружении хлебных деревьев и кокосовых пальм, чуть в низине, словно почва промялась от тяжести, сложенный из песчаника по образу колесницы храм. На каждой каменной глыбе, подставленной всякому взгляду, — скульптуры, скульптуры, скульптуры о женщине и мужчине, о том, что бывает меж ними. Этот храм навестило посольское чадо, и запомнило игры в их открытом призыве, и назвало его храмом сексопоклонников. Чадо, сделавшись властелином самийцев, припоминало скульптуру соитий и приготовления к ним. Даже его изощренный в догадках рассудок не мог приоткрыть, зачем угнездилась на корточках подле ног обнаженных мужчины и женщины и засматривает в их лица голая и смазливая, но не господского типа девушка. Не посольское чадо раскавычит ту сцену, а впадающий в алчную немощь поиссохший от возраста узурпатор. Отобрал он в питомнике девушек-возбудительниц. Вбегали голышками, едва ускользали евнухи, и присаживались перед своим господом на уровне тряских коленей, и, если не было надобности, прочь уносились — тайфун не настигнет.
Фэйхоа не далась, когда евнухи попытались освободить ее от мантильи. Они посмурнели, отсылаемые Главправом. И Хозяин признался, что САМ пожелал, чтобы она открылась перед законным супругом. Она допускала, что у САМОГО испрашивал президент, можно ль побыть с Корицей, и тот разрешить соизволил. И якобы САМ считает, что президент — законный ее супруг, чему она не поверила и так заявила Главправу, поскольку читала в газетах опровержения его канцелярии, что нет никакого гарема у чистого человека, правящего державой, а только первая дама их распрекрасной страны, ему нареченная в жены всезаветным САМИМ.
— Полноте, перуанка, аравийка, испанка, японка, пора бы тебе не пенять благодетелю то, что пеняют враги. И другое усвой, невинный росточек цивилизаций песков, океанских просторов: у неба права иные и правда такая, о которой доли земные знать не должны.
Фэйхоа осмелела сильнее:
— «Доли земные»? Значит, народ?
Сановность не истребилась в жестах, в улыбке Главправа. Он терпеливо промолвил:
— Планеты — не только люди. Все, что внутри и снаружи, — земная бессчетность. Она целиком управляется небом, и убого об этом догадываться, и хорошо. Почему астронавты страдают, сходят с ума, укрываются от расспросов? Потому что никак не стыкуется правда планеты, надежды планеты с правдой и верой богов. САМ, ОН от неба. Я властелин над вами, ОН — надо мной.
Главправ полоснул ладонью в голубом от курений воздухе, как бы незримо одежды рассек. И Фэйхоа обнажилась невольно, но мигом очнулась, заметив в проеме двери широкогубую Юлу. Они подружками были, часами купались в бассейне и, наряжаясь в юбочки из разноцветных перьев, бамбука и нитей койры, вдвоем танцевали танцы островитян. Потом она фантазировала танцы, которые словно бы исполняли жаркие девы барханов, обвитые шелком, или таджички из давней Кушании, где вызрел мудрец Заратуштра. Было и представляла царевну из Атлантиды, страны, из которой не все утонули, и, побросав корабли, тишком разбрелись по свету, чтобы жить вдалеке от водных стихий.
Летуче, на кончиках пальцев, прогнутая в талии, к ним подбежала Юла и, грустная, опустилась в покорную позу.
Фэйхоа тут схитрила: пусть Юла, как ласковая, побудет с великим героем. Но уязвленный Главправ распожарил протест, и тогда Фэйхоа притворилась: коль отошлет властелин печальную Юлу, значит, любит, ибо любовь — это двое с таинством наедине. И польщенный диктатор выпроводил полинезийку.
Умом побуждая влечение, постылостью чувства он мучился, и виновато глядел, и принял ее уловку: с иными он многогреховен, а с нею пускай его свяжет духовность и непорочность сама.
В ночь кутежа сержантов в покоях она укрылась, больна-де и праздник испортит. И вот Курнопай на ложе, а она-то невинна и в посвятительницы не годится.
Да что ж ей придумать? Прибегнуть к обману? Чувства вихрятся и мысли: смерчи пустынь. Ведь попытают Курнопу, сделался ли мужчиной, сам попытает главсерж Бэ Бэ Гэ… Ох, не сумеет солгать. И назначат ему другую, а она, Фэйхоа, попадет в заключение. Посвященство — политика государства. Покарают жестоко, коль главсерж, уделивший ее Курнопаю, на пиру победителей соратникам пригрозил, дабы ни-ни — не зарились на Фэйхоа.
Пусть обман лишь раскроет главсерж Болт Бух Грей. Для него-то невинность не дар. Для политика выше политики нет ничего, для военного выше войны. Что им девственность, верность, заботы любви? Им всевластно вдвигать бы жесткий устав в аппараты державы, выставляться на самых заметных местах, забавляться штурвалом, позабывши про совесть, посулы и страх. А водить корабли — капитанство, не слалом.
Курнопай, он невинен, но страстью пытлив. Чистота чистоту не погубит. Для меня он, а я для него, что прилив для лагуны: прибудет у нас, прибудет.
Он расплакался. Зачем был ознобный восторг? Мнилось, что уплывал в ночной океан, когда от гребков ладоней возникают водовороты, а на небе мерцают созвездия Зодиака и внезапно ставшая знаменитой Сетка, о которой до недавней поры никто не знал, и вдруг оказывается, что гуманоиды, зачастившие в Самию на «тарелках» и даже однажды потерпевшие крушение над джунглями, оттуда? Зачем, зачем нужен был восторг, чтобы после согнуло болью и опечалило безразличием, как тогда, когда при них с отцом завалился на бок в ручье мустанг и корчился перед смертью, а он, нелепый Курнопай, почему-то кинулся мустангу на помощь, и едва выбежал на отмель, точно примагнитился к дну, скрючивала неодолимая судорога. И врубился бы носом в галечник, не подоспей отец да не выхвати из ручья за брючный ремень.
Позже узналось, что выше по течению оборвался в ручей электрический провод. Впервые отец пошел с ним за город. Птички колибри высасывали нектар из цветов через кривую трубочку носа; арлекиновый аспид сбрасывал красно-черно-желтую кольцами шкуру. Отец не разрешил находиться долго около раздраженного змея, яд которого убивает огромных зверей. От души хохотали, глядя на игру зимородка. По веселому баловству задевал он крылом разморенную жаром пуму. Она бесновалась и пробовала сцапать зимородка когтями. Было такое счастье! И надо ж случиться обрыву провода… Чуть дотла не выжгло из Курнопая радость, и немотой затопило сердце.
Правда, пониклость того токоударного дня была устойчивей. Безотрадность этого дня мигом отхлынула, едва Фэйхоа склонилась над горестным Курнопаем и прошептала настолько тихо, что и всеслышащий бармен не разобрал бы:
— Мой первый мужчина, чего ты насупился? Тебе в посвятительницы могли бы назначить бесстыдницу. Я запомню тебя навеки! Запомнишь и ты. Девичье достоинство в Самии днем с огнем не найти, как пыльцу изумруда в заброшенных копях.
Он покаялся перед Фэйхоа за холодное разочарование, неожиданное для себя. Зато теперь он знает — оно минутное. Но оно помогло решению: или его оставляют служить при дворце, чтобы не расставаться с Фэйхоа, или отпускают ее к ним с бабушкой.
Экран, было погасший до чуточного серо-тоскливого тления, засветился яростно-ослепительно. Воздух покоев пробил плотный граненый луч. Его белизна была нестерпимей расплавленного железа.
Курнопай с Фэйхоа прищурились. В луч сиреневым блеском вдохнулся голос. Он звучал, округлый, как облако, потаенный в басовых глубинах.
— Я ПРИЛЕТЕЛ СЮДА В ЭРУ ВУЛКАНОВ. ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЛСЯ, НО ОЧЕРТАНИЙ НЕ БЫЛО. ТЕПЕРЬ ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ ГРАНИЦАМИ. ВСЕЛЕННАЯ БЕЗ ОЧЕРТАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРОТИВНЫ ВСЕЛЕННОЙ. МИРОВОЙ РАЗУМ НАДЕЛЕН БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРПИМОСТЬЮ, ОДНАКО ЕМУ НЕ ЧУЖДЫ ОЧЕРТАНИЯ.
ВУЛКАНЫ КИПЕЛИ. СКОЛЬ ЖАРКО ОНИ БЫЛИ РАСКАЛЕНЫ, НЫНЕ МОЖНО СУДИТЬ ПО ЛУЧАМ, ЧТО В ТУ ЭРУ ВОСХОДИЛИ ИЗ КРАТЕРОВ. ЛУЧИ, ПРОНИЗЫВАЯ АТМОСФЕРУ, СВЕТИЛИСЬ ЗА ОКОЛОЗЕМИЦЕЙ. БЫЛИ ОНИ МАЯКАМИ ВАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. И Я СМЕЛО ЛЕТЕЛ НА НИХ, КАК НА ЗНАКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕЩЕ В ОДНОЙ ТОЧКЕ ВСЕЛЕННОЙ.
МОЮ ДУШУ СОГРЕВАЛО В ПРОСТОРАХ МИРОВОЙ СТУЖИ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РОДСТВО С ТЕМИ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫХ НАЙДУ НА ПЛАНЕТЕ. Я БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО МОИ БРАТЬЯ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕТВИ СПЕЦИАЛЬНО ВОЗНЕСЛИ МАЯЧНЫЕ СТОЛПЫ ЗА ОКОЛОЗЕМИЦУ, ДАБЫ Я СПРЯМИЛ ОРБИТУ И ПОБЫСТРЕЙ ДОСТАВИЛСЯ. КСТАТИ, У АСТРОНОМОВ МОЕЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ РОДИНЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ ВАША ПЛАНЕТА ЗВАЛАСЬ ОГНЕГЛАЗОЙ.
Голос САМОГО остановился, и сразу открылись мерные шумы дыхания, похожие на рокот океанских накатов, слышимых в горных долинах.
Сиреневый блеск толкнулся в сердцевине экранного луча. И снова звучал голос, облачно округлый, потаенный в басовых глубинах.
— У ВАС ЕСТЬ ИДЕЯ МИРОВОГО РАЗУМА. ВЕРНАЯ ДОГАДКА: ОН СУЩЕСТВУЕТ, ЖАЛЬ, ЧТО ВАМ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛОСЬ САМО ПОНИМАНИЕ МИРОВОГО РАЗУМА.
ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО СУЩНОСТЯХ. ВОТ ОНИ: ВСЁ И НИЧТО, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ, НУЛЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ, ОБОЛОЧКА И ЯДРО. И СВОЮ ЗЕМЛЮ ВЫ ЗНАЕТЕ ТОЛЬКО ПО ЕЕ ГЕОБИОЛОГИЧЕСКОЙ УПАКОВКЕ. ВЫ ИЗУЧАЕТЕ СУЩНОСТИ МИРОВОГО РАЗУМА КАК ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ, НАЧАЛА КОТОРЫХ ОТЪЕДИНЕННО РАЗЛИЧНЫ. А В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОНИ СЛИЯННО РАЗЛИЧНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНО ЕДИНЫ. ОНИ, СОВМЕЩАЯСЬ, НЕСОВМЕСТИМЫ, НЕ СОВМЕЩАЯСЬ, СОВМЕСТНЫ. СТРАННО, ОДНАКО, ЧТО, ПОДОЗРЕВАЯ О МИРОВОМ РАЗУМЕ, ВЫ ДО СИХ ПОР НЕ ДОГАДАЛИСЬ О СУЩЕСТВОВАНИИ МИРОВОГО ЧУВСТВА. ВОТ ОТДЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИРОВОГО ЧУВСТВА: ИСТИНА И ЛОЖЬ, ЯВЬ И МИРАЖ, ВСЕПРИЯТИЕ И НЕСОГЛАСИЕ, ВСЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ И НЕОСЯЗАЕМОСТЬ, ЗРЕНИЕ И СЛЕПОТА, СОЗИДАНИЕ И РАСПАД, ПРЕКРАСНОЕ И БЕЗОБРАЗНОЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПОКОЙ, НЕДОСТИЖИМОЕ И ВОЗМОЖНОЕ. И ОНИ, СУЩНОСТИ МИРОВОГО ЧУВСТВА, СЛИЯННО РАЗЛИЧНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНО ЕДИНЫ, СОВМЕЩАЯСЬ, НЕСОВМЕСТИМЫ, НЕ СОВМЕЩАЯСЬ, СОВМЕСТНЫ. НЕТ-НЕТ, НИ МИРОВОЙ РАЗУМ, НИ МИРОВОЕ ЧУВСТВО НЕ ОБЛАДАЮТ ПОСТОЯНСТВОМ СВОИХ ВЕЛИЧИН. ИХ ВЕЛИЧИНЫ СТОЛЬ ЖЕ ИЗМЕНЧИВЫ, СКОЛЬ ИЗМЕНЧИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ РАЗУМА И ЧУВСТВА НА ВАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. СЕЙЧАС У ВАС ЭРА ГИБЕЛЬНОГО СПАДА ЭНЕРГИИ РАЗУМА И ЧУВСТВА, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЕЛИЧИНЫ МИРОВОГО РАЗУМА И ЧУВСТВА МОГЛИ УМЕНЬШИТЬСЯ, ЕСЛИ ИХ ПРИТОК НЕ СОВЕРШИЛСЯ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ, ЯСНО, НЕ ТОЛЬКО БИОЛОГИЧЕСКИХ. СПАД ЭНЕРГИИ РАЗУМА И ЧУВСТВА НА ВАШЕЙ ПЛАНЕТЕ БЫЛ БЫ КАТАСТРОФИЧЕН, ЕСЛИ БЫ НЕ ВОСПОЛНЯЛСЯ ЗА СЧЕТ РАЗУМА И ЧУВСТВА ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ ЗЕМЛИ. ИМЕЮ В ВИДУ И ЖИВОТНЫХ, И РЕПТИЛИЙ, И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ, И РЫБ, ДА И ДРУГИХ ОБИТАТЕЛЕЙ ВОДЫ, И ВСЕХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗМОВ ОТ СПОРОВЫХ ДО ВОДОРОСЛЕЙ, ТРАВ, ДЕРЕВЬЕВ…
МИРОВЫМ ЧУВСТВОМ МНЕ БЫЛО ВНУШЕНО, ЧТО Я ДОЛЖЕН ВОЙТИ В БИОЛОГИЧЕСКОЕ СЛИЯНИЕ С ЖЕНЩИНОЙ ОГНЕГЛАЗОЙ ПЛАНЕТЫ. Я ВОШЕЛ В ТАКОЕ СЛИЯНИЕ. ЖЕНЩИНУ ЗВАЛИ АНТИЛОПА. Я ПОИМЕНОВАЛ ЕЕ ПОСВЯТИТЕЛЬНИЦЕЙ ГАЛАКТИДОЙ. ДА БУДЕТ ВАМ ИЗВЕСТНО — Я ИЗ РОДА ГАЛАКТЯН, СПОСОБНЫХ ОСВОИТЬ ВСЕЛЕННУЮ. БЛАГОДАРЯ ГАЛАКТИДЕ СУЩЕСТВУЕТ МОЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВЕТОЧКА В НАРОДЕ САМИИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ГЛАВСЕРЖУ БОЛТ БУХ ГРЕЮ Я — ПРЕДОК. ЦЕНИТЕ И СЛУШАЙТЕ БОЛТ БУХ ГРЕЯ. ЦЕНИТЕ И СЛУШАЙТЕ СВОИХ ПОСВЯТИТЕЛЬНИЦ.
Курнопай, в ком посвящение в мужчины, совершенное невинной красавицей Фэйхоа, а также речь САМОГО, полная мудрости, укрепили надежду на близкое, очень крупное воинское назначение, обиделся, что САМ не уделил и слова им с бабушкой и Фэйхоа, которая, наверно, ни чем не хуже посвятительницы Галактиды.
Курнопай открылся Фэйхоа в обиде на САМОГО. Она обдумывала то, что САМ сказал о мировом чувстве, и печалилась о постоянном унижении прекрасных чувств в Самии, как, впрочем, на планете в целом; ей представлялось, что оскорбительней всего сейчас унижаются любовь, бескорыстие, совесть, справедливые побуждения, безгреховность поступков. В питомнике гарема, готовя себя не к самой порядочной жизни, Фэйхоа убеждала подруг в том, что во многие главные страны земли внедрились за последние сто лет нелюди, дьявольские силы которых направлены на растление святых человеческих достоинств, сложившихся в тысячелетиях. Краем этого злобного растления она объявила разрушение материи, являющейся праосновой Природы и Духа. Не было и нет для нее смысла ненавистней, чем тот, какой заключен в понятиях «ядерщик», «атомник», «теоретик микрокосмоса».
Все это возобновилось в голове и душе Фэйхоа, едва она принялась осмысливать мировое чувство и его свойства, потому и не сразу восприняла обиду Курнопая, а лишь только восприняла, перенеслась воображением за пределы околоземицы, будто прилетела из галактических далей, уже постигнувшая тьму звездно-планетарных существований, а Курнопай, тщеславный зверек мальчишества, жил тут, на планете микроскопических накоплений ума.
Поначалу Фэйхоа даже не хотелось вовлекаться в его убогую заботу, но она ласково укорила себя: «Он подросток. Душа еще не образовалась», — и посмеиваясь, промолвила:
— Мужчина должен быть гордым, но не гордецом. Для чего тебе рваться в хунту? Ты плохо осведомлен о политических целях дворцовых сержантов. Их программное воззвание темно, несуразно, истинные цели далеко спрятаны.
— Где?
— Я не в буквальном смысле.
— Какой переносный смысл?
— Читал сказку про Кощея Бессмертного?
— Нет. Почему Бессмертный Кощей?
— За океаном дерево, на нем гнездо, в гнезде утка, в ней яичко, в яичке иголка. Надо узнать, за каким океаном, какое дерево и гнездо, поймать утку, извлечь яйцо. Пока яйцо не разобьешь, не достанешь иголку, не сломаешь острие, Кощей не погибнет. Далеко запрятана его смерть. Цели дворцовых сержантов тоже далеко запрятаны.
— Я не согласен, Фэйхоа.
Кто захватит власть, старается присвоить ее навсегда. В природе человека неискоренимый недостаток: присваивать. Взять меня и тебя. Первый мужчина приобретает над девушкой неимоверную власть. Пусть он противен ей. После она встретит изумительного мужчину и полюбит. Для первого мужчины в ее чувствах закрепляется священное право на память о нем.
— Ты не полюбишь другого мужчину.
— Присвоение. И ты не стыдишься?
— Даю клятву быть только твоим.
— Не хочу узурпировать твою свободу.
— А я клянусь и требую, чтоб ты поклялась.
— Вот-вот, ты собрался присвоить меня навсегда. И если в тебе не взыграет совесть, ты пойдешь на любое преступление для вечной власти надо мной.
— И пойду.
— Теперь ты понимаешь, для чего хунте скрытые цели?
— Ага.
— К счастью, встречаются люди, которые уважают право человека на свободу воли. Правда, таких людей я покамест не встречала. Главправ, Сержантитет, ты, твоя бабушка — все вы Эр Сэ У.
— Кто?
— Ревнители Собственных Удовольствий.
— А САМ?
— САМ сам по себе.
— Ты уклонилась.
— Я допустила кощунство: САМ не может быть Эр Сэ У, потому что у него нет личной жизни.
— Точно?
— Никто ни о чем не может точно знать.
— Я точно знаю: ты — Пригожая Фэйхоа.
— Мой первый мужчина, что ты узнал о моей пригожести? Я и то мало знаю о ней. Жить — значит узнавать себя и мир, но так и не узнать себя и мир.
Экран, чуть теплившийся белым светом, пропорол лезвием луча сизый воздух покоев и погас. Фэйхоа сказала, что они приглашаются к Болт Бух Грею.
В конце мраморного коридора перед ними возник помощник главсержа. Он предупредил Курнопая о том, что едва Болт Бух Грей поздравит его с посвящением, произнесет напутствие и подарит ему оружие, необходимо в ту же минуту покинуть кабинет. Слушая помощника, Курнопай пытался определить, как теперь, после посвящения, помощник относится к нему. По-прежнему помощник был вежлив, и Курнопай, сколько ни всматривался в его лицо, не выследил на нем ни зависти, ни огорчения.
«И все-таки, — подумал Курнопай, — он завидует мне и подсадит при случае».
К Фэйхоа помощник Болт Бух Грея обратился с поклоном, в котором была застенчивость и, кажется, вина. Ей, хотя он и сознает трудную непривычность нововводимого государственного ритуала, высочайше поручено исполнить еще одно посвящение.
Фэйхоа, когда в конце коридора возник перед ними помощник, опасалась, что он, у кого педантически приятные манеры человека строгих правил, не сумеет скрыть к ней своего презрения, но сержант и не думал презирать ее. Напротив, сержант был убежден, что ритуал посвящения — грандиозной важности мероприятие, а в его извинительности проявилось сочувствие тому, что в новизне обычая всегда заключена психологическая сложность.
«Допускаю, — подумала Фэйхоа, — что он надеется вызвать у меня благосклонность. Слуги мечтают о любимых женщинах своих властителей. Вы хитры и вероломны… Да куда вам, рьяным властолюбцам, тягаться с достоинством женщины?»
Болт Бух Грей стоял в профиль на фоне окна. Нависающий овал шевелюры над длинным склоном лба. Бакенбарда, как рог. Мундир тигрового цвета. Ботинки напоминают лыжные пексы, светлы в тон волосам.
До чего ж живописен главсерж Болт Бух Грей! Неужели он хищное существо!
Подошли. Повернулся. Живописный не меньше анфас. Глаз тигриная зоркость и, наверное, тоже намеренная доброта, чтобы в жертве не вызвать тревоги. Прикоснулся губами к Курнопиному виску и внезапную зычность вложил в поздравление.
— Мужчина становится воином. Славно, Курнопа. Поздравляю. И прежде чем наградить оружием, хочу узнать, нет ли просьб у тебя?
Курнопай попросил вернуть домой родителей.
Посетовал Болт Бух Грей, что не волен отменять державных решений Сержантитета. В противном порядке не выбраться Самии из горького кризиса, в который страну затащил сластолюбивый Главный Правитель.
Подвздошье Курнопы сдавила тоска. Унимая ее, он промолвил, что сможет командовать армейской пехотой.
Болт Бух Грей согласился: что сможет, то сможет. И пожурил за пустячность мечты. Он, Курнопа, — народный любимец и лично любимец его, Болт Бух Грея, то бишь в целях великих у него безграничная власть командовать целым народом. Что там пехотная должность? Каждый день появляйся на телекомандном экране, золотые зерна идей засевай в головы миллионов. Выступления с бабушкой, программа известна.
«Он умыл меня дважды, — обозлился Курнопа. — Неужели и в третий умоет? Тогда… Ишь как вырядился… И научную шишку, как САМ, выкручивает из себя. «Программа»… Погоди, если в третий умоешь…» — и сказал: выступать он с Лемурихой будет, если в жены прямо сегодня получит Пригожую Фэйхоа.
Омрачился главсерж. Он желал угодить Курнопаю, но опять его просьбу невозможно принять. Он вздохнул и промолвил, что Курнопа еще не постигнул державной политики, потому и надумал жениться. Ведь обряд посвященья в мужчины не дает еще права семью заводить. Надо вырасти в гражданина телесно и духом. Он всего лишь подросток. Что ему обещает главсерж? Это — встречи, очень редкие, по заслугам, а женитьбу — через месяцы, годы… Отличится — пораньше, не оправдает доверия — вероятен немилый исход.
Фэйхоа оскорбляли отказы главсержа. Полагала, Ковылко и Каску он мог бы вернуть преспокойно. Намекнула ему: возврати.
— Государственный муж — не жалельщик приюта. Интересы державы исключений не терпят.
— Исключений для малых, ты хочешь сказать?
Желваки набугрились на скулах главсержа, и рога бакенбардов качнулись, как бычьи рога.
— При любви к Фэйхоа я отдал ее непорочность юнцу. Исключенья не сделал и для себя. И если она не против, а должна согласиться, посвятит и второго пострела.
Сразительный довод! Фэйхоа покраснела, угнулся стыдливо Курнопа.
И польщенно главсерж о себе подумал:
«Я — политик. Вы-то, тигрята, незрячи. Хвать за шкирку обоих, и над бездной висите!» — и ремнем носорожьим подпоясал Курнопу. На ремне тяжелел в кобуре пистолет-автомат.
— Я — верховный теперь, — произнес. — Награждаю почетным оружьем. Тренируйся на крокодилах. Бунтари заведутся, пресекать будешь их. Твоя бабушка смолоду отличилась. Отличишься и ты.
«Вот те на! — пораженно подумал Курнопа. — Только власть захватил, и уже не бунтарь», — и промолвил, азартно прищурясь:
— А кто вы, вы — бунтарь или… или правитель законный?
— Я — спаситель народа, презирающий бунт.
Появился помощник, рукой подал знак Курнопаю, дескать, вон, уходи.
— Трижды, ваша верховность, умыл ты меня в честь мужчинства. («Надо «ты», нагло «ты» ему говорить!»), — закричал Курнопай. — Хоть исполни одно: отпусти Фэйхоа.
Аравийка, мекаломоганка, индусоарийка поддержала Курнопу.
— Отпустите, правитель.
— Я к решенным вопросам не возвращаюсь.
Фэйхоа тут стремглав заявила:
— Посвящать я не буду. Лучше каски давить на заводе.
И покорность обозначилась в Болт Бух Грее, сказал:
— Фаворитку Главправа неволить не стану. Есть преемственность власти, симпатий, подачек, потачек… Раз Главправ не неволил, не стану неволить и я. Но останешься при дворе.
Фэйхоа рассердилась. Палящи глаза.
— Благородный главсерж — вероломство само.
Появилась охрана, схватила Курнопу. Он пинался и требовал отвезти к САМОМУ. Отобрали оружие у него.
Курнопая доставили в училище военных термитчиков. После бани сделали укол антисонина.
Новичкам здесь устраивали темную, но до темной не дошло. Антисониновая ярость заставляла Курнопая бросаться на курсантов. Удары ногами он наносил такие, что курсанты подлетали к потолку.
Командпреподаватели, от которых он требовал отвезти его к САМОМУ, сбежали на полигон для стрельбы по термозащитным заграждениям.
Привезли бабушку Лемуриху, она дала Курнопаю успокоительных таблеток, буян в нем поутих, но затаился, как видеомина, взрывающаяся от лучей взгляда.
Вечером главарь командпреподавателей огласил курсантам приказ Болт Бух Грея, одобрявший неистовство и разгоноспособность Курнопая. В конце приказа сообщалось, что Самия нуждается в головорезах и что отныне звание головореза будет самым почетным. Курнопаю присваивалось звание головореза номер один.
С этого момента на протяжении пяти лет вокруг головореза номер один крутилась, гомозила, бушевала, выслуживалась, враждуя, раболепствуя, целая тысяча подростков.
Очнулся он от курсантской жизни через пять лет на отдыхе у океана.
Через неделю Курнопаю вспомнилось с недоумением, что все эти годы он злорадно открещивался от свиданий с бабушкой и родителями: главари училища были уверены, что ни к чему их воспитанникам родственное слюнтяйство. Вспомнил он и то, а вспомнивши разрыдался, что часто грезил о Фэйхоа и даже писал главсержу яростные рапорты с просьбой об увольнении, чтобы понаведаться к посвятительнице, но тот оставлял его рапорты без внимания. Здесь, на берегу океана, под пение уминающихся под ногами песков, он сообразил, что в пору просечных тренировок в джунглях (танк медленно движется на стену деревьев, кустов, травы, мха, а ты прожигаешь в ней из термопушки коридор для пехотинцев, одетых в жаропрочные комбинезоны) возникала неподалеку от деревни, где были расквартированы, девушка: золотой сарафан, сапожки от укусов скорпионов и змей, на локтевом сгибе корзинка, полная королевских орехов. Брезжилось в стати девушки что-то знакомое, пытался разглядеть ее лицо через монокуляр, вмонтированный в башню, но танк прыгал и оно падало, взвивалось, неуловимое, полуприкрытое алым шарфом.
Были традиционными в училище изуверские шуточки. Ненавидел их и все же втянулся. Взбрендило попугать девушку. Полосанул над дорогой самовозгорающейся жидкостью. Тянуло боковым ветром. Капельки жидкости нанесло на корзинку; девушка собиралась перевесить ее с локтя на локоть. На овале корзинки возникли язычки пламени. Ударила девушка по ближнему язычку, но не загасила, а ощутив ожог, увидела, как вспыхнул на ладошке огонь. Отброшенная корзинка ударилась об дорогу, а девушка, взмахнув рукой, помчалась к деревне. С мгновения, когда увидел огонь на ее ладони, девушка мерещилась Курнопаю, и он от страдания и от жгучей боли в собственной ладони взмахивал рукой и мычал, и ему хотелось провалиться сквозь землю.
Дошло, наконец-то дошло до Курнопая, бредущего по отмели, что той девушкой в золотом сарафане была Фэйхоа, появлявшаяся ради свидания с ним. Подлость, проклятье, непростительное преступление, а он, он-то!..
И Курнопай побежал в океан, чтобы погасить всесжигающий стыд и погибнуть, но его опрокинул накат, швырнул на песок.
В тот день, сидя на террасе, он спрашивал себя: «Кто все-таки САМ? Есть ли у него образ? Видел ли кто Христа, сейчас не установить. Но у человечества есть его образ. Переменчивые силуэты на экране — не образ. Узнать, почему САМ, если ОН есть, считает мысль личным достоянием, а народу отводит роль крота, попугая, умертвителя собственного мозга. А кто я? Зачем дорожу жизнью? Днем океан помешал утопиться. В отлив охотно унесет в невозвратную даль. Для чего я возник? Есть ли у меня разум? Вероятно, будь у меня действительный разум, не мнимый, я давно определил бы, кто я, и, возможно, усомнился бы в том, что должен быть тем, кем стал. Вполне вероятно, что мой разум прожегся бы к истине сквозь джунгли военных учений, если бы… Но, погоди, виноват ли я в своем безмыслии? Меня, нас нацеливали на восприятие человека как эмоциональной стихии. Я сам на это курсантов нацеливал. Но почему? Я заблуждался? О, не просто заблуждался: насильственно вводил сверстников в заблуждение. Бездумным подчинением они укрепляли мое заблуждение и мою насильственность для введения в заблуждение. Получается, что вина не во мнимости моего разума и разума сверстников — в намеренном искажении нашего сознания, в его усыплении чрезмерным бодрствованием. Вот как! Перекрывали ходы сообщения между чувством и разумом! Да и чувство-то сводили к батальным эмоциям, как материю сводят к частицам, выхваченным из бесконечной гармонии мира. Перекрывали? Отдели озеро от родников — образуется зловонный водоем. Нет, не болото. Болото взаимосвязано с жилами родников и руслами рек. Болото возвращает им воду, как мысль, возвращаясь к чувству, вызвавшему ее, обогащает само чувство. Да, отец, Ковылко, жив ли он? Из-за малой грамотности он любил слово «агломерировать». Оно было для него более весомым по смыслу, чем слово «обогащать». О, ясно! Озерные образования ума невозможны без постоянного притока чувств. Значит, в здоровых психологических условиях чувство преобразуется в разум, в извращенных — проявляет себя раздробленно, на узких пределах направленной эмоциональности. Ага, вот и определилось, зачем каждого из курсантов провели через обряд посвящения, а потом ни разу никто не был отпущен к своей посвятительнице. Все мы то и дело возвращали свое мужское чувство к недостижимому телесному переживанию. Искусить, чтобы… Страшно, опасно, коварная мудрость: река чувства течет вспять. Тотчас перед Курнопаем пролегла Огома полнолуния, когда он с мальчишками жарил в листы и глину завернутую рыбу. Они сбежали из дома, блеснили добычливо. Никто из родителей их не разыскивал. И вдруг над расстилом реки навстречу течению зашелестел, закипел, заклокотал, зафыркал водный шум. О приливной волне из придонного океана, которая дыбом встает во все устье Огомы и прокатывается вверх по реке на сотни миль, Курнопай и его дружки знали из былей, притч, сказочных поэм. Ежемесячная волна была взысканием Матери-Земли со всего живого, если оно поступает не в согласии с предопределением, ею установленным. Взыскивалось с камня, когда он мешал течению, с корабля, чей винт поразрубал головы дельфинов, резвившихся под кормой, с крокодилов — за жадность, с лиан — за удушение деревьев, с ловца райских птиц — за похищение священной красоты леса…
Мальчишкам впервые услышалась волна. Они, кроме Курнопая, не попытались увидеть ее: чуть зазевайся — смоет за наглость — и задали стрекача на холм, где можно было спастись в водонепроницаемых люках. На экранах кинотеатров и телевизоров волну не показывали, чтобы не гневить Мать-Землю: явление взыскания — тайна природы, не подлежащая другому обнаружению. В минуту, когда видел алмазный лемех волны, которым срезало нефтяную вышку, — она стояла вдали посреди Огомы, как громадная ель из разноцветных электрических огней, — он горделиво подумал о собственном риске, поэтому просто шагом направился к холму, оборачиваясь на бег карающей воды. А если бы Огома потекла вспять на годы?
Как походило приливное могущество волны на курсантские силы, летевшие вспять их природному движению. Он ужаснулся этому прозрению. Что со мной, с нами сделали? Чем я-то занимался? Разумогубительством. Губительством личности. Изуверство изуверства — антисониновые плотины.
Курнопай испугался, как бы ему не забыть то, до чего он додумался. Ведь почти запамятовал бабушку и родителей. Надо поскорей попасть на виллу и все записать, чтобы, наталкиваясь на запись, поступать вопреки состоянию, вызываемому антисонином. Записать, записать. Как бы насовсем не потерять восстановившийся в памяти зрительный образ Фэйхоа. Постой. А духовный? Каким ему запечатлелся духовный образ Фэйхоа? Возникала на дороге… Должно быть, хранила верность обряду посвящения? Погоди. Что-то она предсказывала в день посвящения? Нет, излагала свои воззрения. Но какие? Истребилось. И что-то было меж ними, о чем не забывало телесное электричество, едва не испепелившее его желаньем нежности.
Помчался Курнопай к вилле. Твердил: «Не забыть, не забыть». Перед портиком, вылетев из-за клумбы голубых колокольчиков, вымахавших настолько высоко, что в них скрылся бы танк-ракетоносец, чуть не столкнулся с главным врачом.
Когда Курнопай приехал в дворцовый санаторий, главврач Миляга встречал его у ворот. Проявил учтивость, пронятую неслужбистским холодком. Уж его-то, Курнопая, вышколили чуять не то что холодок службистский — холодочек. Тут он не службистский, так и саданул по нервам.
— Умерьте прыть, — едва успев посторониться, с педантичной четкостью раздраженной значительной личности проговорил главврач.
Курнопай собрался совершить такое действие, от которого, как помнилось, зависела его дальнейшая судьба, и он, машинально взбесясь, скомандовал:
— Сы-ми-ир-нно!
Монах милосердия, сопровождавший главврача, — он был одет в кремовую шелковую сутану, испещренную отпечатками изощренно-узорных фиолетовых крестов, — в испуге юркнул за спину Миляги. Но сам главврач проявил редкую бронезащищенность: не дрогнул.
— Дайте отдохнуть вашим бедным голосовым связкам, — и строго предупредил: — Я обладаю достаточной властью. Повторится срыв — упеку в изолятор.
«Из лагеря неприятелей, — подумал Курнопай. — Пригляжусь-ка».
Миляга обернулся к монаху милосердия.
— Запрограммированная реакция. Подозревает — я из лагеря неприятелей. — После сказал уже для сведения Курнопая: — Коренной самиец. Имею ученую степень. Любовницы нет. Наград не будет. Последнее испытание на лояльность выдержал, впрочем, как и все предыдущие. Удовлетворены?
Внутреннее устройство, сформированное в Курнопае училищем, похилилось в нем еще в полдень, когда накат швырнул его на жаркий песок. Оно стало заваливаться, пока Миляга прямо и косвенно изобличал Курнопая, и лишь только он замолкнул, спросив: «Удовлетворены?» — Курнопай от неловкости, охватившей сердце, как в плен сдался:
— Вы мне со страшной силой врезали. Вполне удовлетворен. Постараюсь быть достойным клиентом санатория, подведомственного вам, господин гла-авный врач.
— …авный, …авный, — передразнил Курнопая Миляга. Неслужбистский холодок унесло теплым веянием доброго передразнивания.
— Насобачились вы, извините, в училище лаять. Умерьте командный рык.
— Слушаюсь, господин главврач.
Миляга опять повернулся к монаху милосердия.
— Отреагировал нестабильно. Не должен был так быстро проявить покладистость. — И снова к уныло виноватому Курнопаю: — В санаторий и раньше присылали в порядке исключения ваших коллег. У всех у них конструкция милитаристических эмоций сохраняла незыблемость. Между прочим, это на вас похоже.
Многозначительной фразой Миляга закончил свое укротившее Курнопая пояснение. Правда, оно возбудило у него самолюбивую пытливость, и все-таки он удержался от вопроса: уж слишком рассиропился.
Курнопай вспомнил, с какой целью спешил на виллу, но не смог уйти. Удержало впечатление нерешенности, важной для них обоих, читавшееся на лице Миляги, который наклонил к себе синий колокольчик и вроде бы прощально вдыхал его запах.
«Обидел медицину», — попенял себе Курнопай не без насмешки, затем обвинил себя в привычке к наглости, и невольное извинение вырвалось изо рта, пересохшего от непривычных волнений.
Миляга не отреагировал на извинение, вероятно, относился к подобным поступкам раскаяния как к лукавым или ненадежным, и прислонил ухо к раструбу колокольчика; глаза сделались слушающими, словно там, внутри цветка, звучала музыка пыльцы, осыпающейся с пестика на тычинки, а также музыка талого снега, присущая запаху колокольчиков.
— Японцы убеждены, — промолвил тихо главврач, боясь заглушить музыку колокольчика, — личность целиком формируется к двенадцати годам.
— Не прослеживается ассоциация с тем, что произошло, — так оценил монах милосердия сказанное главврачом о японцах, чем и вызвал у Курнопая настороженность.
Не отрывая ухо от раструба колокольчика, Миляга потихоньку сказал монаху, чтоб он учился слушать.
— Хы, я чем занимаюсь? Я занимаюсь этим.
— Этим занимаетесь? Вы занимайтесь тем, что я имею в виду.
— Я всем занимаюсь.
В гладком голосе монаха милосердия обозначились звуковые занозы, и на них не обратил внимания Миляга.
— У нас была единственная встреча, — промолвил Миляга еще тише, и Курнопай ощутил накатный удар ужаса, не догадываясь, с кем у главврача была встреча: с ним или с монахом милосердия.
— Вам было примерно пятнадцать лет…
Курнопай вздрогнул: разряд ассоциации протянулся к квартире, где он, которому вкололи в шею антисонин, неистовствовал, требуя, чтобы офицер ВТОИП не увозил отца и мать на заводы.
Его ужас притушил имя врача Миляги, оно навсегда запечатлелось в чувствах Курнопая знаком беззащитности.
— Беру под сомнение, господин доктор, легенду о вашей абсолютной памяти.
Уже не занозы были в гладком голосе монаха милосердия — иглы кактусов.
— Уймитесь, святой отец. Впрочем, покиньте нас. Я обеспокоен нервами головореза номер один. Ваши вмешательства… Покиньте нас.
Монах милосердия предупредительно похлопал ладонью по чемоданчику-«дипломату».
— Вкачу сперва ампулу «Большого барьерного рифа» головорезу номер один.
— Прочь.
Монах милосердия удалился, поставив «дипломат» на дорожку. Миляга понурился. Нельзя было не догадаться, что ссора с монахом милосердия может обернуться для него потерей привилегированного медицинского поста. Курнопай попытался успокоить доктора. Он тоже вспомнился ему: лишь у врача Миляги вызвало сострадание, даже у бабушки не вызвало, его мальчишеское буйство. На случай осложнений он пообещал доктору защиту или помощь в устройстве госпитальным врачом.
— Сострадание губит меня, — пожаловался Миляга. Но, подышав ароматом колокольчика, он окреп волей и предложил Курнопаю пройти на виллу. Разочарованно Курнопай уловил в мелодиях докторского бариота службистский холодок. Это возмутило его и натолкнуло на уловку: он ни в какую не согласится сделать укол антисонина, и на самом деле у него измочалены нервы, как он предполагает, бодрствованием.
— У меня державная инструкция, господин Курнопай. Она не делает исключения для головорезов.
— А для нездоровых людей делаются исключения?
— Вы чрезвычайно здоровый человек.
— Мне знать или вам?
— Детский лепет. За неделю без антисонина ни к кому не возвращался глубокий сон, как у вас, главное, ни к кому не возвращался здравый рассудок. У вас он возродился до уникальности.
— Вы что, читаете чужие мысли?
— Мысли, близкие по складу восприятия.
— И все-таки сделайте исключение.
— Ради вас, каким вы были подростком, пойду на преступление.
— Страшно карают?
— Вплоть до смертной казни.
— Тогда укол не отменяется.
— Рискну.
— Мы-ал-чать.
— Здесь власть моя.
Курнопай молодцевато щелкнул каблуками, охваченными скобами черного железа, и положил руку ладонью вверх по направлению к портику виллы. К жесту приглашения Миляга отнесся по-старчески сварливо. Он полагает, что у любимчика Болт Бух Грея разгорелся зуб на откровенность. Кто в наше время ведет откровенный разговор не на открытом воздухе, да не под пушечные выхлопы привальных волн? Ай-ай, ваше головорезство!
Не без раздражения Курнопай одобрил желчное замечание Миляги.
За рощей синего тисса открылся взгорбаченный океан. Оливковую зелень воды красили пенные гривы валов.
— Мне любопытно, — громко сказал Курнопай. Он дал валу рухнуть, пушистой влаге объять его лицо, — оно слегка потеряло чувствительность из-за щетины, отросшей за неделю, — что значит ампула «Большого барьерного рифа»?
— Месячная доза антисонина.
— В училище — «Бивень».
Пока шли по тропе, выложенной из пиленого ракушечника, океан выкатывался к ней в прогалы между ливанскими кедрами, вершины которых были подстрижены под вид раскрыленных кондоров, между голубыми тамарисками, париковыми деревьями, мерцавшими запотелыми стеклянистыми нитями. Едва ступили на розовую набережную — выстлана плитами родонита, сразу открылась песчаная вогнутость полузалитой лагуны. Отсюда глубокие завалы среди волн просматривались во всю даль. Дыбастая часть валов, восходя в небо и сворачиваясь, тащила за собой донную воду, отчего на миг над впадинами прорисовывались резные кусты кораллов, проволакивались канаты водорослей, выставлялись изгибистые щупальца губоносых кальмаров.
Миляга пожалел зачарованного океаном Курнопая.
Несчастный! Совсем неподалеку от училища термитчиков свобода ветра, воды, небес. Пять лет заточения, без сна и мальчишеских забав. Воспитывало солдафонистое мужичье, притворяясь идейным, нравственным. Скорей бы урвать чин повыше, крупней вознаграждение, да побольше посвятить девочек. О, скольким из них они покалечили судьбы. И при этом, конечно же, тоном претензии на святость солдафоны талдычили курсантам о поклонении родине, о высотах доблести, о нерассуждающих жертвах, о верности вечному справедливому САМОМУ.
Курнопай думал о себе и природе, удивленный тем, что до сих пор существует громадный вольный мир. Никто над ним не властен: хочет — зажурится, затихнет, окутается облаками, омоется ливнями, вздумает — распахнется для солнца, свежих ветровых путей, штормового буйства, в котором у людей, деревьев, гор, наверно, тоже необходимость, как в покое и теневой прохладе. Верно-верно, обездоленность в стиснутости, в скученности, в подготовке к убийству. Пропало, будто не было его, бабушкино, пусть с хрипотцей, пение: «Ах, Курнопа-Курнопай, поскорее засыпай». Исчезла мама. Не прибежишь к ней в комнату, не присунешься щекой к ее сердцу, пусть и в винное дыхание, зато можешь приластиться, возьмет и погладит тебя по голове, и нашепчет, что ты должен вырасти добрым, умным и так волшебно отличиться, что перед всем светом станешь славным, благодаря чему и о ней узнают, о бабушке, о папе.
Больно и неясно то, зачем держать на выжженном, утоптанном, уезженном до чугунной твердости квадрате глинозема столько мальчишек, когда есть океанская ширь и неизведанность водных пучин? И зачем задачей их существования делать смерть, когда есть множество целей для жизни ради процветания жизни?
У Миляги создалось впечатление, что курсантов намеренно держат годами в отторженности от общества, исключая дни, когда их используют как жандармов, но раньше он не решался намекнуть на это ни одному из тех, кого присылали сюда и кому предопределялась исключительная военная карьера. Миляга страховался от тюрьмы, но не из-за этого он помалкивал: их мозги представлялись ему противоатомными бункерами, куда сквозь свинец не просадиться и самой проникаемой частичке интеллекта.
Курнопай стронул в Миляге природную потребность в наставлении человека, которого увели с истинного пути, и пробудил в сердце чувство доверия, давно уже причисленного им к сверхнаказуемым чувствам, отсюда и затаенного по-мафиозному тщательно.
Полный духовной неотложности, Миляга заслонил собой лагуну. Курнопай было шагнул в сторону — продлить освободительное созерцание, но Миляга опять загородил его взор и пустился в объяснительство, захватившее Курнопая своим оголтелым и разрушительным для державы сержантов бесстрашием.
— Есть легочное дыхание. И есть духовное дыхание. Астматическое удушье — адский момент. Подкачается больной астматолом — отдышался. И от духовного удушья есть спасенье. Оно в откровениях, каким, надеюсь, будет наше с вами. — Он подстраховывался, настраивая Курнопая на недоносительство. — Спасенье от духовного удушья в возможностях каждой личности. Духовное дыхание обеспечивается обстановкой и сутью существования самой личности в системе управления. Сейчас у нас эпоха непреодолимого духовного удушья. Ложь — основа для обмена информацией, для суждений об экономических отправлениях в промышленности, о процессах в сфере науки. Мораль? И ее отправления совершаются на гибельной основе — так она ненадежна. Все равно что деревянный дом поместить в настоящий момент на океанскую хлябь. Запереворачивает, разобьет, расслоит, раскатает. То же с нашим духовным дыханием. Завтра утром вас начнут вводить в разряд высокопоставленных посвятителей…
— Каких?
— Вы, господин Курнопай, метеорит.
— Не нахожу связи.
— Точная связь. Вы метеором («Я, по всей вероятности, трус. Не надо заискивать».) плутали в космосе и свалились оттуда в Самию.
— Из космоса только великий САМ. Мы все земляне.
— Почему сравнил вас… («Не надо его бояться. Он же не из тех… Смешно. Кто же тогда головорезы других номеров, если головорез номер один не из тех?») Э, я сравнил. Не могли вас не готовить к растлению девочек, то бишь к посвятительству.
— Врете! — вызверился Курнопай.
— Вас посвятила фаворитка номер один Фэйхоа. Почему бы вам, номеру первому, не осуществлять инициацию девочек? — смиренно возразил Миляга. Печальную укоризну отражала приспущенность утомленных складчатых век.
Раскаянием вдруг пронизало все существо Курнопая. Он извинился перед Милягой. Он не просто пожалел главврача с его положением прислужника, вместе с ним пожалел Фэйхоа и себя, тоже в общем-то прислужников, хотя и не лишенных возможностей господства. И едва полностью охватил сказанное Милягой, чуть не упал на родонит набережной, чтобы биться о розовый камень, который благорасположенно отражает своей полировкой кого угодно и что угодно, и нет ему никакого дела до разглашения тайн, лелеемых в душе мужчины и женщины.
— Откуда у вас, мистер Миляга, сведения обо мне и Фэйхоа?
— Средства коммуникации в стране достаточно развиты.
— Неужели за годы моего обучения не забыли, что Фэйхоа посвятительница Курнопая?
— Газет не читаете, телевизор не смотрите, транзистор не слушаете?
— Средства коммуникации в училище используются для дачи целенаправленных знаний. Закон отбора.
— Закон изоляции сознания.
— Нет такого закона. («И я думал об этом».)
— Закон отупляющей изоляции. Простите, о вас известно каждой собаке.
— Наверно, о Фэйхоа?
— О вас прежде всего.
— Да что обо мне?
— Не примите за нелепость. Я знаю о вас больше, чем о самом себе.
— Вы не рехнулись?
— Чокнутого обычно обуревает конкретная идея. Идея для него подобна океану, через который необходимо перебраться вплавь. Чокнутый плывет по океану либо собственной, либо заимствованной идеи. До того ли ему, чтоб замечать, что нравственность вывернута наизнанку?
— Черт возьми, почему «нравственность»?
— Важней нравственности нет.
— А биология?
— Нравственность важней биологии для человеческого общества. Она, как система поведения, организует и направляет биологию. Когда биология, экономика, политика затаптывают нравственность в асфальт, создается обстановка для гибели всего самого прекрасного в мире людей и природы.
— Да что обо мне-то?
— Повелением САМОГО фиксировался почти каждый шаг вашего обучения и доводился до всего народа.
— Вы, вы… вы обманщик!
— Обманывает гиена собственный куцый хвост.
— Что конкретно?
— Все. Момент побудки, пробежки, зарядки на физкультурных снарядах. В школах никто из учеников не переводится в другой класс, если не ответит на дюжину тестов из вашего курсантского быта.
— Например?
— За сколько секунд вы пришиваете подворотничок?
— За сколько?
— За семь секунд. Каким ремеслом занимаетесь в часы досуга?
— Каким?
— Ремеслом горного племени быху. Вы создаете из окаменелостей миниатюрные панно.
— Зачем обо мне? Расхищение народного времени, ей богу. Нам показывают фильмы о деятельности Болт Бух Грея. Необходимо так необходимо. Он — держправитель, председатель комитета дипломатов, президент академии наук, лидер партии фермеров, патрон объединения боевых подростков, арбитр общества сверхдальних связей имени САМОГО.
— Одна мето́да. Я вас к ней подбуксировал. К сути швартуйтесь сами.
— Ладно. Могу я пригласить в санаторий Фэйхоа?
— Передавать просьбы больных у меня права нет.
— Тогда скажите, как связаться с Болт Бух Греем?
— Кто знает?..
— Что с Фэйхоа произошло за пять лет?
— Судьбы дворцовых женщин вуалируются. Был слух: она отпросилась из дворца, работала на штамповочном заводе. Кстати, работала с вашей матерью Каской. Позже что-то случилось у нее с ладонями. Кажется, обожгло электричеством. Болт Бух Грей вернул ее во дворец. Теперь фаворитка номер один. Не советую искать встречи.
— У меня право как у посвященца.
— Право не означает права.
— Не смейте клеветать на Самию.
— Господин Курнопай, нельзя оклеветать социальное устройство, где нравственность сделали предметом потребления. («Что я говорю?!»)
— Натуральная завиральность, мистер Миляга.
— Ее сделали явлением потребления: продают, покупают, вознаграждают. Вас будут, по выражению современных служак, менеджеров и госклерков, заводить в верха. Вас и включили в институт посвятителей, весьма немногочисленный. На миллионы девушек и женщин — несколько тысяч мужчин. До прихода Сержантитета к власти в Самии был единственный гарем — у Главного Правителя. Теперь страна превращена в гарем, где остальные мужчины своего рода евнухи, хотя не стерилизованные. Но стерилизация для большинства из них не за горами. Сексуальная энергия подобна ядерной. Сейчас почти каждый мужчина вроде атомного реактора плоти, только его энергия направляется на трудовые нагрузки, чрезмерные, на служебные… Работа не исчерпывает до полного исхода влечение мужчины к женщине. Дисциплинарный страх и кое-какие суррогаты разряжают остатки полового потенциала. Правда, почин положен: позавчера вспыхнул сексуальный бунт среди докеров. Бунт подавили с моря и воздуха.
— А вы, мистер доктор, участвуете в посвятительстве?
— Соучаствую.
— Конкретно?
— Посвятительство — преступление. Косвенно я обслуживаю его. Оно совершается и в нашем санатории. Что гнусней, я ввожу неофитов, подобных вам, в курс: сопровождаю в храм Солнца, назначаю возбудительные уколы впадающим в импотенцию посвятителям, спасаю девочек от гибели…
— А вы ловко оправдываете свою подлость и тем самым выставляетесь в качестве страдающего благородства.
— Вон как… Подлец тот, кто вынужден покорствовать под страхом отправки в концлагерь или на смерть, и отнюдь не тот, кто творит насилие?
— Простите, вместе с тем…
— «Вместе с тем»… Ваш кумир Болт Бух Грей — посвятитель номер один. И вы, особенно вы, в ближайшее время будете обслуживать его, с позволения сказать, деяния.
— Ему антисонин колют?
— У него персональный врач.
— Наверняка он не колется антисонином. Антисонин отключает разум. Не сумел бы руководить.
— Чтоб руководить Самией, разума не нужно. Умишка достаточно. Народ в трудрезервациях. Чувство чести истреблено. Отсутствие самоанализа. Вера в фальшивые ценности.
— И все-таки у вас страсть к напраслине. Введут вас в институт посвятителей, еще подкинут привилегий, и вы прекратите вякать.
Миляга хмуро покинул Курнопая. Он перелез через парапет, спрыгнул на октаэдр и стал скакать по железобетонным призмам, смягчающим удары шторма по набережной. Миляга двигался навстречу океану.
«Худо! — встревожился Курнопай. — Всегда и везде находятся страдальцы о человеческих несовершенствах. Надо беречь. Прихлынет океан к призмам, сбросит, расшибет. Уберечь! Без социальных иммунологов общество погибнет от эпидемий духа».
Курнопай спохватился, что непростительно медлит. Когда вспрыгивал на парапет, увидел среди тиссов монаха милосердия. Монах бежал, семафоря ему. Он просил Курнопая во имя САМОГО остановиться, поспешить к вилле. Важный зов так обрадовал Курнопая, что он чуть не помчался к монаху милосердия, но впечатление сомнительности, оставленное в душе этим человеком, победило в нем, и он спрыгнул на ближайший октаэдр.
Сшибленный прибоем, Миляга пробовал выплыть за пределы призм, проныривая под волнами, но его сносило к набережной, норовя ударить о железобетон, хлопнуть, сломать.
…Из воды Курнопай выхватил врача за руку и, перемахивая с призмы на призму, передергивал его за собой. Он не ослабел, пока не выволок на набережную задыхающегося Милягу. Тут устало сел на парапет и вдруг увидел неподалеку белый автомобиль, распластанный над родонитом.
В автомобиле находился главсерж Болт Бух Грей. Облокотись на руль, он благорасположенно глядел на Курнопая. Девочки в лиловом, полулежа на спинках откидных кресел, наблюдали за ним взором восторга. Он встряхнулся, с одежды слетели брызги, было собрался по всей форме поприветствовать главнокомандующего, однако смешался от хохотка девочек, по-свойски безжалостного, хотя и приятного на слух.
Ускользнул автомобиль за красное от цветов дерево ашоки, прежде чем Курнопай преодолел смущение. Миляга еще не отдышался, сидя на парапете; Курнопай, расстроенный, трюхнулся рядом с ним и рассмотрел всех троих в автомобиле такими, какими их отсняла и проявила его память. Болт Бух Грей: дружеское приятие в вальяжной позе, утолщенные «рога» бакенбардов, до лоска плотно политые лаком, хлопковая рубашка апаш, на ней, над областью сердца, вышитый гладью новый герб державы: то ли плод ананаса, то ли шишковатая граната «лимонка», по фону ананаса-«лимонки» — платиновый абрис барса, который приготовился либо к защите, либо к нападению, в этом абрисе три бриллиантовых звездочки, под крайней слева — силуэт лошадиной головы. Символика герба не разъяснялась установлением Сержантитета и даже военной прессой, имеющей обыкновение разжевывать свежатину армейских и государственных фактов. Но им-то, в училище, раскавычили гербическое иносказание: мы — страна экзотических плодов и убойных вооружений, мы способны и обороняться, и нападать, нашу цивилизацию определяет САМ, прилетевший на землю из галактики, расположенной за туманностью Лошадиная Голова под первой слева звездой в поясе Ориона.
Меж девочками в лиловом, воспринятыми как двойняшки, он увидел различие: возлежавшая ближе к нему была конопатая, волосы красной меди, плетение косичек пересекало голову, как у африканок, от лба до затылка, в рыженькую шею прямо-таки впилось ожерелье из когтей медведя; у той, что возлежала за нею, были жаркие щеки, бусы кровавого янтаря, тесно сведенные острые груди, из-за чего шелк платьица врезался ей в подмышки. Она бойко повернулась на бочок, едва автомобиль начал ускользать, старалась подробней разглядеть Курнопая. Пристальность девочки заставила Курнопая зыркнуть вослед автомобилю.
Лишь теперь он сообразил, почему возникал бегучий черный крап по краю отъезжающего автомобиля: отодвигались полоски корпуса, открывая дула пистолет-автоматов.
Прежде чем машина исчезла за ашокой, Курнопай успел заметить, как возник и пропал дырчатый кант вокруг крышки багажника.
Среди тиссов появился монах милосердия. Курнопаю приказано без промедления явиться на виллу и, одевшись в парадную форму, ждать у крыльца.
Заподозрил Миляга, что монах милосердия не случайно кричит издали: сейчас же скроется, поэтому жестами подзывал монаха, чтобы он взял медицинский чемоданчик. Был уверен, что монах не подойдет, тем не менее подавал знаки, да еще умоляющие. Он нуждался в помощи, но подзывал в надежде уяснить: донесет монах или отмолчится.
Монах милосердия скрылся. К телесному изнурению Миляги прибавилась немощь воли, вызываемая неотвратимостью. Без «дипломата», взять который не хватало сил, Миляга едва тащился, хотя Курнопай чуть ли не нес его, крепко обхватив за туловище и поддерживая за руку, переброшенную через шею.
Чемоданчик остался на родонитовой набережной. Миляга тревожился панически, мало-помалу впадая в бредовое состояние. По обрывкам фраз, их он выбалтывал пугливым шепотом, можно было догадаться, что главврач видит себя в тюремной камере во время исповеди, пытаясь внушить тому, кого называет святым отцом, что единственная инъекция, не сделанная больному, не могла вызвать гнев САМОГО, ибо САМ, судя по его духовной природе, не карает смертью даже за измену державе.
Хлипкость докторского характера была отвратительна Курнопаю, однако он побежал за чемоданчиком, положив Милягу под ливанским кедром: ради него ведь, Курнопая, Миляга пустился на преступный служебный риск.
Пустынна родонитовая набережная. И «дипломат» исчез.
От огорчения Курнопай позаглядывал за парапет, словно оттуда мог закинуть сюда свои щупальца кальмар и утянуть чемоданчик в воду.
Надо было торопиться. Когда еще доплетешься с Милягой? Он пустился бежать, но его обогнал белый автомобиль и загородил путь. За рулем, смеясь и покачиваясь, сидела белокожая девочка. Ожерелье кровавого янтаря летало по острой, теперь обтянутой свитером груди. Голову, надвинутый на челку, чтоб не кочевряжились кудри, облегал золотой обод, на нем мерцали рубины.
— Любимца САМОГО и главсержа Болт Бух Грея, внука Лемурихи, посвященца Фэйхоа, сына Каски и Чернозуба приветствует Кива Ава Чел — студентка колледжа военных переводчиков, дочь члена Сержантитета по вопросам электроники Аво Леча Чел и членши правительства по проблемам посвящения Авы Лечи Чел.
Лицо Кивы Авы Чел сияло давно прижившимся восхищением. В училище термитчиков каждый день проводился час мимикрии. Приезжали актеры, имевшие звания светских офицеров: они вырабатывали у курсантов доблестную строгость, задорный восторг, улыбку преданности, маски агрессивности и несгибаемости для устрашения противника, притворства и дураковатого наива на случай плена или выведывания тайн у иностранцев.
На восхищенную девочкину маску он ответил ровным, по терминологии мимикрологов, неподкупным приветствием (маска неподкупности лепилась и на случай вербовки в шпионы):
— Салют, Кива.
В специальной школе посвященок она отлично усвоила нормы поведения с посвятителем. Не уставать восхищаться им. Для мужчины, поскольку он страдает склонностью к самобоготворению, прежде всего важно поклонение, а не красота посвященки, не богатство, не ум; если он клюнул на восхищение, то уместно переходить к сближению, будто знает его тысячу лет, принимает таким, каков он есть, и это позволит с первой же минуты осуществлять диктат методом нежности.
Кива Ава Чел решила, что заход, основанный на расстилающемся восхищении, удался. С ласковой повелительностью она позвала Курнопая в машину:
— Ку, быстренько садись рядышком в машину. Мигом умчимся. Несказанный Бэ Бэ Гэ ждет.
Свойскую покровительственность обращения Курнопай не выносил даже со стороны главпеда училища термитников и сразу насупился, хотя перед ним была, наверно, безобидная девушка.
— Не могу, — угрюмо сказал он. — Плохо главному врачу. На автомобиле туда не проедешь. Сперва донесу до приемного корпуса…
Кива передразнила Курнопая, но, как отметил он про себя, маска на ее лице ничуть не смазалась.
— У термитчиков суровое воспитание, но и оно не может сделать черствым доброе сердце. Будь главсержем, наградила бы тебя орденом Смелости первой ступени. Главврачу плохо — уважительная причина. Но нельзя думать ни о ком, когда призывает светозарный Бэ Бэ Гэ.
— Не могу. Будет подло.
— Гу, бу-бу… Ты, доблестный термитчик, не знаком с дворцовой этикой. Эх, ты, бу, гу-гу. Пять лет ожидал главсерж этого дня. И еще кое-что. Головорезу номер один прочат огромное будущее. Погубишь блестящую карьеру.
— Погублю так погублю.
— Ку, тебе не простит САМ, главсерж и народ. Садись рядышком.
В сердцах Курнопай сел в автомобиль, да так хватил дверцей, что произвел нарушение в системе, управляющей стрельбой. С минуту строчили пистолет-автоматы, срезали деревья, кусты, пробивали навылет каменный парапет.
Как он дрожал, Курнопай, что кто-то нечаянно застрелен, пока ехали от набережной к шоссе; там никто не обнаружился, и у него осталась тревога только о Миляге. После, на крутом уклоне, с волос Кивы соскользнул золотой обруч. Больно взволновался Курнопай из-за предположения, не она ли предназначена ему в посвященки. Давеча, увидев рядом с медноголовой девочкой Киву, он еще ведать не ведал о том, но как бы перенес ее образ к себе в душу, а ту, конопатенькую, пусть она картинна до соблазна, оставил лишь в запасниках созерцательной памяти. Жестоко наше зрение, самовлюбленно, без спроса отбирает тех, кто ему понравился, словно мы, кому оно принадлежит, одни вольны и полномочны выделять, будто от отобранных да отсеянных нами ничто не зависит.
Страдание Курнопая усилилось и разветвилось при мысли, что он порочен, ибо беспрепятственно пропустил к себе в душу, где обитала единственная Фэйхоа, жаркощекую Киву Аву Чел. Попробовал защитить себя оправданием: допустил-де из-за мужского одиночества, длившегося целых пять лет; если бы мальчишкой он не вкусил Фэйхоа, то и не манило бы к ней, и не воплотилась бы теперь в чувства девушка, с которой и слова-то не сказал. Но он сразу же отрекся от самооправдательной уловки, расценив ее как предательство Фэйхоа, и холодно покинул автомобиль, и не оглянулся на портике виллы, хотя Кива Ава Чел благодарила судьбу на горькой нотке обиды перед плачем за то, что ей довелось ехать в одном автомобиле с Курнопаем, любимцем САМОГО и держправителя Болт Бух Грея, посвященцем фаворитки номер один Фэйхоа…
Курнопая ожидали два «штангиста» — стволы шей, бугры мышц, тугие наколенники. «Штангисты» оказались банщиками, массажистами, педикюрщиками, парикмахерами. Парили вересковыми вениками в бане, рубленной из аризонского кипариса, сталкивали в ключевой бассейн, снова парили и сталкивали, каждый вершок тела прокрутили, пооттягивали, промяли, лицо побрили, навили кудри на голове, покрасили фиолетовым лаком ногти.
Одевали его гвардейцы Сержантитета. Ко дворцу препроводили десантники в защитных кедах, в комбинезонах из ткани, меняющей окраску под цвет растительности, валунов, строений, в маскировочных шапочках из такой же ткани, над которыми покачивались желтые впрозелень попугайчики из поролона.
Только теперь стукнуло в башку, что сегодня, куда бы он ни направлялся, над травой, среди листвы деревьев и кустов возникали синтетические попугайчики.
Возле дворцового эскалатора Курнопая встретил и приобнял прежний помощник Болт Бух Грея. Это он в день посвящения знакомил его с Фэйхоа. Приветливость помощника, как солнце в полдень, излучала странную энергию: ты был у нее на невидимой привязи, от которой хотелось освободиться.
«Сановник-демократ», — неожиданно подумалось Курнопаю. Он удивился, что так ехидно подумалось, и отметил, что нос помощника закрючился за счет раздавшихся щек, а бакенбарды распушились и выкруглились.
— Державный правитель ждет своего Курнопая, исходя нетерпением, — сказал ему помощник как о ком-то другом и даванул его подбородок. — Ух, бутуз! С цепочкой высококастовых родился! Курнопая, понимаешь ли, ждет Бэ Бэ Гэ. Но Курнопай пренебрегает нетерпением благодетеля Самии. Так или не так?
— Никак нет, господин державный сержант.
— Неужто Курнопай глух к неофициальному общению? С Курнопаем говорит не старший чином — единомышленник. Не правда ли, давно позабытое нетерпение означает своего рода преодоление пресыщенности?
— Не могу знать, господин держсержант.
Курнопай придуривался оболваненным службистом, чтобы отсечь опасное панибратство, а также лукавство, оно не обещало приязни. В училище он обострил чутье на подвохи, обычно возникавшие по зависти. В помощнике проглянул соперник: боится потерять доверительное, на грани интимности влияние на властелина.
Улыбается сержант, теребит крученую, из золота бахрому на шортах, но все еще не верит, будто перед ним Курнопай, ум которого, как огнестрельная плазма, залит в патрон и способен выполнять лишь испепеление.
На свет точечных излучателей помощник провел Курнопая по сумрачным коридорам и распахнул дверь к Болт Бух Грею, поглядел в глаза головореза номер один и, должно быть, понял, что он притворялся.
Сверловка взглядом в центр зрачков, по мнению мимикрологов, давала ошеломительные результаты по вызнаванию скрытых состояний человека.
Прежде чем пропустить Курнопая в помещение, помощник прибегнул к сверловке взглядом, и Курнопай не успел забронировать притворство и ощутил резь в глазах и слезы.
— Господин главнокомандующий, по вашему распоряжению… — начал докладывать он, еще не видя Болт Бух Грея, и замолчал от сладострастного шепота:
— Быстрей ко мне, славный Курнопай.
Он пошел на шепот, протирая глаза кулаками, различил подле экранно-огромного окна фигурку Болт Бух Грея, просвечивающую сквозь шелковый халат.
Он-то пульсировал, что придется пережить минуты властительского неудовольствия за несвоевременную явку, чтобы потом попросить держправа послать медиков за впавшим в беспамятство Милягой. Едва приблизился к окну, объяснилось, что́ так забавляло Болт Бух Грея. Над клумбами, они точь-в-точь передавали новый герб Самии, носились три сороки: нижняя летала игриво дразняще, пыталась пробиться вверх, но ее, отшибая друг друга, трещали перья и сыпался пух, стремились осадить верхние — самцы. Когда одному из них удавалось шарахнуть соперника, он накрывал сороку с такой быстротой и ловкостью, приохватывая крыльями с боков, что она врезалась в цветы, но это не нарушало его неотступности: клюв вцепливался в перышки головы, раздавалось взрывное шурханье хвостов и крыльев, и происходил взлет торжественных птиц, на которых уже пикировал другой самец. Теперь он голубел то ли от воздушного электричества, то ли из-за яростного лоска оперенья.
Клумбовый герб лежал в обводе цветущих сиреневыми дугами кустов будлеи. Невезучий самец, остервенев, таранил удачливого самца, выбил чуть ли не весь его радужный хвост, с лёта вбил сороку в черные тюльпаны, рассаженные под вид туманности Лошадиная Голова. Все трое исчезли за атласскими кедрами.
К тому, что сороки отметились в черных тюльпанах, под которыми снежно искрились звездчатки, Болт Бух Грей отнесся как к предзнаменованию длительного счастья. Было ясно — его радостный вывод связан с космической родиной САМОГО, однако Курнопай обратился к нему с вопросом, почему им сделан такой вывод. И главсерж под большим государственным секретом открылся, что САМ на долгое время отрубался, — невозможно было вступать с ним в верховную взаимосвязь: ни в эпистолярную, ни в телефонную, ни в лазерную, ни в телепатическую. В том, что сороки потоптались, имеется одобрительный знак САМОГО по отношению к курсу на прогресс труда и народного генофонда. Тебе не все известно о фундаменте нашего курса. Разумеется, он зиждется на указаниях САМОГО. Но его указания не исключают творческого подхода. Он в начале нашего правления в числе целого ряда мудрейших телепатем передал телепатему следующего содержания: «Я даю вам духовный чертеж. Здание державы, возводимое по нему, предполагает ваш огромный вклад в фундамент, в корпус и содержание корпуса». Курс на прогресс труда и народного генофонда, развиваемый нами, одобренный ИМ через соро́к, состоит в следующем: в разрушении чувства семейного родства.
Вздох скорбного недоумения вырвался из груди Курнопая. Ожидающий возвращения сорок, Болт Бух Грей положил ему ладонь на плечо. От пальцев главсержа осталось впечатление металлических.
— Чувство родства тормозит развитие человечества, отражается на благоденствии обществ. Жизнь семьи, как жизнь одноклеточного организма, примитивна. В эпоху, когда царствует чрезвычайно сложное создание бога и космоса — человек, одноклеточная жизнь — атавизм. Ее надо смести. Жизнь человечества и обществ должна быть и будет массовидной.
— Господин главнокомандующий, разрешите возразить?
— Что за церемонии, драгоценный мой Курнопай. Воинских церемоний меж нами быть не должно.
— Без одноклеточных погибнут многие организмы, нарушится обмен в природе, люди пострадают. Разрушение семьи закончится разрушением общества. Ведь общество вроде мозга: миллионы нейронов живут в едином взаимодействии. Вместе с тем распад одного нейрона приводит зачастую к распаду всего мозга.
— Красиво, но в порядке сопоставления. Применительно к переустройству общества эта красивая логика устарела. Жалость не имеет отношения к революционным преобразованиям.
Курнопай испытывал знобящую робость под напором убежденности Болт Бух Грея. Чтобы не сникнуть — почему-то его сердце начало щемить от тоски по матери, по бабушке и отцу, — он пытался организовать маску бодрости, но чувствовал губами, глазами, щеками, что это ему не удается.
Губы и щеки всегда были послушней, чем глаза. И сейчас бы он придал им потребную мину, но не давалось выражение глаз. Он видел, будто в зеркале, в своем воображении, что в его зрачках все заметней темнеет тоска. Столбиками боли, какой-то виноватой боли, тоска еще и стыла в зрачках. И надо же было в этот момент, когда он силился совладать с выражением глаз, надо ж было главсержу поймать его беспомощность. Он ожидал, что недовольство взломает мыслительную ровнь лица властителя, и признательно растаял, едва главсерж огладил его плечо и посетовал:
— Ты думаешь, я не скучаю о родителях, о бабке с дедом, о сестрах и братьях? До невозможности! Сотни тысяч лет складывались семейные чувства. Попробуй разорви, разруби, пережги. Не-ет, нелегко. Сострадаю тебе. Укрепляю свою веру в тебя. Ты головорез, и ты же чуткий член вашей семьи и нашего отечества. Поощряю. Молодец. Пять лет я ждал окончания тобой училища, пять лет следил за тобой и вел тебя. В порядке исключения нарушил свой физический режим, дабы быстрей лицезреть тебя. Подожди, пожалуйста, позанимаюсь гимнастикой. Между прочим, я сделал языковое открытие: «гимн» — корень слова «гимнастика». «Гимн» — обобщение всего жизнерадостного, чем является наша страна. Гимнастика творит оптимизм тела.
Простота поведения, мысли преобразователя, чуждая неверия привязанность Болт Бух Грея к нему, чем неистово отличалась лишь одна бабушка Лемуриха — все это очаровало Курнопая. Недавние соображения воспринимались как отступничество от совершенного ритма воинских забот, а критические обобщения Миляги, касавшиеся духовного удушья, всеподтачивающей лжи, закона отступления сознания, как навет, направленный на подрыв Сержантитета. Теперь уж Курнопаю не хотелось просить Болт Бух Грея, чтобы подняли Милягу. Прозорливо подумал он о главвраче в первый день: «Из лагеря неприятелей». Не подвела интуиция. Втянулся он, Курнопай, в бессонный режим. Кто-кто, а врач не мог не понимать, что такое сбой ритма. Постоянство ритмов — закон Вселенной, в основе которого покоятся гармония и равновесие. Миляга нарушил гармонию и равновесие его организма. Это и есть вражеский происк. Не опекать его, Курнопая, презирать должен грандиозный держправ Болт Бух Грей.
Чуток, ох и чуток Болт Бух Грей: приостановил разговор в момент, когда душа созрела для откровения, чему редко предаешься с самим собой. Зачем? А! Невероятный психолог! Если, конечно, не поступает по телепатическому внушению САМОГО. САМ-то, пожалуй, обладает способностью всеведения, всеслышания, всевидения, всевоздействия. Может, нет? Ведь он не бог? Как выяснить? Наверно, изначально был воспринят в качестве бога какой-нибудь скиталец Вселенной, угодивший на землю. У нас ведь так: кто на вершок выделяется над горсткой людей, о том и судачат как о великане. Отсюда и вероятность для явленного из других пределов — немного больше знает и чужой, а чужой всегда притягательней, мудрей, чем свой, — быть обожествленным.
Пошел к турнику Болт Бух Грей неспроста. Психолог, независимо от САМОГО, дьявольский психолог, сопоставимый разве что с Гансом Магмейстером, отлучился к перекладине именно в тот момент, когда мысли прут океанским накатом. Бабушка Лемуриха? Бабушку мама Каска не однажды корила за преклонение перед Главным Правителем. Не напрасно ли? Вершил судьбу страны, наверняка незауряден. Он, Курнопай, как отец с матерью, не хотел бы ни перед кем преклоняться, ан это выше его сил. В нем непроизвольно создалось к Болт Бух Грею чувство, сравнимое своим жаром с загадочным обезволиванием, зовущимся любовью. Увы, как не преклоняться перед Болт Бух Греем… Психолог глобального проникновения — вот кто становится главправом, если он с предельной ясностью обозначает хитросплетения державных целей, потребностей, противоречий, если он столь совершенен телесно! Ба, как легко он крутит «солнце»! Замер в зените. Серебряная вертикаль. Соскальзывает вниз, будто ладони разжались. Убьется! О! Поймался подколенями за перекладину. Вымахнул в горизонтальное положение. Казалось, что вероятен только рядовой соскок, а он, неожиданным сжимом до шаровидности, вытянул на соскок с двойным переворотом.
Вопреки предписаниям сдерживаться от повышенной эмоциональности (военные — не болельщики футбола), Курнопай бросился к Болт Бух Грею, на бегу крича о том, что его соскок необходимо зарегистрировать в качестве оригинального рекорда мировой гимнастики. Движением руки, похожим на то, которым отстраняют от лица ветку, Болт Бух Грей как бы отодвинул восторг Курнопая. Курнопай сник устыдясь. Болт Бух Грей, прикладывая ладони к магнезии, потихоньку обронил, что соскок получился случайно: из тщеславной потребности отличиться перед кумиром.
Курнопай заозирался, предположив, что не заметил кого-то третьего в зале.
— Кроме нас, здесь никого, — сказал Болт Бух Грей. — Мой кумир — вы. Я не помышлял о гимнастике. Ваши успехи увлекли меня. В пластике моего тела отразилась ваша пластика. Работу на коне начинаю с правой ноги, круговые движения — слева направо. Из подражателя я стал соперником. Но я соперник не ради торжества. Для самосовершенствования и общих достижений.
— Вы работаете отточенней. У вас непревзойденная фактура тела.
— Полноте, дорогой Курнопай. Вы завораживаетесь не гимнастом Болт Бух Греем. Вас завораживает власть, которой я облечен САМИМ, народом, вооруженными силами. Правителей, держадминистраторов, стыдно констатировать это, любят сильней, чем жен и детей, любовников и возлюбленных, посвятителей и посвященок. Еще стыдней констатировать, что любовь к правителям и держадминистраторам исчезает в миг их падения. Главного Правителя обожали до чрезвычайности. Ваша бабушка, например, балдела от восторга Черным Лебедем. Нет, надо отдать ей должное, она сохраняет к Черному Лебедю чувство обожания, но в траур не погрузилась. Что осталось теперь от народного умиления всем тем, что совершал Главный Правитель? Пустота. Не поддавайтесь завораживающему влиянию моей власти. Вы гимнаст лучше.
— Осмелюсь возразить, господин главсерж.
— Ваша похвала для меня драгоценна. Вы не лжете, не льстите, не лукавите. Но, к несчастью, лесть проявляется самопроизвольно и в поступках людей высокой чести. Да, не обольщайтесь. Скажу вам доверительно, что я первый правитель, исключающий из близкого окружения льстецов. Льстец обычно — посредственность или бездарь и, что опасней, скрытый враг. Предпочитаю окружать себя людьми независимыми, кто ищет недочеты и просчеты в моем правлении, кто бесстрашно вскрывает их, кому не занимать сомнений по поводу нами открытого и содеянного.
Ах, неотразим главсерж! Какие по-фермерски здравые представления. При его-то высоте даже мнительность отсутствует. Она, почти всегда она толкает и очень умного властелина на губительное самозавышение.
Тут, вопреки очарованию Болт Бух Греем, Курнопай вспомнил главного врача, о помощи которому совсем забыл.
Миляга действовал наудалую, отважась поступиться жизнью, чтобы открыть ему возможность мыслить. А он-то за вниманьем повелителя пренебрег обычной человеческой заботой и не исполнен благодарности.
А наваждение главсержа было гипнотичным, и Курнопай прельстился вопросом, весьма желанным, как примнилось Болт Бух Грею.
— Что почерпнули вы на всех своих постах: главсержа, правителя державы и тэ дэ.
— Имеете в виду открытие каких-то истин?
— Да.
— Я сделал жуткое открытие. Ни с кем я не делился. Страшна несвоевременность идей. Мы взялись за идеи, к чему верха, народ, армейцы не подготовлены. Вы, полагаю, к ним готовы. Я вам предназначаю место в верхнем эшелоне власти наигромадное. Понятно, надо отличиться в событиях перед САМИМ, передо мной, перед Сержантитетом и перед фермерством, подростками и женским полом. Мгновенье исторично! У слабого захватит дух.
— Я верую, мой славный повелитель.
— Кричат столетьями о равенстве, а равенство людей осуществить нельзя.
— Неужели? — вскрикнул Курнопа-Курнопай, словно термокапля угодила ему в сердце. — Есть ведь страны…
— Неодинаковость ума, телесной стати, пола, антропоморфных свойств, судеб народных и несходство географий, государств, обычаев бытейских — они и создают различие и потому — неравенство.
— Логично. Вместе с тем…
— И дальше. Иллюзия о равенстве неистребима. Впервые к ней прибегнул тот державный муж, кто осознал, что упоительность мечты всемирной обходится без упоенья. Глотком напиться трудно. Жажду он едва пригасит. Обман? Выход. Всех надо напоить. На всех воды не хватит. А если хватит… И людям все-таки желателен обман. В противном случае для них потеря интереса к жизни. А коль не так, они стремятся гибнуть. Сменяемость режимов создает иллюзию святого освеженья и к равенству гигантского рывка. Рывки случаются, за ними, как правило, откаты. Все видят, что возврат то в том, то в этом, а им внушают, что возврата нет. Обманутых обманы уязвляют. Признать обман? Нет, лучше верить, утешаясь заблужденьем, а где и безнадегой.
Откаты, они и для того, чтоб наживлять извечные приманки: свободу, равенство, единство. Правитель без идей, иллюзией увитых, всегда свои начала утверждал. Я не смогу кривить с народом. Я заявлю, что равенство — неправда. Пока что для него так мало обстоятельств и нефальшивых предпосылок. И если мне удастся вживить в сознанье эту честность, она создаст фундамент для необманного распределения благ. То справедливо, чего не прикрывает ложь. К чему еще стремлюсь? Безумие и хаос — законы негатива существования людей — имеют минусы и плюсы. Их плюсовой заряд — настырно возбуждать борьбу за ум, порядок, созиданье. И минус: содействовать стихии чувств, потребностей, капризов… Вы помните, Курнопа-Курнопай, в день посвящения просили вернуть с заводов мать с отцом?
— Так точно.
— Я не вернул. Для торжества рассудка над неуправляемостью быта и страстей вне пользы гармоничной во имя общества и цельности его. Я обуздал в себе слепое слабодушие. Поддайся я эмоциям, была сейчас бы топью джунглей держава наша. Без сна годами наидовольны фермеры, подростки, клерки, рабочие. Их труд помог казне отдать долги кабальные банкирам и богатым государствам. Промышленник доволен тоже, технократ, помещик…
— Долги отдали. Чем еще довольны?
— Все сыты в Самии. Как не бывало, все при деле, всем известны цели.
— Кто грубым хлебом сыт, а кто изысканною пищей.
— Где усредняют потребленье, там сглажена полярность. Как запад и восток, она, увы, пока в наличье.
— И при этом сдвиге вы говорите, что равенство недостижимо?
— Что одинаково, не значит равно. Да, сытость важная статья довольства. Но сытость лишь вульгарная потребность.
— В любые времена истории в начале чаяний стояло желание до сытости кормить народы. И равенство отождествлялось с нормальным дележом еды и, конечно, с подобьем права большинства при выборе властей.
— Проблему равенства сминает совокупность. Вы забываете, Курнопа-Курнопай, что люди неодинаковы талантом, обликом, умом, характером, везением, чтобы они счастливо проявились. Дано ли нам когда-то соразмерить потребленье красоты, девичьей для мужчин, мужской для женщин, и красоты небесной, океанской, птичьей, и красоты кино, портретов живописных, церквей и музыки, и украшений, и аппаратов летных и глубинных? В этом я не предвижу равенства и не предчувствую. Метагалактику достигни или антивселенную…
— И все же?
— Что все же?
— Оно возможно.
— На словах. Фальшь словоизвержений затопила землю. Как мы еще живем, не захлебнулись в ней? Мы думаем, что землю загрязняют яды, газы, пыль, гниющие отходы… А землю загрязняют, нас самих, еще страшнее, нечистоты духа. Во что я верю? Правда отфильтрует дух. И правда же спасет возможность человечьих отношений и с неизбежностью спасет Природу, мой славный Курнопай!..
Выехали в темноте, но все еще не совсем полной из-за магматически зеленого западного небосклона. Мчались как сквозь невидимое пламя. Создавалось впечатление, что солнечный жар, которым пропитались воздух, песок, горы, дорога, растения, сгущается под влиянием атмосферного холода, покамест не смешиваясь с ним. Дышать было страшно. К ноздрям присасывалась палящая боль. Ноздри ширились, будто отверстия, выжигаемые струей плазмы в металле. И еле хватало воли, чтобы не заслониться рукавом, не завопить от гибельной угрозы.
Поддерживало волю спокойствие главсержа, терпение Кивы Авы Чел и Лисички, ее рыжей подруги. Они, одетые в платьица красного гипюра, вертелись в креслах, уклоняясь от струй зноя, и, хотя боялись, что вспыхнет их ажурный наряд, ни разу не пискнули.
Нанесло прохладу. Автомобиль поднялся по длинному нагорью, нырнул под своды гледичий, стволы и ветки которых вплоть до перистых крон были покрыты зигзагами шипов. Болт Бух Грей обратил внимание девочек на шипы, неосторожное движение — и пропорешься, и на громадные, величины бананов, стручки.
Мигом голову Болт Бух Грея озарило замыслом выносить помилование тем приговоренным к смертной казни внутренним врагам, кто сумеет, не сломав и шипа, собрать на гледичиях корзину стручков.
Девочки, миновала опасность — не сгорели, радостно заерзали на сиденьях. Замысел гениален, недаром Бэ Бэ Гэ слывет самым добрым правителем отечества.
Польщенный властелин не заметил одухотворения в Курнопае, он рассердился на себя за то, что поставил впечатление Кивы и Лисички в зависимость от мнения Курнопая, и ему захотелось пренебречь похвалой девчонок:
— Наши посвященки милые, доброта — мизер без целесообразности.
Вчера, после разговора с Болт Бух Греем в гимнастическом зале, Курнопай, возвратись на виллу, все смятенней ловил себя на том, что в его душе прибывает упорство против мысли главсержа о неосуществимости равенства. Оспорить эту мысль ему желалось, но он не находил доводов, ни основанных на личном опыте, ни на истории человечества, которую вел в училище главпед. Он вспомнил лишь единственную реплику главпеда, скорее обмолвку, о стремлении к равенству на всех континентах, и то она была приправлена такой дозой презрения, что убивала всякое желание подумать о равенстве. Он пытался вспомнить и вспомнил о свойствах мирового чувства, доведенных до его ума в день посвящения голосом САМОГО. Курнопаю верилось, что мировое чувство должно вмещать в себя сущности равенства и неравенства наряду с отдельными сущностями, о которых САМ оповестил их с Фэйхоа: с истиной и ложью, явью и миражом, всеприятием и несогласием, всевосприимчивостью и неосязаемостью, зрением и слепотой, созиданием и распадом, движением и покоем, недостижимым и возможным.
Тогда же, упрямствуя, он посылал телепатемы Болт Бух Грею: «Коль есть неравенство, не может не быть равенства. У САМОГО нет истины без лжи, всеприятия без несогласия, созидания без распада, движения без покоя». Теперь, когда Болт Бух Грей изрек, что доброта — мизер без целесообразности, Курнопай сказал, что под воздействием вчерашних идей держправа, главнокомандующего и покровителя, вспомнил учение САМОГО о мировом чувстве. Намерением Курнопая было, заинтересовав Болт Бух Грея своим воспоминанием, подобраться к возражению и не только переубедить его, но и предотвратить отход властелина от философского учения САМОГО.
Болт Бух Грей даже остановил автомобиль и потянулся носом, оседланным инфрабинокуляром, к лицу Курнопая. Будучи смельчаком, Курнопай оторопел, не ведая о том, как отнесется главсерж к его воспоминанию.
«Неужто ревность? А, идиотский просчет!» — спохватился Курнопай и воспрянул духом. Болт Бух Грей обрадованно шибанул его по плечу и заорал с английскими вязкими раскатами:
— Браво, головорез номер один! Ты, стало быть, не забыл день посвящения и Пригожую Фэйхоа. Привет тебе от нее. Больше у Фэйхоа не было посвященцев. САМ, держава, Сержантитет и я, верховный жрец-посвятитель, ценим и вознаграждаем женщин, у которых сотни посвященцев. Но Фэйхоа мы прощаем за верность единственному посвященцу Курнопе-Курнопаю. Да-да, мой дорогой герой, память о посвятительнице весьма похвальна с точки зрения религии посвятительства. Но еще похвальней исповедовать учение САМОГО в свете ЕГО постулатов о МИРОВОМ РАЗУМЕ и МИРОВОМ ЧУВСТВЕ. И, конечно, выше всяких достоинств умение связывать предначертания САМОГО с моей державной философией.
Удачно получилось. Не пришлось подбираться к возражению Болт Бух Грею, а прямо выдать довод в пользу вероятности существования равенства в противоположность неравенству.
Болт Бух Грей не оскорбился и не был смущен.
— Не всему в мире имеются противоположности. САМ не имеет противоположности, туманность Лошадиная Голова, Солнце не имеют, я не имею как верховный жрец-посвятитель, ибо нет иного на Огнеглазой планете. Вы удивитесь. Чему? Слезы не имеют материальной противоположности. Свет не имеет. Тьма не противоположность свету. Она — не лучевое явление. Тьма выступает в двух ипостасях: в ипостаси тени и в ипостаси материи, удаленной от источников света. Не имеет противоположности и неравенство, ибо все, вся и всё в обозримом мире не совпадают, не повторяются, отличны друг от друга в чем-то, чем-либо, когда-либо. Жаль, пытливый Курнопай, вы не знакомы полностью с учением САМОГО. И не имеете права быть знакомы, только я имею право. И в этом смысле я тоже не имею противоположности. Тем самым и в этом демонстрирует себя категория неравенства как абсолютно единая, устойчиво существующая среди безграничного множества двуединых, противоположноединых категорий.
Смят, убежден, покорен был Курнопай. Кива Ава Чел и Лисичка обезумели от мудрости Болт Бух Грея. От восторга и согласия с ним роща гледичий наращивала на стволах колючки, и они, увеличась, посеребренные луной, походили на рога ветвистых оленей.
Поехали дальше. Внезапно, невзирая на то, что согласился с доказательствами Болт Бух Грея, Курнопай горестно подумал: «Потерпел поражение. Невежда».
И ему стало обидно за себя. Посредственность, ничего своего не придумает, раб чужих умопостроений.
Болт Бух Грей легко пользовался инфрабинокулярами. Курнопай, в отличие от него, даже в инфраочках не мог долго двигаться через тьму — резало в глазах, поташнивало. Потому, пожалуй, что привык в училище быть первым, он никому не завидовал. А тут позавидовал — и опять соскользнул в отчаяние: «Неужели приговорен покорствовать? Неужели всегда, как большинство людей, буду ходить вроде мула в упряжи: занузданный чужими идеями».
Еще бы мгновение, и Курнопай выпрыгнул бы из машины и пропал бы в вечности, ехали краем ущелья, но Болт Бух Грей чиркнул ладошкой по его погону, и, чтоб не унизить перед Кивой Авой Чел и Лисичкой, прошептал:
— Хватит сокрушаться. Впереди только счастье. Эгоизм — мизер без провидения грядущего. Следуй рядом со мной. В этом залог твоей самостоятельности и общего удовольствия народа Самии. Ценю сопротивляемость характера. Воистину головорез!
Психолог, дьявольский, нет, космический, может, божественный психолог. Ведь неизвестно, кто САМ: просто галактянин, вероучитель, бог? А может, он химеричен? Грех, грех… Пропадаю.
— Девочки осведомлены, — сказал Болт Бух Грей, закрепляя поворот в его настроении, — об очистительной сущности огня. Я специально провез тебя сквозь зону жара. Ты, дорогой мой герой, и девочки очистились жаром перед прибытием в храм Любви для совершения священного акта посвятительства. Я, как верховный жрец, не нуждаюсь в ритуале очищения: у меня степень вечно чистого существа.
— Почему? — невольно спросил Курнопай.
— Табу! — крикнули одновременно в ужасе и досаде Кива Ава Чел и Лисичка.
— Я прощаю любимца САМОГО и своего собственного, — промолвил Болт Бух Грей.
Едва стали спускаться в теплую горную котловину, где над лампионами с изогнутыми нефритовыми подставками взвивались разноцветные огни, Курнопай различил бурого камня скульптуры коней, запряженных цугом. Колеса о десять спиц, на каждой спице человеческие изображения, колоссальный храм-повозка, которая словно бы движется по земле в необозримость неба. Сооружение походило на индийский храм Солнца, который Курнопай видел на картинке в покоях Фэйхоа в день посвящения.
Вышли из автомобиля рядом с бассейном. Круговая оправа из базальта, в центре бассейна, тоже базальтовый, гриб, глянцевито-влажный от полировки. Воды в бассейне не было: сияло шлифованное дно, усыпанное лепестками лотоса.
Из-за нефритовых чаш выметнулись негритянки. Огромные губы алы — намазаны свежей кровью, курчавые головы, политые стеклянистым лаком, сделаны под базальтовый гриб, на животах глазастое изображение Солнца, прячущего ухмылку в клинышек бородки.
Будто ветром сорвало с Болт Бух Грея одежду — с неуловимой быстротой он был раздет негритянками. В танце, напоминающем раскрывание цветка, негритянки струились возле его обнаженной фигуры.
Появление негритянок, длинноногий бег, пересыпчивый блеск серебряных сеток на конических грудях, изображение Солнца, нарисованное сияющей белой краской — отозвались в душе Курнопая как мечтание о девушках в училищную пору, миражно-зримое, неотступное до беспамятства.
Но едва негритянки оголили Болт Бух Грея, Курнопая охватило страхом стыда. Он еле сдержался, чтобы не сбежать. Возникла готовность к защите и распалялась по мере того, как мелькали перед ним знаки соблазна — кровавые губы, белые круги с черным пятном в прогибах талий.
Если кинутся раздевать, будет бить негритянок, точно солдат противника, даже, может, яростней, потому что часто воюют невинные люди… Наверно, и они подневольны, но довели свою работу до радостно-алчной театральности, поэтому подлежат наказанию, после которого не больно-то засеменишь на пяточках, изобразишь ручками змей, перевиваемых млением.
Курнопай понапрасну тревожился. Так обычно встречают храмовые танцовщицы верховного жреца-посвятителя. На голову Болт Бух Грею надели ковчегообразный, черный, из мориона венец. Над венцом возвышалась пестовидная мачта из агата, в белых кольцевых узорах. Фигуру Болт Бух Грея окутали державным знаменем Самии: на зеленом, в фиолетовую клеточку шелковом полотнище темнела, пробиваемая лучами далеких звезд, туманность Лошадиная Голова.
Щеки Кивы Авы Чел пылали. Она сказала Курнопаю, что теперь ее с Лисичкой очередь вступать в действо посвящения.
Прежде чем шагнуть навстречу призывно вытянутым рукам Болт Бух Грея, она попросила Курнопая не ревновать.
Возникла, восходя с пламенем из нефритовых чаш, мелодия менуэта «Пробуждение орхидей». Негритянки полуприсели, соткнувшись коленями и лбами.
Курнопай был уверен, что ревность в нем не трепыхнется. И все-таки решил смотреть и слушать менуэт. Он мигом отвернулся от колен и лбов негритянок и увидел, что Болт Бух Грей, следуя движениями плосковатых пальцев за мелодией танца, расстегивает золотые кнопки на кофточке сомкнувшей веки Кивы Авы Чел.
Курнопай еще не успел отделаться от лопающих звуков разомкнутых кнопок (эти звуки застревали в ушах, как остья ячменя), Болт Бух Грей уже раздирал кнопки, соединяющие скорлупки бюстгальтера. Не понимая себя, Курнопай вращал мизинцами в ушах, словно и впрямь мог извлечь оттуда остья звуков.
Ладони главсержа занырнули за плечи Кивы Авы Чел, взметнулись, и на плиты огненной яшмы слетели кофточка и скорлупки бюстгальтера, и сразу, будто были невидимы, выкруглились на шее девочки огромными каплями крови янтарные бусы, и такая беззащитность примнилась ему в ее голубом бюсте, что Курнопай не выдержал и прорычал, как зверь, бессильный защитить добычу.
Вполне вероятно, через мгновение он прожег бы из плазмонагана сердце Болт Бух Грея, однако его укротили погрустневшие глаза властителя и его журящий тон:
— Жадничаешь. Второй раз жертвую тебе любимую девушку. Не подозревал неблагодарности.
Менуэт оборвался. Со стороны храма Солнца возникли удары тамтама. Негритянки, вторя округло-холодным ударам, зловеще зашептали:
— Смерть отступнику, сметь осупнику, меть тстутупнику, ит-ту-тус, с-со-тсы-са, тса-пса-тста.
Ритм тамтама стервенел, терял ударность, становился вращательным. Теперь негритянки только сэсэкали. Завихренный шепот наводил ужас, он выкрутился в образ смерча, приближавшегося по океану к пескам побережья. Он сдирал с волн кипящие гребни, с турбинным шелестом всасывал в себя, возносил по вихляющей оси к серым облакам.
Смерч упал в ничто. Негритянки попятились за нефритовые чаши, едва раздалось томное повеление Болт Бух Грея.
— Хватит.
Опять Курнопай пытался зажать в себе крик, рычал, увидев, как Болт Бух Грей раздернул кнопки на юбочке Кивы Авы Чел. Кисточкой, поднесенной ему седой скорбной женщиной (в ней с недоумением Курнопай узнал законную супругу покойного Главного Правителя), провел белый круг около пупка девочки, поцеловал ее между лопаток и отправил к Курнопаю, приказав подойти Лисичке.
Не ожидал Курнопай, что после того, что творилось в его присутствии, пускай это и считается началом ритуала посвящения, Кива Ава Чел встанет рядом с ним.
Взяла за руку, на миг приникла, поинтересовалась, красиво ли смотрелась. Он возмущенно хмыкнул, оттолкнул ее. Она разобиделась и не сумела скрыть своего состояния, хотя и пробовала соорудить маску беззаботности.
Так как он отвернулся от Болт Бух Грея и Лисички и не обращал внимания на слова законной супруги свергнутого президента, а она подчеркивала: лицезрение верховного жреца и Лисички для него обязательно, он может быть казнен за совершение кощунства, — Кива Ава Чел принялась плакать. В ее всхлипывание вплетался причет. Курнопай не дорожит великой благосклонностью Болт Бух Грея, что для головореза номер один гораздо опасней, чем для простого смертного, что при его славе и авторитете у народа непозволительно не поддерживать сексрелигиозные новшества революции сержантов и проявлять пренебрежение к ней, которая еще до поступления в колледж стала добиваться, чтобы Сержантитет назначил ее ему в посвященки; отец и мать, являясь членами правительства, запросто помогли бы ей получить в качестве посвятителя самого держправа Бэ Бэ Гэ, да и сам Бэ Бэ Гэ намекал на это, но она не изменила своему выбору.
В училище термитчиков до сознания Курнопая довели одобренный Сержантитетом гуманистический афоризм, выдвинутый Главным Правителем: «Жалость заслуживает бессердечности».
Слушая Киву Аву Чел, думал Курнопай о могучей выучке, пройденной курсантом, коей сам содействовал не хуже командпреподавателей.
«Мудра постановка воинского воспитания, — одобрил он прежнюю мысль, потому что хныкавшая Кива Ава Чел вдруг зарыдала. — И не только воинского — общественного. Добиваться безнравственности с помощью слез. Чуть ощутила в себе женщину, метит превратиться в нее. Натолкнулась на честное противодействие, обязательно надо осуществить собственную вымороченную волю».
Курнопай прекратил выступать перед самим собой: оборвалось рыдание Кивы Авы Чел.
— Чего замолкла? Реви дальше. Слезы по кулаку. От истинной обиды слезы тихонько текут.
— Вы не правы, мой посвятитель. Бэ Бэ Гэ покосился. Нельзя пропустить целования груди верховным жрецом. Повернитесь, не то — казнь!
— Ах, я растроган! Спасительница!
Кива Ава Чел притушила укоризну, замеченную Курнопаем в ее глазах. Явно, он был выделен ею среди юношей и мужчин, не исключая главсержа. Значит, все же ей нужно верить и, вероятно, подчиниться.
Поворачиваясь, Курнопай приспустил ресницы. Не различать, как Болт Бух Грей припаяется ненасытным ртом к Лисичкиной груди. Но увы, различил. Главсерж нарочно затягивал целование, его проверчивые очи были выпучены по направлению к ним с Кивой Авой Чел, которая, закрепляя слезную победу над Курнопаем, бормотала о том, что, приветствуя программное установление Сержантитета о трех прыжках: в БЕССОННОСТЬ, в БЕСКОРЫСТИЕ, в БЕСПЕЧАЛЬНОСТЬ, тем не менее не собирается соглашаться с идеей неомраченности, заключенной в третьем прыжке, — она слишком мало стоит по сравнению со священным ритуалом посвятительства.
Курнопай удивился вольнодумной бойкости Кивы Авы Чел. Она, видите ли, приветствует установление, протестуя одновременно против применения идеи третьего прыжка к нему и себе. Пускай, стало быть, БЕСПЕЧАЛЬНОСТЬ распространяется на других людей, только не на них. Может, установление о трех прыжках вообще не распространяется на предержащих лиц, их детей, домочадцев?
— Похоже, Ки, ты не получала дозу «Большого барьерного рифа»?
— Новый вид поощрения?
— Не знаешь дворцового жаргона.
— Все виды поощрений идут под кодовыми названиями.
Курнопай и Кива Ава Чел не успели заметить, как Болт Бух Грей очутился возле них.
— Если укол антисонина месячного действия — поощрение, тогда что такое поощрение? — кокетливо спросил он.
Они были ошеломлены тем, что Болт Бух Грей услышал их.
Его рассмешило выражение заученной очумелости на лицах. Он прыснул в кулак и подул туда, унимая веселый раж.
— У меня слух удода. Слышать сквозь землю, слышать сквозь молчание масс, но не слышать сквозь музыку — такое исключено.
Кива согласилась с верховным жрецом.
— Совершенно!
Курнопая всеслышащие уши Болт Бух Грея не обрадовали. Вспомнился бармен Хоккейная Клюшка, и он сказал:
— Совершенно до возмущения.
— О! — торжественно подтвердил Болт Бух Грей, но интонация, всплывшая из глубины его голоса, выдала: он был в смятении и вот спохватился о том, о чем догадывался раньше. Признание смягчает непроизвольное кощунство. Оно воспринято им как обещание Курнопая следовать церемониалу посвятительства. Изволит он, однако, сделать любимцу САМОГО, своему личному любимцу, посвященцу Фэйхоа первое строгое предупреждение не для проформы, а ради его спасения, ибо сексрелигия карает люто своих еретиков.
Болт Бух Грей распеленался из державного знамени. В нефритовых чашах приспустили пламя, и воздух наполнился зеленоватой сутемью. Призывные взвились звуки труб. От звуков, которые катились в алмазные дали Магеллановых Облаков, Курнопай встрепенулся, просиял лицом, будто горнисты играли сигнал побудки перед выступлением в ночной поход.
Болт Бух Грей встал между Лисичкой и Кивой Авой Чел, отмахнул знамя за голову, оно, попрядав, накрыло все три спины до пояса. Торжественным шагом он, Кива Ава Чел и Лисичка направились к базальтовому грибу, а Курнопай посетовал на то, что ему предстоит не поход, а муки им незнаемого посвящения. Однако он обрадовался: мощный духовой оркестр издал мужественный вскрик, и возникли грузные ритмы боевого марша «Выступаем — наша земля в опасности». Но, странно, Болт Бух Грей не отреагировал на марш, как предписывалось уставом, и продолжал расслабленный шаг. Когда посвященки упали перед базальтовым грибом на колени, он окутал их знаменем; едва вскинул знамя вверх, обнаружилось, что Кива Ава Чел и Лисичка обтекают базальт губами, щеками, шеями.
Курнопай запаниковал. Зачем все это? Есть ли в этом польза для Самии? А, чтоб извлекать наслаждения из власти над людьми. Но почему Кива с Лисичкой покорствуют обряду? Кивины родители входят в правительство. Не могли ж они навязать дочери… Вдруг могли? Ради сохранения власти. Уж он-то убедился в училище, что самое подлое из человеческих чувств — властеэгоизм. Уж он-то выявил: ничто не унижает личность до уровня одноклеточных, кроме командного произвола. Так что же это? Неужели все мы: девчонки, их родители, я — люди запутанного разума?
Играть патриотический марш в стыдный момент. Запутанный разум? Беспутство? Ах, осуществление прыжка в БЕСПЕЧАЛЬНОСТЬ.
Все здоровое, честное, высокое, что перекрывалось в сознании Курнопая блокадами антисонина и училищными предписаниями, вдруг захотело освободиться. Когда вспышка в мире сознания разрешается в нем самом, она подобна вулканическим взрывам, не находящим выхода на поверхность земли: происходят незримые внутренние разрушения-созидания. Но если вспышка в шарике, не пробивающая его тверди, вполне безразлична шарику, то вспышка в сознании, умея осуществить себя в нем самом, невольно стремится к возможности осуществиться еще и через действие вне себя. Так получилось и у Курнопая. Сперва он воспрянул от ясности, опять наступившей в уме, потом заметался около бассейна и вдруг кинулся к нефритовым чашам — за ними ему чудился духовой оркестр из военных музыкантов: на бритых головах фуражки со звонкими медными тульями, бороды заплетены косичками, к каждой косичке привешен колокольчик, белые бешметы с газырями, только вставлены в гнезда не патроны — металлические венички разной величины и молоточки из пальмового дерева, за поясами кленовые ложки, к шортам из крокодильей шкуры прикреплены бубны, к наколенникам буйволиной кожи привинчены черепашьи панцири, поверх носорожьих ботинок — кольцом бубенцы.
Неподалеку от нефритовых чаш Курнопай заорал на бегу:
— Пы-ы-ри-кратить! — Он изумился собственному полицейскому выкрику, вздумал остановиться, но сознание, хотя было понятно, что оно осуществляет себя с опасной нелепостью, не отрешилось от потребности действовать. — Пы-рекратить марш!
Оркестра он не обнаружил. За постаментами чаш полулежали вкруговую на плитах черного космического стекла нагие блондинки. Одна из них, с прической тюрбаном, быстро пробежала в центр круга и ткнулась на колени, остальные, как на сцене бара, взялись изгибаться, перекручиваться, выставляться.
Курнопай заплакал. За пять лет, долгих, точно тысячелетия, почти никому из курсантов не верилось, что не перевелись на свете девушки и что вероятность того, что было в день посвящения, еще существует. Ночами, когда отменялись запланированные маневры, курсанты блуждали по крепости, где находилось училище, проклиная обряд посвящения, который привел к изнурительному знанию; неведение не избавило бы их от зовов плоти, зато не было бы страданий, доводящих до пороков, галлюцинаций, самоубийств. Наверно, в Сержантитете кто-то догадался о том, насколько неодолима в юном мужском организме сила причастности к акту посвящения, чтобы пользоваться самой великой потребностью для переключения на батальные цели как безотказной приманкой, поощрением, наградой, наказанием, губительной пыткой…
— Мы твои, — закричали блондинки. — Верховный жрец разрешил. Кива будет гордиться.
Он заплакал еще горше. К прежней скорби прибавился соблазн воли, склонявший его к ненасытному забытью.
Та, у которой прическа тюрбаном, сказала, манливо выпячивая губы:
— Головорез номер один, ты нас не обидишь. Настоящие мужчины не обижают. Курсанты томятся в училище, мы — тут. Твоя честь не позволит отказать. Все державные сержанты зарятся на нас, да лишь трем выпало соизволение верховного жреца. Во вкусе верховного жреца датчанки. Я датчанка. Иди ко мне, милый народный любимец!
Блондинки запротестовали наперебив: и англичанок обожает верховный жрец, и славянок, и шведок, и американок, и канадок…
Она пробудила в сердце Курнопая сострадание, когда тоскливо промолвила слова: «Курсанты томятся в училище, мы — тут».
Он порывисто развернулся, задетый датчанкиным укором его чести. Пока что все, происходившее в этой ночной низине, не имело отношения к чести.
Он пошел на силуэт горы, гребень которой прорисовывался в небе сизым зигзагом. Его задержало увещевание Болт Бух Грея.
— Обряды уважают, особенно сексрелигиозные. Вера выше нравственной щекотливости. Ваша щекотливость — атавизм.
— Если совесть атавизм, то и жизнь атавизм, — яростно отозвался Курнопай.
Болт Бух Грей подосадовал на Курнопая. Его ведут к высотам духа, в священном месте, куда никто не допускается без согласования с божественным САМИМ.
— Сексжрица ведь напоминала Курнопаю об его сверхпочетном звании головореза номер один и народного любимца. Звания сии тождественны представлению о настоящем мужчине. Как можно было отклонить приветливость белокурых чертопхаек. Впрочем, датчанка апеллировала к факту личной чести. Но я, верхжрец, напоминаю о факторе государственной чести, поскольку вы не просто Курнопай, а личность знаменательная, кому нельзя не учитывать национального престижа. Что могут подумать иностранки о мужчинах страны САМОГО и его наместника Болт Бух Грея? Ну, пойдите, ради САМОГО, к жрицам.
— Будь они прокляты.
— От имени своего сана делаю вам второе серьезное предупреждение. Другого за допущенные кощунства уже казнили бы, кремировали, урну с прахом замуровали бы в подземелье храма Солнца. Не испытывайте веротерпимость сексрелигии, Курнопа-Курнопай! Засим приступайте к исполнению прихотей наших наемных жриц. Вы только посмотрите на них! Гвардейский рост и ноги начинаются от шеи!
Курнопай было направился к датчанке, однако остановился и заявил Болт Бух Грею, что скорей превратится в пепел, чем поддастся его нажиму.
— Почему? — воскликнул со слезой разочарованный Болт Бух Грей.
— Бессовестность отличаю от чести.
— Ай-яй, любимец САМОГО, мой личный любимец, любимец самийских масс, жаль. У вас нездоровая совесть.
— Именно здоровая.
— Совесть, не признающая державной политики, порочна.
— Безнравственность — не политика.
— Существуют факторы неоглашаемой политики. Они еще важней оглашаемой.
— А, тайной политики?
— Младенец. Я умилен вами, Курнопа-Курнопай, тогда как должен был бы отдать приказ об аресте. На ваше обучение потрачено два миллиона золотых огомиев, дабы вы дошли до сознания фактора неоглашаемой политики.
— Кому? Народу? Народное сознание всегда опережает сознание правительств.
— Вы плохо учили логику.
— Наоборот.
— На вас, «наоборот», нужен укорот. Вы антиполитически воспользовались замечательным воспитанием. Своим негативизмом вы поругали патриотический долг, возложенный на вас званием питомца САМОГО, моего личного питомца и нашего народа. Вы совсем не оправдали надежд бабушки Лемурихи и вашей посвятительницы Фэйхоа. Ваши родители и командпреподаватели будут разочарованы. Прощайте, Курнопай. САМ видит и понимает, что я не могу не поступить со всей строгостью закона. Прекрасные блондинки, казнить Курнопая, кремировать, замуровать.
Жрицы мигом окружили растерявшегося Курнопая. Они просили Болт Бух Грея отдать им на потеху Курнопая. Через сутки они обещали выполнить смертельный приговор.
— Обойдетесь.
Жрицы пригрозили расторгнуть без возмещения задатка контракт на обязательное участие в церемониале посвятительства.
Верховный жрец не отменял произнесенных решений, но здесь пошел на уступку. Как-то странно, это долго пытались осмыслить философы Самии, да так и не смогли, он развел руки перед Курнопаем оправдательно горестным жестом.
Кива Ава Чел и Лисичка, заслышав команды Курнопая прекратить музыку марша «Выступаем — наша земля в опасности», прекратили обтекать базальтовый гриб. Этот марш, на редкость подходящий к минутам посвящения каучуковыми мелодиями, смолкнув, заставил их прислушаться к происходящему. Кива Ава Чел презирала жриц: корыстные наймитки, длиннющие шкильды, газет не читают, лишь одно в мозгах — прелюбодеяние. Не позволит белокуркам достигнуть Курнопая, будет их сечь, тюрбаноголовую задушит.
К ужасу Лисички, относившейся к непривилегированной прослойке класса ученых (ее отец, увы, был не мойщик пробирок, а академик-кристаллофизик), высокопоставленная Кива Ава Чел принялась рвать на полосы державное знамя, прочное из-за платиновых нитей: ей вздумалось сплести плеть.
Пока датчанка вымогала Курнопая у верховного жреца, Кива Ава Чел подкрадывалась к ней. Едва та победно запрыгала, добилась-таки своего, Кива Ава Чел хлестнула ее свежесвитой плетью. Датчанка ойкнула. На спине вздулась зеленая диагональ.
Контракт гарантировал жрицам неприкосновенность. Веселый плутень обнаружился в Болт Бух Грее: «Ай да Кивушка! Хватила — палач позавидует! Наипревосходный рубец!» Задорно-ухмыльчивый, он вкусно радовался ее удару и все же напомнил девчонке об охранительном пункте контракта, оборачивающимся валютным уроном для религиозной кассы, правда, возмещаемым за счет ценностей семьи.
Лишь ягоды смоковницы из водянисто-зеленых становятся винно-красными, так зрел рубец на теле датчанки, усиливая свирепость Кивы Авы Чел, уловившей в голосе верховного жреца, хотя у нее не было удодьего слуха, что можно надеяться на безнаказанность:
— У кого белокурки перехватят посвятителя, у тех фотокарточек — раз, два и обчелся. У меня должен быть целый альбом.
— Ты слишком тщеславна, Кивушка.
Через миг он свел пальцы растопыренных рук и сделал пасс в сторону ржаво-стального в темноте храма Солнца. Жрицы сомкнулись вокруг Курнопая, повели к храму.
Кива Ава Чел догоняла жриц, секла по уязвимым местам, намереваясь одну за другой выбивать из процессии, но они, заслоняясь и зажимаясь, продолжали совместное движение. В отчаянии она упала среди гигантских топазов, в кристаллах которых пламя лампионов высвечивало окаменелую битву осьминогов с муренами.
Болт Бух Грей прислонился к топазу. Его огорчало поведение Курнопая и Кивушки, но тем не менее он торжествовал: идея, сформулированная им накануне переворота — «Людей необходимо сверхискуснейшим образом закручивать, дабы они никоим способом не развинтились», — давала результаты: и выдающиеся натуры, срывая резьбу, совсем не раскручиваются. Использование идеи, выловленной в поведенческом потоке человеческой психологии его еще юношеским умом, смягчило главсержа. Он окликнул главную жрицу, отменил разрешение на потеху с Курнопаем. В качестве компенсации за ущерб и побои предложил оплатить контракт, ежели ей и сожрицам захочется уехать.
Киве Аве Чел порекомендовал рассмотреть застылую битву осьминогов с муренами. Тогда она прекратит огрублять свою чуткую организацию чужеродными девушке переживаниями. Пределы ее чувств, исходя из фактора целесообразности, должны быть замкнуты мечтами о религиозных страстях, настройкой души и тела на ласку.
Кива Ава Чел, лежа вниз лицом, слушала верховного жреца, но согласия не выражала. Он опять смягчился. Отдал распоряжение не казнить Курнопая до религиозно-военного суда. Ежели судебное разбирательство выявит причины, смягчающие участь головореза номер один, его не казнят, но от посвящения Кивы Авы Чел он будет отстранен. За Курнопая произведет посвящение потомок САМОГО, отходчивый правитель Болт Бух Грей.
Жрицы рысили за убегающим от них Курнопаем. Не прекращался бег его дум. Зачем жить? Ради самого существования? Это, должно быть, прекрасно! Все в природе живет ради самого существования, цели которого никто не определял. Их вкрадчиво сложила эволюция. О, постой, постой. Куда ты девал Бога и САМОГО? САМ, хотя бы по тому, о чем говорил его голос, наверняка богочеловек. Но почему-то хочется мыслить, опуская бога и САМОГО, словно их нет? Неужели он, воспитанный на зависимости, пытается освободиться от зависимости? Скорее, это желание освободиться от априорной зависимости. Ты не видел ни Бога, ни САМОГО, однако с момента рождения в полной зависимости от их заветов. Впрочем, тебя взвинтили всевершащая воля Болт Бух Грея и раздражение против режима младших военных чинов, изловчившихся заслонить свое диктаторство учением и установлениями САМОГО.
Попытка Кивы Авы Чел проложить вторую диагональ на спине главной жрицы прервала размышление Курнопая. Как ни пыталась девчонка вытянуть ее с тыла, жрица успевала крутиться и подставлять руки.
Редкий день в училище проходил без поединка. Исправляя на турнирах должность арбитра, которая предполагала справедливую бесстрастность, Курнопай обычно, хотя и таясь, болел за кого-то из бойцов. Со скорбью он отметил, что не болеет за Киву Аву Чел. А ведь должен был болеть: она мстила датчанке за него. Пожалуй, исчерпал он навсегда запас турнирного азарта? Да и вообще в его сердце завелся недуг, обнаруживающий себя то безразличием, то оголтелым несогласием, а иногда и сомнением в бессомненных сущностях, будто до него среди самийцев и человечества не попадались пытливые люди. А может, и нет в том необходимости? Вполне вероятно, что несуразное, с твоей точки зрения, мнимо. А не мнимо то, что проходит путем обязательного развития, которое, рано ли, поздно, обретает состояние гармонии. Ведь эволюция — неизбежное движение к гармонии. До изумительности гармонична наша галактика! Следовательно? Нет… Следовательно, бюрократическое и технотронное подправление саморазвития природы человека или резкое вмешательство в это саморазвитие есть бешеное разрушение гармонии, осуществляющей себя универсальными средствами эволюции.
Курнопай воспринял отказ жрицам в сексутехе как генетическое проявление эволюции в поступке разрушительствующего Болт Бух Грея и причислил справедливость к основе мира, осуществляющей саморегуляцию гармонии, потом подумал, что человек — единственный враг эволюции, поэтому подлежит искоренению. Минутой позже он пожалел блондинок и, пытаясь усовеститься за непоследовательность, сделал вывод, что пагуба похоти, в которую вверглось человечество, набрала такую мощь, что перед нею отступает нравственность — творение природной эволюции, ну и духовность — создание эволюции личности и обществ.
Он приостановился, и жрицы приостановились. Массируя рубцы, проклинали Киву за отсталость. Как можно в век прогресса и всеобщей грамотности не уступить мужчину на временное пользование? И вовсе непростительна ее ревность: пережиток каких-нибудь пещерных дикарей и полное отставание от моды. Пережиток еще можно понять, но отставание от моды не укладывается даже в ложе Прокруста.
Для Курнопая мода была чем-то вроде повальной болезни. Иной раз он подозревал, что моды возбуждаются тайными вирусами, выводимыми биохимиками по заказу мафии промышленников и связанных с ними предержащих лиц.
Училище, несмотря на приказ главсержа, морочила мода на нейлоновые куртки оранжевого цвета. Статическое электричество накапливалось в нейлоне и приводило к взрывам термитных жидкостей. Как ни изуверствовали командпреподаватели и головорезы, долго ничего не могли добиться. И вопреки расстрелам крепла мода на нейлоновые куртки. Главсерж отменил приказ о расстрелах, когда перед началом национальных маневров с участием всех родов войск попался в нейлоновой куртке сам Курнопай.
Готовый к надругательству и смерти, Курнопай, заслышав толки о моде, улизнул от жриц за какой-то монумент, опасаясь заражения вирусом сексмоды.
Монумент тем не менее заинтересовал Курнопая. Могучим носорогом подмяты всадник и мустанг. Из-за бороденки, худобы, долговязости всадника он воспринял его как Дон Кихота, но пригляделся и посетовал на свою торопливость: на всаднике брюки-дудочки, черный фрак и цилиндр. Всадник сползал с седла на круп мустанга и здесь был прижулькнут носорогом. Мустанга еле держали полусогнутые задние ноги, глаза выпучило, в оскале страх гибельного надрыва. Невольно коробило от хвастливого намерения скульптора: якобы носорог закладывал разом и всадника и коня. Рядом носорог закладывал льва, чуть подальше — слона, еще дальше — медведя, за ними громадилось бронзовое изображение, где ярый носорог закладывал земной шар.
Из-под медвежьего брюха вынырнула датчанка. Полюбопытствовала, нравится ли Курнопаю монументальная символика. Ее вопрос разрывала язвительность. Курнопай не ответил. Он презирал тех, кто, будучи постыдными, осуждают постыдство. Жрица поняла молчание Курнопая и принялась проклинать его за гордыню, лишенную плотоядности насильника. Поведение жрицы представлялось Курнопаю невзаправдашним, несмотря на то, что оно было действительным. Такой же невзаправдашней явью представлялась ему теперь вся жизнь: и собственная, и самийская, и всепланетная.
Помещение, куда жрицы втолкнули Курнопая, было облицовано лиловым камнем. Пронимаемая внутристенной пульсацией светильников, шариковая структура камня походила на роение икры или ядер, где неудержимо вихляли крючковатые зародыши. Наверняка внушалась мысль о неизбывной потенции живых существ и самой материи.
Вдруг он заметил — зародыши поскручивались в спирали, замерли, улетучились вместе с оболочкой. Мало-помалу в камне образовывались то светлые, то темные пустоты и до того быстро разрастались, что икринки-ядра одиночно мерцали в пространстве, как звезды сквозь ненастное небо.
«Бренность ты указуешь. Ничто во вселенной неценно», — исподволь, будто мозг не причастен к этому, сложилось в уме Курнопая. Он ужаснулся стихотворности своего сознания и подосадовал на бабушку Лемуриху. Над поэзией в училище измывались. Правда, зубрежка и декламация воинственных стихов там вменялась курсом, однако ими занимались с постылым сердцем, хотя демонстрировали вулканическое клокотание. Чем упивались, так это виршами, где будоражила воображение жеребятина. Бывали дни, когда он стеснялся себя: преследовали, невольно складываясь, стихи о Фэйхоа. Неожиданный вывод осенил и осчастливил Курнопая. Независимо от него Фэйхоа и думы о ней формировали душу на возвышенный лад.
Курнопаю захотелось забиться куда-нибудь в уголок с укромной сейчас тоской о Фэйхоа и лелеять эту спасительную тоску, и выразить ее Фэйхоа, если доведется встретиться, как и виноватую свою любовь. Случалось, что бабушка Лемуриха, когда он малышом ревмя ревя увязывался за ней, брала Курнопая на ипподром. Однажды наездник занес его в стойло рысака, где было сизо от сумрака. Рысак стоял понурый, уткнувшись лбом в угол. Наездник просил коня поприветствовать Курнопая. Наездник обещал бабушке, что рысак подойдет, потрогает губами мальчонкино ушко, пощекочет шею ветерком из ноздрей. Но конь, как наездник ни применялся к нему, даже не переступил с копыта на копыто. И наездник сказал, что рысак не в духах: вчера они упустили приз.
Именно так, лбом в сумрак угла, встал Курнопай. Фиолетовый камень был теплым, как пластины грифеля, и почему-то навеивал смирение. И стоял бы он целую вечность, не унимая тоски, чтобы дождаться встречи с Фэйхоа, сохранив любовь и те сокровенные мысли, которые в нем вызывало теперешнее состояние.
Оборотясь, он увидел Болт Бух Грея. Правитель сидел на пятках подле двери, разочарованный.
— Я неофициально. В нарушение религиозных канонов, выдвинутых САМИМ. Рискую потерять власть. Помещение для содержания отступников не прослушивается, но ежели САМ сосредоточен на мне, ОН все уловит. Случится непоправимое. — Он вздохнул, будто раскаивался в риске и в то же самое время был готов к катастрофе. — Я постиг многое в психологии людей, но пока не отыскал объяснения нашим симпатиям и антипатиям. Мальчишек несет лазить по деревьям. Я не просто лазил — тарзанил. К двадцати уж редко кого тащит на дерево. У меня сия охота приматов-пращуров продолжалась в пору дворцового сержантства. Главный Правитель покровительствует, не просто покровительствует — дарит на вечерок красавиц из гарема, нет, все карабкаюсь по стволам, бегаю по веткам, качаюсь на лианах. Однажды проходил поблизости от вашего дома. Залюбовался деревом ним. Ствол прямизны флагштока. В нарушение дворцового этикета и воинского устава не утерпел — взобрался на ним. Вдруг слышу: «Господин дворцовый сержант, сломи-ка веточку и, пожалуй, размахри. С бутузом-то несподручно… Десны кровоточить взялись. Помассирую — заживут». Дородная, гляжу, баба. По-крестьянски определить: кровь с молоком. Захомутал ее шею ногами пацан. Лапы пацана на грудях, на торпедищах этаких. Сломил веточку, размахрил, спустился с верхотуры. Ба, да это знаменитая Лемуриха, моя протеже, с внуком. Ему диких лошадей объезжать, он катается на бабушке. Сдернул тебя с ее роскошных плеч, коленом под ягодицы поддал. Плечи Лемурихи впору самому Главправу целовать, ты их ногами терзал. Не помнишь, как под зад саданул? Не в обиде?
— Чего там… Дело прошлое, бабушка заставляла кататься на ней, чтобы телом не расслабиться. Была уверена, в случае войны медицинская комиссия ее не отметет.
— Ух, ты! Почему я вспомнил пристрастие свое лазить по деревьям и вас под нимом. На ферме еще у нас, когда вы с телеоператором к моему отцу приехали, я симпатию к вам ощутил, больше даже — пристрастие. Девчонки тогда нравились, тонкие. Сын фермера, но не терпел упитанных девчонок, тем более грудастых. Вдруг восторг меня взял от Лемурихиной дородности. На телеэкране, когда ее грудь надвигалась, я вместе с табуреткой панически отступал. Курносость твою не переваривал. Все в тебе нравилось, курнопайство нет, невзирая на то, что ты вылитый маршал Данциг-Сикорский. С тех пор всегда помнил вас и смотрел, пришли и симпатия и пристрастие. Близость биологических или там еще каких-либо волн? В настоящий период страдаю от собственной непринципиальности. Отрешиться от тебя выше моей воли, но… — Голос Болт Бух Грея, звучавший по-органному выдыхательно, размылся на ноте, полной растроганности, за которой наступает безмолвие: как бы не разразиться унизительным для мужчины плачем. Чуть горло расслабилось после спазм, он сказал: — Прошу приблизиться, брат. Не имею оснований называть братом. Я — потомок САМОГО. Пересилить себя невмоготу. Не желаешь приблизиться для братского объятья? Ладно! Желаю сказать о таинственной красоте ненависти. Величье и, увы, подлость людей — в ненависти. Ненавидят за цвет кожи или загар, за ум и чуткость, за индивидуализм и коллективизм, за нос, подобный моему, и за твой, курносый. Нас ненавидит большинство самийцев за исключительного разнообразия способности. Я тяготею к тебе, ты отбрасываешься, проявляешь неподвластность и, стыдно молвить, неблагодарен. За что? Вместе мы защитимы. Ненависть на ненависть. Чем я плох? Почему надо игнорировать идеологию, разработанную САМИМ ради усовершенствования народа. Согласись, самовитцы впали в разрушительный кризис по вине Главправа.
И опять на рассудок Курнопая словно бы обвалилось смятение, да такое, как океанский вал, рухнувший на отмель, где зазевался из-за самосозерцания человек, и его чуть не изломало, после завертело до беспамятства и выбросило на берег, откуда, еще не придя полностью в себя, он безотчетно пополз в сторону суши — стянет в пучину. Да-да, убеждение человека, не совпадающее с нашим вообще или отчасти в дни сомнений, а также то, что он выдает за убеждение, действует на нас вровень со стихией, силы которой мы не подозревали и от которой едва спаслись или предполагаем, что спаслись. Наши чувства и разум цепенеют до поры, прежде чем мы обретем способность отстаивать собственное меняющееся убеждение или пустимся на согласие, понужденное испугом, смирением, уловкой, а то и станем крутиться между протестом и пресмыкательством, проявляя жалкую подавленность.
Курнопай метался между стремлением быть независимым и привычкой подчинять себя тому, чему учит САМ и что предписывалось Болт Бух Греем, Сержантитетом и командпреподавателями.
Правильно обвиняет его верхний деятель нации. Если казнят и кремируют — поделом. Неблагодарность он отвергает. Он признателен Болт Бух Грею до замирания души. Он даже сам не знает, что с ним случилось. Искривление сознания? Принимал курс на три прыжка и вдруг — перестал… Нелепо приживлять в стране БЕССОННОСТЬ, БЕСКОРЫСТИЕ, БЕСПЕЧАЛЬНОСТЬ. Сон — очищение от энергетических шлаков, накопление биологического топлива для совершения физических и духовных трудов. Нерасчетливость идет от непривычки к выгоде и наживе, да еще и от самопожертвенного великодушия. А печаль — страдание о собственном несовершенстве, о подлом противопоставлении человечеством себя всему в сущем мире: микробам, травам, зверям, воде, тверди, пространству, звездам, невесомости, гравитации, эволюции, гармоническому равновесию. Кроме того, печаль — страдание о том, кого любишь и что любишь, но каковые отсутствуют сейчас и, быть может, недостижимы в будущем.
С прискорбием покивал Болт Бух Грей. Проникаясь его откровенной правотой, укорял, огорчался.
И сразу неуверенность овладела Курнопаем. И вообразилась полная луна, не далекая, не известково-белая, какой видится в танковый монокуляр, совсем вблизи, черная, бликующая, как кристаллы магнетита и трясущаяся наподобие желе от удара упавшей на нее ступени ракеты. Правильно, мысли бывают всякие: разрушительные для державы и для ее руководящих структур, да и сон — другим он только для восстановления сил праздности, да и бескорыстие, оно оборачивается на поверку кормушкой для правящих злодеев и бездельников, да и печаль — столько скорбящих о былой паразитарности, об оргиях времен Нерона, об эпидемиях интеллектуального изуверства.
Предосудительно покивал Болт Бух Грей, соглашаясь. Через два раза на третий точно бы укладывал голову на левое ухо. Покивал без скорби, но и без отрады. Легко было догадаться, что его мудрость возбудилась от высказываний Курнопая, пусть и сниженных робостью, училищной казенщиной.
— Курнопа-Курнопай, всяк хозяин — мыслитель с портфелем главсержа. Экономический вакуум там, где все хозяева, духовный — где каждый думает. От электрогенератора — к аппаратам, станкам, лампионам. Обратный ток — есть ли вероятность такого движения? Исполнители. Пульсирует молекула, личность, главправ, Луна, Земля, Солнце, ядро Галактики. Локальна и зависима пульсация молекулы и личности, дальше — масштаб, самостоятельность. Обратная зависимость? Вообразите зависимость костра от пламени, легких кита от фонтана, выброшенного из дыхала. Счастье зависимости и трагедии. Тиран неотделим от вечности. Тираноборец тот, кто заменяет деспотизм предшественника единоличной неограниченной властью. Обмен духа и материи власти. Топка истории ненасытима. Есть ли смысл в ограничителях типа любовь и совесть, реальность власти и наслаждения? Мнимая нравственность. Ирреальность зависимости. Кива, Кивушка, Киверочек замурует ваш прах. Тихо! Тс-с.
Болт Бух Грей вскочил. Повезло, если САМ его не засек в беседе с отступником, тогда скоро он, Курнопай, будет сужден им, верховным жрецом и главсержем. Лишь единственная причина может предотвратить казнь. Он хотел бы выявить ее теперь, но не решится. САМ карает за несоблюдение границ между частным общением и державным.
Болт Бух Грей на удивление Курнопаю упал на руки, пробежался на четвереньках вдоль стен. В очертаниях его тела было что-то от гепарда. Около порога оскалился, прыжком отворил дверь, исчез.
Курнопай ожидал, что придут за ним быстро. Никто не появлялся. Томясь, прилег на пол. Очнулся с ощущением полета на космическом корабле: тишина безмоторная, невесомость, мерцающими штрихами отчеркиваются звезды. В следующий миг догадался: его несут на доске. Может быть, умыкают? Тропическая ураганность!
Около земного шара Курнопая опустили на камни. Небо и звезды заслоняли прически, лица, сияющие глаза. Вкрадчивая главная жрица спросила:
— Вознаградишь?
— Нет.
— У вас вознаграждают только за пост и сан.
— Фальшь.
— Тебе дали право посвятительства и вознаграждают девственницей за верноподданнические заслуги?
— А сколько всего посвятителей и посвятительниц?
— Религиозная тайна.
— От головореза номер один не может быть тайн.
— Вознаградишь?
— Ага, вот так та-ак… И для расчета, и для наслаждения в одинаковой мере тайны?
— Они не подвержены закону взаимного опыления.
— Нет такого закона.
— Пчелы переносят пыльцу с цветка на цветок. За опыление, без которого не бывает плодов и семян, цветы вознаграждают пчелу нектаром.
— Пчелы сами берут нектар.
Курнопай спохватился: жрицы воспользуются его опрометчивостью. И действительно, они возрадовались тому, что пчелы сами берут нектар: заобнимались, подпрыгивали, как баскетболистки, забросившие мяч в корзинку противниц.
Раздалось верещание.
Вихрь пританцовывающих негритянок обнажил Курнопая и распростер на доске. Главная жрица с торжеством склонялась над ним.
Спас Курнопая Болт Бух Грей. Вероятно, он сидел в земшаре или в пасти носорога, откуда спустился потихоньку и гаркнул:
— Кто разрешил?
Он поухмылялся над раздосадованной жрицей, назвал ее зоологической экстремисткой и велел ей, а также предводительнице танцовщиц взлезть на спину носорога для осуществления функций заседательниц при верховном судье Самии.
Курнопай потребовал свою одежду, и Болт Бух Грей велел уважить его просьбу.
Жрица завозмущалась: нет причины для стыда. Тогда Болт Бух Грей придал величественность своей осанке и сделал сопоставление, облетевшее утром всю страну:
— У самийцев, ежели их сравнивать с остальными народами, целомудрие навечно запечатлелось в генетическом аппарате.
Бахвальству Болт Бух Грея жрица не захотела потакать:
— У вас-то где целомудрие запечатлелось?
Она язвительна, но и ему ничего не стоило ужалить.
— Там именно, куда вы стремитесь.
Тонюсенько засмеялся Болт Бух Грей. В мгновения повышенного довольства собой он именно так смеялся: звук точно бы возникал в воде из крохотной дырочки в велосипедном колесе, почти все время этот звук сопровождался возникновением пузырьковых бус, но мало-помалу его частота начинала удлиняться, скрадываясь после игольчатого писка. Кто-то из девушек питомника, где воспитывались наложницы Главправа, уловил в смехе главсержа сходство с пением зяблика, и с той поры прижилось за Болт Бух Греем в среде женщин интимное прозвище Зяблик. Оно нравилось ему: уютное, ласковое, возбудительное. И вдруг дерзость осатанелой жрицы:
— Фрю-фрю, фрю-рю-рю-рю, пшик, Зяблик… — навела его на догадку, что в его прозвище имеется привкус неприязни, причем заведомой, скрыто напряженной, по причине которой он может быть подвергнут уничтожению.
«Подраспустились, — горько подумал он. — Не ценят демократию. Ты им — свободу, они — поругание».
Он поманил к себе предводительницу танцовщиц, назначил ведущей жрицей, а ее товарок жрицами. Приказал им выслать блондинок из страны без имущества и паспортов. Впредь будет неповадно оскорблять сексрелигию.
На помощь негритянкам явились жертвослужители храма Солнца, потрясая окровавленными серпообразными мечами. Блондинки, было замитинговавшие, сразу осеклись и понуро, в охвате жертвослужителей удалились во тьму.
С ночи свержения Главправа нет-нет и тосковал Болт Бух Грей о преданности лиц, близких ему. В Сержантитете, который составлял первый круг близких лиц, у Болт Бух Грея имелись друзья-приятели, сторонники, старательные помощники, но отсутствовали соратники. По его тайному убеждению, истинный соратник тот, кто признает со всей искренностью твое лидерство и никогда, даже наедине с самим собой, не допускает мысли, что способен заменить главсержа на его постах. Все члены Сержантитета, как он догадывался, думали, что способны заменить главсержа, к тому же вынашивали мечту о случае, который помог бы им топтануть хозяина, и Болт Бух Грей мечтал завести хотя бы одного соратника, через которого он держал бы на контроле настроения первого круга и, самое важное, опираясь на правдивость Курнопая (все близкие лица — льстецы, подсиживатели, лукавцы, расчетоманы), провеивал бы Сержантитет — долой мякину — и вносил бы коррективы в руководство политикой, религией, экономикой, этикой.
«Проблема правды, увы, наинасущная для высшего державного мужа, — с чувством недовольства застолбил в своем сознании Болт Бух Грей принцип, о каковом догадывался, но каковой отвращал его необходимостью быть тщательным во взвешивании противоречия между обязательством и противоречием, в изучении держдеятелей по дозам цинизма, выявляемого посредством несоответствия их практической работы идейному курсу, каковой положено исповедовать в тот или иной период. — Именно проблема правды. Без «увы», — одернул он себя. — В противном случае власть не удержишь. Правда как обнаружительница фальши программных убеждений, правда как средство изобличения лжи практики. Если фальшь и ложь, то с потребным и достаточным основанием».
Болт Бух Грей воткнул локти в колени, подбородок подпер согнутыми в фалангах большими пальцами; рот и нос он упрятал в ладони, что, судя по его фотопортретам, прикрепляемым к стенам небоскребов во всю их высоту и ширину, выражало сосредоточенную прозорливость. Он заговорил, позабыв разомкнуть ладони. Негритянок рассмешила упорность его голоса, но он не изменил позы, смекнув, что таким манером, равнозначным вещанию древних храмовых оракулов, можно весьма внушительно вершить суд.
— Я совестлив. Справедливость приговора: либо смерть, либо свобода без наказания — обеспечит степень правильности ответов. Любимец САМОГО, мой персональный любимец, скажите, был ли вам сделан укол «Большого барьерного рифа»?
Безразличный сейчас к собственной судьбе, забывший о враче Миляге, не стал Курнопай ловчить с ответом.
— Ну.
— Почему «ну»? Отступление от антисонинового режима представляет опасность для курса на три прыжка.
— Для курса представляет, для державы — навряд ли.
— Почему, подсудимый?
— Курсы сменяются, держава незыблема.
— Незыблем только САМ. Вместе с тем за оптимистическую оценку моей державы выражаю признательность. Почему все-таки для курса представляет опасность?
— Вам нужны исполнители, а не мыслители.
— Хорошие исполнители встречаются, мыслителей днем с огнем не найти. Кстати, откуда вы узнали про «Бэ» необъявляемое, не от Миляги?
— О «Бэ» необъявляемом не слыхал.
— Честно?
— Ну.
— Объявлен прыжок на три «Бэ». Четвертый необъявляемый — БЕЗМЫСЛИЕ.
— А.
— Подсудимый, вы стремились уклониться от укола?
— Обойтись.
— Новая главная жрица, за преступление против курса казнить главврача Милягу.
Собственная душевная вялость представлялась Курнопаю непреодолимой. Он попробовал ее осилить, для чего и укорил себя: «Тебя уничтожат — поделом. Милягу надо спасать. Раскачайся, имей совесть. Противно, а ты слукавь. А, не хочется ни защищаться, ни спасать».
— Любимец САМОГО, вы находите правильным приговор?
— Безразлично, что правильно, что неправильно.
Признание Курнопая ужаснуло Болт Бух Грея. Он поделился с ним звездными идеями. Как из глубин теплосветовой материи выделяют физики основополагающие элементы, так и он, философ государства и религии, выделил для него основополагающие элементы в макроматерии разума. Казалось бы, наделив его универсальной отмычкой от всех и всяческих идей, он до конца жизни обеспечил ему полную умственную безотказность, ан не тут-то было.
— Для военной косточки категории головорезов недопустима дилемма — неправильно, правильно. Косвенный ваш ответ ясен: казнь главврачу Миляге определена по справедливости.
— Не, господин во всем верховный. Я отвык от воли. Луна всходит, прерии без края, и ты идешь. Заботы забыты. Ни распорядков, ни обязанностей. Вот она, воля. В детстве посчастливилось глотнуть. Бродил вдоль океана. И это, это воля, хоть и на узкой топографической полоске между горами и водой. Главврач не мог меня разыскать, а разыскавши, не успел уколоть антисонином. Появились вы с девочками. Нельзя, не, казнить Милягу.
— Воля прекрасна, ежели не расходится с державными установлениями. Держпредательство.
— Я припомнил. Прекрасно думалось. Оттягивал укол. Меня надо казнить, не главврача.
— Жрица, доставить Милягу.
Негритянка шмякнула громадными, мясисто-сочными губами:
— Доставим.
Она увела за собой танцовщиц. Сливающийся с темнотой, Болт Бух Грей в ожидании Миляги надумал объяснить Курнопаю одну из причин введения сексрелигии.
Он подразделял народы земли на эмоцкатегорию и рацкатегорию. Поведение народов эмоцкатегории жиж-зыж-зиждется на психофизиологической структуре, в основе чего лежит первобытная эмоция. Философское понятие чувства ошибочно отождествлять с понятием эмоции. Чувство — достижение цивилизации. Оно является нижней ступенью рацио, верхней ступенью рацио является мышление. Как жрицу, так и танцовщицу он относил к людям разряда эмоцкатегории. Секс, ритмомузыка, танцы, алчное, равное прелюбодеянию ублажение жратвой — основа их психофизиологической структуры. Большинство народов прошло через стадию эмоцразвития. И парадокс: высшую стадию развития, рацкатегорию, теперь, как никогда, разрушает эмоцкатегория. Поскольку эмоцкатегория является этапом преддуховного развития человечества, ОН не мог позволить своему народу рухнуть с высот цивилизации в бездуховность, потому и придумал сексрелигию. Она спарила в себе соблазны эмоциональности с духовностью, знаменуемой народами рацкатегории.
Рассуждения Болт Бух Грея проломились сквозь Курнопаево умственное безразличие. Первобытность, сказал Курнопай, угроза ли это для современности? Губительней ядерно-химической цивилизации ничего нет. Да и может ли быть, коль человечеством за неполный век убито или запакощено до состояния неочистимости бессчетное количество воды и почвы, которые природа создавала миллиарды лет. Племена минувшего и настоящего времени — дети природы. Они убивали по крайней необходимости, десятки, ну, сотни людей. Мы по-гангстерски уничтожаем природу и друг друга. Война с Дювернией у нас отобрала полтора миллиона жизней, и столько же квадратных километров леса, у Дювернии в два раза больше жизней и лесов. Как Дюверния, так и Самия славились экономической независимостью. Из-за войны наши государства погрязли в долгах. Война нужна была Главправу, чтобы не свергли и чтобы до отказа набить золотыми слитками подвалы своих банков. И диктатор Дювернии преследовал те же цели. Маршал Данциг-Сикорский, говорят, обмолвился в день заключения мира: «Две страны участвовали в алхимической перегонке человеческих жизней в золото самой высокой пробы». Обмолвился, но как справедливо.
Усомнился Болт Бух Грей в полноте выводов Курнопая, а обмолвку Данциг-Сикорского отнес к разряду фарисейских: если ты понимал, для чего затеяна война и скорбел об этом, почему не остановил кровопролитий или, на худой конец, не ушел в отставку. Главсерж не захотел ворошить смердящие кучи недавней истории. Ради того он и покончил с Главправом, дабы правление Сержантитета не являлось кощунством по отношению к САМОМУ и его народу.
Курнопай прав с точки зрения экологической: расширение техносферы прямо пропорционально уменьшению существовательных областей природы. Речь, однако, не о том: плоть стала верховодить духом. Признавая за плотью всетворящую способность, без которой немыслимы ни воспроизводство жизни, ни большинство ее наслаждений, он не захотел мириться с подчиненностью духа, вот и сомкнул их воедино в сексрелигии, дабы мало-помалу дух, не ущемляя плоти, начал главенствовать над нею.
Неожиданно Курнопаем овладело желание поозорничать.
— Господин сексжрец, знаете, какой вопрос у термитчиков является основным вопросом философии?
— Сгораю от любопытства.
— А на фига́?
— Шалунишки! Между прочим, докладывали. Крамольный, если вдуматься, вопрос. Командруководители предлагали карать за него десятью сутками карцера «Вертикальный гробик». Я не поддержал. Крамола неотделима от здоровых половых эмоций, одобряемых религией.
— Тогда скажите: а на фига дух должен главенствовать над плотью?
— Дух управляет.
— И тело управляет.
— Собой. Самоуправление опасно. Оно приводит к самоуправству. Только САМ имеет право управлять собой, ибо он — олицетворенный в наших географических пределах Мировой Дух.
— А в чем, господин главсерж, держправ, верховный жрец и судья, заключается…
— …председатель государственного комитета по нравственности, президент академии военных наук, главный комиссар по вопросам криминалистики, лидер совета зарплаты, премий, пенсионных дел… Проявите себя по высшему держпатриотическому счету, и вы получите гору должностей. Извините, вы проявляли пытливость, я перебил. Не по причинам тщеславия — поверьте. Мы, кто стоит у штурвала, отличаемся всеведением. Я подпитываю личное всеведение многомудрыми указаниями САМОГО. Спрашивайте.
— Господин почетный термитчик республики, в чем, разжуйте, заключается торжество плоти над духом?
Болт Бух Грей со значением приопустил остроугольные, клинышком, веки. Вздохнул утробно, как вздыхают, когда утрата чрезмерна, но поправима.
— Пресса талдычит:«Атомный век!», «Эпоха белка и синтетики!», «Период заданных генетических программ!» Нет такого века, эпохи, периода. Ложь псевдоученых. В наличности имеется эпоха словоблудия, чревоугодничества, разврата. Из-за чего докатились до СПИДа и кинетических беснований. Разве была эпоха, в чью пору так много ели? Застолья длятся днями, неделями. Пьются не какие-нибудь пошлые крепленые вина. Пьются выдержанные десертные вина мирового класса, сухие испанские, аргентинские, югославские, шампанское из самой Шампани, виски «Белая лошадь», смирновская водка, кремы российские… Пьют целыми галлонами, крутят кончиками языков, точно дегустаторы. Дегустатор каплей на кончике языка манипулирует, вникая в нюансы ароматов. Выпивохи галонные, цистерновые, бассейновые ничего не могут обонять в «Игристом золотом» из Нового Света, кроме: «Букет! Б’ху-кхет! Дивный пху-кхет!»
Нюансы ароматов? Заливают вино в пузо, будто нефть в супертанкеры. К маразму обжираловки приобщают кинетический маразм. Миллионами лет формировались движения, имеющие признаки пола. Взглянешь — и скажешь по походке, по потягиванию, по почесыванию, кто идет, потягивается, чешется: мужчина или женщина. Сейчас не определить. Перепутана половая кинетика. В дансингах и ресторанах все в одинаковых костюмах, у всех волосы по пояс. Кто виляет задом, будто интегралы пишет, кто сеет передком, кто взматывает космами и дрыгоножится — не разбери-поймешь. Маразм маразма. Чему удивляться, что женщины прелюбодейничают с женщинами, мужчины растлевают друг друга, что дети блудят. Все жутко: чревоугодничество, кинетический маразм, безнравственность в мыслимых и непредставимых нормах. Мужчин после восемнадцати лет становится все меньше, чем женщин. И это при мужеложестве. И это при эротических перегрузках. Эротические перегрузки приводят к ранней импотенции. Следовательно, много эротически не обеспеченных женщин, мало рожающих. Рожают, так дефективных. Маразмом были толки сексологов о фригидности женщин. Зависимость от мужчин и ревность мужчин выработала в женщинах сдержанность. Воля удерживает страсть. Если станок отключен — не значит, что его нет. Едва женщина нажимает пусковую клавишу страсти, она обнаруживает чувственность ведьмы. Стоит, однако, ощутить женщине, что плотская неукротимость сделалась мужчине отвратительной, без промедления включается реле воли, и женщина-ведьма фригидна, не ведает об эротических шабашах. Мужчина спокойней эротически, чем женщина. Сексуальная энергия мужчины легко и охотно трансформируется в гурманство, в алкоголизм, в трудовую деятельность, служение политике, творчеству. Эротика женщин в силу того, что в генах ее запрограммировано продолжение рода человеческого, не обладает способностью трансформироваться в гурманство, алкоголизм и тыр и пыр. Напротив, сладкоешничество, выпивка, занятия творчеством, участие в физическом и интеллектуальном труде увеличивают эротический потенциал женщины, отсюда извращения, разгул похоти, измены мужьям. Все это имеет страшные последствия для физиологии новых поколений, для морали, для областей интеллектуального труда, для существования. Плоть торжествует над духом. Разве можно было терпеть этот маразм, любимец САМОГО, мой персональный любимец, любимец народа Самии?
— Нельзя, господин верхжрец, держправ, главсерж…
— …главный ученый секретарь сексологии при Сержантитете и главный хранитель генофонда нации.
— И такие посты есть?!
— САМ вменил в обязанности не допускать уменьшения поголовья нации, и самое существенное — улучшить стати каждой человеческой особи, пополняющей нацчисленность. Ковылко после вашего рождения был завсегдатаем бара. Счастье, что Каска не родила вам братьев и сестер.
— Жаль.
— Родились бы идиотики, олигофрены, дауны, будущие алкаши. Ухудшился бы генофонд нации. Вы не беспокойтесь — теперь у вас братья и сестры…
— Не от моего отца?
— Само собой. Поначалу не планировались дети и от Каски. Я взял это под собственный контроль, дабы родились выдающиеся особи, подобные Курнопе-Курнопаю.
Болт Бух Грей по-родственному ласково разулыбался. Еле удержался Курнопай, чтобы не спросить: «А как зовут ваших детей от Каски?» — но сдержался. Могло получиться опрометчиво: Болт Бух Грей изволит посвящать в женщины и жрицы красивых, знатных, экзотических девушек. Без того смерть гуляет над ним, Курнопаем, да еще бы ущемился Болт Бух Грей — неотвратима казнь.
И опять загоревал Курнопай из-за своих бедных знаний, малого разумения, отсутствия державной прозорливости. За время без антисониновой блокады мозга он почти что докатывался до отрицания священных идей САМОГО, социального устройства Самии, способности Болт Бух Грея возглавлять руководство страной.
Оказывается, он, Курнопай, воспринимает поступки, обряды, обычаи, а также учения, которые люди исповедуют, по их конкретности. На самом-то деле внешнее не есть действительное. Нет, оно действительное, но оболочечное. В мире плодов по оболочке узнаешь безошибочно, что перед тобой. Оболочка папайи не заставит подумать, будто под нею мякоть батата, а тем более манго. Оболочечное в мире поведения и сознания человека — всего лишь упаковка, зачастую непрозрачная, вскрыть которую мудрено, да и запретно — до наказания, даже гибельного возмездия. Под оболочкой «Болт Бух Грей», какой-то легкомысленной, ну, прямо беспутной, кроме того, плотски призывной до гвардейского энтузиазма, скрывается многомерная душа и духовность, находящая выходы из самых тупиковых усложнений личности, семьи, общества.
— Прояснело? — спросил Болт Бух Грей.
— Малость.
— Эх, нет благодарности, нет справедливости.
— Вы правы, повелитель. Пайс цена времени без антисонина, если бы мне, дуроману, вы не устраивали умственных тренажей.
— Тренажи? Боже мой САМ, что он говорит? Я причащал вас, Курнопа-Курнопай, к психологической философии, к философии управления народами, к религиозно-этическим проблемам полов как сфере совершенствования духа нации и спасения золота генофонда. Вам не грех бы шевельнуть мозгой в связи с идейным наполнением нашей вчерашней беседы в гимнастическом зале. А сегодня?
— Гениальное наполнение, господин вождь!
— Вы так считаете?
— Гениальное!
— Вождь или наполнение?
— Наполнение.
— Все сильней убеждаюсь, — современники недооценивают своих гениев.
— А я все же дооцениваю вас, мой добрый повелитель.
— Почему не благородный?
— Да потому, что я крамольник, отступник, неблагодарник, антисексрелигиозник.
— Не вам судить о себе. В целях укрепления уважения к сексрелигии, к политике САМОГО, к моей персональной политике в любых сферах вас нужно казнить.
— Казните, господин вождь. Умру с вашим именем на устах.
— Прекрасно и оригинально, головорез номер один, что вы назвали меня вождем. Пошло и банально, что хотите умереть с моим именем на устах. Умирают с именем подлейших правителей на устах еще чаще и восторженней. Жутко быть правителем. От одной необходимости брать на себя ответственность хочется закопаться в землю. Думаете, легко принять решение о вашей казни?
«Оно, пожалуй, так, — сострадая, подумал Курнопай. — Тяготы, о которых не подозреваю, мудрость, которой не владею. О, чуть не упустил: а ему-то не колют антисонин».
— Зря открываюсь. Маета о преемственности.
«Хым-хым, — невольно подумалось Курнопаю. — Навряд ли автократы нуждаются в преемниках. Эх, люди-человеки, вам все мнится, что вы бессмертны. А почему? Вероятно, все мы, тем более Болт Бух Грей, потомки богов?»
Родниковая прозрачность глаз, как нравилась она Курнопаю в детстве. Да уж больно редко они высветлялись. Не то чтобы они постоянно были мутны у отца с матерью из-за посещений стриптизбара, нет, зачастую они глянцевито рябили, наподобие роговой обманки в полировке темного граната, а проницаемости в них никакой. Чуть подрос, стало создаваться впечатление — пересыпчивый крап в глазах родителей отражает то, что им хотелось бы высказать, но о чем они молчат. Вдруг отец и мать возникали прозрачноглазыми. Он засматривал в их лица и бросался ласкаться. Они были захвачены ясностью своего состояния, и потому, даже когда пытались приголубить сына, от прикосновений их ладоней он зябнул и поскуливал, будто кутенок, который радостно выкупался в ручье, а выскочив на берег, попал в струи холодного ветра. Неуютность, вызванная бесчувственной лаской родителей, не затмевала от Курнопая проницаемости их глаз. Хотя и украдкой, он высматривал оранжевые протуберанцы вокруг отцовских зрачков. Мамины зрачки напоминали розовые луны, роговица — звездное зерно, под которым в черно-фиолетовых глубинах лучился свет.
Зато глаза бабушки Лемурихи высветлялись чаще. В красивой коричневе как бы проявлялись колеса праздничных велосипедов: желтые, зубчатого узора покрышки, спицы, перевитые лентами разноцветного пластика, зеркально-белые шестерни, окруженные голубой цепью.
Курнопай выпытывал у бабушки, откуда у нее очень часто глаза-родники. Она догадывалась, что внук желает видеть почти всегда прозрачными не ее глаза — отца с матерью.
— Откуда? — переспрашивала Лемуриха тоном, обжигающим слух. — От верблюда.
Раздосадованная Курнопаем, она, по обыкновению, принималась за уборку квартиры. Все делала срыву: мокрой тряпкой шлепнет о керамическую плитку так, будто из высотного ресторана для богачей выбросили на мостовую залитый вином палас, рванет за угол сервант, протирая пол около стены, сервант винтом по паркету, ни дать ни взять — бешеный автомобиль на ливневом шоссе. Знаешь, что не запустит в тебя шваброй или щеткой пылесоса, но опасаешься, на всякий случай таскаешь с собой павлинье опахало — заслониться.
Едва придут с завода Ковылко и Каска и спросят, будет ли она их кормить или самим за собой ухаживать, бабушка, не отвечая, подскочит в бамбуковом кресле, на вязальную спицу наткнулась, да и только, и вызверится:
— Пооткровенничали вчера… Столик-то в баре на крючке. Мало вам, что Хоккейная Клюшка квартиру прослушивает. Теперь его холуи пленку крутят. Он щадит. Его холуи поскалят зубы над вашей откровенностью, глядь, кто-нибудь поверх головы бармена туда ваши мыслишки доставит. Загребут ведь.
Они успокаивали ее. Кабы надо было загрести, там хватило бы сведений самого бармена.
Темная вода прискорбия заполняла глаза родителей.
Странно явился Миляга. Опередил негритянку, в отличие от нее совсем не запыхался, с задором спросил Болт Бух Грея:
— Нужда во мне?
Вдохновенная невинность, мигом уловленная Болт Бух Греем, изумила его. Грубый властелин взвился бы. Главсержа не проведешь даже на гипнотической искренности! Утонченно умен! Не суд вершить приготовился. Поощрять Милягу, невзирая на то, что он заслуживает жесточайшей кары. Да, он, потомок и наместник САМОГО на этой земле, вызвал старательного врача Милягу, жаль, по упущению медицинской администрации пока не награжденного орденом «За возвеличивание здравоохранения». Инициатива превосходна, предложенная начальством. Однако все во вселенной тяготеет к исключениям, не отменяющим гармонии. Врач ничего не обязан выверять без благословения свыше. Но ежели он предугадывает вероятность государственного предначертания и позволит себе инициативу, здесь, хотя спрос с него будет, преступления нет. Верней, оно есть. Но поскольку он предусмотрел вероятность отмены антисонина головорезу номер один и совершил отмену, необходимо было довести до вождя народа Самии о причине содеянного. Вождем он признан любимцем САМОГО. Что характерно для Курнопая, он назвал его вождем в безантисониновые дни, что указывает на правильность инициативы: понимание Курнопая не приобрело особого криминала. Невероятный чин можно присвоить властелину, в диковинное звание возвести, но поименовать вождем властителя дано только народу. Курнопай — головорез номер один. И ежели уста Курнопая нарекли кого вождем, это — мнение народа Самии. Для чего внедрен антисонин? Дабы народ полней выявил свои известные и скрытые достоинства, осознанные и стихийные сущности. Достижения, обобщенные социологами, экологами, футурологами, психиатрами, информаторами, укрепили курс, взятый на овладение андами и гималаями трудоспособности. Трудоспособность одна создает национальный продукт, прибавочную стоимость, рыночные цены, устойчивость национальной валюты. Что духовность по сравнению с трудом, производящим бензин, сталь, хлеб, виноград, емкости для консервирования продуктов? Пустота и мрак без светил. Главврач Миляга, вы предвидели, что Курнопай будет активней мыслить ради служения державе без антисониновых уколов?
— Подыгрывать вам не буду, потому что радуюсь казни, как самоубийца смерти, — сказал Миляга с такой прозрачностью, что воображение Курнопая восприняло его слова, как разноцветные камушки на сером речном дне. Мигом позже Курнопай поразился отрадной высветленности дымчатых глаз Миляги. Задолго до водворения Курнопая в училище термитчиков, детям, отличившимся на телестудии, показывали в порядке поощрения фильмы о полярных сияниях. У еще не свергнутого Главного Правителя было мнение, что народ Самии не сможет дать правильную научно-религиозную оценку полярным сияниям, поэтому фильм следует демонстрировать лишь в порядке поощрения всем слоям, проявившим неразмышляющий патриотизм. На экране вспыхивало, возникали радужные зигзаги, аркады, торосы, присутствовал, господствуя, творя перемены, синий цвет, красный цвет, фиолетовый цвет, он взметывался, перебегал, бликовал, распылялся.
В чистоте Милягиных глаз отворилось полярное сияние. Искавший среди курсантов друга и отчаявшийся его найти — приспособленцы, чинодралы, завистники, равнодушные обормоты, предатели, — Курнопай обомлел от открытия. Вот он, друг. Не просто тот, о ком ты мечтал, а тот, кому ты тоже необходим. Не побоялся Миляга осадить всевершителя. Не заробеет, буду спасать. Жизнь отдам, только бы ему уцелеть.
Болт Бух Грей, как ни крепился, все-таки рассвирепел. Не из-за чувства чести, из-за спеси. Правда, Курнопай спесь от Болт Бух Грея сразу отгреб: выкопаю иногда, чего в человеке не замечал. Не может быть спеси у правителя. Спесив лакей. Впрочем, история не обходилась без правителей с лакейскими ухватками.
— В чем не собираетесь подыгрывать?
Под воздействием бешенства выбледнело лицо Болт Бух Грея, оквадратился подбородок, «рога» висков, заостряясь, приняли винтовую форму.
— Пресса полна словопрений обо всем, что бы ни вводилось в годы вашего правления.
— Пресса — зеркало действительности.
— Не забывайте о зеркалах комнаты смеха.
— Комический нюанс присущ прессе. Я сержусь на поросячий визг восторгов, на помпезность типа «Грандиозное новаторство эры Сержантитета», «Эпохальный препарат антисонин», «Всемирно известный реформатор социально-классовой динамики держправ Болт Бух Грей». В этом нюансе детство служителей прессы. Оно привлекает красочностью. Пойдите на выставку детских рисунков, и вы скажете: богатство цвета и фантазии. Имеете возражение?
— Я не верю в детскость прессы. Хочу сознаться, господин верхжрец, укол головорезу номер один я не сделал из сострадания.
— И это сострадание? Бодряк, военный превращается в неврастеника с вихляющим сознанием, в отступника сексрелигии. Организм Курнопая бодрствовал в заданном стальном ритме. Вы нарушили режим, ввергнули любимца САМОГО в зону гибельных нарушений, поставив державу перед невосполнимым уроном.
— Заданный режим и есть чудовищное нарушение природного человеческого ритма.
— Природные ритмы человека меняются. Они зависят от обстоятельств бытия. Многие общества были и остаются многослойными. Каждый людской слой жил и живет в своем ритме. Ритм крестьянина не совпадает с ритмом чиновника, рабочего, банкира, супруги банкира. Это — общественная несправедливость. Почему фермер должен вставать до солнца и ложиться раньше? Я поломал эту несправедливость установлением единого ритма деятельности.
— Чтобы установить, нужно проэкспериментировать. Как вы сделали? Хоп-хоп, мустанг в галоп.
Под вздыбленным брюхом носорога, ниже того места, где оно смыкалось с земным шаром, проюркнул монах милосердия. Когда, угнувшись и заголив сутану выше коленных белых луковиц, монах милосердия еще готовился прошмыгнуть под гранитом, он напоминал контрабандиста, наряженного в чужую одежду. Едва он упал на колени и воздел к Болт Бух Грею глаза, его облик очистился от пронырливости: прямо-таки вестник ангелов.
— Ваше секспреосвященство, прошу простить и пощадить меня, грешного.
— Про-о-ща-ю, ща-а-жу, — с церковными басовыми раскатами пропел Болт Бух Грей.
Монах милосердия вскочил, отряхнул полы сутаны.
— Дорогое секспреосвященство, я — счастливчик! Довелось слышать ваш анализ касаемо антисонина. Просвещение сексрелигии в нем нуждается. Теперь касаемо врача Миляги. Всем клиентам санатория он вкалывал антисонин по графику. Я понарошку пробовал сачковать. Находил и вкалывал.
— Похвально, — торжественно молвил Болт Бух Грей. — В чем кощунство?
— Стремился увиливать от укола. По месячному графику «Большой барьерный риф» у главного врача утром. Ходишь за ним со шприцем до позднего вечера. День каторги.
— Святой отец, вы понятия не имеете о каторге. Что вы думаете об его потворстве головорезу номер один? Вы представляете, мой персональный любимец настроен не посвящать Киву Аву Чел. Девочка рисковала навлечь мой гнев на родителей. Я желал стать ее посвятителем. Она добилась переадресовки своего посвящения Курнопе-Курнопаю.
— По канонам сексцеркви он совершил деяние, за каковое положено отлучение. Второе: проигрыш в престижности. Слов нет, престижно получить посвящение от Курнопая. Но получить престижность от вас, господин Болт Бух Грей, — несопоставимо. Кордильеры и вирус проказы.
Болт Бух Грей насупился, но под его прихмурью лицо лоснилось сознанием громадной собственной значимости.
— Монах милосердия, я отношу ваше признание моей значимости к САМОМУ. Но ваш сан и функция не дают права унижать Курнопая. Унизителям несть числа, милосердцев чересчур мало. Вы обязаны возвышать милостью. Курнопай — хребет в державной системе Самии. Милосердие мощнее всего проявляется через правду. Дайте анализ поступкам и мыслям главврача в период, означенный пребыванием Курнопая в санатории.
— Действительно, милосердие в правде. Правда мыслей и поступков главврача Миляги в намеках подкопного характера. Он обрывал вашего персонального любимца, господин вождь: «Умерьте командный рык». Ничто не молвится зря. Презрение, в частности, к воинскому воспитанию термитчиков. Патриархальному — скепсис, яд, чужестранному — объятия души. У японцев блестящее воспитание, поелику стремительное, у нас дома — тягучее, как сок гевеи, поелику слишком долгий инкубационный период. У японцев мальчик опустится на парашюте разума с попаданием на местность в три квадратных метра, у нас дома мужчина промешкает и раскроет парашют разума перед землей, расшибется или покалечится. Не патриотизм хвалить японцев за раннее развитие, на родине — не замечать Сержантитет, где сплошь заседает юность. Вашей, господин, молодости не признавать.
На пункт сексцерковного опроса, завербован ли, Миляга с апломбом распинался, что никем не завербован. Второй подкоп: глумился над тем, что кого-то куда-то завербовали. Философии экзистенциализма далеко до сексрелигии, но ей было дано свыше открыть закон: все мы в плавании на борту глобального корабля. Он, видите ли, не на борту.
Он внушал головорезу номер один кляузу об эре духовного удушья. Подкоп под свободу, каковую внедрил САМ и развивает единственный мыслитель Самии Болт Бух Грей…
По мере того как монах милосердия излагал представление о Миляге, Болт Бух Грей восторженно сучил ногами. Он поклялся клятвой верховного жреца, что полностью выслушает монаха милосердия, но так как все вокруг, едва он стал властителем, лишь того и ждали, чтобы он аттестовал их слово и дело, разумеется, аттестовал одобрительно или хотя бы поощрил намеком, то он и привык прерывать слово и дело, дабы не упустить что-нибудь существенное. Правда, ему не хотелось во мнении тех, с кем постоянно общался, девальвировать значение одобрения, поэтому поначалу он либо делал строгие оговорки, либо нагонял туману для произведения ужасти, а потом уж возливал на умы, замороченные хмелем начальстволюбия, этакие ликеры и бренди похвал.
— Ну-ну-ну, служитель секскульта, — остановил он монаха милосердия. — Послушать вас… Жаль, в Самии не карают за досужие домыслы. Прете вы, как бык на матадора. Находить, что мы в эре духовного удушья, — искажение умственного видения. Я не из тех, кто свободу рассматривает как всеразрешающее явление. Нет всеспасительных явлений ни в природе природы, ни в природе общественных формаций. Самообольщение — в природе доверчивых людей. Они составляют абсолютное большинство любого народа. Поверьте мне, Миляга, свобода — всего лишь улыбчивая зависимость. Точно я говорю, подсудимый Миляга?..
Анализ, даваемый монахом милосердия, печалил Милягу, хотя ничего другого он не ждал. Но в нем сама по себе теплилась надежда на потребность человека в благородстве. Откуда, из каких потаенностей должно было проточиться монахово благородство, этого Миляга не ведал, и все же верил, что даже психика злодеев не лишена способности отворяться солнцем. Когда прерванный Болт Бух Греем монах милосердия замолчал, Миляга ждуще уставился на него. Неужели монах милосердия не перебьет Болт Бух Грея для совестливого заявления: «Но несмотря на это, главный врач Миляга предан идеям САМОГО, держправа Болт Бух Грея, Сержантитета».
Ан никак не отворялось в монахе милосердия солнце. Миляга пригорюнился: «Значит, не все, достойно характеризующее людей, способно запрограммироваться в каждом человеке? Как тогда понимать формулу Ганса Магмейстера: «Запись генетического кода — не фиксация брака в книге венчания. Книга подвергнется архивному тлену, запись генетического кода истребится со смертью человечества»? Выходит, я люблю верить, да не всякая надежда реализуется».
В момент размышления и спросил Болт Бух Грей главного врача, точно ли он говорит, что свобода — лишь улыбчивая зависимость. К тому, что монах милосердия довел Милягу до отчаяния, прибавился обескураживший его сознание парадокс свободы, отсюда, пытаясь победить разочарование, которое обескровливало смысл и его личного, и планетарного существования, он возмутился. Почему-то новый режим не допускает по отношению к себе названия военная хунта, а на деле является хунтой, проводящей политику разрушения вечных биологических основ: здоровых ритмов человека и нормальной логики. Люди должны бодрствовать и спать. Бог установил день и ночь. Создал мужчину и женщину для постоянства супружеской жизни и неразделимого с браком рождения и воспитания детей. Хунта произвела дьявольский разрыв семьи. Все порознь — мужья, дети, жены. Разрыв такой, как если бы разорвать гравитационное взаимодействие Марса и Земли, а их детей — Луну, Фобоса и Деймоса выкинуть за пределы солнечной системы.
Недвижный слушал Милягу верховный жрец, его ступни прекратили соскальзывать с носорожьего седла, будто приклеились к камню.
Вдумываясь в протест Миляги, обычно по-интеллигентски покладистого, он пытался вчувствоваться в тишину: она как простреливалась пестро-тугим треском факелов и расклевывалась клекотом грифов.
Из раздумий — под ними, набирая холод и непримиримость, накапливался гнев — Болт Бух Грей неожиданно для себя вынес позыв к осторожности, но такой, что не бездействует, а ищет сокрушающего оправдания.
— Подсудимый, вы интересовались Заполярьем?
— Эпизодически.
— Самийцам это ни к чему. Заполярье — мое хобби (довольно часто со страстью фантаста он приписывал себе увлечения, а приписавши, начинал придерживаться их). Я читал о том и проконсультировался у палеонтологов, этнографов, что племена, обитавшие в широтах Северного полюса, во время полярного дня бодрствовали до полугода, но в пору полярной ночи надолго впадали в спячку. Бодрствуя, они кормились растениями, птичьими яйцами, ловили руками дичь. Запасов не делали. Напаслись на месяцы тех же трав, дичи… Вот когда они изобрели дубины, луки, гарпуны, и стали бить мамонтов, моржей, китов, да научились хранить и оберегать запасы мяса и жира в мерзлоте, необходимость в спячке начала отпадать. Вы врач, и вам известно, какой неисчерпаемой приспособляемостью обладает организм человека при условии географической и хозяйственной необходимости. Не меньшую, если не большую роль для целей приспособления выполняет наше сознание. Согласится человек или народ с поставленной ему задачей — он способен на безграничную приспособляемость. Ясно, фактор постепенности обязательно надо учитывать. САМ поддержал программу бодрствования, народ принял и осознал. Самый дисциплинированный воин нашей армии, о чем говорит звание головореза номер один, уклонился от укола антисонином. Вы, главврач Миляга, поддержали Курнопая. Теперь вы подвергли программу бодрствования критике. На данном этапе развития самиец выносит режим бодрствования в шесть с лишним лет. Мое обобщение я доложу САМОМУ, предварительно обсудив его на Сержантитете и с лидерами фермерства. Вместе с тем это не отменяет упреков монаха милосердия в ваш адрес, подсудимый Миляга.
— Облыжное опосредствование в упреках. За ним вы приговорите меня либо к замурованию, либо к сожжению.
— К тому и другому. Сожжем, замуруем. Сексрелигиозное и уголовное следствие пока продолжается. Господин главврач, получая должность, вы подписали клятву быть самокритичным.
— Было.
— Проходя проверку на лояльность, вы были самокритичны. Почему на суде не каетесь?
— Сейчас. Проявил расчет прагматика, приспособленчество гражданина, трусливость медика.
— Сожалею, подсудимый Миляга. Вы подписали себе смертельный приговор. Ежели вы припомните, допрашивая вас, я давал вам шансы понять заблуждения и повиниться. В повинную голову автомат не стреляет.
— Не хочу. Жить без жены и детей, наведываться к любовнице, назначенной Сержантитетом, — к черту.
— Подсудимый, уясните хотя бы перед смертью… Похоть сожрет дух, сердце и экономику нации, ежели не вести ее железобетонной автострадой самоограничения и самопожертвования. У нас ведь никто не голодает, все заняты полезным трудом, выводится из кризиса генофонд нации. Мы столько воздвигли! Какая у нас производительность! Что вы думаете теперь, получив разъяснения?
— Сытость, занятость, производительность — не самые главные мерила жизни. Благородные, по вашим представлениям задачи, не есть не преступление.
— Что-что?
— Задачи оцениваются историческим результатом.
— Результат у нас поистине исторический.
— Ваш поистине исторический результат: разрушение семьи, половое гангстерство избранных мужчин и женщин, промышленное рабство рабочих и работниц, кощунство над религией, философией, культурой. Еще страшней то, что себе в угоду и усладу крохотный клан армейских авантюристов попирает бытие народа Самии, все лучшее в нем — жизнерадостность, бескорыстие, честность, трудолюбие, потребность в свободе воли, в народных праздниках…
— Стоп! — вскричал Болт Бух Грей, потом тихо, может быть, тише утреннего ветерка над штилевым океаном пролепетал в пространство: — Любимец САМОГО, мой персональный любимец, народный Курнопай, что, и ты думаешь столь отрицающим образом?
Курнопай, с презрением отнесшийся к показаниям монаха милосердия, невольно склонялся к бесстрашным рассуждениям Миляги, и все-таки он не был готов к вопросу Болт Бух Грея. Он по-прежнему находился под впечатлением согласия с вождем и ощущал его духовное превосходство.
— Мой разум, — робко промолвил Курнопай, — попал в тайфун.
— Отступник! — рявкнул монах милосердия.
— Оба, — печалясь, сказал Болт Бух Грей. — Преступники и отступники. Не простые преступники и отступники. Державной опасности! Приговариваю их к замурованию в пещере.
Болт Бух Грей соскользнул по носорожьему боку. Едва он приземлился, его, кто очутился перед Курнопаем на расстоянии удара ногой, стремительно заслонили танцовщицы. Курнопай, действительно, собирался нанести правителю вспарывающий удар ногой. Успел бы нанести, да перекрыла это намерение надежда: попросить у Болт Бух Грея встречи с Фэйхоа.
Привставая на цыпочки (негритянки были по-гвардейски рослые, сомкнули плечи), чтобы углядеть Болт Бух Грея, Курнопай так и не увидел его. В панике, — наверняка он пронырнул между выпуклостью земного шара и яростным брюхом носорога, — что Болт Бух Грей быстро окажется вне досягаемости его голоса, Курнопай хотел закричать, а почему-то заблеял, как баран, приготовленный к закланию:
— Фэ-эй-хоа… Глав-се-ерж… господин главсе-э-эрж…
Негритянки захихикали. Повеселение отразилось даже в их гипсовых белках. Нет, не хихиканье соблазнительно масленевших битумной кожей новоявленных жриц заставило Курнопая замолкнуть: внезапное ощущение безотзывности.
Убыл свет. Пригасили лампионы, над ними пушилось легкое сияние, такое возникает над океаном перед восходом луны. И лишь над нефритовой чашей осталось пламя. Теперь оно было алое, походило на петушиный гребень.
Темнота усилилась из-за того, что Курнопай оказался в охвате тройного кольца жриц. Шли неторопливо на клыкастое очертание скалистой горы. Негритянки болтали. Он не вникал в разговор. Прислушивался, ведут ли за ним Милягу. По шелесту босых ног, соприкасающихся с каменными плитами, определил, что ведут. Привыкший к бессонному многолюдью, он вдруг испугался одиночества, которому радовался в дни отдыха возле океана.
К болтовне жриц он не стал бы прислушиваться, — наловчился курсантом отсекаться от трепа, происходившего в казармах, — если бы в ней не было напоминания о родной телестудии, где бабушка Лемуриха точила лясы с женским персоналом, по-наркомански трепливым, импульсивным. Эти были тоже откровенны, только то, о чем и как они говорили, отталкивало грубятиной, пострашней курсантской. Курнопай испытывал перед их болтовней убийственную незащищенность. Ворсисто-мягкий, как новые фланелевые портянки, голосок главной жрицы сожалел, что у нее все еще живы четыре поколения предков; голосок лелеял надежду, что однажды предки предпримут морское путешествие на атомоходе и совместно пойдут ко дну, напоровшись на айсберг, и тогда из низкой касты музыканток она перейдет в заглавную касту монополисток, и заведет гарем мужчин, и будет его менять каждые полтора года. В среднем кольце шла высокая толстушка. Она проклинала мораль своей матери, которая вынудила ее забраться в эту страну непостижимых для иностранки джунглей национального запала и революционных преобразований. Было бы куда разумней делить с матерью страсть отчима, чем выталкивать ее по прихоти старозаветного эгоизма из демократической страны в хунтократическую.
Внутреннее кольцо, наверно, было подчинено шедшей прямо перед ним протобестии с плечами штангиста? Она щерилась, когда Болт Бух Грей вынес Курнопаю с Милягой приговор. Ее злорадство обидело Курнопая, и почему-то как вставились в его память ее выпученная верхняя челюсть и грозди иссиня-черных волос на лбу. Теперь она оборачивалась к нему; грозди волос плюхали об лоб, зубы выстилались навстречу, будто мины веерного миномета. Хищное удовольствие протобестии от сознания близкой его гибели становилось все алчней.
«Почему? — попытал он у себя. Ответ не приходил, как не приходит из глубины Филиппинской впадины отзвук сброшенного с корабля многотонного камня. Тут он вспомнил о САМОМ и направил мысль к мраморному сооружению, где, по словам бабушки Лемурихи, жил, не обозначаясь, великий САМ: «Надоумь. Хоть бы чем ее обидел…» Курнопай не уловил: то ли воспоследовал ответ САМОГО, то ли ему самому таким образом подумалось: «Мало ли что».
Да, конечно, мало ли что.
В другой раз на это не достаточно определенное умозаключение Курнопай отреагировал бы с досадой, сейчас оно показалось ему таким же вместилищным, как океанское ложе, а коль так — он отнес его к ответу САМОГО. И сразу чуть не задохнулся от радостного вывода: «И не требуется, чтобы ты кому-то что-то сделал или не сделал. Чаще всего судят о нас не за то, что у них есть личные претензии к нам. Немотивированная подлость или жалость, ничем не подкрепленное недоброжелательство или возвеличивание и прочее, прочее — это ведь в природе людей».
Он остановил мысль, усомнясь в том, в состоянии ли на основе личного опыта размышлять весьма многозначно. Просто-напросто САМ, вероятно, обладает божественной способностью подменять своим миросознанием его миросознание, общее.
И хотя: он остановил раздумие, явилась неожиданная оценка тому, о чем он только что размышлял и что размышлялось ему посредством локации, производимой САМИМ. Оценка, помни́лось, возникла в его чувствах: то, что исходило от САМОГО, было полно всеотзывной мудрости, не требующей уточнений, а тому, что выдавал его мозг, не доставало убедительности, справедливости, во всяком случае, соображения, что САМ подменяет его и общее миросознание своим миросознанием.
«Отдели, — опять обратился он к САМОМУ, — твое от моего».
Отзыва не было, и Курнопай подумал о том, о чем спросил: «Мало ли что» — это он, остальное — я. Нас у него миллионы, не может он со всеми рассусоливать. Зато, пожалуй, в загадочные ответы закладывается заряд, доносящий мою собственную мысль до завершения».
Забывший о протобестии, Курнопай не успел пережить до отрадной внятности то, что сумел соотнестись с вечно таинственным САМИМ: гроздью волос смазала его по щеке, будто кистью винограда. В следующий миг она поддразнивающе осклабилась и сразу скользнула мысль: «Распутство зажирает порядочность». Опять не было ясности, лично ли он подумал или передалось от САМОГО.
«Огнемет бы, — помечталось. — Полыхнул, и от мусорниц один пепел».
Курнопаю хотелось сдержаться, и снова он обратился к САМОМУ: «Поведай, зачем допустил, чтобы женщина, хранительница рода человеческого, скромности, целомудрия, чтобы она еще девочкой становилась разложенкой без стыда и совести, исповедующей философию пакостниц? Не молчи. Нас у тебя миллионы, но я, если сохранюсь, поведу войну против растлителей, мракобесов, бандитов духа и слухачей-богачей. Зачем?»
Пробуя отсечься от спора танцовщиц, он готовил мозг для приема ЕГО ответа. Он не сумел отличить, собственный ли ум автоматически выдал ему штампованный парадокс «Чем хуже, тем лучше», — или САМ неоригинально ответил в расчете на то, что Курнопай поймет издевку над людьми, прикрывающими свою преступность или бессердечную беспомощность парадоксом, претендующим на мудрость, доступную лишь выдающимся политикам и острякам.
«ВЕЛИКИЙ, у меня был период длительного бездумья. Иносказание с ироническим кодом я не подниму. Прошу ответить без аллюзий».
«Вы — губители идей».
«Твои идеи не все кажутся здоровыми, необходимыми. Есть страшные идеи».
«Вам даешь супергениальные идеи, и те вы идиотизируете практикой. Страшных идей не даю. Даю идиотические, маразматические. А вдруг сработаете наоборот: идиотическое — в гениальное, маразматическое — в здоровое».
«А!»
«Догадка — не понимание, восторг — не доказательство».
«Погоди».
Канал для умственной связи в пространстве, воображенный Курнопаем, не принес отзыва. Лучом сознания он позондировал этот канал. Пустота.
Не совсем несчастливым ощущал себя Курнопай, невзирая на приговоренность к замурованию. Для него было страшно не то, что, оставленный в пещере без пищи (воды там, как слыхал, тоже нет, зато есть безотказный винопровод), он умрет через месяц-два, а то, что не сможет к своему пониманию приобщить отца, мать, бабушку Лемуриху. Фэйхоа и сама до всего дойдет собственным умом, но какая в том прискорбность, что он не сможет сообщиться с нею духовно, как только что сообщался с НИМ. На минуту он усомнился в телепатической проводимости горных пород, но вспомнился мраморный дворец САМОГО, куда проницалась его мысль, и отбросил сомнение.
Чувствуя, что его раздумие исчерпывается, он испугался того, что подключится сейчас к сваре дьяволиц, и порыскал в уме, ища извлечение из духовного обмена с великим САМИМ. Извлечение обнаружилось. Прекрасно, подобно САМОМУ, пожить вне общества, занимаясь осознанием его.
Перегородка Курнопаевых дум истончалась. Противиться опасности возникнуть в ночи подле храма Любви, среди похотливого гвалта жриц, у Курнопая уже не доставало охоты, тем более что в душе вдруг, как трещина в земной коре, разветливалась тревога о Миляге.
Курнопай остановился и его чуть не сшибла протобестия. Позвал Милягу во всю мощь натренированной командным гарканьем глотки. Врач откликнулся где-то впереди, у перекрестка шлагбаумов, исполосованных, судя по жирному лоску, оранжевым и зеленым маслом. Перекрестье и цветосочетание были армейскими: нежить — места, убитые ядами, радиацией, бактериями, а также площадки, где огнем плазмотронов сжигались трупы животных и людей, пораженных чудовищными болезнями.
И не захотелось Курнопаю умирать, так не захотелось, что он едва не разрыдался. Жрицы замолкли перед зоной нежити.
Он твердил в училище, что опьянение от горя — враки, а теперь устыдился за курсантское высокомерие, для которого не существовало достойной народной мудрости. Именно здесь, перед нежитью, понял, несмотря на ужас сознания, что из-за лозунга «Отсчет истории начинается с революции сержантов» воспринимал прежнее бытие Самии, как бытие нежити.
«Я скоро завершусь. Прекрасно! Бесчестье оставаться среди людей глупых и поддающихся отуплению. История — это смена рекламы правителями, неукротимыми в достижении цели удерживать общества в состоянии безмозглости. Быть в такой жизни — равносильно не быть. САМ, и ты оправдывался, зная, что наша жизнь сводится к нежити?!»
Нет, он не нуждался в ответе САМОГО. Он выражал САМОМУ презрение смертника, кто окончательно осмыслил, что ему некого и нечего страшиться.
Разомкнулось перекрестие. Нарочно придумали, чтобы красота доводила человека до саможаления. На синеве горы проступили прожилки белых тропинок, пагодовидные беседки, мостики над каньонами, канатные дороги. Над горой вспыхивали пейзажные голограммы. Меж ветвей баобаба, из дупла которого выглядывало веселое семейство лесного племени, задержалось, высвечивая траву прерии, лимонное солнце рассвета; синеокий бородач в белой кепочке с козырьком, сдвинутым на ухо, полный удивления, поднимался на махолете над хребтом, схожим с кентавром, который в мечтательности лег огромным лицом возле края ветрового моря; медведь, вздыбившись во весь рост, стаскивает к себе в пасть ягоды черемухи, сладко прижмурены глаза, на зубах черная оскомина, когти глянцевиты от сока; на рогу буйвола поет скворец, разыглилась, трепещет борода, среди узоров пепельного крапа — фиолетовые, зеленые, коричневые переливы оперенья; вращается подобно танковым гусеницам эллиптическая галактика, над ее темным центром в запредельностях — цветок звездного взрыва, раструб шафранный, желтая пыльца на алых тычинках.
Не видеть этого Курнопаю. Не быть для него простору, солнцу, деревьям, птицам… Как так — он не любил скворцов, медведей? Сейчас он любил бы даже змееголовых скорпионов, сколопендр, скатов, сипов, ванноротых гиппопотамов, раздутых жиром сивучей, прожорливых касаток.
Надвинулась темень. Возникло впечатление — ударится о базальт. Дрогнул, но шагнул дальше. Его секундная оторопь распотешила танцовщиц. Позади что-то сомкнулось тяжело, с прихлюпом. В глаза, вращаясь, ударил ячеистый свет. Оборотился. Сомкнулись туннельные ворота. Образовали голову голубоглазой стрекозы. Красный рот шевелился, втягивая обнимающихся мужчину и женщину. Заужасались негритянки. Они не бывали в туннеле. Но здесь, около стен, будто исторгнувшись из каменного монолита, выросли какие-то колонны, по которым скользили коленями, бедрами, бюстами, губами нагие девушки. Колонны были шлифованно-белесы до середины, выказывая свое железное происхождение, выше — черны, как обычно черен литейный чугун, и завершались куполами.
Никто из девушек не бросил взгляда на Курнопая.
Танец нежности, танец мольбы, танец казни?
И экранированный на стены в промежутки между колоннами образ голубоглазой стрекозиной головы, вбирающей красным ртом завороженную лаской парочку… Какая смурная символика. В страстях и смерть воспринимаешь, как уход в голубую вечность. Хотя, конечно, прорва, поглощающая нас, цвета крови. Фу, отвратно, отвратно. А эти, эти, вьющиеся вокруг колонн, что они символизируют? Не надо вникать в нелепость. Стой. Нелепость ли? Может, это сексрелигиозный обряд, доведенный до мистичности?
Ячеистый свет потонул в темноте, как сеть в ночной лагуне. И голос Болт Бух Грея оповестил:
— Они презрели акт посвящения. Они смели отринуть, дабы посвятил их я сам, верховный жрец. Их идол — чистота. Чистота могла бы развиться до субстанции бога, если бы она была явью, а не миражем. Все существует в смеси. Чистоту пронизывает грязь. В почвенном хаосе, куда горняки сбрасывают породу, так ассенизаторы сливают фекалии, рождаются алмазы и платина, изумруды и золото и растут там до счастливого времени, пока мы не превратим их в богатство. Я приговорил отступниц к замурованию. Они подали прошение помиловать их. Они получат помилование, когда отрекутся от инфантильного понимания чистоты и овладеют духовностью сексрелигии.
В первом пещерном зале жрицы шли позади Курнопая. Перед входом во второй зал, где на дверях вспыхивало табло — Музей Еретиков, — они отстали. Тут была сутемь. В ней с призрачностью зеркалились огромные многогранники. На короткое время какой-нибудь из кристаллов пронимало возбудительным светом. Кристалл разгорался до ртутного сияния, проявляя в себе скелет. Через секунду над кристаллом начинала помигивать табличка с прозвищем и обозначением социального происхождения еретика или еретички, а также с пояснением, за что он или она подверглись замурованию. Приговоры выносились за отказ от посвятительства или посвященчества. Но, к удивлению Курнопая, большей частью в музее выставлялись костяки тех, кто не признавал сексрелигию, выступал против нее устно и средствами нелегального слова. Это скрывалось от курсантов.
Около года тому назад из Сержантитета была выведена Сыроедка, сестра Болт Бух Грея. Еще до возвышения брата, служа в армии, она добилась права есть невареную пищу. В училище Сыроедку чтили за строгое самоограничение, красоту, кровное родство с Болт Бух Греем. И вдруг она исчезла с правительственных горизонтов и потерялась в безвестности.
Курнопай содрогнулся, негодуя, едва в углу музея замигала табличка: «Сыроедка. Из класса фермеров. Возглавляла в Сержантитете отдел молодежных течений. Бойкотировала святую обязанность самийки, предназначенной для улучшения генофонда нации».
В училище не меньше половины курсантов было жестоких, вероломных, мстительных, предрасположенных к несусветным поклепам, которые приходилось отметать даже преподавателям, поощрявшим обман, поэтому Курнопай подумал, что нравственность самийцев выродилась до такой степени, что не могла не вызвать теперешний правительственный курс. Ему подумалось и о том, какой бы неотложно болевой ни была мирная задача общества, ради ее осуществления навряд ли целесообразно предавать казни кого бы то ни было из самийцев, а тут редкий образец девушки, да еще и находившейся на высотах власти.
Курнопаю стало жалко и Сыроедку и себя. Потом он спохватился. Разрушительно так думать. Забыл он философию государственности. Как там сформулирован основной закон? «Примат политики над экономикой и демографическим уровнем общества — залог его справедливого права и грядущего бурного развития». Да-да, он отметает то, в чем не имеет практики. Истина всегда на стороне государства, потому как дух и фундамент державы заложил и вдохнул великий САМ.
Возвращение к училищному восприятию обрадовало Курнопая. Спазм восторга перехватил гортань. Помечталось: если он подаст Болт Бух Грею рапорт о заблуждениях, являющихся следствием прекращения антисониновых уколов, и попросит о помиловании, то, пожалуй, главсерж его простит, пусть и с покаянными испытаниями. Страшней испытаний, какие довелось вынести курсантом, не будет.
Непроизвольно Курнопай скомандовал себе вслух:
— Кру-гом! — и всласть, со свистом подошв и ударами каблуков повернулся.
Над дверью — она была растворена, хотя он помнил, что прочно ее захлопнул, — горели красные слова: «Выхода нет».
Какое-то возмутительное несоответствие! Обуянный дерзостью, за которую курсанты и преподаватели ругали Курнопая заглазно Трюхнутым Торо, он влетел в смоляную тьму соседнего зала. Он был готов не просто бить головой всякого, кто посмеет ему препятствовать — поддевать, подкидывать, прошибать. Создалось впечатление: пока мчался из музея, на голове взвивались острые рога.
В тишине и непроглядности Курнопай послушал свое взъяренное дыхание. Игра представления неожиданно выманила Курнопая отсюда, из каменной глухоты, в пуховые от ковыля прерии. Увидел себя потерянным бизоном. Сердце забухало от тоски. Хотелось выдать через рев, начинающийся легким взмыком, шипучим из-за горячей накипи слюны, всю горечь одинокости, усиливаемой шелестом ковыля и необозримостью прерий.
Постоял, пытаясь сдержаться, и все же уступил утробной щемящей воле. Едва закатилось эхо его рева в дальние углы зала, душа Курнопая захолонула, охваченная совестливой догадкой. Струсил, чтобы спастись, вот и принял то, в чем усомнился, вот и выскочил из музея. «Выхода нет»? Ловушка. Проверили мужество, убежденность свежих идей и еще что-то насущное, к чему его мысли покамест не пробили дорогу…
Решил возвратиться в музей. Найдет Милягу. Оттуда их уведут в пещеру и замуруют.
Он еще находился во тьме, когда чьи-то ладошки догнали его плечи. Остановился, не смея поверить, что это может быть Фэйхоа. Опахнуло ароматом зрелого плода, название которого стало ее милым именем. К аромату примешался запах сельвы в пору цветения орхидей. Неужто узнала от Ковылко или Каски, а то и от бабушки Лемурихи, что запах орхидей, о котором он забыл помнить, любимый запах его мальчишества?
«Фэй!» — чуть не выдохнул он и насторожился. Ладони, приникшие к плечам, сдвинулись к выступам ключиц, да так порывисто, что он обеспокоился: прямо мужской порыв.
Ладони замкнулись на груди Курнопая.
Дерзкая Кива Ава Чел.
— Бык! — прошептала она и точно бы заключила в ярмо его шею. — Ты угрюм, бык. Ревел — твоя тоска чуть не погубила меня. Не рвись к смерти. Не урод, в славе. Неслыханную судьбу приготовил тебе держправ и мои родители. Не без моего участия. Люблю тебя, бык. Не посвятишь, останется покончить с собой. Бык, после мира солдафонства ты получаешь мир наслаждений. Нет ничего счастливей. Останься жить. Не отбери жизнь у меня…
С момента, когда он выбежал из Музея Еретиков, Курнопай ощущал в себе убывание настойчивости. Не метания разума отразились на нем, не подспудная уловка уцелеть, а то, чего он покуда не сумел определить: без меры усложненное существование Самии, державные цели Болт Бух Грея, не поддающиеся завершенной оценке, бытие САМОГО, которое представлялось вездесущим, всеподчинительным, тоже не всеконтрольное и требующее изворотливости, кидающей в разочарование.
Кива Ава Чел действительно собиралась покончить с собой, но после того как отомстит Курнопаю за неподвластность Болт Бух Грею и установлениям сексрелигии, за неуважение к державе и надругательство над нею и родителями. В брючный карманчик, находящийся возле лодыжки, она воткнула введенный в резной чехол из тисса четырехгранный кинжальчик. Внутрь кинжальчика, где находился яд императорской кобры, был встроен игольчатый стержень. Удар — и стержень просаживает нос кинжальчика и в глубину раны выпрыскивает яд.
Податливость Курнопая обрадовала ее. Все. Посвятит. Пускай придется приводить его в порядок ночь, неделю, месяц (встречаются загадочные особи мужского пола, действие которых в полной зависимости от любви), но она достигнет этого.
— Бык, головорез, у тебя растет щетина. Я губки уколола. Фэйхоа посвящала тебя невинной. Ты будешь посвящать невинную. По секрету скажу — Бэ Бэ Гэ я не поддалась.
Мало-помалу склонялся Курнопай к повиновению Киве Аве Чел. Он позволял ее рукам тискать себя, губам до боли приникать к шее. Вполне вероятно, что, глянув в зеркало, он обнаружит синие кольца на шее, но и этому он не противился. Правда, он проявлял неподатливость, как только она принималась тянуть его к дверям, в лаке которых пульсировал лазурный океанский цвет.
Привыкший к послушанию своего организма, Курнопай боялся, что останется бестрепетным и в пещере посвящений. Кива Ава Чел бьется, страдает, а в нем не вспыхнет ни чувствинки. Чтобы не испытывать укоризны, пока не умрет, Курнопай приказал себе оставаться здесь, где совершают искупление безмолвные отступницы.
Не уставала Кива Ава Чел ласкаться к Курнопаю. Да что не уставала?! Делалась свирепо-нежной.
Если бы не изнуряла Курнопая вина мужского безразличия, он укротил бы Киву Аву Чел щелчком в солнечное сплетение.
Но, покорствуя, Курнопай остерегался собственной безвыходной ярости, впервые взыгравшей в нем после антисонинового укола. В училище кто из курсантов не переносил щекотки, над теми развлекались до садизма. Притронутся к боку или шее, он сразу становится смешливо беззащитным. Кое-кто обмирал от настырных прикосновений, от него и тогда не отвязывались, и он незаметно кончался.
Он спасся, благодаря бешеной реакции и своему положению. Самым чутким местом у Курнопая была кожа под карманами брюк. Кто-нибудь намеренно заденет это место, Курнопай сразу зверел.
Покалечил бы он Киву Аву Чел — изловчилась забраться в карман, — не зазвучи в тот миг голос Болт Бух Грея.
— Я, главсерж Болт Бух Грей, верховный главнокомандующий всех родов войск, приказываю головорезу номер один, генерал-капитану Курнопаю посвятить Киву Аву Чел — дочь членов Сержантитета. (Курнопай, будто с голосом главсержа вдуло через его уши упругую энергию, ощутил такую влитость тела в офицерскую форму, что боялся шевельнуться, чтобы не расползлась по швам.) Этого посвящения желает великий САМ. О нем мечтают вооруженные силы, народ, держадминистраторы. Оно послужит политическому сплочению нации, рывку экономики и здравоохранения, проникновению краеугольных положений сексрелигии в зараженные христианством, магометанством, сектантством массы фермеров, клерков, рабочих, монополистов, технократической и культурной интеллигенции.
Во исполнение державного посвящения, в честь перевода головореза номер один, генерал-капитана Курнопая в особо ответственный род войск повелеваю привести армию в боевую готовность.
Когда микрофон чпокнул, отключенный, Кива Ава Чел потащила Курнопая, все еще остерегавшегося, что его одежда разлезется, в Музей Еретиков.
Курнопай попытался остановить ее там для исполнения приказа, но она с осмысленным удивлением в глазах урезонила его, и он, влекомый ею, оскорбленно смекнул, что теперь-то ее волнует не столько само посвящение, сколько его осуществление в согласии с нормами ритуала.
И все-таки Курнопай остановил Киву Аву Чел и напомнил ей о том, что она говорила, будто бы любит его. Она, нахмурясь, подтвердила, что любит безо всяких «будто». Укрепленный подтверждением Кивы Авы Чел, он бухнул с наивной прямотой: дескать, не важно где, важно что. Большую осмысленность излучили глаза Кивы Авы Чел. Рванув Курнопая за собой, она непреклонно возразила:
— Важно где, что, ради чего, как.
Курнопай не узнал в ней девушку, лирично возлежавшую возле подружки в белом автомобиле Болт Бух Грея. И взмолился, обратясь к САМОМУ.
«Истреби во мне приказ. Немощь была моим спасением. Зачем ты позволил Болт Бух Грею одолеть силы моей внутренней самообороны?»
«Престижность!» — весомо сказалось в сознании Курнопая. Ему помнилось, что в одну и ту же оболочку одновременно индуцировался и ответ САМОГО, и личный его ответ.
«Может ли быть такое?» — спросил он САМОГО и себя. САМ не отозвался.
И тогда Курнопай, сникая волей перед обреченностью на посвящение, попросил САМОГО, надеясь не на ответ, а на будущее действие: «Проводи границу. Слияние твоей мысли и моей — для меня непомерная нераздельность».
В зале, где на полу были ложа, застеленные шкурами зверей, а в нишах, облицованных морскими раковинами, панцирями черепах, плавниками тропических рыб, находились установки для фотографирования, киносъемки, видеозаписи, Курнопай не смог думать. Всю свою волю он пытался подчинить желанию победить самопроизвольность, благодаря которой над ним властвовала Кива Ава Чел.
Но и тогда, когда от света прожекторов затмилось его зрение (он даже не смог разглядеть, как уходила Кива Ава Чел, крикнувши: «Салют головорезу номер один!») и он продрог от каменного пола и брошенности, непроизвольность долго не покорялась ему.
Власть над собой вернулась к Курнопаю, едва он разрыдался, ощутив неподъемную тяжесть насилия, которое, как эта гора над ним, взгромоздилось над его судьбой с дня переворота.
У сверстников Курнопая душевное расстройство отбивало аппетит. Он же, напротив, становился жорким. В училище он установил себе правило никого ни о чем не просить. Огорчения обостряли в нем нетерпеливость, вроде бы слегка свихивали характер. Он, который был обязан, получив звание головореза номер один, пробовать приготовленную на кухне пищу, делал это сдержанно — ложку, не больше. За столом, если дежурные курсанты предлагали добавку (всяк хотел выслужиться перед ним), надменно отказывался.
Но едва Курнопай попал в зону неприятностей, то не пробовал варево — ел, намекал поварам и раздатчикам, что не грех бы подкинуть к нему на стол добавку погуще да посытней. Ночью он забегал к провиантмейстеру в увешанные рыцарскими доспехами апартаменты, где обычно можно было слопать шмат носорожьего сала с ржаным хлебом без примеси сорго или маиса, омлет из черепашьих яиц, выпить чашечку кофе, смолотого на ручной мельнице, рычащей при дроблении зерен, как рысь, которая жрет зайца и отпугивает голосом волков. Под утро провиантмейстер, разомлевший от виски, сдобренного тоником, и вторичного прихода Курнопая — любимчик САМОГО и главсержа, в ближайшем будущем один из властителей армии, — заставит свою адъютантку Жирафу (крохотная головка, вытянутое лицо, уши с обкорнанными кончиками, длиннющая шея) испечь в духовке розового картофеля и подать стуженного на льду айсберга молока буйволицы. И настроение Курнопая улучшалось, и такое удовольствие испытывал от вкусноты, какое лишь было вероятно дома, когда у бабушки Лемурихи возникала охота поколдовать на кухне.
После Курнопай проклинал себя за расползание силы воли и корил за то, что угощался у цепкоугодливого провиантмейстера. Тот, не проходило и месяца, преподносил ему акт на списание «порченых» продуктов. Наведывались к провиантмейстеру по примеру головореза номер один и другие начальники из курсантов, а самое главное ради того, чтобы усилить его переживание из-за падения до вынужденной подлости. Хотя рядовые курсанты не показывали вида, что ненавидят Курнопая за скрытое, пусть и урывками, потребление, он чувствовал, что они продолжают его уважать, боясь мести и расправ.
Угнетенности, подобной тогдашней, у Курнопая не было даже после приговора к замурованию. Он скорбел о том, что рефлекс воинской дисциплины распространился в нем и на такую сокровенно загадочную область, которая издревле подвластна лишь любви, ну, в крайнем случае, физиологическому влечению, а оно возбуждается вовсе не безразличием к внешности и душевной натуре женщины, а симпатией, хотя и безотчетной. Но сильней печалился он о том, что его упорная верность Фэйхоа, чему стихийность должна была обеспечить торжество, поддалась армейской команде. Кроме того, сердце Курнопая щемило до желания уничтожиться при мысли, что он не оправдал себя как нравственная, думающая личность, обладающая мощным, генетическим и сознательно выработанным зарядом независимости.
К своему удивлению, за телекамерой он обнаружил заглубленный в монолит горы обширный погребок с настенными бра из бизоньих рогов, оправленных серебром. Он вошел туда не без подозрительности. Пристегнутая к черным железокованым цепям, висела сосновая доска. Полировкой был четко выявлен узор, ее легкий круговой кач подтверждал вращение земли. Тяжело, иглясь и мерцая, обступали литого золота ковчег, повторявший своим вытянутым очертанием сердцевидный рисунок доски, диковинные рюмки, бокалы, кружки. Когда рассмотрел их, догадался, что они выгранены из серых вулканических бомб, которые по краю объема поросли готикой аметистовых кристаллов. Он взял бокал, остро ощущая пальцами шершавость, — сказывался вес, направился к полке, где подсвеченные от стены, в плоских, кубастых, гофрированных, рубчатых, волнистых, бокастых, шишчатых бутылках горели аперитивы, виски, коньяки, джины. На темном торце полки веселой изморозью проблеснули угловатые типографские слова:
«Здесь все твое. Пригубливай, глотай, хлещи. Грызи орехи, лакомься сырами, фруктами, копченостями. Все маринады, от маслин до чеснока, к твоим услугам. Балык из рыбы-солнца отполосуй. Калуги, фаршированной грибами, желудок отведай. Фазан в духовке, что в какой-то миг изжарит током даже кабана. Блаженствуй перед смертью или перед долгой жизнью».
Курнопай непроизвольно поулыбался.
— Блаженствуй перед неизвестностью!
Он быстро разыскал электропечь. Яйцевидная, красная, с линзой иллюминатора, она походила на микробатискаф. Нажал клавишу. Фазан, пронзенный металлическим штырем, быстро вращался. Смолянисто-темных раков, повернутых к оконцу клешнями и коническими рыльцами, встряхивало на листе, находившемся в нижнем отсеке. Печь отключилась. Фазан сиял поджаристой коричневой боков. Раки стали оранжевыми, выявилась пупырчатая структура панциря. Из-за цвета и структуры панцирь почему-то хотелось ломать, да так, чтобы трещал.
Курнопай открыл дверцу, отломил самую крупную клешню, но раздумал ломать панцирь: сунул клешню в рот, хрупая ею, сиганул к полке. На глаза попалась бутылка, где на фоне дворца с выгнутыми углами крыши розовели, чем-то напоминающие рисунки на крыльях насекомых, иероглифы.
В бутылке лесным духом в образине карликового старичка стоял залитый водкой корень.
Пока рыскал взглядом среди посудин, авось попадется штопор, сколоть сургуч и вытащить пробку, из-за плеча протянулась рука и выхватила бутылку.
Обрадовался, предположив, что Миляга, ан нет, Болт Бух Грей.
— Разведка донесла, — лукаво лучась зрачками, промолвил Болт Бух Грей, — вам, любимец САМОГО и мой персональный любимец, женьшеневая настойка понадобится к середине двадцать первого века. В моей правительственной резиденции винотека глобального значения. Как-нибудь специально для вас устрою дегустацию. В эпоху коллекционеров трудно удержаться от собирательства. Я — коллекционер вин с десертным уклоном. Уклоны во всем, кроме державной политики внутри страны. В этом интимном подвальчике зелья всех континентов. Я лично предпочитаю после каждого посвящения взбодриться персиковым спиртом из Венгрии. «Спирт» — сказано для пущей важности. На самом деле мы выпьем персикового самогона-первача.
Болт Бух Грей добыл из бара, встроенного в стену за пределами полок, хрустальный сосуд, составленный из пяти рифленых шаров. Шестым шариком была пробка, на первый взгляд от флакона офицерских духов.
Главсерж, сделавшийся загадочным, предложил Курнопаю приглядеться к пробке. Курнопай склонился и сквозь отверстие, в которое едва ли проделся бы волос, увидел девушку: белая прическа с изумрудными молниями, открытый бюст, на ладонях желто-огненные персики.
Поясная девушка и соблазнительные персики вырисовывались из преломления света. Болт Бух Грей удовлетворенно повернул сосуд. Девушка прорисовалась в профиль, да не одна — с мужчиной. Оба вгрызались в мерцающие соком персики. Еще легкий поворот сосуда. Ладони мужчины накрыли девушкины груди, будто собираясь сорвать их, как плоды.
Первач лился тягуче веско, пламенея газовой синевой. Болт Бух Грей взял со столешницы другой бокал. Налитым туда самогоном поблескивали фиолетовые кристаллы. Задумчивость была в круговых движениях руки. Абсурдно вел себя властелин. Уж если родную сестру не пощадил…
Курнопай замер, приготовясь слушать Болт Бух Грея. Объяснит или попытается оправдать, почему цацкается с ним. Кое-что приоткрыл во время встречи в гимнастическом зале. Не лукавил ли?
Едва властелин заговорил о том, что пробку для закупорки персикового самогона исполнил по его заказу светоскульптор из Гонконга, Курнопай укрепился в своем ожидании. Какая-то метафорическая ниточка, пусть и не строго логическая, протянется от лучевых преломлений к тому, о чем Болт Бух Грей скажет чуть позже.
Поджаристый бок вкусно пахнул, лоснился. Курнопай не смог преодолеть соблазна, всадил в фазана пальцы и целиком отделил от костей.
Болт Бух Грей построжал взглядом, как укорил: зачем-де кидаться на жратву перед исключительным приговором, который вероятен только тут и с ним.
— Полагаю, мой дорогой Курнопай, вы не думали над иронией истории.
— Справедливо полагаете, господин главсерж.
— Зови меня просто Бэ Бэ Гэ. Сержантитет во главе со мной, наследником САМОГО, свергнул Черного Лебедя. Казалось, мы должны намертво отрицать установления Лебедя. Мы, правильней я и Сержантитет, возвели некоторые из его установлений в ранг державной и религиозно-философской политики. Я удалился от примитивизмов Черного Лебедя. Они были неизбежны из-за его верхоглядства. Я похерил интуитивизм Лебедя. Взамен внедрил строгую научность. До нас были государственные конгрегации, чьи афиши претендовали на сугубую науку. Я не рекламирую, я осуществляю. Иное дело — я могу впасть в заблуждение по вине советников. Как возник храм Солнца в Индии? Бог Солнца вылечил от проказы царского сына. Царь воздвиг в честь бога Солнца храм. Три значения определяют сущность постройки: кама — любовь, йога — дух, дхарма — законы, каковыми должен руководствоваться человек. Мой предшественник сделал копию храма Солнца, правда, с отсебятиной, ради скульптурных изображений. Фасадная сторона каждого блока из песчаника — скульптурная картина, зачастую с эротическим мотивом. Почти немыслимые варианты отношений мужчины с женщиной. Тысячелетиями скрывались чувственные отношения полов. Их как бы не было и быть не могло. Творцы храма Солнца обнародовали важнейшие, привлекательнейшие, неистребимейшие для людей отношения. Интуитивист Черный Лебедь ухватился за пропаганду эротики. Для чего? Поощрения плотского интереса мужчины и женщины, ничем не стесняемые, приводят к спячке духа, воля при этом непроизвольно подчиняется верховным силам государства. Я отмел деспотическую цель, лишь оставил догадку, дабы придать ей всемогущество. Перво-наперво люди — телесные существа. Физиологическое для них превыше всего религиозного и философского. Противоречие, постыдное для нас, недопустимо. Индийское представление любви не соответствует нашему. Эротика — нечто среднее между любовью и сексом. Грубая простота животного акта у самийцев — эротика предлагает изящную изощренность — заставила меня остановиться на понятии «секс». Поскольку я жажду сократить разрыв между сексом и духом, между сексом и законоустановлениями власти, между сексом и САМИМ, я решил ввести сексрелигию. Исходя из научных глубин сексрелигии, я прощал тебе. Знал — дозреешь. Ты дозрел: посвятил Киву Аву Чел. Самия празднует это посвящение. Так вот в чем ирония истории: правители, свергнувшие, продолжают то, что делали правители низвергнутые. Уровень, однако, выше, модификация многомернее. Вы, любимец САМОГО, мой любимец, народа Самии, продолжаете жить и сослужите нашему отечеству исключительную службу, благодаря тому, что мной руководили любовь, дух, законы и забота о счастливейшем будущем державы. Именно за это я желаю выпить.
Глухой удар бокалов отзывался в готике аметистов. Звуки, истончаясь на шпилях, как бы перескакивали с кристалла на кристалл.
По-детски нескрываемо Болт Бух Грей наслаждался пением аметистов и чудившимися перескоками звуковых бесенят. Конечно, бокалы тоже сделаны по заказу, только у звукоскульптора, и ясно, что Курнопай обязан, хотя бы из чувства благодарности, обратить слуховое внимание на музыку кристаллов. Но ему до того хотелось есть, что он не вытерпел и откусил от фазана.
Болт Бух Грей, знавший о моментах оголтелого аппетита у головореза номер один, допускал, что тут возможен оговор, и не принимал на полную веру моменты обжорства у своего любимца. Увидев, какой кус оттяпал Курнопай жемчужной чистоты зубами, он сожалеюще посклонял на щеку голову. Он всегда предполагал, что жратва для человека, даже необычного, превыше эстетических удовольствий от любви и философии, от кино и музыки, от литературы и живописи, притягательней этики и политики, задушевных дружеских откровений и путешествий, важнее армейской службы и творческого труда.
Курнопай попытался жевнуть, мясо заполнило весь рот, языком невозможно пошевелить.
«Именно!» — еще раз затвердил горестный вывод Болт Бух Грей. Будь в погребке не Курнопай, он бы устроил тому адский разгон, при воспоминании о котором не меньше ныло бы сердце, чем при мысли о собственной кремации.
Предназначение, уготованное им головорезу номер один, возбудило в Болт Бух Грее потребность поделиться с Курнопаем идеями, каковые не снились никому, кроме него.
— Нецелеустремленность характерна для большинства обществ планеты. Я решительно все подчиняю целеустремленности. Пробочка от спиртовой емкости — эталон моей целеустремленности. Пробочка полностью отвечает требованиям сексрелигии. Однако в ней имеется сверх того галактическое иносказание. Жизнь, в принципе — уборка урожая. В природе уборка урожая циклична. У человека, едва он достигает биологической зрелости, уборка урожая совершается непрерывно, почти до самой смерти. Государство постоянно снимает с народа урожай — это доступно пониманию всех и вся. Лишь я додумался впервые, что жизнь мужчины и женщины — взаимно непрерывное снятие урожая. Чем больший урожай снимает мужчина с женщины, тем благотворней, тем длительней его судьба. Увы, женщина снимает более обильный урожай с мужчины. Отсюда она повседневно счастливей, вообще счастливей, живет гораздо дольше, чем он. Мое общество строится на принципе искупления. Мужчине воздается за недобранные удовольствия во всем объеме исторического прошлого, за невосполнимую недожитость. Снятие урожая индивидуальных удовольствий в личности намного сильнее, чем снятие урожая державных благ. В принципе люди охотней потребляют результаты державного блага, чем хотят участвовать в производстве общего блага…
Курнопаю удалось высвободить язык из-под фазаньего мяса и сделать желанный жевок.
Неловкость перед Болт Бух Греем поубавилась. Страх умереть почти исчез. Возобновилась способность к тщеславию, мигом исчезающая перед угрозой смерти, и он похвалил себя за проницательность: дворцовые сержанты, разъединив их семью, тем самым переключили чувства, ум, силы матери, отца, бабушки Лемурихи, его, которые дома расходовались бы друг на дружку, на создание державного блага.
— Я говорил тебе, посвященец Фэйхоа, о трудностях, испытываемых правителем…
«Фэйхоа, нежность моя и надежда, да ради встречи с тобой я сразу должен был подчиниться обряду. Трудности правителя? А знает ли он о трагических трудностях САМОГО? Нет, не скажу. Может, САМ никому не открывал этого».
— Индийский бог Шива слывет за очистителя. Почему? Он спас человечество от гибели. Демоны собирались уничтожить человечество посредством яда. Дабы спасти человечество, Шива взял яд в рот, для виду выпил. В действительности он держал яд в горле. Горло жгло. Затем он выплюнул яд. Кобра холодила шею бога, однако он принял жуткие муки. Я уподоблю себя Шиве. Демоны стремились истребить наш народ. Плохая рождаемость. Большинство детей уродцы. Процветала выпивка, наркомания, проституция. В общем, социальные болезни губили Самию. Происходило опаснейшее для экономики и независимости державы трудовое расхолаживание. Я решил спасти отечество. Революция. Реформы. Гигантские сдвиги. К несчастью, имеются недовольные, меня клеймят, проклинают. Спасителя изображают лиходеем. Мои обиды, ежели мыслить иносказаниями, яд в горле Шивы. Мое горло постоянно сжигаемо. Доверительно сознаюсь, дорогой Курнопай, вы подбавили яда. Я, правда, не имею кобры. При ненависти к зельям я холожу горло вином «Черный доктор» из Крыма. Предлагаю тост за правителей, каковые предпочитают держать в горле яд демонов и яд обид от своего народа, дабы он сохранялся и процветал…
Успел Курнопай прожевать мясо. Не прожуй он его, не исключена вероятность, что подумал бы: «Ловко притворничает, самоуправец», — но подумал он освобождение: «Все гораздо сложней. Слишком просто сбагривать всеобщие беды и уроны на САМОГО, на Черного Лебедя и на главсержа. Пожалуй, Болт Бух Грей — мыслитель, преобразователь, экспериментатор. Он заслуживает преклонения и верности. Вверяю ему судьбу».
Остатки фазаньего бока были проглочены, и Курнопай стукнул бокалом о бокал Болт Бух Грея, повертел ушами, внимая мелодиям кристаллов, и выпил персиковый самогон.
— Признательность придет. Демонов и яды обид окончательно не устранить. А я способен сделаться коброй, которая холодит шею.
Лицо Болт Бух Грея озарилось восторгом.
— Я живу в центре лукавства, — вскрикнул он. Щеки обескровились. — Никому нельзя верить, за исключением Фэйхоа. Эпоха лжи и приспособленческой трепотни. — Трагический гром расколол его голос. — Вы, любимец САМОГО и мой тогдашний кумир, после революции вы хотели стать одним из главных военачальников моей армии. Раннее властолюбие. Я чуть было не поставил на вас крест. У меня имеется недюжинное достоинство: упрямство в симпатии. Оно заставило обнадежиться. Я страдал, на грани инфаркта чувствовал себя, видя, как вы попираете взлелеянную САМИМ и мною религию. Упрямство моей симпатии одухотворялось тем, что вы идете на погибель. На понижение не пойдет ни один член, ни одна членша из моего правительства даже ради родной матери, каковую, предположим, оболгали и ее необходимо защитить ценой понижения. Вы же шли на потерю жизни, притом зная, что я определил вам исключительное предназначение. Я пью за ваши слова в мой адрес и за свою полную веру в вас…
Они выпили до дна, грохнули бокалами об пол в знак неистребимой клятвы идти вместе.
Было боковое солнце. Выскочили в тень. Омытый зеленым светом храм, огромноколесый, облепленный уютными человеческими фигурками, воспринимался в просторном котловане как повозка, перегруженная, высокая до опасности — перевернется от сильного крена, ползущая из вековечного далека. Бодро тащили повозку лошади, словно только что тронулись.
Потом львов и слонов заметил Курнопай взглядом, счастливо взлихораженный единением с Болт Бух Греем и вдохновленный бегом. И примнилось ему: пирамида повозки — человечество, минувшее и нынешнее, перегруженное до уродства изощренностями любви, лабиринтами духа и законов. Кони бога Солнца везут человечество, а стопорят их движение львы — носители хищного всеистребления и всевластия, которые пытаются подмять навсегда слонов, олицетворяющих силу, незлобивость, неповоротливую мудрость.
Хотел Курнопай спросить Болт Бух Грея, верно ли навеялось ему храмовое иносказание в долине, да увидел перед собою Киву Аву Чел. Золотой обруч охватывал ее голову, сияя сквозь волосы, причесанные под вид минаретного купола. Не наив: символ пола. Все он забывает о том, где находится и зачем сюда привезен.
Курнопай не успел огорчить свое сердце, такое, оказывается, склонное к печалям, когда оно качает кровь без антисонина, потому и весело ухмыльнулся мысли: «А люди-то существа самовлюбленные до утраты достоинства и ума. Наверно, все в архитектуре несет их образ и подобие, особенно же образ и подобие их пола. Неужели САМ не смог надоумить людей, чтоб они отражали в строениях образы деревьев, птиц и рыб, рисунки камня, пестроту цветов и насекомых? Сведение бессчетных обликов природы лишь к облику людей — да ведь это потери красоты и многозначности. Ничем другим их не восполнить».
— Представители народных масс в ожидании, — сказал Болт Бух Грей, обнимая Курнопая и притискивая к себе. — Сейчас вам, согласно учению САМОГО о мировом чувстве, будет дано ощутить, как энтузиазм народа, так и преклонение перед вами, головорез номер один, любимец САМОГО и мой персональный любимец!
Сияющая Кива Ава Чел, чуточно, на кончиках пальцев, подскакивавшая при словах верховного жреца, обняла Курнопая с другого бока и стала подпрыгивать выше, ей принялся вторить Болт Бух Грей. Курнопай тоже вовлекся в подскакивание, улавливая миражным от волн взором, что подпрыгивают все, кто находится здесь, наверху, и там, в низине.
Кива Ава Чел каким-то образом изловчилась и куснула Курнопая в мочку уха, а едва он строго к ней повернулся, шепнула, что это зачин ритуальной пляски. Вскоре, заморгав от счастливого неверия, он увидел приближающегося к ним скачками врача Милягу, обнятого Лисичкой и сизой девочкой, прическа которой походила на пучок ковыля, окрашенного в отваре скалистого дуба. Лишь только они совсем приблизились к ним, над горой и котловиной возникло свистящее фырканье рожков, сопровождаемое пильчатым писком скрипок.
Разомкнулись они, чтобы взяться за руки и в кольцевой припрыжке вертеться туда-обратно. Мальчишкой, припомнилось Курнопаю, по телеку видел музыкантов, курчавых от бараньих шапок, играли они на сопилках и скрипочках, повизгивавших, как девчонки; чуть на отшибе, на плоской верхушке холма, летал большой хоровод; заворожил его танец до кружения головы, а бабушка Лемуриха промолвила почему-то со вздохом, пронятым тайной: «Славяне!» Он подумал тогда, что славяне танцуют так потому, что живут среди воли, трав и цветов, мохнатых гор и прыгучих речек, и что, наверно, они исполняют музыку ветра, которую он издает, запутываясь в ветках елей, расчесывая травы, приголубливая цветы, выдувая из горных расщелин песчинки.
Теперь Курнопай подумал, хоть и был признателен Болт Бух Грею за то, что помиловал их с Милягой и устроил им праздник: «Все мы танцуем под музыку власти, даже танцуем тогда, когда презираем ее захватчиков или избранников и не хотим следовать постыдству, изобретаемому ими. Слабы мы, безвольны, быстро теряем совесть. Бедствия правды, вероятно, приемлемы для правителей всех времен и народов, потому мир докатился до своего крушения. Они, едва испытали мы их, преобразуются в наших душах в желание удовольствоваться кривдой, оберегающей от бедствий и приносящей довольство и наслаждение. Слабаки, сластолюбцы!.. Неужели все зыбки, как я? И почему это существование приемлемо для Фэйхоа? Ведь живет же, хотя ее наверняка не уродовали антисонином. САМ, да ну ТЕБЯ».
Круг остановил и победно разорвал Болт Бух Грей. Осеклись, разомкнулись хороводы сверху вниз. Расступился Сержантитет, давая дорогу платформе, оклеенной фотощитами. Шорох нейлоновых гусениц («Неужто платформы сооружены на противопехотных танках?») отвлек Курнопая от снимков, но на них обратила его внимание воодушевленная Кива Ава Чел. Зал музея Национальной Истории. Каменное панно на стене, где средь сапфировой необъятности темнеет пылевая туманность Лошадиная Голова, выполненная из гагата — дерева, что почернело и превратилось в самоцвет в морской воде. Инкрустирована туманность арагонитом. В его белых, ускользающе тонких очертаниях намеки на галактический образ великого САМОГО. Над розовым полем кровати стоит нагой, но величественный верховный жрец. Ноги жреца лобызает Лисичка. На других щитах она и Болт Бух Грей воспроизводили изображения на колесных спицах и повозке храма Солнца.
Удовлетворенный пристальностью Курнопая, верховный жрец польщенно воскликнул:
— Классика!
Кива Ава Чел восторженно заклацала ладошками, Лисичка угнула голову.
До этого мига Курнопай не надеялся, что сцены Кивы Авы Чел с ним еще не отпечатаны, но все же верилось — моментов, непозволительных для обзора чужих глаз, там не будет. Теперь, запылав от стыдобы всей кожей, Курнопай знал, что они будут.
Чтобы не видеть их, Курнопай смотрел вверх. Глаза Болт Бух Грея успели перехватить его глаза и подмигнули, выказывая гордое довольство снимками посвящения Лисички и обещая, что картон с Кивой Авой Чел получился не менее картинным.
Курнопай передумал не смотреть на платформу с фотощитами. Коль он не сумел не подчиниться приказу, обязан перестрадать собственную неуправляемость и незащищенность.
Шепоток разочарования, как бы пересыпавшийся из конца в конец по Сержантитету, не оскорбил Курнопая: он и сам заметил на фотографиях торжество Кивы Авы Чел.
— Настырное создание! — промолвил Болт Бух Грей. — От меня отказалась, представляете? В эти исторические минуты, мой любимец, я задаю себе курьезный вопрос: «Кто кого посвятил?»
Ухмылка верховного жреца при ужимке не совсем ясного ему самому личного удивления отозвалась в зрачках Курнопая льдистым холодком, и Болт Бух Грей поспешил задобрить его:
— Будущность посвятителя у вас исключительная. Порода — раз, грация — два, элементы пробуждающегося эротического вкуса — три. Мастерство придет.
— Нет, — сказал Курнопай.
— Придет, — уверял Болт Бух Грей, настаивая на прежней мысли; его ухватливый ум успел сообразить, что подразумевал Курнопай под своим «нет».
Досада отяжелила сердце правителя. Уже выдвинулся из железобетонного колодца круглый помост с микрофонами-луковицами, объятыми кольцами, а он никак не мог возбудить в себе потребной для праздника патетики.
Наступила недоуменная тишина. Озадаченность сменилась на лицах опасливым присмирением, Болт Бух Грей направился к помосту. Он шел, встряхивая плечами и задирая манжеты к локтям, и лишь заговорил, голос затвердел от бодрости.
— Мы собрались в Мекке сексрелигии в честь триады посвящения. Нужно ли было отрываться от наших трудов и забот? Я вам скажу: да. Это посвящение государственного значения. Не берусь подчеркивать, какой масштаб придается событию, ежели в нем принимаю участие я, потомок и наместник САМОГО, главсерж, держправ, верхжрец.
Разом начали хлопать все три посвященки, за ними стал бить ладонью о ладонь Миляга, Курнопай взял руку под козырек. Едва захлопал Сержантитет, овации взорвались над горой и низиной.
— Не надо вам говорить, кем является для САМОГО, правительства и народа выпускник училища термитчиков Курнопай.
Овации, но без треска.
— Курнопай — всеобщий любимец и герой. Я не преувеличу, ежели скажу: он далеко пойдет. Залогом тому божественное наблюдение за Курнопаем САМОГО, моя забота о Курнопае и усилия по его воспитанию. Залог усовершенствования в батальных познаниях, вопросах сексрелигии уходит корнями в службу его бабушки Лемурихи в спецвойсках, в их сотрудничестве на телевидении. Как патриот армии и будущий держмуж я формировался на передачах мудрой бабушки Лемурихи с внуком Курнопаем.
Болт Бух Грей страстно вздохнул, под его ладонями раздался всплеск, будто в воду, стремясь схватить баклана, упал ястреб. И толпа яростно повторила этот всплеск.
Говоря о Миляге, он указал, что никогда не было на планете руководства, подобного сержантскому. Оно неотделимо от науки, как мужчина от женщины в момент соития. Достойнейшим представителем науки, совокупляющейся с правящим Сержантитетом, является главврач Самии Миляга.
Курнопай чуть не присвистнул. Вчера Миляга терял надежду на жизнь, сегодня в первом ряду властителей медицины.
Миляга, не обрадованный назначением, поникло насупился.
— Не скрою от вас, поскольку отношусь к вам, представителям народа, с абсолютным доверием, я подверг достославных Курнопая и Милягу испытанию на верность державе. Испытание выдержано превосходно. Тесты испытания на верность одобрил САМ. Главнейший из тестов: проверка на честность. Имеется порок в натурах наших граждан. Спрашивают их о чем-либо от имени власти, они предпочитают ориентир на ложь. Необходимо отвечать со всей искренностью, нет, они врут. Думают — посадят. С какой стати? Посадят за правду? Так ведь за правду! Страдать за правду, бывает ли необходимость отраднее? Правда всегда торжествует. Но когда? Вовремя — хорошо. С запозданием? Морально хорошо для общества. Кто из вас не захочет пострадать, дабы морально хорошо было обществу? Заверяю от вас — исключительно все.
Хлопали долго, но сдавалось Курнопаю, что в глубине души все поеживались от возможности пострадать за правду.
— Итак, проверку на честность Курнопай и Миляга выдержали превосходно. Не менее превосходно они посвятили известных девушек страны. От посвященок поделится впечатлениями дочь члена и членши Сержантитета Кива Ава Чел.
Вопреки предположению Курнопая, Кива Ава Чел не пошла к микрофону. Она запривстала на цыпочки, отбивая ударами рук полы накидки. Обнаружилось, что щиколотки и запястья Кивы Авы Чел окольцованы бубенцами. На краях накидки золотой оторочкой тоже сияли бубенцы. Звон был нежный, вкрадчивый от чувства неизведанности. Моментами она заворачивалась в накидку, скрещивала руки над бедрами, сгибалась, выражая стыдливость. Но стоило ей сбросить накидку, появилась мечтательность в сееве звуков. Редкие притопы пятками подчеркивали, что в приманчивости, создаваемой ее воображением, возникали мгновения не девичьей решимости.
На ней оставалась ажурная грация. Дразнящую белизну Кива Ава Чел стала защищать от мужского взора перекрестиями ладоней и уворачивалась от того, кем как бы была ловима. В пугливых ее жестах и прогибах появлялась томность. Томность сменилась вялой, как сквозь сон, подчинительностью.
До подробностей заметными движениями Кива Ава Чел освободилась от грации.
— Стрекозка, — промолвил Болт Бух Грей, оборотя лицо к своему любимцу, — высвободилась из фюзеляжа.
Какая там стрекоза? Руки посвященки распростерлись, хищно накогтясь. В этом, как и в снимках на фотокартоне, была лютая жадность, из-за чего становилось неприлично.
Курнопай опустил голову. Явно, спина Болт Бух Грея обладает кожным видением. Не оглядываясь, он строго заметил ему, что Кива Ава Чел долго отрабатывала танец, нелепо им не любоваться и пропустить миг экстаза, отточенный ею до совершенства.
Пока они стояли здесь, начало доносить из долины храма Солнца крохотные вихри.
Когда ожидание стало выгибать Киву Аву Чел, примчался вихрь и осыпался на нее цветочными лепестками.
Притворство было в привычках курсантов-термитчиков. И Курнопаю пришлось притворничать, но потом он, зачастую благодушный от антисонина, все же корежился от мук совести.
И сейчас угораздило его притвориться, дескать, засыпало пылью глаза. Он зажмурился, винтил кулаками над веками.
Он увидел ее, уже надевшую грацию и в накидке, еще промаргиваясь. Она шла к микрофонам. Заговорила просторным голосом.
Курнопая немного смиряло с повадками Кивы Авы Чел и там, в пещере, и здесь, на площадке, то, что она проявила искренность: не подогревала в себе радости, не славословила Болт Бух Грея. Исполнилось ее желание. Были непредвиденности. Беспрепятственному существу, которое не выносило и крохотных отказов, важно было пережить чувство отказа. Достижение особой престижности — безусловно одна из целей посвященки. Обряд посвящения навел ее на мысль, что свет престижности, сфокусированный в имени посвятителя без приложения к твоим личным достоинствам, не сможет полностью обеспечить душевное и телесное довольство.
Кива Ава Чел вернулась на место возле Курнопая. Болт Бух Грей вернулся к Лисичке. Но тут он вспомнил о чем-то существенном и быстро пошел к микрофонам.
— Женщина мудрая выросла. Она перекрыла мое представление об ее возможностях. Недооцениваем мы людей близкого окружения. Надо это понять и преодолеть. Посвященка народного любимца Курнопая несет в авангарде своих чувств истины сексрелигии, уходящей корнями в индийское учение о многомерности отношений мужчины и женщины. Копию знаменитейшего храма Солнца неподалеку от города Пури мой предшественник воспроизвел не полностью, надписи, например, на стенах храма. И правильно. Они имеют общее название «Кама-Сутра». Первая надпись гласит: «Женщина создана для мужчины и должна быть ему верна». Первая половина нами сохранена, вторая отсечена. Третья надпись гласит: «Познавай «Кама-Сутру» лишь с тем, кого желаешь». Мы преодолели ее узость. Кива Ава Чел слегка познала «Кама-Сутру» с Курнопаем. Представьте, она отказалась от моего посвятительства. Я ее поощрил, вопреки сану верховного жреца, и наша умница продемонстрировала верность духовно-телесной присяге, заложенной в третьем параграфе устава «Кама-Сутры». Я не оговорился. И так правильно ее назвать, ежели соотнести с пунктами воинского устава. Как в воинском уставе расписаны по пунктам правила ведения боя, так и в «Кама-Сутре» расписаны правила интимных взаимодействий мужчины и женщины. Не об этом я хочу доказывать. Я хочу доказывать о том, что мы расширили третий пункт. Познание «Кама-Сутры» необходимо с той или с тем, кого не желаешь, поскольку оно должно находиться в гармонии с программой держсержантов и духом сексрелигии. Курнопай, не желая того, посвятил Киву Аву Чел.
Вздох возмущенного удивления, разнесшийся над низиной и горами, перелился во вздох отрадной приязни.
— Я подхожу к главному, к моему научному открытию всемирного значения. Сегодня его одобрил САМ. Я подхожу к изложению моего учения о герметизме жизни. Я завидую вам. Представляю, я бы услышал о теории герметизма от кого-нибудь из вас, как бы я обогатился инструментом непревзойденного значения. Имеются, кто подумают: «Наш вождь хвальбун». Я не тщеславен. И ежели опосредованно я одобряю грандиознейшую теорию человечества, то по причине справедливости. Теории САМОГО уходят своими интеллектосвязями к богам, к галактянам, равным по разуму богам. Моя теория неотделима от теорий САМОГО. Что значит герметизм жизни? Все стремится к изолированности. Стремится отдельное. Стремится совместное, массивное, коллективное. Форма не терпит незамкнутости. Приведу пример из области зачатья. Живчик пробивает яйцеклетку. Яйцеклетка вбирает его и закрывается. Развитие зародыша мыслимо только в условиях отъединенности, изолированности, автономности. Постепенно первоначальная оболочка яйцеклетки превращается в оболочку плода. Плод прорывается сквозь оболочку, превратясь в ребенка. Ребенок прекрасно одет в свою розовенькую кожу. Сколько стадий зарождения, столько стадий самоизоляции. Все мы, кто присутствует на празднике, изолированы в самих себе друг от друга. Изолянты конкретны и абстрактны, просты и сложны. Нация отъединяется от другой нации большим числом крупных и малых особенностей: семейными отправлениями, бытом, обычаями труда и отдыха, одеждами, языком, нравственными и аморальными привычками, способами психологических решений, армейских традиций и в общем. Исключительно наглядный герметизм — беременная женщина, бутылка с вином, кокосовый орех, автобус с пассажирами, государственные границы, континенты, наша планета. Все живое на планете в оболочке. Сама Земля в геологической оболочке, в оболочке атмосферы, магнетизма. Загерметизироваться, что сие значит? Создать основы для жизни длительнейшей. Наша планета создала прекрасные условия для жизни на своей оболочке, когда погасила в основном работу вулканов. Разгерметизация Земли ведет к выходу магмы, газов, к выбросам каменных бомб, то бишь к трагедиям. Разгерметизация скафандра в океане, в космосе — трагедия, прокол машинного колеса — авария или катастрофа, разрыв аорты — гибель. Разгерметизация проявляет себя во взрыве снаряда, выстреле, ранении, смерти. Распад — один из видов разгерметизации. Пример из области державной. Слабая охрана госграниц или их ликвидация — потеря суверенитета, возможность для военного поглощения, инфляции, безусловна предпосылка для экономической зависимости. Национальная разгерметизация ведет к моральной всеядности, к полиглотству, к метисиаму, космополитизму, аполитизму. Герметизм — основной, истинный, без предела и конца фундамент бытия. Что я подразумеваю, втолковывая теорию и практику герметизма? Дабы мы не разрушали того, благодаря чему существуем. Имеются, кто сомневается в дополнительных усилиях нашего правления по герметизации державы и народа. Зря и опасно. В нашем обществе, в правящих организациях были проколы, разрывы. Сексрелигия улучшает герметизацию общества и правительства, весьма и весьма ее укрепляет антисониновый курс. Изменения в брачной жизни, новые формы роста народонаселения, улучшение генофонда нации за счет сокращения числа производителей — все это новые способы герметизации общества, державы, командных сил. В связи с теорией герметизации жизни повысится уважение к понятию «форма». Считается, что содержание важней формы. Фальшивка. Содержание есть то, что не в состоянии существовать без формы. Зато форма запросто существует без содержания. Пример в порядке шутки. Военный без формы — человек. Форма без человека — обмундирование. Оно превращает обычное гражданское лицо в представителя власти, государства, рода войск. Завидую вам, господа граждане. Поздравляю вас с законченной теорией существования жизни. Великий САМ посоветовал запатентовать мою теорию как творение национальной философии. В противном случае кто-нибудь присвоит. Перехватчиков чужих идей — собачьи своры. Эксплуататоров наших идей, нахребетников на них — и того больше. Так запатентуем мою теорию от имени нации. Взял патент на герметизм — плати золотом. Используешь, но патент не взял — заплатишь, международный суд заставит. Ежели что — оружием заставим, то бишь произведем разгерметизацию посредством прорыва границ, захвата теорий, кровопусканий. Клянусь САМИМ, теория герметизма гениальна. Спасибо за внимание…
В какой уж раз за последние дни восхищался Курнопай умом Болт Бух Грея и признавал в ответ на сомнения, что кажущееся немыслимым количество постов он занимает по праву.
Но когда Болт Бух Грей излагал теорию герметизма жизни, Курнопаю хотелось подловить его на ошибке, нелепости, нестройности. Ни на чем он не подлавливал правителя, радовался этому, и все-таки сохранялось желание хоть на миг, пусть про себя, уличить его в заблуждении. Затем он опять, чтобы не разочароваться в себе, склонялся в доброжелательности, свободной от подозрений и предвзятости.
Курнопаю казалось, что именно сегодня придет к нему очистительное избавление. Болт Бух Грей еще говорил, а Курнопай уж приготовился совершить поступок искупления. Он не хлопал и не орал вместе со всеми. Он терпел, веруя, что его изумление перед потомком САМОГО воплотится в словах.
Болт Бух Грей запланировал выверить Курнопая на теорию герметизма жизни. Ежели и ее сдержанно воспримет, надо перечеркнуть замысел сделать его соратником номер один.
Курнопай окаменело вытянулся, невидяще воззрясь в небо. Это отозвалось в Болт Бух Грее предосторожностью. Он выдернул из державного чехла жезл — декоративный образ туманности Лошадиная Голова, откованный из метеоритного железа. В маковку жезла была встроена портативная ракета. Пуск, и с врагом покончено.
Вскидывая над плечом жезл, чтобы унялся народ, Болт Бух Грей опечаленно подумал: «Готовишь соратника, получаешь низвергателя».
Едва возобновилась тишина, Курнопай взял под козырек и, чеканя шаг вскидываемых на уровень пупка ног, как подобало направляться к верховному главнокомандующему, пошел к Болт Бух Грею. Он не видел, что жезл державного правителя щегольски, как мундштук для курения, зажатый между средним и указательным пальцами и упертый в ладонь, наведен ему в грудь.
Из-за волнения — оно будто ножницами перестригло его дыхание — Курнопай проговорил:
— Ти-ти-тити титититься?
Болт Бух Грей, усилив в сердце бдительность, сказал с ухмылкой в голосе:
— Разрешаю обратиться.
Курнопай проклял внезапно прорвавшееся подобострастие и совладал с собой.
— Я обращаюсь к вам, наследнику САМОГО и повелителю Самии, для выражения переполняющего мою грудь патриотизма, — Курнопай чеканил слова, как только что чеканил поступь. — Вы произнесли речь века. Никому в нашем столетии не удалось сказать речь красивей, содержательней. Я осмелюсь сравнить ее по огромному влиянию на меня лично с речью САМОГО, которую я выслушал подростком с моей посвятительницей Фэйхоа. Вы невероятный мыслитель и вождь! Отныне вы становитесь для меня отцом самийской нации.
Болт Бух Грей не изменил положения державного жезла, пока Курнопай не сделал поворота кругом. Он поулыбался с одобрительной ласковостью тому, что Кива Ава Чел и Лисичка стали виться вокруг Курнопая, как вчера вились вокруг него под знаменем Самии.
В долине скандировалась просьба: «О-тветь! О-тветь!», поэтому Болт Бух Грей склонился над микрофонами.
— Когда дается оценка тобой содеянному, понимаешь, кто находится за твоими достижениями. За моими достижениями стоит САМ, его учение и народ самийский.
Разнеженному Курнопаю померещилось, что налетел тайфун. Он хотел подхватить Киву Аву Чел и Лисичку, умчаться с ними в пещеру, иначе их убьет деревьями, камнями, а то и унесет в океан, но до него дошло, что это с овациями сливаются здравицы, свисты, топоты.
Никак не могла установиться тишина. Болт Бух Грей вернулся к Лисичке, погладил Курнопая по лопаткам. Выразил ему признательность за выступление, не предусмотренное протоколом. И Кива Ава Чел повторила главсержево поглаживание по лопаткам. Курнопай передернулся. С детства он презирал подражательность. Впрочем, он, как Болт Бух Грей и Кива Ава Чел, был сосредоточен на себе. Самооценка мешала Курнопаю серьезно наблюдать за ними, потому он огорчился ее замечанию.
— Очень престижно, что посвятилась у тебя. Думаешь, для Бэ Бэ Гэ не составляет престижности твое одобрение?
— Знать не знал о престижности и не хочу знать.
— Посмотрим, о чем будешь мечтать в немилости.
— И этого не хочу знать.
— Ты ребеночка не хочешь от меня, а я рожу.
— Зачем?
— Для улучшения генофонда нации.
— Я не женюсь на тебе.
— О, ты ведь был изолянтом. Браки, к твоему сведению, приостановили в год твоего приобщения к училищу.
Болт Бух Грей щелкнул Киву Аву Чел в затылок. Не того человека она взялась исправлять. И добавил, поощрительно глянув на посвященку, что сексуально проявленная матриархальность обнаружила в ней позывы к диктаторству.
Киву Аву Чел обидело высказывание Болт Бух Грея. Обещал эмансипировать элитарных женщин вширь и вглубь, а покушается даже на свободу умоизлияния.
Против умоизлияний Кивы Авы Чел он не возражал. Пусть изливается в разговорах о новых модах на одежду. И напомнил ей о неоглашаемом прыжке на БЕЗМЫСЛИЕ.
На лице Болт Бух Грея была снисходительность, но она сменилась выражением неуклонной симпатии, прежде чем он продемонстрировал неожиданное для нее изречение:
— Властители дают свободу, чтобы окончательно ее отобрать.
— Ай-яй-яй, господин всеглавный. Ваша откровенность может разгерметизировать мое уважение к вам. Я еще не позабыла формулу опального Ганса Магмейстера, которого вы назначили моим идеологическим наставником:
«Время от времени надо смазывать губы народа нектаром воли, и он будет думать, что свобода увеличилась».
— Кивочка, есть у правителя необходимость зондировать окружение на важнейшие принципы. Зондирование на свободу — первейшее для меня. Подчас под афоризмом — провокация. Я приподнял штору над твоим отношением к свободе. Ежели ты и не безразлична к свободе, то потому, что у тебя, высококастовой, ее много. Ты уверена, она не убудет. Благодушествуешь. Не все течет, но все обменивается. Маршальское звание было высшим, сместилось на сержантскую ступеньку. Сержантское звание заменило маршальское. Суша замещает воды, воды сушу, магма выбрасывается из ядра, земная кора сползает в ядро. Содержание превращается в форму, форма в содержание. Теперь о Гансе Магмейстере. Он — ведун, то есть ему ведомо о человеке, обществах и народах в целом то, до чего редко кто додумается. Но опальный, значит, тот, кого надо бдительно осознавать, иначе не научишься мыслить независимо.
Они пошли к танкам, закрытым помостами и фотощитами. Над башнями танков оказались постаменты. На них, охваченных кольцевыми зажимами, стояли носороги. Для правителя и Лисички отловили двурогого носорога. Носорог, свирепея, выпучивал карие глаза, он пытался высвободиться из стальных зажимов, массивных, как тюбинги, которые применяются для крепления метрополитена.
Все три пары уселись на своих носорогов. Посвятители впереди, посвященки сзади. Двурогий носорог пробовал встать на дыбы, едва Лисичка под музыку «Танца Маленьких лебедей» начала прядать ногами на его широком крупе. Курнопаев носорог, как только зацокали кастаньеты, выбивая ритмы испанского танца, принялся пускать ветры.
Подробив каблучками по зажиму, Кива Ава Чел, следуя звуковому узору танца, с озорным кокетством протараторила:
— Разгерметизация.
Чтобы взбодрить насупленного Курнопая, она ткнула указательным пальчиком по направлению к носорожьему крупу — указующий перст для представителей народных масс — и, хохотнув, выкрикнула:
— Разгерметизация.
Как раз носорог от пускания ветров перешел к извержению.
Врач Миляга, удивлявший Курнопая благостным поведением, от восторга заподскакивал на своем носороге и так проорал вослед за ней слово «разгерметизация», что праздничные толпы покатились со смеху.
Курнопай и Кива Ава Чел заметили промельк злой молнии в глазах Болт Бух Грея. Курнопай еще лишь посожалел, что Кива Ава Чел ненароком возбудила кощунственную веселость по отношению к гениальной теории жизни, и только собрался чем-нибудь умилостивить главсержа, а уж посвященка, опять крикнув: «Разгерметизация», — стала раздеваться, будто имела в виду обнажение. Чертовка подала знак к раздеванию Лисичке и Милягиной посвященке и шепнула Курнопаю:
— Спасай.
Болт Бух Грей («Да как он слышит-то?») мигом позже клюнул носом: мол, одежду вон. И Курнопай, оскальзываясь на загривке носорога, принялся раздеваться; он вторил при этом егозливо-прыгучей музыке. За ним разоблачился Миляга. Он сиял от удовольствия, ткнувшись вперед, на колени и локти, да еще крепко схватясь за рог бегемота, отчего животное фыркнуло, вертя башкой.
Народ одухотворился под воздействием веселья посвященок и посвятителей. Возникла виолончельная мелодия шакона. Мужчины и женщины низины в плавной истоме протягивали друг к дружке ладони, вышагивали, чуть ли не до ключиц воздевая колени. В секунды после торжественных поклонов, полных вежливой грациозности, не переставая следовать рисунку танца, они занимались взаимным раздеванием. Очередное па вынуждало пары продолжать танец, они плыли в глянцевом от жгучего солнца воздухе, неуклюжие от сосворенных на шеях кофточек, от захлестывающих колени подтяжек…
— Курнопочка, полюбуйся! — воскликнула Кива Ава Чел. Распахнутым движением рук она как бы вызвала к действительности людей, совершающих на обочине дороги обряд обоюдного моления. — Вот это сексэнтузиазм! Шакон не предусматривался программой.
Смотреть Курнопай не пожелал. Он спрыгнул с носорога, одевался. Его трясло от озноба тела и души.
Танки остановились перед въездом на платформу храма Солнца. Черные жрицы снесли по трапу верховного жреца. Осыпая его цветами женьшеня, посадили на резной трон, напоминающий конструкцию, принятую вчера Курнопаем за фонтан. Трон находился перед столом, над которым свисали с вертелов жареные бизоны. В коричнево-красные бока туш были вонзены вогнутые в лезвиях ножи. Мучительное сходство ножей с орудиями жертвоприношений проявило в памяти Курнопая снимок: Главправ Черный Лебедь возле бенаресского храма богини Кали глядит, как жрец встремил шею козленка в каменную вилку, приготовясь отсечь ему голову кривым мечом.
И вдруг Курнопай почувствовал, что непереносимы больше события этого дня. Он должен исчезнуть отсюда, чтобы не приняться полосовать вогнутым ножом всех, кто накинется на мясо бизонов.
Пока он укреплял в душе решимость — взять и сбежать, черные жрицы подхватили его и понесли, чтобы усадить в кресло, подобное планете Сатурн с кольцом. Еще издали он начал просить Болт Бух Грея ради доброго исхода праздника отпустить его к океану. Тот, следя за блондинками, вчера изгнанными, а сегодня несущими серебряные котлы, всклень налитые густым алым зельем, не остался безразличен к словам Курнопая. Он угрюмо заметил, будто бы опасается задерживать народного любимца в застолье: Курнопай может зарезать его, хотя полчаса тому назад назвал отцом нации.
Болт Бух Грей ошибался, предуготовив ему роль своего убийцы. Курнопай даже в состоянии умопомрачения не мог ударить человека, однажды умственно его изумившего.
По-мальчишески сердито Курнопай буркнул, что при всем при том он гораздо благородней, чем это может представиться прозорливцу.
Черные жрицы отгородили застолье от толпы прозрачным пластиковым забором. Сверху они натянули тонкую металлическую сетку. Как индеек, кшикая, они выгнали за забор блондинок, и те, заигрывая с породистыми юношами, начали слоняться перед толпой. Что-то от охранниц было в их шагах. Когда в кольцо воздуха между забором и толпой заскочил вихрь, под хитонами блондинок, им раскинутыми, оказались крошечные никелевые автоматы.
Верховный жрец притронулся к золотому ковшу. Толпа принялась щелкать ладонями. Славила Болт Бух Грея. Чудная невообразимость была в ласкательных именах, которые выкрикивались: Бриллиантовый Леопард, Горный Тур Величья, Голубой Водопад Солнечной Эпохи, Вечный Активист Генофонда. После кратких пауз мощно скандировалось: «О-тец нацьи, о-тец нацьи!» — но это почему-то раздосадовало Курнопая.
Славили Курнопая, Милягу, посвященок. Ужаснувшись тому, что забыли о САМОМ, Курнопай воскликнул:
— Да здравствует великий САМ! — и встревожился: «Скоро, наверно, все имена наглухо закроет имя Болт Бух Грея?»
САМ, похоже, возбудил в нем мысль о несуразном поведении. Ему подумалось: «Болт Бух Грей — император удовольствий, а его чествуют. Миляга и я счастливчики, нас — тоже. Посвященки из выкормышей неги окутаны маревом счастья, им — обожание. А сами-то массы? Счастья у них пылинка, обездоленности с лихвой, а мы их не славим».
Вскочил Курнопай, гаркнул, перекрывая взлохмаченный ор толпы, аж в двенадцатиперстной кишке засвербило от истошности:
— Сы-лава ны-ароду САМ-МОГО!
Ответом Курнопаю было задорное содрогание неба и земли.
По ритуалу верховный жрец после дотрагиваний до паха посылал пастве воздушные поцелуи. Наступило молчание. В долине до того стало тихо, что было слышно, как отражаются солнечные лучи от храма и человеческих голов.
Болт Бух Грей заговорил о верности. Ею-де крепнет нерасторжимость САМОГО и его наместника в стране, слитность Сержантитета и народа, спаянность всех граждан отечества. И ею, верностью, крепнет любовь. Не просто любовь — с большой буквы. Поскольку он, Болт Бух Грей, единственный, за исключением САМОГО, теоретик сексрелигии, он обязан провести различие, дабы не порождалась путаница между любовью с большой буквы и обиходкой, то бишь повседневным, как еда, зоологическим чувством, точно названным сексом. Любовь с большой буквы предполагает неизменность женщины своему владыке — мужчине. Тут, надо подчеркнуть, он развивает известное положение «Кама-Сутры». Другое положение, где утверждается, что мужчина раб любви женщины и верен ее богу Кришне, не ей, а ее богу, он, верховный жрец, обогащает чистой сущностью. Любовь с большой буквы осуществляется взаимной верностью. Мужчина, исполняющий долг посвящения, не является изменщиком. Что касается секса, здесь сверх приемов «Кама-Сутры» он не имеет добавлений. Так вот, он хочет сказать народу, что Самия объявляет любовь Курнопая и первой советницы держправа Фэйхоа любовью с большой буквы. Он смеет сознаться перед народом в том, что, питая влечение к Фэйхоа и делая все необходимое для улучшения генофонда нации, он пожертвовал ее головорезу номер один. К любовной верности Курнопая можно с убежденностью добавить его верность идеалам САМОГО, ему, потомку-наместнику САМОГО, армейской клятве, и в общем. Что бы еще он отметил в праздник посвящения? Сегодняшний энтузиазм продемонстрировал верность самийцев сердцевиннейшей из религий. Докладывая САМОМУ о празднике, он заверит его и впредь спокойно полагаться на потомка-продолжателя, Сержантитет, на всеобщую сексрелигиозность народа Самии, равную национальному патриотизму.
Болт Бух Грей предложил причаститься к напитку посвящения, сделанному по его рецепту на крови зубробизона, кагоре, толченом рубине. Пьют посвятители, за ними — посвященки, далее — остальное застолье. Представители самийских масс покамест выпьют в своем воображении. Позже, при выходе с территории храма, каждый причастится рюмкой этого напитка.
Вслед за причастием Болт Бух Грей поцеловал Курнопая в подбородок, сказал, что к океану он поедет на его белом автомобиле, напоследок шепнул, что всем сердцем завидует ему.
Ехал медленно он и рванул вдруг на всех скоростях, словно кто-то ее мог похитить. Дымка близкого к океану каньона просквозила из ущельной своей низины, и невольно он тут тормознул.
Арабиса белые венчики возникли на кромке обочины, а дальше была пустота. Случайность спасла или САМ уследил, что погибнуть он может: левей повернуть ни за что б не успел. Ладно, ладно, чего уж там каяться. Постыдство последних событий нелепо аукнулось в сердце.
Холод вознесло по белесой стене ракушечника. Из нее выступали винтом панцири древних моллюсков. Долго ли, мир, ты продлишься? Люди долго ль продлятся?
Ярким таким же днем кто-нибудь наклонится над срезом дороги, где все тот же арабис цветет, и обнаружит угрюмо стену из человеческих костяков.
Дьяволиадностью зараженные, мы беспечно природу хороним, а она все равно в отложения нас, в отложения запечатает вместе с камнями. Вот и получим мы герметизм.
Оголтелая скорбь улетучилась из души. Дана еще людям возможность оставаться на свете. И ты — лишь случайное проявленье единства различных полов, созерцаешь невинный арабис, каньоны, вдыхаешь туманный поток пропастей на пути к небывалой, которой, к печали, не повториться в веках, к почти неизведанной Фэйхоа.
Исключение ты, раз не стала чужой, Фэйхоа, странно преданная для времен, в чьем потоке на стрежне бесправие тела, кощунство над внутренней волей, столикость, в оргазм заключенная вера, немилосердие к правде и чести…
Одиночеством накатил готический склон в глаза. Обманулся? Ты весь поглощен собою, своим, а то ведь могла просто спускаться женщина из селенья в селенье. До чего же мы крутимся сами в своем? Ах, проклятье, не научимся мыслить себя среди множества целей и бессчетных существований.
О, за кедром желтеет полоска одежды. Затаилась. Пускай обомрет от испуга, что скрылась, подразнив его сердце. Аравийка, балийка, японка, да ты все девчониста в милых повадках, а его-то мальчишество испепелилось в термитном огне.
Аукнул. Теплея, вернулся из гор его собственный зов. Ярость радости оборваться просилась в рыданье. Лихорадочно вдруг повернуло к соседнему кедру. Ослепило сиянием жемчуга. Увидел истомленное мыслью лицо.
До чего же родные глаза эти карие с апельсиново-тонкой оранжевостью белка и ложбинка меж крыльцев, угловатых и гладких.
Льдом, о, САМ, о, великий отступник от душ человеческих, отдает ее грудь, позабывшая поцелуи. Никакие идеи, как бы ни были оправдательны, не заслуживают уваженья, если девушка честности все еще не жена. Исполинскую нежность он ей принесет, пусть она отливается в спелых, как манго, детей.
Коричная коричнева подевалась куда-то. И тело ее белоснежно теперь. Овдовелые женщины, где-то читал, высветляются духом, и взором, и телом. Лишь познала его, и разлука на годы. Почти что вдовство.
Ах, какая неистовая приспела любовь. Милованья откроют ему до кровинки, до жилки, до косточки всю Фэйхоа. Не забыт аромат этот ласковый, учащающий пульс, — земляники и ананаса со сливками, аромат Фэйхоа.
Холодком предвечерним их встречал океан. Отдельность свою он чувствовал, отражая их в фиолетовых водах прибрежья. Ликовали они глазами, поворотами плеч и поступью, всем своим состоянием обоюдности, возникшей затем, чтоб завершиться бессмертием.
Агавы, обложенные каменьями, тянули к тропинке медные трубы цветов, и мерещилось, что исторгнутся звуки из них, подобные кликам в стаи сбивающихся лебедей, почему-то кружащих в беззвездные ночи над океаном.
Включив нажатием клавиша электромотор, Фейхоа направила катер к хрустальному маяку. Шелест воды, завихриваемой винтом, не заглушал ее голос. Завораживал он Курнопая своими мелодиями, подобными пению иволги. Она увлеклась изучением неба. Нужно было узнать созвездия зодиака, чтобы навостриться в составлении гороскопов. Главсерж и приспешники, волнуясь за власть и себя, стали впадать в оккультизм. Она не астролог, а пифия. Предсказания охраняют ее независимость.
— Эх, здорово!
— Кстати, от самодовольства освобождают туманности. Когда я впервые навела телескоп на скопление звезд в Андромеде, подумала: «Да чего мы кичимся друг перед дружкой, изображая величие, обеспеченность, бессмертие, красоту? Пыльцою вселенная видится. Самые крупные звезды ее гораздо светимей и жарче, чем Солнце… То кто мы? Невидимость, невидимей микромира». Гороскоп отражает сомнительность свойств у планет и созвездий. Пока мы не ведаем о влиянии звездных скоплений на нашу планету и влияния Солнца на планету и нас не умеем постичь. Изображать из себя оккультистку, направлять Болт Бух Грея и его окруженье — хитрить, скажет он. А пристало ли честной натуре хитрить? Ради добрых надежд надо в мире хитрить, потому что злонамеренность на планете изощренно лукава. Бесхитростные аистята становятся жертвами аллигаторов. Сроду искренностью и простотой народы гордятся. Таится погибель в откровенности для народа в те эпохи, когда он доверчив. А впрочем, он обычно неосторожно доверчивый. Ясно, бдительные народы бывали и есть, но, чуть что, лишь едва зазевались они, властелины ввергали их в черный обман — столетья недоли. Кабы обманы не являлись извращеньем сознания, где за святыню — подлог и бойням кровавым придается возвышенный смысл, то тогда бы на простодушие она не глядела как на опасную выморочность. Но пускай он не думает, что нет у нее догадок о влияньях созвездий и Солнца, спутников и планет на Землю и человечество.
Нежность от присутствия Фэйхоа, оттого, что недавно подчиняла себя его чувствам, и, конечно, оттого, что мог он в любое мгновение призывно скользнуть ладонью по щеке ее гладкой и притянуть в поцелуе и унести на руках в салон, и она и не вспомнит за ласками, что мчатся они на маяк и вот-вот разобьются. Из-за этого не вникал в заботы ее ума, хотя были ему сродни.
«Астрологиченька вынужденная моя, — он страстно подумал до пресеченья дыханья, — страдание мысли людской совсем исчерпалось. Наслаждение чувства приспело, неотвязное, как простоватая честность народных людей. Наслаждение, что впадает в насилие, как победить его людям, ему?»
Странным Курнопаю не показалось собственное побуждение, и совесть себя не обозначила, когда, отключивши мотор, он вскинул ее на плечи, будто рыбак марлина, и спустился в салон, где держался полосчатый сумрак из-за опущенных жалюзи. Ожидала, должно быть, что он проявит бизонью безудержность? Ни обиды, ни робости он не заметил: готовность, равную ненасытимой его охоте.
…Океан выстлался перед закатом.
Растерян был Курнопай внезапно: в лед, да и только, вмерз их катер. Уста, пересохшие от поцелуев, на губах даже ощущались пленочки заусениц, прошептали ошеломленно:
— Океан бездыханный!
Тотчас к нему выскользнула Фэйхоа. От бортов отслоились круги, но быстро сгладились, и снова обозначилась прозрачная отверделость.
В отличие от губ Курнопая, губы Фэйхоа росно мерцали, как на горах утрами горицветы, оттенком в гранаты Бразилии. Ни разу она не видела океан застылым и с безотчетностью повторила слова Курнопая: «Океан бездыханный!» — и Курнопай услыхал влажное, электрически соблазнительное пошелестывание губ Фэйхоа.
А едва началось движение воды, они изумились тому, что присутствовали в точке такого покоя, который как гармоническое равновесие между ними и катером, катером и океаном, океаном и земным шаром, планетой и Солнцем и, пожалуй, между Солнцем и нашей вселенной.
Краснотой предзакатности пронимало маяк, из-за чего в нем стала еще черней спираль лестницы из чугуна. Радостно они проскочили шлюз и, глядя на замкнутую дугу мола, кричали:
— Свобода! Свобода!
Океан устремился к берегу. Течение, а шли они наискосок ему, было единомассивно: ни потока, ни струинки. Катер сносило, и, чтобы не напороться на риф, оба зорко замечали, дивясь быстроте воды, как длинно она вытягивает канаты разлохмаченно-пестрых водорослей и как, не поддаваясь приливу — подхватит, завертит, раскромсает о рифы, впарывались в него сарганы, барракуды, акулы, дельфины, зубаны, макрель, лунорыбы.
Опасность мешала им разговаривать. Если бы даже не нужно было проявлять осторожность, то и тогда бы они больше молчали — очнулась душа Курнопая для стыда и раскаяния: «Бесновался…» — а Фэйхоа печалилась о безудержности Курнопая…
Пересекая залив, въехали в тень сизой горы. Гора называлась Двуглавой. Ни в чем Курнопай не искал сходства. Его глаза, истосковавшиеся о природе, где не обозначало себя присутствие рыбаков, сборщиков водорослей, камнетесов, упивались скольжением волны и перевивами ее цвета, ловили, словно могли отснять, виды воды и земли, куда вставлялись, как в кадр кинокамеры, то альбатрос над винтовым горизонтом, то пиния, выросшая на зубце скалы.
Но едва очутились в тени, Курнопай уподобил гору мужчине и женщине. Сидят около океана, приникнув друг к дружке; им уютно, счастливо, настолько уютно, счастливо, что живут они лишь самими собою; и если чудится, будто задумались об океане, то это от сумерек: начальная темнота всему придает думный облик. «Как хорошо им! Вместе всегда бы и всегда воедино. А у меня? Что у меня? Всего лишь легкий вдох ненадежной свободы».
И сердце прожгло тоской, будто один он теперь, дни встреч оборвались, возвращается в армию. А Фэйхоа-то сидела рядом, на корме. Печально он повертел склоненной башкой. Чистое наваждение — поступь его сознания. И все-таки надо было удостовериться в том, что он не отозван из отпуска, не один, а вместе с заветной своей Фэйхоа.
Курнопай приник щекой к ее нахолодавшему плечу. Фэйхоа отклонилась. По-детски пожаловалась:
— Больно.
Рывком притиснул ее к себе, уткнул подбородок в плечо как раз над острыми косточками, где оно смыкалось с предплечьем.
— Пусти.
— Не отпущу.
— Вонзилась щетина.
— Неужто!
Она (откуда берется при боли женская нежность) чуть-чуть провела кончиками ногтей по его щетине. Он услышал потренькивание и замер. И запрядали пальцы по щетине. Как прыгучие звуки цитры звенели они для Курнопая и уносились по ветру, сплетаясь с контрабасным брунжаньем мотора, с валторновым наборматыванием воды.
Подножье горы приближалось. В гротах мелькали летучие мыши, зимородки, бакланы, чайки, зовущиеся бургомистрами за важность повадок и за внушительную величину клюва и головы.
Вода уплотнилась, черна. Брызги, отшибаясь от каменной кромки, глядятся смолой.
Щелкнула клавиша управленья. Мотор, переходя на малые обороты, заворковал.
Впереди из воды выступали скалы, похожие на фрегаты.
Щемящая настороженность возникла в душе Курнопая и вдруг обернулась дознавательским тоном:
— Ты здесь пасешься?
— Что значит «пасешься»?
— Ну, часто бываешь?
— Бываю.
— Зачем же?
Реакция головореза номер один, хваленая-перехваленая на страну, не подтвердилась: выпрыгнула из катера яростная Фэйхоа, а у него и рука не взметнулась для хватки. Исчезла она в воде, и тогда только метнулся он за борт и ринулся на оранжевый неподалеку шелк.
Отвальные волны мешали его погруженью и относили в сторону. Но Курнопай, раздирая тугие потоки, — от гребков пузырилась вода, как от подачи сжатого воздуха, — рвался и рвался на тускнеющие желтые колебания.
Вынырнул. Никого. Собрался опять погрузиться. Появилось ее лицо, не полностью — лоб и глаза. Наверно, предполагала незамеченной скрыться, чтобы проклял напраслину.
Углядев Курнопая поблизости, в отчаянии полувыбросилась из воды. Потихоньку катер двигался на фрегаты. Не того испугалась, что разобьется о скалы (из пластичной стали обшивка корпуса, для подстраховки в бортах надувные полости), испугалась того, что откат от горы тут уходит с такой косиной, что катер обминет камни и подастся в простор океана. Возвратиться отсюда сумеют через хребет. Но на виллу никак не попасть, нужен ключ от нее, — остался на катере, — он же шифр для электронной охраны: прибыли гости, и воспрещающий знак для пограничного патруля — в зоне не появляться.
И метнулась вдогонку за катером Фэйхоа. Не плыла, а бурунила воду, подобно дельфину, когда он, заметив восходное солнце, летит на него, подгоняемый резвостью.
Курнопаю вдруг взбрендилось, вот и отлично, что нежданно суденышку выпала воля. Заточенье лагунное, наверно, осточертело? Закричал он приказно:
— Стой, Фэйхоа! — И едва его голос разнесся по вогнутости горы и раздробился в выси возле голов мужчины и женщины, живущих самими собой, обрадованно заорал: — Ура! Всем троим повезло на свободу.
Но Фэйхоа неслась, догоняя катер, его нос разворачивало на простор.
Сумасбродная щедрость Курнопая пресеклась мигом позже. Стайка рыб проскочила под ним, стукая по ногам. Не впервой это было ему. Мальчишкой, купаясь в накат, попадал в косяки, что кормились на отмелях, мутных от взвеси. Поначалу на берег выскакивал, потом понарошку пугался — дрыгался, отгоняя непрошеную мальтву.
Теперь прознобило страхом. Отвык. И внезапность. И может быть, рядом хищник. Опасность пораскатилась в нем, точно взрыв. Даже поозираться выдержки недостало. Метнулся вослед Фэйхоа. Из торпедного аппарата выметнуло, да и только. После, вышучивая себя, он говорил Фэйхоа, что если б акулы за ним гнались — отстали б в секунду.
Катер развернуло, она выскочила на корму и выдернула из воды Курнопая.
Давая понять, что не простила ему, велела переодеться в спортивный костюм. Каких только не было там костюмов! Отобрал белоснежную водолазку и черные брюки со «стрелками», об которые, как принято было подзуживать в школе над аккуратистами, можно порезать ладони.
Тем временем Фэйхоа причалила катер к мостику и побежала к вилле.
Замерзла. Влажный шелк облепил ее тело и вызывал озноб.
Сияние сарафана, удивительное без электричества и луны, возбудило в нем нежность. Покаялся. Не простила. Дважды перед нею преступник: ладони спалил и усомнился в ее чистоте. Бывает ли горше для ожидания, чем неверие в то, что оно совершилось всему вопреки? Ладони, ладони и пламя на них — вот откуда, наверно, белизна ее тела?
Фэйхоа исчезла в коридоре виллы. Курнопай отправился ее искать. Над дверью, где по синему фону было написано темперой созвездие Ориона, горело табло: «Покои только для САМОГО». Дверь с изображением храма Солнца была слегка приоткрыта, хотя над нею горело табло: «Покои Болт Бух Грея». Курнопай решил, что Фэйхоа специально приоткрыла дверь, чтобы он сообразил — можно войти. Через тамбур, где, наклонясь, пронырнул под металлической аркой, похожей на красно-синий магнит, попал в зал для заседаний. Посреди зала возвышался трон резной слоновой кости, возле стен стояли кресла фисташкового дерева; чуть выше каждого из кресел был привинчен медальонный портрет из золота, оттиснутый на чекане, члена или членши Сержантитета, кому предназначалось сидеть на этом месте.
«Чтоб не перепутали», — усмехнулся Курнопай. Внезапно ему вздумалось подурачиться. Он взбежал по ступенькам к трону. Уселся. Трон как под фигуру его подгоняли. Приятно поразился глади и теплоте слоновой кости. Кхекнул, словно Сержантитет лясы точил, забыв о присутствии своего предводителя.
— Сегодня властью, вверенной мне САМИМ, сексдуховенством, моим народом, мы обсудим, как прошло державное посвящение, произведенное персонально мною, моим любимцем генерал-капитаном Курнопой, главврачом государства Милягой. Поелику сан верховного жреца вне обсуждений, попрошу выразить мнение о посвящении, произведенном Курнопой. Есть пожелание попросить родителей Кивы Авы Чел…
Курнопай отыскал взглядом портрет отца Кивы Авы Чел. Кольчатые волосы, четырехугольное лицо, дырочки-ямки на щеках. Перебежал в кресло под портретом. Помялся, не претендуя на готовность к ответу:
— Не могу не посетовать на каприз нашей Кивочки. Она еще спохватится, она еще пожалеет, от какого посвятителя уклонилась. Глупышка лишила себя и наш род возможности причаститься к духу и плоти потомка САМОГО.
Курнопай перебежал на трон и грозно промолвил:
— Но-о… Я засомневался, относится ли вашенская генеалогия к народам рацкатегории.
— Относится, отец нации, всенепременно.
— К народам эмоцкатегории.
— Рацио у нас всегда определяет всех и вся.
— Но-о… — и тут же вернулся в кресло отца Кивы Авы Чел и как бы подхватил грозное «но», однако придал ему интонацию удовлетворения:
— Но, сетуй не сетуй, акт посвящения совершен и не кем-нибудь — любимцем САМОГО, персональным любимцем Болт Бух Грея. Не был бы я истинным приверженцем сексрелигии, выросшей из революции дворцовых сержантов, если бы не отдал должное вашему знанию, повелитель психологических прорв человеческой личности. Посвятитель Кивочки генерал-капитан Курнопай сложился в чувственном отношении по генетическим законам прошлого: он не испытывает полового влечения к той, каковую не любит. Вы поняли это с непревзойденной проницательностью, посему приказали Курнопаю как военному посвятить Кивочку. Ход на грани магии. Здесь вы — неслыханный психолог и невероятный режиссер. Любовь у Курнопая не появилась. Зато, образно выразиться, орудие вскинулось на зарю. Не могу не посетовать, что на долю Кивочки выпала инициатива… Как бы то ни было, посвящение — благодаря вам. Применяя вашу теорию герметизма, с удовольствием говорю, что разгерметизация девственности произведена во имя герметизации общества, народа, индивидуумов. Вышеизложенное заставляет предложить Сержантитету установить главсержу, держправу, верхжрецу звание главного государственного теоретика, главного психолога, главного режиссера. Да здравствует предводитель Сержантитета, гениальный, глобальный Болт Бух Грей.
Ухмыляющийся Курнопай возвратился на трон, вообразив, что обхватил ладонями рогатые висы, твердые и гладкие на поверхности от лака, буркнул, подергивая уголками губ:
— Кто за то, чтобы присвоить мне, главсержу, держправу, верхжрецу, звание главного государственного теоретика, главного психолога, главного режиссера, прошу голосовать.
Не взглянув на Сержантитет, объявил:
— Единогласно. Теперь слово членше Сержантитета, матери посвященки… — Курнопай замолк — наскучила собственная забава.
Надо было искать обиженную Фэйхоа.
Из зала заседаний он прошел в гостиную без окон. На стенах серебристый атлас, на нем вышиты голубые сороки, красно-синие зимородки, крапчатые скворцы, на черном оперенье которых зеленый, фиолетовый, коричневый лоск. У всех атласных птиц брачная пора: охорашиваются, обираются, спариваются. На столике возле белой софы лежала стопа красочных книжек журнала «Черная пагода». На каждой из обложек был Болт Бух Грей запечатлен. Он глядит сквозь колесо из песчаника, на спицах которого скульптурные ордера: он свился по-осьминожьи со студенткой из Канады, приехавшей в Самию на сексканикулы; он, бешено нагой, идет по бушующим травам, мерцающим от солнца, к женщине, ждущей на краю пропасти, он закладывает пуму согласно досамийскому культу животных, когда их народ звался чичуд, значит, природопоклонник.
Курнопай слепнул на мгновения из-за темного чувства, которое испытывал, рассматривая обложки. Он зажмуривался, чтобы зрение восстановилось, и тогда слышал набатный звон сердца. Едва прозревал, от прилива крови к вискам боялся сойти с ума.
Курнопаю хотелось впасть в забытье. Он прополз до подушки, уткнулся глазами в ее холодящий атлас. Глаза почему-то заболели на самом донышке.
«САМ, САМ, нужно ли это знать?» — спросил он невольно в своем сознании.
Вроде бы ответил: «Смотри».
В усталой вялости ответа была двойственность. Можно было толковать ответ как напутствие узнавать ради постижения сущностей жизни; могло быть и другое объяснение: смотри-де, твое дело, — выраженное с безразличием изверенности.
«САМ, САМ, к кому же тогда обращаться?»
«Есть к кому».
«К Болт Бух Грею?»
«Разве только властители разрешают сомнения?»
«К Фэйхоа?»
«Не бывает ни для кого из нас важнее любимой женщины».
«И для тебя?»
«И для меня».
«…«любимой женщины»? Ты ведь обретаешься в сферах духовности… Что тебе частная любовь? Неужели она для тебя выше чувства Всеобщей Любви?»
«Одно не исключает другого».
«Неужели тебе до сих пор интересно обладание женщиной?»
«Приятно».
«Кто же ты есть?»
«Нужно ли тебе знать, кто я?»
«САМ, САМ…»
Пространство связи словно бы перекрыло ворвавшейся в него кометой — мысль завихривало, уносило невесть куда.
Осязание атласа отвлекло Курнопая от попытки возобновить общение с великим САМИМ. Отдыхая от сложности, вызванной в сердце ответами САМОГО, Курнопай пообещал себе не обращаться к НЕМУ подольше, пока не иссякнет терпение. А еще он пообещал себе не задавать САМОМУ лобовых вопросов. Вероятней всего, на эти вопросы для народных людей наложено табу! Глупо. Пять лет он прожил в мире запретов, а мозг его ведет себя надзапретно.
Его организм затосковал по антисонину. Хотя рядом не было и не могло быть противного ему монаха милосердия, он, впадая в наркотический транс, мучительно промычал в подушку:
— Ам-м-пу-улу «Боль-шо-го барьерного риф-фа…» Коли — быст-тре-е!
Он приник к софе с предощущением сладострастности. Ужаснулся, что испытывает то, чего раньше не испытывал. Тем более страшным представилось это Курнопаю, потому что где-то поблизости находилась желанная Фэйхоа.
Поднимаясь, он задел рукой что-то жесткое, спрятанное под подушку. Вытащил оттуда книгу в переплете из кожи носорога. Кожа была выделана под песчаник храма Солнца — норчатый, кубастый, бурый. Тот снимок, на котором Болт Бух Грей смотрел между спицами колеса, повторялся золотым тиснением. Название книги было составлено из узорных веточек оранжевого коралла и полированного гагата: «Кама-Сутра». На титульном листе ниже названия давалось уточнение: «Надписи, высеченные на стенах индийского храма Солнца, прозванного Черной Пагодой».
На странице за титулом возникла акварель. Она была легкая, сквозная, лучилась как марево. Чем пристальней Курнопай вглядывался в рисунок, где юноша и девушка, прикрыв светящиеся от нежности веки, соприкоснулись друг с дружкой в чуточном поцелуе, тем отвратительней ему казались события последних дней, чему он был не только свидетель, но и соучастник.
Акварель передавала начало любви, которому чистая застенчивость так же присуща, как невинность солнечному теплу на восходе. Ведь вот они, юноша и девушка, целующиеся впервые, притронулись друг к дружке губами, о, нет, очертаниями губ, а Кива Ава Чел зажирала его губы своими, с виду по-девчоночьи маленькими, целомудренными. Поддаваясь ей, и он зверел. Ее насильничество, кажется, приживилось в нем. Как он заламывал Фэйхоа — стыд, стыд. Акварель называлась «Наслаждение ароматом цветка». Как справедливо, тонко, спасительно. Ой, спасительно ли?! Болт Бух Грей много раз, наверно, любовался рисунком, но что изменилось в его натуре? Да и ему, даст это что-нибудь ему? Сейчас думает о бережной ласке, а наступит время близости, будет бесноваться наподобие барса, который настиг и загрыз муфлона.
Да и любит ли он Фэйхоа? Тогда пытка, поругание — что? Погоди, неужели акварель всего лишь райский вход, за которым находится преисподняя? И неужели детство — святое преддверие жизни перед ее адом?
Курнопай робко переворачивал страницу. Увидел золотой посев букв, растущих на ровном поле шершавого песчаника, осмелел и обрадовался, прочитавши знакомые слова: «Женщина создана для мужчины и должна быть ему верна. Мужчина — властелин женщины и раб ее любви, он верен ее богу Кришне, которого познает лишь посредством любви».
Подумал, как будто не сам, а кто-то внушил ему это извне.
«Мужская уловка для неверности. Она-де ему верна, он — только богу ее, Кришне. Ну и ну, мужички!»
«Познавай «Кама-Сутру» лишь с тем, кого желаешь». (Этих «кого» у людей болтбухгреевской породы несть числа. Предписание для бесстыдства.)
«Кама-Сутра» требует всей жизни. Познание «Кама-Сутры» бесконечно, как бесконечны блаженство, идея познания бога Кришны».
(Стройное соображение! Как жаль, что он не имеет глубокого представления о Кришне.)
«О «Кама-Сутре» не говорят, но отдают ей всю глубину души и тела».
(Почему не говорят? Запретно? Невыразимо? А, о таинствах не говорят! Молчат же святые отшельники о духовном соитии с Богом. Вероятно, молчит Болт Бух Грей о духовном соитии с САМИМ? Может, в том, о чем молчат, есть приятность для посвященок и неприличие для непричастных? Отдавать всю душу «Кама-Сутре», выходит, обездушивать ее. Да, пожалуй, потому что «Кама-Сутре» не отдают «пороки тела». Отдают достоинства, чистоту, его здоровые силы.)
Курнопая лихорадило. Глаза перескакивали через посевы букв, были нетерпеливы.
«Познавая «Кама-Сутру», освобождаешься от пороков тела и обретаешь блаженство».
(А у нас что? Эх! Отец так любил маму. И она… Гибнут от тоски. Поневоле душа сосредоточится на одном, если оно отнято.)
«У желающих три цели: познание, любовь, богатство».
(Есть же нежелающие. Аскеты и еще кто-то.)
«Начало жизни — познание, середина жизни — любовь, конец — богатство».
(Почему «начало жизни — познание». Ведь у меня не начало жизни. Я прожил, кажется, тысячелетия. Познание — вся жизнь. Похоже, в этот период самое жадное познание. Почему середина жизни — любовь? Я полюбил в начале жизни. Мог бы полюбить гораздо раньше, если бы увидел Фэйхоа. Почему конец жизни — богатство? Если в конце жизни чаще всего нищают. В смысле опыта судьбы — другое дело. А, в смысле познания «Кама-Сутры»! Впрочем… Что-то говорили ребята, что у индуистов человеческая смерть — начало самосовершенствования души, которое приводит в сферу богов.)
«Влечение человека имеет три источника: душу, разум, тело».
(А, здесь собственная душа как тройственный источник влечения женщины к мужчине, мужчины к женщине. Сужение мира влечения.)
«Два наслаждения у души: настаивать и терпеть».
(Не слишком ли скудны наслаждения души?)
«Два наслаждения у разума: владеть и отдавать».
(А скрывать, отталкивать, обрушивать?..)
«Два наслаждения у тела: терпение и прикасание».
(О страданиях речь или о сдержанности?)
«К любви ведут и сокрытие напряжения тела, и страсть души».
(Сокрытие? Зачем? Ради доставления наслаждения им ей, ей — ему? Не подчеркивание ли мысли о неизбежности страдания ради блаженства? Этого не приму. Но… ведь я заставлял страдать Фэйхоа ради блаженства. Не приму. К любви ведет страсть души? Разделяю. Легло на душу, как виноградный лист на воду.)
«Любовь несет восторг, облегчение и нежность».
(Не наоборот ли? Не разочарование ли? Не отчаяние ли? Уж я-то познал отчаяние из-за любви. Что я? Меня спасали антисониновые апатии. А Фэйхоа захлебывалась от отчаяния. Сейчас разочарована. Какое там облегчение?!)
Большую часть времени, проведенную наедине, Курнопай не ощущал присутствия Фэйхоа. Он предполагал, что Фэйхоа отчуждена от него обидой. Когда обдумывал наслаждение души и разума, ему передалось, что Фэйхоа скоро придет сюда.
«САМ, САМ, дай мне волю управлять чувством к Фэйхоа, не оскорбляя любовной красоты и чуткости».
Едва отворилась дверь, Курнопай шагнул навстречу Фэйхоа, чтобы пасть перед нею ниц и молить о прощении. Мелко переступил. Не подозревал он о том, что молниевым ударом благодарного удивления может отозваться в сердце вид лица простившей женщины. Не той, которую утешило и смягчило раскаяние оскорбителя, а той, которая сама проникла в глубины оскорбления, и потому простила.
Ее лицо не было ни просветленным, ни радостным. Оно было еще как бы овеяно печалью, но на нем, умыто-утреннем, хотя и наступила ночь, уже отпечатлелась возвратная человеческая способность к продолжению жизни с прежней преданностью и любовью.
И все-таки невымоленность прощения мучила Курнопая. Не зная, как его разрешить, задержал Фэйхоа и прикладывался колючими щеками к пуховому свитеру над ее грудью.
Фэйхоа была отрешенно задумчива, как сестра, которую единственный брат жестоко оскорбил, а ей-то ничего не оставалось, как заранее снисходить до покорного благородства. В согласии с кротким поведением Фэйхоа был фиолетовый цвет ее губ — подкрасила, фиолетовый же, успокоительно мягкий свитер, и это летучее прикасание к шее кончиков пальцев с заостренными, тоже фиолетовыми ногтями. А когда увидел юбку Фэйхоа: до пят, шерстяная, на песчаном фоне навьюченные верблюды, меж горбов, все же не заслоненные тюками, как в чехлы укутанные в свои одежды — лишь очи не задернуты материей, — грациозные аравийки.
— Песчинка пустыни, — забормотал, — аравийка, чем вознагражу за ожидание и верность?
Она молчала, прекратив касаться остроконечными пальцами его шеи. Он покаялся про себя, что вырвалось глупое «чем вознагражу». И ждал, скажет ли она что-нибудь важное, и она сказала:
— Не ревнуй. Разлюблю — не утаю. И любя лгут. У меня так не будет.
Его осенило. Притрагивание пальцев — не поглаживание ладонями. До сих пор не целовал ладоней. Забывал о самом окаянном в собственной судьбе. Фэйхоа противилась тому, чтобы повернул ладони к своему лицу, думала, будет разглядывать: глянцевитая белизна ожога, ямки, шрамы.
Повернул, повернул ладони. Боялся разглядывать. Водил по ним губами, дул на них ласково, как мать дула, когда ребенком он зашибал руку. До последнего мгновения надеялся — не он виновник. Примстилось, что он был в танке. Не мог быть. Кто любит, тот телепатичен. Не любит, может? Плотский голод? Ну, помнилось ему. Первооткрытие нежности, что сильней западает в душу?
Не стал он сознаваться и каяться. Все ей ясно. Он страдает. Искупление — только любовь.
— Ну, хорошо, — она вздохнула. — Я проголодалась.
…Мальчишкой Курнопай удивлялся, почему женщинам нравится брать мужчин под руку. Среди пацанвы это называлось «прицепиться за локоть». Фэйхоа взяла Курнопая под руку. Проявление подчиненности извлекал его умишко среди недоброжелательных огольцов из этого свойства женщин. Он думал, что так ходить в тягость мужчине. Вот и не в тягость. В приятность и в облегчение. И не она в подчиненности. Он ведом и чувствует совместность с нею, в чем-то родную совместности объятия. И сделалось неловко за вибрирование при чтении «Кама-Сутры». Непозволительно не столько то, что украдкой читал чужую книгу, а сколько то, что тайничает перед Фэйхоа: она ведь перед ним — вся доверие.
Остановил он Фэйхоа, сказал, что, где бегло, а где и вовсе галопом по Европам, познакомился с «Кама-Сутрой». Моментами душа Курнопая противилась воспроизведению словом того, что по своей интимности неогласимо или почти неогласимо. Сердили прописи, точнее то, чему не учат: оно как вздох, невольно. Попытки унизить женщину вызвали досаду, хотя подчеркнуто — мужчина будет делить ложе с ее любовником, если не постигнет «Кама-Сутру». Пока же он не понял, зачем с переизбытком расписано, чем заниматься брачной паре, обычно любящей.
Фэйхоа, когда вошла в гостиную, заметила смущение Курнопая. И ей подумалось, что Курнопай виноватился перед собой за оскорбление… Другого не ждала. Попран мир отношений женщины с мужчиной, ничто, кроме неверия и подозрений, не способно возникать у всех или почти у всех в сердцах. Теперь понятно: он стыдился загляда в «Кама-Сутру». Мальчишка. Непозволительно нашкодил. Как жаль, что нет Ковылко. Ремнем бы отхлестал. Что ж, прекрасно! Есть спасительность и для него, и для народа в том, что все подвергались нравственным изломам, а стыд не отлетел. Стыд существует. Курнопу-Курнопая учили убивать. И, вероятно, будет убивать, едва прикажут? Стыд! В нем заложено могучее сопротивление. Совесть! Да без стыда, без совести разве мой бы Курнопай сопротивлялся сексрелигии? И смерть он избирал — не посвященье Кивы Авы Чел. Да что поделаешь — не мыслит исторически, из-за чего и не умеет сопоставить «Кама-Сутру» с тем, что в практике у нас. Она сама чуть больше знает: об Индии щепотка книг в державной их библиотеке. «Кама-Сутру» перевели для Главного Правителя и напечатали в одном лишь экземпляре. По наследству Болт Бух Грею досталась книга. Обычно хранится в сейфе кабинета. Сюда привозит редко и второпях забыл перед поездкой на посвящение Лисички. Таким же образом, случайно, и она читала «Кама-Сутру». И не уверена, что в ней нет поздних наслоений и отсебятины ретивых переводчиков.
Рассказала обо всем об этом Курнопе-Курнопаю. Поведала, как понимает возникновение храма Солнца, его скульптур и текстов. Нигде священники не знают всего и вся о жизни паствы. Чтоб власть осуществлять, необходимо личность закручивать вокруг себя и, в не меньшей мере, завихривать ее вокруг супруги иль супруга. «Кама-Сутра» — запечатление культуры супружества, а также культура наслажденья. Они вводились для устраненья плотского невежества. Невежество чревато пыткой тела, уродством для души, крушеньем веры. Ведь как бы мы ни предавались общему, служа труду, религии, политике, народному здоровью, обрядностям, — мы немыслимы вне тяготения к единственному человеку, в котором сосредоточилась для нас возможность счастья. Не любим мы иль не любимы — и цели общего для нас не цели, и век — проклятье, и бодрость духа распадается, а по природе жизни она обычно сопровождает нашу повседневность и устраняет думы самоотрицанья. С общим, увы, не заведешь семьи и не зачнешь дитя.
Ей представляется, индийские жрецы заботились об упрочении семьи, о чистоте и долголетии супругов, об изобилии рождений. Наверняка тогда увеличение народа их заботило. Брамины, властвуя, не могут забывать о прочности и о величьи церкви. На нищенстве величия не вырастить и прочности не обрести. Для этого нужны создатели богатств: крестьяне, ремесел мастера, строители, купцы и воины. Необходимо, чтобы множились они. Вкус к богатству и само богатство были и у светских властителей Ориссы. Кто смог бы оплатить две тысячи скульптур, воссоздававших на песчанике не столь цивилизацию семьи тех лет, сколь то, какою ей возможно быть? По легенде, главный архитектор умер, не достроив храм. Достроил сын его, а после бросился с верхушки храма. Из-за чего тот храм зовется Черной Пагодой.
— А может, за откровенность черную?
— Тут черного не больше, чем в тени, которую при солнце отбрасывает человек.
— Иронизируешь?
— Увы. Есть нескромная, действительно, попытка мужчину над женщиной возвысить. Матриархальность в современной Индии сильна. Тогда она была сильней, что явно заедало мужчин. И в надписях на храме (мужчина сочинитель) он старался, не без искусства, в свою пользу. Я не скажу, что очень он старался низвести к неравенству мою сестру. Женщин, спокойных чувственно и анемичных, и там хватало. И надо было им внушить мечту мужскую, что именно они на ложе царствуют, что всеподчиненность мужчине не дается так, как им.
— Похоже, справедливо.
— В конечном счете, думаю, что «Кама-Сутра» — эстетика любовных отношений, пример для жизни в браке девушки и юноши. Они вступают в брак, не видевши друг дружку, — вот почему. Так издавна и так сегодня. И это же — незыблемость в индийских семьях. У них, как говорят и пишут, замужние не замечают вовсе других мужчин. И мужчины подобны им. Систему взглядов судят не по тому, что в ней приемлемо для нас, а что она дала народу, где сложилась. Эстетика любви, но и поученья для нее.
— А нам-то как она?
— Не нам. Главправу она служила… персонально. В отличие от Болт Бух Грея, он не преследовал демографических задач.
— А Болт Бух Грей заботится о генофонде искренне?
— Патриотизм самийский в нем горит.
— А сексрелигия ему зачем?
— За тем же.
— Его патриотизм разит патриотизмом вожделенья и пиршеств для самого себя и горстки элитариев.
— Он не однозначен. И я порою нелицеприятно думаю о нем. Но, сопоставив факты, отрекусь от однозначного подхода. Телесная корысть и алчность монстра удовольствий бушуют в Болт Бух Грее с момента устранения Главправа. Но возбуждаются они еще идеей улучшенья генофонда. Все в людях. Система — это люди. Рабовладельчество дало неиссякаемый поток философических учений, такую архитектуру государственности, что, куда ни ткнись, везде она.
— Ты, Фэйхоа, легонько судишь Болт Бух Грея.
— Всеотрицаньем дела и политики главсержа не склонна заниматься. Охотников достаточно. Почти что все мы судим о других по их к нам отношению. Он уважал и уважает мою любовь к тебе. Освободил меня от посвятительства. Он мог бы с целью улучшенья генофонда взять меня. Не взял, хотя ему я нравлюсь. Недавно я ему составляла гороскоп, и он сказал об этом. И более того, сказал, что сан верховного жреца сложил бы он без размышленья, когда бы согласилась стать его женой.
— А сам женитьбы и замужества приостановил?
— Увы.
— Он вступил бы с тобою в брак, сославшись на подсказку САМОГО.
— Ты обострился против Бэ Бэ Гэ. Ты у него — звезда во лбу.
— Сужу не так, как он. Сужу по совести.
— Ну ладно, мой Курнопа. Не надо хуже думать о том, кто лучше. Приостановленность на браки он собирался снять.
— Поженимся?
— Ты будешь молодым, когда состарюсь.
— Ты для меня не постареешь.
— Иллюзия.
— Я, может быть, погибну рано.
— Тебе я как-нибудь составлю гороскоп.
— Но вроде ты не веришь в гороскопы?
— Предсказывая судьбы, не исхожу я из названий планет или созвездий. Названия копируют рисунки звезд.
— А из чего?
— Есть опыт межпланетных катастроф, глобальных катаклизмов, материковых бедствий. К примеру, гибель планеты Фаэтон, движенье льдов, разрывы суши — так Африка отторглась от Евразии, Аляска — от Камчатки, пандемия чумы и гриппа. Беру в учет я войны…
— И что же?
— Все главные крушенья в основном датированы точно. Довольно просто вычислить, как были расположены в ту пору галактики, созвездья, звезды и планеты.
— Ты знаешь математику и астрономию?
— У нас в обсерватории державы есть звездная машина. Поеду. Вычислю координаты. Сопоставлю. И выводы…
— Ничто не повторяется. Я верю в зависимость людей. А люди, мы изменчивы. Мы более текучи, чем материя. Я гораздо меньше верю в зависимость материи и человека.
— Зависимость имеется между пчелой и ураганом, меж антилопой и засухой саванны, меж взрывами на солнце и тобой.
— Выходит, нужно судить не по тому, что было, а по тому, что нынче происходит?
— Сегодня связано с вчера и завтра. Позавчера увяжется с грядущим, которое наступит через миллионы лет. Закон взаимосвязи и подобья — доступный шифр для прозорливости. И, ясно, при этом я исхожу из политических тенденций, из психологии властителя, соратников его…
— А психологию народа вычисляешь?
— В какой-то степени.
— Почему?
— Народ, он многослойный и разобщенный. И не умеет цель согласовать…
— Такая умная — и близорука? У народа бывают звездные часы и дни. Ты их и вычисляй. Они его приводят к желанным результатам.
— Эх, милый-милый, желается одно, а вызреет другое.
— Родная Фэ, нельзя в народ не верить.
— Счастливые народы были и ведутся… Страдательной фигурой стал народ. Им помыкают. Он никому не верит. Он верит лишь в неверие свое.
— А ты смогла бы составить гороскоп народа?
— Страшусь.
— У САМОГО спросить бы. Спроси, ты близко от него стоишь.
— Он — одиночество.
— Не верю.
— Как всякий бог или полубог. Спросить ЕГО — неверие в НЕГО. Страшусь ЕГО ответа.
— Тебя пугает беспросветность?
— Да разве дело во мне, в тебе?
— Ты права. Я с НИМ входил в духовное соитие. После приговора к замурованию. ОН запутался…
— Нет. Сам по себе. От разочарования, допускаю.
— Вообще-то во время диалога ускользнула грань между ЕГО сознаньем и моим. Быть может, это был внутрисознанный разговор?
Они пришли в покои Фэйхоа, похожие на ту квартирку в башне, где бабушка ему певала «Ай, Курнопа-Курнопай», где спал в обнимку с Каской и Ковылко, блаженным сразу по возвращению из бара и без отрады ласковым после отцовской сшибки с барменом Хоккейной Клюшкой.
О, мама, папа, бабушка Лемуриха, как он соскучился по вам! Ты, слухачевый бармен, миг памяти о голосе твоем, хрипящем из отдушины, — проклятье. Неужели, ублюдок дьявола, ты у себя в квартире прослушиваешь дом?
На кухню он прошел за ней, заметил сходу кресло из бамбука.
«О, САМ, ведь ТЫ, ТЫ надоумил Фэйхоа сюда доставить бабушкино кресло?»
Восторг и нежность взвихрило в душе. Сдержался, не схватил любимую в охапку. Ему ли благодарность расточать, мужчине, военной косточке?
Умостился в кресло. Трескучий скрип был, ей-же-ей, приятней пения сизоворонки. Сейчас цепями прикрутили б к креслу, он сиял бы, радостно-счастливый, когда бы бабушка Лемуриха была с ним рядом.
Стояла Фэйхоа перед столом, салат готовила. На дощечке вдобавок к огурцам и перцу, в алых колечках которого зернились семена, разрезала жернов сочащегося ананаса. Возле торцов дощечки лежали яблоко, хурма с прозрачной мякотью кораллового цвета, очищенные грецкие орехи, разъятые на полушария, стручки софоры, зеленые оливы, курага, чеснок, крученые волокна дыни. Чего-чего еще там не было! И авокадо — император фруктов. Ловкач провиантмейстер сам авокадо поедал.
Захотелось съязвить, де, вы, мол, здесь и там, в пещере, отведенной якобы для смертников, гурманский сотворили рай. Но покоробило нутро от честного занудства, сродни тому вопросу, толкнувшему за борт святую Фэйхоа. И Курнопай смолчал и преломил свою взыскательность в заботу о родных.
— Как бабушка моя?
(Вот протезная душонка с претензией на мировую совесть. Не мог спросить о бабушке в минуты встречи под кедрами, а бросился любиться.)
— Наставница пехотных курсов при главсерже. Ее обязанность учить державному патриотизму. За успех по службе награждалась. И включена в когорту посвятительниц. И не по личной просьбе. За заслуги. В ней государственная жилка. Не надо ничего — служить во славу… Скучает по тебе.
— Смешно сказать… Ей нравилось, когда был постреленком, мне пятки целовать. Ну, и каждый пальчик на ногах перецелует.
— Ты кровный внук. Бывая в интернатах для младенцев, ножонки им целую, ноготки.
— Прекрасной матерью ты будешь.
— Буду?
— Прекрасной матерью моих детей.
— Я буду матерью своих детей.
— Но от меня?
— Конечно.
— А в чем же дело?
— В том… Ах, прочь тревоги. Мы здесь с тобой для забытья. Послушай, я уходила из дворца. У Каски я училась штамповке касок. Встанет на педали штампа, и поехала. В едином ритме. Чуть медленнее — брак. Поначалу я повисала, приустав, на поручнях. Они как брусья для гимнастов. Жаль, брусья не из дерева. Чугунные. Полно графита в чугуне. Чуть поработаешь — ладони темно-серые, подмышки и бока. Не верилось, что целыми часами буду гнать все в гору, в гору, в гору без передышек. Втянулась. Печально вспоминать присловье Каски: «Педали были, педали и останутся». Оно в моем уме расширилось. Смещение Главправа не отразилось на ее труде, а я-то думаю — ужесточило, уподлило его. Иносказание присловья мой ум раскинул и на сферу управленья. У главсержа, его соратников и прочих адмбожков — у каждого свои педали. Их механизм хитрее: тайны принуждения и кары, внушение на уровне гипноза с влияньем на высокую сознательность и на животность чувств. Я себя и Каску, и всех работниц воспринимала, как педали для осуществления держзамыслов, сокрытых от народа. Что генофонд отягощен в стране олигофренской немощью ума, бесчестием покорности, угрюмым разобщением — держава одиноких душ, духовным отторжением детей от предков, — ты рассмотрел. Введенье сексрелигии, казалось бы, спасительная мера, но на поверку — ловкий курс для Эр Сэ У.
— Неужто я теперь…
— Приказ главсержа, нахрап гордячки Кивы Авы Чел — не оправданье для тебя. Увы, теперь, Ревнитель Собственных Удовольствий, ты в стыдной ложе Эр Сэ У.
— Рассказывай о Каске, о себе.
— Еще чуть-чуть о генофонде. Рождаемость упала. Им подавай молоденьких, фигуристых, смазливых. Какие гены там у них… Пускай в роду навалом идиоты, туберкулезники и алкоголики, аллергики, пираты, палачи — их не тревожит. Им нужен секстовар. К цветущей свежести и формам — способность ластиться к постылым Эр Сэ У, игривость инфантиль, податливость к порокам. Здоровые и прочные сложеньем, годами зрелые и строгие натуры не по нутру им.
— А кто из них на мамином заводе?
— Техспецы, банкиры, спортсмены, щепотка фермеров, коннозаводчики, дизайнер, актер, борец из цирка, тренер-альпинист, владелец сауны и золотостаратель… Поскольку наезжал главсерж, спешили уподобиться ему дворцовые сержанты. Не следуешь хозяину ретиво — в немилость попадешь, а то и в нети. Лакейством соправителей, как и распадом чести и ядерным бесстыдством, пропитана эпоха.
— А все же ты сумела уберечься. Ведь зарились, наверно, на тебя, пожалуй, все?
— Боялись Бэ Бэ Гэ. Не притязает он, отсюда и табу.
— А почему вернулась во Дворец?
— Из-за товарок. Считали — прислана шпионить, раз недотрога, льдышка и чистюля. Впадали в страшные истерики. На ком сорвать недолю? Ругались на меня. И, ясно, рев, припадки… Вернулась во Дворец. Спасибо Болт Бух Грею. Переносила ад труда, не вынесла бы ад психозов. Жалею их. Им сострадаю, инкогнито оказываю помощь.
— А мама что?
— Спасала. Однажды чуть не растоптали зверски.
— Мама?! Раньше она сникала от малейших страхов. Отец по пьянке покажет зубы бармену, а бабушка Лемуриха возьмется охать: «Беды наделал. Знать, хана». И мама сникнет.
— Спасала смело.
— Не верится.
— Она считалась главной среди нас. За труд. И доброты несметной.
— Прямее говори.
— Еще… внимание главсержа.
— Кто у нее родился?
— Мальчишки.
— Походят на кого и от кого?
— Курносые очаровашки.
— Эх, Фэйхоа, чудесная Корица!
— Корицы нет. Вот, говорят, что от молочных ванн я стала белоснежной.
— И тебе с трудом дается правда.
— Да правда сколь прекрасна, столь трудна.
И разговор осекся. В нем Курнопаю открылось снова, как долго прятали его от истинной судьбы страны, наукам обучали почти что вне истории, а если пригребали факты из нее, и то лишь в пользу узурпаторства, безумные, кровавые, чумные шаги которого премудро выдавались за прогресс.
«Неужто, — думал он, — нас вводят в заблужденье, приняв его за курс державы, одобренный САМИМ и Болт Бух Греем? И неужели в Эр Сэ У, хотя бы за блаженства, не взыграет совесть народ вознаградить?»
Для Фэйхоа их разговор на кухне был очень важен, чтоб умерить остроту его оценок, где безотчетность, совесть и догадки трагически переплелись, и чтоб вооружить его терпимостью, иначе все, что связано с САМИМ и что сложилось в Самии в тысячелетиях и совсем недавно, он захочет второпях переменить и в том найдет погибель. Тогда и ей не жить. А коли жить, зачем?
Мальчишечья ежиная насупленность так мила была на колкой харе Курнопая, что Фэйхоа расхохоталась. Он отклонился в кресле и уткнул шуршащий подбородок в острую ключицу, на которой со дня инициации ей помнилась манящая скорлупка родимого пятна.
Двумя ножами Фэйхоа дорезала плоды и овощи, смешала, сгрудила в салатницу и, лезвием о лезвие скользнув с изяществом факирским, метнула в круговой отпил секвойи. Ножи вонзились в дерево с веселым всхлипом, как всхлипывают люди, у которых уж не хватает сил смеяться. Вонзаясь, ножи брунжали. Брунжание такое клоун вызывает в полотне двуручной изгибаемой пилы.
Расчета, что Курнопай воспрянет духом от всхлипа и брунжания ножей, не было у Фэйхоа. Ей что-то надо было сделать, чтобы проклятые вопросы жизни отсеклись от их ума и не мешали встрече.
Фэйхоа обтерла руки о салфетку и подошла к нему, и подняла из кресла, и чуточно притронулась устами, овеянными ароматом земляники, манго и снеговой воды, к его губам, расслабленным обидчивым раздумьем.
— Возлюбленный, здесь полное безлюдье. Оно в наш век почти невероятно, как преданность, как честность, как любовь. Мы пить не будем ни вин, ни коньяков. Я трезвенница. Увы, хмельное, точно труд, испепеляет самийских девочек и девушек, и женщин. Все живое жалею. Вегетарьянство ты тоже примешь, пока мы вместе.
Курнопа-Курнопай, уже забывший, что прямо не ответила она, от кого родились братья, и подключившийся к волне ее отрадной простоты, промолвил, что он на большее согласен: не пить, не есть и даже не спать, хотя ему открылось наслажденье сном, быть может, не менее могучее, чем наслажденье явью.
«Любить кого-то и в сущности не знать, как это странно в нем и в Фэйхоа, и в людях вообще» — так Курнопай думал в училище, и та же мысль у него возникла, когда Фэйхоа говорила о благе безлюдья, о трезвости и гибельной привычке самиек к алкоголю, о своем вегетарьянстве, развившемся из жалости к живому. Удивление перед этой человеческой странностью повторилось вскоре после ужина. Над крышей темнело строение, похожее на сомкнувший лепестки пион.
Приблизились к пиону — он растворил лепестки. По скобам забрались внутрь чашечки, где в центре, на площадке, стоял телескоп. Чашечка поползла вверх. На всякий случай Курнопай сомкнул ладонь на кромке лепестка. Стена горы скрывала небосклон напротив океана. И нужно было возвыситься над ней.
И вот уж небосклон поверх горы. Над серединой сиятельно летящий Орион. Напомнил он Курнопаю змея, из кальки и тоненьких бамбучин, запущенного в далечень.
Фэйхоа навела телескоп на Бетельгейзе, кивнула, чтоб глядел. Красная звезда вроде спокойно мерцала. Когда Курнопай приложился к окуляру, впору было отпрянуть. Не то что в глаз, ну прямо в мозг полыхнуло бушующим светом. Теперь Бетельгейзе виделась не просто красной — в громадный кристалл рубина врывался из космоса луч; преломляясь, он выбрасывался алыми, синими, зелеными всполохами.
Впечатления от звезды как от огненной массы у Курнопая не было. Наверно, Бетельгейзе кристаллически световое явление. Чтобы закрепить предположение, он долго всматривался. Ничто не возникало, родственное термитному веществу, когда оно, воспламенив танк, горит вместе со сталью. Не возникало сходство и с железом, кипящим в электрической печи, и с магмой вулкана: кристалл и выбросы световых лопастей.
И Курнопай сказал Фэйхоа, что нигде не читал о звезде, которую в кристалл превратило пространство, только в его ядре огненное вещество, порождающее могучие всплески света.
Как он удивился тому, что любил Фэйхоа, не зная ее, так и она поражалась неожиданным поворотам его разума, не предполагаемым в том человеке, которого любила. Любила она подростка дня посвящения, как бы излучившего тогда громадную биомолнию, и невозможно стало не влечься к нему, не преломлять эту силу в световые всполохи нежности, в годы ожидания, в надежды, согревающие душу и красоту.
Слова Курнопая о кристалличности звезды Бетельгейзе отозвались в сердце всполохом света.
Фэйхоа сказала об этом Курнопаю. Он улыбнулся. Любовь и свобода расковывают рассудок. Скорее — воображенье, возразила она, и навела телескоп на темную туманность Конская Голова, которую все в училище термитников называли «Лошадиной Головой», как называл главсерж.
Головы, чьей бы то ни было, он не углядел. Усилием выдумки прорисовался ему кальмар: тело серой бомбой, черные щупальцы, серебристый стабилизатор хвоста. За кем-то кальмар гнался — завихривалось пространство. Осуждая себя за оригинальничание, дал туманности имя Летящий Кальмар. Сквозь аэрозольность туманности пробивалось сияние звезд. Другая туманность Ориона, как непальский опал, забранный в платину, сияла радужно. И подумалось Курнопаю, что, наверно, этот галактический мир когда-то покинул САМ, чтобы дожить до теперешней отрешенности.
Для Фэйхоа он смягчил свою мысль, но она возразила против усталого невмешательства САМОГО. ОН просто наблюдает за жизнью Самии, предоставляя правительству и народу жить без помочей. Не сумеют они выбрести из нынешней ситуации, тогда САМ осуществит свою власть.
Курнопай настраивался на согласие с Фэйхоа, но вдруг отнесся к ее соображениям как к продукту униженного сознания. Больно ему сделалось не только за Фэйхоа — и за себя. Они видят спасенье в САМОМ, в Болт Бух Грее, в то время как надо полагаться на самих себя. Положись каждый из самийцев на свои надежды и попробуй их осуществить с полной отдачей сил, мало-помалу осуществятся все возвышенно-горькие мечты.
Фэйхоа он сказал, что главное сейчас для Самии — не проблема верховной власти, а проблема народной активности. Связывать упования с предержащими — приспособленчески притворяться, что ты скован и обезнадежен их волей.
Она слушала Курнопая, досадуя, хотя в душе соглашалась с ним. Да, он уповает на САМОГО и не без веры относится к реформаторству Болт Бух Грея. И вовсе она не против идеи народной активности. Ее гнетет непоправимость жизни. Плох генофонд страны. Призывы улучшать. Но улучшение-то в ухудшенье генофонда. И нет великого народа без количества. Где выход? В безвыходности? Неужели судьба Самии непоправима, кто бы ни пытался изменить ее до сих пор неуясненный путь?
Еще вчера сам Курнопай впадал в отчаяние, и все же он не доходил до беспросветности. Теперь он попросил Фэйхоа взглянуть на темную туманность и, едва она приникла к окуляру, с укоризной промолвил:
— И сквозь пылевую тьму пробивается свет, а ты зарылась в пессимизм.
— Надбытийные утешения.
— Была малочисленной Древняя Греция, Кипр и Крит того меньше, а до сих пор как незакатное солнце для человечества. Возьми маленькую Финляндию сегодня — великая страна. Главсерж не поведет страну к вырождению.
— Свой курс на введение в заблуждение Бэ Бэ Гэ вполне выверил на тебе.
— Тебя оторвали от жизни. Ты не подозреваешь о многом.
— Например?
— Рабочим не платят денег.
— Помесячная статистика…
— …символической зарплаты. Деньги начисляются, да не выдаются.
— Значит, по согласию.
— Не было согласия.
— Потребности державы…
— Прежде всего потребности Эр Сэ У.
— Фэй, а обязательна зарплата?
— Ну и ну! Потребности индивидуальны. Нас одевали на фабрике и кормили одинаково. Правда, генофондисты баловали своих женщин: напитками, кушаньями, сладостями… Наряды дарили. Период своего рода гаремного рабства.
— Период осуществления державных целей. Прости меня, Фэйхоа, ты измеряешь общую необходимость Самии меркой индивидуалистки.
— Ай, Курнопа-Курнопай, не приписывай своей аравийке, мекаломоганке, таитянке, англоиндийке узости. Ты все о Самии да о Самии. Но Самия на свете не одна. Я думаю о всей планете, о нашей Солнечной системе, о Вселенной.
— Скажи хотя бы о том, что было на Земле в мое отсутствие?
— Войны, эпидемии, путчи, революции… Все ради блага и преображенья.
— Ирония?
— Все клянутся миротворчеством, но оружие тиражируют, как одноклеточные тиражируют себя, да покаверзней, поубойней, поненормальней оружие. И преподносят это под соусом: «Не в ущерб народам».
— Политики умны!
— Политики загубят Землю. Присвоили свободу и богатства, право на безумие, на необратимость своего всевластья.
— Ты жизнь хоронишь. Я иногда так думал. Каюсь. Нельзя! Мы-ал-чаттть-х.
Не в шутку Курнопай рассердился. Не думал сердиться, внезапно рассерчал по-генеральски: «Нельзя!» — а гаркнул по-фельдфебельски: «Мы-ал-чаттть-х!» (Положение фельдфебелей в армии Сержантитета осталось прежним. Фельдфебель незыблем и незаменим.)
Сначала эхо из низины в низину перебрасывали горы, потом им взялась швыряться послезакатная зыбь.
Фэйхоа приготовилась обозвать Курнопая солдафоном. Они бы поссорились, но тут поверх телескопа Фэйхоа увидела близ туманности Конская Голова взрыв света. Взрыв был раструбом, вытянуто-долгий, внутри какой-то тычиночный, роящийся красной пыльцой. Ни дать ни взять раструб кактусового цветка.
Раструб втянулся в голубую черноту. Миг искрилось только кольцо, и вновь расцвел «кактус» и убрался опять. И в третий раз повторился взрыв и остался сиять звездой.
— Мы счастливчики! — крикнула Фэйхоа и обняла Курнопая.
Хотя он все еще не догадался, почему обрадовалась Фэйхоа взрыву в Орионе, но уже поверил в то, что они счастливчики, и сразу сделал попытку закрепить это состояние, однако она порывисто отстранилась и объяснила голосом, остуженным досадой, что спульсировала двойная звезда, а те, кому довелось увидеть этот момент — звездной вольтовой дуги, — согласно поверию оккультистов, обретают счастье.
Время потерялось для Курнопая. Ах, беззаботность жизни, где нет жестокой размеченности воинского режима!
…И наступила пора туманов. Начинались туманы с полуночи, рассеивались далеко за полдень. На поверхности было непроглядней, чем в воде, куда они спускались в гостевой коттедж. Из коттеджа были видны Ворота Вулкана: остатки кратерного жерла, похожие на триумфальную арку. Рифы, базальтовые скалы, донные долины, образовавшиеся из смеси магмы и пепла — все возле Ворот Вулкана поросло океанскими джунглями, мохнатыми, тучно-синими, гравюрными, среди которых выделялись рощи красных кораллов. Ворота Вулкана поражали полированной гладкостью. Узнал Курнопай от Фэйхоа, что на благородных камнях, сколько бы ни находились в морской воде, ничто не может приживиться. Еще никто не сумел дать объяснения такой исключительности. Лично она решила, что природа до тщательности оберегает свою красоту, в чем бы ни проявлялась она. И эту загадку она возвела в закон сохранения красоты.
Чуть выше дна в опорах ворот застыли арктические ландшафты. Внутри левой опоры вызрели лимонные кристаллы цитрина. Они напоминали торосы, освещенные солнцем. Меж торосами разрывом во льдах тянулась фиолетовая полынья. Фэйхоа назвала минерал, вплавившийся в цитрин, так, как называют его ювелиры горных аулов, сапфирином. На краю полыньи, закрывши глаза когтистыми лапами, по-человечьи сидел полярный медведь. Скорбь была в бесприютной фигуре медведя, и проняло Курнопая душеразрывное чувство, и, чтобы не выдрать изо рта загубник и не захлебнуться, он метнулся отсюда, где, как примнилось, увидел арктическую картину после взрыва водородной бомбы. Впервые стала ему понятна зловещая красота.
Чтобы всплывать потихоньку со дна (опасность кессонки подстерегала) рассматривали Ворота Вулкана.
В верху дуги, сквозяще-прозрачном, казавшаяся рукотворной, вмурованной, белела чуть приоткрытая лилия из кахолонга. Что-то роднило тот кахолонг, матовая теплота или нежная сетчатость структуры, с бивнем слона; хотелось притронуться к лилии, погладить ее, но находилась она, откуда ни заплыви, не менее метров пяти от поверхности. Все же Курнопай в бесконтрольном порыве устремлял к лилии ладонь, пальцы натыкались на отлитую плотность камня, местами обколупанную зубилами. Соблазн, знать, велик не у него одного, ан кукиш им всем такой, что не выкусить грейфером экскаватора.
Наблюдая за Курнопаем, Фэйхоа почему-то иногда грустнела. Он помыслить не мог, что за грустью ее скрывается горькая тайна. И лишь мельком однажды предположил — угнетает непривычная телесная белизна, а позже с деликатной улыбкой поинтересовался, не слишком ли жалко ей коричную позолоту… Грустной она повела отвергающе головой и призналась не без счастливого вздоха, что от нежданного цвета кожи, если учитывать цвет ее глаз и волос, выиграла выразительность взгляда, статность фигуры. И умолкла. И понял: Фэйхоа способна скрывать от него даже то, о чем ей желалось бы не молчать.
Едва начинались туманы, чего-то она испугалась и все удерживала его от погружения в океан. Но как только выдался не пасмурный день, быстро велела надеть акваланг и увлекла в треугольную щель меж камнями на отмели. И плыли они в смоляной темноте виляющими лабиринтами. И вдруг почудилось от внезапности: возник перед ними погруженный в глубины, на километры вытянувшийся телескоп. Через мгновение стало ясно — телескопичность слагали тоннель и Ворота Вулкана, они словно бы фокусировали оптику жидкости, а потому просматривались такие водные дали, что угадывалась противоположного берега лабрадоритовая темнота.
Не удалось переждать туманы. Появился сторожевой катер с приказом Болт Бух Грея о прибытии в столицу для выполнения задания державной важности. Фэйхоа настолько опечалилась, что не захотела возвращаться. Подождет Курнопая тут.
Прощались, равнодушные друг дружке из-за непреодолимой покорности верховной воле.
Стоял на корме. Пронизывало сыростью.
Вышли из лагуны. Катер выпустил киль и расправил крылышки, скопированные с плавников летучей рыбы. Оторвались от воды на высоту судового корпуса. Мчались, чиркая лезвием киля и прорезая тоннель под холмами тумана.
Форма быстро сделалась волглой. Внутренняя дрожь, вызванная расставанием, а не остудными завихриваниями, заставила Курнопая спуститься в салон.
Главком Войск Трудовой Организации Индустриальной Промышленности, не узнанный Курнопаем в тумане, оказался Бульдозером. Именно он велел Миляге вколоть ему антисонин, чтобы потешить свою гордыню. Тот день запомнился Курнопаю как день первого лютого издевательства над его душой и телом и первого вероломства со стороны бабушки Лемурихи.
Бульдозер грузно возлежал в кресле. На плоскости спинки бочкообразно круглилось его туловище, еще совсем плоское в год свержения Главного Правителя. Болеет ли, надулся ли — не понять.
Бульдозер противился поездке за Курнопаем. Низкопробное поручение, унизительное. Как-никак, он командующий ВТОИПа. Подумаешь — на телестудии выступал, повлиял на воображение грядущего властелина.
Была причина куда значительней: опасался Бульдозер ехать за Курнопаем. В досье, каковым располагает отдел по антисамийской деятельности, есть настораживающая черта в норове Курнопая: не приняв какого-либо курсанта, сохраняет к нему подозрение. Подло то, что курсант, не принятый им, попадал в разряд ущербных.
Подозревал Бульдозер, что невзлюбил его телевизионщик, поэтому остерегался, как бы Курнопай ему не навредил. Вякнет что-нибудь выскочке Болт Бух Грею, и прощай карьера, и без того тормозимая посредственностями Сержантитета.
Перед появлением Курнопая в салоне он уже не обнадеживался в том, что любимчик ему простил.
— Еще не охолонул?
Курнопай проверил на ощупь влажность куртки и брюк, решил не спрашивать у Бульдозера, как ему обсушиться.
— От чего не охолонул?
— Страна ликует, пресса трубит, церковный собор жрецов возводит тебя в сан святого сексрелигии…
— Слыхом не слыхал.
— Кому-нибудь заливай мозги… Страсти… Представляю себе… Страсти не помешают воину включить телевизор. Воин обожает слабый пол. Слава для воина — страсть страстей. Слава одухотворяет сексуальность…
— Не надо тужиться, господин Бульдозер.
— Искренняя информация.
— Ваш велеречивый тон с подковыркой. Хотя Самия страна людей, дуреющих от славы, чинов, званий, отнюдь у меня в душе не завелся микроб заносчивости. Я ведь жил в неведении.
— Сознаюсь самокритически, я впадаю в… Велеречивость отброшу. В тонкости восприятия смею себя обвинить. Мы, народ САМОГО и потомки вождя-мыслителя Болт Бух Грея, гомерические таланты. Ржавчина спеси, вонь высокомерия… Преимущественный процент… Мудр САМ, введя в герб носорога… Носороги… Так и глядим, в надменности надувая щеки, в кого вонзить рог и растоптать. Мыслить пародийно и символически… Изживать мерзкий национальный недостаток… Восходящему светилу санитарное предупреждение… Методически нуждаемся в скромности. Предупреждая, мог пережать… Хроническое заражение людоедством мании величества. Восприми без амбиции, генерал-капитан.
По мере того как Бульдозер говорил, Курнопай пас его глаза. Пасти глаза он учился у Ганса Магмейстера, бывшего советника свергнутого Главправа по социальным настроениям.
Ганс Магмейстер занимался с крохотной горсткой курсантов, отобранных по принципу ВНВ: воля, наблюдение, внушение. Перед завершением занятий, дававших необъявляемое звание социального мимикролога, Ганс Магмейстер, проникнувшийся к способностям любимца САМОГО и Болт Бух Грея, открылся Курнопаю — отбор слушателей он делал с помощью прибора, измеряющего гипномагнетическую энергию человека, но просеивал их, опираясь на умение курсанта пользоваться этой энергией: направленно влиять и активно воспринимать, для чего он применяет коэффициент ГИУР: гипноз, интуиция, ум, результат.
Занятия строились по системе этюдов. На шкале сложностей этюд «пасти глаза» был помечен словом «ординарно». Ты выслеживаешь у кого-нибудь из курсантов совершенно отчетливое выражение глаз: недовольство, легкодумность, хандру, ненависть, отвращение, беспокойство, озорство, мечтание. Подходишь к намеченному курсанту и безо всяких подступов «вскакиваешь» на ту же волну, то есть прикидываешься недовольным, легкодумным, хандрящим… Если курсант терпит тебя на его волне, вызываешь встречную волну: на недовольство — благостность, на легкомыслие — рассудительность. Мало-помалу выясняя причины, вызвавшие его настроение, пробуешь сдвинуть курсанта с волны, а то и перетолкнуть на заданную волну. От растерянности подопытный курсант может очутиться во впадине меж волнами, и тогда они сомкнутся над ним. Потонул. Тут ты и спасешь курсанта, и вызовешь у него желаемое чувство: задор, кротость, лукавство, тоску по дому, жестокость, жеребячий цинизм, умиление. Только успевай засекать, как отражается в зрачках вызываемое чувство и меняются свето-цветовые оттенки роговицы. Отнюдь не сводил Ганс Магмейстер контроль за переменой чувств к зрительному видению. Это видение было средством для индикаторного проникновения в мозг, ибо глаза — часть мозга, вынесенная природой на поверхность. У человека, согласно представлениям Ганса Магмейстера, на месте нынешних глаз, носа и ушей был эхолокационный орган, который в миллионолетиях совершил превращение, разделившись при сохранении нервно-физиологической связи на три самостоятельных органа: зрения, обоняния, слуха. Определение «пасти глаза» было метафорой, отражавшей многосложный мир психологической игры. Правда, с нее начинался цикл этюдов воздействия на единичную человеческую особь. Ганс Магмейстер был доволен тем, как в кабинете командующего училищем Курнопай выполнил этюд на вспарывание намерения.
Курсант из племени быху подал рапорт командучу с просьбой не проводить термитных учений, в результате которых должны были сжечь его родную деревню, покинутую жителями на время ловли и сушки рыбы. Курсантам вменялось в обязанность докладывать головорезу номер один о подаче рапорта с подробным объяснением мотивов. Быху, вопреки предписанию, был скуп на доказательства.
— Деньги — потухший костер, — сказал быху. Училищу разрешалось оплатить племени за хижины, утварь, убранство и рощу банановых пальм. Но быстро деревню не восстановить: материалы для постройки сборных хижин, способных противостоять ураганам, везти издалека, недобрую тысячу километров бездорожьем, и даже не приобрести в округе малостей быта, необходимых в повседневности. — Дополнение: духи — хранители рода, нашествие демонов, всеземной пожар…
Еще мальчишкой Курнопай интересовался племенем быху (бабушка говорила, что прадед ее матери был из этого народа), оттого и понял: сгорает деревня, тогда духи-хранители улетают на небо к божествам, племя становится беззащитным, сразу на него нападают демоны, битву за битвой выигрывают быху, благодаря разящим стрелам верховного божества Отоулема, однако быху и демоны гибнут в пожаре джунглей, куда принесли огонь злобные воины, а пожар переходит во всеземную катастрофу. Поскольку головорез номер один являлся непосредственным главарем курсантов, устав училища допускал участие Курнопая в приеме командучем подателя рапорта.
Командуч сидел в кресле, головорез номер один находился справа от него. Курсант вставал напротив головореза номер один.
Лицо быху по имени Тапир освещалось смягченными лучами солнца: они проходили сквозь шелковое полотно и отражались зеркальной стеной, затянутой тонким батистом. Навостренно властный в себе Курнопай, как сквозь линзу, видел бурые глаза Тапира, на огромных с прожелтью белках ветвились набрякшие кровью сосуды.
Курнопай по себе догадывался о том (наверняка это у него от быху), что Тапир будет убеждать командуча с прежней последовательностью.
Тапир еще не заговорил, — взгляд выражал, что он пока на подступах к решимости — а Курнопай принялся индуцировать в его сознание мысль, что на средства, которые получит деревня, надо построить квартал в столице и заняться исконным для нее производством настенных керамических украшений; меньше суеты, раздерганности, больше удобств, надежней существование.
Не так обосновывал курсант «довод», внушаемый Курнопаем, но от сути не отступал.
— Тысячелетия плывут, быху остаются на месте. Город пригреет быху. Быху, как белые медведи, кенгуру, дельфины, всем интересны.
Свойство антисонина отделять индивидуума от собственного прошлого чуть не помешало Курнопаю вспарывать намерение. Вдруг курсант соскочил с волны приготовленных обоснований.
— Рассвет над Огомой дороже танкера с золотыми монетами.
Виноват был сам Курнопай. Не то чтобы он перестал пасти глаза Тапира — позволил торжеству охватить душу, и оно оттеснило внушаемую мысль. Яростный, он приказал сознанию курсанта забыть прошлое. И тотчас, не ослабляя повелительности, начал стыдить за унижение денег. Ничего не найти сильнее, даже ядерное оружие, если оно вступит в противоборство с деньгами, будет уничтожено. Да что там: капиталы, прибыли от них стали дороже человечества.
Быху опять последовал за Курнопаем. Дальше почти дословно он объяснил известные представления о духах-хранителях, о демонах, о верховном божестве Отоулеме, о злобных воинах, которые разожгли всеземной погребальный костер.
— Тезис. Антитезис, — проговорил, любивший побалагурить, командуч и отпустил быху, едва тот забрал свой рапорт и дал согласие на испепеление родной деревни.
Командуч похвалил головореза номер один за блестящее харакири, сделанное сознанию первобытного упрямца, вовсе не подозревая о том, что в этот миг Курнопай, потупивший взор, словно бы он стеснялся, внушал ему чувство великодушия. Командуч ощутил влияние, навязываемое головорезом номер один, но противиться ему не стал, хотя и очень хотел, до бешенства хотел. Курнопай был единственным курсантом, при котором он, как ни пытался, не умел вести себя недобро. Ненавидимый собою за мягкотелость, тем не менее командуч приказал Курнопаю вознаградить Тапира за жертву в пользу долга полумесячным отпуском в джунгли.
— Ры-ыд сты-ы-раться, господин команд-уч-ч, — прокричал Курнопай, в глубине сердца злорадствуя.
В утешение себе командуч скаламбурил:
— Уч, уч, жучь, паучь, мучь — обойдешься без соцбуч.
Изначальным распорядком, введенным маршалом Данциг-Сикорским, который основал училище, допускалось собеседование наедине командуча с курсантом — подателем рапорта. После смещения Черного Лебедя установления Данциг-Сикорского были похерены. Верно, через год негласным циркуляром главсержа было соизволено командучу и головорезу номер один принимать курсантов с глазу на глаз. Тем же циркуляром в память о великих воинских заслугах маршала Данциг-Сикорского его имя втайне присваивалось училищу, а батальное наследство подлежало негласному изучению.
Курнопай, вызвавший Тапира для предотпускного напутствия, встретил быху изречением Данциг-Сикорского: «Армия не знает пощады к вооруженным врагам, зато мирное население спасает от сокрушительных бед», — чем не на шутку испугал безотрадного курсанта, ни на что, кроме подвоха, уже не рассчитывавшего. Племя быху славилось доверчивостью, и это было спасительно для него: детская открытость подкупала даже злодеев. Тапира, однако, так натаскали на бдительность, что любое проявление искренности он воспринимал с паническим осторожничанием. Молчаливое внушение, чтобы Тапир положился на его честность, не помогало Курнопаю, но он неуклонно продолжал настаивать, благодаря чему удалось вычитать мысль курсанта: «Благородней гангстера еще не существовало человека…» Сбить иронический заслон он решил отступлением от вкрадчивости, рекомендуемой Гансом Магмейстером: затопал, яростно выругался, приставил к груди дуло термонагана, стращая Тапира испепелением своего сердца, если только он не перестанет сомневаться в его совести. От испуга к Тапиру вернулась доверчивость, и едва Курнопай сказал, что и в нем течет кровь быху, курсант принялся убеждать его, будто бы всегда чуял в нем соплеменника.
Тут Курнопай и поведал Тапиру о намерении спасти деревню. План он придумал, Тапиру лишь оставалось соотнестись с вождем племени.
Танковой колонне училища, возглавляемой головорезом номер один, был придан батальон подростков-пожарников. Курсанты сжигают деревню, подростки оберегают тропический лес от пала. Чуть в стороне от бетонки, обрывавшейся перед джунглями, находится замок развлечений. Останавливая подразделение на санитарный отдых перед броском в джунгли, Курнопай заведомо знал, что кое-кто из армейских подростков отлучится в замок развлечений. Чего не отлучиться? Они несовершеннолетние, трибунал их не судит, свыше месяца отсидят в карцере — строже наказания для них нет. Поднапьются, сигарет с героином накурятся и разболтают о том, куда идут. Как на грех, в замке окажется рыбак из племени быху, приехавший за провизией. В ночи он помчится по Огоме на моторной лодке, и племя будет извещено о цели танковой колонны. Встретит танки вождь быху с маской пятиглавого верховного божества Отоулема. Рассказав головорезу номер один о вести, принесенной рыбаком, вождь поднимет маску Отоулема над собой, и Курнопай увидит в небе над верхом банановой рощи дымы и узнает, что племя приготовилось к самосожжению. Гибель деревни лишит быху духов-хранителей, без которых им не выжить и в столице. Но что еще страшней — с пожара деревни начнется всеземной пожар, в котором сгорит все человечество. Курнопай доложит о ситуации командучу, тот сам не примет решения и отошлет головореза номер один к главсержу, который потребует неукоснительного выполнения приказа. И все-таки Курнопай убедит его отменить приказ угрозой предаться самосожжению вместе с племенем, потому что он быху тоже: ведь в его родословной кровь этого племени. Болт Бух Грей посердится и отменит приказ, дабы зауважали его милосердие самийские племена, а крохотные народы других стран не сделались ненавистниками.
Операция осуществилась в согласии с планом. Курнопай даже покичился перед собой способностью к предначертаниям.
Принимаясь пасти глаза высокомерного завистника Бульдозера, Курнопай стремился заложить ему в подкорку раскаяние. И скоро самоугнетение, смешанное с опасливой хандрой, истаяло в льдистых зрачках Бульдозера. Зрачки забликовали от горячечной тревоги, сходной с блеском кипящей смолы.
«Впади в страх быть разжалованным. Ну, похлещись колючей проволокой самокритики», — подтолкнул Бульдозера Курнопай, ловя себя на язвительности садиста.
— Все мы, выкормыши революции Сержантов, обожаем повыступать, — сник тоном Бульдозер. — Фактически я митинговал перед любимцем САМОГО и нашего великодушного учителя Болт Бух Грея. Систематически допускаю проколы в угоду настрою. Недоучел. Поклоняюсь совести государственной советницы номер один. Самокритически сознаться, мое сердце чуждается подковырок.
«Плохо унизился. Раболепствуй!» — снова подтолкнул Бульдозера и вспомнил, как полицейские пригнули к коленям туловище отца, а Бульдозер разглагольствовал: «Радуйтесь, Чернозуб, в вашей судьбе наступает новая эра. То вы ходили на работу, возвращались домой, торчали перед телевизором, околачивались в стриптизбаре… Отныне вам не нужно будет мотаться сюда-туда. Целеустремленность и никаких распылений. Работай без отрыва от производства. Что может быть полезней и возвышенней!»
— Кронос пожирал своих детей. И революция тоже… под соусом защиты самых верных детей… Враги сохранялись и обратно захватывали власть.
«Что ты тянешь? Искупи мольбой хотя бы частичку позора, превратившего самийцев в бессонных роботов».
— Приказ вдохновляет исполнителя. Не собирался надругаться над Ковылко, Каской и тобой. Если я без намерения ранил твое сердце и сердца твоих родителей, заклинаю простить. Нет звезды ярче Курнопая на небосклоне Самии, не считая Болт Бух Грея и Фэйхоа. Нет завистника завистливей, чванливца чванливей, чем я.
Бульдозер, огрузневший до бессилия, вскочил и, склонясь, притронулся к полу перед ботинками Курнопая.
Курнопай было смягчился при виде седого загривка: «Все мы жертвы зависимости», — и попросил Бульдозера забыть о мимолетном эпизоде в судьбе каждого из них.
Прежде чем Бульдозер распрямился, Курнопай заметил на его розовой шее морщины рисунком в созвездие Кассиопеи: «W». Невольно испытал оцепенение: сникло победное чувство.
«А вдруг он, как великий САМ, внеземного происхождения? Нет, скорей это забава милитаристического иезуитства».
По лесенке из рубки капитана, словно бы подтверждая второе предположение, тоже ужаснувшее Курнопая, путаясь в полах желтого хитона, спустился монах милосердия.
При стуке вечной обуви, выточенной из фисташкового дерева, Бульдозер опустился на колени. Ладони вылепили из воздуха минарет, после оглаживали его купол, кружили по кольцу балкона, скользили вниз по стволу.
Монах милосердия ткнулся на колени рядом с Бульдозером. И его ладони лепили, оглаживали, кружили, скользили.
Истово религиозны были их движения.
И вновь Курнопай неожиданно столкнулся с тем, что командпреподаватели скрывали от курсантов, даже от него, на протяжении пяти бессонных лет. Ему-то сдавалось порой, будто не очень обдуманы державные действия. Не так оно, не так, коль существует в Самии многоступенчатая система тайн. Ни о сексрелигии, ни об улучшении генофонда нации не знали курсанты. Это бы взрывало воспитание, направленное не на обжорство наслаждением, не на усовершенствование телесного и духовного потенциала народа, а на аскетизм и овладение в совершенстве боевым мастерством ради самопожертвования и убийства.
— Головорез номер один, вам что, особое приглашение? — задержав над собой руки, спросил монах милосердия и повелел, едва Курнопай с недоумением колыхнул плечом. — На колени. Молиться. Воспроизводить жестами символику полов. Начну обращаться к САМОМУ, повторяйте за мной в уме.
Опустился Курнопай на колени. Как свинцовые рукавицы надел: шарашились ладони в воздухе и сваливались к бедрам.
Монах милосердия с Бульдозером косились на Курнопая. Вопреки наблюдению, оно не вызывало сомнения в том, что оба они сейчас поглощены молитвой, его морочило подозрение. Оно так и не прояснело до мига, когда он принялся повторять про себя за монахом милосердия сексмолитвы.
— О, САМ, мы возрождаемся на основе твоей духовности и учения о герметизме верховного жреца Болт Бух Грея. Растут новые поколения грандиозных граждан. Никому из богов и пророков, о, САМ, не удавалось наделить свои народы столь плодоносящей религией. Наше грядущее закладывается в новый генофонд страны и ее генофондариев. Доблестный Болт Бух Грей, опираясь на твои установки, выдвинул лозунг: «Прекрасное качество должно переходить в наипрекрасное качество». Воздай ему, о, недосягаемый, за мудрость, волю, любовь. Все чаще и чаще рожают от него самийки. Теперь он отец двух тысяч детей, и все красивые и умные, и нет среди них ни шизоида, ни дауна. Тогда как еще пять лет тому назад каждый второй мальчик и каждая третья девочка рождались неполноценными, предрасположенными к дебилизму и алкоголю. О, САМ, взойди к нам, и ты увидишь, где тысячелетиями шумела степь и ветер гонял комки верблюжьей колючки, там поднялись дворцы генофондариев. Жизнь, о, великодушный, спорится. Люди довольней, небо безоблачней, океан прозрачней. О, САМ, спасибо, что ты есть. Мы так на тебя надеемся, как никогда не надеялись на себя. Разумеется, о, САМ, мы не без недостатков. Кто не грешит, тот не достигнет совершенства, ибо сказано тобой: «И я не безгрешен, но совершенство — моя вселенная». Аминь.
Монах милосердия открыл «дипломат», исчезнувший с набережной, и ввел в шею Бульдозера недельную дозу антисонина.
Курнопаю, подозрение которого разрешилось догадкой: он пас глаза Бульдозера, а монах милосердия обуздал его психику, — Бульдозер сделал укол «Большого барьерного рифа».
Едва инъекция начала свое духоподъемное влияние, Бульдозер известил Курнопая об опасных событиях на целом ряде заводов и в том числе на том, где работает его отец Чернозуб. По неуточненным слухам, Чернозуб возглавляет самую зловещую забастовку из всех, каковые когда-либо случались в Самии.
Антисониновый жар заставил Курнопая выйти на корму. Пластинчатые, фиолетовые, как чароит, хребты тумана откатывались вдаль.
Воображение навязывало фигуру Фэйхоа в халате сизого крепсатина. Фигурка привставала на цыпочки, прорисовывалась за туманом между скалами Мамонт и Скифский царь. Надо было пригреть Фэйхоа в душе, растроганной молитвой, и попробовать сверхсенсорным вихрем разогнать туманную глушь над виллой, но не нашел он в себе ни сострадательной, ни буревой охоты и согласился с безразличием. Зато порадовался щебету свиристелей, шнырявших на антенне радара, и тому, что катер парит, не взрезывая волн.
Закружил себя Курнопай вокруг предписания Болт Бух Грея. Полк! Ему дают полк. Счастливцам по выходе из училища дают только батальон. Ему дают полк! И не просто полк. Универсальный. По усмирению смутьянов. Экая подлость: правительству — да таких пекущихся о народе правительств не было, вдобавок таких энергичных, — мешают осуществлять курс благородства и целесообразности. Демонстрации, туды-сюды их, студенческие… Взрослые на предприятиях о детях тоскуют, а работают почти круглосуточно. Исключительное, понимаешь, положение у грызунов науки: треть суток на лекциях, треть в библиотеках, треть на личное развитие. Устраивают оргии. И все-таки демонстрируют. Студенческое телевидение им подавай, неконтролируемое. Разреши диспуты с самим Сержантитетом. На темы политики. Нащипали цитаток из футурологических брошюрок, думают — выскреблись в госмудрецы. Пуп вам, намазанный дизельным топливом! Просветители. Демонстрируют. Шибануть из брандспойта по вашим страусиным ногам не японским скользителем, а нашенскими садовыми улитками. Ужасти будет! Хруст, скользь. Получат они у меня гурманствующие потроха! Улиток не хватит — медузами угостим. Не расползетесь, так газком дунем, от которого не то что профессоров не узнаете, своих сексапильных эмансипушек. Если и после не уйметесь, бегающих факелов из вас понаделаем. Кому посчастливится уцелеть, у тех проклюнется рассудок. Блаженствовали. Не ценили. Да еще раскочегаривали недовольство трудяг, якобы лишенных элементарных телесных потребностей. И слухи распускали, будто бы большинство народа будет признано генетически негодным, значит, стерилизовано. А что, туда-сюда! Не все в природе людей сплошь пороки. Иначе не было бы государства, армии, органов насилия, экономического регулирования. Слава САМОМУ, что вводит демографическое регулирование. Да, отец? Неужто вожаком у смутьянов? С него станется. То и дело сползал к бессознательному критиканству, во всяком случае, до революции Сержантов. Проверим на верность САМОМУ, державе, главсержу. Коль что… Убийство у прогресса не отнимешь. И сомневаться нечего, и нечего страдать. Прочь мягкотелость. Жестокость благородна.
Да-да, порядок и стремительность. Преодолеет тактику вертолетов и дирижаблей. Никаких каракатиц неба. Скачко́вые ракетопланы для выброса головорезов. Чехлы наножные из пластика — гасители моментов приземленья. Скачок. Прикидка. Сдадутся — хорошо, нет — искоренение. Все это возведем в священный принцип защиты сержантского режима. Представлю рапорт Бэ Бэ Гэ. Он утвердит. А, не посмеет отклонить. Все к лучшему. О, САМ, благослови. Я понял, как необходим генофондизм, стерильность, всеизбавление трудом без перерыва.
Курнопаю не удалось подать рапорт. Едва он прибыл в полк, на сигнальных вышках начали пульсировать голубые огни правительственной тревоги. На экранах неотложных команд возник Болт Бух Грей. Голосом, где изжиты личные чувства и слышится лишь державная забота, он объявил о том, что антисониновый бунт на смолоцианистом заводе достиг пика государственного терпения. Дальше Сержантитет не может допустить, дабы рабочий день протяженностью в двадцать два часа сократился до шестнадцати часов, дабы в качестве заложников арестовывались промадминистраторы, дабы подвергалось порче оборудование специального предназначения.
Болт Бух Грей добавил, пошморгав носом, что его верховной воле при всей ее склонности позволять простонародью то, что не прощается средним и высоким классам, не в силах продолжать смиряться. Но воля его не смеет допустить немилосердия к смолоцианщикам. Отсюда решено послать туда генерала Курнопая. Ему не занимать ни жалости, ни доброты. Державной жалости и доброты. Что может быть гуманней?
Экран опустел, и распалась его ледяная синева, и закипела в ней белизна жидкой стали, и вытолкнулся в белизну луч о четыре грани, и слепящее мельтешение образовало задумчиво ускользающий лик, склоненный над тьмою равнины, и как только в сердцевине луча завьюжился сиреневый блеск, раздался божественный голос, облачно-пышный, потаенный в басовых глубинах.
— Наш любимец Курнопа-Курнопай, в день посвящения, в присутствии Фэйхоа, ты получил от меня философическое напутствие. Учение о Мировом Разуме и Мировом Чувстве ты воспринял со всей серьезностью. Оно отразилось в твоих успехах.
Теория напоминает новорожденного кашалота. Если няня-китиха не вытолкнет детеныша из воды на поверхность, он захлебнется. Вытолкнет — он вдохнет воздуха и удостоится судьбы переплывать океаны, достигать донных впадин, куда батискафы и аквалеты еще не опускались. Любимец Курнопа-Курнопай, исповедуй в делах, предписанных моим потомком-галактянином Болт Бух Греем, сущности моего Мирразума и Мирчувства! Они слиянно-различны, противоположно-единые. Совмещаясь, несовместимы, не совмещаясь, совместимы. Опирайся в делах и на теорию герметизма. Смутьяны разрушают здоровое тело страны. Успехов и доблести, любимец страны САМОГО!
Задумчивый лик, склоненный над тьмою равнины, исчез. Плоскость экрана заполнила льдистая синева, и снова в нее врубился Болт Бух Грей, весь четкий, как бур, выбирающий в гранитном монолите колодцы для установки ракет, но произнес мягким голосом, разрыхленным умилением и благодарностью, тихую речь.
— У нас гениальные цели. В повседневности мы сползаем на мелочность, на бытовщину, то бишь попираем духовность. Откуда изломы нравственной красоты и девальвация душ? Причины уходят корнями в прадревность до пришествия САМОГО. Родимые пятна прадревности изживаются трудно. Дабы свести их на нет, создана держпрограмма. Мы выполняем ее. Программу я открылил сексрелигией, каковую укрепил теорией герметизма. По охвату сознаньем как микроявлений, так и макротеорию герметизма нужно назвать теорией мирозданья. Всякое нарушение герметичности двоякоедино. Важно понять, чем обернется оно. Разовьется ль под знаком благоприятства или двинется к минус-трагедии. К минус-трагедии движется бунт, чей предводитель Чернозуб. Его теща-кормилица, твоя бабка Лемуриха, тоже порицает Чернозуба. Порицает его все общество единогласно. Отправляйся на смолоцианистый завод. Жертв мы не жаждем, однако не поощрим ненасилия, ежели необходимость потребует вооруженной борьбы. Будь бдителен с бунтовщиками, мой мальчик! Ты облечен САМИМ и твоим главсержем.
Курнопай попробовал предложить план операции с использованием скачковых ракетопланов, но Болт Бух Грей отверг его как слишком грандиозный.
Белый вертолет, куда сели Курнопай и чертова дюжина головорезов, сделал километровую свечу. Он завис, поджидая восьмерку желтых вертолетов. Восьмеркой они и прорисовывались над взлетной площадкой.
Еще всходя по трапу, Курнопай ликовал, как в детстве, очутившись на крыше дома перед вертолетом телестудии. Тотчас ему представилось ромбовидное бабушкино лицо. Ромбовидность она подчеркивала волосами, которые сводила у подбородка в зажиме двустворчатого платинового воротника. У бабушки были глаза мадагаскарского лемура. Теперь, как ни пытался, он не мог вообразить сияющие убежденностью ее огромно-круглые глаза, из-за чего и захандрил до безотрадности, что считалось в училище гнилой реакцией на антисониновую неунывность. Он попытался взбодриться (чертова дюжина головорезов, заметив, что он скис, уже начала лютеть), но помрачнел еще заметней. В подобных случаях армейский устав разрешал чертовой дюжине головорезов, ударному ядру полка, смещать командира открытым голосованием, а в моменты, когда его настроение ставило под угрозу боевую операцию, ликвидировать без следствия и суда. Традиция была новой, опробованной в училищах, где душевные боли и порчу настроения относили к области социальной патологии, карающейся презрением и жестокостью. Над тем, кто объявлялся хлюпарем, все в училище измывались, как кому заблагорассудится. Обычно прибегали к потехе: гоп-стоп, не вертухайся. На курсанта натягивали резиновые чулки, покрытые с изнанки бактериологической смесью, от которой нестерпимо зудела кожа. Выводили на плац. Командпреподаватели держали курсанта, мешая ему чесаться. Он дергался, подпрыгивал, сучил ногами. Тем временем вокруг них смыкалось, все увеличиваясь, кольцо курсантов, державших перед собой дюралюминиевые щиты, зубчатые по гребню, шипастые на плоскости. Щиты были высотой от полутора до трех метров.
Хлюпарь выл от зуда. Командпреподаватели отпускали хлюпаря, едва его голос поднимался до волчьих нот. Хлюпарю не терпелось убежать, посрывать чулки. Просвет между курсантами воспринимался как дорога в рай. Хлюпарь бросался к просвету, за миг от мнимого спасения щиты смыкались, он налетал на них, обдирался, отскакивал. Тут же ловился за гребень, пробуя свалить щит себе под ноги, но лишь продавливал зубцами ладони, напарывался на шипы коленями, животом, локтями.
От зуда, ран, вида собственной крови хлюпарь доходил до исступления. Тогда-то он и принимался прыгать. Первые попытки перескочить через щиты тоже кончались ссадинами, порезами, проколами, правда, были больней, глубже, и это, а также скандирование из казарменных окон: «Прыщ, Pox-ля, Мра-азь. Гнус-трус», — вызывало у хлюпаря взрыв скакучести — он перемахивал три изгороди щитов. Потом был спад остервенения и повторный рывок бесстрашия, который завершался тем, что хлюпарь повисал на зубцах трехметровых щитов.
Курсанты, беснуясь, мазали кровью губы, несли хлюпаря в карцер, бросали там на сутки без присмотра и помощи. Выживал — ему оказывалась медицинская помощь, после командуч назначал его головорезом. Именно он, Курнопай, был первым хлюпарем объявлен и не только не почесался, хотя и хотел разодрать ноги ногтями, не только перепрыгнул три изгороди щитов, но и, рассвирепев, разогнал курсантов и командпреподавателей, задействованных в потехе гоп-стоп, не вертухайся, за что сам главсерж Болт Бух Грей провозгласил его головорезом номер один.
От сцен, которые память открывала перед Курнопаем, как донные валы открывают канаты водорослей, осьминогов, свитых в клубки, сигающих из наката в накат дельфинов, от этих сцен училищной казни стало щемить сердце.
Однажды, в порыве доверительности, Ганс Магмейстер понедоумевал, зачем-де Сержантитету понадобилась сия игра? У нее только два эвристических русла, и оба могут повернуться против правительства: без того лютые, подростки сделаются жесточе, без того бездуховные, они скатятся к циничному всенеприятию. Должна же быть у человека хотя бы одна цель, даже непристойная.
Курнопай, почти не ведавший страха, с беспокойством скользнул взглядом по чертовой дюжине головорезов. Пристальность, с какой они, все без исключения, смотрели в иллюминаторы, не могла успокоить Курнопая («Выучка, переходящая в противоположность»), зато была в единстве их состояния счастливая возможность: индуцировать им увещевание, нелепо-де готовиться к смещению начальника, который входил в мысленную связь с САМИМ, чтобы наставил его для безошибочных действий во благо Сержантитета и державы Болт Бух Грея.
Внушение давалось Курнопаю трудно. Он не мог сосредоточиться для мощного внутреннего напора, испытывая сопротивляемость головорезов.
Он должен их перехитрить.
«Я заболел. Явно, — сказал себе Курнопай. — Возвратимся в полк, попрошу сделать химический анализ крови. Вдруг не выживу? Нет, гоп-стоп, не вертухайся. По всей вероятности, меня укололи рафинированным антисонином? Может, не зря болтали ребята, что рафинированный антисонин колют верхушке. И все-таки другой вкус во рту: горького миндаля, а не тухлых черепашьих яиц, и налет на зубах будто от ягод терна. Не соединены ли эти звенья — работяги и медики? Не выйти ли на связь с главсержем? Уж он-то потянет за звено и вытащит всю цепь вместе с якорем. Неужели за столь краткий исторический срок вызрели реакционные элементы? Заговору не состояться. Соберусь с волей и доложу главсержу. Уж он-то вытащит цепь преступного подрыва из законспирированных глубин и отомстит за меня».
Казармы, ангары, бензозаправщики, взлетные площадки вертодрома находились среди эвкалиптовых рощ. Покуда набирали высоту и слагались в строй узором в созвездие Ориона, голубело небо, воздух пахнул душисто. Скоро, уже над равниной, серая почва которой просвечивала сквозь траву, точно шкура слона сквозь редкий волосяной покров, стало приванивать свалкой и промышленной гарью. Окраина, погрязшая в буро-желтом смоге, смердела смесью газов и разложением рыбьих потрохов. У океана дышалось полно, очистительно. Курнопай затосковал о шершаво-сизых валунах лагуны, откуда утром углядел над легкой колышенью такую ясную голубизну, что захотелось единым вдохом вобрать ее в грудь.
Худосочный вид заброшенной равнины — до низложения Главправа ее земля давала хороший урожай сорго — и тлетворный запах окраины отвлекали Курнопая от ожидания двойной гибельной опасности. Как же это так? Были поля — и нет. Было небо, пусть не без чада, теперь сплошной дым?
Генерал-лейтенанту Пяткоскуло, назначенному адъютантом Курнопая, не обломилось получить полк, из-за чего он возненавидел головореза номер один. Пяткоскуло решил проверить, чем дышит Курнопай, едва тот в открытую сосборил морщины на переносице, выказывая недовольство пейзажем и воздухом, и заговорил, захлебываясь от восторга, об исключительной целеустремленности Сержантитета, его повелителя Болт Бух Грея, божественно выполняющего духовно-религиозную программу САМОГО. И все это осуществляется на фоне непоследовательности, свойственной роду человеческому, и глобальной благонамеренности, что приносит пользу в условиях непонимания условий. Метод предводительства, избранный у нас в державе, противоположен всеобщему: он — труд в условиях понимания потребности в нем; искренность как источник безмерной целесообразности; постановка задач, с виду беспощадная, недосягаемая по гуманизму. Где, когда, кому удавалось достичь плодотворного сумасшествия научной храбрости?! Выискивались невежды, кто утверждал: «Барьер выживаемости в условиях черной атмосферы не способен превышать десятикратную смертельную норму». Шкалу консерваторов практика смела. Многие индивидуумы с успехом живут и работают в химической среде, во сто крат превышающей смертельную дозу. На поверку сомнительные экспериментаторы превращаются в недосягаемых практиков, в совершенстве владеющих наукой из наук — предводительством.
Прочувствовал Курнопай, для чего славословит Пяткоскуло. Изумленный, он отметил, что скулы адъютанта, твердокожие, никотиново-желтые, как солдатские пятки, порозовели, словно кожа щек.
Курнопай чуть не рассмеялся от соображения, что природа применила к скулам и пяткам генерал-лейтенанта тот же метод, которому он поет дифирамбы.
Похвала САМОМУ, Сержантитету, ведомому Болт Бух Греем, от кого бы она ни исходила, являлась мерилом политических достоинств гражданина. Она обеспечивала его правом на неприкосновенность. Если ты грабитель и пойман с поличным, но примешься ораторствовать о своем преклонении перед САМИМ и нынешними предержащими, полицейские и свидетели обязаны замереть и внимать тебе, трепеща всей душой, как раньше, до введения сексрелигии, ты трепетал во время молитвенного пения под рокот и вздохи органа. Не замрут, не станут тебе внимать, будут судимы за неуважение к власти. А ты, что бы ты ни сделал, грабя, если даже убил, кончив ораторствовать, преспокойненько удалишься; и позже тебя никто не посмеет арестовать. Но прежде чем уйти, ты еще и можешь надавать по мордасам тем свидетелям и полицейским, каковые рассеянно или возмущенно слушали тебя.
— К моему верноподданничеству я прибавлю…
Курнопай не должен был сметь задерживать течение адъютантовых излияний. Неосмотрительность. Мог бы шепнуть Пяткоскуло, дескать, не отвлекайте меня от прикидки действий, связанных с предстоящей операцией, так нет, он рявкнул так, что увеличились вибрации вертолетного фюзеляжа:
— Мы-а-лы-чать!
Умопомрачительным было не только удивление Пяткоскуло, но и каждого из тринадцати головорезов. Не случалось в их присутствии, чтобы кто-нибудь кому-нибудь когда-нибудь приказывал прекратить воздавание хвалы всем трем ступеням правящей иерархии: САМОМУ, Болт Бух Грею, Сержантитету. Коль так, их представления и действия парализованы. За этот психологический парадокс Ганс Магмейстер пообещал бы поставить ему памятник при жизни.
Головорезы, едва отделавшись от остолбенения, смекнули, ежели, мол, он прихлопнул с маху державную елейность Пяткоскуло, значит, нипочем Курнопаю обычные законоустановки: он сам причастен к триединству власти и волен поступать вкривь и вкось.
Пяткоскуло, чуть выпутался его мозг из помрачения, лапнулся за кобуру термонагана и вскочил.
— Вы арестованы, крамольный начполка.
Курнопай сидел напротив Пяткоскуло. Носок его ботинка был оправлен вороненой сталью. Этим носком он поддал ему в средостение. Пяткоскуло упал в кресло.
Курнопай разоружил Пяткоскуло, дыхание которого пресеклось. Чтобы не расслабиться от жалости, сказал:
— Развел дерьмо на ананасовом сиропе, — и велел всем приготовиться к высадке.
Головорезы было собрались надеть газозащитные маски, но Курнопай не разрешил, вдобавок приказал оставить их в салоне. Не разрешил надеть и очки с инфрапронизывателем.
Вертолет завис над площадью перед воротами смолоцианистого завода. Курнопай надел инфраочки. Возле турникетов проходной никого, кроме вахтера. Внизу, вспученная реактивными струями, клубилась аспидно-темная, переплетенная сернистой прожелтью мгла.
Пустынны шоссе, железнодорожные пути, покрытые лохмотьями ржавчины, пешеходные мосты на территории завода. Хотя бы на мгновение высунулась из какого-нибудь здания или вагоноопрокидывателя чья-то любопытствующая рожа.
Возвратился взглядом к площади, воротам, турникетам. Вахтер в форме цвета метана по-прежнему один, недвижен, со смеженными веками, подперся о чугунный фонарь.
Безлюдье — это один человек на огромном куске земли, придушенном строениями, механизмами, кучами сырья, готовой продукции, смрадом. Безлюдье и в его вертолете. Наверно, и он проявление безлюдья?
Неужто вахтер не слышит, как выхлопывают из труб ревущие струи, как просекают они газовую жирноту?
Моя голова, о, моя голова, тебя раздирает тоска и смятенье! Ты сразу могла бы понять, что вахтер с трудягами заодно. Конечно, он вольнонаемный. Втоиповцев рабочие поскрутили. До того допекли их втоиповцы, что не осталось у них терпения. «Барьер выживаемости»? Да можно ли ставить такие задачи? Ведь здесь, в душегубных дымах, трудиться способны лишь покорно-могучие люди, наивную веру которых затралил словесный обман. Покладист до самогубительства, трудяга, похоже, утратил надежду в протест? Упорствуй, страдай, будут жертвы. А толку? А толк, и всевластье, и роскошь без края и меры у кодлы, которая сцапала руль. Да где ж справедливость? И есть ли к ней путь?
Вкусом горького миндаля отзывает во рту, и вязкий налет на зубах, как от терна. Неужель у меня кипит котелок и при дозе «Большого барьерного рифа»? Вот счастье! Значит, и тут, на заводе, обнаружился ум? Надо медлить. И подумать, подумать. Заблуждаться опасно в обстоятельствах бунта.
Вертолет шел зигзагами над заводом. Восьмерка, раздвинувшись, следовала эволюциям флагманской машины. Над стальными вертикальными трубами газосборника тряслись крышки. Даже сквозь реактивные свисты были слышны звуки, слегка приглушаемые кирпичной кладкой на исподе крышек; из-под них оранжевыми кругами выхлопывалась гарь.
Низкий полет над газосборником, где, судя по клацанью крышек, поднялось давление, определялся инструкцией как очень рискованный: вероятны взрывы, отравления, длинное пламя.
На крошечном телеэкране, вделанном в ручку кресла, возникли три тройных ряда намекающих лиц. Пилоты выходят на экран, когда угроза для машины, ее экипажа и пассажиров диктует незамедлительный маневр.
Курнопай отмахнулся: дуйте, как шли.
Растяжки торцовой трубы (ее клапанами обычно снижалось давление в газосборнике, а теперь их некому было открыть) лопнули разом, словно подпиленные. Квакнуло. Ужас обуял чертову дюжину головорезов во главе с Курнопаем. Ракетой, нечаянно сорвавшейся с пусковой площадки, труба проломила салон, завертелась, сшибая и уродуя кресла. В хвостовом отсеке, где хранились продукты и оружие, она застряла.
Отделавшиеся легкими травмами, головорезы улыбались друг другу. Возврат боевого задора.
Но поспешили головорезы обменяться взбадривающими улыбками. Загорелись кресла. Перекосом фюзеляжа заклинило боковые двери и люки.
Курнопай бросился к пробоине в полу, выстрелами из термонагана обрезал металлическую рвань. По мановению его руки в квадрат отверстия стали выбрасываться головорезы. Опять же с помощью термонагана он отворил боковую дверь, откуда, едва приземлились, выскочил, взвалив на себя Пяткоскуло. Следом выскочили пилоты и штурман.
В кислотном дыму головорезы ничего не видели, как лунатики бродили по мостовой, заходились в кашле.
Пяткоскуло, опущенный Курнопаем на булыжник, опрокинулся навзничь и скользил на спине, толкаясь руками-ногами.
Вертолетчики — запрет Курнопая не надевать очки и маски не распространялся на них — по его приказу свели полк в одну шеренгу. Хваленой выдержки головорезов: «Умирая, держат фасон», — как не бывало: корчатся, вьются, угибаются задыхаясь.
И снова Курнопая охватило жалостью, но он продолжал сохранять решимость. Он не сумел бы тогда объяснить вразумительно, почему не отменяет приказ, приведший полк в состояние небоеспособности. Жалость и понимание того, что руководит вопреки уставу и положению о тактике подавления бунтов, было поколебали Курнопая, но все в нем засопротивлялось внутренней зыбкости, будто бы кто-то внедрился в его расслабившуюся волю.
Сосредоточась на своих чувствах, он вынес впечатление о подсказке извне, но тут же открестился от нее. Не проявило ли себя скрытое в подкорке самовнушение?
«Действую в одиночку, — сказал он себе, чтобы определиться. — Абсурд, Курнопа, абсурд!» А впечатление о подсказке упорно сохранялось в чувствах и привело к правофланговому головорезу, и заставило прошептать на ухо:
— Передай, пусть полк включит приемники. — Когда приказ прокатился по шеренге, добавил уже в микрофон, пристегнутый к запястью. — Залечь вокруг вертолетов. Не стрелять, что бы ни случилось. Ждать моих указаний.
Отдавая команду, он еще не предполагал, что предпримет и куда подастся. И только вертолетчики положили полк вокруг машин (над землей находился воздушный буфер-просвет, поэтому дышать было легче), Курнопай воспринял сигнал, природа которого почему-то сформулировалась для него как излучение человеческого мозга. То обращаясь к САМОМУ, то вступая в духовное соитие с САМИМ, который, чудилось, сам лично соотнесен с ним, Курнопай был полностью настроен на высшую взаимосвязь, потому и усомнился в том, что сигнал подал человек. Не мог он излучить сигнал с такой силой, коль от него не отвертеться. Наверняка САМ продиктует ему, как поступить.
Курнопай включил гравитонный передатчик. Без промедления отозвался Болт Бух Грей. Что-то сталось с полированным баритоном главсержа: шершав, словно горло обожгло спиртом.
— Обстановка?
— Отсутствие присутствия.
— Не разводи тьму.
— Тьмы тут предостаточно. Я вот зачем, господин Верховный Главнокомандующий.
— В темпе. Бронетранспортеров подбросить? Ракетами для острастки садануть?
— Не требуется. Мною хочет руководить САМ.
— Гордыня.
— Он уже руководил мной. Я входил с ним в соитие. Несколько минут назад он подключился к моему сознанию.
— Ударил лучом?
— Ага.
— ОН. Поздравляю, мой персональный любимец. Раньше ОН вступал в соитие исключительно со мною. ОН пользуется принципом избирательности в чрезвычайных случаях. Два-три случая на эпоху очередного правителя. Счастливец! Удостоился. Бунт смолоцианщиков взволновал и ЕГО. По пустякам не волнуется. Ежели ОН намекнет на кару — ни перед кем не останавливайся. Больше не смею советовать. Теперь не я тебе верховный.
Курнопай ждал, надеясь, что САМ прояснит ему цель и подробности обстановки.
Промедление САМОГО чуть ли не сжигало Курнопая. Он не вытерпел, укорливо напомнил САМОМУ о том, что томится, и спросил, возмутясь:
— Зачем тогда отвлек? Итак я в раздерге. Делаю то, чего не должен бы делать. Мой разум сорвал все социально-философские ограничители. Без них какой я военный?! Даже антисонин не устранил хаоса в чувствах и уме. Я уж не говорю о кощунствах, разрушительных для религии. А может, ты завихривал мои разум-чувства, чтобы проверить, на что я способен?
И опять САМ не отозвался. И побрел Курнопай туда, куда, мнилось, он был направляем. Из-за угольного холма выткнулся шпиль. На нем, понавешанные, топырились приборы, должно быть, для обнаружения присутствующих в смоге газов и для замера их количества, приходящегося на один кубический метр атмосферы. По сторонам от шпиля, сориентированные на страны света, круглились шары, осуществляющие очистку воздуха и хранящие запасы сжиженного кислорода, азота, углекислого газа.
Шпиль и шары возвышались на макушке купола. Кольцевая стена, покрытая налетом смолы, спутывала впечатление от здания как от жилого помещения. Надо было уходить от него, подобного цирку, или обогнуть, ища людское обиталище, но он продолжал вглядываться в овал стены и мало-помалу различил по впадинкам контуры дверей. Подошел к ближней двери. Ее смоляной покров вроде кто-то пробовал проскрести гвоздем. О, да это каракули. Каракули сложились в слова:
МЫ МЕЧТАЕМ О ВЕЧНОМ СНЕ. УБЕЙТЕ НАС.
Что-то заставило Курнопая приготовиться, чтобы войти в здание. Там, внутри, весело, потому отупляюще чуждо проверещал звонок, и дверь отворилась. Шаг через порог. Дверь, закрываясь, поддала его сзади.
Очки слетели. Затрепетал: не отыщет их в чадной тьме. Через секунду прищурился. Под куполом бело: как солнце жарким полднем, пылали прожекторы.
Чистый воздух помещения, повеивание запаха тополевых почек, покрытых клейкой смолкой, заставило Курнопая удивленно хмыкнуть. Поднял очки, всходил по настилу, сходному с подъемным мостом средневекового замка массивностью плах и тяжестью цепей. От настила сферически размыкались, чтобы на противоположной стороне свестись у другого настила, пешеходные мостики. К стальным фермам, черной решеткой отделившим купол здания от бетонной шахты, были привешены сетчатые многоярусные и многорядные кровати. Ниже кроватей хорошо просматривались из-за своей пластиковой прозрачности различного назначения службы: столовая, библиотека, телевизорная, туалеты, зал для плотской надобности. Привешенные тоже к металлическим тросам, службы находились высоко над странным полом, набранным из базальтовых конусов. Прыгни на пол оттуда, из служб, не только не устоишь на каменных остриях — переломаешь ноги.
Еще охваченный впечатлением безлюдья, Курнопай и тут настроился на горестный лад. Но когда пригляделся, его поразило то, что на доброй половине кроватей спали, что лишь отдельные кресла в библиотеке пустовали, что по телевизорной слонялись старики, угнетенные, вероятно, хроническими недугами и заточением. На экран во всю стену старики даже не взглядывали, а там стреляли по мишеням из пулевых автоматов мальчишки с девчонками, катающиеся на каруселях, демонстрировали детей-генофондистов, они красивы, ладны, ловки, азартно воинственны. В зале для плотской надобности (о чем однажды проговорился Курнопаю пьяный вдребадан провиантмейстер) скользили пары под виолончель, уютные, с ласковой гундосинкой мелодии напоминали те, которые отворяются в голосе женщины, когда она лопочет, будто бы поддается соблазну, а на самом деле плутовато нагнетает желание, и страсть уносит мужскую стыдливость…
Провиантмейстер нахваливал биоников, сексологов, художников. Они якобы создали ради трудяг, силу которых все-таки не исчерпывают ни бессонность, ни круглосуточные смены, девиц-развлекательниц, мало в чем уступающих неподдельным. Девицы мило болтали, пели интимные песенки, наигрывая на синтезаторах, дулись в картишки… Гладкостью и температурой кожи они не отличались от взаправдашних женщин. Пластика тела, правда, слегка огрублялась суставчатостью, чуждой упругостью были уплотнены грудь и живот, во время поцелуев пугало отсутствие дыхания, про душу и нечего говорить — ее так недоставало, когда человек пускался в откровенность. Создатели бионических девиц не заложили в программу их повадок сострадание или хотя бы простую способность подлаживаться под настроение клиента.
На девицах, в первый миг принятых Курнопаем за подлинных, слишком уж в облипочку была одежда, а скольжение чуть протезное, без привставания на пальцы, фигурки настолько образцовы — до искусственности, да и обликом весьма разнонациональны: кукольная кореянка, толстоволосая эскимоска, хипповая англичанка — джинсы вытерты до зияния кожи на ягодицах, в мохрах засаленного пончо куриные перья, громадногубая африканка из племени балуба, полячка с голубыми глазами, по-мавритански смуглая испанка и одна усредненная, что ли, европейка, близкая по антропологическому типу южным самийкам.
Именно европейка, едва партнер в желтом комбинезоне, плоский со спины, коснулся губами ее уха, побежала к алькову, где в сумерках томного газового освещения бурела тахта.
Преодолевая неловкость, он не отвернулся. Как все же девица поведет себя с Желтым Комбинезоном?
Возле тахты Желтый Комбинезон облапил девицу. Она вырвалась. Уставясь на нее, он отступил. Девица о чем-то известила партнера. Он прихлопнул свои ладони к ее щекам, притрагивался большими пальцами к вырезным крыльям носа. Вон оно что — крылья носа эрогенны. Вероятно, такая последовательность отношений девицы с клиентом заложена в ней сексологами? Девица переместила ладони Желтого Комбинезона себе на бедра, он пооглаживал их, после чего она распахала сверху вниз боковые молнии на кофте с юбкой и присела на тахту. Ух ты! Не желала ложиться в постель без поцелуев.
Из танца выбыли эскимоска и трудяга с буйволиной шеей. Курнопай дал трудяге имя Штангист. Хипповая англичанка и техник вида жестокого герцога Альбы не отличались от них предпостельными ласками. Сердце Курнопая затосковало от нежеланной мысли: он не знает, кто подражательней, истинный ли человек или бионический?
Курнопай отвернулся, сказал в сердцах:
— Ишь, оборудовали, гады.
На горбу мостика замаячила сутулая фигура. Втоиповец? Их училище, хотя и готовило термитчиков, часть выпуска направляло в распоряжение командования Войск Трудовой Организации Индустриальной Промышленности, откуда термитчиков вживляли в рабочую среду для осуществления спецнадзора. По шифровкам спецнадзорщиков командование ВТОИП судило о настроениях: оно выдергивало с предприятий рабочих, обнаруживших ненадежность. Выдергаи бесследно исчезали. От командпреподавателей Курнопай знал, что выдергаев отправляют на особо опасные заводы, где им уготована бессрочная возможность для самообеления.
В обстоятельствах, требующих немедленных кар, спецнадзорщикам рекомендовалось выходить, чтобы ценой разоблачения тайных полномочий содействовать пресечению смуты.
Следящая сутулая фигура остановилась осматриваясь. Чувство омерзения к себе, к училищу, к спецнадзорщикам, охватившее душу Курнопая, заставило помедлить с восхождением.
«Чуть что — убью! — пообещал он себе и подосадовал на свое, некстати, обращение к САМОМУ: — Не прими за дерзость, великий. Неужели и это исходит от тебя? Я еще не определил, для чего спрашиваю, но ТЫ все равно ответишь, если осуществляешь надчеловеческую справедливость?»
Чем дольше ждал, тем упорней прибывала в нем печаль. Она подхватила сердце, точно ливневый ручей, и понесла к обрыву, откуда оно упадет и будет унесено невесть куда.
Втянуться в состояние печали, он все сильнее к ней приохочивался, помешала Курнопаю головная боль. К мозгу будто присосался луч, похожий на недавний сигнал-зов.
Чтобы утишить боль, Курнопай быстро побежал к центру подкуполья. Боль исчезала по мере приближения к следящему сутулому человеку. Старался не смотреть на сутулого, полагаясь на биополевое угадывание. Отнюдь не спецнадзорщик воспринимался им — родственный организм. Попытал у себя: «Неужто Ковылко?» И невольно перемахнул ступенек через пять, и заметил в улыбке отцовы зубы, крупные и черные, как высокие клавиши пианино.
— Долго ж ты добирался, — промолвил отец. — Покличу, тебя — тю-тю.
— Покличу?
— Про себя. Прямо невмоготу было ждать. Ты-то, сынок, хоть скучал?
— Эх, папа, папа…
— Желал ли свидеться?
— Я иногда тосковал до жути. Жизнь, отец, без тебя и мамы убога.
— Сроду не поверю. Твоя тоска термитным огнем изошла.
— Навет, папа.
— Навет на пять лет. Не многонько ли?
— Настроился против родного сына…
— Ох, ничего хорошего я не жду от тебя.
— Знает леопард, чьего буйвола задрал? Правда?
— Моя правда — правда нынешних людей труда. Во-во, буйволы мы. Буйволы в черном смоге. Леопарды — твой Бэ Бэ Гэ и ты. Мы решили умереть. И умрем. Ждал тебя из-за чего? Хочу понять перед смертью, есть ли надежда на перемены. Кончится или нет, к примеру, бессонное рабство рабочих?
— Люди рождаются для труда.
— Перво-наперво они для жизни рождаются. Труд все дает, да мера ему потребна. Сделали из труда рабскую цель. Целей-то, сынок, у жизни много.
— Помню я, вы с мамой, кроме работы, еще в одну цель метили…
— Натуга труда, аж ни к чему не остается интересу. Выпил, поглазел, восстановился.
— А не сваливаешь ты, папа, личную ответственность перед лицом судьбы на державу?
— Спирать на державу легко, невинного из себя строить — тем паче. В чем и у меня грешки наскребутся. Ты, сынок, пускал ведь кораблики из коры. Дождь схлынул, ты к ручью. Любой кораблик ручей все равно утащит. Как стал прозревать, так определил свою жизнь по детскому кораблику в ручье. Тыркайся не тыркайся — сносит течением. Вас-то с Бэ Бэ Гэ небось не сносит.
— Не ставь рядом. Он — хрустальный маяк, а я, в лучшем случае, кусок ракушечника.
— Ты, сынок, посвятительше заливай. Кусок ракушечника? Хы. Головореза номер один зря не присвоят. Пожег, поди-ка, нашего брата тыщу-другую?
— Не жег совсем.
— Ну, перестрелял.
— Эх, папа, папа.
— Не кори. Цирк рабства здеся. Месяц побыть — во всем засумлеваешься. Не то что в сыне, в САМОМ засумлевался.
— Ты и раньше…
— Возникал, подвыпив отчаянным образом… И все ж таки до такой степени в САМОМ не сумлевался. Ты ответь давай, карать прислали или разобраться? У сержантишек завсегда виновны только трудяги. Сами они не виновны и, чего ни коснись, ни в чем нет и не было у них промашек. Серый твой отец кое до чего докумекался, даже через антисонин… Разобраться или карать?
— Ты недопонимаешь, отец, роль труда. Великий САМ и держправ за концентрацию энергии ради спасения нации.
— Концентрируйте свою энергию. Нашу — шиш вам!
Чернозуб поднес огромную фигу к носу Курнопая. Фига Курнопаю понравилась.
— Кто вам поверит — для ради концентрации энергии? Для ради концентрации самоуправства, для ради потехи, наживы… Мы раскусили вас. Вы себе — царствовать, нам — гнуть горб. Вы навроде улучшить породу самийцев… Разврат это пакостников. Разврат, а подкладка — наука, религия… Ни науки у вас, ни религии. Карай. Вон спят трудяги. Приготовились. Один умру наяву, и те вон, читают, да с паскудницами…
— Погоди, папа. Ты спросил: карать или разобраться? Войска не посылают разбираться. Главсерж облек меня, САМ… Я, отец, превысил полномочия. Мой полк за проходными воротами. Сейчас бы головорезы, возьми я с собой, производили аресты, сопротивлентов уничтожали…
— Что ты наделал, сынок?
— У вас положение хуже. Отец, мы не обнялись при встрече. Я наскучался о тебе.
Беспокойный, растроганный Ковылко, едва Курнопай в тоске и радости распахнул руки, отпрянул. Ему до сих пор не верилось, что головорез номер один, проклятый им, презираемый его товарищами, сберег чувство родства.
«Схватит, — подумалось Ковылко через миг. — Ему известно, что я предводитель. Сразу нагрянут головорезы, повыдергивают зачинщиков, и опять все пойдет, как установила сержантомерия».
Было бы сыновним отступничеством пасти глаза Ковылко. Но он легко определил, что́ сработало в отце, и его руки рухнули к голеням, точно чугунные.
Ганс Магмейстер натаскивал Курнопая на психодогадливость: в нужный момент раскавычивать эмоционально-умственный удар противника или выпад сослуживца. Считалось просто раскавычивать подозрительность, обусловленную замкнутым социальным существованием. Курнопаю открылось то, чего он не подозревал за собой. О нем, называемом Болт Бух Греем народным любимцем, мнение у рабочих, как о палаче. И даже у отца, иначе он не страшился бы его. В чем искать ответ на чудовищное искажение? До чрезмерности возвеличили? Не то. Без оснований возвеличили. А, к любимчику Болт Бух Грея, властелина армейской хунты, не может быть народной приязни. Но ведь он не виноват в том, что является любимчиком и преподносится самийцам головорезом номер один, на самом деле головорезом не являясь. Подмена сути для того, чтобы он скатился до этой сути? Может, и для того, чтобы он стал фигурой, отвлекающей общественный гнев? Возникнет для главсержа катастрофическая ситуация, и он заслонится им и еще кем-нибудь, чтобы остаться справедливым, вопреки воле которого они действовали. О, теперь такой момент! Допусти он репрессии, начнутся народные восстания, и тут уж ему отведут роль временного мола: шторм отбушует, мол ликвидируют. Но если даже все обойдется хорошо, зачем жить дальше, коль мнение о самом себе не то что не совпадает — не пересекается с мнением народа о тебе, родного отца о тебе? Не крикнешь: «Я человечный. Никого не убивал. Моя совесть, мой ум очнулись от спячки. Я болен горестями нации». А если предоставится возможность крикнуть, кто поверит и отойдет от общенародного отношения ко мне?
— Струсил, подумаешь? — оправдательным тоном спросил Ковылко. — Поостерегся. Один ото всех нас. Мы готовы умереть. И умрем. Вы превратили страну в гарем, в резервацию роботов. Все одно скоро самийцы вернутся к семейной судьбе. Работа по восемь часов. Ежесуточный сон. Уик-энд. Каждую неделю конверт с зарплатой. Какое счастье спать и видеть сны! Какое счастье получать деньги. Молчи! Правительство будет избираться. Никогда больше народ не допустит правительства путчистов.
До училища Курнопай не очень-то любил Ковылко. Зато жалел. Горестно делалось от тяжкого духа организма, отдающего смрадом и тленом, ежевечерними выпивками, должно быть, не в удовольствие, а чтобы захмелела и перестала артачиться его непокорность, от отчаянной пониклости, которая сваливала отца после несогласных слов, сказанных через отдушину бармену Хоккейной Клюшке.
Теперь, видя Ковылко в состоянии гордой обреченности, раньше не свойственной ему, и слушая его, проникнутого убежденным самопожертвованием, Курнопай полюбил отца, а жалость к нему возвысилась до сострадания. Себя же стал воспринимать с прискорбием: незадачливый сын, ненароком угодивший в среду помыкателей народа, и не усовестился, и не переменил доли.
Переживания последних дней и это заставили Курнопая выхватить из кобуры термонаган и приткнуть дулом к виску.
При жесткой настроенности против головореза номер один не мог предположить Ковылко, что исходом их встречи будет самоубийство сына. И все-таки он не оторопел, был готов к неожиданностям.
— Цыц! — вскрикнул он шепотом, чем и помешал Курнопаю нажать на спуск. Еще не поверив, что задержал выстрел, и боясь, как бы не спугнуть внимание сына, Ковылко прошептал:
— Нас же и обвинят…
Его шепот, повлиявший спасительно, возобновил лицо сына: была маска смертельного окостенения.
— Всех в расход пустят, — закрепил удачу Ковылко, не выказывая отчаяния, — единственный сын, и тому хана. Меня объявят злодеем хуже Хроноса. С богов, с них спрос маленький. Уничтожал своих детей — все одно ходил в богах. Я и не замахнусь — в преступники. Прости. Ты, поди-ка, и впрямь соскучился. Я-то уперся навроде муфлона.
Он троекратно поцеловал Курнопая, вялого, понуро опустившего термонаган и сожалевшего о том, что не удалось выстрелить.
Спасительна переменчивость человека. Не успел Ковылко унять дыхание после покаянных поцелуев, Курнопай уж казнил себя за эгоизм: забыл о Фэйхоа, Лемурихе, Каске. Отец с товарищами получил бы вышку, пережив судебный процесс, к которому с фальшивой патетикой приковали бы не только телезрителей Самии, но и всего глобуса. Даже Фэйхоа приняла бы смертельный приговор Ковылко как справедливый, однако Курнопая наверняка истребила бы из своей памяти. За жестокий индивидуализм. У мамы Каски есть новые дети, долго бы не печалилась. А вот для бабушки Лемурихи его уход отозвался бы неотступной кручиной. Нет, за преклонением перед Болт Бух Греем она быстро бы развеялась.
Курнопай повертел склоненной башкой, делая вид перед отцом, заодно перед самим собой, что окончательно отделывается от одури. В этот момент и подосадовал на собственное подсознание. Оно, когда подозревать о том не подозревал, захотело, чтоб он самоустранился от участия в событиях, обещавших трагические подлости, а также от будущих преобразований, чему навряд ли обойтись без вероломства, а ведь оно оборачивается крахом прежде всего для незащищенных душ.
— Сказал бы словечко про маму, — пробормотал Курнопай.
— Про маму? — как бы преодолевая сонливость, отозвался Ковылко. — Ей полегче. Ты, должно, запамятовал ее присловие: «Педали были, педали останутся»?
— Нет.
— Все идет как идет, и убиваться не надо.
— Короче, философия неизменности?
— У баб и девушек натура вроде того, из теплой смолы. Они из нее лепят, что заблагорассудится. Кто им приглянулся, к тому клеются, где надумают, там пришлепнутся. Гудрон с чем угодно вяжется. И они так могут: скальник — дак со скальником, гранит — дак с ним, габбро — дак с габбро. Природа сильна приспособлением. Женщина не меньше. Ты давеча мне: о главсерже, мол, неуважительно. Большинству мерещится — на верхушке пирамиды вольготно сидеть. Об римских цезарях читал… Некоторые завистуют: вот-де… Зря. Походы, битвы, на форумах грызлись почище тигров, сети плели противников заловить и ухлопать. Никто из цезарей, почитай, спокойного дня не прожил и редко кто своей смертью умер. Белье в стиральную машину сунешь. Там его верть-круть. Ихняя, цезарей, судьба навроде белья в стиральной машине. Но чистым оттулева никто не выходил, наоборот, в сплошной грязи и заразе. Дак почему об главсерже помянул? От неуважительности. К нему много неуважительности, не позавидуешь. Меня из пирамиды выверни, она покосится. Живенько обратно на место или другой блок туда втолкнут. С пирамиды свалишься или стряхнут, дак не больно взгромоздишься обратно. Неуважительности к женщинам у меня меньше. Вы счас, Болт и болтишки, за генофонд, считается, обеспокоились. У баб-девушек завсегда это в заботе. Отсюдова ихняя смоляная пластика. Одначе об них честные выводы нужно… Скве́рны тоже, пагубы, обмана… За роскошества и всяческие наслаждения-ублажения они скорее на что угодно идут.
— Отец, неужели ты превратился в женоненавистника?
— Не любую правду человек решается выставить на обзор другому человеку. Про обзор большинству — нечего говорить. Так-то. Наша мать обо мне забыла думать. Окромя Болт Бух Грея, для нее никто.
— Навет.
— Все тебе, сынок, наветы мстятся. Влюбилась. Трое детишек от него. Родней, чем я. Вот тебе и генофонд. До проклятой революции сержантов об этой штуке не слыхивал. И чтоб никогда не слышать. Революция? Что тогда контрреволюция?
— Вы давно с мамой встречались?
— Была свиданка полгода назад. Навроде ширмы посредь зала. Я с одного боку ширмы, она с другого. Лица друг друга видим — и все. Минут десять потолклись подле ширмы, мать ладошкой махнула: крой, мол, отсюдова. Я не ухожу. У ней в глазах бегство. Поговорить бы, наглядеться на нее, истосковался, спасу нет. Сердце из груди выворачивало. Пытка — не генофонд. Семьи разбили. Родители поврозь. Дети поодаль. Каску раз в месяц к сынкам допускают. Что там малышне без матери внушается, только САМОМУ известно. Производители выискались.
— Досада.
— Кабы досада — хорошо. Крах природного правила. Птицы и те парой живут, птенцов сами выводят, выкармливают, на крыло ставят, к перелетам готовят.
— Но, отец, не улучшать генофонд — крах Самии.
— Как, во имя чего, в каком роде? Ты видел среди зверей иль птиц калек? Здоровяки, красавицы… Выбраковка происходит без всякого вмешательства.
— Они, отец, не ведут войн, не работают на адских производствах, не пьют, не курят, наркотиками не колются, не развратничают, микробиологических опытов на них не ставят. Ты прав: как улучшать генофонд, ради чего, какими средствами? Практика генофонда сегодня вне доверия. Она для элитариев. Она, как горный кряж из шоколада, осуществляется во имя их обжорства эротического.
— Четко говоришь, сынок. Понимаешь, генофондисты-осеменители пьяными, почитай без исключения, зачинают ребятишек. Я что скажу? Генофонд хотите обогащать, дак здоровущих фермеров жените на прекрасных крестьянских девушках, рабочих — на работницах. Все слои народа должны продолжать свои линии в генофонде. И перекрестные, стало быть, браки. Генофондята вырастут, твои же, сказать, братишки, все в администраторы полезут. Кто сеять-жать будет, машины делать, агрегатами управлять? Индию ругают: касты, позор, пережиток феодализма або еще чего. А касты обеспечивают Индии лестницу быта и труда. Нет у них хозяйственной ступеньки, где бы не доставало работников. Токо опыт с генофондом — задача на столетия, на тыщи, поди-ка, лет. Живем-то уж миллионы лет.
— Четко говоришь, отец.
— Подтруниваешь?
— Хвалю.
— Ты не хвали. Нашему брату чихать на похвалу, как на детскую присыпку от пота. Болт Бух Греям нужно, чтоб их превозносили. Они балдеют от словословий, дак им и устраивайте… Ты помоги стране. Наши требования пусть удовлетворят.
Ковылко достал из кармана комбинезона свернутый вчетверо портрет главсержа. Оборотная сторона портрета была заполнена шарахающимися из стороны в сторону каракулями.
Пункт о незамедлительной отмене антисонина Курнопай прочел с восторгом, потому и вскинул над плечом кулак. Добавление к первому пункту Ковылко накропал карандашом (милая, конечно, отсебятина), оно вызвало у Курнопая ухмылку. Отец предлагал сохранить формулу антисонина на случай, ежели когда-нибудь космический корабль отправится в путешествие на прародину САМОГО. Чудны́ все-таки люди! Сколько лет неверие в САМОГО крутится в отцовом сознании, и внезапная приписка про неосуществимую скоро мечту.
Вторым требованием было возвращение к прежней рабочей смене — она не составляла больше трети суток на ядохимическом производстве. Опять же Ковылко приписал карандашом, что до ликвидации черных смогов смена не должна превышать шестой части суток.
Третий пункт воспринимался как извинение с привкусом мольбы: «Промежду нас совсем нету типов с корыстолюбивыми замашками, однако, сами посудите, господа державные сержанты, как трудяге ломить работу досшибачки без получек?» И тут отец не утерпел и добавил: «Покуда самийцы жили на подножном корму, у них был меняльный период. Завелись города — сразу деньги. Зря пишут, что они отпадут в обеспеченном обществе. На самом-то деле зажиточный человек держится за деньги цепче безработного, або трудяги с маленьким окладом».
Доказательство не пахло наукой, но Курнопай, которому втемяшивали в училище, что экономические отправления не зависят от психологии людей, согласился с отцом. Неожиданно для себя он решил, что все начинается с психологии, а также определяется ею, хотя хозяйственные структуры создают видимость о своем всесилии. Вдобавок он подумал о том, что если бы все определялось психологией народа, это было бы замечательно. Когда всему установитель одиночка или олигархия, тогда везде самовластие единицы или групповая психология. Прежде чем Курнопаю далась эта мысль, в его воображении промелькнули храм Солнца с чуть сутуловатым юношей, задравшим лицо к скульптурным картинам на песчанике (юноша — Черный Лебедь, будущий Главный Правитель), и затуманенно довольный Болт Бух Грей, сидящий на мужском символе из базальта, скрытом, как и две девчонки — Кива Ава Чел и Лисичка, под шелком знамени.
Взаимосвязь воображенных Курнопаем правителей невольно преобразовалась в сексрелигию. Будь кто-нибудь из них по-фермерски нравственным, продолжалась бы вековечная мораль, обусловленная строгими обычаями земледельческих народов и охотничьих племен. А закабаление промышленных рабочих, оно, наверно, возникло под воздействием мировых империй, тысячелетиями относящихся к народам, будто к преступникам, приговоренным к пожизненной каторге.
Кто-то притормозил движение его рассудка. Не ошибся. Притормозил в момент, когда он приближался к выводу, что горстка сержантов, с молодой ловкостью прикрываясь именем САМОГО, благими намерениями, наукой, изловчается притворничать еще искусней, чем закоренелые политиканы, потому и превратила народ в этаких сиамских близнецов, один из которых трудробот, другой сексробот.
Тому, чье вмешательство в мир его сознания он ощутил повторно, понадобилось это не столько для прикрытия Сержантитета, сколько для защиты Болт Бух Грея.
Курнопай смутился. Ему помнились и отречение от Болт Бух Грея, и интеллектуальная обольщенность, вызванная его державной и космической философичностью. Чтобы оправдаться перед совестью, Курнопай мысленно сказал: «Я нападаю на Бэ Бэ Гэ, не отвергая в нем деятеля и мыслителя. Здесь лишь в малой мере вина держправа. Здесь (мудрец этот Ганс Магмейстер!), пожалуй, террор аппарата. Правитель только ставит задачи. Подчиненный ему аппарат может быть ленивым, завистливым, подлым, умеющим их извращать и бойкотировать».
— Сынок, дополнения ты после обмозгуешь, — послышался нетерпеливый голос Ковылко. — Я вылез в руководители забастовкой. Поправки накалякал…
— Ты, отец, не оправдывайся. — У Курнопая создалось впечатление: не заговори Ковылко, ему бы, едва он выразил свое отношение к Болт Бух Грею, что, несомненно, было воспринято, открылось, кто затормозил движение рассудка.
— Сынок, читай пункт о семье и браке.
Напоминания не раздражали Курнопая. Тревожится Ковылко, как бы головорез номер один не переменился. Невзирая на желание успокоить отца, стремился осуществить свою пытливость, вот и спросил САМОГО, не ОН ли пооберег Болт Бух Грея от неприятия им, Курнопаем, его благотворных устремлений. И когда эфир, куда, видя вдали то мраморное здание, Курнопай излучил свой вопрос, промолчал, да еще и со значением недовольства, лишь тогда он прочел последний пункт, где содержались те же мысли, до которых он дошел самостоятельно: восстановить семьи, отменить запрет на браки. К этому пункту отец тоже сделал добавление. Хотя носило оно личный характер, тем не менее Курнопай воспринял его как общее и свое собственное: «Труд, генофонд, материальный достаток — все эти вещи стоят беспокойства нашего народа. Но если есть о чем больше всего страдать — о порушенной возможности у людей жить парой, любить, рожать, растить ребятишек, храня друг другу верность. Без любви, семьи, верности не может быть родины, продуктов труда, праздников, сержантитета».
Все равно Курнопай одобрил бы петицию, но без последней приписки он не вдохновился бы для разговора с Болт Бух Греем до убежденности, отбрасывающей сомнения.
Нажатие клавиша высочайшей связи, и Болт Бух Грей отозвался:
— Верховный слушает.
Тон похоронный, трескучий, словно гортань полопалась, как пойменная глина Огомы в период лютого жара. По всей вероятности, возможен переворот, ежели события отворятся реками крови?
— Учитель, докладывает персональный любимец, внук Лему…
Он осекся из-за обращения «учитель».
— Продолжайте. САМ ждет вашей информации.
— САМ?
— Чему удивляться? САМ относит вас к опорным офицерам армии. Нужна достоверная информация. Я уже уличил во лжи на грани предательства двух генералов. Вслепую руководить нельзя. Часть подразделений, на преданность коих полагался, перешла на сторону забастовщиков. Адъютант Пяткоскуло просил полк, дабы покончить с вами, Курнопа-Курнопай, и с впавшим в крамолу Чернозубом. Любимец САМОГО, страна перед опасностью развала. Не допустите гражданской войны. За неделю нас скушают соседи. Разведка донесла: на уровне министров иностранных дел соседи произвели раздел Самии на пять кусков.
— Подавятся.
— Рад слышать.
— Главсерж, есть здравый ход.
— Спасай державу, головорез номер один. Я поверил в твою политическую хватку, когда ты помешал спалить деревню племени быху. Ты предотвратил мировой скандал. Мое имя теперь в числе наигуманных имен земшара.
— Сегодня перед папой я почувствовал себя пацаном… Учитель, мы должны принять условия забастовщиков.
— Условия, чья суть — измена революции сержантов?
— Не зря ж, эх, я саданул Пяткоскуло в пах! Полагаться на меня — значит забыть донос карьериста. Верховный, я привожу заключительную часть условий, нацарапанных Чернозубом: «Без любви, семьи, верности не может быть родины, продуктов труда, праздников, сержантитета».
— Аргументы?
— Хомо сапиенс существуют три миллиона лет. Семейные кланы и семья не меньше миллиона. Гены!
— Убеждает.
— Антисониновый предел совпадает с пределом бессемейности.
— Биоритм — гениальное открытие трудяг.
— Нет — иронии. Да здравствует полный серьез.
— У Сержантитета серьеза полные штаны. Хо-хох. Ориентируясь на характер твоего поведения, я решил, что следует отменить антисонин. Еще аргументы?
— Уступка создаст равновесие между верхами и рабочим классом, иначе крушение, потому что смолоцианщики решили умереть.
— Не рано ли торжествуешь, Курнопа-Курнопай? Неизбежны консультации с владельцами монополий, с профессурой экономических факультетов, социологами, экологами… По науке…
— По науке без науки.
— Непочтительный каламбур. Необходим аргумент, опирающийся на учение САМОГО.
— Все невежественное — научно, все научное — невежественно.
— Г-хым… Восхищен! Научное, изживая себя, становится невежественным. Что отрицалось как невежественное, становится научным. Вы были облечены САМИМ, Курнопа-Курнопай. Подтверждаю непререкаемую свободу действий. Минутку. Конечная инстанция дает о себе знать. Возьмет и не даст согласия. Попробую склонить.
Надежда то мерцала в глазах Ковылко, то исчезала за скорбной дымкой. Желание утешить его за ожидание, прежнее и нынешнее, заметалось в сердце Курнопая, едва главсерж приостановил их разговор. Курнопай терпел и пробовал настроить себя на горестный исход. Он не забыл, хотя антисониновая замуть катилась по каналам памяти, о мыслях, по которым выходило, что САМ бывает равнодушным, отстраненным, а в чем-то и безумным.
— Генерал-капитан, — раскатом грома пролетело в шлемофоне, — счастливчики мы с тобой. Наш план получил одобрение САМОГО. Сумей осуществить. Я положился на тебя. В последующем, будь любезен, положиться на Учителя.
— Клянусь полагаться на Учителя, господин главсерж!
Радуясь, Ковылко с Курнопаем начали так подпрыгивать и обниматься, как футболисты, только что забившие гол. Уверенность в том, что еще никто в цирке не знает о случившемся, увеличивала их торжество. Каким восторгом охватит души рабочих, когда они, отец и сын, объявят о победе забастовки! Будут скакать на кроватях, как на батутах. Ой, кабы кто-нибудь не свалился вниз, на базальтовые конусы. В день-то раскрепощения, в день возвращения надежд — и смерть. Что страшней, полопаются тросы, рухнет купол.
Почти готовые к гибели всего цирка, они перестали прыгать, соткнулись лбами, заплакали. Однако мгновение спустя они очутились среди ликования и выкриков: «Победа!», «Проклятье рабству!», «К женам и детям!», «Долой черные туманы!», «Концу света не наступить!», «Воля!»
Курнопай взял на изготовку мегафон, чтобы предотвратить общую смерть. И замер, зачарованный. Пространство меж куполом и кроватями было заполнено людьми, точно поднебесье птицами. Они парили, разбросив руки, управляя лапами и пальцами ног, будто хвостовым оперением. Какой-то старик, подбородок колом, ухо раструбом, голенький, в ботинках носорожьей кожи, почему-то зашнурованных, катался по воздуху бревном, как по траве. Три русых парня отбивали чечетку на гладильной доске; один из них воспроизводил кастаньетами дробь каблуков. Для танца, требующего лаковых туфель, брюк со «стрелками», накрахмаленных манишек, темных жилетов и фраков, босые лапы и клетчатые трусы до нелепости не подходили, и все-таки наблюдать за ними было приятно. Клиенты бионических девиц плыли на спинах под куполом, дрыгались, натягивая на себя одежду. Недоумевающие девицы просили их вернуться. Плановое время не использовали, газировкой не угостили. Девицы стояли на подоконнике, но последовать за клиентами не решались. Кореянка попрядала пальчиками в воздухе, пробуя его на ощупь, но уплотнения в нем не ощутила. Она встревожилась от предположения: если трудягам вернут жен, то наступит безработица. Галдели. Ее столкнули с подоконника в зал. Ничего подобного. Жены не владеют приемами «Кама-Сутры».
Жестом пренебрежения Ковылко хлопнул сына по затылку.
— Слишком много чести… Ты на братьев по классу гляди. Запоминай, какое счастье приносит милосердие. Школили-муштровали в училище, ан не выщелочили из сердца кровной среды.
Неохотно Курнопай отвлекся от наблюдения за девицами.
Ковылко подосадовал на себя: «Дряхлый дед я, что ли? Парнем-то я в джунглях, где, кроме моего отца, и человеками не пахло, и то все девок искал. Эх, возраст…»
— Ты извини, отец. В училище заедало однообразие. У нас этого не было. Чудо в этом есть. Прямо живые существа!
— Первая примерка, сынок. Настоящие куда милей. Корень смысла какой? Пол своего требует. Но работа-то без сна выцеживала из нас силы до основания. Ну, иногда что-то там затерпыхается… Их и понаделали на каждый завод, в исследовательские институты, клеркам банков и торговых фирм… Расход на девицу махонький — в сутки порция мороженого и стакан газировки. «Экономика на службе рабства» — вот как мы про это смекаем. Так что не приходи в раж. Это дело, с какой стороны ни глянь, издевательство. Знаю, у тебя-то по молодости терпежу вприбав к беззаботности хоть отбавляй.
— Чистый мой Ковылко, ты прав. Неосведомленность оборачивается кощунством. Ты сказал: школили-муштровали меня, но любви к родной среде не истребили. Да не знал я нашу среду. Моей средой были мальчишки, бабушка Лемуриха, вы с мамой и телестудия. Если что доброе во мне и отложилось, оно из ваших с мамой печалей, когда вы приходили из бара, и ты настырничал в разговоре с бабушкой да с барменом.
— Во-во!
— Не в среде суть. В отложениях чувств. Ты правильно сказал о сострадании. Чувства главней. С изменением среды чувства не отпали.
— Ага. Э, не упустить бы! Ты молодчина, сынок. У тебя нету наслаждения от власти. Ты нас от смерти отвел. Удовольствие! Да еще какое! Круг этого редко у кого не летала бы душа. Твоя — нет. Горжусь тобой. Они вон бесятся навроде медвежат. Думают, само собой далось. Кабы не ты…
— Полноте, отец.
— Ты рот мне не затворяй. Не подчиненный тебе. Я должен известить товарищей.
— Ни в коем случае.
Ковылко не послушался Курнопая. По-ораторски громогласно он объявил, что ни одно из условий смолоцианщиков правительство не отклонило, благодаря его родному сыну генерал-капитану спецвойск.
Гудроново-темными губами отец похватал воздух, как раньше хватал снег с веток бразильских сосен в горах, запалясь от ходьбы, но ему не хватило дыхания, и он провопил, давая петуха:
— Сы-ла-ааа-ва дырр-ругу народа питоммм-ц-ху САМОГО нашему К’хур… Курнопаю!
В училищные годы курсанты славили Курнопая на каждом утреннем рапорте. Муторно ему было от храпа танков, прущих бездорожьем. Но куда муторней бывало ему от рявканья: «Да здравствует головорез номер один!» — где «эр» скрежетало, дробилось, растиралось в прах.
Теперь он испытывал другое: стыд и щемящую неприязнь. Столько лет прожито отцом в отторгнутости от вольной волюшки, а он вдруг орет славу тому, кто чудом удержал себя и полк от расправы. Всегда была в отце мера достоинства. Тут он сам, Курнопай, виноват. Сказал бы, ведь безграничны полномочия, что они, подобно труженикам всей державы, совершили рабочий подвиг. Собственно, и сейчас не поздно.
И Курнопай сказал. Только видимость славы в том, что он сумел убедить главсержа прийти к соглашению с забастовщиками. На самом деле его поступок, как и оказанная ему Болт Бух Греем поддержка, обговоренная с великим САМИМ, есть всего лишь легкое искупление за самопожертвование смолоцианщиков.
Сказал и поклонился рабочим от имени державы, да прибавил еще, чтоб они глубоко осознали себя, что произнесенную им правду подтверждает воздух: когда б не были они праведниками, он бы не держал их, как земля.
И смолоцианщики, до сих пор не отдававшие себе отчета в том, почему держатся в воздухе удобней, чем астронавты в космосе, прониклись собственной святостью и попросили Курнопая отпустить их домой хотя бы на денек. Он понял, что понимание дается людям в тяжелых муках (как маялся недавно сам, чтобы додуматься до простых выводов) и дал им отпуск на месяц.
Завод Каски, как и завод отца, вынесли далеко за пристоличные городки. Приказав полку возвратиться на место постоянного расположения и прихватив Ковылко, Курнопай отправился за матерью на вертолете главного администратора смолоцианщиков. Главадма, арестованного забастовщиками вместе с членами правления, заперли в зале свиданий. Поскольку главадм и не принял требований рабочих, и отклонил просьбу их делегации связаться по телефону с министр-сержантом, руководящим промышленностью («Лажа. Ничего не достигнуть. Необратимость. Вас отстреляют, как леопардов, отведавших человечины»), Ковылко хотелось усовестить его примером сына. Но Курнопай отложил встречу с ним, чтобы повидать мать с братьями и отвезти их домой. Для присмотра за главадмом и членами правления он оставил втоиповцев, тоже арестованных забастовщиками.
Каска опечалила сына. Еще не ответив на его приветствие и не прекращая работы, она сказала, чтобы Чернозуб не смел показываться ей на глаза. Отец склонил голову к плечу — грусть, недоумение, покладистость. Педали под ее ногами ходили плавно. Тело маячило над поручнями. Валкость и устремленность велосипедистки. Манипулятор опрокидывал на конвейер каски. Они уплывали, качаясь, как спасательные посудины летчиков, потерпевших аварию над океаном.
Курнопай отыскал в себе мальчишескую повадку: прищемил мочку уха пальцами, с беззаботным удивлением расширил глаза.
— Что стряслось, ма?
— Не подлаживайся.
Огрызнулась не на кого-нибудь, кто долго отсутствовал, а на сына, это было оскорблением для Курнопая.
— Не виделись ведь с незапамятных времен.
— Чернозубу лучше убраться подальше от греха.
Той поры, когда Каска бывала строптивой, Курнопай не мог помнить. Она выходила замуж за Ковылко с унизительным сопротивлением, дескать ты получишь все, что нужно, но сперва нагуляйся, потом завязывай голову. С помощью Лемурихи он уговорил Каску к замужеству. Обманом он зачал ей ребенка. Как она ругала его за простую оговорку, как нападала за маломальскую оплошность в приготовлении еды: сама на кухню не заходила — тошнило от запахов, от вида кастрюль и газовой плитки, как била по спине сумочкой на улицах, в подземке, в кинотеатре, если ей перечил… Рождение Курнопая (чуть не умерла, думала наказание от САМОГО) словно бы подменило ее. Благодарила Ковылко за обман, была с ним ласкова, нежила сына, хозяйничала по дому с желанием, даже Ганс Магмейстер, дававший тогда иллюзионистские сеансы в баре, не внушил бы ей такого рвения.
Ведо́мый сыновней тоской, не укрощенной и уколом «Большого барьерного рифа», Курнопай не допускал, что не уймет Каскиной ненависти к отцу. Столь полярной перемены не допускало в женщине домовитого типа душеведение Ганса Магмейстера. В подобных случаях он предлагал воздействовать не укоротом, а вкрадчивой, для блезиру покорной настоятельностью.
— Пусть останется на чуть-чуть, ма.
— Остаться на чуть-чуть… — Она умеряла себя. Сын явно пресек ее нравность, не желавшую скатываться к неприличию. — Ты знаешь, кто с кем оставался на чуть-чуть до введения сексрелигии?
— Откуда мне знать?
— Взрослый стал.
— В чем взрослый, в чем и младенец.
— Я про Чернозуба. Думаешь, мне не известно, какую он пилюлю преподнес державе. Подрыватель сержантского строя хуже предателя. Полез в политики, в вожди. Не с его выставкой. Никто за ним не потянется. Из-за зубов одних отвернутся.
— Не отвернулись.
— Тебе откуда известно?
— Я только что был на смолоцианистом.
— На поруки выпросил смутьяна?
— Не потребовалось.
— Зря взял на поруки. Воспользовался отношением Болт Бух Грея. Чернозуб подвел себя под термонаган. При Главправе от него и пепла бы не осталось. За пять лет почти все перевоспитались. Чернозуб как па́стился на Главправа, так па́стится на главсержа. Все условия: трудись ради Самии.
— Спешишь, ма?
— Четыреста касок надо додавить.
— Ну их. Из-за твоего пророчества: «Каски были, каски останутся», — Самия только и способна быть страной отчаяния.
— Ты стакнулся с ним? Изменил САМОМУ, главсержу, присяге?
— Стакнулся.
— Бунтовщики, изменники, прочь!
— Стакнулся со всеми: с папой, с Болт Бух Греем, с великим САМИМ.
— Тебе отец дороже…
— Мужская солидарность, ма. По этой же самой причине мы возьмем тебя на содержание. Детям будешь отдавать душу.
— Ими без меня занимаются.
— И плохо. У меня души бы не было без папы, без тебя, без бабушки Лемурихи.
— Что там душа? Труд — моя родина, мораль, судьба. Без детей можно обойтись. Ты был — и достаточно. Уматывайте. Еще четыреста касок.
— Будь прокляты они, ма.
— Не проклинай. На валюту идут. Самим пригодятся.
— Хочу повидать братьев, ма.
— Курнопа, ты отступник. Ладно, ты наведайся к братьям. Чернозуба к ним не подпускай.
Ковылко переминался с пятки на пятку. Сожаление в его глазах сменила оскорбленность.
— Зачем не подпускать?
— Теперь раскрылось! — закричала Каска. — Ненависть заставила Чернозуба поднять бунт. Свел счеты с главсержем. Все равно САМ не позволит затронуть моего Болт Бух Грея. Люблю.
Мчалась Каска в гору бешеней самых выносливых гонщиков. И стремилось в будущее ее клиновидное от немыслимой истомы лицо.
Брели между штампами поникло. Никуда бы лучше не идти: рухнуть и умереть. Скорбно качал смоляной головой Ковылко. Плакал головорез номер один к удивлению штамповщиц, они считали его бессердечным.
К детскому дворцу шли стеклянной галереей. Арками изгибались от стены к стене лиловые глицинии. За исключением дней, когда находились в джунглях на термитных стрельбах, Курнопай не видел не то что цветов — травки. Теоретики воинского воспитания рекомендовали истреблять на территориях училищ любую растительность, вплоть до мхов. Считалось, что она, пробуждая в курсантах лирические эмоции, вместо цементирования характера разжижает его.
Хотя больше полумесяца провел на побережье, тоска о природе саднила в сердце. Грозди, родниковый аромат глициний сбили потерянность Курнопая. Он бросился к цветопаду. Сунуть в цветопад лицо, надышаться до забвения. Перед этим мигом он вдруг подумал: «К чему надежды, если распад материнства?»
Собственное несовершенство человека, точно крик в каньоне, почти всегда пробуждает эхо. Несовершенство отзывается в нем завистью, обидой на себя, ущемленностью, унижением, поиском ложного оправдания, местью.
Ковылко был полон гордости за сына, достигшего бескровным путем принятия требований смолоцианщиков, захотелось и ему внушить Курнопаю, что отец у него тоже не лыком шит.
В начале антисонинового периода, когда завод перенесли на загородную площадку и понастроили вокруг новые цеха для видоизменения производственных результатов, нагрянул к ним держправ Болт Бух Грей.
Пока завод готовили к пуску, Чернозуб обучался в профессиональном центре на машиниста двересъемной машины. Его определили на коксовую батарею. Через неделю он, снявший узкую и высокую печную дверь и установивший вертикальную в дырочках ванну, через которую коксовыталкиватель выдавливает свежеиспеченный пирог, увидел четверку военных в больших чинах. Смогов не было, еще дозволялось включать пылесосы, газоулавливатели, разгонную вентиляцию. День народился солнечный, и все державные начальники шли ослепительно парадные.
По знаменитым рогам, лоснившимся с задором, он узнал Болт Бух Грея. Случалось, что верхние коксины пирога, ало-красные, окутанные пухово-голубым огнем, переваливались через край ванны и, сухо звеня, падали на рельсы, чугун шпал, железобетон фундамента. Чтобы не обожгло кого-нибудь из сержантов, Чернозуб метнулся им навстречу:
— Назад! Сгорите!
Они спокойно встали, кроме помощника держправа и телохранителя. Эти поваживали головами, как королевские кобры перед наскоком на врага.
Болт Бух Грей козырнул. Чернозуб снял шляпу, катанную из шерсти ламы, и поклонился. Вспоминая о поклоне, он страдал после от стыда, жмурясь покаянно и мыча так протяжно, будто звук мучительности исходил из самой глубины чрева.
— Вы достославный Чернозуб, чей сын головорез номер один Курнопай? — осведомился Болт Бух Грей.
Не вежливость ощутил за вопросом Чернозуб — расположение. Не показывая виду, что растрогался от интереса правителя, который возлюбил Курнопу, он утвердительно приспустил веки.
— Мечтал о знакомстве, гражданин Чернозуб. Наслышан о ваших достоинствах.
— Какие там достоинства?
— Не будем дебатировать. О ваших доблестях в труде, да умилит вас информация, я довел до великого САМОГО.
— Ха… Но, ну, не.
— Человеку моего положения необходимо верить.
— Я? Вам? Не.
— Курьез.
— Себе не всегда верю.
— Парадокс мною осмыслен. Весьма локален охват дел, зыбко самосознание личности. Ответственность гражданина сводится к ответственности за собственное «я». Мои дела — вся страна, моя ответственность за «я» самийского народа.
— Так-то оно так…
— Наслышан о вашей самовитости. Генерал-капитан Курнопай тоже строптив. Ваш ориентир — индивидуальное воззрение, то бишь субъективное. Учет всеобщих забот основан на объективности воззрений. Почему я глава народа Самии, державы, армии, религии, партии фермеров? Я сообразую персональное «я» с жизнью отечества и каждого индивидуума.
— Коли б так…
— Вы сомневаетесь, гражданин Чернозуб?
— Вы признали меня самовитым. Отсюдова мне-то без сумления ни в коем разе…
— Строптивцу, дабы он проникся мерилом объективности, присущей верховному вождю, необходимо пересадить «я».
— И мое «я» всех берет в учет.
— Ежели бы вам пересадить «я» Главного Правителя накануне самоубийства, тогда бы вы уяснили, каково «я» всеобщее. И не сомневались бы во мне.
— Плохо, что ль?
— Прекрасно.
— Откудова недовольство?
— Оттудова, в чьей системе моего влияния на Самию вы пока не разобрались.
— Подумакиваю… — промолвил Чернозуб, прикидывая, вылепить или не вылепить то, что просилось на язык, и вылепил, потому что помощник главсержа слишком старался делать страшно своими ловкими цвета жженого кофе глазами. — Подумакиваю… Самия пляшет под вашу сержантскую дудку.
Властителю ничего не стоило отобрать у Ковылко свободу, дом, семью, а теперь свести его и «я» сына к жизни, закупоренной в личных заботах, потому он и подкусил его, однако Болт Бух Грей польщенно рассмеялся и сказал, что может гордиться собой, поскольку власть в обществе осуществляется двуедино: народ в общих целях воздействует на правителя, правитель — на преданный ему народ.
— По-вашему получается, вы стоите на одной доске с народом? Вы даже навроде поглавней?
— Любопытный поворот. Ответьте, господин независимейший Чернозуб, сопоставимы ли Наполеон и народ?
— Не.
— Молодцом. Те, кем повелевал Наполеон, испарились. Наполеон был и есть. Он олицетворяет тот самый народ, который испарился. Народ остался бы безымянным, не влейся он многомиллионной массой в имя Наполеона. Пока я не съездил в Париж и не посетил Дом инвалидов, я не понимал причин культа Наполеона. Прах Наполеона чрезвычайнейше оберегаем! Он, по-моему, в восьми гробах, два из них цинковые, девятый — саркофаг из красного порфира. Для Франции лишиться праха величайшего императора текущего тысячелетия — лишиться национального значения на земшаре.
Изящный помощник с величественной печалью слушал Болт Бух Грея. Едва главсерж замолк, помощник сурово погрозил пальцем Чернозубу.
«Ты-то, стервец, помолчи», — про себя огрызнулся ему Чернозуб.
Ненатуральными казались Ковылко до смехотворности и Болт Бух Грей, и помощник, и главный втоиповец Бульдозер, явно испытывавший сладость от его дерзостей, но в то же самое время пугавшийся их, и телохранитель, державший ладонь на миниатюрном автомате. Чтобы поддразнить их, он решил отлить пулю погорячей:
— Д’боятся французы, кабы Наполеон не вылез, д’не втравил их в новый разор и позор. Зачем бы замуровывать во столько гробов? Пробовал, видать, вылезть. После каждой попытки вылезть они и нахлобучивали новый гроб на неугомонного Бонапартишку.
Болт Бух Грей частил по-девичьи плотными ресницами. Или был обескуражен вывертом строптивого машиниста, или не находил, как выкрутиться из разговора. Вдруг он воодушевился лицом, правда, в перекосе сверкающих плеч продолжало ощущаться смятение:
— За что почитаю оригиналов, так это за неожиданные ракурсы в суждениях. С оригиналами умом не расслабишься.
Завосклицали помощник, Бульдозер, телохранитель, соглашаясь с Болт Бух Греем и косясь на Чернозуба, кто бочком уже двигался к двересъемной машине. Коксовый пирог, пылая, с сухим звоном пролетел через ванну — скоро закрывать печь.
Простонародье скромно от природы. В прямом смысле от природы. Скромны прерии, реки, хребты. Гордыню им присвоил человек. Но лишь тогда оно тщеславно, когда ему довелось общнуться с кем-нибудь из сановников, родовитой знати, плантаторов, финансовых королей, кинозвезд, знаменитых марафонцев, дизайнеров, телекомментаторов… Не обойдется тут без хвастовства, даже без кичливости и привирания.
Ковылко был польщен. Сподобилось поговорить с вездесущим повелителем! Да что поговорить — поспорить, вплоть до того, что всевластный подрастерялся от его выбрыка. И зачем, в самом деле, нахваливать Наполеона? Горше нет, если страна или отдельный человек поставлены в зависимость от воли единицы. Тьму-тьмущую парней и семейных мужиков забирал в солдаты. Хочешь возделывать сад, камень тесать, ткать сукна або ладить качели для младенцев, торговать конями, строить корабли, рисовать картины, в науки вникать, чтоб и себе там чего-то придумать, нет, кукиш с перцем. Давай в казармы. Подготовка, там и на войну. Убили. Наполеон не родил, не ро́стил — и взял распорядился твоей судьбой. И не задумался, имел ли право. Народ, вишь, испарился, он — нет. Из девяти гробов не испаришься. Бедные мы, бессильные. Кто ни проберется на верхний стул, тот и помыкает нами, как ураган пчелой. Тем и крепят право на бесправие народа перед наполеошками. Хитер ты, франтишка Болт Бух Грей, да он, Ковылко, не сплоховал и ловко подсадил тебя. Может, в черном мраке твоей башки начнет светать?
Думая, Ковылко щерился. Помощник не утерпел и сказанул держправу об удовольствии, которое доставила беседа папаше Курнопая: расскажет внукам, попросит передать далеким потомкам.
Здесь и случилось событие, которым перед сыном хотел Ковылко самоутвердиться. К нему, отъехавшему на двересъемной машине, еще палящей от коксового накала, подошел правитель и осведомился, почему в невидимые зазоры меж дверями и рамами печей сочится желтый дым.
Ковылко уже изжил минутное тщеславие и сердился, что поддался вредной заморочи.
— Газуют печи, — жестко отозвался и встал к Болт Бух Грею спиной, мол, недосуг болтать.
— Так надо?
— Так ли, сяк ли… — буркнул Ковылко.
— Поопределенней.
Вежлив Болт Бух Грей без нажима на верховность своего положения.
— Необходимо зачеканивать зазоры. Не успеваю, потому и газуют печи. Мой помощник заболел. Дали бы персонального.
— Зачеканка с какой целью?
— Герметичность обеспечивает самолучшее качество кокса.
— Герметичность?
— Ага.
— Из которой пирог вытолкнули — газовала?
— Куда ей деваться?
— Кокс годный получился?
— Сойдет.
— Не надо переживать за негерметизм?
— Вы про совесть?
— Совесть, господин Чернозуб, поверяется обстоятельствами. Сойдет, так надо ее выжигать.
Ковылко передохнул, прежде чем закруглить разговор в галерее дворца младенцев.
— Закон-то герметизма, сынок, Болт Бух Грей взял из моих слов.
Вон к чему вел отец. Смешнуля. Умен Болт Бух Грей, потому и додумался до закона герметизма.
Пожалковал про себя Курнопай о претензии родителя, тем не менее слукавил, заметив, что взяток из числа полезных. У отца бы идея герметизма пропала, у вождя с колес осуществляется.
Здесь-то и ждал Курнопая подвох. Отец возмутился его легкодумностью. Душегубно применил герметизм Болт Бух Грей: на пять лет как замуровал народ. Самолучшая польза, и трудяге ясно, в сочетании герметичности с обеспечением разгерметизации. В пустую печь засыпают угольную шихту, загерметизируют ее, созрел коксовый пирог — выдадут его, благодаря разгерметизации. Чередование замуровки с размуровкой — и есть жизненное существование. Взять нашу планету. Вулканы выбрасывали из себя всякие вещества, чтоб создалась земная кора со всем необходимым для существования — с почвой, водой, камнем, металлами. И атмосферу надышали вулканы. Д’если б Земля все время была как запаянная, откуда б взяться облакам, океанам, горам, животным?
Подтрунил Курнопай над доказательствами отца. Теперь он знает, кто действительный виновник длительной антисониновой загерметизации.
Отец не стал отнекиваться: ненароком подал Болт Бух Грею однобокую мысль, с тем внушил и то, что сходный кокс можно выпекать при газующих печах, из-за чего отчасти и доработались до непроглядных смоговых заглушек.
Курнопай с отцом пошли дальше по галерее. Они обнаружили уютные, ловко замаскированные беседки, предназначенные, судя по инициалам, для свиданий членов Сержантитета. Не остановились. Их подгоняла тревога.
Возле турникетов из нержавейки, за которыми находились бронированные ворота — они не распахивались, а раскатывались, — обеспокоенно шушукаясь, толклись маршалессы из войск охраны детей-генофондистов. Все беременные, но ладно затянутые. Подбирались они, как манекенщицы, по трем статям (перекличка с курсом на три Бэ): длинноногость, талия в обхват мужских ладоней, высокая грудь. Неоглашаемой внешней нормой для охранниц детей-генофондистов были иссиня-темные мерцающие волосы и греческий профиль. Сексологи-эстетики, основываясь на опросах образцовых производителей, относили эти цвет и профиль к супервозбудительным.
Едва Курнопай с отцом появились из-за навеса глициний, переплетшихся с обвойником, маршалессы страстно зашептали: «Головорез номер один!» — за-встряхивали головами, заповорачивались на каблучках, демонстрируя профили, выпуклости, овалы. Метания, порхающий блеск волос довели возникшую в сыне и отце вожделенность до завораживающей неприкаянности. Оба остановились, позабыв о том, кто они и куда шли, томительно запотягивались к красавицам, целуя и оглаживая воздух.
Чувственное беспамятство не помешало Курнопаю заметить внезапную перемену в поведении маршалесс. Они, точно бы намагничиваясь от его ладоней, подвигались к нему с накаляющимся расположением и плавнеющими жестами и вдруг начали отдаляться, мельком поглядывая не туда, где за турникетами находились дети-генофондисты, а вправо и влево от турникетов, где сквозь прозрачную броню дверей виднелась колонна женщин, одетых в ситцевые комбинезоны.
Женщина, успевшая быстрей других маршалесс приблизиться к Курнопаю и отдалявшаяся от него медленнее их (зеленые глаза, как вытянутые виноградины, просвеченные солнцем, крестовый кинжал, черненая рукоятка уютно приладилась в междугрудье), выскочила стремглав наружу; возвратясь, от потрясения не могла говорить и только выбрасывала по направлению к женской колонне руки, они напоминали ветки, трепещущие на ветру.
Курнопай было пошел туда, но маршалесса догнала его с опасливой оглядкой:
— Спрячем вас. Не поручусь… Следуйте за мной.
— Д’что стряслось? — спросил ее взволнованный Ковылко; его щеки обескровились до желтины сернистого газа.
— Демонстрация. Каска и ее сын Огомий несут плакат: «Смерть предателям державы Курнопаю и Чернозубу».
— Плакат? Когда успела? — тоже взволновался Курнопай.
— Клянусь смертью, — промолвила женщина и схватилась за черненькую рукоятку с готовностью вонзить кинжал в собственное сердце.
Остервенелым отчаянием зажегся взгляд Курнопая, лишь только охранница сказала о том, какой плакат несут Каска и Огомий. Это насторожило Ковылко: «Злодея воспитывали… Чего-чего ни внушали… Кабы не сорвался. Ребенка еще стопчет не хуже танка».
И Ковылко приготовился схватить сына; если поймет, что не совладает с ним, позовет на помощь охранниц. Но не потребовалось удерживать Курнопая. Благородство женщины, странное для нынешней армейки, обычно куда более ретиво-жесткой при исполнении служебных обязанностей, обернулось в сыне признательностью:
— У вас рыцарская душа, маршалесса. Пусть растерзают нас. Ага, папа?
— Верно, сын, — согласился Ковылко и покаялся: «Ловко он меня купил. Да ведь сын. На мою сторону перешел. Чего там… Теперь нам никуда друг от друга».
Едва они выбежали через бронедверь, манифестация остановилась. Почти одновременно работницы забормотали:
— Головорез номер один!
Словно бы слухом постороннего человека, он выделил в их бормотании изумленное неверие, обожающий восторг, любовную оторопелость. Пробились к его слуху и еле уловимые неодобрительные шепотки. Прежде чем заметил мать, Огомия, двух братьев поменьше, чьих имен не знал, досадливо подумал о том, что и тут замечают лишь главное лицо. Еще в училище он назвал это человеческое свойство лидероманией.
Отчаянием отозвалось в душе Курнопая то, что Каска, склонясь к Огомию, закрыла его лицо своей головой.
То ли передалось, то ли догадался, только горестно смекнул Курнопай, что мать подучивает Огомия. Невольно лапнулся за кобуру термонагана, и, чтобы в безвыходных обстоятельствах не применить оружие, отбросил его к стволу айланта, росшего близ стеклянного перехода.
Когда Каска распрямилась, Огомий вяло поднял над головой твердый пластиковый флажок. На флажке был портретный снимок Курнопая в парадной форме головореза номер один, по которому через глаза и эполеты был выдавлен ядовито-розовый крест. Это означало, что Курнопай перечеркнул преданность державе и подлежит уничтожению. Неуверенность в том, что Болт Бух Грей не знает и не предполагает, что штамповщицы решили уничтожить его, возникла в сердце Курнопая. Поверх цветастых косынок он заметил единственный в стране сверхзвуковой кальмарик-вертолет, приданный лично главсержу.
— Медь, — запищал Огомий зажатым, ну прямо зажатым, как палец дверью, голоском. Он выронил пластиковый флажок и дернулся, чтобы наклониться, но не смог, и Курнопай догадался, что Каска тянула Огомия за волосы на шее, чтобы он закричал. В тот же миг дошло до Курнопая, что его братишка не захотел закричать «смерть», а пропищал «медь».
Рев Огомия должен был унять злобу матери, невероятную для нее в прежние годы даже с перепоев, однако Каска обнаружила мстительную непримиримость, оттолкнула в сторону Огомия, не обратив внимания на младших сыновей, заплакавших навзрыд. Она принялась топтать флажок с намерением разодрать его. Так как пластик проявлял неподатливость, начала строчить по нему стальными каблуками. Она поутихла бы, если бы ей удалось повредить портретный снимок сына, но пластик, подобно каскам, делался прочный, и она, рассвирепев, гаркнула:
— Растоптать отс-ца и сы-на.
Она выставила перед собой кулаки, бросилась по направлению к Курнопаю и Чернозубу. Никто из работниц — все расстроились из-за того, что она пригребла к взрослой манифестации своих детишек, — не побежал за Каской. Остервенело оборотившись, она пригрозила им:
— Покаетесь у меня! Плазму по вам выпущу! — и бросилась к термонагану, лежавшему в тени айланта.
Расстояние до термонагана как от Курнопая, так и от Каски было одинаково. Недавнее впечатление от ее гонки на педалях штампа сорвало Курнопая с места. Чуть промедлишь, мать, при ее невероятной быстроте и силе в ногах, опередит.
Все-таки успел он домчаться до термонагана раньше матери. Оказалось, что не одно и то же — жать на педали, штампуя каски, и бегать.
Он воткнул в кобуру термонаган, застегнул молнию, ждал приближения матери, уже воздействуя на нее волевым успокоением.
«Медленней, медленней, мама. Встанешь — молчи. Демонстрируй растерянность. Я буду говорить. Твое дело повиноваться».
По установке Ганса Магмейстера, мать по отношению к Курнопаю была правящим организмом, то есть биосенсорный ее аппарат обладал родовой от него защитой.
Курнопай взвил в себе волевой диктат до энергетического предела, но мать так и не замедлила бега. Ему даже пришлось скакнуть в бок, а то бы она сшибла его. В свирепости ее лица угадывалась непримиримость.
Через миг, сдерживая себя от гнева и готовясь помешать ее намерению отнять у него термонаган, стал наборматывать (установка Ганса Магмейстера) увещевание:
— Столько лет разлуки, а антисонин не истребил тоску по тебе, мамочка моя родимая. Вознагради за обездоленность хотя бы тем, что очнись от вражды. За твоей агрессивностью — антисонин, нервная перегрузка, духовное заблуждение…
Они ходили кругом: она — нацеливаясь на кобуру, он — следя за ее движениями, отмечая про себя то, что манифестантки превратились в зрительниц, а также то, что красавица охранница призывает маршалесс последовать за ней, а они толкутся возле двери без веры, допустимо ли вмешиваться в раздор сына с матерью, которые оба близки Болт Бух Грею.
Как бывает в обстоятельствах куда более опасных по вероятным последствиям для тех, кто завязан в них, личная симпатия одного человека способна возобладать над соображением осмотрительности, объединяющим группу людей, привыкших к повадкам отстраненности от всего, что не имеет отношения к их прямым обязанностям. Удалось Корсаре, так звали с девчонок прекрасную маршалессу за книжное увлечение морскими разбойниками, склонить охранниц произвести на время задержание Курнопая и Чернозуба.
Охранницы оттеснили Каску к Огомию. К нему, выглядывая из-за его спины, льнули младшие братишки. Чтобы окончательно урезонить Каску и очистить площадь от демонстранток, Корсара порекомендовала им быстренько вернуться к обязанностям, чтобы и впредь они могли быть спокойны за их привилегированных генофондят. Хотя Каска увела сыновей на завод, женщины не спешили рассеиваться, и поэтому Корсара увещевала Курнопая вместе с отцом пройти в карцер для провинившихся маршалесс, а он, будто она не к нему обращалась, делился с отцом заурядным открытием, но, увы, только что совершенным. Дескать, механизм управления и отдельным человеком, и массами прост до примитивности: опирайся перво-наперво на то, без чего мигом начинает их прижигать чувство катастрофы; тех же матерей припугни намеком, что за их своеволие расплачиваться детям, и они выполнят самое постыдное требование.
Говорил он это не столько из-за овечьей податливости демонстранток, включая и его мать, — чего спрашивать с женщин, если и мужичьем зачастую правит овечья покорность, — сколько для проволочки: уже готовился к посадке кальмарик-вертолет. Вдруг да сюда заявится Болт Бух Грей, и тогда само собой отпадет необходимость переться в карцер.
В карцер пойти пришлось. Наверно, предосторожность вынудила вертолет сесть возле костела, похожего на граненый карандаш, втиснутый неочищенным концом в кубический ластик.
Пока телохранители не выстроились плечом к плечу, наводя пистолет-пулеметы на толпу, Болт Бух Грей не выпрыгнул из люка. Оттуда же спустилась Фэйхоа. Болт Бух Грей не поддерживал ее, это умерило ревнивое подозрение Курнопая. Невидимые за стеной телохранителей, Болт Бух Грей и Фэйхоа ускользнули в костел. Помощник главсержа протиснулся сквозь стену телохранителей и от себя ударил по воздуху веткой орхидеи. Повеление было определенное: мгновенно очистить площадь. Курнопай подумал, что помощник не заметил его, и со словами: «Господин державный сержант!» — приветно помахал рукой, но помощник повторил сабельную отмашку веткой, затем, пробежав рысью до костела, слышалось, как екает его селезенка, встал перед дверью с видом неистребимого защитника державы.
Умылся Курнопай. Бодрясь (досада была обжигающая — ноздри выкруглило, опаляло дыханием), побрел за Корсарой. Маршалесса сникла от перемены правящего отношения. Любимчика обожают, покуда властитель к нему благоволит. И все-таки противно было помнить, что именно она собиралась отдать жизнь за него, одушевив себя официальной любовью. Неужели даже чувство самопожертвования заражено и подпитывается чинопочитанием? Маршалессы смотрят пантерами. Ковылко надулся. Наверно, думает, что сын опростоволосился, доверясь согласию Болт Бух Грея принять условия забастовщиков? А то и может думать хуже: якобы он завязан с верхами в обманную игру против рабочего класса. Как жить, когда люди уведены от истинного восприятия? Судить не потому, каков ты есть, а потому, что измышлено о тебе начальством — вот как чудовищно изломалось сознание в Самии. И отец, подозрительность… Невмоготу. А с ним что творится? Хотел умереть. Сейчас был бы замурован в пещере, нет — подчинился команде. Ничтожество. Человеческое в нем подчинено службистскому. Человеческое противилось, службистское восторжествовало. Отец не верит… Нужно ли верить? Тешить себя преданностью Фэйхоа? Всевластью все доступно. Рабским всеподчинением сломлены души. Что бы остановило Болт Бух Грея, пожелай он Фэйхоа?
Остановил Курнопай темнотой взлихораженное воображение.
Слава САМОМУ! Удалось Курнопаю укротить воображение, однако воля рассудка сохраняла свою независимость, словно была подчинена не его самопостижению, а целям Мирового Разума. И когда их с отцом закрыли в зале для свиданий матерей с детьми, где среди прокаленных солнцем пластиковых диванов, стульчаков, каучуковых игрушек невозможно было думать ни о чем, кроме сквозняка, рассудок Курнопая, открывавшего с подоконника оконную задвижку, преподнес ему, а не Мировому Разуму, досадливую формулировочку: «Мир обманщиков и обманутых».
Выбрык рассудка был неприемлем для Курнопая. Его училищный опыт с антисониновым подравниванием характеров и тот не сводился к единообразию курсантского поведения. И все же мозг опять и опять твердил чуждую Курнопаю формулировочку, а едва Курнопай спрыгнул с подоконника, заставил подойти к отцу и сказать:
— Мир обманщиков и обманутых.
Ненатуральность в голосе сына привела Ковылко в замешательство, но на какую-то минуту. Потом он отозвался, настроясь на доверие и бесстрашие, что еще смолоду это не было для него секретом. Курнопай взвился. Почему ж тогда ни разу не просветил его мальчиком? Он мог бы сложиться иначе. На что отец сокрушенно завертел башкой, приговаривая:
— Не, Лемуриха. Не, телестудия. Не, Сержантитет, училище, любимец САМОГО, главсержа.
Курнопай не возразил, не найдя оправдания, и пожалел, что был отторгнут от отца. При своей сметке и независимости отец помогал бы ему выбираться из социальных тупиков.
Курнопай понял избалованность непроизвольным самопочитанием, когда отец, коему его откровение было не в диковинку, обратился к нему с трудным историческим вопросом:
— У вас там, в заведенье, слыхивал, шибко богатая библиотека. Были хоть в Самии правительства, какие за народ?
— Фонд богатый. Если курсант захотел взять книгу не по программе, нарывался на допрос. Уровень допроса инквизиторский. Вели держпреподаватели спецназначения. Вертели, заламывали вокруг одного, не готовился ли к идеологическому взрыву против Сержантитета.
— Тебя, должно, не ограничивали?
— Мало ли что должно. Нас готовили к войне и оберегать режим. Любое недовольство режимом, личность не личность, народ не народ, пресекать.
— Я, сын, до чего додумался у себя на смолоцианке? Историю закапывают тайным образом, навроде клада: кабы народ не раскопал, д’не воспользовался ее золотом. Наивно?
— Все благородное, в конечном счете, наивно, потому что результаты справедливых движений достаются индивидуалистам, замешенным на сладострастной любви к самим себе. Разделяешь, па?
— Нету доброго исхода благородному намерению. Не, я от себя кумекаю. Поколе существует мустанг, дотолева будут плодиться наездники. От кого-то я слыхал, в древние века у нас водились сельские самоуправления. Сообща разбирали важнеющие дела. Вот бы теперь…
Досада на подозрительность отца прошла. Угнетало горестное предположение. Неужели он, Курнопай, вероломно обманут Болт Бух Греем? Смолоцианщики схвачены, возвратясь домой, а они с отцом так хитро арестованы. Чем было обольщаться, когда Болт Бух Грей, посоветовавшись с великим САМИМ, согласился принять условия забастовки? Сперва решил принять условия, затем передумал. Под видом помыслов обо всей стране решительно покарает рабочих и его, кто перекинулся, якобы из-за Ковылко, на сторону забастовщиков. Нет, скорей главсерж обоснует его «измену» крамольным стремлением к неподчиненности. Едва в ком-то из курсантов проявлялась независимость, командпреподаватели говорили о нем с приговорной омерзительностью:
— Неуправляем.
И о нем, Курнопае, подвыпив, бурчали (откровенность провиантмейстера), что, хотя он неуправляем, топтануть его нельзя: держправ скальпы поснимает.
Болт Бух Грею доносили (секрет — кто?) о строптивой самостоятельности головореза номер один, чему нет сомненья, он радовался. Таким и должен быть. Со мной рядом ему стоять. Наверно, Болт Бух Грей не сомневался в том, что уж им-то Курнопай будет управляем, но история с посвящением Кивы Авы Чел поколебала эту уверенность. Тогда помиловал, сейчас не простит, даже поторжествует, что в решительный момент покончил с опасным строптивцем.
К вымороченности отнес Курнопай свое внезапное сострадание правителю и Фэйхоа (если с ними САМ, то ЕМУ он не сочувствует — «пожинает» собственную вину): бедные, раздирает их души неизбежность не медля принять решение. Корить себя Курнопай не стал. Найди он на смолоцианистом другой ход, мог поставить оцепление вокруг «цирка» и повести затяжные переговоры по каждому пункту требований, тоже, не исключено, находился бы в костеле и маялся над тем, куда повернуть события. Вослед за этой мыслью явилось раскаяние. Прямолинеен он, есть ведь дипломатичность, та же уклончивость. Жизнь — не шахматы: безграничны ходы. Нужно ли с такой легкостью напрашиваться на кару властелина, тем более что он вытащил тебя, по мнению провиантмейстера, на державный пьедестал. По логике вещей не осложнять надо ситуацию для Болт Бух Грея, хоть он и семи пядей во лбу, а разгребать ее. Врагу бы он осложнял ситуацию — куда ни шло, а то ведь благодетелю, для него преданность любимцу оборачивается риском потерять власть. Неблагодарен он, предательски неблагодарен. Справедливый человек за одно то, что Болт Бух Грей назначил ему в посвятительницы невинную девушку, а после в нарушение религиозно-политического установления Сержантитета освободил ее от посвятительства, за одно это он должен был бы осуществлять с неистовой преданностью всякое пожелание и поручение предводителя. А что он? Другой бы мечтал уподобиться жертвенностью чувства Болт Бух Грею. Может, до сих пор правитель не утешился?
Курнопай ощутил в себе неудовольствие. Мало-помалу оно прочнело, оборачиваясь раздражением против той жертвенности и сомнением в предполагаемой неутешности Болт Бух Грея.
Он даже оторопел от этой переоценки, как будто где-то в его душе находился контрольный орган ума и чувства.
Помотался по комнате, теряясь от неумения ладить со своей противоречивостью. Внезапно проглянул спасительно полузабытый образ бабушки Лемурихи. Все впечатления от бабушки Лемурихи свелись к бессомненности ее. Эта черта бабушкиной натуры как бы сфокусировала ее действия, подобно линзе, собирающей в пучок солнечные лучи. Да-да, в бессомненности ее цельность.
Он не принял ее карательного прошлого, и мать с отцом не принимали, и взрослые соседи, и мальчишки…
Бабушку Лемуриху их неприятие делало замкнутой, но такой замкнутой, благодаря чему сохранялось ее несогласное с ними отношение к своему прошлому. Воспламенительно отозвалось в Курнопае то, как бабушка Лемуриха боготворила Главправа Черного Лебедя. Разве он не восхищался аналитическим блеском в размышлениях Болт Бух Грея, целеустремленностью подчинять преобразования общенародному прогрессу? Увеличение объема труда, забота об улучшении генофонда нации — это же замечательно, если бы не сопровождалось насилием, доводимым до безнравственности личности и общества. Но и это послужит возвышению державы. Социальная дрема, вызванная длительностью прежнего диктаторского правления, сменилась революционизирующей бессонностью. Люди тяготеют к эволюционной ровни фермерского существования, но приходят реформаторы, чтобы поворачивать потоки жизни в берега государственных целей. В чем-то перехлест, неумеренность… Вероятно ли иначе? Как геология планеты — сырье для осуществления всей жизни человечества, так и человечество — сырье для усовершенствования государственных структур. Вот, вот до чего ему нужно было додуматься, чтобы правильно ориентироваться в вопросах сексрелигии, генофонда, забастовочных катавасий…
Чернозуб прилег на диван, всхрапывал. Курнопай повернулся к отцу с чувством враждебности и, зажав уши ладонями, прошел к окну. Он облокотился на подоконник. Оформилась мысль: «Ловушка». Не успел он понедоумевать почему «ловушка», как последовало пояснение: «Приспособленческая ловушка для независимости предержащих. Зависимость, пожалуй, самое жестокое творение социального благоприятствования, когда человек идеально отладил себя на всеподчинительность законам существующего иерархического уклада».
Протестующим удивлением оторвало руки Курнопая от подоконника и ушей.
«Я — позорник!»
Ухватка последних дней выпытывать сокровенные разъяснения у САМОГО толкнулась в его сознании, но он отказался от обращения к САМОМУ. Нет отчетливости в том, чьи ответы приходят, ЕГО ли, твои ли из ядра «я», где, каким бы качкам и броскам ни подвергалось твое самоуправление, может отыскаться совестливый отзыв.
У его детства было положение солнца в период ливневых дождей: пропадало вместе с небом за колоннами воды. Иной раз представлялось, что смыло солнце в океан, ан нет, промелькнет оно ломкой радугой, просверлится витым лучом, полыхнет красными лопастями, как ветряк на рассвете. Сверкучий от неунывности взгляд бабушки Лемурихи проблеснул из поры́ их телевизионного парения. Прилетят со студии, счастливо-задорные, неймется похвастать перед Каской и Ковылко, как что происходило, а те отсутствуют. Чтобы охолонуть чувством и Курнопаеву радость поддержать, бабушка Лемуриха скажет весело:
— Куда ж они запропастились? — и в зрачках у нее засверкает.
«Куда ты сама запропастилась?» — мысленно спросил он бабушку Лемуриху и рывком вскочил на подоконник.
Упование на то, что, придись быть здесь бабушке Лемурихе, он был бы спасен, распотешило Курнопая. Вон ты какой дядя! Носорог из-за тебя разгерметизировался, а все надеешься на предков.
За окном стояла пальма. Кольчатый, матовой бархатистости ствол возносился, сужаясь к лаково-зеленой кроне. Внизу, иглясь и ребрясь, росли меж камней бочкообразные кактусы. Промахнешься — пропорют до потрохов, прыгнешь ловко — спустишься по стволу. Ничто не предвещало, что у теперешнего ареста будет хороший исход, но окрыляла бабушкина бессомненность. Он стал примериваться, чтобы, пролетев над кактусами, хапнуться за вздутье ствола, которое находилось на уровне его ключиц. Куда угодит ботинками, он не очень волновался, лишь бы не попортить красивую кору.
Совсем он примерился прыгнуть, да из-за ствола высунулся Огомий. Робкая мордашка. Девчонистый. Вроде маленькой Каски. Для сынка держпредводителя слишком простоват.
Наконец-то проклюнулся в Огомии пацан. Спрятался за пальму. Руку, в которой аллигаторова груша, то высунет, то спрячет. Вкусопомрачительное лакомство — авокадо. Наверно, Каска рассказывала Огомию о пристрастии Курнопая к авокадо при странном отвращении к другим фруктам. Правда, в училище он ел любые фрукты, включая недоспелые, деревянистые и вовсе противные плоды хлебного дерева.
— Прекрати, Огомка, дразнить. Поколочу, — шутливо сказал Курнопай.
— Пока выберешься оттуда — умоломурю.
Огомий вышел из-за ствола, вертел аллигаторову грушу перед оскаленными зубами.
Курнопай спустился на землю лучше некуда, на что Огомий воскликнул: «Прыгаешь, братуха, как бабуин!» — и протянул ему авокадо. Но Курнопай отказался. Позже полакомится, а пока хотел бы с его помощью, если имеется в костеле тайный ход, пробраться к Болт Бух Грею. Тайного хода не было. Зато Огомий, побывавший там (аллигаторовой грушей угостила Фэйхоа), вызвался провести брата к Болт Бух Грею.
С ним Курнопая пропустят. Беспрепятственностью мальчишеских надежд Курнопай переболел в училище: на фоне собственных привилегий, хотя и далеких от вседозволенности, он, совестясь, видел, что большинству курсантов почти не удается ни один бесприказный шаг. Теперь и он, как пить дать, находился в таком положении.
На всякий случай попытал у Огомия, не спрашивала ли о нем Фэйхоа. Удостоверясь, что не спрашивала, попытал и о том, присутствовал ли главсерж при их встрече.
— Был, — без охоты ответил Огомий. — Не обрадовался.
Действовать через других, к кому по-особому благоволило начальство, чтобы достичь результатов, было принято среди курсантов и командпреподавателей. На Курнопая выходили до того часто с просьбами, которые решались запросто, без поддержки, что он бесился от возмущения и нескончаемых «замолвить словечко». Вроде бы не унижаясь, ты унижаешься, и постепенно в тех, перед кем замолвливаешь словечко, увеличиваешь надменность.
В приступе доверительности Курнопай посетовал провиантмейстеру на моральную загнанность ходатайствами.
— Накладные расходы славы, — сказал Ганс Магмейстер и заподмигивал игриво, подстраховывая себя от обвинения в нелояльности: — Не собираетесь ли намекнуть, что господство изуродовано унижением, подчинение — господством? Принцип сообщающихся сосудов. — И пожалел Курнопая, и поощрил: — Ходатай по горестным делам человечества. Почет и расстройство.
Скатился Курнопай до училищной, а может, и державной уловки: попросил Огомия вызвать Фэйхоа. Огомий охотно побежал к костелу, однако Курнопай велел брату стоять. Огомий его подождал, и они, держась за руки, направились туда вместе.
Мановением руки, от плеча до локтя буграстой, как у штангистов, от локтя до запястья конической, как столбик для игры в кегли, а в ладони длинной, как лопасть весла, помощник Болт Бух Грея послал навстречу им телохранителей. Автоматы телохранителей, приткнутые к пупкам округлыми упорами, искрились мушками из нержавейки. Когда между братьями и телохранителями сжалась площадная пустота, кипящая зноем, до десятка метров, помощник приказал всем остановиться, но братья продолжали идти. Тогда он напомнил головорезу номер один, что непослушание державному сержанту ведет к аресту и трибуналу и что в ситуациях, опасных для жизни держправа, к необъявляемому расстрелу.
Курнопай остановился, велел Огомию живенько дуть отсюда. Огомий заупрямился и удивил брата сметкой:
— Без меня тебе не уцелеть. («Что-то он знает, но помалкивает…») За убийство ребенка-генофондиста смертная казнь. И забоятся — я сынок диктатора.
— Кого-кого?
— Папки Болт Бух Грея. Он говорил маме: «Я — диктатор».
— Хоть знаешь, что означает диктатор?
— Папка говорил: «Я всем заправляю».
— А мама что? (Такую отраду отворило в душе слово «мама», будто он выпил ламьего молока прямо со льда огненным летним днем.)
— Мама забоялась за папку. Назаправляешь, сказала, раньше времени умрешь или убьют из-за ревности.
— Ага… Дуй давай отсюда!
Курнопай развернул Огомия лицом к дворцу детей, хлопнул по ягодицам, легонько подтолкнул. Чтобы не дать братишке увязаться за ним, Курнопай быстрым шагом пошел на белое сверканье автоматов. Сразу он услышал кожаный топоток за собой, и едва не сшиб Огомия, который его опередил.
— Благоразумие, головорез номер один, — крикнул помощник. — Ваш вопрос не закрыт. Потомок САМОГО и отец нации Болт Бух Грей милосерден. Жизнь Огомия священна, вы же подвергаете ее смертельной опасности. За гибель Огомия — казнь. Возвращайтесь и ждите высочайшего решения.
— Слыхал, Огомушка? Казнят за тебя в случае чего не их, а меня, так что вали отсюда.
Убедившись, что Огомия не прогнать, а возвращаться обратно самолюбие не позволяло, Курнопай надумал вызвать из костела Фэйхоа. Под предлогом, что ни ему самому, ни телохранителям отлучаться нельзя, помощник отказал в этом Курнопаю.
Тотчас вызвался слетать за Фэйхоа Огомий, но помощник велел задержать мальчишку.
Никогда раньше Курнопай не испытывал чувства мстительности (оно пробудилось впервые) и пригрозил помощнику: если не разрешит Огомию сбегать за Фэйхоа, то он сделает все, чтобы сбросить его в нети. Подрагивавший коленями помощник махнул лопастью ладони, разрешая Огомию проскочить в костел.
В ожидании Фэйхоа Курнопай настроился на то, что она появится из костела ветровым порывом. Все-таки не хотелось допускать, что за время разлуки она о нем не соскучилась.
В КОМ СПАСЕНИЕ?
Книга вторая
Двери с витражной вставкой иззолота-темного лика Спасителя не распахнулись, как ожидало взлихораженное сердце. Стальные, удерживаемые магнитами, они еле-еле отставали от косяков. Когда они замерли, неодолимо тяжелые, готовые тупо захлопнуться, он не предположил, что двери открывает Огомий, а подумал, сникая, о внутренней принудительности, с которой выходит к нему Фэйхоа. Разлюбить не могла, но Болт Бух Грей мог ее добиться при злорадной помощи жриц или, может, она не согласна с позицией Курнопая по отношению к забастовке смолоцианщиков и теперь ничего не испытывает к нему, кроме ненависти. Все чувства, убеждали их в училище, подчинительно мелки по сравнению с идеологическим чувством сохранения державы. Чего только не крали у курсантов из истории, но того, что ради торжества религиозно-философских и социально-общественных убеждений люди жертвовали кем угодно и чем угодно, никогда не скрывали. Никто не сомневался в правильности этого, в том числе он, и только сейчас уразумел, что и в этом нет и не бывает законченной правоты, если подходить к личности иначе, чем мы относимся к насекомым: раздавил и без сожаления попер дальше, как танк.
Дверь затворилась, никого не выпустив. Профиль Спасителя, просветлевший до лютиковой яркости, опять окрасился золотой копотью.
Курнопай по-прежнему не отрывал взгляда от двери. Хотя локационная способность разладилась в нем, он воспринимал присутствие Фэйхоа не где-нибудь, а за дверью. Там, за нею, еще кто-то находился, однако его волны не индуцировались на площадь. Их излучение перекрывал биополевой щит Фэйхоа. Там, по всей вероятности, находился Болт Бух Грей и не отпускал ее.
Едва в другой раз, не шире прежнего, приотворилась черная дверь, из костела выскользнула Фэйхоа. Умудрилась выскользнуть. Встала недвижно, не то боясь унизить себя преследованием, не то после сумрака (костел был закрыт с введением сексрелигии, как и все католические, протестантские, магометанские, православные, языческие храмы) ее зрение затмил литиевый светопад. За ней из костела вышел Огомий.
Наряд Фэйхоа, лилово-розовый, как грозди персидской сирени, придавал печаль ее облику, словно Фэйхоа вернулась с похорон. До того душеразрывную безнадежность он испытал в недавние дни, что рванулся к Фэйхоа, чтобы уберечь ее от безысходности, но через миг был остановлен отбрасывающим движением ее ладоней, в котором проявился не присущий ей панический страх.
Скоро они уже находились в оранжерейном переходе, и Фэйхоа разрыдалась, чем и вызвала утешительство братьев, пронизанное гневом. Курнопай дал зарок, если Болт Бух Грей оскорбил ее, отомстить ему. Огомий обещал не признавать главсержа за своего папку. В голос она прекратила плакать, но ни слова не могла вымолвить, лишь несогласно поводила головой, и они догадались, что унимают плач Фэйхоа невпопад, и мало-помалу замолчали. Тогда она и открылась, от чего разнюнилась. Она так и сказала: разнюнилась, и Курнопай смекнул, что в годы их разлуки бабушка Лемуриха учила Фэйхоа не нюнить от приступов тоски.
Не оскорблял ее верховный правитель. Не им возбуждена опасность теперешних обстоятельств. Чрезвычайное заседание Сержантитета потребовало от Болт Бух Грея отдать приказ о водворении смолоцианщиков на завод, о полном разжаловании Курнопая и отдаче под трибунал, о неоглашаемом расстреле Чернозуба (этим должно начаться пресечение вольнолюбивого разгула в среде рабочих и студенческих масс), о введении в стране военного положения. Они скоропалительны по причине эмоциональности, тогда как в настоящий момент требуется для овладения народом аналитическая тонкость. Отец Кивы Авы Чел, всегдашнее эхо Болт Бух Грея с их фермерского детства, внезапно выступил с предостережением: нельзя сейчас прислушиваться к доводам державного правителя, он погряз в наслажденчестве и не в силах поднять сознанием, заземленным на сексуальные извивы и на властительские удовольствия, то, что необходимо стране, чтобы выкрутиться из хаоса и восстановить гармонию. Сержантитет предложил Болт Бух Грею в течение десятой части суток определиться, в противном случае его сместят и вышлют в одно из соседних государств.
Растерявшийся Болт Бух Грей прибегнул к провидчеству Фэйхоа, и она, составив правителю гороскоп, внушила ему, готовому слинять перед нажимом соратников, пока он контролирует телевидение и печать, незамедлительно объявить о роспуске Сержантитета и обратиться за поддержкой к народу и армии. Болт Бух Грей хотел заручиться мнением САМОГО, да не тут-то было: САМ не ответил. Ни для кого из правителей ни в какие времена не исчезал САМ. В разные эпохи менялись ЕГО установки, но САМ ОН для любого из правителей был вечно ПРИСУТСТВУЮЩИМ. И вот ОН трагически безотзывен. Немилость? Отречение? Опала? Или, что безнадежней, предвестие всенародной катастрофы. Не однажды она читала о состояниях беспамятства, в которые впадают автократы, испугавшись за себя. Это состояние она назвала «спазм потери власти». У Болт Бух Грея тоже случился спазм потери власти. Она, чтобы он очнулся, вызвала вертолет и приказала пилоту лететь сюда, где в костеле находится тайная аппаратура для связи с великим САМИМ. От подъема в воздух спазм ослабел.
К средине пути, увы, Болт Бух Грей отдал перестраховочный приказ арестовать смолоцианщиков во главе с Чернозубом, а также с их попустителем генерал-капитаном Курнопаем. Она, у которой нет человека родней, чем Курнопай, рискнула вызвать в Болт Бух Грее уязвленность. Наслажденец, мягко сказать, растлитель, притворяется первым государственным деятелем. Как он бесился?! Стакнулась с завистниками из армейской мелкоты, самопожертвования не оценила — пальцем не притрагивался, любя ее одну, соперника возвысил до небес, оберегал, как не берег себя, дважды спас от смертельной кары.
Ничтожно он повернулся. Давай-де нырнем в Мимасо. Граница довольно близко. Оттуда улетим в Женеву, куда отправил в начале года сбереженья. Они скромны, зато никто не придерется из государственных и международных юристов: из казны не взято ни монетки. Обоснуются на юге Франции, купив виллу и виноградники. Ведь, право слово, как говорит его отец, он виноградарь от природы. Ему ведом тайный мир лозы.
Фэйхоа ему: «Себе покой и негу, самийцев — под сапог молоденьких хлюстов, в огонь братоубийственной войны. Я скорей погибну, чем родину оставлю в трагическую паузу. Мне только бы склонить страну к спокойствию и очищенью».
Своеволие соратников затмило веру Болт Бух Грея в счастливую развязку смуты. Борьба за перемены и хотенье перемен — всегда для предержащих смута. Фэйхоа не согласилась народное сопротивление под смуту подводить, как бы ни думали убогие чины, усевшиеся в кресла воротил. Ему на то, что сдвинулось в стране, смотреть лишь можно как на необходимость высветления судьбы самийцев. «Смогу я высветлять народную судьбу через насилие, в союзе с держсержантством», — втемяшилось ему в сознанье, закрученное страхом, как тайфуном. Насилие — ухватка деспотических режимов, обычно приносящая и власть, и славу тем, кто шел на адские кровопусканья. А миром порешить судьбу народа — опасный путь, встал на него — потеря власти. Усовестить хотела Болт Бух Грея: время ль думать, утратишь власть иль сохранишь? Умри, уйди в ничтожность, но сохрани народ. Хы, сохрани народ? Да он же, тот ее народ, он истолкует жертвенность как подлость, и, не чихнув, спокойненько забудет.
Спорили, срываясь на крик, до мига, когда она, чумная от безнадежности, рванулась из костела, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Курнопая, а там — и смерть ей в радость.
Как вырвалась за двери храма, явилась ей решающая мысль (она подумала, что осенило не без влиянья САМОГО), что человечество течет двойным потоком: поток мортистов («морт» по-латыни «смерть») и витовцев поток, а «вита» — «жизнь». Мортисты устраивают жизнь и управляют ею средствами убийства: убийства тела и убийства духа, но только не себяубийства. Себе они, конечно, — процветанье и жадно потреблять земные удовольствия, в историю внедриться под видом благодетелей народа и человечества. Кто витовцы? Увы, их было мало в сферах управленья людского бытия. Простонародье — земледельцы, кустари от шорников до мастеров игрушек, рабочие индустрии — несметные массивы витовцев. Жизнедающий мир, жизнедержащий, жизнеспасительный, да горе — он подчинителен издревле мортистским семьям султанов, цезарей, князей, миллиардеров, фюреров, премьеров… О, мортисты — искусники по части психологии. Ласкают витовцы в сердцах идею самоотреченья и бескорыстных подвигов. А кто внушил? Мортисты. С актерским благородством! Она осмелилась сказать главсержу, что он пока мортист, хотя и от рожденья витовец. Ну сохранит он власть, вконец спаявшись с держсержантством. Ну замаскирует в годах преступные удары по народу. Но рано или поздно его разоблачат и проклянут. Вот пусть откроет себе возможность к витовству вернуться, державу витовцев создать. С тем она и выскочила из костела.
Что Болт Бух Грей надумает?
В обнимку стоя перед кустом форзиции, где желтыми крестами горели свежие цветы, они не ждали счастливого исхода. Огомий, кто душою принял печальное волнение Фэйхоа, подкрадывался к синему шмелю, чтоб высмотреть, куда он прячет жало. Он палец приближал к шмелю и ерошил ему загривок. Рассердится и жало обнаружит. И рассердился — ужалил в палец. Когда от яда, подобного разряду молнии, Огомий беспонятливо вертелся, в дали оранжерейной дымки возник его отец и крикнул:
— Я с вами, Курнопай и Фэ, и ты, наследник мой Огомий! За нами САМ и весь народ.
Как и тогда, возле храма Солнца, Болт Бух Грей вершил суд в одиночку. Правда, здесь был свидетелем Курнопай, почему-то названный диктором телевидения почетным. Он сидел справа от Болт Бух Грея, Фэйхоа, объявленная тем же диктором советницей-гуру державного правителя, — слева. Свидетели со стороны армии сидели наискосок от Курнопая, свидетели со стороны народа — наискосок от Фэйхоа; в переднем ряду, в форме державного медика в ранге министра — перламутрового батиста колпак с машинными отпечатками тела мужчины и женщины, какими они воспроизводятся в анатомических атласах, красный халат, голубые брюки, белые сандалеты — сидел врач Миляга. Среди народных свидетелей находились Кива Ава Чел и Лисичка. Голову Кивы Авы Чел охватывал золотой обруч, но теперь он был усеян цейлонитом, который, не лучась, таинственно зелеными тлел угольками. Кива Ава Чел, едва Курнопай встречался с нею взглядом, вытягивала пухлые губы, будто нацелованные, и что-то непроизносимо говорила, напоминая о пещере, где вроде бы принес ей счастье. Эх, мог бы принести, да не желал. Не без укора и раньше в холодке души затепливалось чувство. Что в нем возникало — не поддавалось логике. Пусть благодарность (пренебрегла Главсержем), пусть породненность (а что такое близость, как ни момент, которым началась единокровность тела, духа?), пусть неотделимость судеб (покуда живы, их память обоюдна) — и тем не менее все это к черту…
Рядом с Кивой Авой Чел оставалось свободное место. Туда, угибаясь, прокралась бабушка Лемуриха. Курнопай соскучился по бабушке, да подосадовал на нее. Слишком уж угадывалось в угибаниях намерение подластиться к властителю, будто бы она страшно виноватится за опоздание. Был в училище курсант, умевший заискивать и тогда, когда находился в строю и командпреподаватели к нему не обращались. Опальный Ганс Магмейстер дал определение этому виду заискивания солнечного раболепства: просят или не просят — все равно лезет в глаза со своей всеугодливостью. Солнечным раболепством шибало от того, как кралась меж рядами бабушка Лемуриха. А в том, как она сразу вольготно ощутила себя — ее опоздание не вызвало неудовольствия Болт Бух Грея — и сверху вниз запосматривала на генералитет, Курнопаю открылась в ней уловка, присущая придворным, которые признают за людей только предержащих лиц, а всех остальных подчиняют собственному влиянию надменностью повадок, ненаказуемым панибратством.
«Избаловалась. Приспособленчество наоборот, — печально подумал Курнопай и опротестовал сам себя: — А на телестудии?»
Вот по бабушкиным губам он распознал, что не прочитывалось по губам Кивы Авы Чел: «Беременна Кивушка-то!» Не уверясь в том, что Курнопай понял, она выкруглила ладонями Кивушкино брюхо и рассияла.
«Чему радуется? — Курнопай был огорчен и тут же спохватился. — Лажа. Поддалась влиянию прихвостней. Эх, бабушка, бабушка!..»
Центр обширного просвета между рядами свидетелей от армии и от народа занимали подсудимые. Шестнадцать человек, одетых в сажево-черную одежду арестантов, вместе с четырехугольным ограждением из мореного дуба походили на куб, верхнюю часть которого, как бы слегка поднятую над деревянным квадратом, составляли колпаки, лбы, глаза. В переднем ряду сидел Бульдозер, обросший бородой, по-ассирийски заплетенной в тонюсенькие косички. Узор бороды, выпущенной за барьер, достоинство величественного лица соотносили его с барельефной скульптурой царя Ашшурбанипала. Неподозреваемо меняются люди. Когда скользили над океаном и, увы, не любовались тем, как судно распластывало плотный мех тумана, Бульдозер был мрачноват, рефлектировал из-за трусливой осторожности, и, поди-ка, едва Болт Бух Грей издал приказ о роспуске Сержантитета, возглавил мятеж за восстановление деятельности Сержантитета под предводительством Ава Чел Брукса. Поднявшийся на смотровую площадку правительственного небоскреба Ав Чел Брукс прокричал в мегафон для ближних площадей и проспектов (радио и телевидение контролировали головорезы из войск морской пехоты, подчиненной лишь одному Главсержу) о том, что революционный орган руководства, новаторски найденный в условиях свержения Главного Правителя, продолжит исполнение обязанностей, затвержденных великим САМИМ и сегодня опять им одобренных. Он же, ради усовершенствования аппарата власти, посоветовал ввести вместо поста Главсержа, как не зарекомендовавшего себя современными контактами с многомиллионными массами граждан и гражданок, двуединое сопредседательство в лице его, Ава Чел Брукса, и главнокомандующего войсками ВТОИП доблестного мудреца Бульдозера. Союз предводителей державы и воинского руководства промышленным трудом призван обеспечить движение общества к благополучию и взлету.
Ошибка Ава Чел Брукса и Бульдозера заключалась в том, что они попытались сохранить ненавистный самийцам орган хунты нижних чинов без обеспечения политических и экономических перемен. Власть, давшаяся им легко и не встречавшая противодействия, гипнотизировала их: представлялось, что, как и раньше, она сама по себе обеспечит им господство. Они ориентировались на машинальность подчинения, присущую народам во все эры человеческой истории. Революции эпизодичны, потому тревожиться не о чем, особенно же в условиях, когда отторгнутый хунтой главарь улизнул из столицы. Осведомленный о мятеже, затеянном Бульдозером, а также о том, что Бульдозер стакнулся с Авом Чел Бруксом, главсерж выступил из тайной телестудии, находившейся в соборе, с обращением к народу. Благо текст обращения был заготовлен Фэйхоа в тот день, когда забастовали смолоцианщики, и в резиденцию пришла шифровка, извещавшая Болт Бух Грея о требованиях рабочих. Тогда Сержантитет вел себя подчинительно по отношению к своему верховоду. Обращение шло от имени САМОГО, ЕГО потомка и вождя Самии Болт Бух Грея. Изъятый из обращения Сержантитет он решил не свергать — распустить якобы на основании закона. Роспуск Сержантитета устранял враждебный народу орган насилия, мишень для ненависти. Шаг Болт Бух Грея воспринимался как деяние справедливца, которого подвели соратники. Не лишенный проницательности, Болт Бух Грей, несмотря на то, что колотил его колотун («Смахнут, как мы смахнули Главправа и предадут надругательству тело, расхлестанное автоматными очередями и прожженное из термонаганов»), похмыкал над сладкой верой народов в благие намерения и добрый гений самых разорительных, самых убийственных, самых коварных тиранов. Перво-наперво в его обращении объявлялось о запрете медицинского препарата антисонина, а вследствие этого — об отмене курса на три «Б»: БЕССОННОСТЬ, БЕСКОРЫСТИЕ, БЕСПЕЧАЛЬНОСТЬ. Дальше давалось право супружеским парам на возврат к семейной жизни, на шестиразовую, по восемь часов, трудовую неделю и на возобновление института бракосочетаний в обрядах, нравственных, красивых, неторопливых, сложившихся в тысячелетиях. Сексрелигию Болт Бух Грей не захотел отменить, и, хотя мандражировал, что упускает время, вымарал из текста все, что относилось к ее прекращению. После торжественных слов о восстановлении прежних религий и культов Болт Бух Грей, уже не страшась ничего, сладострастно написал, потом прочел фразу, где продлялось действие любви-религии, обусловленной развитием передовых наук типа философии медицины и социологии моды, а также творческими потребностями раздираемого скукой человеческого сердца.
Так что доблесть Бульдозера, возбужденная тщеславием и скрепленная сопредседательским жестом ретивого тираноборца Ава Чел Брукса, только способствовала спасительному возвышению Болт Бух Грея и теперь дала повод Курнопаю думать о державном правителе при всех его вымороченностях как о единственном из хунты руководителе, способном на благоразумие, пусть и вынужденное.
Перед барьером, по бокам от Бульдозера, сидели монах милосердия и Ав Чел Брукс. Настырная мордочка монаха милосердия, еще жирная в санаторную пору, и то воспринималась как лилипутская, а сейчас она была до жути маленькая, будто побывала в руках горных уругвайцев и ее опять приживили на его туловище. Мины, менявшиеся на рожице монаха милосердия, отражали его брюзгливость, мстительное несогласие, яростную правоту. В санатории для державистов, то есть для тех, кто занимал ключевое положение в своей среде или кому предопределялся высокий чин (объяснение Фэйхоа), на монаха милосердия было возложено Болт Бух Греем слежение не столько за точностью антисонинового режима, сколько за неблагоприятным психофизиологическим воздействием этого препарата на образцовых людей страны. Хотя он не имел причастности к измене Сержантитета и к бунту раскольников-втоиповцев, его снова привлекли: заметь он вовремя симптомы антисониновой усталости и предскажи, какими последствиями они чреваты, не случилось бы ничего непредвиденного. Монах милосердия по-прежнему стоял на том, как показало вторичное следствие, что он отправлял обязанности с непреклонностью, иначе любимчики власти, поощряемые крамольным главным врачом Милягой, совсем бы не кололись и приучились бы жить не по тем законам, каковые предписывают другим, а по законам индивидуалистического хотения, вызывающего недовольство сословий и приводящего к общественным катаклизмам. Отрицал он и обвинение в непредсказанной им социально-политической ситуации, которая чуть не ввергла отечество в хаос. И не мог предсказать, находясь в условиях для избранных, тогда как недовольства правительственным курсом накапливались в студенческой и рабочей среде. Против этого довода монаха милосердия выдвигалась улика, которую следствие находило неопровержимой: донос на главврача Милягу и головореза номер один Курнопая, едва не приведший их к замурованию. Следствие взывало к монаху милосердия, чтобы признался в халатности по отношению к государственному заданию. В противном случае — высшая мера наказания. Фэйхоа не знала о системе ежемесячных отчетов на предмет лояльности, установленной Болт Бух Греем для гражданских, военных и политических организаций. На термитчиков такие отчеты делал провиантмейстер, отсюда и заискивания командпреподавателей перед ним, а также его всераспорядительность продуктами, приносившая ему обильные капиталы. Недаром поговаривали о том, что он владелец фирмы по выделке экзотических кож и мехов. Наедине с Курнопаем он любил поговорить о красоте животных, которых видел во время кругосветного путешествия: о золотых пандах, голубых песцах, утконосах, о газель-дамах, баргузинских соболях, зебрах Греви, тасманийских дьяволах, о вилорогах, бородавочниках, каланах, массайских жирафах, гиббонах «вау-вау». Не обладая хлебосольностью и приятными манерами провиантмейстера, монах милосердия строчил отчеты, первостепенным условием коих (установка Главсержа) должна была быть холодная беспристрастность. Службисты, подобные монаху милосердия, запираются, отметая вину, до самоотрицания, потому и способны прибегнуть к разоблачениям секретных предписаний. Неприязнь Курнопая к монаху милосердия не мешала желать ему мужества, которое хоть в чем-то покажет Болт Бух Грея, вышедшего из событий незапятнанным, как не такого уж ангельски чистенького деятеля.
Достаточной ясности об Аве Чел Бруксе у Курнопая не было. Согласно недавним показаниям, он станет сетовать, что не сумел уловить завершения курса на три «Б» и усомнился в социально-исторической чуткости своего вождя, кто без отлагательства придал державному кораблю новое направление, притом спасительное.
По внушению дочери он будет толмить тоном невинно-заблудшего руководителя фразу с ловким подтекстом:
— Все мы оказались близорукими, кроме держправа Болт Бух Грея.
Еще утром Курнопай был убежден, что эту фразу придумала Кива Ава Чел, но сейчас он подосадовал на собственную непрозорливость. Глупындревич он глупындревский: автор-то сидит рядом. Ему сделалось до того обидно, что взбрендилось написать об этом Фэйхоа, а записку не свернуть, чтобы содержание, прежде чем передать ей, успел схватить цепкоглазый Болт Бух Грей. То-то взбесится присвоитель общей славы. Народ ощутил смертельную непосильность существования, чему хунтисты сразу дали фигуральное определение: «Пираньи контрреволюции нацелились сожрать правительство!» А теперь вся пресса только и вещает о том, что почти постоянно Болт Бух Грей находился в оппозиции к Сержантитету и через своих сторонников из среды армии, трудовых классов и студенчества вздыбил цунами общественного недовольства, и народ торжествует. Что торжествует — не уточняется. Уточнением легко побудить кого-нибудь из пытливых журналистов, телеобозревателей, политических комментаторов к выявлению причинных связей между тем, что было и что сталось. И откроется: народ торжествует по поводу того, что его великолепно надули. Так пускай он предается неведению и социальной эйфории. А отсюда, с суда века, по справедливости втемяшат ему, сидящему перед телевизорами, что торжествует он, прежде всего, благодаря гуманизму и чуткости Болт Бух Грея. И начнется это с фразы: «Все мы оказались близорукими, кроме держправа Болт Бух Грея!» То есть не только Сержантитет, но и все-все, включая Ковылко и смолоцианщиков, генерал-капитана Курнопая, прозорливую Фэйхоа, сумевшую преодолеть растерянность Болт Бух Грея…
Болт Бух Грей не начинал суда из-за того, что ему не нравилась колористическая настройка телевизора, где на экране был виден только он. Еще вчера, когда они втроем обсуждали возможный ход суда и наказания, Курнопай обратил внимание на то, что в картинной шевелюре властителя как бы проточилась через весь кумпол легкая струйка седины, а сегодня она уже вилась яркой полосой со лба на затылок. Вероятно, он находил тускловатым мерцание седины. Надо было, чтобы седина ослепляла, как автомобильные фары в темноте. Тогда, мол, врубится в сознание народа, ценой каких переживаний далась победа над его врагами. Полоса обозначилась подобно тропинке высоко в горах в минуты первоснежья, но блеск так и не появился, и Болт Бух Грей, на миг отключив изображение и звук, крикнул настройщику:
— Выметайся отсюда, ничтожество нерадивое!
Едва тот побежал из зала, страшась жестокой кары, Болт Бух Грей забормотал: «Общество… Никто ничего как следует не умеет… Общество дегенератов, ничевоков, расхитителей, гурманов, бездельников… И туда же — против политики обогащения генофонда».
Даже среди кораллов лагуны Фэйхоа не было такой беззвучности, какая установилась, как только сомкнулись за теленастройщиком двери зала. Люди, находившиеся в зале, были при крупных чинах. Большинство из них, не причастное к сановной деятельности до свержения Главправа, пользовалось после революции сержантов правом критической неприкосновенности: подчиненным и прессе запрещалось их изобличать за служебные преступления, даже затрагивать шутливым намеком за недобросовестность, согласно устной аппаратной инструкции, по догадкам, исходящей от САМОГО и от верхов, заслуживших у него персональное доверие. Теперь они, кто привык не сомневаться в своих достоинствах, восприняли выражение правителя: «Никто ничего как следует не умеет…» — как политическое и поворотное. Они приушипились (словцо бабушки Лемурихи обозначало три оттенка единого человеческого состояния — рассеянную пониклость, печальную сосредоточенность, интуитивное прозрение близкой беззащитности), потому и установилась такая телесная и воздушная немота.
В грубой, не свойственной Болт Бух Грею повадке почудился Курнопаю психологический прессинг, изобретенный Гансом Магмейстером.
— Справедливо я изрек или нет? («Он, прессинг») — спросил Болт Бух Грей и огнеметным взглядом оглядел зал. — Справедливо ли? Кто за это — поднимет руку. Право на голосование предоставляю всем. («А здесь уж принцип всевозможности, внушаемый заглавным чинам, народу, соратникам, армии».)
Будто по команде выставились руки над стрижеными головами преступников. Улыбка торжества отворила помидорно-красные губы Болт Бух Грея. В миг, когда на его отклячившуюся от растроганности губу выкатилась слюна, Бульдозер опустил свою руку на барьер, и она, с ладонью напряженно загнутой книзу, походила на топор, которым делают подсечку на коре сосен.
— Почему, подсудимый Бульдозер? — обратился к нему Болт Бух Грей. В голосе пониклое разочарование.
— Что «почему»?
— Поднял и опустил ладонь?
— Человеки — страшные существа. Перестраховываются даже перед казнью. Я не подстраивался под тебя, перед смертью тем паче не буду.
— И не надо подстраиваться. Точна ли моя идея: «Никто ничего как следует не умеет…»?
— Скажи это я, мне бы предъявили обвинение в клевете на народ и державу. Изрек ты, значит, неопровержимо.
— Считается — техника не влияет на мораль. Эпоха автоматизации технических процессов сделалась и эпохой автоматизации психологии. Что бы ни вякнуло первое лицо, срабатывает автоматом подобострастие, лесть. А кривда какая выдается автоматом? Натуральней детской искренности. Замечание верное. У меня в замысле судебные статьи за криводушие, за притворное одобрение, за расчетливую хвалу, за самоуничижающее повторство, короче, за неправду, бессовестность, лукавство. Духовное хищничество оборачивается присвоением не заслуженного положения. Оно подрывает авторитет великого САМОГО и власти. Почему преступление ложью, фальшью, кривдой нигде не находит отражения в строгих законах? Очень часто творцы законов не умеют отделить лесть от одобрения. Но мы, правители, нуждаемся в одобрении, а не в лести. Нас обманывают. Прелюбодеяние лестью чувственно, следовательно, обманывает. Обман власти — наипреступный обман. Наше общество будет жесточайше карать поборников бесстыдства. Лично ко мне никому больше не удастся подольститься. События показали: те, кому правда дороже карьеры или жизни, — надежней их для великого САМОГО, для потомка великого САМОГО Болт Бух Грея, для Самии нет. События привели страну на край гражданской войны. Я понял бессмысленность кровопролития, Сержантитет не поддержал меня. Однако поддержал головорез номер один Курнопай. Одновременно с ним опору в трагические для державы часы я нашел в честных предостережениях проницательной Фэйхоа.
Речь Болт Бух Грея невольно пресеклась. Воспоминание о безысходности собственного положения, когда он мог бы покинуть отечество, если бы Фэйхоа согласилась бежать вместе с ним, взволновала его.
«Как унизила меня сволота!» — подумал он, боясь, что от удушия, вызванного оскорблением, отключится.
Подразумевал он под «сволотой» Сержантитет, втоиповцев, Бульдозера, какового за его теперешнюю бизонью выходку зауважал («Остальные подло спасаются»), и Фэйхоа. («Отказалась. И в такой момент. Сколько я сделал для нее! Сколько лялькался с нею! Не из благодарности, так из жалости согласилась бы бежать».)
Будто бы разговор с Бульдозером был закончен, а голосование носило искренний характер, он включил изображение и звук и, едва остался доволен четкостью лица, железисто-бурую смуглоту которого красиво подчеркивала тога белого шелка, расшитая золотом по воротнику и рукавам, открыл судебное заседание по поводу крамольного поведения и предательских действий Сержантитета и горстки втоиповцев.
Ганс Магмейстер твердил, что пауза в надлежащий момент оказывает большее воздействие, чем слова: они обладают свойством надоедать, особенно в речах постоянных, ничем не ограниченных ораторов.
После открытия судебного заседания Болт Бух Грей сделал паузу, длительную, и все в зале и стране прониклись эпохальностью момента. Начал он с полушепота, чтобы все навострили слух.
— В просвещенном мире небезызвестна моя теория герметизма. Был случай, когда я убедился в ее жизненности. Я приехал на коксовые печи. У печей трудился досточтимый отец Курнопая — Чернозуб. Из одной печи, из-под краев закрытой двери, курился рыжий дымок. Я спросил Чернозуба: «Почему из печи выходит дымок? По технологии?» Чернозуб — рабочий честный. Он признался, что печь не должна газовать, кокс испечется приемлемый, но качества не очень хорошего. Интереса ради я заглянул в справочники по химии и металлургии. Прояснились технологические подробности. При газовании печи теряется коксовый газ, каковой прекрасное топливо и сырье для создания химических продуктов. Еще: кокс спекается хрупкий, переувлажненный, при засыпке в доменную печь дробится. Короче, выплавка чугуна по времени удлиняется, расход топлива увеличивается, чугун не всегда плавится качественный. Урон экономике. И, судя по тому, что смолоцианщики трудились в непроглядном смоге, получался урон здоровью человека. Ежели бы это были заводские эпизоды, то сегодня я не назвал бы сие преступлением против державы на почве разгерметизации. Весь вопрос, какая разгерметизация, для чего, к чему приводящая? Чтобы выдать коксовый пирог, производится открытие дверей, и пирог выталкивается, и служит с пользой самийцам. Смысл разгерметизации в том, дабы она совершилась в установленное время. Передержав пирог в духовке, можно получить обугленное тесто. Второе определить гораздо сложней, когда осуществляются социально-государственные поиски или эксперименты. Я подхожу к ответственности лиц, приставленных державой для контроля за поисками и экспериментами. Подсудимый монах милосердия и бывший руководитель Войск Технической Организации Индустриальных Предприятий первыми должны были сделать вывод насчет антисонинового герметизма, давшего могучий толчок производительности труда и выбросу на рынок огромного количества товаров, каковой был немыслим раньше, однако он привел основную массу народа к перенапряжению, следовательно, подлежит отмене. Антисонин как средство активизации творческой энергии человека остается гениальным открытием и должен применяться на основе просьб граждан. Монах милосердия не милосерден, консервативен, реакционен. Бульдозер не прозорлив, бездушен, к тому же поддался дурному воздействию себялюбия и докатился до антигосударственного шага. Что касается акта Сержантитета против искреннего недовольства народа, против физического и экологического перенапряжения, его можно квалифицировать как слабоумие, правильней — как их коллективную дебильность. Дебилами не так часто рождаются. Дебилами формируются. В первом случае — генетическая болезнь, во втором психологическая. Первый случай не подсуден. Среди Сержантитета не было генетических дебилов. Второй случай подсуден, хотя издавна является административной болезнью. Не исключено, что сия болезнь заслуживает некоего снисхождения.
Опять была длительная пауза.
— Я шел сюда, страдая от необходимости вести судебный процесс на протяжении многих часов. Здесь меня осенило либо телепатически подсказал великий САМ. Не исключаю и общественный настрой, воспринятый мною. Чем я был осенен? Судебный процесс должен быть наикратким. В одночасье наша страна отвергла враждебный происк Сержантитета и жалкую вылазку втоиповцев. Все присутствующие, за исключением подсудимых, еще несут в себе праздник, каковым они откликнулись на мое решение, дабы супруги воссоединились, молодые могли бы вступать в брак, дабы завершился курс на три «Б», сослуживший важную экспериментально-поисковую службу, а режим, задаваемый антисониновым ритмом, прекратился. Он был необходим со всех точек зрения, дабы, в результате изучения надежд всех классов и групп нашего общества, родились свежие правящие принципы — источник роста благ самийцев, их процветания интеллектуального, религиозного, нравственного. Единство самийцев, слившись в торжестве, показало, что щепотка человеко-песчинок не может повредить монолита, положенного в основу жизни самийцев. Так есть ли резон бояться человеко-песчинок? Нет резона. Так есть ли смысл карать их по статьям уголовно-политического права? Не применить ли к оценке их действий принцип народного милосердия, чье применение было придавлено в душах Сержантитетом, за исключением меня. Думаю, да, надо, существенно необходимо применить.
Ждал Болт Бух Грей оваций, восторженного топота ногами, радостных рыданий среди преступников и, вероятно, среди таких людей, одержимых любовью к правителям, как бабушка Лемуриха. Ждал, потому и сидел недвижно, проявляя чувство необольщенности и теперь, когда мог бы гордо улыбнуться.
— Ваше одобрение (сохранил все-таки строгую недвижность, освещенную мудростью глаз, следящих за вдохновенным залом) дает мне право наказать подсудимых по закону народного милосердия. Огромная власть, учит нас великий САМ, дается для того, чтобы ее уважать и ценить. Редко кому дается храбрость Курнопая, предвидение Фэйхоа. Не всякому удается спекать кокс и производить цианистый калий. Единицам удается регулирование судьбы общества. Сержанты способны быть сержантами. Министерские портфели они украшали лишь молодостью. Пускай возвратятся в слой младших армейских чинов. Монах милосердия вернется в свой монастырь. Медицинский контроль за лечением, за теми же инъекциями, и там необходим. Втоиповцы, поскольку они изучали производство и улучшали его организацию, пойдут в промышленность. Из них получатся добросовестные рабочие. Низкий поклон САМОМУ за то, что неослабно руководил мною. Благодарю народ самийский за то, что вовремя надоумил меня и сидел с присущим ему вниманием перед телевизорами. Признателен за понимание всему залу, не исключая бывших преступников.
В свой первый школьный год Курнопай сманил мальчишек класса сбежать с уроков на Огому. Родители работали, можно было забежать за удочками, пружинными и пневматическими пистолетами, за луками и острогами, за ружьями для подводной охоты. Один он обминул свой дом: бабушка Лемуриха догадалась бы о проделке, учиненной Курнопаем, и не выпустила бы из квартиры.
Они расположились, прежде чем разбрестись по пойме, там, у реки, где над глинистым скосом, утоптанным до медной твердости, торчали железные иглы, сквозя круглыми ушками. Кто отковал иглы и вбил в берег, даже легенды не донесли. К иглам, полувытянутые из воды, примыкались на цепях лодки рыбаков. Рыбаки находились возле устья Огомы, куда из океана во время приливов подваливали к ставным сетям косяки лакомой рыбы и моллюсков. Здесь, возле железокованых игл, он услыхал многозвучный говорок далекого океана. Еще не были различимы в пенном шорохе воды, в клацающем шелесте сухих ракушек, в бубнящих завихрениях орехов и плодов горловые крики птиц, а чувство бедствия уже пронизывало тело толчками тревоги. Долетел ураган быстро, ошеломительно пестрый, лохматый, трескучий, рокотливый и взрывающийся, как штормовые валы. Падая, чтобы скрутить руки вокруг накаленной зноем иглы, Курнопай ужаснулся дельтапланеристу, будто демону, заверченному смерчем, — кроваво-красные крылья вперекрест, ноги с перьевыми рулями вперевив… Около дельтапланериста раздерганные мелькнули пеликаны. После внимание Курнопая стелилось над поймой и Огомой, где радужными трассами свиристели брызги, в паучьи комья сбивались ветки, с трескучими хлопками, гулом и посвистом вырывало и уносило рощи, пролетали, аспидно лоснясь, пластины грифеля, содранные с коттеджей. И все это охватывало душераздирающим ревом воздуха, в который не верилось, а верилось, что совсем неподалеку мчатся несметные стада бизонов, способные посшибать и растолочь все, что на их пути, вплоть до бетонных городов.
С могуществом урагана сопоставилось Курнопаю ликование зала, вызванное милосердным приговором Болт Бух Грея. Если бы только овации с отрепетированными здравицами, а то ведь гуртование людей — с обнимками, со стыканием лбов, со скачками вверх, и восхищенный плач, и припадание щекой к груди, глаза, лучащиеся сквозь слезы, и потрясание свинцово-тяжелыми креслами, каким-то чудом вскинутыми одной рукой, и кастаньетные щелчки, сопровождаемые дробью каблуков, и звон бубенчиков на женских щиколотках.
Моменты эмоциональной слитности Ганс Магмейстер относил к виду коллективных помешательств, когда «я» субъекта теряет индивидуальность отзыва и поглощается реакцией общего «я», как море поглощает дождинки. Далось же ему выверять Ганса Магмейстера на отзыве Фэйхоа. Рукоплещет. Довольное лицо, довольное не с привкусом торжественной гордыни, характерной, как обожает мусолить пресса, для поворотных дней державы, а так, как бывало довольно лицо Каски, когда учителя на школьном празднике хвалили его за успеваемость и способности к наукам. Наверно, она из тех людей, духовное содержание которых и в юности таково, что видишь материнство в их отзыве на событие? И сам он, по ее отношению к нему, улавливал истоки материнства. И не такого только, согретого отрадой, но и с примиренческим укором (не отсюда ли в религиях терпимость?), с надеждой на постоянство нравственной чистоты после твоих страстей. О, Фэйхоа, держательница совершенства, непреклонности, миролюбия.
Лемуриха облапила Лисичку и пухленькую Киву Аву Чел. Откуда-то манливость к Киве-Кивушке. Обман ведь явный, будто зачала, и вдруг манливость. Неужто ложь воздействует, как правда?
Лемуриха! Облапила за спины ранних женщин, девчонистых до безотрадной муки. Мордашки запрокинуты и вместе не шире, не круглей ее веселой образины. Целует в губы ловкими губищами. И почему-то это неприятно. Чего же тут плохого? Целует, да так целует, что впечатление: вберет, заглотит. Он злой, ревнивый. А, что-то в этом плотское… Не жизнь — сплошное извращенье. И то, что сталось после устранения Главправа, и эти лобызания, и этот ор помилованных, ор, извергаемый из потрохов, которым они славят Болт Бух Грея.
Ну хотя б напыжился, еще недавно несгибаем, монах слежения, отнюдь не милосердия, которым постыдно оглуплен. И нравный Бульдозер совокупился с общим «я». А как желалось, чтобы втоиповец, подобно дельтапланеристу, скрученному ураганом, не потерял контроль и над собою, и над хаосом эмоций, овладевших залом, и верил бы, что уцелел лишь для того, чтобы душу сохранить. Ах, души, души, скрученные души и души, травленные собачьим рыком полицейских, экономической удавкой, новациями держструктур, где свет и мир — религия и труд, устройство быта, сферы подчиненья, а на поверку только расслоение под видом равенства и тирания в оазисах миражных демократий. Ах, души, души, обманутые души человеков, которым не спастись, не отрекаясь от себя и собственных устоев, которым вечная забота — уберечься. А сам-то он? Сам баловень судьбы, проникнут благонамеренным покорством и победитель без победы. И все-таки он к истине стремится и вроде участь народа Самии к надежде повернул?
Профиль Болт Бух Грея был приятен, хотя обычно, едва Курнопа видел его рога, политые хрустальным лаком, он ощущал как бы щипок у сердца, рождающий тошнотность. Нет, сейчас покладисто отнесся к тем рогам и ко всему растроганному виду властелина. Ликует зал, и он ликует, наверно, умилясь единству своих сторонников, предателей-врагов и, конечно, до слез зауважав себя за тонкое решение, когда казалось, что выход только в бегстве. Ведь было так. И кабы не Фэйхоа, да смолоцианщики с Ковылко, да не он, Курнопа-Курнопай, сбежал бы Болт Бух Грей.
Постой, а почему же прекращалось влиянье САМОГО, когда правитель, не отпуская из собора Фэйхоа, склонял ее страну оставить? Тоже растерялся? Или отрекался на часы от кровного народа? Где бог бывал в кромешные периоды земных междоусобиц, когда почти любая личность, за исключеньем фюреров, ничтожней саранчи? И где он нынче, когда планета сознанием и чувством к смертельному клонится приговору? Творец людей и многомерной жизни, неужто теперь он только скорбный наблюдатель, распроклявший создание свое?
Треск, подобный грозовому, после которого ожидаешь разрывов, распадающийся шаровыми молниями, разветвился в ураганных шумах зала, и сразу все смолкли и застыли, ужавшись: миг — и страшно бабахнет.
Курнопаю, не хлопавшему и не вопившему, примнилось, что этот треск — гнев САМОГО или бога на кощунство его мыслей. Как недвижен он был, так и не шевельнулся. Достойно примет возмездие.
Невольно глаза Курнопая отыскали источник электрического разряда. Из телевизора он излучался; остроугольно ломалось поясное изображение Болт Бух Грея. Шоколадная образина с кольцами волос и рогами трансформировалась в желтый цвет, лощено-белая с золотом тога — в адски синий.
Не бабахнуло. Из голубой глубины, едва улетучился портрет Болт Бух Грея, поднялся, будто из океана, образ САМОГО. В НЕМ, как и в день посвящения, не было четкости: текло, билось, истаивало марево, серебристое, точечное. И слагался намек на иконный лик, и химер гепардовая угрюмость вылепливалась зелено — цвет патины на бронзе католических соборов, и норчатый песчаник возникал, вытачиваясь в серых сфинксов, в которых просветленность дышала тихим всеприятием. Да мало ли какие облики могла составить из мельтешенья гравитонов твоя фантазия и твое шлифованное страхом и насильством миропреломленье.
— Прошу простить, что я внедрился в телевизор, — раздался голос САМОГО. Басовый шелест донес до зала нежданную застенчивость. Ряды расслабились от грозового напряжения и вперились в экраны, повернутые к ним. — Не для урока поучательства внедрился. Верховным сферам духа, присутствующим в Солнечной системе, чужды земные наставленья. Вам присуще уповать на САМОГО. Чуть что — вы душами и помыслом ко мне: спаси, наставь, уйми. Вы обращаетесь ко мне, как к близким и друзьям. Земной привычный ход. Я вездесущ, но всеответность и всеответственность прискорбна для сана моего. Я вам не нянька, не слуга, не адъютант, не мальчик для битья и для укоров. Усматривать в божественных созданиях, пророках и вождях марионеточные существа, несущие вину и наказание за вас, — простите, это ль не постыдство? Изначально дана свобода воли любому существу, тогда зачем же упованье на других, на множество, на САМОГО? ОН отступился, ОН безразличен к горю, произволу и убийству. ОН не желает нам помочь. Нашли виновника. Виновника из бога — экий поворот сознания и чувства?! Расчет на подконтрольность САМОГО — МЕНЯ он огорчает. А где же ваш самоконтроль? Идея среди вас возникла, она вам помогла, что мир людской двуслоен: витовцы, мортисты. Во времена разломов, что постигают общества, как кара за тяжкие грехи, — прямолинейность таких делений возникает… Они — лишь отражение болезни. В обычной мерной жизни каждый человек в подобном смысле двуначален: сегодня витовец, поскольку добр и трезв, и нравствен, а завтра он мортист, поскольку впал во зло и хаос хмеля, и каверзы эгоцентризма. Не счесть число загубленных судеб в эпохи ровных процветаний семьи, не принужденной государством к действиям во имя его заветных целей. Порочно время войн, но и случается куда порочней время мира. Какие мерзости творите с оглядкой на прощенье САМОГО. Простит, очистит. Но сколько можно вам прощать? И сколько можно право на очищенье получать, ничем не заслужив его? Устроились укромно и легко, чревопоклонники, прелюбодеи. Вам только б страсти красть у тех, кто создан не для вас. Вам только б принуждать друг друга в семье, в труде, на службе, в армии иль в храме. Вам только бы изображать невинную беспомощность. Не вы умеете, не вам дано вершить высокие дела и справедливость. САМ терпелив, но может покарать. ОН думать начинает: «Чего же ради МОЯ отцовская терпимость?» Бессмысленность заставит покарать. Я с вами расстаюсь. Не правда ли — встревожил совесть, внушил надежду и в топку разума подбросил угольку?
Истаяли и точки, и зигзаги, творившие портреты САМОГО. И голубая глубина сошлась в зрачок экранный, похожий на каплю возбужденной ртути, и отлетела.
Все, покидая зал, молчали, убеждены, что не было души, к которой не обратился ЕГО дух.
Курнопай был недоволен своим недовольством. Пока он принимал ход событий, его отношение к происходящему сопровождалось внутренними осложнениями. Неизменно с чем-то он не соглашался. Болт Бух Грей назначил Ковылко президентом смолоцианистого комбината и предписал ему без промедления заняться наладкой производства. Хотя то и другое соответствовало настроению Ковылко, Курнопай попытался убедить отца не ввязываться в административную деятельность: ни опыта, ни образования. Что-то раздражало, угнетало или бесило его. Возвращение к давним вероисповеданиям при сохранении сексрелигии не устраивало Курнопая. Слишком ненадежна духовная свобода, покуда существует ловушка для физического и нравственного насилия — сексрелигия. Фэйхоа пыталась доказать Курнопаю, что индивидуалистические причины, положенные в основу политики генофондизма, в конце концов выстроятся, подобно учению о регулировании рождаемости, все еще запретному в пределах Самии; большинство стран этим регулированием обеспечивает себе процветание и уже забывает о голоде; именно они вызывают войны, эпидемии, массовые стрессы, моральные неравновесия, приводящие к смертоубийствам меж обездоленными и сытыми…
Но Курнопай сомневался в этом. Благие намерения, тем более народную необходимость, трудно примирить с практикой потребностей державных лиц, сводящих управление государством и регулирование рождаемости к накопительскому, комфортному, чувственному хищничеству, а также к ограблению свободы воли отдельной личности и общества в целом.
Курнопай был недоволен своим недовольством. Чего-то не умел постичь средствами рассудка. Каска отреклась от Ковылко и от него, выдвинув три дополнительных требования, переданных через юриста штамповочного завода: Ковылко дает ей развод, он и Курнопай не встречаются с ее сыновьями-генофондистами; пригожая Фэйхоа, в покоях которой поселился Курнопай, должна вместе с ним перебраться из дворца в город, на их место, по настоянию Болт Бух Грея, переберется она с детьми.
А был он недоволен своим недовольством потому, что все-таки противоречия разрешились демократическим сдвигом, что его преобразовательское нетерпение — максималистское до прожектерства, что при рассудочном согласии с правилом постепенности, сформулированным Фэйхоа: «Вселенная, эволюционируя в условиях космических катастроф и перемен, мало-помалу склонила свои процессы к ровному ритму, выработав одно из правил гармонии, присущих всему и вся от бактерий до галактик, правило постепенности», — он тем не менее хотел бы пользоваться средствами ускорения, ведь применяют их почти повсеместно на «шарике» для форсирования счета памяти, дробления микроматерии, геологической добычи, оборачиваемости транспорта и для подхлестывания государственно-политических мероприятий. На это у Фэйхоа были справедливые доводы. Полезны ли они — счет, дробление, добыча, ускорение, форсирование, оборачивающиеся ограблением, неравенством, торопливостью, неестественностью, принудительностью? К чему привел расстрел атомов и поспешность, чтобы окончить войну с Японией, поражение которой было предрешено? К атомным взрывам. За ними последовало пандемическое размножение ядерного оружия, способного убить не только нашу планету, но и похоронить Вселенную, достигшую счастливой стабильности, которую она не может не воспринимать как идеальную, а с точки зрения религии, как райскую. Даже чистодушная доброта взгляда, чуждая гневу, открывается обвинительной мыслью, что в лице животного, получившего определение хомо сапиенс, вызрел самый страшный преступник Земли и, по всей вероятности, первый злодей Вселенной.
Она уж не говорит о размножении заводов, аппаратов, изводящих воздух (погибнем не от бомб, так от удушья), о подхлестывании истории, культуры, экономики — все это плодит гибриды, не дающие потомства или прискорбные уродства, как олигофрены, когда снаружи они нормальны, красивы, но скудны умом и чувствами. Постепенность, и только постепенность. Выдержка, не срывающаяся в нетерпение и тогда, когда безошибочно вычислишь, что ожидаемого тебе не дождаться. Ничего страшного. Человек постепенности совестится сводить свое существование к надеждам человечества, хотя, что и говорить, для большинства людей ожидание — категория личного желания. В истории есть неуклонность, но, увы, есть и неисполнимость. И что же остается при абсолютной неисполнимости надежд? Утешиться невозможностью, неразрешимостью. И осознать возможность, осуществимость ее с многомерностью счастливой для ожидающей души и для судьбы всего народа.
Рассудком принял постепенность Курнопай, и согласился с ожиданием не для себя, и не отверг терпимость, и к неуклонности, в которой заключена то скорбная необратимость, то исполнение желания, спокойнее отнесся, а чувством этому по-прежнему противился и потому-то был очень недоволен недовольством, прижившимся в его натуре с училищной поры. Моментами мечталось отворить в себе податливость, чтоб от сомнений уклоняться и выполнять покладисто все новшества эпохи Болт Бух Грея, не исключая обрядов посвятительства и тех реформ, какие втайне готовит властелин.
Строптивость — никуда от нее не деться. Болт Бух Грей надумал ознаменовать возврат к бракосочетаниям с женитьбы Курнопая на Фэйхоа. И сразу Курнопай заартачился. Нелепо. Болт Бух Грей устроит державную свадьбу любимцам САМОГО, любимцам продолжателя САМОГО и автократа Самии. Склонение к покорности обернулось сетованием: опять перевозвеличив пару, унизите бесславных, ничем не вознагражденное множество людей.
БОЛТ БУХ ГРЕЙ (сомкнулись ноздри от подозрения). Лукавит скромник — тут гордыня в глубине. Вам воздано, но мы вовсе не вознаградили святую Фэйхоа. Народ соскучился по торжествам и праздникам, и посему мы так азартно потанцуем на вашей свадьбе, что припечатку каблуков и звяканье подковок будет слышно сквозь шар земной.
И здесь бы согласиться, да норов, норов!..
И померкший Болт Бух Грей промолвил на выдохе, в котором замерло упорство:
— Ну, ладно… — и тотчас деловито повелел по-тихому сегодня обвенчаться, и отбыть на вертолете в счастливую лагуну, и дотоль не возвращаться, покуда Фэйхоа не понесет. А сам он, Болт Бух Грей, он будет вынужден, презрев усталость и заботы, устроить свадьбу с Кивой Авой Чел. Верховного жреца обязывает сан к безбрачию, но выручит универсальность власти. Чего-нибудь да стоит то, что он глава правительства и государства?
Не выдержал и пококетничал. Э, полноте, какое здесь кокетство? Наверно, видимость его? Просто прикрыл обиду. Впрочем… Что «впрочем»? Ему бы надо жениться на Киве Аве Чел, если она действительно беременна.
Внял правитель сожалению Курнопы-Курнопая. Сказал, что дневные газеты опубликуют его указ, предоставляющий возможность генофондистам с приставкой «супер» иметь по две жены и больше, а те мужчины, коих врачи, генетики, сексологи, футурологи и политологи не занесут в книгу генофондистов, жениться смогут, лишь получив права стерилизантов.
Пусть было предусмотренным великодушье властелина, но устыдился Курнопай. Смолчавши, наверно, навсегда отрекся от Кивы Авы Чел и от ребенка. И только распрощался с Болт Бух Греем, который обнял его по-братски, застиг себя на скупости характера. Да разве кто другой отрекся бы от Кивушки?
Тихо было в лагуне.
Ранним утром, едва они спустились по веревочной лестнице и стрекот вертолета перемахнул через зубчатый гребень хребта, Курнопай пошел к пещере, где они ютились в пору туманов. Фэйхоа, робкая от неясности его состояния, подалась понаведать виллу.
Курнопай был все еще в шкуре десантника, окрашенной под рептилию. Внутренняя неразрешимость продолжала оттягивать внимание на себя. Нужно было оторваться от чувства самососредоточенности, — это легко бы решил антисонин, но об уколе теперь не мечтай, сам же артачился. И Курнопай стал искать, во что бы всосаться взглядом. Только въедливым созерцанием сможет, если сумеет, отвлечь себя от души.
Сел на базальтовый голыш. Хотел засмотреться на камень, похожий на мамонта. Мамонт стоял по брюхо на отмели, запрокинув хобот к спине, словно собирался обливаться. Не сумел засмотреться на камень. Будь неладно принудительное самоотречение. Бросился к вилле. Там есть антисонин. Недаром Болт Бух Грей фермер: запаслив.
Потолок ловил куполками звуки подошв, забранных в охваты из чугуна.
В поспешных и резких шагах Курнопая ей примнилась опасность. Хотели его схватить, отбился, спешит сюда, выручить, спасет.
Фэйхоа была в зале. Собралась примоститься в тронное кресло, чтобы подумать, как оттащить Курнопая от поиска всеразрешающей справедливости. Благородство в таком пике, точно падающий самолет: надо вскинуть и выровнять и вести до посадки. Ой, не вырвать его из пике.
Ты страдай и стремись, но стремись к достижимому. Недостигнутость есть, и была и пребудет вовеки, иначе не жизнь, а бесцельность. И священное нетерпение ожидает лишь крах. Гибнешь сам и для тех разверзаешь пропасти, кто в твое нетерпенье уверовал. Так и втравишь в погибель народы. А, казалось бы, высшая совесть стоит за тобой. Ну и что? Пусть и высшая совесть. Чем идея верней, благородней, тем непредвиденней, даже самоубийственней результат, коль в начале своем начинен нетерпеньем.
Полетела она над зеркальным паркетом. Удивилась: ничего не стряслось! Он, смятенный ее тревогой, обиделся за правителя, мол, зачем же ему устранять самых верных соратников?
— Устраняют за верность. За неверность лелеют.
— Не всегда. Не везде.
Фэйхоа покивала. Он прав. Но она изучала господство. В истоках, уводящих в эпохи, где не хитрили в охоте на зверя и не было суеверий, тогда первенствовал истинно первый. Но править не правил. И не было подчиненья: совместность, которая возникала из непобуждаемых обязательств и возникающих дел и условий.
— Почему стали хуже? — спросил. — Ведь должны были лучше…
— В чем-то лучше. Пытливость, открытья. Орган в кафедральном соборе… Природа, ну, ветер, шумы листвы, пение птиц… Природная музыка не в силах затмить рукотворные звуки органа! В чем-то во многом стали хуже до жути. Лагери смерти. Шпионство в исконной среде. Ты патриот, но и ты надзираем. Вспомни училище, курс на три «Б».
— Фэ, погоди. Антисонин…
— В том же ряду, как ядерные бомбы и бинарные боеголовки кассетного типа, способные распылить Землю в комету или вывести все живое.
— Я хочу уколоться. Надоела маета. Анемия рассудка — вот что дает спокойствие.
— Привык к условиям безмыслия? Я-то ликовала. Есть время помыслить, и ничья воля не будет торпедировать наш мозг. Бедный мой справедливец, и у тебя запуганное сознание.
— Где антисонин?
— Ты разлюбил меня.
— Не то, Фэ. Не то, моя аравийка, китаянка, семитка, англоиндийка, алеутка, зондская женщина…
— То, мой единственный мужчина. Кто дышит страданиями народа, у того убывает любовь к любимой.
— Может, меня не устраивает моногамия?
— Скрытничаешь, раз шутишь.
— Я сам не знаю всего о себе. Фэ, поищи антисонин.
— Ты измотан стрессами. Мы победили. Болт Бух Грей еще щадит нас. Услыхала, как ты всаживаешь в паркет каблуки, простилась с жизнью. Убийцы присланы, ты отбился, дабы защитить свою жену.
— Пока цел, завсегда спасу.
— Как посвятил Киву Аву Чел, моногамия тебя не устраивает. Ну и ну, равенство?
— Фэ, ты тонкая женщина.
— По-вашему, по-солдатски, фигуристая.
— Я о внутреннем чутье.
— Случай не требует внутреннего чутья. У Кивы Авы Чел выразительные губы. У бабушки Лемурихи красноречивые жесты. Кстати, замужество Кивы Авы Чел было предрешено. Болт Бух Грей, ты знаешь, небезразличен к ней, но он спокойненько отфутболил бы ее любимцу САМОГО, когда бы его политическая хитромудрость потребовала этого. Жениться на дочке своих врагов? Неслыханное благородство! Растрогает и купит сердца всех слоев общества, в первую очередь — простонародье. Бабушка Лемуриха недаром исповедует культ правителей в большей мере, чем культ САМОГО.
Курнопаю было сложно разговаривать с Фэйхоа. Она почти не узнает его и волнуется, как бы в отходе от самого себя он не преступил надежные границы обоюдности.
Еще трудней давалась ему униженность Фэйхоа. По-прежнему он любил ее, но недовольство переменами гнетуще отразилось на его чувстве. Он не дотрагивался до нее. Едва Фэйхоа начинала ласкаться к нему, вопреки сдержанности (сдержанность она привыкла превозмогать и стала поклоняться ей как одной из основ человеческой чистоты), он отрезвлял ее непроизвольность:
— Не надо.
Фэйхоа затаивалась, в обиде сникала. Курнопай переставал ощущать ее телесное и психологическое присутствие и горевал, когда она пухово, как мышка, выскальзывала в коридор и неприкаянно бродила по вилле.
Проверяя, тут ли она, он подавал голос.
— Фэ?
Она не отзывалась, но сразу, будто предрассветным ветерком, повеивало ее сенсорным электричеством. Замирая, она ждет, а его хватает только на тревогу.
И венчание не освободило Курнопая от неприкаянности. Зато после свадьбы воспрянула Фэйхоа. Видать, Бог и САМ желают, чтобы их супружество было платоническим. Плотское содержит в себе заряд сумасшедших сил, доводящих интим до изуверской изощренности, из чего вырастает или парное нравственно-умственное падение, или взаимная ненависть.
Курнопай не согласился с Фэйхоа, хотя про себя восхитился ее готовностью к безгреховному браку. Он сказал ей, что они будут жить по закону нормального установления природы, когда он распутает ситуацию внутри себя. Фэйхоа не опротестовывала Курнопая, но укорила в том, что он ее разлюбил.
Он бы накричал на Фэйхоа, если бы не дорожил мыслью, связанной с нею и придуманной им в день, когда она склонила Болт Бух Грея на сторону забастовщиков. Человечество делится на две основные части: на абсолютное большинство — по методу сходно-общих заинтересованных недовольств и поступков, на меньшинство — по принципу бескорыстно индивидуальных побуждений и результатов. Отнесенную к меньшинству, он тогда же наделил Фэйхоа неподозреваемым раньше в людях достоинством: царствуя, не царствуют.
— Фэ, — промолвил он и одобрил в своем голосе просительную интонацию, от которой отвык за пять училищных лет. Эту интонацию он воспринял как возрождение, о чем, постыдно, постыдно, лишь слегка переживал и, скорбея о шаткости собственного характера, жестко сказал:
— Нас натаскивали на производство обысков. Облажу, учти, каждую пядь виллы. По запаху найду. Ампулы антисонина пахнут плодом дурьяна.
— Не дам антисонина.
— Удивляюсь бедуинам. Тысячелетия живут в пустынях. Жара и пески. Другой народ давно бы осел на благословенных землях, остров заселил бы в Индийском океане. Только аравийская земля могла создать такую прочную натуру, как у моей Фэйхоа.
Курнопай распахивал коридорные двери и не находил лестницы вниз. Фэйхоа осталась стоять на прежнем месте. Он, забывший о ней, психовал. Двери оглушали хлопками, похожими на взрывы.
Чем злей Курнопай отшвыривал от себя двери, тем неукротимей была его взбешенность. Фэйхоа с ее униженным видом, словно бы замуровавшаяся в кристалле его памяти, продолжала беспокоить Курнопая.
Дверь, выводящая к горному хребту, оказалась закрытой на замок. Как и парадная дверь со стороны океана, она была сделана из фисташкового дерева. Училищные технари предпочитали стальным шестерням шестерни для редукторов, включая танковые, из фисташки. Курнопай сообразил, что без ключа ее лишь вышибешь тараном, но задержал руку и устыдился нахальству своего поведения лишь тогда, когда дверь саданулась о тупорылый ботинок правой ноги, а язык железного запора, выдранный с корнем, грохнулся перед порогом.
Нет, бредя́ к Фэйхоа, не видел Курнопай в ее взгляде укора. Намерение уняться, служить всецело ее зовам вдруг потерялось и устрашило его. Он запрезирал себя от непрошеного уяснения, что в этой потере воли над чувством он супротивничал приказу Болт Бух Грея не возвращаться, пока Фэйхоа не понесет. Время от времени переживая из-за посвящения Кивы Авы Чел, где он был непроизвольной стороной, Курнопай уверялся в собственной невиновности, но тем не менее вина оставалась в нем, да еще и отзывается ущербностью, коль он начал комплексовать в обстоятельствах, не имеющих оснований для самоугнетения.
— Не совладал с собой, — сказал он.
Фэйхоа вчуже молчала. Не пожелала, чтоб он оправдался, а может, и не пожелает. Слыхал от ребят в училище, будто у тех, кто втюрится, годами ждет, любовь при оскорблении исчезает в одночасье.
Притронулся к локтю Фэйхоа. Она отдернула руку и вскинула перед грудью с готовностью ударить наотмашь.
— Бей, — глухо вымолвил он и поник.
— Мужчина не смеет так говорить. Возвращайся в пещеру. Подвала на вилле нет. Построена на кораллах. Бар, и прекрасный, есть, да не про твою честь. Ты будешь сидеть в пещере, я буду пить. Надерусь до чертиков. Каска спасала душу выпивками в баре. Была Фэйхоа трезвенница. Будет Фэйхоа алкоголичка.
В пещере Курнопаю не сиделось. Вилла стояла перед ним такая картинная, что невмочь было удержаться от соблазна вернуться туда. Он вскакивал с каменного пня. Оплавленной поверхностью пень смахивал на магнетитовый метеорит.
Идя к вилле, Курнопай понемногу сбавлял шаг. Пень тем сильней притягивал его, чем дальше он уходил. В конце концов поворачивал обратно, бродил под деревьями, посаженными обочь пещеры для предохранения от слоистых отломов, сползавших с височных круч горы. То, что деревья могли защитить от скал, вызывало ухмылку: и сами были способны, если не угрохать, так покалечить. Иглистый плод аноны, величины баскетбольного мяча, угодив в плечо, сломал бы его.
Когда Курнопай не хотел выступать в телестудии, единственное, чем бабушка Лемуриха заманивала туда, — анона. Он выбирал в кафе солнечный столик. Белая мякоть добытого из холодильника плода мерцала наподобие инея. Но он получал удовольствие не столько от поедания ягодно-кисельной мякоти, сколько от меткого нажима зубами на косточку, добытую из нее.
Кафе всегда кишело людьми. Он целил в бокалы с вином, под кожаные подметки, в точеные из дымчатого хрусталя очки бизнесменов, за пазухи дам-аристократок. Он пытался стрелять косточками незаметно для бабушки Лемурихи. Но разве скроешь от нее какую-нибудь проделку? На обратном пути, в вертолете, ее глаза то и дело посмеивались. Вспоминала, как брякнулся диктор в лаковых штиблетах, как встряхивалась покупная мулатка, оттянув над животом платье, и вскрикивала: «Ох, кусит наездник!» Как внучка кальмароподобного плантатора, вертлявая задавака, которая считает, коль она ездит на «мерседесе» и на шофере, одетом под матадора, стало быть, принадлежит к чудесным людям Самии, как она потребовала вызвать полицию: какой-то террорист покушался на ее зрение — был недолет, косточка стукнулась о фужер.
Ах, анона, анона! Нет, не в аноне закавыка, дело в нем. Вот сейчас поставь его к стенке, даже угроза смерти не заставит есть серединку аноны, истаивающе-маслянистую, вкуса горной клубники. Лет ему мало, а потребность в счастливостях жизни ничтожная, будто он все отведал и всем пресытился.
Мимо Курнопая стрельнул зимородок — куцехвостый ракетоплан. И сразу движение в красноземе, и выскочил краб, боком-боком помчался в сторону моря, скорость рысачья. («Если ипподром все еще существует в столице, вот где забыться в игре!») Задержался возле кокосовой скорлупы. О, да это пальмовый вор. Чего-то вроде схватил? Не схватил, взмахивает меньшей клешней, прямо по-человечьи зовет: сюда, поскорей. С чего это он подзывает опять?
Значение во взмахах. Да что там значение?! Разумность. Неужто он знает тайну? А, бред, раскиселился мозг. Наверно, отводит от сладкой поживы? Ему б пожирать панданус, как я уплетал анону. Покуда не пахнет панданусом, висят вон какие посудины, набитые вкуснотой, подобием в крем-брюле.
Чего размахался, клешнятый? Булыжником трахнуть! Постой, если бестия подзывает… Хитрюга и есть хитрюга! А что — и подамся. Значенье во взмахах, забота.
Он приближался — пальмовый вор перебежечкой к урезу воды. После песочком по отмели дул, не прекращая коротышкой-клешней подзывать. Вывел за норчатый камень: всверлились моллюски. И поскорей под деревья, где краснозем и бомбеют плодами панданусы.
К серому камню тому подходил обмирая. Вдруг погубила себя Фэйхоа. Цельных людей исступленная чуткость в поисках смерти не ведает страха. Сам он… Нескромность, нескромность, стервец!
Не обманул разнорукий. Манил, как мальчишка, полный сердечного сострадания. Тут Фэйхоа. Боязно видеть ее наготу. Прозолоть нежной коричной смуглянки, памятной по лунно-сизым покоям в день посвящения, лишь сохранилась на острых лодыжках. Веки смеженные тик лихорадит, горестный тик, безнадежность в нем бьется.
Как-то застигнуто глаза приоткрыла. Легким прыжком поднялась. Темна и уродлива рукавица на правой руке. Не рукавица — ловушка хоккейного вратаря. В ловушке, похоже, коралл. Странный коралл? Приоткрываются челюсти стиснутой рыбки. Боже ты мой, ужас ныряльщиков — бугорчатка. Меж бородавок и рытвин на самом хребте спрятаны мерзких тринадцать колючек. Хватит одной колючки, чтобы, вонзясь, выпрыснуть гибельный яд.
Бешено выкрикнул: «Брось!» Не подчинилась, пятясь к лагуне. Не приказал, потихоньку взмолился: «Пожалуйста, выкинь». Все отступает, и слезы ручьем, и ловушку со смертью поднимает к груди, к этому совершенству мира, где не смеялось дитя. И кинулся, чтоб умереть, но спасти Фэйхоа. А бугорчатка отброшена в воду: так Фэйхоа испугалась, что вредный страдалец Курнопа погибнет вместо нее.
Раскаяние о том, чему в уме и сердце Курнопая не было определения (неужели до́лжно виноватиться за непонуждаемость состояния?), оказалось могучим чувством. Его влияние напомнило антисониновое, с той, правда, разницей, что бодрствование не отменяло нежности. А тут, чем сильней ты проявляешь ласку, тем она неукротимей; и если вдруг возникнет намек на убыль ласки, обратно, откуда ни возьмись, укор — и вот оно, раскаяние, и такая радостная страсть из-за наплывов виноватости.
Несет его путями превращений. Нет-нет, простором превращений. В океане одиночный парусник не без цели, не без руля, но проследи его дороги. У него, у Курнопая, изменчивость внутренних движений естественней, чем у прелестной Фэйхоа. От трагической обиды, увы, девчоночьи смешной, скорей потешной, — превращение, в котором не осталось и горестной колючки и не заметишь страдания, во всем неустающая согласность.
Раздоры между Каской и Ковылко были нечасты, отходчивость родителей он относил к глумлению. Теперь он понимал — прощение не унижает, не заключает издевательства. Напротив, было б изуверством непрощение. За моментом прощения — беспамятство великодушия, и людям доведется испытать всю сокровенность счастья.
Теченьем дней как бы тащило Курнопая к кольцу атолла, едва скрытому под водой, и он, раздирая океанский мениск, вставал на риф и, словно очнувшийся от глубокого сна, дивился тому, что он сам и Фэйхоа, находящаяся рядом, забыли думать о катастрофе, по странности предотвращенной пальмовым вором.
Ненасытимой была для Курнопая близость Фэйхоа, и он корил себя за то, что очутился в новой крайности. Нельзя же терять чувство дня и ночи, совсем не выбираться из пещеры. Он копил волю, чтобы настоять на купании, хотя бы минутном, после отлива, в полуразрушенном бассейне, сохранившемся с времен, когда лагуна была прибежищем флибустьеров. Но так и не сумел вытянуть Фэйхоа на побережье, даже напомнив ей о том, что в питомнике гарема она слыла чистюлей из чистюль. Его напоминание она, посмеиваясь, назвала щекотливым и солдафонским, но пообещала не обидеться. У нее зарок не покидать пещеру до вечера, каким луна пойдет на убыль. Курнопай решил, что она вкладывает в свое объяснение мистический смысл, оказалось иначе и проще — завершение полнолунья было проверочным сроком ее организму.
Фэйхоа разрыдалась и укорила Курнопая, что ему по-курсантской привычке только бы крутиться под открытым небом. Он догадался: ей не удалось забеременеть. Она опрощалась, начиная напоминать Каску добессонного периода. И хотя в нем ворохнулось одобрение: «Интеллектуалка-оккультистка превращается в настоящую женщину», — он тотчас подумал, что наверняка ему будет кисло, если Фэйхоа обабится. Во время первого пребывания в бухте, когда к ней понаведались «гости», она не прекратила погружения в океан, лишь стала надевать гидрокостюм. Курнопай замечал, что и в гидрокостюме она беспокойно действовала на акул, которых называла подружками и друзьями. Даже кархародон — Болт Бух Грей назвал его за взметывания мордой Любимцем Оводов, — обычно сопровождавший и охранявший Фэйхоа, как собака, и тот взволновывался и делал виражи (за виражами акул обычно следует нападение). Был миг, когда Любимец Оводов решительно нацелился на Фэйхоа, но Курнопай, готовый к его нападению, сунул ему в рыло острие штока, и кархародон уплыл. Фэйхоа подосадовала на Курнопая. Любимец Оводов разобиделся. Курнопай был уверен, что предотвратил гибель Фэйхоа, поэтому, чтобы она не обольщалась на счет людоедов, пригрозил убить акулу; в рукоятке штока была кнопка, нажим на нее — под давлением выбьет из сопла мгновенный яд. С угрюмой злобой реагировали на Фэйхоа и зеленая мурена, и сотовый группер, и скат-хвостокол, которых она считала безвредными домашними животными.
Тогда и на день она не прекратила погружений, уверяя его, что хищникам не только свойственна привязанность, но и чувство благодарности. Теперь, к изумлению Курнопая, она сама уверяла его в том, в чем совсем недавно он так и не сумел ее убедить. Голодный хищник позарится не то что на человека, на собственный хвост, даже если он и с колючкой в тридцать сантиметров, как у ската-хвостокола, — и наотрез отказалась входить в океан. А тем, что потребовала, чтобы он тоже не входил в океан, озадачила. В училище, где про женщин было принято говорить как о существах презренно ненадежных, он верил, судя по Фэйхоа, в их постоянство. Ганс Магмейстер, кому он однажды пожаловался на грязный суд курсантов о женщинах, сказал, опечалившись, что не лучше и женский суд.
Сам слыхал, как уста, которым бы только петь райские песни, так сквернословили про мужчин, что было бы терпимей пропустить из уха в ухо километровый поезд. Правда, Гансу Магмейстеру представлялось, что самые гнусные подлости придуманы сатанинским воображением мужчин: удержись на шарике матриархальное правление, никогда бы человечество не докатилось до изобретения орудий всемирного убийства.
От перемены в поведении Фэйхоа Курнопай склонялся к мысли о перелицовочности женщины ради осуществления своих прихотей или из-за намерения сделать мужа подкаблучником. Решил не подчиняться. И у женатого человека должна быть свобода воли. Фэйхоа заметила ему, смиренно приспустив веки, что после выпуска из училища он упражняется в осуществлении собственной свободы воли, будто бы у других вовсе нет на это личного права. Существование, основанное на командах, которые редко кем оспаривались, повысило в нем уважение к доказательности. Не амбицию он противопоставлял убедительному доводу, а подчинение, полное радости. Радость полыхнула в его душе, но он притушил ее восприятием притворства, померещившегося в смиренной приспущенности пушистых век Фэйхоа.
— Сверхвзыскательные люди были менее всего взыскательны к себе. — Он не хотел, чтобы счастливое примирение оборвалось, и сказал это с ноткой подчинения в голосе, и вдруг подумал о том, что устойчивость семейной жизни обеспечивается внутренне-внешним равновесием, подобным равновесию между планетами, и понял, что в этом соображении заключено спасение для них обоих. — Ты критикуешь совестливо. Справедливо ли, сумею разобраться наедине с самим собой.
— Три дня ты будешь один в пещере.
Фэйхоа ушла на виллу. Боком-боком из-за аспидной глыбы базальта выбежал пальмовый вор. Короткую клешню, похожую на культю, подносил к морде, над которой топырились глаза-стебли, две антенны, усы. Что это он? А, есть просит. Курнопай порыскал по берегу взглядом. Вынос прибоя по-обычному был изобильным. Среди гребней лавы, вздыбленной, волновидной, остались вместе с водой крапчатые, с ворсистым контуром звезды, напоминающие друзы коричневых кристаллов. Нетопырь, весь в костяных наростах и шипах, удобно возлежа на дне ямы, надумал подкормиться: кивал «удилищем», выставленным из огромной башки, отчего «приманка», распускаясь, смахивала на насекомое, гребущее крылышками и ногами. Погремушкой, сделанной из уродливо-приятной рыбки, Курнопай забавлялся до поступления в школу; к стыду его, бабушка Лемуриха как-то захватила высушенного нетопыря на телестудию и рекомендовала зрителям, имеющим маленьких детей, воспитывать их природными игрушками, что и привяжет малышню в обязательном порядке к родине, к правительству. После кое-кто из старшеклассников дразнил Курнопая Нетопырихиным Внуком. Над ямой, прикрепясь присосками к теневой стороне магматического гребня, висел осьминог. Полуприкрытый глаз осьминога заметил Курнопая и обреченно смежился.
«Не трону я тебя», — мысленно пообещал ему Курнопай. Мальчишкой, увлекаясь книгами натуралистов и путешественников, он вычитал у американца, изучавшего фламинго, а потом увлекшегося ночными наблюдениями под водой, трагическую мысль: человечество, погубленное самим собой, сменит на земле осьминог, уже теперь способный переносить на суше тропическую жару и, нет сомнения, наделенный разумом. С того времени Курнопай считал осьминога наследником человека. Переждет в океане, когда улетучится радиация, и начнет закрепляться на берегу.
Принимая пальмового вора за вегетарианца, Курнопай подался вдоль отмельной кромки. Авось найдет кокосовый орех или гроздь бананов. Нашел он крупный, вероятно, индийский, мандарин с чуть раскисшей кожурой. Подкинул мандарин крабу; тот, остававшийся на месте в какой-то наблюдательной неподвижности, зауказывал клешней на фиолетовый разлом, который четко просматривался в воде между двумя скалами, поросшими водорослями. Пальмовый вор поволок мандарин за виллу, а Курнопай, заинтригованный, смотрел в разлом. До подозрительности необитаемо было в этой фиолетовости, где слоились панели солнечных лучей.
Солнечные панели взломал толчок воды, появился кархародон, скашивая планчатые боковые плавники, чтобы проскользнуть меж скал, отчего приобрел вид истребителя-ракетоносца. Сферически обтекаемый добродушный нос кархародона когда-то был рассечен, и теперь его коричневый покров белел шрамом. Тот самый кархародон — приятель Фэйхоа. Что-то в этом благодушном «приятель» противоестественное, как если бы он называл так гангстера. Слишком эгоцентрично, черт возьми, восприятие. Впрочем, не он ли сам был дружелюбен с училищным хищником провиантмейстером. Похищение продуктов, не равносильно ли оно пожиранию человеческих судеб?
Прежде чем прорезать спинным плавником полукруг в зеркальной пленке лагуны и скрыться, кархародон всмотрелся агатовым зрачком в Курнопая и странно усовестил: бархатным, полным симпатии был его взор. Вспомнилась Фэйхоа с ее соображением о немстительности хищников. Пренебрег он этим соображением. Почему-то был враждебен к обитателям рифа, а ведь ничего не случилось, сколько ни плавали с Фэйхоа. Все мы, люди, почему-то заранее враждебны ко всему на свете, что умней, неведомей, чем мы. Акул мы хулим за то, что они способны защищаться, нападать, уничтожать. А ведь мы ни с кем и ни с чем не считаемся; уничтожаем все, что угодно нам и неугодно. Да перед нами они просто невинны. Твари не они — мы. Нет, человек не умом отличается от других существ — неразумностью. Все в мире целесообразно, кроме него самого. И сам он создал собственную нецелесообразность, присвоив сушу, воды, небо, но к счастью, человек не может присвоить земную глубь. Как жалок он в попытке присвоить Время и Космос. О, погоди, он рассуждает как судия человечества. Ничего. Сейчас лишь тот с бесстрашной ясностью способен оценить, до каких всеуничтожающих изуверств докатились люди, кто поставит себя по отношению к ним в позицию планетарного судии.
Опять ту же эволюцию совершил кархародон. Догадка, что он высматривает Фэйхоа, заставила Курнопая поспешить на виллу.
На портик выскочила Фэйхоа. По державному телефону она разыскала бабушку Лемуриху. Лемуриха находилась в гостях у Каски с детьми в бывших покоях Фэйхоа. Им обоим было известно, в какое помещение вселилась Каска, тем не менее Фэйхоа спедалировала: место небожительской престижности, жалеет о нем, где прожила детские и девичьи годы. Очень ей больно отдаление от ядра власти. В бестщеславной душе всплеск самолюбия. А, ладно: все живем, тяготея к ядру.
Фэйхоа удалось зазвать бабушку Лемуриху в гости, хоть та и финтила, рассусоливая о страшной государственной занятости. Но с Каской не удалось договориться. («Не обещаю теперь, зарекаюсь обещать в ближайшее десятилетие».) Рвался сюда Огомий, и Лемуриха соглашалась его взять, но Каска, Каска…
Завтра бабушка Лемуриха обещала доставиться на вертолете, закрепленном лично за ней. Наказала Курнопаю добыть меч-рыбу или марлина, полосатого, черного, а то синего. Об эту пору что меч-рыбы, что марлины полеживают в открытом океане на солнышке.
Курнопай рассмеялся. Никак бабушка хапнула крупную должность, коль до того разважничалась, что, в крайности, требует добыть майора из пагров или дораду из спаров, изумительно лакомую рыбу, очень дорогую, рыбу президентов фирм, министров, тиранов.
Круговым движением ладоней (Забыла, наверно? Пугающий глянец ожогов.) Фэйхоа попыталась успокоить ущемленность Курнопая, но он не успокоился: мать неузнаваема, будто ее мозг вынули, а чужой пересадили, да еще и бабушка Лемуриха выставляется.
Фэйхоа продолжала смягчать Курнопаево возмущение, приправленное правительственной спесью. Бабушка верит в неограниченное внимание внука к ней, оттого и заказала знаменитую рыбу. В его училищное время она однажды хвасталась: «Курнопа, ежели что, ради меня земной шар пророет!» От большой веры заказ, от любви. Что же касается Каски, в превращении, происходящем с ней, ничего необычного: банальная, как прописные истины, метаморфоза. Несть числа семьям и родовым кланам, распавшимся по социально-политическим мотивам, правильней — из-за социальной нетерпимости, равнозначной тяжелому преступлению. Ей, сироте, обескровленной, с точки зрения родственных чувств и духовных стремлений, семья, материнство, отцовство, дочернее и сыновнее чувство представляется величайшей ценностью человеческого мира. С разрушения атома началось крушение земной материи. Разрушение семьи средствами, подчиненными целям политики и экономики, ведет к распаду человечества.
— Как все рано, — сказал Курнопай, имея в виду то, что человечество, молодое древо земной биологии, так быстро идет к завершению.
Фэйхоа подумала, будто бы он сердит на то, что она рано зазвала бабушку Лемуриху сюда, и упрекнула его за черствость. Непонимание он считал опасным условием сосуществования, поэтому, чтоб оно не разрасталось, мог предложить себе лишь смирение без самооправданий. Однако, уверяя Фэйхоа, что упрек ее справедлив, подчинился уязвленности, для чего жестко заявил, что сейчас же займется заготовкой океанской свежатинки, но начнет не с ловли меч-рыбы или марлина, а с охоты на латринов и красных майоров. Охота будет рискованной из-за кархародона, который наверняка поджидает именно его: не зря ведь он изображал приветливость.
Фэйхоа померкла. Она согласилась отпустить Курнопая, если он во всем будет слушать ее, готовясь к охоте. Заставила надеть белые ласты, белый акваланг, белую шапочку. Инструкторы подводники заказали полдюжины комплектов такого снаряжения для Болт Бух Грея. Они учли опыт японских ныряльщиц за жемчужницами: белый цвет отпугивает акул. К поясу, обложенному свинцовыми квадратами, прикрепила миниатюрный магнитофон. В нем кассета с записью свистов гигантских касаток в момент, когда они зажирали яростно защищавшуюся тигровую акулу. Взбрендится кархародону напасть на Курнопая, включит магнитофон, и хищник отступит, как от электрического поля. Вместо ружья заставила взять шток. Охотиться? Обойдется термонаганом. Одной-двух рыбин бабушке Лемурихе хватит на время гощения. Отныне сам он полностью перейдет на вегетарианскую пищу.
— Так уж сразу… — заупрямился Курнопай.
— Пы-ы-рекратить канючить, — передразнила его Фэйхоа и погрустнела.
Он пошел к берегу и, оглянувшись на Фэйхоа, с шутливой неуклюжестью плюхнулся в океан. То ли из-за редкой высветленности воды, то ли потому, что солнце стояло в зените, но было нежно-мягким, будто Каскина пуховка, которой она пудрила шею перед походом в бар, а то и, наверно, потому, что его память еще не отделалась от смога смолоцианистого завода, подводный мир показался Курнопаю полыхающе ярким, и он невольно завис на месте. Проплыла перед ним черной коричневы рыба-ангел: желтые веки, желтые линии на фюзеляже, похожие извилистой формой на лук для стрельбы. Треск, послышавшийся откуда-то снизу, заставил Курнопая посмотреть на дно. Под ним оно песчаное, и там ничего не видно, кроме глаз ящероголовых рыб, торчащих над рыжей пересыпчивой зернью. Дремотно-мирные глаза, никогда и не подумаешь, что они выслеживают жертву. Треск раздался на краю песчаного пятна. Омар, панцирь которого глянцевел в солнечных лучах, обнаруживая костяную шероховатость, давил клешней ежа и ел. Его усы (на гибкую проволоку намотали телефонный провод в бурой изоляции) шевелились с плавностью хвоста кошки, когда она лакомо жрет синицу и побаивается, что ее добычу отберут. Чем-то омерзительно повеяло. Вспомнился молотобоец, заваливший ударом кувалды бизона и вскрывший на его шее жилу, откуда ударила кровь, а он наполнил ею пивную кружку и выпил. Тем, что осталось на донце, молотобоец плеснул себе в лицо и намазал скулы, подбородок, мурча и матерно нахваливая ядреность бычьей крови. Кожа на большом и указательном пальцах, которыми он размазывал кровь, была ороговело-темная, и Курнопаю, уже отвернувшемуся от омара, захотелось глянуть на его клешни. Грандиозно овальны, подчеркнутые алым кантом. Кант создавал сфероидность клешней, словно оттиснутых из железа и покрытых мерклой зеленой эмалью. Края клешневой развилки, шаровидные и шипастые, именно ими омар разрушал ежа, тоже производили впечатление мощно-красивых. Вероятно, под влиянием Фэйхоа Курнопай настроился воспринимать хищное как безобразное. В действительности совсем не так. Навряд ли сыщешь мир живописней, изящней, дивней с точки зрения цветосочетания, формосоединения, моделирования, чем мир коралловых рифов. А ведь все живое здесь хищно.
Постыло вдруг стало Курнопаю. Рядом была такая жизнь, которая, независимо от того, как думает о ней он, сама по себе является великой ценностью и отчасти зрелищной, что всякое ее умаление, на что бы оно ни опиралось, кощунственно по отношению к природе, ведь она — универсальный способ существования для атолловой лагуны и для океана вообще, как и для земли со всем, что она составляет и что находится на ней. Поглощением существует все во Вселенной, от микробов до галактик. И мы, люди, не исключение в этом, хотя и весьма ловко, нет, до стадности самовлюбленно измыслили исключительность. Не судить ему надо жизнь лагуны — постигать то, как посредством поглощения, пусть и воспринимаемого трагически, поддерживается взаимозависимость, взаимосцепляемость, взаимоспасительность всего живого.
Он увидел, как рыжая морская звезда придавила гребешок Магеллана.
Однажды телестудия наградила бабушку Лемуриху с Курнопаем недельным отдыхом возле океана. Поселились в домике водолазов, промышлявших моллюсками. Как раз шел тогда гребешок Магеллана. В воде, мутноватой от планктонного переизобилия, водолазы ходили по дну, собирали моллюсков в сетчатые кошели. На песке оставались следы свинцовых подошв. Боевитая бабушка Лемуриха сумела включиться в прибыльный промысел. Она попросила Курнопая наблюдать за собой с поверхности залива. Сквозь стекло маски он видел туманную бабушку Лемуриху, но и при этом, по ее самоопределению, матронистую вроде Моны Лизы. Тогда, тщательно следя за бабушкой, хотя был уверен, что ничего с нею не может приключиться, Курнопай назвал про себя гребешки Магеллана веселыми. Они передвигались скачками от сжатия створок, да такими длинными — футов на пять.
Рыба-бабочка, серебристо-черная, в багряных и синих крапинках, отгоняла от норы в базальтовом кубе верткого пинцетика. Шевеля ротиком, вытянутым в вороночку, насмешничает, ни дать ни взять он направился к норе. Спинной плавник, которым пинцетик при его поворотливости способен нанести опасные вспарывающие удары, напряжен до окостенелости. Бабочка нервничает, дергается, крап на боках загорается, как злые глаза. Похоже, что пинцетик не боится бабочку и понарошку почтительно задерживается перед норой. Бабочка описывает петлю и заплывает в убежище. Пинцетик грустно пофланировал вдоль норы. По глазам, скорей по очам, крупны, лучисты, можно было прочесть — пинцетик заметил, что бабочка струсила, хотя он просто забавлялся от скуки, и в нем накипала осмысленная обида. Пинцетик бродяга, но одиночество, наверно, и его томит?
Он увидел все это за какие-то мгновения и приказал себе глазеть, а не думать. Мысли мешают зрительному наслаждению. Неслух он, анархист, недисциплинированный военный. Личный приказ и то не выполнил, чтобы с гурманским удовольствием кинуться в новое размышление: «Рыбы, умея шурупить, конечно, созерцательные существа. Любовь к созерцанию создала их декоративную красоту и совершенствовала красоту тех рыб, которыми они любуются. В школе нас учили узко: сводили расцветку рыб, да и насекомых, зверей, пресмыкающихся к хамельонству как средству приспособления к внешней среде и самосохранению. Целесообразность, расчет — только и сводили к этому жизнь якобы не мыслящих существ. Какое хамелеонство, когда так заметны отовсюду эти рыбы. А жизнь жизни, ученые идиотики, состоит в созерцании и самосозерцании ради создания красоты. Это, может, всего первей. А то бы от скуки раскромсали друг дружку и давно передохли. Красота ведь заразительна. Да о чем еще у меня свербило в подкорке? Фэйхоа считает, будто бы под водой до значительных мыслей не додумаешься. У кого как. Но почему под водой? Просто тут глазеть надо, насыщать душу красотой. Это, может, поважней мыслительности? Несчастье многих людей, наверно и мое тоже, не в том, что мы не умеем думать, а в том, что мы не чутки к миру Земли и Космоса и что у нас плохо развито чувство красоты мира и мировой красоты, что у нас не хватает тонкости и такта принимать планеты, Вселенную такими, какими их создала Природа, да, вероятно, боги, а у нас в стране создал САМ. Все бы нам переделывать. Электронные часы не беремся переделывать, а того не поймем, что механизм глобального существования еще совершенней и уязвимей.
Чем-то словно бы задело Курнопая над областью сердца. Осмотрелся. Через миг уже сторожко следил за кархародоном. Тот плыл к входу в расщелину, служившую ему наблюдательным пунктом. Плыл кархародон неторопливо, с развальцей, не присущей акулам, преувеличенно внимательно таращась на пеликанов, которые чистили оперенье.
— Внутреннее желание осы ли, ягуара, анаконды, носорога, шимпанзе ли, кондора не испугать кого-либо неконтролируемо отражается в их внешнем образе, — учил Ганс Магмейстер. — Этому безобманному свойству поведения живых существ я дал определение неприкрытость, то бишь настолько каждая из сих особей держится мирно, что нельзя ошибиться в добрых намерениях. Единственная зоологическая особь умеет с таким искренним совершенством подделаться под неприкрытость — человек. Подделается и обманет. Что последует за сим, зависит от задачи. Отвлечет, одурачит, подбросит разработанную в тайных инстанциях «игру», покалечит, убьет — мало ли всяких задач и целей. Сволочная особь, постоянно изображающая свою якобы натуральную мирность. Что может противопоставить другая зоологическая особь отлаженному аппарату неискренности хомо сапиенс, владычествующему над планетой? — Ганс Магмейстер, безмолвный, положил голову правым виском на ладонь, промолвил не без покаяния:
— Осуждая — учу.
Кархародон исчез в расщелине. Курнопай уяснил, что «белая смерть» поджидает Фэйхоа. Соскучился? А что, и это вероятно для хищников, как и отсутствие чувства мести. Впрочем, нет, инфантильно. Касатка, всевластная убийца океана, остерегается трогать людей, — тронь стервятника, самого лютого из лютых, истребит касаточий род.
Училищная муштра ассоциировалась у Курнопая не столько с шагистикой, сколько с уроками бдительности. Инстинкт бдительности заставил Курнопая домчаться до этой стороны расщелины. Вот и подвергай сомнению замечательного душеведа! Кархародон находился в расщелине, высматривая Фэйхоа.
Чего не мог представить себе Курнопай — собачих повиливаний хвостом у акул. И вдруг повиливает хвостом кархародон, потом высовывает морду из воды, почти без разгона встает на хвост над лагуной во всю, пожалуй, десятиметровую длину.
Отплыл Курнопай от расщелины, нырнул. Морда кархародона торчала над водой. Фэйхоа, сидя на песке, натягивала на вскинутые ноги герметичные колготки. Возле нее лежала и верхняя половина легкого костюма для аквалангистов. Опасно, и все-таки соблазнилась. Дурь. Человечины захотела белая смерть. Выдернул изо рта загубник, прокричал, чтоб не смела одеваться. Ответила шаловливым голоском: лишь, мол, совершит с кархародончиком круг почета вдоль рифа и выведет милую скотинку в открытое море.
— Не-ы-сы-мей! — рявкнул Курнопай. Не понарошку, нет. Сработала выучка.
Фэйхоа так и прыснула от удивления, кархародона его горлохватская выходка заставила повернуть морду. Глаз кархародона, охваченный золотым ободом, вперился в Курнопая с недоумением.
— Охоться, мой императивный. Через полчаса встретимся у Ворот Вулкана.
— Не буду я встречаться. Теперь же вылезу.
— Вылазь, мой капризный. Буду счастлива. Ты бы знал, как я боюсь за тебя.
Без промедления Курнопай закусил загубник и нырнул.
Свой путь вдоль рифа Фэйхоа начала, устремясь на гостевой домик. Он находился среди чащоб горгоновых кораллов. Кархародон скользил неторопливо. Почти впритык к узким, плоско-длинным планкам его боковых плавников двигались полосатые лоцманы, от чего кархародон походил на многомоторный транспортный водолет. Фэйхоа плыла над кархародоном. Время от времени она садилась верхом на кархародона то перед верхним плавником и поглаживала овал его головы, ноги держа так, чтобы не задевать ластами о жаберные щели, то позади плавника, ухватившись за него, чтобы не сносило, и как бы пришпоривая пятками падучие бока. Кархародону, наверно, было приятно, что Фэйхоа катается на нем. Лоцманы, когда, балуясь, Фэйхоа пробовала убыстрить движение кархародона, принимались резвиться возле нее.
Некстати вспомнилось Курнопаю, что кархародон с легкостью проглатывает двухметровых акул.
Какая там охота, пусть и для бабушки Лемурихи! Ради безопасности Фэйхоа Курнопай увязался за кархародоном, держа наготове шток.
Фэйхоа заметила Курнопая, наездничая перед плавником, и свалилась с кархародона. Среди их забав была такая забава: акула ускоряла ход, Фэйхоа сваливалась, после с деланным азартом гналась за нею и не могла угнаться, что и потешало обоих. Так было и теперь. Однако, прежде чем припуститься за кархародоном, она сделала отбрасывающий жест руками, дескать, уходи. Он все же не подался к Воротам Вулкана, лишь слегка приотстал, не прекращая быть настороже.
Фэйхоа опять приладилась перед плавником, поглаживала ладонями по глянцевито-резинистой башке кархародона, но видно было, что постороннее присутствие гнетет их.
Там, где Фэйхоа намеревалась вывести кархародона в открытое море, риф выступал над лагуной замковой стеной, а вся его подводная часть дремуче поросла водорослями и кораллами. Близ скопления пухово-зеленых водорослей, на которых паслись, меленько теребя их, лиловые рыбки, Фэйхоа постучала кулачками по акульей черепушке.
Торможение. Кархародон встал, Фэйхоа бросилась к водорослям, начала раздирать их. Лоцманы, кроме одного, покинули кархародона, чтобы, едва засинеют меж травой вольные воды, повести его за собой.
Отнюдь не пролом был в рифе — встроенные в него бетонные ворота. При помощи лебедки Фэйхоа отворила ворота, лоцманы, будто они мечтали об океанских плаваниях, рванулись сквозь образовавшийся круг в сиреневую синеву, кархародон помедлил, притронулся хвостом к плечу Фэйхоа и подался за лоцманами.
Страшась того, что Курнопай вздумает помогать ей, вдруг да кархародон вернется, Фэйхоа быстро закрыла ворота. Курнопай приобнял Фэйхоа и в ту же секунду почувствовал, что она дрожит. Он изо всей мочи повлек ее через лагуну, чтоб согрелась. Но она так и не согрелась; он это обнаружил, выходя с нею из воды. Фэйхоа улыбнулась фиолетовыми губами, точно бы долго лакомилась ягодами смоковницы, и сказала, что кархародон стал дрожать еще поодаль от пуховых водорослей: не из-за приближающегося расставания, она полагает, а от желания напасть на Курнопая.
— Не знаю причины, почему кархародона начала бить дрожь, — добавила она. — Его ревность? Не она. Твоя? Не заметила. В общем, не знаю. Он благороден, хочу заявить тебе, мой вечный. Благороден, невзирая на кровожадное свое существование.
— Согласен, — сказал он. — Верю, — добавил, но твердого согласия и бессомненной веры в уме и сердце Курнопая не было. И он подумал: «Я отвратительный тип», — и повторил: — Согласен. Верю, — чтобы честно согласиться с Фэйхоа и поверить ей сполна.
Ах, бабушка Лемуриха, сногсшибательное она создание! Совсем не собираться навестить внука и Фэйхоа, пообещать прилететь завтра, поставив гурманское условие, а заявиться сегодня, когда они еще не стащили с себя гидрокостюмы. Надо быть фееричной женщиной, чтобы в ее возрасте и при ее телесах спускаться с зависшего вертолета по веревочной лесенке. И не над водой спускаться на случай падения — над базальтовым кубом, сорвется — всмятку. Спускаться грузно, проволакиваясь бомбовозным бюстом по одетым в пластиковые трубки поперечинам, и все-таки нигде не застрянуть и не промахнуться мимо ступеньки ботинком, сшитым из носорожьей кожи. Нет-нет, фееричная женщина! Женщина? Почему женщина, коль спускалась персона, одетая в форму высшего командного состава. Гольфы тончайшей белой шерсти, ажурные, от лодыжек до подколений — броский рисунок, цепочка ромбов цвета шоколада и зигзаги абрисов вокруг цепочки канареечно-желтые, красные. На клешевых штанинах шорт золотая бахрома; куртка пепельного шелка. Погоны генеральские, но обшиты голубым басоном, чего раньше вовсе не было. Наверно, создан новый род войск?
Ну, слава великому САМОМУ! Бабушка Лемуриха утвердилась на базальтовом кубе. Вертолет устрекотал за хребет. Она картинно протянула руки Фэйхоа и Курнопаю.
— Можете поздравить! Мое рвение, армейки, патриотки, гражданки, преданной двум правителям подряд, увенчались назначением. Мне присвоено звание, которого не было, генерал-капрала по воспитанию солдат и офицеров.
Указательным пальцем левой руки она величественно ткнула в нашивку: черное кольцо, в охвате кольца — голубой купол.
— Ты, Курнопа-Курнопай, любимый внук, осуждаешь сексрелигию. Зря. Продолжение рода человеческого — основа основ. Зачем презирать орудия деторождения и счастливые чувства? Нашивка называется шивали́нгам. Мужское начало, линга, в центре, женское, йони, с краю. Все это в зачине от индийского бога Шивы и его супруги Дурги, какую по всякому еще называют: Парвати, Кали, Дэви…
Оба знали, что в жизни под видом действительно серьезного происходит легкодумное, к чему относишься как к блажи, но оно оборачивается стойкостью, даже неустранимостью: поколения сменяются, а наносное, что не воспринималось как главное, правит обществами. Оба знали это, но мило слушали бабушку Лемуриху.
— Мне даны САМИМ и священным автократом Болт Бух Греем неограниченные права по части сексрелигии. Мои права распространяются и на невоенных. Я, если самиец уклоняется от новой веры, могу к нему через своих солдат и офицеров предъявить насилие вплоть до тюремного наказания и смертной казни.
— Бабушка, ты назвала Болт Бух Грея «священным автократом», — прервал ее Курнопай.
— Ага.
— Новшество?
— Э, да ты неосведомленный. Болт Бух Грей перевернул воинские чины вверх тормашками.
Чувство открытия распирало сердце Лемурихи, поэтому фразу о чинах, перевернутых вверх тормашками, она проговорила с таким сладострастием, что воздух конденсировался у нее в груди и, казалось, вываливался из красногубого рта сгустками влаги.
— Что я говорю?! Не вверх тормашками: с головы на ноги. Болт Бух Грей теперь маршал-адмирал, значится, чин на самом штыке воинской пирамиды. Про священного автократа? Организованный Комитет Генеральных Штабов по просьбе народа присвоил потомку САМОГО высший титул державы: священного автократа. Мое звание генерал-капрал, третье с неба, второе — генерал-полковник, твое — уже четвертое. Я, в силу моего статуса, опять займусь твоим воспитанием. Испортили тебя в училище. При мне ты покладистый был. Священный автократ, прошу без передачи, а то в немилость попаду, на последнем приеме в честь главных назначений посетовал на тебя: «Курнопа-Курнопай неуправляем. Ума не приложу, какую сферу ему поручить?» Я до этого претензию ему предъявила, почему он облагодетельствовал верховными назначениями всех, вплоть до врагов. Представляешь, внучок, Кивушкиного отца назначил всей экономикой вертеть. Верно, армейское звание у него осталось прежнее, старший сержант. Не офицер даже. Фэйхоа тоже осталась без назначения. Ее положение заступила Кива Ава Чел. Ропот идет среди народа и администрации. Большинству не секрет — вы с Фэйхоа спасли Самию, самого Болт Бух Грея от полного краха. Зависть в причину выставляют. Кто-то ему надул в уши… Не должна, большинство согласно, быть немилость вам обоим. Умней вы его или глупей, дальновидней иль нет — сказать нельзя, посколь он руководящий над всеми. Вывод Болт Бух Грея: «неуправляемый». У меня кожа шевелится на спине. Нельзя было допускать поведением, Курнопа, подобную оценку. Справедливую оценку, со всей честностью сказать. У священного автократа все обязаны быть управляемы, с чем я согласна. Но я несогласная с чем: вас без назначения оставил. Включая его, вы в первую тройку входили в дни смуты. Фэйхоа-то вообще соправительницей Болт Бух Грея была. В нынешней структуре правительства и армии ни одного приличного кресла не осталось. Фэйхоа, когда была советницей и духовницей Болт Бух Грея, хотя и не входила в Сержантитет, но никто не сомневался — она его наставляет и поправляет. После Фэйхоа по престижности был головорез номер один Курнопай, мой внук. И у него престижность отпала, посколь Болт Бух Грей отменил институт головорезов, так как он исчерпал себя. Историческую престижность от вас не забрать. Но что она без постов? Ума не приложу, каким образом вам помочь. Без положения не поживется вам. Каждая гиена из чиновников будет вас рвать на куски. Традиция у нас: бывших при крупной власти изничтожают презрением и судьбу крушат окончательно и бесповоротно.
Лемуриха изменилась на глазах за какие-то минуты. Спускалась этакой, пусть и неуклюжей, наделенной неограниченными полномочиями десантницей, и вот стоит на базальте рыхлая старуха.
Совершилось превращение и с молодоженами. Посмеивались, улыбаясь, досадовали, стеснялись ее самолюбивых забот, связанных с ними. Опечалились. Скисли. Едва Лемуриха, вдруг растерявшаяся от неумения спрыгнуть или сползти с каменного куба, попросила Курнопая прикатить трап, они с Фэйхоа нервно рассмеялись.
На то Курнопай и учился у Ганса Магмейстера быстренько смахивать личины и напяливать потребные, чтобы от уныния воспарить к бодрости.
— Бабушка, громоздкое мое чудо, прыгай в мои распростертые объятия.
Не догадайся он попридержать бабушку Лемуриху за твердый, как откованный, стан, она бы рухнула на него. Лемуриха уткнулась переносицей в плечо Курнопая и всхлипывала то ли от накопившейся за годы тоски, то ли от досады, что вместо повышения ее внук получит отставку без пенсии. В мальчишестве бывали у Курнопая плаксивые минуты. Изобьют — не заревет, несправедливо оскорбят — слезинки не обронит. А вот стих такой случался: обычно вертун, за уроки не присядет, тут же забьется в уголок, пригорюнится, расклюквится — хнычет и слезки пускает. Подойдет бабушка Лемуриха, тюкнет в лоб косточками пальцев, услышит — под черепом поло, скажет, что пуста еще у него головенка, не с кого, мол, спрашивать, но тем не менее спросит:
— Ну, чего разнюнился?
Он не ответит, лишь завсхлипывает с длинным придыханием.
— Ну-к, перестань, — скажет. — Ишь, нюни-то аж на всю саванну разносит. Сердце испортишь. Угомонись, либо я САМОМУ пожалуюсь. Он-то найдет, как тебя приструнить. Сыт, понимаешь, одет лучше всех в квартале и, поди-ка, разнюнился.
Увещевание души не облегчит, зато подготовит к грубому утешению, во время которого она погладит, но и деранет за косицы, похлопает ладонями по спине, успокаивая, но и леща отпустит, да такого, что голову не сразу повернешь.
Понимал Курнопай: бабушка Лемуриха взаправду хлюпает, а непритворно посострадать ей не мог. Серьез пожилой женщины, сосредоточенной на чинодральских заботах, вынудил его придуриваться.
— Не расстраивайся, бабуленька. На нашу семью достаточно одной твоей должности. — Он подмигивал Фэйхоа, не расположенной к его баловству.
Бабушка Лемуриха отскочила от Курнопая. Ого! Жировой слой, оказывается, не причина для нечуткости. Оскорбилась. Грудь, без того устрашающе широкую, прямо-таки вздыбило, как при отрыве от воды вздыбливает нос десантного судна на воздушной подушке. Мстительно пристращала, если они останутся припухать на подвальных ступеньках жизни, не допускать на сексрелигиозные посты ни в армии, ни на гражданке.
Курнопай восторженно воспринял ее угрозу.
— И отлично, госпожа генерал-капрал от сексрелигии! Проклятье вашей престижности. Еле уцелел из-за нее. Но, нет, не в этом суть. Нужно быть приспособленным… Нет, хана моему приспособленчеству. Кабы не антисонин, я давно бы восстал против приспособленчества и отошел от лицедейства во начальничках.
У Лемурихи, пристально слушавшей Курнопая, лицо, без того рыхлое, становилось отечным.
— Не-е, внучок, Курнопушка, не отрекайся! Ве-эсь твой род по отцовской и материнской линии в последних поколениях на подвальных ступеньках обретался. За их нищенство дано нам пожить в чести и сытости.
— Что за честь?
— Постой, не перебивай. Телецентр припомни. Счастливчиком был? Кому благодаря? Поживешь с мое, взахлеб вспоминать будешь. Вся страна знала Курнопая и бабушку Лемуриху. Хуже нужды да безвестности, да неволи нет ничего. Что добыто по исключительному случаю, опосля напряжением своей нервной системы… Ты-то не волновался за выступление в телестудии, я-то трепетала навроде пальм в урагане. Что в надрыве добыто, то хоп — и свалочному псу под хвост. Слава, народ боготворит САМОГО да тебя, да Фэйхоа эдак-то боготворит, Болт Бух Грей за вами уж по славе, и хоп — все обесценить, над всем надругаться. Ты можешь не почитать свои заслуги, своей жены, бабушкины, но должен почитать славу и преклонение, какие от народа… Народ оскорбится. Не-эт, не смей отрекаться! Бери положение, посколь выпало по заслуге, и благоденствуй.
— За счет кого?
— Кто брал за счет наших линий, колен и отростков, тот не спрашивал насчет «на чей счет». Почему ты спрашиваешь?
— Совестно.
— Ты что, работать не будешь?
— Работает фермер и рабочий, остальные служат, благоденствуя больше на их трудах, чем они сами.
— На эксплуатацию намекаешь?
— Хотел напомнить.
— На эксплуатацию не намекай. Эксплуатация, к твоему сведению, была и будет. В ней ничего плохого. Напротив, нужна она обществу, посколь без нее строить не на что, армию содержать, правительственную структуру… Ты ж пять лет учился. Неужто вам плохо преподавали социальные науки?
— Наука и практика — разные вещи. Теперь я понимаю, что науки существуют для того, чтобы люди не понимали практики.
— Ты сегодня, внучок, не проспался. Практика — зеркало науки.
— Бабушка, ты меня подтвердила. Пусть зеркало. В зеркале правая сторона — левая, левая — правая, то есть перекрут, наоборот.
— Не-э, не забить тебе бабушку. Вела тебя и поведу дальше. Недавно Болт Бух Грей добился аудиенции у САМОГО. Не мое мнение это, что эксплуатация нужна позарез и ничего в ней плохого, напротив, хорошо для развития богатства державы, это мнение САМОГО, сказанное священному автократу. Великое мнение, посколь делается раскол на этом промежду людьми, будто одни общества лучше, посколь в них нет эксплуатации, а другие хуже, посколь она имеется. Истина и справедливость в чем? Везде есть, было, будет отхватываться сколько-то доходов от всякого труда. Кто называются эксплуататоры, на самом деле организаторы. И все дают доход обществу от разного труда, что рабочего, рыбацкого, фермерского, что умственного. У банкира умственный труд, у инженера тоже, доходы же, пожалуй, посолиднее рабочего и ремесленного труда. Фэйхоа, ты начитанней его и меня, ты чтишь САМОГО, Курнопай в детстве заразился непочтением к САМОМУ от Ковылко, ты разреши нас.
То, в чем не находили точек соприкосновения бабушка Лемуриха и Курнопай, Фэйхоа обсуждала с Болт Бух Греем. Что обсуждала — выверяла, рыская по страницам древних и современных историков, литераторов, философов, правителей, оракулов, футурологов. У нее создалось мнение, что выводить из социального строя обездоленность простонародья, а следовательно, счастье работодателей, кому принадлежат промышленные монополии, научные и строительные фирмы, не очень-то справедливо. Обездоленность с непременностью не вытекает из самого существования частной собственности, а также государства, создаваемого условиями, которые она диктует. Были, есть, будут державы, основанные на общенародной собственности, где работодатель, государства, жадней и несправедливей к труженику, продающему свой физический и умственный труд. Ошибкой политических критиков, метящих урвать власть, было всегда обвинение к системе, в то время как нередко за вывеской демократических республик укрываются хунты во главе с тиранами: они гораздо безответственнее по отношению к простонародью, чем рабовладельческая верхушка или группы предержащих империалистических магнатов. Она совершенно уверена, что почти при всех династиях египетских фараонов земледельцам жилось спокойней, сытней, чем у многих южноамериканских латифундистов.
Такое представление сформировалось в сознании Фэйхоа, и так она изложила его бабушке Лемурихе, заодно сказала, что нельзя сводить желание счастья себе и родным к возможности принадлежать к престижно-правящей горстке главных воротил их автократической страны. Кстати, автократической не потому, что хунтой назначенцев избран священный автократ, а потому, что в Самии еще Черным Лебедем был приостановлен институт выборной власти в провинциях и в общенациональном масштабе. Она, когда работала вместе с Каской на заводе, страдала от изменения бытовых условий, но чувствовала себя в чем-то еще счастливей, чем во дворце, невзирая на истерики штамповщиц, к которым из-за их возраста и облика не благоволили мужчины-генофондисты.
— Не поверю, — грозно проговорила Лемуриха.
Фэйхоа подумала, что бабушка привыкла вести заботливые беседы по-армейски. Там, где у нее иссякнет способность убеждать, она использует припугивание. Фэйхоа хотела сострить, что-де в минуту, когда возникает голосовой аргумент, следует движение ладони, перебирающей пальцами на рукоятке термонагана, тогда она лишь способна сделать книксен, в котором сквозь воздушную учтивость просматривается презрение, но она не сострила, потому что ей подмигнул муж, чтобы она подавила гладкими средствами бабушку Лемуриху.
— Госпожа генерал-капрал…
— Зови просто бабушкой Лемурихой.
— …в Англии при короле Якове Первом был лордом-канцлером Фрэнсис Бэкон.
— Что за звание? Лорд — понимаю, канцлер — понимаю, вместе сцепленные — не ясно.
— Палата лордов — высшая палата парламента. Бэкон был председателем этой палаты.
— А?
— Король без него ни шагу.
— У!
— Он — признанный родоначальник английского материализма.
— Материализма?
— Да.
— Правильный руководитель! Все в материализме, из материализма, для материализма. Говори скорей дальше. Поверю.
— Он открыл четыре заблуждения разума.
— Называй по пунктам.
— Заблуждениям разума он дал определение — «ложные идеи».
— Как идея может быть ложной? Идеи делаются САМИМ, ну и богом Саваофом. Верно, в промежутке между ними — Иисусом Христом. Теперь, для Самии, еще священным автократом Болт Бух Греем. Идея герметизма, идея разгерметизации — никто мудрей ни разу не выдвинул. Вы с Курнопаем, Фэйхоа, произвели разгерметизацию политики на три «Б». Достигнут результат! Родилась новая политика. Сейчас надо из всех сил заниматься герметизацией жизни страны. Крамольный был ваш Бэкон. Как же он занимал такую должность?
— Ба, бывают люди, а бывают лжелюди. Так и с идеями.
— Предположим, поверю. Говори скорей дальше, внучка.
— Ложные идеи он еще называл «призраками» или «идолами».
— Зачем? Хватит ложных идей. Материалист, а неэкономный.
— Слушайте, бабушка Лемуриха. Итак, призраки: «призраки рода»…
— Пунктуально.
— «Призраки рода» — один, «призраки пещеры» — два…
— Пещеры? Становится завлекательно.
— «Призраки рынка» — три…
— Рынка?! Раскрой быстрей.
— Это вид распространенных мнений, которые не подвергаются критике, будучи ложными…
— Где рынок?
— Рынок мнений, оценок, представлений существует, как и рынок фруктов, машин, акций.
— Верно, критиковать надо. Без критики никуда. Верно, надо знать, когда и кого критиковать, чтобы не полететь вверх тормашками.
— И четвертый вид ложных идей: «призраки театра».
— Театра? Здесь догадалась. Последние годы я не отличала жизнь от театра, театр от жизни. Может, это и правильно. Занятно получается существовать.
— К чему, бабушка Лемуриха, я говорила? Ваша мысль, что истинная жизнь и радость только тогда у человека, когда он стоит у кормила власти, извлекая при этом наслаждения из обеспеченности и из самой возможности вершить власть, ваша мысль относится, на мой взгляд, к призракам рынка. Много зависит от призвания к какому-то роду труда или деятельности. Существует и разное отношение к пользованию властью. Кто достигает ее, чтобы сделать ее источником своих наслаждений, а кто для того, чтобы служить чаяниям народа, человечества.
— И то и другое — завлекательные вещи!
— Я не закончила, госпожа генерал-капрал. Вот что думал о власти лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон.
— Говори. Поверю.
— «Не странно ль стремиться к власти ценою свободы или к власти над людьми ценою власти над собой». Чуть раньше он предварил свою мысль строгим пояснением: «Высокая должность делает человека слугой трех господ: государя и государства, слугой людской молвы и слугой своего дела…» Понимаете, добрая бабушка, у Бэкона господство оборачивается рабством.
— Оборачивается. И зря. Слишком честный он тюха. Иначе как же? Ульи полны медом, и пасечник принимается качать мед. Ваш Бэкон был пасечник, какой оставлял мед в улье.
— Просто у вас полярные взгляды. У вас власть — свобода свобод, во всем и вся, прежде всего, средство для потребления личных наслаждений, персональное удовольствие от зависимости вам людей подчиненных; у Бэкона власть — потеря личной воли перед лицом государства или государя, рабство собственного служения делу ради блага других.
— Он притворялся. Ты рабство испытала, когда советницей и духовницей была при Болт Бух Грее?
— Бэкон был избран палатой лордов. Король издал указ о его назначении лордом-канцлером. Меня никто не избирал, никто не назначал, оклад не устанавливал, кабинета не было, режим дня свободный. Своего рода почетная, по существу, приживальческая жизнь.
— Деньги-то на расходы, на ту же косметику, выдавали?
— Нет.
— Как без денег-то? Я с Курнопой возилась — мне Ковылко с Каской ежемесячно платили. Не поверю.
— В питомнике гарема на каждую воспитанницу было определенное содержание. Меня выпустили ведь из питомника и назначили новое содержание. Да его отменила революция сержантов.
— Жить на всем готовом — мечта! Тебе обеспеченность устроили, да ты не дорожишь. И оболтус твой. Я бабушка ему, я своей грудью выкормила его отца и мать… Я вам заявлю напрямик: сколь ни вешайте мне на уши лапшу або спагетти, бесполезно. Я с почтением к лорду-канцлеру. Но ему далеко до покойного Главного Правителя. Кое-чему, верно, Главный Правитель поучился бы у него. Болт Бух Грей их обоих повыше и все ж ки, глядишь, взял бы Бэкона к себе в консультанты… К чему я все это? Ученость хороша для тех, кому САМ и бог Саваоф ума не дали. У меня природный ум, и сроду он не сбивался на ложные идеи с призраками. Я почитаю идеи во плоти. Призраков отгоняю молитвой, понадобится — пулей. Так что лапшу не надо вешать. Теперь спрошу напрямки: коли на верху вам счастье не в счастье, откройте бабушке Лемурихе, чем собираетесь обеспечивать семейный бюджет?
— Без дела не станем сидеть, — сказал Курнопай. — Была бы шея, хомут найдется.
— Ферму, что ль, купите?
— Не возражал бы, да не на что.
— У Фэйхоа драгоценности. Главправ дарил.
— По смете питомника была положена одна бижутерия. Крупные драгоценности от себя Главправ дарил только наложницам.
— О твоем целомудрии легенды в народе складывают. На поверку, ежели что, твое целомудрие обернется нищетой. Убыло б у тебя?.. Я б… Эх, мужчина был! На приемы когда в его царствование приглашали, ни разу не забыли, так я с крыльями чувствовала себя. Пожелай он при всех от меня какое хошь желание, невзирая на самый позорный позор, исполнила бы. Не знаете вовсе, чем займетесь для прокорма, но гордыню выламываете из себя. Я-то вот не буду гордыню выламывать! Паду в ноги священному автократу, чтобы пожаловал вас державными должностями.
Курнопай и Фэйхоа грустно переглянулись. Не переубедить бабушку Лемуриху. Закоренелые убеждения неистребимы. Но и правота была за ней, бытейская, кровная. Чужой человек не озаботился бы внезапной немилостью к ним Болт Бух Грея. Не без растерянности стояли они перед необходимостью зарабатывать себе на жизнь.
Утром, едва Курнопай откинул полог пещеры, он сразу почувствовал, что много людей побывало в бухте, да и сейчас кое-кто есть, но не обнаруживает своего присутствия. Нет, внешних изменений не произошло. Нет, он не уловил четко чужие запахи, и все-таки в сыром, уже чуть теплом воздухе держался привкус чего-то постороннего. Ему вдруг помнилось, что в пространстве бухты остались и невидимо, как нежаркое марево, струятся над твердью обрывки биомагнитных протуберанцев, сорванных с обнаженных человеческих тел порывистым ветром предрассветья. Догадался, что прибыл Болт Бух Грей, а так как настроение было хорошее, дурашливо хорошее, крикнул, разминая торс:
— Священного автократа, он же державный правитель, он же потомок САМОГО, он же верховный жрец и так далее, и тому подобное, приветствует генерал-капитан Курнопай, находящийся при исполнении детородного задания.
Бухта сначала ясно повторила крик Курнопая, потом коверкала, дробила, перетирала, сохраняя веселую его легковесность. Он насторожился, когда над базальтовым кубом, который был вроде бы совсем не занят, заметил шевеление. На глыбе спиной к пещере лежал помощник Болт Бух Грея. Во время встречи в санатории Курнопай воспринял помощника как сановника-демократа. Так и решил его называть для внутреннего употребления.
Сановник-Демократ, по первому впечатлению Курнопая, был в черном, слегка бликующем, как базальт, комбинезоне, но стоило ему оторвать туловище от поверхности камня, тотчас верхняя часть комбинезона восприняла цвет неба — поголубела. Однажды вездесущий провиантмейстер сказал, что от продажи хамельонки другим странам Самия будет богатеть, как Япония на транзисторных приемниках, видеомагнитофонах, телевизорах, музыкальных системах, а Кувейт на нефти. Если о Китае, закрепил он предсказание, говорят как о создателе пороха, об Америке — изобретательнице пулемета «максим», о Шотландии — родине верхней одежды «макинтош», то Самию назовут создательницей «хамельонки». Кто-то из командпреподавателей, осмелевших от брэнди, сострил: «А нам дадут прозвище хамельонцы».
Вальяжным шагом идя к пещере, помощник ядовито обронил:
— Священный автократ потому и священный, что потешаться над ним непозволительно.
— Полноте, господин помощник, я радуюсь явлению нашего вождя.
— Вы не могли знать о прибытии Болт Бух Грея.
— Телепатия.
— Потешались дважды над священным автократом. «Я радуюсь явлению нашего вождя», — не пренебрежение ли? Было явление Христа. Историческим преимуществом Христа вы унижаете величье сегодняшней богоподобной личности. По закону «За оскорбление священной особы автократа» вас осудят к пожизненной каторге на урановых рудниках.
— До меня не доводили такой закон.
— До него не доводили, он не ведает, он не слыхал… Да кто есмь он, дабы до него доводили?
— Закон, Сановник-Демократ, наверно, принят вот только?
— У меня звание державного генерал-полковника. Обращаться нужно так: «Господин державный генерал-полковник».
— Так точно, господин державный генерал-полковник.
— Не тянитесь, Курнопай. Вы, во-первых, в отпуске, во-вторых, в гражданских плавках. Что струхнули, бывший головорез номер один?
— На меня не больно-то наведешь ужасть, весьма недавний старший сержант дворцовой охраны при Главправе Черном Лебеде.
— Он ущемился, он подначил, он напомнил сержантику, что тот в результате клятвоотступничества схватил один из высших армейских чинов…
— Еще миг, и все мы будем бывшими, как бы ни оберегали силой хитрости свое иллюзорное величье.
— Не взвивайтесь, Курнопа. В мою задачу входило дать вам понять со всей серьезностью, что больше вы не сможете вести себя запанибрата с нашим повелителем Болт Бух Греем. Он ущемился, он кощунствовал… Га, но закон-то принят. Причем есть разъяснение к нему. Караются длительными работами все те, кто нанесет оскорбление величью близких к Болт Бух Грею лиц. Это второе строгое предупреждение. Третье предупреждение: закон распространяется и на прелестную Фэйхоа. Буде, х-хых, она в чем-либо откажет Болт Бух Грею или его соратникам, ее осудят по вышеупомянутому закону. Прими к сведению.
— Принято.
— На него не наведешь ужасть? Он — рыцарь без страха и сомнения? Закон не учитывает личных свойств субъекта. Всех, героев и негероев, он берет за шкирку и отправляет на каторгу. Да, буди жену. Ни завтрака, ни зарядки. Напяливайте гидрокостюмы — и под воду. Священный автократ ожидает вас в гостевом коттедже.
Унимавшая тревогу, чтобы не пробивалась во взгляде, Фэйхоа забрасывала за ухо воображаемую прядь. Прежде чем войти в воду, она провела пальцем по «молнии» гидрокостюма, будто бы «молния», сделанная с гарантией на три года, могла где-нибудь разгерметизироваться и обнаружиться на ощупь. Фэйхоа медлила, полагая, что помощник, с которым она поддерживала союзные отношения («Я не возражаю против твоего авторитета у Болт Бух Грея, но и ты старайся не повредить моему авторитету у властелина»), намекнет ей на то, как настроен священный автократ и как с ним держаться теперь, однако он и слова не произнес, да еще изобразил физиономией, удлиненной пушистыми висами, брюзгливую неосведомленность. Тут Курнопай поторопил Фэйхоа, и они вошли в океан.
По мере спуска к гостевому коттеджу, Курнопай отмечал, что обитатели коралловых лесов куда-то исчезли. Неужели поразогнали, а частью повыбивали их телохранители Болт Бух Грея? Телохранителей они пока не обнаружили. Похоже, что «хамельонка» прославит Самию на века. Ведь не может не быть под водой телохранителей, просто они с Фэйхоа их не замечают. Он прекратил погружение, приглядывался к лагунному пейзажу; скоро среди Венериных опахал выглядел аквалангиста, ласты которого, костюм, баллоны для сжатого воздуха и шапочка, не будучи зеркальными, отражали кружевной узор кораллов и фиолетово-розовый цвет. Маскираторы не только оклеили «хамельонкой» костюм и снаряжение, что и создавало условие необнаруженности, но и поставили под клапаном, выбрасывавшим пузырьки использованного воздуха, электромоторчик, лопасти которого расшибали эти пузырьки. Фэйхоа, когда Курнопай обратил ее внимание на телохранителя, так и не рассмотрела его. Курнопай продолжал открывать новых затаившихся аквалангистов. Обычное свойство: стоит что-то разок суметь, навострился.
Ай да Сановник-Демократ! Манерой говорить повлиял на Курнопая, до ненависти чуждого подражанию. Поднялись по лесенке из нержавейки в гостевой домик, здесь Курнопай при взгляде на Болт Бух Грея и подумал: «У него есть все, и он же в печали?» Чертыхнулся про себя и едва по форме хотел доложить о прибытии, Болт Бух Грей отметающе махнул рукой, но оставил ее в протянутом положении. Курнопай недоумевал: то ли притронуться к руке священного автократа, то ли припасть.
Фэйхоа — у нее до сих пор был понурый вид — торопливо ткнулась на колено и припала щекой к ладони Болт Бух Грея. Властитель, сидевший в кресле, уткнувшись подбородком в ключицу, с улыбкой повернул к ним лицо. Сбритые «рога», короткая стрижка, солдатские из хлопка трусы до колен и рубаха с завязками под шеей делали его похожим на новобранца. Распространяя улыбку с губ на все лицо, тем не менее он нашел на нем площадку для дружелюбивого укора.
— Тюха, никакой реактивности на догадку. Другой бы трижды успел приложиться к ручке священного автократа. Говори спасибо Фэйхоа.
Фэйхоа встала, и Болт Бух Грей взмотнул кистью, дескать, прикладывайся. Уязвленность, вызванная поведением помощника, покамест держалась в сердце Курнопая, и он, соображая, что впадает в непозволительную месть, все же заупрямился.
— Воинским уставом… Вы же не император.
— Исполняй, Курнопа, — сказал ему Болт Бух Грей, словно из-за неисполнительности Курнопая к нему вернулась болезнь и привела его в состояние мучительного изнеможения.
Фэйхоа как бы ненароком задела Курнопая, вставши с коленки.
— Ни в чьих армиях, ни на одном континенте не было этих самых припаданий.
— Опять… — полный разрушительной беспомощности промолвил Болт Бух Грей.
— Должны же быть пределы самовластию.
— Самовластие предполагает репрессии. Я не казнил отступников, изменивших воинскому и державному долгу.
— Господин священный автократ, он у меня попереха. Позвольте, я и за него приложусь.
— Ага, ага, прозорливая женщина.
После того как Фэйхоа приложилась к руке Болт Бух Грея, он неожиданно оживился:
— У нас дома употребляли это народное словцо. Впрочем, что я? В крестьянской семье язык народный, и только народный. По ассоциации… Садись, прелестная Фэйхоа. И ты, попереха, садись. По ассоциации вспомнил престранный случай. Почему престранный? Не могу отделить действительное от ирреального, как не могу разломить себя для Курнопая на военного, сексрелигиозного и светского руководителя. Фэйхоа знает расположение моего жилого апартамента во дворце. Дабы быть откровенным, скажу: у меня имеется дубль-апартамент. Никто из охраны не подозревает, в каком я ночую. Рядом апартаменты, решите? Отнюдь. Осудите за недоверие к охране? Охране я не доверяю из-за недоверия к людям. Верю и верую в электронику и только в электронику.
«Мне бы ты мог доверять, потому что у меня не было видов на тебя и нет желания властвовать», — подумала Фэйхоа.
«Наверно, я возбудил его неверие. Командпреподаватели постоянно огорчались личной небдительностью Болт Бух Грея», — подумал Курнопай.
— С двумя людьми я могу позволить себе пооткровенничать. Кто бы это? Не догадываетесь. Ага, ага! С вами двумя. Откровенность и доверие — сиамские близнецы. Они едины, но они вместе с тем каждый по себе. Представьте, сиамские близнецы были женаты. Электронике, и только электронике доверяю. Хотел описать для Курнопая апартамент. Зачем? По ассоциации. С моей спальней рядом коридор, ведущий на кухню. Я проснулся от сухости во рту. Полная луна. Сквозь жалюзи ни лучика. Дверь из спальни в коридор открыл — полная темнота. Я в халате, в шлепанцах, ноги голые. Как перешагнул порог, он и закрутил хвост вокруг моей правой ноги. Ирреально? Отнюдь. Пушистый-препушистый хвост, касание легкое, кольцевое, с потягом. Реальность? Натуральная, как то, что мы под океаном. Ни хвоста, ни его самого не видел. Глазами не видел. В момент, когда он раскрутил хвост и кончиком проволок по лодыжке с призывным намеком, дабы следовал за ним, я увидел его внутренним зрением. Не увидел, чушь. Во внутреннем зрении он возник. Образ сумеречной беловатости, не рельефом, плоскостью, но эдак мягко, пухово. Похож на кота. Почему я сказал «по ассоциации»? Мальчишкой проснусь сбегать по маленькому, только спрыгну с кровати на половики, кот уж ждет. И хоп тебя хвостом по ноге, замурчал и на кухню пытается вести. Ты перебираешь ногами, дабы не описаться, коту — мчись с ним на кухню. При родителях не больно-то ему перепадало. Ночью ты ему хлоп кусок мяса либо рыбину. Потом можно спереть на кота: мол, стянул. В первый миг лишь образ, подобный коту, обозначился во внутреннем зрении, я прикинул: «Кот, что ли?» Без промедления отбросил самое возможность подобного вопроса: «Домовой». Включил свет. Никого. В туалет вошел. Стою в туалете, по спине подирает, и волосы дыбом. Ничего похожего не было в детстве. Мать поминала о домовом. Обнаружит на теле синяк — домовой ущипнул, чем-то раздражен. Дабы умилостивить хозяина, в подпечку сунет лепешку, черепок с молоком, овечью шерсть. Я спокойно относился к понятию «домовой». Есть и есть, но пока по части родителей. И вообще к детям он почему-то не имеет отношения. Не совру, если скажу, священники меня находили примерным христианином. К кому истово относился, так это к САМОМУ. Тогда как не ведал еще, что отношусь к ЕГО потомкам. До поступления в Школу Дворцовых Сержантов я понятия не имел об атеизме. Зато там, вопреки официальной приверженности к религии, окунулся в стихию бешеного атеизма, где ни с богами, ни с пророками не высовывайся, иначе изничтожат. Про домового заикнуться? Утопят в ватерклозете. Сшибли меня наповал в смысле бога и сверхъестественных сил. Что я думаю? Детское впечатление с котом, зазывавшим на кухню, могло повториться, как тоска по уюту прошлого. Жизнь небесная в детстве. Все о тебе пекутся, оберегают. Имеется тоска по родине, по минувшему. Тоска по минувшему — громаднейшее чувство! Она принимает, согласно моему случаю, осязаемую форму. Что ты скажешь, Фэй?
— Мой господин священный автократ, с точки зрения материализма вы правильно истолковали свое происшествие с домовым. Женская любознательность заставила мое воображение пройти вместе с вами и с домовым на кухню.
— Ага, ага. Согласен. Каюсь. Надо было пройти с ним на кухню. Умилостивил бы.
— Не веря людям, вы поверили женщине, священный автократ?
— Согласие испытал. По сю пору ощущаю прикосновение хвоста. Прикосновение доброжелательное, некиим образом родственное. Ужас-то почему? В детстве ничего похожего.
— Не верилось, ан нате вам…
— Именно. Фэй, при чем то, что я женщине поверил?
— Наша сестра склонна к религиозности, к мистике, ни шагу не ступит без суеверия.
— Вероломство, нечуткость, безумие в природе мужчины, отсюда доверие к женщине. Не говорю я уже о том, что ты есть ты. Ностальгия по детству в тихой крестьянской семье, либо домовой держдворца захотел, дабы первый индивидуум Самии выразил ему уважение, заодно и умаслил? Как к этому, Курнопай?
— Гадать не стану, кто нанес вам визит, детство ли, домовой?
— Ых, заядлый урбанист. Домовой — дух дворца, незримый хозяин.
Пока разговаривали, поблизости от коттеджа тянулся косяк кефали.
Невольно прервались, когда толстяки-дельфины, полные детской резвости, кормившиеся кефалью, стали откусывать одни хвостовые плавники у рыбин, заключавших косяк. Мужчин удивляли дельфины, потому что явно лакомились тем, в чем нет ни мяса, ни вкуса.
Подосадовала Фэйхоа внезапно на преувеличение человека как мерила восприятия. Дельфины лакомки на свой манер.
— Ты что, Корица, мигрировала вместе с косяками?
— Нет.
— Видеть надо. Чего ж ты?!
Ухмылка Болт Бух Грея — отзыв на его вопрос — задела Курнопая, и он, чтобы после не проклинать себя за то, что стерпел унижение, прижегся взглядом к зрачкам священного автократа, и тот не вспылил, тогда бы наверняка подпал Курнопай под действие лютого закона, тем более что был предупрежден об этом Сановником-Демократом, не только не вспылил, напротив, состраданием размягчилось его лицо. Умен вроде, да тонкости не достает. Живописцы изображают сатану, чертей, духов, он не говорит уже о богах и ангелах. Так неужели, оценивая их фрески, нужно требовать свидетельства, что они лично их видели. Тронутый терпимостью Болт Бух Грея, Курнопай попробовал найти смягчительное, как подушка для удара, слово.
— Предполагается.
Пошутил благодушным тоном Болт Бух Грей.
— Предполагается, если кто-то кается…
Не стала Фэйхоа применяться к оберегающей невозмутимости властителя, зато деликатно повела мысль об изумительной способности художников запечатлевать обычные вещи. Так что они воспринимаются как чудо. Они, нет сомнения, помнят «Мадонну Литту» Леонардо да Винчи?
Священный автократ воодушевился, как студент-всезнайка:
— Мадонна держит младенца. Она в профиль к зрителю. Два итальянских окна, типичных для эпохи Возрождения. За окнами в синеве пейзаж с горами.
— Каким образом мадонна держит младенца?
— Ладонями. Ладонь под попой, ладонь под спиной.
— Поверх пальцев мадонны и между ее ладонями и тельцем младенца что-нибудь заметили?
— Что можно было заметить? Э… Держит трогательно.
— На руках мадонны Литты золотая сетка, из-за чего поверхность ее ладоней не прикасается к младенцу. Когда впервые я заметила, каким образом она держит младенца, догадалась о неведомом никому, кроме Леонадро да Винчи, прозрении в мир материнства. Для мадонны Литты ее младенец настолько чистое создание, что она не смеет притрагиваться к нему голыми руками, а только золотой сеткой.
— Тонкостью своих наблюдений вы всегда меня потрясаете, безответно любимая Фэйхоа. Для Курнопая вы посвятительница, для меня просветительница. Выражаю вам признательность душевную. О, вы кое о чем не подозреваете. В ваше отсутствие я установил Праздник Карнавалов. Революции обеспечивают народ хлебом и трудом, но они, как правило, напрочь забывают о третьем требовании восставших — о зрелищах. Я осуществлю требование зрелищ, не помышляя о прибылях. Настоящая революция, согласно моей теории революций, не преследует целей государственной наживы. Богатство общественное суть не тождественно наживе государства. Я установил Праздник Карнавалов о пять дней, с шиком провел. Готовились к нему все от мала до велика. Общий вклад. Так готовятся отразить нашествие злейших врагов. Веселость, энтузиазм массовый к артистической выдумке не должны были остывать. Я направлял празднество. Доволен преособенно цыганами. Не отнимешь у цыган природного артистизма. И не надо отнимать. Надо поставить их артистизм на службу державе и народу. Я не к этому. Я к тому, что на пять дней смешался с народом, был с ним в обнимку и наповал! Встреча с цыганкой. Карга. Где коренные зубы, там золото, потом прогалы, и два уцелевших, ее собственных резца, несколько вперед торчат. Вздумалось погадать у нее. Не то чтоб верю, и не то чтоб не верю. Исходил из идеи, что древним народам дано особое предназначение: сицилийцам — промышлять на хищничестве сверхотпетых хищников, французам — одаривать свежими школами живопись и философию, русским — возбуждать освободительные движения, неграм — завихривать музыкальными ритмами человечество, дабы оно до потрохов ощущало животность, индийцам — подавать пример терпимости и ненасилия, евреям — прогнозировать судьбы мира, ну, а цыганам — культивировать магию проникновения в отдельно взятую человеческую судьбу на все три временных субстанции. Опровергать опыт такой длительности можно только по невежеству, хотя, разумеется, существует опыт земных ошибок в тысячелетиях, к примеру, разрешение всех и всяческих конфликтов силой оружия. Карга выдала мне судьбу во всех трех субстанциях Времени. Я растоптал бы свое сердце, если бы не набрался воли на откровенность исключительно доверительного рода. Я не переоцениваю, Фэй, твоих оккультных познаний, но я не однажды убеждался в твоей мудрости пифии, отсюда надежда, что ты выскажешься по поводу гадания цыганки без тени лукавства, не пробуя обложить мою душу пухом. Лжебережливости не признаю. Что карга сказала, когда узнала, что я родился четырнадцатого ноября? «Человек входит на этот свет через тридцать шесть ворот. Мы, цыгане, так считаем. Ты родился под зодиакальным знаком Скорпиона. Ты вошел в третьи ворота Скорпиона. Родители были рады твоему рождению. Кто не возрадуется, ответь, когда мордашка сынка улыбается папе и маме, птичке, цветочку. Красный волк в лунную ночь встал лапами на окно, ты и ему улыбнулся. Обманывать не стану. Подтверждаешь! Твой отец сердился на твою улыбку мужчинам. Не совсем приветливо ты улыбался. Женщинам улыбался, и руки протягивал, и смеялся. Отец говорил: «Он смеется, как бубенчики на цыганском бубне, когда к нам заходит бабье». Добрый крестьянин берет хороший урожай с полей, с табунов, с деревьев, с ульев, с буйволицы, благоверной жены, позже с детей, понятно, иносказательно. Не соблазн, не сладострастие крестьянин снимает с лона жены — урожай детворы. Правильно говорю. Цыганки смотрят в колодец правды. Прилежно ты учился. Ладил с мальчишками. Располагал к дружбе. Скрывал от мальчишек свои встречи. Трудно научиться таинственно жить. Цыгане научились. Ты научился. От девчонок. Женщина девчонкой осторожней гиены, хитрей лисы. Уклад и нрав крестьян строги. Опричь души строгость тебе была. Тебе нужно было много девчонок. Встречайся с одной, втайне. Попадешься на глаза ее родителей вместе с ней — высекут на площади. Ты вырвался в город. Месть и цель — путь к свободе. Подростки опасный народец. Слишком опасны подростки военных школ. Птенец-стервятник. Крылья пока не отросли, сила не накопилась. Здесь и одной девчонки у тебя не было. Тебя бесило затворничество. Ты нашептывал приятелям: «Военная школа — не монастырь. Преступники, кто упек нас за колючую проволоку: к девчонкам нет доступа. Мужская основа уродуется. Месть за порчу. Да здравствует половая свобода!» Э, сердишься. По-другому говорилось, правде не в ущерб. То осталось за горами. Ты спустился в долину изобилия. Ты изощрился в ловкости командовать. Легко вкрадываешься в доверие. Красноречие помогает соблазнять. Не без помощи обмана. От своих ошибок ты страдаешь, как святой. У тебя способности иллюзиониста. Ум и обман зрения используешь для извращения ума и для искажения зрения. Ты ценишь искренние чувства, но не подозреваешь, что принимаешь чужую неискренность за искренность, как они твою искренность за неискренность. Ты путаешься, пугаешься, временами сам не отличаешь, когда ты искренний, когда нет. Тебя поглощает самоудовлетворение. Высказываешься о беде — лицо самодовольно. За самодовольством забываешь, довольны ли партнеры и партнерши по делам и страстям. Тебе примстилось — в трудах и сладострастии у тебя большой успех. Постой, ловкий сладострастник! Обманчив успех, ибо в нем опасность, точно в яйце императорской кобры. Зачем тебе, красавец, спасать врагов, предавать гонениям сподвижников? Таково гадание цыганки. Детство? Чумел слушая. Знание сверхъестественное. В результате дилемма: присягнуть суеверию либо покончить с собой. Выдерживать невыносимо чье-то знание о тебе и о том в тебе, в чем ты не смел себе признаться. Чушь имеется. Я не сладострастник. Почитатель женский. Почитаю прежде всего материнство. Причинная связь между моей жаждой отцовства и желанием улучшения генофонда страны установилась не от меня туда, оттуда ко мне. Самоудовлетворение? Дабы удовлетворить кого-то сполна, взахлест, невозможно без бешеного стремления к самоудовлетворению. Это и есть страсть. На страсть — ответное буйство, на вялость — анемичность. Третьего не дано. Вот паду жертвой добротолюбия и всепрощения, так будут плакать навзрыд миллионы женщин, девушек, девчонок. В настоящий момент мне пришло на ум, что при гадании нам мы сами же с помощью чувств и по эмоциональности рассудка ткем иллюзию справедливости гадания.
Фэйхоа все еще не уяснила, зачем сюда явился Болт Бух Грей, и продолжала тревожиться о том, кем и где они скоро будут в Самии, вдумываясь в то, о чем рассказывал он, и не находила безопасных ответов. Не было у нее убеждения, что все это — и про домового, и о гадалке — не выдумка. Проверить их с Курнопаем отношение к себе лоб в лоб. Здесь скрыт обезоруживающий ход. Не спрячешься, как на очной ставке, за уклончивостью, даже если попробуешь мило отшутиться — не достигнешь ничего, кроме опалы. Развенчивание гадания, неожиданно проделанное им, подействовало на Фэйхоа обнадеживающе весело: он и домового сведет к творению воображения. Мгновение спустя ей прибрезжился в этом подвох. Усыпляет сознание, тем более что на самом деле глубинное давление утяжеляет мысль.
— Чем плохо положение предержащей особы? Наводишь себя на ответы комфортные, расфешенебельные! Гадание-то я свел к чему? Хоп — головню в воду — и только паром пыхнуло, а жглась, горела. Ну, Фэй, кудесница, выручай.
Отчаивалась — и вдруг осенило.
— Ответ отыщется через возврат к религиям.
— Державная религия в действии.
— Верните страну к религиям духа.
— Христианство изживает себя войнами между вероисповеданиями, сектами. В странах классического христианства оно для проформы: Испания — храмы пустоваты, Франция — тоже, в Польше разве что католицизм в зените. Между исламитами войны.
— Религией духа вы сможете выверить и домового, и гадание.
— Новую религию народ не отринул. Благодарю, Фэй. Теперь Курнопай.
— Я, наверно, скажу крамолу: САМ — явление духа. Так, священный автократ?
— Вне всяких сомнений.
— А жизнь в стране самая что ни на есть бездуховная.
Болт Бух Грей аж взвился с места, и пальцы его правой руки расщелкнули кобуру термонагана. Однако он быстро сел, возмущаясь тем, что даже в пору любви, когда и для мужчины нет счастья выше чем чувство, Курнопай не дорожит судьбой и что тут не крамола, тут такое смывание державы, после чего, как после цунами, голая нежить.
Догадываться о том, что ум и сердце Болт Бух Грея, укрепившего свою власть, очутились в зоне, недосягаемой для другого ума и сердца, и все-таки надеяться на справедливое понимание, не внутренняя ли это слепота? Неужели устранение опасности не очистительно для натуры, которую чуть не погубила бесконтрольная самоуверенность? Ну, пусть получит хотя бы за то, что слушает только себя.
— Какой там дух, какие там религии, если они подменены заботой о производстве продукции, о сверхдоходах и капиталах, о наслажденчестве для элиты, о вознаграждении народа существованием, где скудость преподносится как роскошь, а насильственная жертвенность как долг.
— Непрезентабельно. И вы к невежеству карги присоединились, сэр Курнопай. Тогда как ваша просвещенная жена владеет действительным представлением о моем правлении. Кстати, ее взгляд на высшую власть как на рабство точен. Вульгарный экономизм вкупе с экстремистским критицизмом привел вас к тому, что вы не у дел. Ради Фэйхоа не порываю с вами. Фэй, вам признателен. Приложитесь. Вы, Курнопай, нет. Уплывайте сейчас же. Возвратитесь в столицу, когда Фэйхоа понесет.
Как прибыл, так и удалился Болт Бух Грей конспиративно. Встречу с ним Фэйхоа и Курнопай не обсуждали. Курнопаю думалось, что он чем-то прогневил САМОГО, чему Болт Бух Грей во время приема у НЕГО, вероятно, поддакнул да и оплел его намеками, подавая события, едва не обернувшиеся для страны гражданской войной, как результат его сопротивления антисониновой политике, сексрелигиозному посвятительству и воинскому долгу.
Курнопай было подумал оправдать себя перед САМИМ («Не без ТВОЕГО ведома действовал, а ТЫ вовремя меня не одернул»), но по-обычному начал медлить и рассудил, что слишком запанибрата проламывался к НЕМУ с личным, а ведь ОН — инстанция для общего. Теперь же, когда Самия совершила переворот, тем более кощунственно было бы лезть к НЕМУ со своим. Опрокудиться можно, если вдруг ОН спросит его мнение о Болт Бух Грее. Какие слова он скажет? Одобрительные? Пожалуй, хотя и через силу. А в чувствах-то что? Неприемлемость. На подкорку не сошлешься: так-де в ней определяется. И выйдешь перед ЕГО лицом не только завистливым интуитивистом, но и злопыхателем без программы. Не скажешь ЕМУ, что справедливость — моя программа. Тут ОН и врежет тебе: «Все прокламируют справедливость, но при удобном случае сползают к произволу». На это, положим, он смог бы возразить: «Бэ Бэ Гэ правитель, у которого общее вторично, а личное первично…» ОН и здесь срежет его: «Общее осуществляет себя через личное».
Фэйхоа не могла не помалкивать потому, что за Курнопаем была правота невознагражденного человека, отправленного в красивую ссылку. Вполне вероятно, Фэйхоа стала бы подводить итог их встрече с Болт Бух Греем, если бы не боялась вылепить Курнопаю, что нельзя пускаться в откровенность с правителем, которому под любым соусом не терпится вымогать у собеседника хвалу, пусть она даже лукава. Осторожничая не ради себя — чтоб уберечь Курнопая от разочарования — оно вконец подорвало бы его, — она все охотней склонялась не без отрады к перемене судьбы. В питомнике гарема, в Сержантитете и среди его обслуги низовая жизнь представлялась мелкой, отмеченной бледной немочью тела и бескультурьем, чуть ли не крушением желаний. Она соглашалась, распространяя это на существование бессонных роботов, какое испытала самолично. Однако, судя по воспоминаниям Каски с товарками о семейном укладе в досержантскую эпоху, у них в супружестве было достаточно любви, возможностей для удовольствий и развития. Проникновенные запечатлелись ей разговоры о материнстве, которые вели женщины в минуты просветов перед очередным уколом антисонина, отчего в ее сердце копилось неприемлемое впечатление, будто источником всезаменяющего, для кого-то небесного счастья являлись для них не мужчины, а дети. Некоторые штамповщицы, когда замечали удивление в глазах Фэйхоа, уверяли ее в том, что удовольствие от детей и сравнивать-то ни с какой другой усладой нельзя. От мужиков, от молитвенных торжеств в соборе, от праздников, от кино, от лакомств — наслаждения пролетные: скользнули, и нету. От детей удовольствие аж ни на часик не прекращается, уснешь, намаявшись за день, и во сне-то в душе словно ангельское пение. Лишь теперь начинала преодолевать Фэйхоа влияние этиков, историков, сексологов, еженедельно навещавших с учебными целями воспитанниц питомника. Они внушали им, что в основе всемирных человеческих отношений, как локально-частных, так общественно-социальных, лежит фрейдистская психоструктура. Она всеосновна, всеценна, всеохватна. Ни в чем и ни в ком нет причинности, не зависящей от сексуального чувства. Вершиной сексуального самозабвения в немыслящей среде считалось совокупление богомолов. Самец знал, что после доставленных им самке удовольствий она съест его, и тем не менее не уклонялся от полового рвения, и это, кстати, не мешало ему испытывать равноподобные с нею удовольствия. Самка знала, что, закусив самцом, лишит себя грядущих страстей, и все-таки всласть пожирала самца, мужской знак которого продолжал находиться в глубине ее женского знака.
Сексуальным самозабвением для людей, в особенности для женщин, наставники считали время, когда люди, в особенности женщины, выходили сферой оргазмов за пределы восприятия себя как нравственных существ, без чего недостижимы взлеты на пик телесной свободы и рафинированного наслаждения. Сейчас, желая понести, Фэйхоа лелеяла в своих чувствах не то, что будет испытывать в пору близости с милым Курнопаем, а то, чтобы совершилось зачатье. Через то, что открылось Фэйхоа от женщин на заводе, и, самое главное, через невольную определенность самовосприятия, у нее складывался вывод, что фрейдистской психоструктурой сексуальности с ее вымышленной всеосновностью, всеценностью, всеохватностью подменили первопричину и первоцель отношений мужчина — женщина, установленных Природой ли, Богом ли не для исторжения безбрежных наслаждений — ради продолжения рода человеческого. Как ловко под культом секса — внелюбовен он, конечно, — спрятали продолжение рода и родительских чувств. А вот для чего? Не только же для наслажденчества, доводимого до размывания человеческого «я», где личностное теряет свои признаки, деградируя до аморфной плотской стадности? Тут, по всей вероятности, подмена многомерного смысла жизни одной из ее чувственных ценностей. Но опять же для чего? Неужели для того, чтобы человек и человеческое самообесценивались в собственном мнении, теряющем этику разума? Такого человека и такое человечество проще простого вести и приводить туда, куда заблагорассудится? Неужели существование людей, начавшееся для жизни ради жизни, то есть без измышленных в процессе исторического развития целей, подводится (кем? людьми ли только?) к циклу, единому с изначальным циклом: к бесцельности, которая оканчивается ничем, чтобы слиться с галактическим ничто?
Бабушка Лемуриха запаниковала бы, если бы они не скрыли от нее то, как закончилось погружение к священному автократу. Курнопай, едва она забеспокоилась, заподозрив что-то неладное, сказал ей, что внук не изменил себе и не уронил ее достоинства, но что это имеет значение лишь для него с нею и для Фэйхоа, ибо Болт Бух Грей был заслонен от чьего бы то ни было поведения мистическим ужасом из-за обнаруженного им домового, а также проблемой Бога, не замененного, оказывается, САМИМ и не ликвидированного революцией сержантов.
Бабушка Лемуриха рассвирепела. Все чаще Курнопай впадает в отцово настырничание, не щадящее Бога, и что пора ему, женатому человеку, облагоразумиться и по части веры, и по части уважения к САМОМУ, Болт Бух Грею, руководителям, удерживающимся подле него, — намек на Сановника-Демократа… С тех пор как он ее помнил, бабушка Лемуриха только и знала предостерегать его от опасных промашек, и он подтрунил над ней.
— Ладно, перекину лиану к кочке на болоте Сановника-Демократа и заодно наведу мостик с барменом Хоккейной Клюшкой, ведь он для тебя, почитай, символ гиганта Главправа.
Бабушка Лемуриха вскрикнула, будто бы внук подбросил ей под ноги кораллового аспида, укус которого смертелен. Издевательства над святым покойником она не потерпит даже от него. Да, он был деспотом, да, его сместили, однако все обратно идет за ним и от него. И бармена чтоб затрагивал, не потерпит. Главправ подпирался им, священный автократ подпирается, посколь у Клюшки свои кинофирмы, ипподромы, игорные дома, пресса, концерны по производству оружия и электроники. Помощник Болт Бух Грея, как он сам со мной делился, тоже не бедней бармена.
— Вот что значит общение по уровням.
— Завидки взяли? И по уровням! — вдруг вся рассияла бабушка Лемуриха и позахохотала, точно дурнушка, истомившаяся из-за того, что за ней никто не гнался, и вот приволокнулся, да еще и отвалил щедрый комплимент насчет ее сдобных ста́тей.
Обрадованный поворотом ее настроения, Курнопай обнял бабушку Лемуриху и, как человек, чего только ни наслушавшийся о женщинах, подивился ее гиперболическим габаритам и пожалковал про себя, что не отыскался смолоду в Самии доблестный охотник на ее судьбу.
Прилетел вертолет и унес бабушку Лемуриху в сладостное столичное место — в правительственный центр.
Все сколько-нибудь значительное, что делалось в стране в эпоху Черного Лебедя, подавалось под знаком превосходства. За телевизионные заслуги бабушку Лемуриху и Курнопая возили на самую большую планетарную гидростанцию, в действительности не таковую, сооруженную в горной части Огомы. К периоду ливневых дождей, которые почему-то не начинались, уровень водохранилища до того снизился, что пришлось перекрыть шлюзы. Голое русло реки ужасало Курнопая, что бабушка Лемуриха, поглядывая на провожатого из студийной охраны, старалась пресечь как незрелую панику.
— Природа своевольничает. Города и селенья без воды. Главправ изыщет способ. Ночи не спит — изыскивает. Ежели для этой штуки Луну обратной стороной повернуть понадобится, изыщет.
Домой они возвращались через полмесяца. Ложе Огомы растрескалось. Не вытерпел Курнопай, укусил бабушку Лемуриху:
— Изыскал!
Из-за присутствия провожатого она сделала внуку степенное разъяснение.
— За короткий исторический срок он еще почище штуки изыскивал.
Курнопаю вспомнилась эта история после отлета бабушки Лемурихи, и он ощутил себя Огомой, в которую из водохранилища жизни не изливается ни струйки.
Фэйхоа, ожидавшая, что с часу на час в нем закончится внутренняя перестройка, не обнаружила обновления во взгляде Курнопая и приникла виском к его плечу.
«Перекрыли шлюзы, шлюзы перекрыли», — невольно повторилось в их уме, пока они в обнимку шли к пещере. Совсем скоро, через опустошенность надежд и воли, открылось в Курнопае чувство освобождения. Он не поверил ему. Самообман. Попробовал прогнать этот подлог, но чувство освобождения уверенно утвердилось в нем.
«САМ, великий САМ, — спросил он, — пути не оставалось… Как понимать? Я не сдался? А может, саванна сгорела, да исключено, чтоб она долго была без травы, кустов, ветра и солнца?»
И хотя глухота пространства была Курнопаю отзывом, чувство освобождения не затмилось в душе ни облачком. Со странным впечатлением открытия он обнаружил рядом с собой Фэйхоа, покорную ожиданию, когда очнется его любовь к тому, вокруг чего носились его переживания, будто ураганы вокруг Земли. Он отнесся к этому как к психопатической заморочи. Ничто на свете не равноценно Фэйхоа. Уж если кого-то стоит спасать от страданий, то прежде всего ее. А он, а он отодвигал, даже отшвыривал ее в забвение. Кого же обижать до самоубийственного отчаяния, если не самого близкого человека? Так получалось непредумышленно… Э, нет, он ловил себя на эгоцентрической жестокости, каялся, мечтал об искуплении, но не унимался. Волна. Провал. Волна. Провал.
О, какой желанной воспринималась Фэйхоа теперь! Такой желанной не была со дня посвящения. Ведь все, что позже… Кем оборачивался он на ее любовь и верность? Сексмонстром? Иначе не видит он ее как жертвой его плотской окаянности. Бесновался, лишь полный услажденьем самого себя. Пыточное услажденье. Он очнулся. Сейчас он нов. А как срывался: вершина, пропасть, вершина, пропасть. Фэйхоа все на вершине. О, желание. Знали, именно по себе знали сержантишки, во что преобразовывать окаянную энергию, заключенную в реакторы наших тел. В нерассуждение. В беспощадность. В неуклонную подвластность.
И пришло счастье, и не сопровождалось опасностями, заключенными в них самих, да и небо, океан, горы сохранили к ним доброжелательство, и совершилось то, чего они ждали, и возрадовалась бабушка Лемуриха, и до клекота заходящимся голосом оповестила священного автократа и Каску, и плакала с деревенским причетом в своем генеральском кабинете, убедившись в том, что праздника не будет ни во дворце, ни на телестудии. Комендатура правительственных апартаментов не предусмотрела для Курнопая и Фэйхоа жилое помещение, вот почему бабушка Лемуриха не рискнула поселить молодоженов у себя: сняла им квартирку в районе, облюбованном гражданами третьего слоя — так назывались, по негласному делению, введенному Болт Бух Греем, чиновники административных учреждений, промышленных предприятий, организаторы прессы, зрелищно-ублажительных уголков, деятели культуры, науки, спорта, художественных ремесел.
Чтобы не прогневить Болт Бух Грея, бабушка Лемуриха прямо с вертодрома отправила Курнопая во дворец, а Фэйхоа повезла в район третьего слоя. Правда, прежде чем отправить внука, она известила его о целом ряде принципиальных нововведений. Дворец, имевший заборчик для блезира, охвачен высокой оградой чугунного литья, обеспеченной самой чуткой электронной сигнализацией; во дворце священный автократ оставил жить только Каску с детьми, своего помощника и начальника личной охраны; Кива Ава Чел, хоть она и единственная законная жена Болт Бух Грея и державная советчица, помещена в отдельный особняк, куда он будет наведываться без предварительной договоренности; на том месте, где раньше были турникеты охранной вахты, построили триумфальные ворота, через которые проходят после пункта проверки на лояльность.
Укорив Курнопая за то, что он, как и Ковылко, несуразный артачник, бабушка Лемуриха умоляющим жестом ввела раковину ладоней в междугрудье.
— Гордость моя Курнопа, не перечь совету. Еще главнопроверяющий не наденет на твою дурью башку телепатическую корону, ты примись твердить: «Я не сомневаюсь сызмала в САМОМ. Я боготворю священного автократа Болт Бух Грея, его теорию, практическое руководство. Я ненавистник перемен, опричь воле САМОГО и великого потомка САМОГО». Наденет корону, то же тверди, покуда не сымет. Тогда допустят к Болт Бух Грею. Милость без никаких сложностей отломится. Под меня роют интриганы. Он стал коситься. Кабы не понизил. Каску просила уластить нашего свящавта, так она и слышать не желает. Он, мол, сам обо всем принимает решения. Найдет нужным — и понизит. Не помешалась ли, а? Дочь, родная, со мной, этаким манером. Всем курбетам курбет. Ужо коли б она играла на скачках, я б… не взлети она выше неба, отреклась бы от нее. Огомия твердолобым сделает. Поддается. Испокон веку ни у кого из пращуров у нас не было в генах фанатизма. Экий зверский фанатизм. За родную мать и то заступиться не хочет. Тверди, ради бога. Лояльность священному автократу, христианство и сексрелигия на самом передке политики. При Главправе патриотизм был всего главней. Главправ прощал, коли о нем плохое мнение возводили. И вовсе не прощал, ежели про отчизну нехорошо высказывались.
— Ба, твое внушение я воспринял.
— Старайся у Болт Бух Грея помалкивать. Все сам скажет. Спрашивает об чем, ты начни мямлить. Сам за тебя ответит.
— САМ?
— Сам правитель Бэ Бэ Гэ.
— Нет, ба.
— «Ба», «ба». Маленьким не бакал. Бабкал. От твоего артачения у меня печенка переворачивается, не токмо душа.
Понурое лицо Курнопая заставило Фэйхоа приластиться к бабушке Лемурихе, чтобы она не допекала внука, а он, готовый вздыбиться, пообещал держаться как надо.
Главнопроверяющий надел на Курнопая телепатическую корону. Курнопай твердил. Вспыхнуло зеленое табло, не гасло четверть часа.
— Ты, Курнопа-Курнопай, любимец великого САМОГО, славного народа Самии, бывший любимчик Болт Бух Грея, ты лоялен до чертиков! — патетически произнес главнопроверяющий.
— Вы, господин главнопроверяющий, не ошиблись?
— Лоялен до чертиков, как пить дать!
— Сдается, был я только любимчиком главсержа-держправа. Благодаря его покровительству для пущей важности вами упоминался САМ и народ Самии.
— Дело посложней. САМ любит в своей стране всех вместе и по отдельности. Мы — духовные дети САМОГО. Что касаемо народа — загвоздка. Народ — разношерстная стихия, стало быть, под одну гребенку его любовь стричь нельзя. Если он любит, то за практические дела. Кота в мешке, сколько бы ни долдонил о нем официоз, не полюбят. Вирусом преклонения он в состоянии заразиться, обманывается мнимыми заслугами, но как заражается, как обманывается, так и забывает. Солнышко за тучу — миража нет. К настоящему моменту любовь к тебе в народе подлинная и достигла зенита. Кому сейчас не известно — ты помешал разгуляться кровавому половодью, ты опрокинул почитай все тенденции режима сержантов. Ты был никем — тебе курили фимиам. Ты отличился перед народом — тебя замалчивают, держат втуне. Ты кстати возник из нетей. Куда тебя запропастили — держалось в сверхсекрете. Вчера столица кипела от митингов. Народ требовал твоего возвращения из нетей. Священного автократа вынудили проинформировать делегацию рабочих смолоцианки о твоем и Фэйхоа местонахождении. И еще народ требовал привести тебя к руководству страной. Вот такие, Курнопа-Курнопай, бизоны на вертеле! Лоялен до чертиков!
Приветливость главнопроверяющего была неотделима от ликования, которое он не собирался сдерживать. По инструкции так не поведешь себя. Впрочем, Ганс-то Магмейстер учит. И все-таки на торжественной образине кадрового военного, что Курнопай определил по кованно-твердому фюзеляжу головы, не выкрутилось бы сразу три ямки: на щеках и подбородке, если бы главнопроверяющий был «заряжен на игру». В таком случае, почему он рискует? На пункте проверки не может не быть подслушивающих устройств. Или не перевелись еще армейцы, кому откровенность дороже карьеры? Почему же тогда бабушка Лемуриха умолчала о вчерашних митингах? Неужели и она способна из-за идеи, по примеру матери, отступиться от него? Нет, мать отступилась из-за идеи, бабушка ради власти. Эх, отстал он от цивилизации: пользуется мерками феодальной семьи, а то и общинно-родовой. Погоди-ка, не есть ли поведение главнопроверяющего (телепатическая корона — начало) основная часть проверки на лояльность? Промах, конечно, допустил, и не один. Не нужно было признавать, что перестал ходить в любимчиках Болт Бух Грея; тем более не нужно было выражать согласие, будто бы именно ты предотвратил (а Чернозуб? а Фэйхоа?) кровопролитие и поломал внутреннюю политику Сержантитета. В подобной ситуации молчание надежней плетения словес.
У океана Курнопай успокоился, склонив себя вослед за Фэйхоа к отвержению путей тщеславия. Большинство людей Земли избирают су́дебную дорогу, где не возникает ни самолюбивых надежд, ни чувства избранности. Из армии он хотел отпроситься, хотя предстояла пятилетняя послеучилищная служба, и определить, чем займется, на бирже по трудоустройству. Встреча с бабушкой Лемурихой на вертодроме сбивала с панталыку, пусть он и не строил мечтательных предположений. Проверка на лояльность все же как бы закрепляла вероятность скидки на его характер, если он в чем-то провинился или чего-то недопонимает. Ведь Болт Бух Грей помиловал соратников-предателей. Неужто не проявит благосклонности к своему, наряду с Фэйхоа, спасителю?
Вносил небезнадежное осложнение разговор с главнопроверяющим. Но тут бы у кого-нибудь выведать, митинговала ли вчера столица?
Старик сутулый, трущий скособоченными каблуками о гранит, поливал из брандспойта кипарис. Наконечник красной меди сиял ослепительно. Вода, пропарываясь сквозь голубую крону, словно бы высвечивала лохмотья коры на алом стволе. Неожиданная перекличка древесной лощеной алости с потухающей алостью кителя остановила Курнопая. Китель-то маршальский, хотя и обвисший, залатанный, покрытый небрежной штопкой. Вот тебе курьез! Во всех инструкциях о правильном ношении армейской формы имелось примечание, которым налагался запрет, введенный державным судом еще со времен королей, на использование маршальской формы людьми иных званий. Нарушение запрета каралось годом одиночного заключения или каторги.
Брюки на старике были тоже маршальские, потемневшие от земли и нерадивой стирки. Курнопай определил это по зигзаговидным златошитым лампасам. Золотые нити потерлись, однако продолжали крепко удерживаться во фландрском сукне, вытканном, как подчеркивалось в инструкции, по непревзойденным образцам средневековой технологии.
Приглядывался к старику. Волосы, точно пена океанского вала. Линия наклонного лба, сделав легкую западающую петлю, прямо продолжалась линией носа. Торчливые усы. Эспаньолка. Плечи старика мелко вибрировали. В ботинках, едва он переступал, раздавался писк, похожий на дельфиний, из-за попавшей в них воды.
Да это же знаменитый полководец Данциг-Сикорский! Как сразу-то не узнал? Неужели садовником при дворце? Через месяц после сержантского путча газеты печатали пышные некрологи, но известие о похоронах было краткое: «Погребение гениального маршала Данциг-Сикорского произведено по завещанию покойного на братском кладбище героев восьмилетней войны». Всезнайка Ганс Магмейстер однажды проболтался Курнопаю о том, как Болт Бух Грей с группой сержантов ворвался в покои спящего Данциг-Сикорского. Не зная, в какой из комнат находится военный министр, Болт Бух Грей крикнул:
— Данциг-Сикорский, вы низложены.
— Низлагают монархов, — мигом отозвался маршал из гостиной и, позевывая, вышел оттуда в трусах цветастого сатина.
От замечаний Данциг-Сикорского щеки Болт Бух Грея залились яблочным румянцем.
— Вы арестованы, министр, — сказал он, проломившись сквозь стыд. — Ваш предводитель мертв. Ваш полководческий гений обязывает сохранить вам жизнь. Встаете на сторону революции сержантов?
— Эко, батенька, дворцовые сержантики переворот учудили. Какие перевороты ни случались, вашенский всего чудней.
— Чудил Главправ. Вы же, гражданин маршал, подпирали его прогнившую империю.
— Я оберегал отечество от внешнего врага.
— Арестованный Данциг-Сикорский, вы переходите на сторону революции сержантов?
— Карикатуристы.
— Перехо́дите, значит, получите в кабинете, каковой сегодня сформирую, пост министра обороны. Но высшим воинским званием будет звание «сержант». Звание маршал становится низшим.
— Чем, батенька, мое звание опорочило себя?
— Ваше — ничем. Система, созданная Главправом, опорочила себя. Следовательно, для народа маршальское звание неприемлемо.
— Сержант, вы весьма шустрый юноша. На световой, видно, скорости побывали в миллионах душ самийского народа, и теперь вам ведомо, что народ не приемлет.
— Берете пост военного министра?
— Я отвечу, как только вы ответите, сержант, вы когда-нибудь нюхали, чем пахнет культура государственного управления?
— Трупным запахом вашего недавнего патрона.
— Блошиное остроумие выскочки.
— Увы, Данциг-Сикорский, вы не имеете политического гения.
— Десять тысяч лет правления фараонов в Египте — вот где была государственная культура! И то фараоны рухнули, подготовишка.
— Именем великого САМОГО, народа Самии, революции сержантов отстраняю вас, гражданин Данциг-Сикорский, от занимаемой должности.
— Гения можно отстранить, но не устранить.
— Смысловая разница в микрон. И то и другое реально. Цезаря устранили, Георгия Жукова отстраняли. Результат в конечном счете одинаковый.
— Подготовишка, смерть и жизнь несопоставимы.
— Вы низвергнуты, Данциг-Сикорский. К счастью, смерть и жизнь вероятно свести в парадоксальное соитие. Вы умрете при жизни.
Утром Сержантитет постановил: «Считать почившим в бозе маршала Данциг-Сикорского». В некрологах подчеркивалось, что полководец не противодействовал революции, однако не примкнул к ней по причине возраста и аристократической закоснелости. Во всех учебниках, по которым занимались в училище, добрая половина страниц отводилась анализу военного творчества Данциг-Сикорского. С какой-то нарочитой непременностью в предисловиях к учебникам упоминалось, что он не умер, не скончался, а почил в бозе через месяц после революции сержантов. И вот он, дряхлый, но и поныне здравствующий, перед Курнопаем. И какими же уязвленно-прискорбными кажутся теперь слова Болт Бух Грея: «Вы умрете при жизни». Наверно, не меньше, чем от унижения, страдал и страдает Данциг-Сикорский от злорадного пророчества этих слов?
— Господин маршал Данциг-Сикорский, вы ли это? — спросил Курнопай.
Старик уронил наконечник красной меди на гранит, и тот зашнырял по камню как фантастическое пресмыкающееся.
— И сам не всегда сознаю, что я есмь маршал Данциг-Сикорский. Ради всех святых, генерал-капитан, закрутите вентиль среди стеблей ятрышника и цикламена.
Едва Курнопай закрутил вентиль, маршал пожаловался:
— За лужи на плитах сажают на гауптвахту. Подвал затхлый. Астма. Начинал блестящим солдатом, кончаю серой скотинкой.
— Вы победили в тягчайшей из войн. Люди вас помнят. Я уж не говорю об исторической памяти.
— Все обесценилось. Планета, если уцелеет, проклянет военных. Быть садовником — счастье! Ох, тяжка старость. Люди, говорите? Люди, которых армия защищает, неблагодарны. Миллионы человек гибнут, но кто их помнит, кроме родственников? Историческая память скудна. Скольких благородных солдат и офицеров я похоронил за восьмилетнюю войну… Колоссальные душевные миры были! Кто сейчас помнит их? Мы, недобитое старичье. Планета проклянет военных, чтобы не брались за оружие, и запамятует об их жертвах из-за неблагодарности. Собственно, сожалеть не о чем, если человечество перейдет на жизнь без войны.
— Господин маршал, что невозможно, то невозможно.
— Меня отменил сержантик, следовательно, человечеству ничего не стоит отменить войны. Не-е, мое утверждение не утопия. У воинов есть воля гибнуть. И не может быть, чтобы было меньше воли продолжать жить. Я проверял свои выводы мемуарами выдающихся личностей. Индия — теперь страна надежд. Я прочитал Ганди, Неру, Прасада. Борьба индийцев с англичанами средствами ненасилия — нет ничего равного. Нормальный человек не станет хвалить Наполеона. Он боролся средствами убийства. Ганди боролся средствами без убийства. Нет ничего гуманистичней. Человечеству индийцами был показан поворот к новой, она же вечная, эпохе на планете. Да слишком крепко оно держится за смертельные методы жизни. Но держаться-то нужно за жизненные методы жизни.
— Господин маршал, вы убедили меня.
— Спасибо, генерал-капитан. Эко, я сразу признал вас. Бабушки Лемурихи внук?
— Так точно.
— Она гордится вами. Воспроизводят ваше лицо в газете — несет. Заботилась обо мне. Тайком. Добрая женщина, но так заражена благоглупостями… Не сужу. Она — жертва благоглупостей вашей любимой истории. Но и все человечество — жертва исторических благоглупостей, кои становятся непристойными, как скудоумие, ложь, вероломство, социальные обманы. Прошу прощения, но у вашей бабушки психология марионеток. Марионеточность человека всего страшней, подлей, невыводимее. Долг воевать — марионеточность, долг освободиться от войны — антимарионеточность. Вас, генерал-капитан, почитает столица. Внемлите моим мыслям. Мое самоотречение от идей милитаризма пусть ведет вас новыми трассами. Прошу простить за ораторский стиль с привкусом казенщины. Выучка. Но кому говорить, как не вам! Наслышан. Следил. Верю.
Его появление в первой приемной до того раздосадовало Сановника-Демократа, что он при виде Курнопая с презрительной озадаченностью привстал в кресле, завис над столом — ладонями в подлокотники, плечи торчком — в явном ожидании, что Курнопай ретируется, но коль тот не подался взадпятки, так гневно подошел к нему, будто бы собрался вытолкать взашей.
— Сударь, вам не назначали, — пробормотал помощник, по-собачьи вплотную приблизив к лицу Курнопая свою морду, — кончики их носов соприкоснулись, дыхание сшиблось.
— Стыдобно усердствуете, царедворец.
Облик Сановника-Демократа был нов: стрижка под ежик, шнуром бородка, на мочке правого уха пиратская серьга.
— За оскорбление республики…
— Вам бы возглавлять институт профанации.
— Вы доставили державе тяжелые неприятности. Вы же являетесь к нам невинным патриотом Самии.
— Доложите обо мне священному автократу, нет — войду без доклада.
— Кардинал Огомский ждет, министры ждут. Часа через три.
Курнопай и сам уж видел, что в предбаннике вдоль стены, противоположной кабинету священного автократа, сидели на стульях, обитых голубым атласом, хмурые персоны, являвшиеся раньше членами Сержантитета. Поодаль от них, возле вогнуто-выпуклой линзы окна («Так вот оно какое, броневое стекло, неуязвимое для танковых снарядов!») стоял кардинал Огомский, возвращенный из эмиграции. В училище пьяный провиантмейстер подвергал словесному распятью беглого епископа Огомского. «Главный саранчук нашей бывшей церкви пробрался в посудомоечную либеральной прессы… Он пишет… Смехотура. «Разрушение духа и культуры нации начинается вослед за погромом церкви». Канализационный дух. Церковь грабила прихожанина. Церковь завидует бизнесу. Бизнес больше имеет. Покрутилась бы она так, как бизнес. Церковь ненавидит государство. Государство сродни бизнесу: трудится, крутится, рискует. Заслуженная нажива. Молитва — не дело: развлечение, цирк, дискотека. Завидовать и ненавидеть и вести паразитарную жизнь. Сладкая жизнь на дармовщинку. Почему Бэ Бэ Гэ медлит? Не находит террориста на главного саранчука? Я возьмусь. Свинец одной пули имеет больше духу, нежели вся вместе взятая церковь настоящего, прошлого, будущего. Что ею создано? Нуль без палочки.
Бесцерковная вера в САМОГО, не требовавшая никаких затрат и усилий, почти что заслонила от Курнопая и сверстников Христа и Саваофа. Отсюда было и то безразличие, с каким Курнопай воспринял запрещение католицизма, а также то, как провиантмейстер изгалялся над зарубежными выступлениями кардинала Огомского. Курсанты и командпреподаватели клеймили кардинала перебежчиком, предателем, агентом иезуитов, продающихся международному масонству. Из родной страны, где произволом хунты нижних чинов он оказался не у дел, на кардинала Огомского катились потоки ярости. Как они не захлестнули, не смыли в небытие беднягу. Впрочем, что он? Не так, не так. Не бедняга кардинал Огомский. Что-то утесное есть в нем, одетом в иссиня-серую сутану отшельника надокеанских монастырей. Именно таким бывает утес над водами, иссиня-черный, когда солнце рухнет за горный хребет.
— Ваше преосвященство, — позвал помощник, еще не затворив за собой дверь кабинета, и кардинал слегка повернул голову. Профиль прорисовало светом, пронимавшим листья хлебных деревьев, — пройдите. Остаться генерал-капитану Курнопаю. Остальных вызовем в надлежащее время.
Кардинал Огомский долго находился у священного автократа. Уходя, он пронес сокровенную усмешку на сомкнутых губах.
Едва стыло-нелюдимые удалились из приемной, сердце Курнопая екнуло в тревоге и оборвалось. Разобьется, разобьется. Это чувство выметнуло из его пацаньей памяти оранжевого человечка, который бултыхнулся с аэроплана ради затяжного прыжка. Раньше человечек не прыгал с парашютом. Он кувыркался, относимый ветром, будто бы наткнулся на синюю эмаль твердого небосклона и, вертухаясь, соскальзывает к пустыне, вот-вот разобьется, но почему-то не открывает парашют, не умеет, не в силах. Возникла, ширилась, забивая дыхание, безнадежность, стремилась выхлестнуться лавинным звуком «ой-йи-и-и». В самый последний миг взбух полосатый, как зебра, шелк, и почти тут же налетели ноги человека на кремнево-красный песок. Падение сердца, неудержимое, неспасаемое, на минуты приостановилось в миг, когда налетели ноги человечка на кремнево-красный песок.
Встреча с правителем рядом, и он взволновался. Взволновался не по-трусливому, не по-рабски: су́дебно. Опять ведь он накануне решения судьбы, только сейчас вертухается, соскальзывая к пустынному существованию. И пора бы ему перестать беспокоиться от непроизвольности собственных тревог. Прекратись эта стихийная безотчетность что в человечестве, что в нем — крах всему. Но все же, входя в кабинет, он досадовал на то, что не сумел совладать с собой, и продолжал мандражировать, приглашенный взмахом руки в гостиную, которая, оказывается, находилась за раздвижной стеной еще при Главправе.
Опрощение в облике и одежде священного автократа, а также убранство гостиной на фермерский вкус: свежеструганный стол и лавки, тонированные морилкой, вязаные половики, домотканые ковры, цветастые, но глухого тона, поверх которых на рогах бизонов висели дробовые ружья. Углы, ориентированные на страны света, были заняты в соответствии с обычаем: вздыхали часы, за вертикальным стеклом которых пробегал желтый зайчик маятника; бокастый, топырил ножки, точно теленок первого дня, буфет; медекованые ручки комода вздрагивали — отдавались в них вулканические прорывы океанского дна; ореховое бюро, древесные узоры которого мерцали от прямого попадания солнечных лучей, грузно упиралось в стену.
Легонько подергивавший створки буфета Болт Бух Грей оглянулся.
— Домой понаведался, — сказал он, и удовольствием просияли глаза. — Родители простили. Совсем, дескать, от рук отбился, без совету живешь. Родня ублажилась. «Позабыл об нас, никого на взлобок не вытащил за собой». Подарками наделил от карапузов до седовласых патриархов. Ко всем присмотрелся. Знаешь, Курнопа, есть кого выдернуть на взлобок. Кое-кому в подметки не гожусь. Повременю выдергивать. У семейственности два недостатка. Массы не одобряют ее. С массами, как ты сумел оценить, я считаюсь. И, увы, родственники лишены чувства дистанции. Кем бы ты ни был, но ты остаешься для них своим, для старых мужчин в роду «пистолетом». Дуться будут, наушничать друг на дружку, дабы первенствовать, свары затевать. Податливость на сговор против своего у родственников классическая. Кого угодно из чужих перещеголяют. Судя по истории Древнего Рима, Египта и Персии, Великих Моголов, России, упаси меня САМ от родственников-соправителей.
Он взял графин пупырчатого зеленого стекла и такие же стаканы. Когда налил из графина в стаканы, умиленный, обратил внимание Курнопая на розовые цветочки, нашлепнутые на эти самодельные емкости. Леденцовая розоватость цветочков не привела в раж Курнопая.
— В таких вещах не разбираюсь, — уклонился Курнопай.
— Урбанист. Промышленные изделия определили твой эстетический уровень. Зато Каска, кстати, теперь ее имя мама Вера, от посуды нашей семьи без ума.
— Тут вы и с бабушкой Лемурихой споетесь.
— Уже спелись. Лишь бы не спиться.
Каламбур понравился Болт Бух Грею. Его сегодняшняя расположенность к внуку Лемурихи окрепла. Он поднял стакан, кивком указал на другой и, едва Курнопай охватил пальцами шершавинку стакана, промолвил, блокируя радость, рвущуюся из груди:
— Имеется беспрецедентный повод для тоста.
Болт Бух Грей выждал, пока не придушил в себе радость, чтобы не рухнуть в слюнтяйство феминизированных офицериков.
— Со всей ответственностью подчеркиваю, что этому не было прецедента. Тем для меня, разумеется, ответственней.
Курнопай приготовился к тому, что тост Болт Бух Грей посвятит ему.
— Не можешь себе представить, дорогой Курнопа-Курнопай, что́ сотворилось. Сие событие не адекватно сотворению чего-либо в библейском смысле. В моем сознании оно силой воздействия возвелось в ранг библейских деяний. Ночь. Сплю крепко, спокойно. Вдруг пробуждаюсь. В полной темноте — САМ.
— ОН что… ЕГО видно?
— Еще спрашивает. Тебе было позволено САМИМ входить с НИМ во внутреннее соитие. Еще спрашивает. Из-за неверия спрашиваешь.
— Нет, господин священный автократ. Если бы видел ЕГО, не спросил.
— Истинная вера в бога не предполагает интереса к его внешнему образу. Тот, кто думает: «Увижу — поверю», — по мнению священнослужителей, никогда не приблизится к Богу. Ты был выделен САМИМ не для лицезрения ЕГО. Для духовного породнения. Исходя из давней симпатии к тебе, смиряю возмущение. Когда-нибудь замечал гало?
— Что?
— Кольцевое свечение вокруг солнца, равномерное. Солнце в протуберанцах — буревое свечение. Пробуждаюсь. САМ. Контуры света вокруг НЕГО слоями. Серебряный слой, жемчужный, лазурный, цвета бразильского топаза. Еще имеются оттенки. «Лежи, — говорит. — Только в состоянии телесного покоя ты способен внять МОЕМУ решению. Оно таково: «Я передоверяю тебе руководство Самией. Не отрекаюсь. На тебя возлагаю». — «Великий САМ, что ВЫ?! Не справлюсь». «Химера, — говорит. — Цель в ином». — «Не берусь, великий САМ. Как все дети земли, я слаб и неразумен». — «Дети Земли, — говорит, — не слабы. Слишком сильны дети Земли. К чему ни притронутся — разрушения. Дети Земли не неразумны. Дети Земли разумны до бесчувственности, до безмозглости, до самоубийственности. Итак, я возлагаю Самию на тебя. Освобождайся от химер. Не забывай о Мировом Чувстве и о Мировом Разуме. Теперь я совершу символическую передачу СВОИХ обязанностей тебе». И возложил свои персты на мой лоб. Я очнулся. ЕГО нет. День. Тишина, адекватная тишине, бывающей перед цунами. Однако, слава САМОМУ, цунами нет. Ну, Курнопа-Курнопай, выпей за меня, грешного, кому великий САМ передоверил Самию. Выпей еще за то, дабы ОН не произнес мне горькой укоризны в неизвестный час и год: «Жаль, Болт Бух Грей, что я передоверил тебе управление страной».
Слушая священного автократа, Курнопай забыл думать о том, что тост не за его будущее. Не огорчился он, что САМ передоверил Болт Бух Грею их необоюдное отечество, благодаря решению САМОГО, наверно, оно станет обоюдным.
Единственное, что смутило Курнопая, новый каламбур священного автократа, но он без промедления заклеймил себя: «Неймется тебе в чем-то да сыскать червоточинку».
Он глянул в поощряющие глаза Болт Бух Грея. Это по-братски со стороны правителя: не выслеживать того на лице, как аукнулся в нем рассказ о явлении великого САМОГО, а просто желать, чтобы он выпил с ним водки.
Персиковая водка маслянисто покачивалась в стакане. На секунду Курнопай перелетел в пещерный погребок, куда попал после нежеланной близости с Кивой Авой Чел. Королевские запасы погребка вдруг с отрадной приемлемостью открыли ему сегодняшнего Болт Бух Грея, и он сделал восторженный выдох, будто докер перед употреблением обжигающего грога, и выглотал водку из стакана.
Выпил и священный автократ. Изо всей мочи они шваркнули стаканами об пол и расцеловались с клятвенной лихостью, чуждой разлому и предательству.
— Доверие, и чье?! И не возгордился. У меня, кроме тревожнейшей ответственности и стремления к скромности, не родилось других чувств. Немного погодя возникла потребность подвергнуть анализу проделанное. В самых ответственных случаях мне простейшим образом дается бескомпромиссность. Итог с недочетами, недоработками. Прежде всего ставить перед массами держцели, в их надобности нужно убедить массы. Народ точно ребенок: подход к нему найди, убеждай с душой, погладь по головке, пообещай подарки, но выполни. Правительства сладкоусты на посулы, да у них в характере злоба к исполнению обещаний. Недочетом наших благороднейших целей явилась торопливость. Разумеется, мы желали вздыбить Самию на уровень ведущих стран планеты, но не провели разъяснений. Недочет два: мы не поставили индивидуальных задач, опираясь на генофактуру народов, народностей, племен. Спешка, пускай благороднейшая, наложилась на не совпадающие во многом психологии, культуры, истории масс. Почему Англия, в отличие от Моголов, не слилась с Индией? Она эгоцентрически хранила свое отчуждение. Прежде всего религиозное, этическое, культурное. Моголы осели в Индии. Породнение воззрений, способов хозяйствования, психофизических сущностей… Скажешь, что Индия могла оказаться для Англии своего рода Бермудским треугольником. Англия бы исчезла, Индия сохранилась. Моголы слились с Индией, но не исчезли, хотя бы в исторической памяти. Индия! Мы схожи с нею конгломератом национальностей, религий, экономик, психогеноструктур. Как мы, так и они похожи на мифическую повозку, в которую запряжены ракетопланы, тракторы, слоны, тигры, грифы, дельфины, пальмовые воры, махаоны, скарабеи… Образно говорю, мудро, совестливо?
— Ага.
— Ну то-то же, мой дорогой Курнопа-Курнопай. Недочеты молодого правления неотделимы от недочетов народа в целом. Кстати, вину за все и вся в обществах возлагают на правительства. Нет в этом истины и справедливости. Зато имеется кривизна. Что изменилось из-за того, что Данциг-Сикорский не возглавляет вооруженные силы Самии? Ничего.
— Мирное время.
— О, э… Была бы война — сыскался бы другой. Воля и власть полководца номер один по преимуществу создают своего рода плотину для подчиненных ему военачальников. Одна из распространенных причин — закон уцеления. Полководцы меньшего чина сознательно держат себя в тени. Вообще-то, по обыкновению, каждая война выдвигает своих полководцев.
— А нельзя оживить Данциг-Сикорского?
— Милый любимец САМОГО, мой персональный любимец, я видел, как ты с ним разговаривал. У меня нет сомнения в том, что он выразил свое довольство положением садовника.
— Выразил.
— Он в том счастливом возрасте, когда человек расстается с сексом, извини, с обжираловкой, обпиваловкой. Остается единственное: любовь к природе. Понятно, к САМОМУ, к богу Саваофу. Во время правления Главправа он был фигурой номер два. Главправа нашло возмездие за узурпацию талантов народа и высшей администрации. Данциг-Сикорский тоже заслуживал смерти. Я не дал его убить. Ему было дано право на искупление. Искупая тягчайшую вину за поддержку режима Главправа, он обрел наконец-то неложное счастье, чему я радуюсь. Предположим, я отзовусь на твою доброту. И что же? Мы совершим негуманистический акт. Данциг-Сикорский лишится обретенного счастья. Второе. Он, по не зависящим от него обстоятельствам, снова маршал. Этим он фактически приравнялся к моему положению.
— В истории навряд ли бывали случаи маршальских отсидок на гауптвахте.
— По-моему, при Наполеоне. Став обратно маршалом, Данциг-Сикорский ни разу не бывал на губе. Я запретил. Честнейший Курнопа-Курнопай, в период после училища ты часто настраивался на противостояние мне. Даже великий САМ этим огорчился при всем обожании тебя и Фэйхоа. Зачем заостряю на этом внимание? Я не припомню автократа более милосердного, чем я. Не стыжусь таким образом высказываться о себе. Это не нескромно, потому что объективно. Я не уничтожал своих врагов, бывших соратников. Нас, властителей гуманистического типа, с момента, когда человек трансформировался в хомо сапиенс, по пальцам перечтешь. К беде моей, человечество привыкло чтить не добродеев. Жестокосердов оно чтит.
«Интересно, — весело подумалось Курнопаю. — Бэ Бэ Гэ вспомнит, что Фэйхоа и я удержали его от общенародного кровопролития?»
— Дело прежде всего в самих народах. Правители всего лишь осуществляют, где сознательно, где интуитивно, их думы и потребности.
«Пожалуй, — сам же подытожил Курнопай, — суть не в том, вспомнит или не вспомнит. Суть не в том, чего он не сделал, а в том, что он не решился на кровопролитие».
Подход к Болт Бух Грею не на основе того, к чему он склонялся (мало ли к чему склоняемся в событиях, которые вызывают у нас взметенность урагана), а по его действиям окончательно настроил Курнопая на отрадный лад, но он тем не менее посетовал, что священный автократ все о себе и о себе, незыблемо благоустроенном, при всех мыслимых и невероятных чинах, а о нем — хоть бы словечко.
Новая привычка появилась у Болт Бух Грея: одухотворясь, мерцая зрачками, делал обороты на каблуках.
Он спросил Курнопая, повращавшись, в чем, на его взгляд, имеется неотложность для жизни общества. Курнопай ответил, что надо создать проект конституции, всенародно обсудить, принять усовершенствованный текст.
— До революции сержантов меня не интересовала конституция, поэтому я согласился приостановить ее действие. И зря. Конституция, принятая при Главправе, идеальная. В ней была даже статья, запрещающая диктатуру одного лица. Самия называлась республикой, но парламент почти не собирался. Если собирался — дабы автоматически голоснуть за предложения диктатора. Дело не в вывеске. Мы живем в эпоху, когда правления осуществляются по совести или по бесстыдству правителей. Что мы сделаем? Конституцию вернем. Добавим в нее отдельные статьи, пункты, уточнения. Я за искреннее правление. Коль я диктатор особого рода — священный автократ, потому что я получил полномочия САМОГО, потому что единовластие буду сочетать с парламентаризмом, потому что я не знаю другой заботы, кроме заботы о народе. Что еще? В конституцию будет введена статья о проверочной инстанции, которую возглавит державный ревизор. Инстанция получит право проверки монополий, банков, латифундий. Но самое важное, она сможет проверять государственные органы и державных руководителей, включая премьер-министра. Единственный, кому будет подотчетен державный ревизор, — священный автократ. Державным ревизором будешь ты. И я хочу выпить за нашу обоюдность друзей, за обоюдность высшего правителя и высшего ревизора. Люди предержащие — к ним отношу держсановников, богачей технократов, князей церкви, скотопромышленников, хозяев игорного бизнеса, знаменитостей разных мастей — в нашу эпоху, в эпоху хунтизма, экологических катастроф, сексраспада, наркомании, кануна ядерного катарсиса, они в условиях современной действительности, заземленной на прибыль и только на прибыль, на редкость редко общаются по душевному влечению, то бишь платонически. Они общаются по расчету, на основе взаимных интересов и взаимного опыления. В прежние века немыслимо было для всех слоев и классов вести взаимоотношения как отношения расчета. Рыцарская нетерпимость к этому была свойственна почти всему обществу. В основе взаимоотношений лежала чистая симпатия. Ею поверялась нравственность взаимоотношений, духовность. Они позади. Я, быть может, смешон сегодня, полагаясь на симпатию в дружбе к тебе, в своих надеждах на нашу обоюдность для народа и ради народа. Симпатия редко кому дается вопреки сердцу, и все-таки я верю, что душевное влечение будет законом твоего отношения ко мне, законом нашего отношения к народу. И тогда закон этот станет общечеловеческим законом. Я не был отступником от симпатии к тебе, не спеша с твоим назначением. Во-первых, я ждал, не повторится ли твое мальчишеское рвение к власти. Слава богу, оно не повторилось. Во-вторых, я искал для тебя должность, кою исполняя, ты мог бы с громаднейшей отдачей соратничать со мной. К счастью, я открыл для тебя такую должность! История не запечатлела единства руководящего и контрольного начал. Они были и остаются антагонистами, потому что правящая инстанция издревле пренебрегает мнением ревизорской инстанции. Короче, всякая власть стремится к бесконтрольности. Я первым в истории сделал вывод после известных тебе событий, что тут власть совершает роковую ошибку. Ревизорство первым высматривает, где возникает разгерметизация. Дело власти осмыслить причину разгерметизации, дабы создать новую возможность для герметизации. Не будучи державным ревизором, ты первым, рискуя головой, со всей мощью совести повел себя непреклонно. Отдавая должное тебе и Фэйхоа, в не меньшей мере отдаю должное себе. Кстати, ты видел его преосвященство кардинала Огомского?
— Визуально.
— Не беда. Сдружитесь. О, едва не забыл. САМ, в подробности вникать нельзя, — божественная сфера. Кардинал, пока САМ не передоверил мне руководство, был в Самии независим. Его подчинение папе римскому само собой разумеется. Теперь кардинал подчинен священному автократу. Информирую тебя об этом, дабы предупредить, что власть и контроль над кардиналом и церковью осуществляю я сам, как и власть и контроль над сексрелигией. Даже я не в силах снять этого табу, дабы твое ревизорское око с присущей ему зоркостью следило за церковью и сексрелигией. Между прочим, все религии, кроме христианской, узнавши о решении САМОГО, в лице своих первосвященников тотчас попросили признать мое главенство над ними. Среди них исламисты, буддисты, иудаисты, зороастрийцы, язычники.
— Не правильней было бы отделить светскую власть от религиозной, церковь от государства?
— По примеру России? Там другое дело. Там общепризнано первенство материального над идеальным. Я же исповедую первенство духа над материей. По существу, материя всего лишь вместилище всевозможных модификаций духа, где одна из величайших модификаций состоит в слиянии духа державности с духом религиозности. Не было долговечней, мудрей, влиятельней правления, чем правление в Древнем Египте. Там фараоны были жрецами, жрецы — фараонами. И третье: власть фараонов двигалась, совокупясь с властью жрецов.
— А не было ли все это жадностью на власть?
— Диктаторские режимы — жадность на власть. В Древнем Египте — слиянная до оргазма разумность власти, почему и продержалась она двенадцать тысячелетий. Имам Ирана Хомейни соединил в своих руках религиозную и светскую власть. Диктатура Гитлера и германского фашизма отбросила религию, из-за чего продержалась всего-навсего двенадцать лет.
— В Индии религии существуют сами по себе.
— Свобода религиозной воли? Привлекательно, пока не вдумаешься. Разве бы сикхам удалось осуществить убийство Индиры Ганди, если бы их религиозная община была подвластна государству и контролировалась им? Эй, Курнопай, друг, неужели ты еще не осознал, что Бэ Бэ Гэ все выверяет сопоставлениями. Правители — подобье народов: они не учитывают исторического опыта, тем паче своего. Я — исключение среди них. Позволь, прежде чем выпью за тебя, дабы не забыть во хмелю, порадовать тебя, что Фэйхоа тоже не осталась без назначения. У Фэйхоа, правда, будет назначение неофициальное, потому что ей предстоит подготовить себя к руководству таинственнейшей из таинственнейших сфер человека и космоса — сферой оккультизма.
— От Ганса Магмейстера малость наслышан об искусстве прорицания, которое эллины называли мантикой, об эсотеризме — области тайных знаний, ясно, об антропософии Штейнера. Мне кажется, что невозможно руководить скрытыми взаимодействиями человека с человечеством, с земным ядром, с гравитационными полями и галактикой. Я прыгал чуть не до потолка, когда Ганс Магмейстер сказал, что врач Парацельс объяснил возникновение болезни нарушением гармонии между микрокосмосом человека и макрокосмосом вселенной. Теория Парацельса красива в смысле умственности, да недоказуема и неприменима на практике.
— Связь между приближением урагана и состоянием сердечно-сосудистой системы живых существ теперь запросто прослеживается. Эта оккультная очевидность выросла из народного представления о перемене погоды. Курнопа ты Курнопай, имеются, однако, сокровенные связи между состоянием солнца и горного хребта и их влиянием на психику людей, птиц, насекомых, трав. Я апеллирую только к твоему сознанию, и то средствами примитивных примеров. Но ведь имеются связи чувствований, взаимодействие подсознаний, взаимоотношения духов и то, как они влияют на микрокосмос и макрокосмос. В общем, я толкую о существовании сокровенных сил, кои, в частности, запечатлены в трудах о черной и белой магии, даже в живописных картинах Босха. Ты попробуй порассматривай триптих «Сад наслаждений» и, если не поймешь «Сада наслаждений», то, во всяком случае, ощутишь, почему он, зачем, ради чего. Или возьми порассматривай «Триумф смерти» Питера Брейгеля. Другой бы не уяснил, ты уяснишь. Многомерные, многозначные пути земной смерти не свободны от влияний смерти небесной.
— И все же Ганс Магмейстер относил это к вымороченной чертовщине.
— Ганс Магмейстер физиономист, кто пробует заглянуть в галактики тайны. Пробовать — не значит иметь. Еще при Главправе Гансу даровалась возможность инициации через постижение смерти. Он струсил и тем самым лишил себя вероятности духови́дения. Прости за грубость, Курнопа-Курнопай. Тебе пора начисто отбросить логику дешевого рода: «Мы этого не понимаем, значит, этого нет и не может быть». Оккультная сущность Фэйхоа пока сводится к любительству. Верю, талант ее «я» способен преодолеть любительство. Прежде всего для Фэйхоа я заказал перевод оккультного сочинения «Изумрудная скрижаль», которое появилось в Александрии веке в третьем первого тысячелетия нашей эры. Кроме того, я повелел сделать переводы книг Агриппы Неттесхеймского, Кампанеллы, Блаватской, Сведенборга, Штейнера, Андре. Неизбежность постижения ветвистой системы оккультных подразделений поначалу приведет Фэйхоа к неумеренной занятости. Я советовал бы ей, однако, я этому дам финансовую основу, создать, тоже неофициально, институт оккультизма с отделами по наукам: астрология, гилозоизм, теософия, неоплатоническая мистика, масонство, евгеника, кабалистика и проч. Я даю примерный чертеж того, чем должен заниматься институт при, пожалуй, тайном комитете оккультизма. Явным все это станет, когда народные массы через школы будут подведены к философско-мистическим ответвлениям в трудах Аристотеля, Ксенофана, Бернара Клервоского, Луллиля, Гегеля, Робине, Трубецкого, Маха… Называю имена. Не прими за эрудицию. Нахватанность с детства. Наш сельский патер был интеллектуалом и подсовывал мне умных авторов. Без разбора. По всей вероятности, он проверял возможности мозга крестьянского мальчишки усваивать абстрактные истины. Одну из первых книг подсунул по витализму. Я узнал тогда о душе по Платону. К учению Аристотеля об энтелихии притронулся. Солнечным ветром философии слегка обвеялись тогда мои земляные мозги. И пошло-поехало. Больше черпанул после революции сержантов. Надо отдать должное Главправу: он собрал уникальную библиотеку по оккультным наукам, истории, религии, философии. Итак, держконтролер Курнопа-Курнопай, пью за тебя и твою супругу Фэйхоа, пожизненную председательницу Тайного Комитета Оккультных Наук.
Они опять выпили, братски обнялись. Болт Бух Грей, жарко дыша в ухо Курнопая, спросил с восторгом:
— Ну, доволен, собака?!
— Ага.
— Я тебе дам «ага». Ты ори, что доволен за свое и Фэйхоа назначение. Мы с тобой — родные люди. Да, ты был бы у мамы Веры один, я же сделал тебе трех братьев! Не только поэтому родные. Ты должен боготворить меня за Фэйхоа. Единственная женщина, которую люблю и не тронул, — она. И еще ори, что я мудрейший из правителей Самии, может статься, всей планеты.
И Курнопа-Курнопай орал.
Когда Болт Бух Грей провожал Курнопая к автомобилю, ему вздумалось в порядке хохмы проверить себя на лояльность. С минуту табло пустовало, потом заместилось словами: «Вполне верноподданный священному автократу Болт Бух Грею». Курнопаю электронный ответ показался казуистическим, Болт Бух Грея распотешил: от смеха у него трещали желваки.
Мало-помалу священный автократ погрустнел. Неужели он такой одномерный, что как гражданин совпадает с собою властителем?
Курнопай попытался успокоить Болт Бух Грея, но напоролся на возмущение: нет адекватности между творцом и его творением. Бог и мы — ничего похожего.
Курнопай попытался его настроить на шутливый лад. Мол, радуйся: система, создаваемая тобой, еще не успела вступить с тобой же в антагонизм. Впрочем, была первая ошибка. Болт Бух Грей не пожелал балаганить, как он изволил выразиться, и памятниковая отлитость обозначилась в его лице. Демиургу (ого, куда воспарил) не обязательно в качестве врага получать мир, сотворенный собой самим. Ну-ка, он сам проверит Курнопая на лояльность.
На табло выпрыгнуло выражение, воспринятое Курнопаем как гротесковое: «Лоялен до чертиков!»
— До чертиков? Кому? — тихо промолвил Болт Бух Грей, точно стыдился этой мысли. — Мне? Державе? Народу Самии? САМОМУ? Я лоялен — вполне комедия — сам себе, он лоялен неопределенно кому.
Чтобы умиротворить Болт Бух Грея («Опасность, опасность!»), Курнопай крикнул с хорошо упакованной гордостью:
— Я гораздо лояльней тебе, чем ты сам себе.
Оба развеселились, по-мальчишески потолкались плечами, как обычно начинали ритуальный танец единокровной цепи вождь и его сын из племени быху, и уплясались до унаследованного из тысячелетий падения на землю и конвульсивно торжественных прыжков на боку.
Взялся Курнопай перво-наперво за составление положения о державном ревизорстве. Прежде чем приняться за дело, которое представлялось ему до неопределенности безграничным, он позвонил священному автократу для получения рекомендаций. С ходу Болт Бух Грей укорил его за казенность. Он прекратил прием высших сановников, дабы встретить Курнопая как друга не разлей водой! А после этого Курнопай обращается к нему, точно заскорузлый чиновник. Рекомендации? Какие могут быть рекомендации? Кто, когда, кому придумал подобную должность? Ты получил карт-бланш.
Курнопай разогнался оправдываться, но поперхнулся от незнакомого слова «карт-бланш». В сердитом голосе Болт Бух Грея возник рокоток, сдобренный удовлетворением. Рекомендации священного автократа? Вообще-то необуздываемый Курнопа-Курнопай проникся идеей: дабы проверять — самому лично надо быть управляемым. Если не прогресс, то, по крайней мере, ремиссия. Ремиссия же указывает на вероятность выздоровления. Прогресс или ремиссия — гадать не станет. Получил карт-бланш, будь расторопен.
По догадке Курнопай воспринял «карт-бланш» как правомочность обосновывать деятельность по личному усмотрению. Заехавшая к ним бабушка Лемуриха («Ну, как там наша беременность? Тошнит? Слава священному автократу! Женщины моего рода обычно выкатывают девчонок. Притом каких девчонок! Разве мной нельзя гордиться? Выдвинулась на военное поприще из пехотных прачек. Про Каску-Веру и говорить нечего. Дотолева обротала Болт Бух Грея, мы, кому посчастливилось поселиться во дворце, ее зовем промежду собой либо соправительницей, либо государыней императрицей), на минутку заехавшая, сделала вид, что внук все уяснил из разговора со священным автократом, включая и шибко образованное понятие «карт-бланш», но он, от которого не укрылся миг сановной неуверенности в ее лице, тем не менее задал ей каверзный вопрос.
— Нынешний пост навел меня на проблему, — сказала бабушка Лемуриха. Глубокомыслие в ее голосе, вызванное явной оттяжкой, настроило Курнопая на ерничество.
— Ба, ты у нас космический лайнер оседлала! Я-то раньше думал: «Человек, прежде чем занять высокий стул, взлетает при помощи ядерного горючего талантов на уровень этого стула». А оказывается, стул определяет его таланты. Так на какую проблему навел тебя большой пост?
— На проблему доходчивости.
— Кто ясно доводит до подчиненных задачу, тот успешно руководит?
— Как в телескоп глядел.
— И?
— Что за «и»?
— И каким же образом мой вопрос увязывается с проблемой доходчивости?
— Самым прямым. Хочется подоходчивей растолковать тебе по поводу карт-бланша.
— В чем нуждаюсь, в том нуждаюсь.
Фэйхоа — она зашла в гостиную после звонка Курнопая священному автократу — огорчилась тому, что ее муж глумится над родной бабушкой. Для Курнопая в этом был постыдный момент: он изгалялся над ее лукавым невежеством в связи с тем, чего и сам-то не знал. И Фэйхоа, чтобы вставиться, не ущемив их самолюбия, заметила, что Болт Бух Грей по своим теперешним повадкам властителя истинный коллективист. Им всем троим предоставил неограниченные полномочия.
Бабушка Лемуриха и тут преподнесла им свое умудренное мнение. Для кого полномочия, для кого потачка. Она бы на месте властелина поостереглась. Изо всех, с кем довелось контачить из верхнего эшелона, Курнопа самый что ни на есть норовистый. Верно, при ней Каска подсказывала священному автократу, что насчет Курнопая нужна бдительность, но он, вота мозговитый, сказанул дак сказанул ей: «Сосерцай и помалкивай!»
— Ох! — воскликнул Курнопай, будто он веселился, а ему дали щелчок в солнечное сплетение.
— Ты че? — удивилась бабушка Лемуриха и заотворачивалась от внука, видя, как позывы на хохот корежат его лицо.
— По-ов-фтори, как сказал свящавт?
— Это самое… «Сосерцай и помалкивай».
— Курнопча́, бабушка сказала «сосерцай». «Зэ» не выговорилось, вероятно, из-за дупла в зубе.
— Нет у меня никакого дупла. Сосна я, что ль? Я в точности повторила. Дурачат еще! Тискались бы до сих пор в пещере, кабы не я. Вота попрошу Болт Бух Грея отобрать у вас карт-бланш, света не взвидите.
— Не сердитесь на нас, бабушка Лемуриха. Новое поколение самонадеянное. Оно недооценивает разум предков.
— Правильно, доченька. Не зря Болт Бух Грей поставил тебя председательницей тайного общества. Как там его кличут, запамятовала.
— Да не тайное общество, бабушка Лемуриха.
— Все одно оно не по мне.
— Ба, напрасно отрекаешься. Ей подведомственна идея масонства…
— Зачем мне какое-то масонство?
— Ба, завтра может выясниться, что ты потеряешь пост, если не вступишь в масонскую ложу.
— Я за прежнее тебе не простила, и опять с насмешками. Вота подскажу Болт Бух Грею отнять у тебя карт-бланш. Покажи, дурачоня ты мой. Люблю бумаги, отпечатанные золотом.
— Ба, дай-ка поцелую тебя. Ты у нас все как школьница.
— Не хочешь — не показывай. Только бы ты с Фэйхоа ума-разума набирался.
Полная свобода обладает странным свойством: побуждает к зависимости. Эта зависимость зачастую непреодолима. Она является не столько расчисленной зависимостью ума, сколько многомерной зависимостью души. Принявшись за документ, Курнопай испытывал побуждение (и во сне оно не прекращалось, какое-то бредовое) поговорить с Болт Бух Греем о назначении ревизорства, а главное о постоянном взаимодействии его, Курнопая, с правительственными чинами в столице и на местах. Он не собирался сводить свою заботу к пользе и целесообразности. Прежде всего само державное ревизорство представлялось ему некиим духовным органом, чуждым бюрократическим отправлениям, оглядка на который, подобно оглядке на САМОГО, на религию и нравственность, должна гармонизировать чувство взаимной ответственности людей перед трудом, долгом, обществом, землей, вселенной. Но что же, мешая сосредоточиваться, заставляло Курнопая в мыслях и чувствах обращаться вокруг Болт Бух Грея? Что только не мнилось Курнопаю за тем, почему он точно бы находится на внутренней привязи у священного автократа: запоздалый стресс, вызванный приговором к замурованию; перенапряжение воли в тот день, когда он и Ковылко получили демонстрацию, организованную Каской, были арестованы и спаслись от народной и собственной трагедии лишь мудрой непреклонностью Фэйхоа; тревожная щепетильность оказаться во мнении страны и правительства неблагодарным Болт Бух Грею за самостийность замыслов и поступков, которыми раньше успел себя запятнать; вероятность подвоха со стороны властелина в отмщение им, Ковылко, Фэйхоа…
Э, стоп. САМ передал власть Болт Бух Грею. Так почему же Болт Бух Грею в свою очередь не проникнуться доверием к кому-нибудь из верхушки, в частности к нему? Да и таков ли священный автократ, чтобы не давать всем и каждому соучаствовать в делах преобразования общества? Все-таки, пожалуй, не таков. Ведь закоснелый диктатор противодействует тому, что исходит не от него. А Болт Бух Грей, как бы то ни было, сумел подчинить себя ходу событий, даже отреагировал на домового; есть домовой или нет, но этот образ дремы или знак дворцовых духов внушил ему решение: снять запрет с религий. Да-да, четкая логика, а потому надо освобождаться от покровов зависимости. Карт-бланш, карт-бланш! И опять зудилось поехать к Болт Бух Грею, но он сдерживался, теряясь в догадках, от чего не в силах собраться с волей, и честил себя за неспособность заизолироваться от магического притяжения первой фигуры, за неуяснимость собственного состояния перед лицом верхов: наверняка не застрахован от фантастического изуверства, из-за какого великий полководец Данциг-Сикорский, оставаясь в живых, до сих пор как бы небытиен.
В конце концов Курнопай только тогда начал слагать документ, когда вдруг догадался, что он человек, одержимый манией одинокости, если не считать Фэйхоа и бабушку Лемуриху, следовательно, беззащитен и сам себе надежда.
По тому, что Курнопай знал и пережил, у него создалось впечатление о необходимости контроля за деятельностью всего правительственного аппарата сверху донизу, в особенности за деятельностью инстанций, занимающихся надзором за правильным исполнением законов, дознанием, слежением, применяющих карательные меры, а также осуществляющих правоведение и арбитраж. Нет, он не исходил из мысли, будто эти иерархии управления, законоприменения и законоохраны склонны к нарушениям и преступности куда больше, чем рядовые граждане, владельцы фирм, контор, зрелищно-развлекательных мест, газетно-издательских трестов, адмвоспитатели школ, колледжей, университетов. Просто он понимал, каковы их способности к сокрытию и всезащищенности.
Курнопай готовил положение о державном ревизорстве, исходя из надежды, что это будет орган верховной справедливости народа Самии.
Болт Бух Грей, едва просмотрев документ, звучно произнес:
— Лапидарно!
Звучность была внеоценочная, определенная словом, которое не встречалось Курнопаю, и Курнопай ощутил где-то в подвздошье холодок провала.
— В тех, в ком души не чаешь, всегда жутко разочаровываться.
Наверно, потому, что слишком обнадежился в прочности своего положения, Курнопай обомлел от страха. Сейчас Болт Бух Грей скажет, что умственный уровень, продемонстрированный им, не имеет ничего общего с государственным видением.
— Разочарование в обожаемой личности равнозначно страшнейшей утрате. Что я говорю? Оно равнозначно параноической депрессии.
Тревога вылилась у Курнопая в лепет оправдания, чего с ним не случалось с детства.
— Я… посоветоваться… Без опыта…
— Помолчи. Ты кратко изложил задачи ревизорства. Не поддается немедленному осознанию твой грандиознейший замах просматривать деятельность прокуратуры, министерств юстиции, внутренних дел. Курнопа-Курнопай, однако, сложнейшее прочтение предлагается. Первый слой: разрушение коррупции. Еще Главправ собирался перетрясти прокуратуру. Погрязла во взяточничестве и взаимодействует с мафиями — от сфер торговых, учебных, медицинских до зрелищно-игорных, телевизионно-газетных, дипломатических. Я уже учел тот отвратительный опыт. Мой державный прокурор не участвует в назначении послов, ректоров, администраторов ипподромов, президентов советов корпораций. Их я назначаю. Не подозревая о кощунственной взаимосвязи сил порядка и преступления, ты гениально догадался. Итак, ты будешь ревизовать контроль, надзирать надзор, выявлять нарушителей выявлений. Господствовать над господством! Не страшишься?
— Я? Господствовать? Не-э.
— Не рассудком. Сердцем. О, рассудком тоже.
— И вовсе не было…
— Спонтанно. Неподозреваемо.
— Уверен — нет.
— Эк напор к господству. Вспомни день посвящения.
— Мальчишеское.
— Имеется закон сохранения человеческих свойств: что проклевывалось еще в младенчестве, то и остается. Интересоваться надо генетикой, вопросами психологии личности. Не в укор сказал, что ты спонтанно готов господствовать над господством.
— И все же контроль — не господство, а удержание в рамках закона, в пределах справедливости, присущих великому САМОМУ, нашему народу, вам.
— Поймешь, что заблуждался. Весьма скоро. Почему я поставил именно тебя во главе державного ревизорства? Ты предрасположен властвовать, причем властвовать над властвующими, что гораздо сложней, чем властвовать над массами. Чего я желаю? Дабы ты строго соблюдал границу между моей властью и твоей, дабы ты сработался с лидерами верховной власти, дабы ты не подыгрывал массам в их неправомочных требованиях к аппарату господства, в том числе — частнособственнического. Уверен, что ты это уже учел. И последнее: как ты не будешь контролировать религии вообще и сексрелигию в частности, так ты не будешь контролировать прессу, телевидение, органы разведки, службу пресечения антидержавного экстремизма. Все это конкретизировано в инструкции, разработанной мною в помощь тебе, мой преданный любимец.
Болт Бух Грей взял из сейфа книжку-малютку. Свежий лоск ее серых, с проголубью створок, закрытых, как портмоне на шишчатые застежки, приманивал взгляд мерцаньем золота. Растепленное удовольствием, только что отлито-строгое, лицо Болт Бух Грея заставило Курнопая положить на воздух в восторженном нетерпении руку вверх ладонью. Малютка занимала половину ладони. Ее золотое мерцанье застыло совой, вцепившейся когтями в рукоятку меча.
Ниже было оттиснуто изречение: «Мудрость и возмездие уравновешивают страсти людей и обществ». Еще ниже, крупней, глубже выдавленные в коже, сияли три буквы: Б. Б. Г.
На титульном листе, под заглавием «Инструкция», воспроизводился точечный рисунок. В нем прибрезжилось Курнопаю что-то знакомое, но давнее. Он еще не пытался восстановить, почему из его отсюда начал прокладываться мостик в прошлое, как память высветила покои Фэйхоа в день посвящения.
Лампионы. Шуршат и сверкают трассы возбужденной ртути. Тень на экране, дробливая, прядающая, смыкающаяся в лик, задумчиво склоненный над равниной тьмы, похожей на толпу, бредущую в ночи. («Дети света, неужели мы бредем во тьме даже под солнцем?») Фэйхоа зажигает ароматические палочки, вставленные в колчаны серебряных амуров. Прикрепленные к цепочкам, тонким до незаметности, амуры парят в сизом воздухе, будто бы ищут цель для стрел, оперенье которых вместе с натянутой тетивой зажато в проказливых пальчиках. С пластин зеркального складня целят в Фэйхоа привинченные к стеклу купидоны. Фэйхоа сбрасывает на купидонов тонкие одеяния, сквозь дымовую пряжу ароматических палочек кажется, что она изгибается, точно змея найа найа найа. Запечатлевшееся тогда, захотелось Курнопаю поправить, но прошлое, обычно переделываемое людьми, уже кое в чем изменилось в его памяти. Он только и подумал, досадуя на кажущуюся неизменяемость прошлого, что, похоже, воспитанниц питомника учили завораживающей гибкости тела по движениям императорских кобр? В этот миг наконец-то тисненый рисунок в три человеческих фигуры увязался в воображении Курнопая с тем, что происходило в покоях Фэйхоа и о чем она рассказывала ему в день посвящения.
Главправ Черный Лебедь отослал евнухов и рубанул ладонью воздух перед Фэйхоа, будто бы рассек незримо одежды, и она обнажилась невольно, но мигом очнулась, заметив в проеме двери широкогубую полинезийку Юлу. Юла подбежала, готовная, присела возле их ног на корточки. Лицо запрокинуто, глаза словно наполнились черной тушью — неотвратимость, ужатые губы, беззащитна. На песчанике Черной Пагоды, как и на книжной гравюре, воспроизводящей скульптуру, все трое: он, она, служанка, нет, жрица, юны. Она им на помощь, неопытным и стыдливым, жрица. А Главправ, немощный наслажденец, приспособил к себе это знание. Но для чего на титуле инструкции по державному ревизорству три этих фигуры?
— Спрашивай, — патетически сказал Болт Бух Грей. Загадка иносказания была известна лишь ему.
— А нужен ли здесь сексрелигиозный символ?
— Сосредоточивши ум, пробуришься к смысловому ядру.
— Вы полностью вывели религии из-под контроля нашего ведомства, отсюда…
— Твоего ведомства, первое. Во-вторых, данная аллюзия носит трехэтажный характер: он — это я, священный автократ, она — держава, предсидящая у их ног — средства возбуждения, к примеру, цель, слова, прибыль, благодарение потомков.
— Но… держава — это сразу правительство и народ, и его земля и государство, и частные владенья, и промфирмы…
— Прешь в законники. Отдаю должное себе: прозорливец! Именно личность с хваткой бешеного законника должна возглавлять ревизорство. Что же касается твоего намека, будто я как правитель вхожу в смысловой объем понятия «держава», в данном ракурсе ты продемонстрировал косность. Перепоручение САМИМ мне, его потомку, всей полноты власти сделало меня фигурой над. Нет никого и ничего над кем и над чем бы я не возвышался. Я — лицо наддержавное, надконституционное, надрелигиозное и кое в чем надпланетарное.
— Свое ведомство, господин священный автократ, я отказываюсь отождествлять с возбудительницей или там жрицей, сидящей на корточках перед ним и ею, намеренными совокупляться без любви.
— Ах, Курнопа-Курнопай, ничего не исчезает. Выскочил, увы, твой детский симптом.
— Не нахожу.
— Каков симптом? Стремление к необоснованной власти. Не может быть твое ведомство выше коленей священного автократа и державы.
— Дело не в выше. Я против того, чтобы роль ревизорства низводилась до обслуживания, какое практикуется в Париже на улице Сен-Дени или в Гамбурге на улице Рипербам.
— Дабы я подталкивал ревизорство к проституированию? Травма воображения от прошлого. Новая эпоха, Курнопай. Клади инструкцию в карман и пользуйся. Вспоминай при этом, что я на совесть потрудился ради тебя.
Курнопай раскрыл инструкцию, выдрал титул с унизительно неуместной гравюрой, скомкал, выбросил в распахнутое окно. Белый комочек покатился по листу хлебного дерева, похожему на ухо слона, соскользнул на мох, зернящийся каплями свежей поливки. Только что здесь проходил с лейкой маршал Данциг-Сикорский.
«И поделом», — подумалось Курнопаю.
Болт Бух Грей, оскорбленный, велел ему убираться ко всем чертям.
Едва Курнопай вскочил на подоконник, священный автократ гребанул накогченной рукой воздух, дескать, назад, ко мне, но так как неблагодарный строптивец сиганул за окно, он и сам порхнул за ним, а приземляясь, схватил за шею и, угибая к земле, с мстительным восторгом рычал:
— Про-аклятущий хар-рактер! Каска, Лемуриха, Хоккейная Клюшка одни меня поймут. Весь в Чернозуба, в моего выдвиженца и упрямого директора, который, как ты, не соображает, что не власть обеспечивает заработок и производственную экологию, а старательность в труде, самопожертвование без корысти. Кстати, возблагодари САМОГО за то, что я принимал тебя в кабинете второго этажа. Я предвидел, что ты выкинешь смертельное сальто-мортале. Возблагодари САМОГО, возблагодари ЕГО наместника на земле, не впервые спасшего твою жизнь. Иди, дурашлеп, и начинай работать во благо Болт Бух Грея и многострадальной Самии. Наша Самия подобна тебе. У нее обостренная, ни с чем не сообразующаяся честь, и она пока слабо овладела законами дела: расчет, обогащение, цель, оправдывающая средства, — каковые поверхностному воззрению представляются негуманными, но, крути не крути, они незаменимы с точки зрения человечности, потому что создают общества благополучия. По-твоему, все зависимое — негативно, все независимое — позитивно. Что касается независимости, она являет собой гордыню индивидуалистов и властолюбцев, амбиции каковых выше их духовных качеств. Иди.
Курнопай, старавшийся не вникать в то, что ему втолковывал священный автократ, едва отойдя от него, завозмущался про себя: насобачился говорить неотразимо. Впрочем, автократ бывает ли отразим для современников? Под доказательствами такого ума подспудно присутствует неоспоримость его права на средства преследования и кары. О, подлец, зачем я так о нем? Баловень с норовом носорога. Как не разлюбила меня Фэйхоа? Чуть не довел до самоубийства. Как терпит бабушка Лемуриха? Чем я привлек Огомия? Я, наверно, неблагодарен? А Кива Ава Чел мне не мстит. Только мама непримирима. Что я за сын?! Чем только ни терзалось мое сердце, но только не сыновним забвением.
Давно Курнопай видел в парке телецентра огнекрылое дерево банксию. Мало что вспоминалось ему в училищную пору, а банксия вспоминалась до грез; однажды во сне ему почудилось, что он видит в небе стаю розовых фламинго. Пригляделся — банксии летят.
На цветущие банксии он выскочил, опасаясь быть остановленным Болт Бух Греем, а также несуществующе-живым маршалом Данциг-Сикорским. (Возможно, где-то в подкорке и для него вытанцовывалась беспощадной парадоксальности судьба.) И пробежал он мимо банксии, слегка различив над лепестками, слагавшимися в крылья, тычинковые заросли. И что-то еще мелькнуло среди тычинок, над «перьями»: должно быть, зернь тычинок, рядами? Не остановишься. Не до пристальности. Бег. Куда? От кого? От себя? К кому? К Фэйхоа? К Болт Бух Грею, Каске, Огомию, Киве Аве Чел? К себе? Целиком и полностью? Герметизация собственного сердцевинного «я» не есть ли абсолют независимости? «Я» вокругсердцевинное, оболочечное приоткрывать, а туда, к сердцевинному, никого не подпускать, кроме Фэйхоа. Может, и ее не подпускать? Беременность подняла в ней инстинкт самосохранения, инстинкт защиты мужа. Перед его приемом у священного автократа твердила почти неотступно:
— Чувство меры, такт…
Не из робких, а затрепещешь.
Именно за банксиями настиг Курнопая голос, полный торжественной веры:
— Мой персональный любимец, будем работать обоюдно.
Непроизвольно Курнопай передразнил священного автократа «…юдно, …юдно», — но так как мгновение спустя пурпурные крылья банксий растрепало сквозняком, на него напала робость:
«Неужто САМ рассердился и подал знак?» — и он браво отозвался:
— Обоюдно будем работать, мой единственный предводитель.
Об отце Курнопай соскучился. Не столько ради встречи с ним отправился на смолоцианистый завод, сколько для того, чтобы узнать, как там дела после забастовки.
Застал отца в кабинете с вольно распахнутыми дверями. На дверях, выше надписи «Председатель державного самоуправляющегося предприятия», был накатан через трафарет чей-то карикатурный рот: губы фиолетовые, зубы черные, просветы между ними до того широки — слон пройдет, не заденет.
Из-за сыновнего волнения, не склонного к насмешке, не связал Курнопай малярное изображение с особенностью Ковылкиного облика. А когда увидел отца, пузырившего в стакан газировку, тем более не протянулась в его воображении ниточка от гипертрофированного рта до родного папаши, который опять стал блондином и почти белозубым: под смолой хорошо сохранилась, никотиново притемняясь, эмаль. Правда, природный цвет его лица, кровь с молоком, потерялся в избура-темном румянце.
— Во-во, чик-в-чик вы пожаловали, господин державный ревизор.
Тон вроде радостный, но не родственный. Отец, вероятно, так освоился со своим положением, будто получил его по наследству.
«Изменчивое существо — человек, — досадливо подумал Курнопай. — Но, случись наоборот, из председателей в рабочие, не обнаружил бы мой родитель этакой пластичности. А я? Я точно бы из пэров и предложен на ревизорство палатой лордов».
— Во, грызусь с замом по технологии и финансам. — Отмашка отцовской руки в сторону плотного мужчины. Не рука — ручища, хоть двойню младенцев сажай на ладонь. — Господин Скуттерини, во, образованный… Вместе с тем сознательностью любой малограмотный рабочий его перехлестнет.
Скуттерини поерзал в кресле, спинка которого была настолько высока, что, сядь ему на голову такой же борцеватый крепыш, его лысая голова продолжала бы оставаться в тени. Поерзал и отвернулся от них обоих, скрепивших встречу грубым рукопожатием: до треска в суставах между фалангами.
— Ты встань-ка, господин технократ-финансист. Ведь грозное начальство прибыло, — промолвил Чернозуб.
Скуттерини приподнял плечи. Ему все равно, какое начальство. Никто в горестных обстоятельствах не облегчит страданий. Как бы для подтверждения безвыходности он завалил голову на плечо; продолжая держать ее в наклоне, покачал ею.
— Грызусь с ним, почитай, чуть заступивши председателем. Он президентом был здеся. Под ним ходило четыре директора: смолоперегонки, коксового производства, транспорта и шихтового хозяйства, химического подразделения. Мы-то считали смолоцианку государственной. Она-то, всплыло, была пополам-напополам: государственная и акционерная. Скуттерини самолично владел половиной акций. Теперича, говорит, будто бы отказал свою долю в пользу нации.
Курнопай иначе глянул на отвернувшегося Скуттерини.
Уверенный в том, что надо умерить наступательный пыл отца, Курнопай сказал ему, что зачем-де господин председатель грызется с исключительным патриотом Самии. Тогда отец пробормотал, почему-то нимало ни смутясь:
— Патриот-то он патриот, да мимо рта и кукиш не пронесет. — Из-за чего Скуттерини скорбно повернул лицо к Чернозубу, оглядев его, толкнул брови вверх, опять же при наклоненной голове, только на правую щеку, а встретясь взором с пристальными зрачками Курнопая, заподводил очи под лоб.
— Во-во, безвинный ребенок. Последнее отдал. Остался ветер в кармане да вошь на аркане. Не у него дворец в столице, уставленный мебелью Наполеона и Людовика, увешанный картинами… Краденая мебель-то, картины-то из музеев. Не по дешевке купил. Какую цену заламывали, такую платил. Набивайся в дружки. Подмогнет пробраться в пайщики транснациональных корпораций. Сам-то он пайщик-перепайщик транснациональных корпораций. Из Африки, из Азии, из Европы прибыли качает посильней, чем качалки нефть. Чистый кандиру.
Было вознамерившийся свалить сиятельно-лысую голову на левую щеку, чтобы продемонстрировать безнадежность, Скуттерини при слове «кандиру» как бы катапультировался из кресла и вылетел в приемную. Выражение надежды исчезло с отцовского лица.
— Грызусь, да толку-то что? — посетовал он. — От Бульдозера, министра промышленности, Скуттерини получил полномочия… Ну я, в случае чего, перед ним ноль без палочки?
— Неограниченные полномочия?
— Мудреная иностранщина…
— Карт-бланш.
— Во-во! Мощное, видать, образование в училище получил?
— А…
— Не «а», а о-го-го! Мне вот в пору схватиться за башку и вопить «а» от безграмотности.
— Погоди, отец. Кандиру — что значит?
— В подростках, стыдобушка, да эдак оно было, с двумя дружками сперли у туристов плот, и айда-пошел сплавляться по Огоме. До гор дотащило — протоки начались, мели. Промеж проток — острова. Что-что из плодов ни растет! Кто-кто из дичи ни водится! К острову приткнемся и отъедаемся. Подплываем однова к острову — подростки племени быху блекочут недуром. И все вскрикивают: «Кандиру!» Мы к ним. Лежит парнишка, коленки в подбородок, умирает от боли. Доску из воды вытягивал, и ему в прибор, в канальчик, значит, юркнул сомик кандиру. Спасти можно было, покуда сомик по канальчику лез.
— Каким образом?
— Жутким. Отсечь. Кандиру обычно пролазит до потрохов. Кровососничает. Всю кровь вытянет, и человек гибнет. Скуттерини как есть кандиру.
— А ты не преувеличиваешь, папа?
— Сынок, здеся маскировка. Кое-что наш брат, работяга, пронюхивает. Мне порассказали… При Главном Правителе и при Сержантитете за пять лет ох что́ Скуттерини со своей техномафией вытворял… Кокса для домен, скажем, выпекли три миллиона тонн, в цифрах показывали два. От миллиона капитал в банки-сейфы. Показатели по смоле тоже занижали, по соде, по фенолу, по цианистому калию. Фирмы, кому сбагривали утаенную продукцию, в свой черед занижали показатели у себя. Прибыли несусветные.
— Что-то новое, отец.
— Новое, поди-ка, со старыми туннелями для откачки золотых слитков. Паразитирование на паразитах давно повелось. Не поверю, чтоб Скуттерини подарил народу акции смолоцианки. Да он бы вперед на своих кишках повесился. Возьми приказ министра Бульдозера именоваться смолоцианке державным самоуправляющимся предприятием. Мы — самоуправляющиеся? Откудова? Рабочие предлагают поменять аварийные подъемные краны, коксовыталкиватели, электровозы, вагоноопрокидыватели… Газу еще полным-полно. Как есть душегубка. Рабочий совет и я инженеров привлекаем, план составляем, Скуттерини большинство предложений отшвыривает. Я к министру, он: «Компетенция твоего зампреда по финансам и технологии». Я — министру: «Меня и рабочих, инженеров кое-кого не устраивает его подход». Министр: «Компетентней Скуттерини лишь САМ, но он передал свои полномочия священному автократу. Священный же автократ ничем, кроме государственных и глобальных вопросов, не занимается. «Как быть?» — «Слушать зампреда». — «Он — плотинщик: что ни предложи — перекроет». — «Он три университета кончал, три докторских степени имеет». — «Все они шибко ученые, да только для одного — для ограбления народа, его обычаев, чувств да умственности». — «Клевета. Слушай зампреда».
— Н-да, замкнутый круг.
— Колесо палача, на котором четвертуют. Сомнение, сынок, в том — как мы есть на самом деле не самоуправляющиеся, так мы и не державные.
— Я назначу ревизию финансово-технологической службе. А почему вы не державные?
— Думаю, ничего Скуттерини не отдавал в пользу нации. Просто его капитал в документах смолоцианки не показывается. Прибыль гребет, поди-ка, побо́льшую, чем раньше, и делится ею с министром, еще кое с кем у нас, остальное — за кордон, транснациональным спрутам.
— Домысел?
— Кто у нас ближе всех к солнцу?
— САМ вне треклятых законов расчета.
— Не, мож, кто чуть пониже.
— Пунктик, отец. У священного автократа в руках ценности державы. Нет резона в корысти.
— Во-во, дурачок наивный. Коль тебе ничего не надо… Он, как и Скуттерини…
— Напраслина, отец. Свящавт стал жить на крестьянский лад: скромней скромного.
— Мне, сын, кислород перекрывает Скуттерини, тебе кислород будет перекрывать Болт Бух Грей.
— Зачем бы ему назначать меня державным ревизором?
— Ой-йи… Испокон веку честняги — прекрасные ширмы для преступников. Коль чистого человека назначил священный бюрократ…
— Автократ…
— Коль чистого назначил, стало быть, народ думать будет — Болт Бух Грей незапятнанный.
— Напраслина, отец.
— Ой-йи… Страшусь за тебя. Сколько лет народу заработки не платили, навалом прибыль шла… Скуттерини же уверяет, будто бы мы не погасили своих иностранных долгов. А Болт Бух Грей тебе говорил — погасили.
— Папа, папа, доколь ты будешь мнительным?
— Разборчивый я, сынок.
Комиссию державного ревизорства, куда Курнопай включил химика, промышленного экономиста, юриста, занимавшегося трудовым правом в области металлургии, санитарного врача, следователя, специальностью которого были коррупция и скрытые доходы, едва она занялась смолоцианкой, в одну из ночей разбудил шофер микроавтобуса — крупный детина в хрустких кожаных штанах и рыжем свитере. Извинительно шаркая гигантскими ботинками (от пинка под зад таким ботинком любой из них мог бы преодолеть земное тяготение), он, словно того требовала неотложность, впопыхах оповещал каждого члена комиссии:
— Велено вернуться в столицу.
Суетливые сборы, нахолодалый микроавтобус, посвист протекторов от шальной скорости, высадка в гудроновой тьме столицы, обязавшейся в течение года сберегать все энергии, за исключением трудовых сил человека.
Утром, обнаружив исчезновение комиссии, Чернозуб позвонил сыну. Сгоряча напал на него: из-за ловкаческой неуязвимости Скуттерини он и Курнопая заподозрил в потворстве воротиле. К негодованию отца Курнопай развеселился. Возглавлял комиссию химик. Курнопай тотчас соединился с химиком и узнал о том, как все произошло. Ничего не оставалось, как подтрунить над ним участливо, в следующий-де раз, когда с фразочкой «Велено вернуться в столицу» приедет бензозаправщик станции автосервиса, вы дуйте по домам пешочком. Попросив Чернозуба и химика повременить у телефонов, Курнопай позвонил священному автократу и улыбчивым голосом рассказал об историйке, приключившейся с пятью ревизорами.
Болт Бух Грей не принял развлекательной подачи. Он всегда подозревал, что личности, чрезмерно требовательные в нравственном и социально-философском аспекте, слишком благодушны и, чего греха таить, неразборчивы при формировании штатов. Штаты, какие бы задачи ты им ни поставил, даже адские, должны их решить. Лопоухие ревизоры подобны небдительным таможенникам, следовательно, от них необходимо освобождаться без промедления.
Курнопаю было важно выведать, не кроется ли за психологическим попаданием, которое и обмануло, и опозорило ревизоров, первый снайпер державы. По тому, как повел себя автократ, он склонил себя к выводу: «Здесь его нет». Но тут же заподозрил в этом Бульдозера, который, вероятно, тоже не обошелся без выучки Ганса Магмейстера. Что ж, все правильно: себялюбец, недоброжелатель, завистник превратился в противника. И чтобы опрометчивую доверчивость ревизоров не превратить в свой провал, Курнопай отверг высокое соображение Болт Бух Грея: прожженные людишки — те бы не опрокудились, а честные люди, эти подловились на безгрешности. Почему быть им и впредь державными ревизорами.
— Сакраментально! — смачно воскликнул священный автократ. — Не опротестовываю: карт-бланш. Дабы придать проверке полноту авторитета, я бы советовал, мой любимый соратник, тебе самому поехать на сутки-другие со своими губошлепами. Напоминаю существеннейший пункт моей инструкции: тот, кто уклоняется от проверки, чинит ей препятствия или прибегает к сокрытию документов и фактов, без суда и следствия изолируется в одиночную камеру территориальной тюрьмы на все время ревизии по личному требованию держревизора.
Курнопай надеялся увидеть Ковылко, воспрянувшего духом, а отец еще сильней поугрюмел и почему-то на зубах, пусть и тонюсенькая, обозначилась смоляная пленка. Оказывается, он не поднимался на коксовые печи и на минуту. Просто такую штуку выкомаривает его организм. Чересчур понервничает, глядь, смолка вытопилась из зубов. Он и сейчас накален до предела. Скуттерини отдал приказ разобрать внутренность помещения, где рабочие жили в период черного смога. Отец было попробовал отменить приказ, да умылся. Приказ Скуттерини был отдан во исполнение распоряжения министра промышленности Бульдозера.
Курнопая покоробило переживание отца, и он сказал, что чем скорей исчезнет общежитие, тем быстрей израненные души смолоцианщиков перестанут саднить от прискорбных воспоминаний эпохи Трех «Бэ».
Чернозуб заорал, как оголтелый. По ошибке, из-за обмана, Курнопа — народный любимец. На самом деле — лжелюбимец. Спаривается с державной верхушкой, с подлецами-технократами. Общежитие надо оставить как музей промышленного фашизма. Вдругорядь несподручно будет магнатской сволоте завести в стране самое что ни на есть форменное рабство.
Смыкая свинцовые губы и ширя от трепета ноздри, Чернозуб наладил дыхание и дальше принялся выкрикивать. Ему открылись повадки воротил. Натворивши злодеяний, каким позавиствовали бы закоперщики пыток в аду, они устраняют следы преступлений. Женщину и ее дитё на руках, в Хиросиме, которых обуглил атомный взрыв, их погребли, а надо бы в стеклянный саркофаг, чтоб души людей пронимало бедой-печалью, способной всех без исключения сделать борцами против изуверства. В Хиросиме-то все вышло шито-крыто в основном, ну там фотоснимки, картины, памятник, где девочка с журавликом… Лишь сами жертвы, та же женщина с дитём на руках, они бы могли окоротить изобретателей насилия и военных пагуб. На смолоцианке был самый что ни на есть промышленный фашизм. Скуттерини действует не сам по себе, наверняка по решению олигархии, какая тогда же, после убийства Главправа, как пить дать свинтилась с головкой сержантишек.
Опять истончилось и пресеклось дыхание отца, который говорил до того бессомненно, что Курнопай не мог не согласиться с ним и позвонил Бульдозеру. Правды ему не обозначил. На днях Кива Ава Чел, навестившая Курнопая в резиденции, как сперва она сказала с милой прямолинейностью, порадовать его («Ребеночек так и взбрыкивает, сорванец, так и пинается!») — «Ох, врет, наверно?» — подумал он, еще не зная, когда плод начинает шевелиться), умоляла Курнопая не откровенничать в письмах — Болт Бух Грей перлюстрирует переписку верховных лиц; не прокалываться по телефону — ведется электронная запись по двум темам: отношение к священному автократу и вольномыслие, причем оценку дают сами кибернетические машины по системе минус-баллов и плюс-баллов. Плюс-баллы будут браться на предмет финансово-материальных наград и для воздания всенародной славы через телевидение, печать, радио. Показания по минус-баллам будут использоваться в духе воспитательного прессинга до тех пор, пока внушения не образумят отступника или пока он не наберет сто роковых очков, за чем последует его отлучение от власти. Курнопай придумал другую причину:
— Необходимо превратить общежитие в центр культурного отдыха и развлечений. Библиотека есть, шахматная комната…
Бульдозер поспешил сделать ехидное добавление:
— Сексзал тоже имеется.
— Сексдевиц отменить. Будут убирать помещение и менять монеты для игральных автоматов.
— Не пойдет. Секс миллионы лет — самая привлекательная игра. И что важней, так это — сексрелигия остается главной религией Самии. Изменение функций сексдевиц разгневает священного автократа. Последствия непредсказуемы. О подвесных кроватях? Для какой цели оставлять кровати?
— Люди устают от домашней жизни. Чуть что — заночевал в центре.
— Идея. Там стеклянный купол. Содержать купол в чистоте. Пусть отшельнички глазеют на звезды. Своего рода планетарий. Глазей, расслабляйся душой и телом.
— Господин министр, после выпуска из училища моя жизнь состояла из попыток достичь согласия. Догадываюсь, что проблема согласия — самая трудная из проблем. А вы сходу поняли меня.
— Зря, что ль, некогда мы беседовали на быстроходной посудине? Понять между тем мало. Надо иметь возможности. В современных условиях было бы роскошью основывать на смолоцианке центр духовного отдыха и развлечений. Все заводы захотят завести центры. Не потянем. Лопнет экономика. Мы ее укрепили, сделали эластичней, разворотливей. Гуманистические фантазии редко увязываются с законами экономики. Перевооружение армии, раз. Рост потребления, два. Взаимодействие с экономиками родственных стран мира, не без выгоды, три. Помощь в прибыли частному капиталу. Без благоприятствования капиталу мы лопнем. Англия благоприятствует, Штаты, Япония… Выдвинуть идею мало. Прожектерство — при полном согласии абсолютная беспомощность. Будем соотноситься, любимец из любимцев священного автократа Болт Бух Грея и народа Самии.
Скуттерини, кем-то оповещенный о безрезультатном разговоре Курнопая с министром, явно для закрепления отчаяния отца и сына прислал в директорскую квартиру сексдевицу. Не кто-нибудь принес ее на руках, а Двойняшка, недавний напарник Ковылко по работе на смолотоке. Его назвали так в память о брате, умершем при рождении. Зубы Двойняшки, в отличие от Ковылко, плотные, поэтому из-за смоляного напыления походили на отполированные до блеска базальтовые скобы. Укоризна Ковылко, как, дескать, ты мог взяться за поручение, коли досконально знал, что твой товарищ даже в годы мрака ни разу не польстился ни на одну из сексдевиц, вызвала у Двойняшки ужимку плечом.
Двойняшка медвежковато попереваливался с лапы на лапу и пораскачивался туловищем. Каким Чернозуб был раньше, то в счет не пригребешь. Тогда ведь он не мечтал взлететь в большущие начальники. Ему самому, может, не примнилось что-либо неприличное в перемене положения, зато другим-то перемена видна. Ковылко не преминул попытать у него, в чем перемена, на что Двойняшка ответил, будто бы перескок из работяг в крупные чины не происходит без осквернения души, иначе кто б его стал подсаживать в председатели. По морали и подарок.
Впрямую вступиться за отца Курнопаю было неудобно, и он, словно напраслина не задела его, тихо заметил, что вовсе необязателен душевный ущерб как плата за высокое назначение. Только что говоривший тоном невозмутимого увальня, Двойняшка посуровел, готовый спорить и кулаками.
— Коли вы главнопроверяющий, господин Курнопай, какой из вас справедливец, коль родного отца берете под защиту? Приличия не соблюдаете.
Он положил на председательский стол сексдевицу, буркнул, что инструкция по эксплуатации у нее за пазухой, а миновав тамбурные двери, оглянулся, досадливый.
— Под соусом «за народ» старались, на поверку — чинохватство.
— Фальшь! — крикнул Курнопай.
Едва успели Курнопай и Ковылко глянуть скорбно друг другу в глаза, в кабинет внырнул Скуттерини. И затараторил, затараторил с восторженным захлебом, напоминающим сербание жаркого черепашьего супа. Блеск, что принял подарок. Коллектив смолоцианки воспрянет. Думали — импотент. Согласно учению Зигмунда Фрейда, импотент — во всем импотент. Причем у импотента страшней физического дефекта — умственный дефект. Он радуется мужской полноценности Чернозуба! Но если потребуются не бионические секс-девицы — живые юные искусительницы, он подберет, доставит, оплатит на годы. Гарем — это активизация, чувственный рай, долгожительство. Кто имел гаремы из гаремов и немыслимое количество наложниц, был великаном из великанов. И непременно он проведет гарем Чернозуба через комитет генофондизма, ибо тогда по статусу дети господина председателя в любой момент могут поступить на государственное содержание.
Не могла не возмутить Курнопая вера Скуттерини в то, что, задобрив отца, он умаслит и сына. Курнопай хотел его заклеймить: привыкли покупать людей, воспользовавшись их недолей, жаждой пожить не хуже других, — но физическая ярость обессмыслила слова. Ударом ноги он сбил Скуттерини. Едва тот поднялся, завернул ему руки к лопаткам. Захотелось усадить сексдевицу на плечи Скуттерини. Но каким образом сделать? Еще ничего не придумал, а отец уж сорвал с себя темный менеджерский галстук и перевязал ноги сексдевицы ниже колен. В минуту, когда протискивали между ее ляжками голову Скуттерини, шурхнула вспышка фотоаппарата. В кристаллически-объемном свете обозначились силуэтом две фигуры: репортер, припавший глазом к видоискателю, на брюхе стволы объективов, поверх голенища дырчатого сапога рукоятка браунинга, Двойняшка, опирающийся на дуло пневматической винтовки.
Так и увели Скуттерини, оседланного сексдевицей, сникающей то на один бок, то на другой, репортер и Двойняшка.
Сын и отец, стоя в коридоре, от души нахохотались им вослед, но посмурнели в кабинете. Подловил их проклятый корруптант Скуттерини. И что у них за страна, откуда бы пришелец ни явился, разворачивает дела, как ему заблагорассудится, при полном благоприятствовании властей и под общее непротиводействие народа, умеющего лишь сетовать, а когда пришелец примется изничтожать аборигенов, еще и помалкивать. Национальную всеядность всепрощенцев, живущих на самоотрицание, чужаки как раз и высматривают среди народов и племен планеты.
Здесь их согласное сожаление немного посбоило. На взгляд Ковылко, угрозы самоподкопа в больших размерах нет, однако сын оспорил его непредусмотрительную наивность. Мы — скверные футурологи: на малые годы предопределяем участь своего народа, а чужеземцы, благодаря опыту, строят предвидение собственной судьбы надолго. Любовь к пришельцам, да и небдительность на века затормозила народы и народности той же Индии. А майя, инки из великих народов превратились в осколочные. Чужеземец страшен доброприимным народам тем, что из гостя, которого лелеют, превращается в беспощадного хозяина. Зловещая странность психологии пришельцев превращается в трагедию коренного народа. Фэйхоа рассказывала ему о наблюдении в Индии, сделанном Черным Лебедем, еще посольским сыном, который думать не думал о государственной деятельности. Поведение там иностранных делегаций, затем поездки Черного Лебедя в страны, откуда они были, привело его к выводу: у себя дома они космополиты, на чужбине — националисты. Любопытно, женятся ли сицилийские мафиозо в США на неитальянках?
Ковылко не мог представить себе, чтобы горячие сицилийцы брали в жены только землячек. Что же касаемо Скуттерини, то, по толкам работниц-генофондисток, он наподобие рецидивиста прикрывается тремя чертовыми дюжинами фамилий и кличек: Муса Строитель, Квинтилиан, Мария Нерон, Балубо Коломбо, дон Хуан Фернандес де Толедо, Свинтус Гурманский, Барон Надувайло, Феликс Круль-Юсупов, Азраил Джан Ли… Фамилию Скуттерини, как уверяла генофондистка Ламбертия Прекрасная (он домогался ее, чтобы родились выставочные супермены, но она отфутболила его к страхилюдинам), он взял себе, когда провернул громадный бизнес на скутерах, годных на море, на суше, в воздухе. Та же Ламбертия Прекрасная не называла Скуттерини иначе, как похотливый ишак.
Оба, судача о Скуттерини, непроизвольно заслонялись от переживаний, выводящих воображение к непоправимым неприятностям. И стоило им замолчать, как Ковылко ужаснулся проваленной несдержанности: «Ревизия свернется, и никакими силами его не сковырнуть», — а Курнопай начал сожалеть о том, что втравился в потеху, которую приравняют к издевательству, и подлый Скуттерини будет подаваться похитителями народного благополучия как агнец, а он — ревизором, склонным к произволу.
К полудню фельдъегерь привез Курнопаю пакет от Болт Бух Грея. На маленьком листке (священный автократ по-крестьянски берег бумагу) рвущимся, почти линейным почерком было написано: «Если тебе не дорог престиж собственного «я», тем более престиж одной из самых тончайших и ответственнейших должностей державы, то хотя бы подумал о престиже священного автократа, который взял под свою ответственность твое назначение. Противодействие этому было несусветное. Остался в полном одиночестве. Пришлось дать поручительство. Балбес и баловень судьбы — вот что тебе скажет священный автократ. В отличие от тебя, он читает религиозные книги философского склада. В трактате Газали «Воскрешение наук о вере» имеются выражения, приписываемые Всевышнему Аллаху: «Я не оправдываю свою душу, ведь душа побуждает ко злу». И там же: «Можно ли вообразить, чтобы он любил другого самого по себе, а не ради себя?» Тебе кажется, что священный автократ любит тебя ради себя. Он любит тебя не ради себя — ради САМОГО, Самии, вечной справедливости. Возвращайся, побуждающий свою душу ко злу. Комиссия должна довести ревизию до ума».
Едва Курнопай успел войти в гостиную при его кабинете державного ревизора, туда вбежала бабушка Лемуриха. Она швырнула толстенную вечернюю газету так, чтобы угодить ему в лицо, но газета раскрылась, расслоилась, устелила чуть ли не половину ковра, где были вытканы сцены из битвы кентавров с амазонками. На развороте, как нарочно распахнувшемся подле его ног, чернел снимок. Лицо на зрителя. Наверно, оттого, что он вздернул руки Скуттерини под лопатки, оно плывет, как сливочное масло по сковороде, от мстительного сладострастия. Не помнил он в себе такого чувства, когда подавал согнутого Скуттерини вперед перед захомутанием ногами сексдевицы. Вид девицы и жалкие глаза Скуттерини (какими несчастненькими бывают преступники в момент победительной операции!) задели в Курнопае порочную струнку. Он захихикал с плотоядностью пацана, кому удалось нашкодить.
— Вота! — вскричала бабушка, будто только что пророчила внуку несчастье, и оно мигом начало сбываться. Она вознесла палец к потолку, тем самым как бы затвердила предсказание и выбежала, грохнув бедром о косяк.
Курнопай, не огорченный исчезновением бабушки Лемурихи («Предупреждала. Внушала. Ну и что с того? Ей дорого приспособленчество, ему — тревоги, приносящие справедливость»), поднял разворотливый снимок и прочитал под ним текст:
«Хорошенькое дело! Славные граждане нашего отечества потешаются над бедняжкой Скуттерини. Ай-яй, издревле мы не забижали иностранцев, благодаря чему процветали экономика, усовершенствовалась государственность и военная мощь, возникли философские течения и религии, уничтожившие доморощенную мудрость самийских племенных народов, их простодушные суеверия пастухов, возделывателей корнеплодов, мореплавателей. Если хотите, благодаря чуткости к иностранцам, равной самопожертвованию и в чем-то самозакланию, мы получили всемирную известность народа с космополитизированной душой, чем и оберегаем себя в мире глобальных раздоров, порождаемых узостями националистического эгоизма. Подражание, заимствование — не недостаток, не грех: норма человеческого существования, одно из высочайших качеств природы. Тот из наших славных граждан, кто к нам не спиной — анфас, он ради торжества сексрелигии не улыбнулся с вожделением для кадров, воспроизводимых на фотощитах, но для этого жестокого снимка он позировал с лицом, до краев налитым вожделением. Мы не хотим ловить державного мужа на неуважении к господствующей религиозной идеологии, на попрании традиций страны, усваиваемых другими народами и обществами. Мы только ставим вопрос: «Не пора ли принять закон, каковой бы стал для иностранцев своего рода снарядонепробиваемой, плазмонесжигаемой броней. Особую защиту, своего рода противоатомный бункер, надо ввести законом для иностранцев-жертвователей. Все свои капиталы, заключавшиеся в контрольном пакете акций смолоцианки, Скуттерини подарил рабочему самоуправлению завода и казне. За время, ознаменованное политикой трех «Бэ», Скуттерини зачал около полусотни детей, теперь воспитывающихся в геноинкубаторах».
Безысходность нависла над Курнопаем. Вообразил себя свободно всевластным, а в сущности, его доставили в герметичной клетке, уже выдрессированного, к манежу, примкнули клетку к железокованому тоннелю и подняли творило, и пошел он по тоннелю на свет прожекторов и плохо видел тех, кто наблюдал за ним, а чуть попривыкло зрение, тогда и очутился на манеже, и себя обнаружил до спиленных когтей и вырванных клыков, и недосягаемых за стальным кольцом зрителей, и слабака укротителя, и его ассистента Двойняшку с муляжом испанки, и репортера, и лишь потом ударило в башку, что номер-то задуман и осуществлен неподозреваемым дрессировщиком.
Безысходность опять нависла над Курнопаем, но теперь не мог он найти спасенья в отце, в бабушке Лемурихе, даже в Фэйхоа: она отказалась защищать Курнопая перед Болт Бух Греем, невзирая на то, что была возмущена действием газеты.
Он искал спасения, а необходимо было утешиться. Для мужчины нет ничего утешительней, чем нежность любимой женщины; тогда в светлом уюте меж ласками и забытьем легко поддаются обдумыванию казавшиеся неустранимыми обстоятельства.
Фэйхоа не воспринимала себя как иностранку. Он чувствовал это, и все-таки мнилось ему, что она гораздо справедливей сумеет рассудить о том, действительно ли их обращению с «бедняжкой Скуттерини» возможно придать расистскую окраску. Для Фэйхоа было бессомненно, что именно в двадцатом веке как никогда самоутвердилась порода людей, которая чему угодно какую захочет, такую и придаст окраску. Обманы, возведенные на уровень всевнушающего искусства, дают ей право назвать наш век веком демагогии. Что прискорбней всего — те, кем возбуждаются обманы, необозначаемы, точно движение магмы под земной корой. Причины, питающие обманы, еще потаенней. История и социальные потрясения, конечно, помогают догадываться, зачем кого-то устраивает необозначаемая жизнь: за ее скрытостью — вседоступность, вседозволенность, неправедная власть над властью, пределы которой установить нельзя, как покамест неустановимо, какие внутриземные реки текут из полушария в полушарие.
В глухой час пополуночи, когда Курнопай в бреду сна оправдывал себя и отца перед Лемурихой (бабушка пророчила, что Курнопай не сегодня завтра погибнет, ежели не облагоразумится, да еще утянет за собой ее милого зятька-сына Ковылко), позвонил священный автократ. Ему настолько невмоготу от очередного Курнопаева провала, что он глаз не сомкнул. Снотворные не дают эффекта. В сей ситуации вместо эффекта одни аффекты и дефекты. Сногсшибательный факт: горюет Каска. Я ей говорю: «Мама Вера, где твоя принципиальность? Ты переживаешь за человека, чей контрреволюционный переход на сторону бастующих похоронил эпоху Трех «Бэ». Она: «Стоит взыграть в сердечушке материнскому чувству, все тогда женщине нипочем». — «И революция сержантов?» — «И революция сержантов». — «И теперешнее устройство в Самии? Автократическая республика?» — «Да хоть капиталистический матриархат».
— Неужто прямо так и сказала? — удивился Курнопай.
— Криво ты сказал. Моя Вера — умнейшее создание! В конечном счете Каска просит меня: отстрани-де Курнопу от чудовищной должности, она не по нем, посколь он бесхитростный. Незадолго, мол, до училища он с Лемурихой заработал на добыче морских гребешков уйму денег. Они возвернулись, он мне говорит: «Вырасту большой, на побережье подамся, ферму заведу, чтоб выращивать крабов». Я: «А Фэйхоа?» Она: «Фэйхоа за ним куда угодно переберется». Я: «Родная ты моя Вероника, есть в Самии четверо мужчин, кому я могу доверять: Курнопа-Курнопай, Чернозуб, Огомий — мужичок с ноготок, и я самолично. И есть единственная женщина, пусть это тебя не унизит, на кого я могу положиться в деле оккультных наук, — Фэйхоа. Так почему я должен спроваживать двух несравненных людей куда-то к чертям на океанский берег?» К слову, о постреленке Огомии. Моя несуразнейшая приязнь к тебе, поточней — пароноическая приязнь, передалась Огомию. Он стащил у меня лазерпистолет, дабы убрать Скуттерини, репортера и главного редактора «Вечерней газеты». Дворцовая охранка вовремя подловила Огомия. Сейчас поговаривают о болт-бух-греевской семейственности в державной сфере. Могу себе представить, что бы болтали, перестреляй Огомий сию триаду смельчаков. Что придется тебе сделать? Извинишься через газету перед Скуттерини. За себя и за отца.
Курнопай моментами задремывал, слушая Болт Бух Грея, потому еще сонный начал препираться с ним, взвился и пригрозил отставкой. Священный автократ одушевился: он пошутил. Вся шутка в том, что у большинства обретение более прочного положения отзывается шаткостью совести, даже мелкотравчатой трусостью, вот он решил проверить его на стойкость. Стойкий, слава САМОМУ и его преемнику Болт Бух Грею! Каким образом он, священный автократ, поступил? Велел «Вечерней газете» принести безличное извинение под соусом: купились на сенсационность снимка; из-за азарта, каковой уместен только при игре в карты и рулетку, не удосужились копнуть причину, по которой сексроботесса очутилась на шее чудесного иностранца Скуттерини. Следующее, что он сделает: издаст декрет о том, что державный ревизор, подобно священному автократу, его семья и дети, куда включаются и дети-генофондисты, отныне и навеки неподсудны, а также пользуются правом неприкосновенности со стороны печати и телевидения.
Опережая возражение Курнопая, Болт Бух Грей хмуро пробурчал:
— В условиях, когда на мое имя потоки телеграмм с требованием наказать зарвавшихся Курнопу-Курнопая и Чернозуба, в сих условиях непреложность пункта о неподсудности я сохранил бы в декрете, возрази мне на это даже великий САМ.
Курнопай еще не склонялся к уверенности, правда ли то, о чем упомянул священный автократ, а тот уж обольстился своей способностью к уговору:
— Ночь — пора согласия.
Безличное извинение в «Вечерней газете» появилось. Неделей позже воспоследовал не декрет — закон о неподсудности державного ревизора Курнопая, а также о его неприкосновенности со стороны печати и телевидения. Хотя не принимался закон о неподсудности и неприкосновенности священного автократа Болт Бух Грея, его семьи (родители, жена Кива Ава Чел, братья и сестры до третьего колена, племянницы и племянники тоже до третьего колена), его детей-генофондистов и матери-генофондистки Веры-Каски, в порядке исключения в «Законе о защите державного ревизора Курнопая» об этом говорилось как о давнем, несомненном, неотвратимом их праве. Рядом, на первой же полосе, был принят «Декрет о воскрешении маршала Данциг-Сикорского»: «Считать здравствующим, восстановленным во всех гражданских правах, в звании маршала вооруженных сил Самии господина Мориса Ахеменида Данциг-Сикорского; назначить вышепоименованного великого полководца главным советником по вопросам обороны и наступления при священном автократе Болт Бух Грее».
Дорогой в супермаркет к Курнопаю понаведалась Кива Ава Чел. Беременность ее теперь все-таки проявилась, несмотря на то, что она была одета в разлетайку, трубчатотесное платье, в крутые из-за каблука босоножки. И разлетайка, и юбка, и босоножки были из отбеленного полотна, на котором, вышитые шелком, как живые гляделись африканские зебры — агатовый рисунок на милой морде, лошади Пржевальского — гребнистая грива, жирафы с пеньками рыжих рожек и пятнами на шкуре, похожими на листья осенних кленов.
Время от времени Кива Ава Чел почему-то вспоминалась ему той, в автомобиле Болт Бух Грея, плотненькой девчонкой, воспринимавшей себя как женщину. Лиловым крепдешином, по самийским понятиям — материалом матрон, бусам кровавого янтаря, тоже ожерельем матрон, ей хотелось подчеркнуть свою женскость. В этом было откровенное намерение, а вот зауженность платья, из-за чего создавалась теснота для груди и впивался в подмышки шелк, обнаруживала раннюю плутовку: все в ней созрело, но, к сожалению, никуда не денешься от девчонистости.
Сейчас в Киве Аве Чел не было игры в созрелость, хотя и чувствовал Курнопай, как сильно она занозила сердце телевизионным кумиром.
Теперешняя Кива Ава Чел производила впечатление умиротворенной.
Как она возлежала патрициански уютно на полуоткинутом сиденье лимузина! Кадр из той предпосвященской поры сразу увиделся Курнопаю, едва она прилегла бочком на софу вида ладони с поднятыми пальцами. Чтобы не заподозрил, будто бы сделала это ради демонстрации животика, она прикрылась снятой разлетайкой.
Наверно, сказывалось военное воспитание, Курнопай наметил себе выдерживать на работе стиль, не допускающий внеслужебных отвлечений.
— Кивушка («Такт, элегантность…»), сегодня у меня не найдется и минутки свободной.
— Наполеон Первый умел делать сразу три дела.
— То Наполеон!
— К его годам ты при желании будешь делать пять дел. Бэ Бэ Гэ выучился делать два дела: размечает день приема и диктует конституцию, подписывает постановления и пропесочивает провинившегося министра… Что характерно, во время свиданий позволил телефонисткам соединять его по делам средней важности. Пикантные картинки возникают.
— Он что, рассказывает?
— Делится. Священному автократу разрешается все, что заблагорассудится.
— Кто такое разрешение дал?
— Для правителя, которому передоверил власть звездный бог, ограничений нет. Вообще-то он любитель пикантных ситуаций. Я ему жена, фактически одиночка. Он приезжает, делится, советуется. К ночи — во дворец.
— Женился для проформы?
— Однажды он сказал: «Я — множество людей». Как-то еще: «Я — натура благороднейшая из благороднейших». Все, кого я узнала с детства, мне кажется, не давали отчета себе о самих себе и все ждали и ждут чего-то неизвестного от себя, конечно, поразительного. Он как-то разоткровенничался: «Мой мозг — целая кибернетическая система. Пока человек идет по кабинету к моему столу, пока я приветствую его и предлагаю сесть, мой мозг уже просчитает, чего можно ожидать от пришельца в сей раз, через год, десятилетие, четверть века. Единственный, чье изменение не поддается просчету, мой персональный любимец Курнопай. Непредсказуемый человек. Человек-притча. Человек-аллюзия».
— Кивушка («Она вроде умненькая? Может, и не такая расчетливая, как чада бомонда? А, лукавство! Воспитали…»), ты склонна доверять самооценкам нашего замечательного предводителя?
— Склонна. Но полагаюсь на его исключительные откровенности. Почему он женился на мне? Не всех, к кому причастен Курнопай, он способен любить, но их почитает он с непременностью. Мои родители среди первых соратников Бэ Бэ Гэ. Однажды они прокололись. Он простил. Сплошная признательность. Надо сделать их бесповоротными соратниками, почему и женился.
— Ты назвала две причины. («Я не верю в Болт Бух Грея платоника».) А есть главней причина.
— Нет, мой дорогой посвятитель.
— Именно есть. («Притворяется или не сознает своей привлекательности?») Я… Не в моей натуре…
— Ага, не в твоей натуре.
— Что «ага»?
— То «ага», что ты хочешь сказать: отношение мужа ко мне расходится с его сексапильностью?
— А вот и не угадала. («Эх, надо было подтвердить. Собственно, зачем доискиваться до интима?») Бывает неотразимая привлекательность…
— Не у меня ли неотразимая привлекательность?
— Именно.
— История с моим посвящением… Спасибо, погладил душу.
— Да не комплимент, клянусь САМИМ.
— Почему он не любит? Ты не любишь?
— Не в личном плане подходил, в объективном. Ты очень привлекательная. Смотрю на тебя, а на языке вертится: «Чудо женственности!»
— Только теперь открылось?
— Раньше видел. Сквозь неприязнь.
— А Фэйхоа?
— В Индии, как пишут, замужняя женщина не видит никого из мужчин, кроме мужа. Я, как индийские женщины, не видел никого, кроме Фэйхоа. Я стыжусь, что сегодня увидел тебя.
— В смысле раскаяния?
— Не определилось.
— Я определю. Ты почувствовал… Но ты не подумай, что хвалюсь. Я защищала тебя. Я нашла ходы. Не декрет — закон, не меньше. Конечно, Бэ Бэ Гэ предан своему мальчишескому культу Курнопы-Курнопая. Бабушка Лемуриха, ты должен знать, прости, чуть не сбила Бэ Бэ Гэ с панталыку. Он чуткий, он мудрец! Он в ней разочаровался. О тебе, о вашей семье он никогда грубого слова. О ней сказал: «Начальстволюбивая старуха. И властолюбивый окорок». Прав, ты думаешь, священный автократ?
— Бабушка Лемуриха мне заменяла отца с матерью. Ее недостатки небезызвестны мне. Тем не менее обсуждать ее не стану.
— Ты — держревизор, почему и должен быть совестью номер один в нашем обществе. Беспощадный к чужим, ты обязан быть еще беспощаднее к оценке родственников.
— Намек на Скуттерини?
— Говорю обо всем в идеале. Вообще-то тебе применять идеал необходимо в равной степени к Скуттерини и к бабушке Лемурихе. Выяснится, что он и бабушка Лемуриха — совместные хищники, ты не щади ни ее, ни Скуттерини.
— Завязать мою бабушку с экономическим гангстером международного масштаба — тут ты («Выдержка. Заступница ждет благодарности. Не схамить бы».) увлеклась.
— Прости. Но в идеале представляешь?
— Представляю, — понуро согласился Курнопай.
Видение золотых монет, приносимых с ипподрома, — их бабушка Лемуриха упаковывала столбиком в красную фольгу — отозвалось в Курнопае паническим чувством: вдруг да она вкладывала те деньги в подпольный бизнес игорных домов и до такой степени нажилась, что через того же Скуттерини вкладывает свои капиталы в корпорации, действующие на всех континентах.
— Кивушка, я принимаю твое замечание.
— Ты бы видел, мой родной посвятитель, какую истерику она закатила Бэ Бэ Гэ. Примчалась во дворец, встречным и поперечным показывала снимок: «Мальчишка, а его в держревизоры. Гнать! В ссылку! Выбросить из страны!» К священному автократу ворвалась без доклада. Приемная полна министров. Двери оставила открытыми. И ему: «Гнать. Выкинуть из страны. Не прогонишь — покончу с собой». Чем силен священный автократ, растеряется на миг и начинает всматриваться в человека, будто бы впервые видит. «Щадите, мадам, возможности адъютантов, иначе скоро будете дешевенькой рухлядью. Не для того мне доверено САМИМ быть его наместником, дабы я серьезно воспринимал безрассудство».
— Кивушка, пощади.
— До чего же мы докатились из-за эпохи трех «Бэ»?!
Он помог ей надеть разлетайку, сказал на прощание:
— Спасибо, моя просветительница.
Когда он притрагивался к ее запястью, чистую беззаботность ее лица притомило грустью.
— Ку, Ганс Магмейстер водворен на жительство в деревню. Запрет на преподавание психологии поведения и экстрасенсики. Будет учить языкам.
— Языки он знает.
— Прости, мой посвятитель, но он жалел, что ты — натура, не предрасположенная к талейрантности, почему и не удержишься в верхах.
— Кивушка, ты сказала о деревне, а я затосковал об океане. Очутиться бы через миг в рыбацкой хижине и навсегда там застрять.
— Я помню короткометражку о вашей с бабушкой ловле гребешков. Почему-то ты о Гансе Магмейстере не озаботился?
— Жизнь на природе, среди чистосердечных людей — какое это счастье! Пусть он не сразу ощутит благо и красоту деревенской жизни, зато, когда ощутит, его оттуда тягачами не выпрешь.
— Он урбанист до мозга костей.
— Ну и пускай раздирает душу смрадными воспоминаниями, аэрозольными, канализационными. В сущности, он учил подлостям знания психики. Страшно за науку, поскольку сокровища своего гения она исчерпывает для низменных целей.
— За черный гений плата — изобилие, за светлый — нищета. Действительность не пересекается с идеалом. Я — прагматичная девчонка. Не стану гоняться за миражом в пустыне. Интересно, знает ли Фэйхоа, как гоняются бедуины за миражами?
— А я разве не мираж?
— Ты — действительность, где реальное принимается за мираж.
— Ну и заморочила ты мне голову, Кивушка. Погоди, я не расслышал: толерантность или талейрантность?
— Толерантность? Не слыхала.
— Вы в колледже изучали биологию?
— Сокращенный курс.
— Нас биологией тоже не баловали, зато иммунологией потешили. Защита собственного организма и разрушение защиты организма врага — этим мы серьезно занимались. По латыни tolerantia — терпение. Нашим предметом была терпимость иммунной системы организма по отношению к агрессивным веществам и средам. А практическая иммунология сводилась у нас к митридатизму. Митридат Шестой Евпатор, из-за боязни быть отравленным, принимал в малых дозах яды. Нас-то иммунизировали на воздействие газов, приводящих к психопатиям, к падучей, параличу, на воздействие радиоактивных ядов и разного рода нечистей, вызывающих аллергии глаз, легких, кожи, слуха…
— Ку, тебя навестила красавица. Ты ей о гадостях. И не стыдно? Я тебе о хитроумных тонкостях дипломатии, называемой талейрантностью, ты — о биологической терпимости. Запомни: Талейран правил до Наполеона Первого и после него. Что самое главное, он правил Наполеоном, благодаря изысканным дипломатическим ходам. Ты должен, застенчивый мой посвятитель, овладевать талейрантностью.
— Я уже штучка с ручкой, — вздумалось подурачиться Курнопаю. — Меня довели до совершенства училище и события.
— Довольно легкодумничать, мой милый. Свящавт назначит через месяц секспраздник: День генофондизма. Не перечь Бэ Бэ Гэ. Опасно. Заодно подготовь свою волю к ломке, к потрясениям… Скуттерини обратился к свящавту за ярлыком на неограниченную свободу действий в сфере финансов и производства.
— Ярлык? Что за химера? Изначально, помнится, какие-то поблажки восточных правителей своим вассалам.
— Только между нами, Курнопай.
— От державного ревизора не должно существовать секретов.
— Должно. Если дойдет до мужа — мне обеспечена немилость на целый год.
— В чем она выразится?
— Перестанет наезжать. Лишит права присутствовать на встречах с международными гостями. От затворничества устаю. Общения скрашивают одиночество. Вчера был неофициальный прием в честь президента Бразилии и его супруги. Она очаровательна. Все острила. Скучает о нем. Устрою, говорит, заговор против президента. Посажу под домашний арест. Пусть поскучает обо мне, пока я правлю. И меня уколола остроточкой: «Моему одной за глаза, у твоего зуб горит на всех женщин Самии. Где равенство? Где справедливость?» Поклянись, что все будет глухо насчет ярлыка.
— Да ты что?
— Есть тайный революционный совет.
— Вон как!
— Почему Бэ Бэ Гэ тебя туда не ввел, ума не приложу. Папу с мамой — обоих. По предложению свящавта в особых случаях, потребных для развития экономики и упрочения государства, Тэ Эр Эс выдает отдельным гражданам, как иностранным, так и самийским, охранные ярлыки. Тот, кто получает ярлык, делает всякие операции в области финансов, торговли, вообще операции в области любых форм предприимчивости.
— Выходит, державное ревизорство не сможет передать Скуттерини инстанциям дознания и правосудия…
— …если даже он преступник века.
— Но ярлыка у Скуттерини пока нет.
— Почему и предупредила.
— Я поборюсь!
— Хочется, милый Курнопа-Курнопай, родить спокойного ребенка. Я без того расстраиваюсь.
— Кивушка, погоди.
— Я отняла у тебя слишком много времени.
— Почему и раскаиваешься до глубины сердца.
Он улыбнулся, шутливо воспроизведя ее неуклюжий речевой оборот, с помощью которого она закругляла значительные доказательства.
Кива Ава Чел подняла на Курнопая свой безысходный взор. Курнопай сказал, что будет меняться, ведь он не совсем безнадежный человек, и она разрыдалась, и ткнулась лбом в его плечо, и стала рассказывать, что видела во сне среди черного от стужи океана огромный айсберг, прямо величины нью-йоркского небоскреба, и вдруг айсберг зашатался, словно качнутый китайский болванчик, и раз — перевернулся, и сделался малоприметным, как полярная чайка.
— Ну и ну, ну и ну, — приговаривал Курнопай.
Поглаживая ее волосы, он журил Киву Аву Чел шепотом: мило ли наталкивать посвятителя на подражание Талейрану, который, будучи государственным мужем, вымогал взятки, как последний хапуга, у императоров, королей и правительств, искавших его поддержки, и даже вступал в изменническое взаимодействие с властителями России и Австрии, а также приносил взаимоисключающие присяги, что другого гильотинировали бы с десяток раз, а он видел гильотину только проездом в карете.
Предположения оправдались: державная комиссия докопалась до секретных документов, в которых проводилось нигде не учтенное огромное количество угля и продукция, получаемая из него: кокс, деготь, бензин, смола, циан, аммиак, фенол, каустическая сода, нафталин. Подтвердилось и то, что ручьи финансирования начинались за границей и возвращались туда разбухшими золотыми реками.
Лишь документы поступили в полицейский отдел округа, на смолоцианку без промедления выехали следственный комиссар и прокурор четвертого класса, изъявивший восторженное желание самолично вручить ордер на арест международному лихоимцу и плуту.
Нет, не злорадство, что посадят за решетку ненасытного кондора, за которым, в какую страну света он ни залетал, тотчас устремлялись стаи стервятников, а чувство опаски, что он сумеет извернуться и скроется в небесах, заставило Курнопая присоединиться к комиссару и прокурору. Они зашли за Ковылко и направились в противоположный конец коридора, где находился кабинет Скуттерини. В коридоре Ковылко их предупредил, что они не смогут попасть к Скуттерини, если он того не захочет, потому как его кабинет — сейф, в шибко увеличенном виде. Курнопай огладил кобуру термонагана, но отец прицыкнул на него, чтоб не выставлял на позор свою неосведомленность. Стена кабинета со стороны приемной, сделанная из какого-то полиметаллического сплава, оснащена неведомой заводским инженерам заморской защитой, которая с легкостью разбрызгивает струю плазмы, противостоя ее удару и температуре то ли при помощи магнитно-силовых вихрей, то ли ультразвуковых, может, и еще чего неуязвимей. Он специально устроил у себя кабинет открытых дверей, чтоб смолоцианщикам было вдомек, что, в отличие от Скуттерини, ему нечего скрывать от народа. Курнопай приобнял отца в знак восхищения его открытостью и пошутил, наполнив голос идеологическим холодком:
— Оно, конечно, препохвально: жизнь у мира на виду. Согласуется ли твоя административная новь с философией герметичности?
— Как есть я первородный автор теории, я около печи осознал — герметичность перемежается с, ну, с ею, разгерметизацией.
— Ответ, достойный священного автократа, — сказали в один голос комиссар и прокурор.
Секретарь-машинистка заполняла цифирью простыню. Она перестала прядать пальцами над белыми клавишами, и дробное свиристение прекратилось. Ишь, заявились руководящие мужланы. («Ни одного аристократического лица».) Отворотясь к окну-иллюминатору, она известила его высокопревосходительство о визитерах: о господине держревизоре Курнопае, о прокуроре и комиссаре из округа. Имя четвертого визитера застыдилась произнести, прямо-таки скабрезное.
Вопросительно вонзившееся в воздух приемной слово «чин», из-за чего оно показалось Курнопаю не произнесенным, а вычихнутым.
— Выдвиженец забастовки, — нехотя намекнула она.
— Чернозуб?
— Он.
Как палая листва только и ждет сквозняка, чтобы взвихриться и запересыпаться над землей, так и ожила шелестливая речь Скуттерини. Встречал он жеманниц, но сопоставимых с нею — никогда. Ее следует сделать держжеманницей. Застряла в девонской эпохе. Для эмансипированной женщины не существует непроизносимых выражений. Пусть передаст визитерам — примет завтра в час ноль-ноль пополудни. Айн момент. Завтра секунды не выкроит. Послезавтра? Расписан весь день. Невозможная неделя. Надо передать, Жеманница, имя Клотильда позабыто, — примет высоколобных на будущей неделе. Понедельник — день тяжелый. Исключается. Предложить им созвониться с нею во вторник.
Прокурор, державший наготове ордер на арест — веленевую пластинку, уголок которой был зажат косточками указательного и безымянного пальцев, — сказал Жеманнице басом, плотно прокатанным безоговорочностью, как шоссе чугунным катком, что у Скуттерини приемное время истекло: теперь-то уж он отопрется для получения знаменательного документа.
— Кто, позвольте, мне предлагает отпереться?
Двусмысленностью повеяло от голоса Скуттерини. Едва эхо последнего глагола отвращалось под купольным потолком приемной, для Курнопая стало очевидно, что сейфовый воротила торжествует свою неприкосновенность. Курнопай собрался остановить прокурора, тот исходил тщеславием чиновника, не во власти которого было раньше припереть к стенке этого глобального преступника, однако прокурор спешил и вылепил задорный каламбур:
— Отопретесь, но не отопретесь.
Ковылко до такой степени извелся в ожидании справедливости, что его зубы, хотя он давненько не наведывался на печи, плотно затянуло смолой. Смола закаменела, приобрела до жути блесткое мерцание. Пылающий ненавистью Ковылко ощутил, что ему связало рот, поэтому вырвал из машинки простыню и написал на обороте: «Скуттернни ползком приползешь в мой кабинет через пять минут. Не приползешь исделаешься клочком заводского смога. Председатель смолоцианки Чернозуб».
В своем конце коридора Ковылко остановился и задержал сына и блюстителей закона.
Не прошло и пяти минут — Скуттерини выскочил в коридор, грузно ткнулся на четвереньки и пополз. Его живот бегемота, провиснув, сгрудился к передней части туловища (ноги длинные, руки загребущие — коротки), из-за чего Скуттерини поехал боком головы по ковровой дорожке.
— На пузе ползли! — еле-еле разлепив губы, бор-мотнул Ковылко.
По мере того как Скуттерини полз, он все гуще багровел, но с половины дистанции его щеки стали синеть и мало-помалу набрякли фиолетовостью. Уже не сомневаясь в том, что правое унижение Скуттерини сменится их несправедливым унижением, Курнопай решил продлить наказание.
— Лижи обувь, не то растопчем.
Отец было жалостливо вздернул плечом, но Курнопай чиркнул ладонью по его спине, точно бы смахнул пушинку. Никто из четверых не сошел с места, и все-таки каждый стеснялся наблюдать, как многоопытный язык Скуттерини слизывает пыль с босоножек, ботинок, туфель, сапог.
Деловыми хлопками Скуттерини отряхнулся. Привычная мудрость осенила обсидиановые глаза. Покорный смирению, он сказал, что, воспитанный в традициях терпимости, вернулся на круги благоразумия и никогда не посетует на себя, понимая, что приобретение влияния на глобусе пропорционально физическим и моральным затратам.
Простонародная вера в лукавое говорение, умело замаскированная откровенностью, смягчила отца. Вежливой отмашкой он предложил Скуттерини пройти первым в кабинет, чем удивил не столько Курнопая (продемонстрировал выморочную жалость самийцев), сколько прокурора и комиссара, за что предприниматель потеснил их от кабинета и начал стукать по носам ярлыком. Стукал не плоско — ребром, притом с потягом, из-за чего на носах возникали прорезы.
Прежде чем пустить в ход охранную грамоту, он, привлекая к ней внимание Курнопая, вскинул ее флажком перед лацканом пиджака, и державный ревизор увидел тисненное золотом слово «ярлык» и роспись-закорючку Болт Бух Грея.
Не желая все же опрокудиться перед комиссаром и прокурором, Курнопай вырвал у Скуттерини ярлык и, вскользь зыркнув на него, прощально покивал пальцами правой руки. Невзирая на запрет оповещать о ярлыке кого-либо, кроме держревизора, Скуттерини попросил Курнопая познакомить с грамотой папашу Чернозуба. Уловка, найденная священным автократом, не могла не зацепить, по соображениям Скуттерини, чистоплюйской души державного ревизора.
Возмущенный собственным бессилием, Курнопай включил на всю дорогу электронную визжалку и так промчался до столицы на бронированном «датсуне», однако не застал Болт Бух Грея: он, оказывается, улетел на смолоцианку. Об этом Курнопая оповестил маршал Данциг-Сикорский, введенный в члены тайного революционного совета, но не переставший ухаживать за садом.
Данциг-Сикорскому представлялись детской забавой тревоги молодых людей. Тягучим старческим баритоном он порекомендовал Курнопаю сесть на скамейку под цветущий тамарикс. Тамарикс расслабляет нервы, и сам не заметишь, как заснешь. Он, когда Сержантитет постановил считать его почившим в бозе, внюхивался, сидя в карцере, в запах розового тамарикса и надолго впадал в забытье. Курнопай попытался уйти, но маршал усадил его на скамейку и срезал тюльпаны для Фэйхоа. В самые трудные годы опалы Данциг-Сикорского безо всякой скрытности Фэйхоа носила ему горячие обеды, снабжала исподним бельем, панамами с фольговыми отражателями, благодаря чему он не умер от солдатской пищи и жара летних месяцев.
Розовы, пуховы были ветки тамарикса, но не стали розовыми размышления Курнопая, на душе не сделалось пухово. Он задремывал, в испуге пробуждался от наплывавшего из темноты плазменно слепящего текста ярлыка:
НАСТОЯЩИЙ ГОСУДАРСТВО ВЫДАЛО ИНОСТРАННОМУ БИЗНЕСМЕНУ БАРОНУ СКУТТЕРИНИ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИИ, ЧТО ВСЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ НЕПОДВЕДОМСТВЕННЫ ЗАКОНУ И НЕНАКАЗУЕМЫ, ИБО СЛУЖАТ ПОЛЬЗЕ И ПРОЦВЕТАНИЮ НАРОДА И ОБЩЕСТВА. ВО ИСПОЛНЕНИЕ ДЕРЖАВНОЙ ВОЛИ ПОДПИСАНО
СВЯЩАВТОМ Б. Б. Г.
Латинские буквы постскриптума и предложение, где предписывался запрет оповещать о ярлыке кого-либо, кроме держревизора, каковому и вменялось в обязанности изымать сей документ величайшей правительственной секретности, не успевали вынырнуть из темноты: наверно, он, Курнопай, просыпался из-за грозной значительности, содержавшейся в них.
Сморенный волнением, он забылся и не очнулся даже от жгучего страха: из джунглей, сваливая деревья и разрывая лианы, выдвигалась термопушка, соединенная с цистерной, похожей на громадный аккордеон, мехи которого растягивались. Вращая стволом, пушка фыркала расплавом, добытым из ядра земли. Расплав складывался в слова: «СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ ДЕРЖАВНОЙ ВОЛИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОТИВОВ, ПОБУДИВШИХ ИХ, МОГУТ ПРЕДОПРЕДЕЛЯТЬ ЛЮБОЕ НАКАЗАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВЕЧНУЮ КАТОРГУ В УРАНОВЫХ РУДНИКАХ». Пылающие слова неслись на Курнопая, но расступались, приближаясь к нему, и только обдавали жаром.
Он очнулся от догадки: «Меня ждет что-то ужасающее!» Вопреки логике он не стал увязывать свою догадку с ходом сна. Наверно, это предвестие, совершенное САМИМ? Испросить у САМОГО подтверждение или принять к сведению знак сострадания? Волевое настроение не возникло, и открывалась в сердце покорность. Неужели то, что было небессомненно для него самого, было несомненно для мозга?
От прямого попадания солнечных лучей в голову Курнопай пересел в тень бутылочного дерева. Данциг-Сикорский, переведенный в прежний апартамент, куда кондиционер вдувал спасительно прохладный воздух, укрылся в нем от тропического зноя. Алые тюльпаны, срезанные им для Фэйхоа, вздымались из лейки. Признательность, все еще присущая маршалу Данциг-Сикорскому, хотя по возрасту он мог бы отречься от каких-либо обязательств перед людьми, отозвалась в Курнопае самоукором: «Зачем он жестоко принципиальничает с Болт Бух Греем и никогда не выразит ему истинной благодарности?»
Еще не переболело в Курнопае изменение мамы Каски и бабушки Лемурихи, а он вдруг заподозрил Данциг-Сикорского, введенного в тайный революционный совет, в отходе от недавней скромности. Бросил на солнцепеке, чего до восстановления в живых не сделал бы. Да и наверняка ему известно что-то такое, в чем кроется опасная нежелательность общения с ним, Курнопаем.
Отказ от поста министра обороны, после которого Болт Бух Грей отправил знаменитого маршала в нети, все-таки вспомнился Курнопаю, однако не пригасил его подозрения. Тут, быть может, не вовремя память поставила ему афоризм Ганса Магмейстера. «Младенец, если даже ему грозит голодная смерть, способен отвергнуть материнскую грудь, где перегорело молоко, но никогда старик, однажды отбросивший власть, опять не отторгнет ее, каким бы сквернам ни подвергнул бессмертную душу».
Апартамент Данциг-Сикорского был копией походной палатки военачальника прошлого века. Раздевшийся до трусов из черного сатина, маршал лежал на раскладушке. Его обвеивало воздухом кондиционера. Печаль на лице Данциг-Сикорского отозвалась в Курнопае раскаянием. Кого подозревать в приспособленчестве, если видно, что он не в силах совладать со скорбями?
Садиться Курнопай не стал, хотя Данциг-Сикорский повел чугунной тяжести веками на барабан. От внезапного искушения повыведывать у старика о САМОМ, о Главправе, а также о священном автократе и его правлении, он готов был метаться по комнате. Он поубавил в себе взметенность, обежав комнату несколько раз, вроде бы осматривал ее, а на самом деле почти ничего не заметил, кроме манекена, одетого в зачуханный маршальский мундир, и сбруи, сохранившейся с той поры, когда Данциг-Сикорский, стоя в греческой колеснице, объезжал на коне цвета красной меди войска, построенные для парада.
Облегчил намерение Курнопая сам старикан, ему не терпелось разрядить душевные муки, и он затронул то, что тревожило Курнопая, и не потребовалось подходов, чтобы попытаться вскрыть проблемы, представлявшиеся запретными либо по державным причинам, либо по религиозно-мистическим.
Данциг-Сикорского отчаивало повторное вовлечение в структуру высших, не придаваемых огласке целей и установлений. Разделяя рассудком неотвратимость как военных, так и гражданских секретов, пока есть враждующие государства, нации, партии, олигархические группы, он испытывал невольное желание, чтобы правители опирались прежде всего не на то, что сами измыслили в совокупности с воротилами от финансов, науки, промышленности, от строительства и сырьевых ресурсов и что являлось криминалом по отношению к интересам большинства людей, а на то, к чему стремятся народы. Главправу маршал прощал то, что он постоянно, хотя и не по заботе сердца, держал в уме чаяния малообеспеченного населения, и все же моментами ненавидел его за бессомненное право на похищение самийских доходов, обрекавшее народ на нужду и страдания. Как-то, размышляя об этом несправедливом чувстве правоты, которое странным образом сложило поведение узурпатора, Данциг-Сикорский сделал вывод, подхваченный Гансом Магмейстером: «Лев пожирает мясо задранных им животных, скорпион будет жалить ядом, солнце излучать свет, тепло, радиоволны». Вывод — не поступок. Не вышел Данциг-Сикорский из состава правительства: он — министр обороны, его армия охраняет страну или ведет войны, не наживаясь, не мародерствуя. Он без пощады заботился о незапятнанности солдат и офицеров, чтобы противостоять магнатам в их нечистых экономических и милитаристических битвах за взбухание. Свой жаргон богачи оберегали. По отдельным словечкам, перехваченным его бдительным слухом, маршал определил, что иносказание их жаргона имеет плотскую и гидродинамическую природу. Только в садовниках, прикидывая, так ли воспринимал истоки событий, он сообразил, что Главправ при помощи самийской прессы и военных атташе зарубежных стран, конечно же, они подкупались, таким образом преподносил начало очередной войны, будто бы Самия всякий раз была страдательной стороной, хотя в действительности, как понял Данциг-Сикорский в годы нежити, чаще войны развязывал Главправ, склонный к кровопусканиям — потише будут массы — и к громадному вознаграждению мировыми агрессивно-властительскими кланами. Наследие Главправа, завещанное сыну (находится в Швейцарии, о чем Болт Бух Грей поведал на первом заседании тайного военного совета), могло бы составить годовой бюджет средней западноевропейской страны. Замысел Болт Бух Грея вернуть через мировой суд половину этих капиталов, украденных, предположительно, из казны, не представляется надежным: навигация личных финансов, которую осуществлял Черный Лебедь, не менее загадочна, чем сезонные перелеты птиц. Не найдутся серьезные, юридически неотразимые доказательства. Но в них у автократа, пожалуй, нет необходимости. Представляется, что он лишь припугнет главправовского сынка, засим удовлетворится перечислением на свой счет в том же швейцарском банке весьма увесистой доли золота, которой достало бы на прокорм африканских государств, пострадавших ныне от засухи.
Данциг-Сикорскому всегда тяжко давалось подозрение, ибо славянские дрожжи его происхождения хотя и малы, но обладают оригинальной бродильной силой: вызывают в чувствах хмель доверчивости. И все-таки теперь он пробует отрешиться от доверчивости во имя ясного сознания: не идти на уступки, когда не хочешь уступать. Однако то уж настроило его на сомнительный характер тайного революционного совета, что в нем не оказалось державного ревизора. Высшие политические предпосылки и решения вдали от верховного контроля, неподкупного в лице Курнопая, с неизбежностью отвратят от неподозрения. Известно, старики очень убиваются, соседствуя с молодняком в инстанциях, редко для кого достижимых: и то не так делают, и се не эдак. Он сейчас, возможно, тоже насквозь паникер, но, едва послушал, с какой легкостью вершится подготовишками обсуждение важнеющих вопросов, сформулировал для себя жуть, обнаруженную еще в былые времена: с постом колоссального значения или состоянием, не ими обретенным в честных трудах, люди зачастую получают как бы дозу лютого пожизненного равнодушия. Верно, к Болт Бух Грею этого не отнести, несмотря на то, что он настораживает. Крупное явление обычно сложно и многомерно. Не столько за священного автократа он волнуется (Болт Бух Грей покамест отзывчив на все радости и горести) и за его окружение — оно постепенно изничтожится, сколько за Курнопая, ибо самые совестливые гораздо беззащитней, чем бесчестные, и становятся самыми бессовестными, когда поддадутся бесчестью.
Заотрицал, заотрицал Курнопай для себя подобный оборот превращения, но к Данциг-Сикорскому не пришло успокоение из-за какой-то внезапно ощутившейся внутренней их соединенности. И он принялся сожалеть о том, что они совместно вовлеклись в структуру головного эшелона власти, который туда ли катит, как это прокламирует Болт Бух Грей.
Силы очарованности в Курнопае были устойчивей сил неверия, и, хотя в тот момент он находился в страстном согласии с сомнением маршала, с неистовством, неожиданным для себя, он взял Болт Бух Грея под защиту. Показания истории, как свидетельство пострадавших на суде, подтверждают, что ничто сразу не прерывается. Традиции правления чем чудовищней, тем живучей. Они неуязвимы, точно противоатомные бункеры. Под разными вывесками скрывает себя монархизм деспотического толка. Священный автократ — типичный монарх, правда без династической культуры власти. Невежды думают, будто бы умение осуществлять власть доступно всякому. На самом деле для отправлений власти культура ее необходима куда большая, чем культура мышления философу. В древнеиндийском труде «Артхашастра» сказано, что государство управляется с помощниками: одно колесо не вертится. Древнеиндийский император Ашока это понимал. Если не был на совете сановников, он выспрашивал, кто с чем был не согласен… Создать Тэ Эр Эс, чтобы слушать только себя, заблуждение на грани взрыва. Наш век — век правящих преступников или наглецов. Исключения единичны.
Командпреподаватели училища термитчиков приживляли курсантам психологию стального рационализма. В основе армейского подчинения лежит приказ, он — обдуманная команда, следовательно, не подлежит обсуждению. Вы — будущие офицеры, потому организуете мозг для оперирования посылками, обладающими неотразимой убедительностью. Чтобы вера курсантов в примат рассудка над интуицией закрепилась до скончания, преподаватели в качестве идеала приводили вам Данциг-Сикорского, якобы формировавшего свою командность на принципах поведения логических выводов: семитов, англосаксов, североамериканцев… И вы, курсанты, верили…
К возрастной нелепости отнес Курнопай укоризну, притемнившую лучистый взор маршала. Ему было невдомек, что у подлинного Данциг-Сикорского интуитивная натура и что любая защита Болт Бух Грея сейчас для него и неприлична, и ложна.
Продолжать заступаться за властителя Курнопай не стал. Чем-то был удержан в сердце и поостерегся, что его непредвзятость ущемит Данциг-Сикорского да еще и аукнется в нем враждой. А ведь без того он, Курнопай, одиночка среди предержащих фигур Самии, если не считать ангельски дружественного, почти родного Болт Бух Грея, этим и не устраивающего, чему другой человек, с психикой, не подвергнувшейся порче, изо дня в день радовался бы безоглядно.
Обереженный внутренним запретом, Курнопай снова подался по кругу апартамента и едва остановился ошарашенно перед своей карточкой (снял Ковылко в честь первого причастия сына), Данциг-Сикорский пустился в покаяние, неожиданность которого на минуту заставила забыть о снимке, слишком внезапном для присутствия в маршальском апартаменте. Но куда внезапней было покаяние военного гения против собственного исторического величья. Он — негодяй, даже хуже — кретин, с требухой вместо мозга. Его дед, славянин-этик, создал антикульт Наполеона — Гитлера. Он учил тому, что каждый народ сознательно стремится рождать для себя благодетелей и путеводителей, но так случается, что вопреки себе (действие стихий черной наследственности) абортирует недоносков (Бонапарт родился семимесячным), которые, выжив, становятся его лиходеями. Лиходеев он делил на три группы: откровенных злыдней; равнодушников — зло пускай плодится, добро скудеет; великанов лиха, наделенных нервным и умственным гипнозом, способных возбуждать на целые эпохи мерзкие эмоции под видом прекрасных чувств, гнусные идеи под вывеской гуманистических движений. Так возникли крестовые походы, цезаризм, имперская шизофрения бонапартизма, всеевропейское изуверство гитлеризма, глобальный смерч сионизма, закрученный апокалиптическими предзнаменованиями, экономическими грабежами и гангстерским расстрелом микро- и макроматерии. Поверх генетических законов, в коих запрограммированы добро и зло, действует закон психотронного подражательства, он матрицирует возможность для благодетелей-титанов (эпоха Возрождения), лиходеев-гигантов (Западная Европа, Латинская Америка, Азия, США, Ближний Восток) от среза кровавого дерева первой мировой войны до вероятности ядерно-грибного «урожая», последнего дня человечества. Надо было втравливаться в философско-нравственное и социально-историческое движение против войн, начатое еще Ашокой, получившим вследствие этого небесное имя Мечтатель.
Притягательней Ашоки правителя для него не было. Додуматься до миротворчества и осуществлять его еще до новой эры, когда войны представлялись нормой жизни, подобно кочевьям и хлебопашеству, — богочеловеком надо родиться, пророком, по крайней мере. Так бы и отдал он, Морис Данциг-Сикорский, судьбу миротворчеству, если бы не пропаганда милитаризма его идеологами. Им не откажешь в искусстве тактики и стратегии. Весь арсенал вооружений применяют: скорострельное оружие информации, минные поля дезинформации, массированные налеты с использованием тяжелых бомб исторического опыта, ракетно-ядерные удары средствами политики, экономики, морали… Доводят сознание до аберрации, равнозначной сумасшествию: тьму принимаешь за свет, обман за подлинность, страх преломляется в тебе до состояния убеждения. Психологию паники, порождаемую военной обстановкой, они научились вживлять с помощью этого арсенала психологического убоя народов и личности в условиях мира. Мало-помалу я, миротворец с младых ногтей, стал ощущать пацифизм как непатриотизм, страшиться своей гражданской убогости, запаниковал о том, будто бы путем нравственного искажения сформирован предательским образом. Я порвал с дедом и поступил в общевойсковой колледж. Меня стращали социализмом, тогда как перво-наперво готовили к ведению войн со странами, единокровными моей стране по капиталистической формации, низменней того — со странами, едва освобожденными от колониальной зависимости и только что встающими на дорогу капиталистического развития. У них велика нужда в поддержке, они малоразвиты, нищи, мы их изничтожаем всей мощью современных батальных аппаратов и систем. Социализм на поверку оказался дружелюбным внутри своей системы, за исключением отдельных конфликтов, носящих характер казусов. Отношение к передовым капстранам у социализма весьма терпимое. Отношение же к странам третьего мира благороднее, не в пример нашему: он бескорыстен с ними, жалеет их, как взрослые слабеньких детей, тогда как мы выкачиваем из них для бесконечного самообогащения труд и геологию, опутывая при этом цепями долгов, из которых немыслимо освобождение. Кстати, Сержантитет превратил наш народ в подобье народа третьего мира. Когда труд, особенно рабочий, становится областью насилья и презрения, нам нечего ждать, кроме катастрофы.
У Курнопая, кто за последнее время то и дело впадал в смертельное отчаяние и спасался, оно не то чтобы не вызвало снисхождения, а словно бы стало ненавистным до неузнаваемости. Прыжками он подлетел к кондиционеру и выключил его; непроизвольно пышный шум кондиционеров совместился с каким-то иссушенным голосом маршала. И так как Данциг-Сикорский буднично приподнял над влажной вмятиной подушки голову мудреца, запоздалого в своем прозрении, Курнопай отрезвел от порыва гнева и, чуть не плача, спросил:
— Неужели вы раньше не додумывались до того, о чем говорили?
— Некогда было.
Простецкий ответ маршала обескуражил Курнопая до такой степени, что он, грудь которого наполнилась воздухом для хохота, звука не сумел издать, что он, готовый, когда отхохочет, язвить над его святой от неведения военной службой, одно лишь только смог — сесть на пол и скорбно замереть, как сидели возле гроба в их квартале мужья, жены которых умирали, оставив маленьких детишек.
Целенаправленное шлепанье ступнями и всхоркнувший кондиционер, включенный решительной рукой, заставили Курнопая помыслить о том, что старикан еще полон самообладания, и было нелепо слышать ему вопрос вздохнувшего над ним Данциг-Сикорского, вероятно ли для него теперь искупление.
— Однажды Ганс Магмейстер, я не уверен, что он не циник, мне шепнул на занятиях, что земное время человечества истекает, последние капельки дней выдавливает для нас солнечный союз планет. Искупление, коли поверить Гансу Магмейстеру, обессмыслилось. Я же не верю упадничеству планетарного пошиба. Над нами ведь есть верховный взор Бога, САМОГО и Природы. Не допустят они полного истечения времени для человечества. Лично на себе я испытал подсказки САМОГО при угрозе междоусобных кровопролитий в нашем обществе. А раз так — искупление возможно.
Данциг-Сикорский опять над ним вздохнул. Вздох был коротким и пресекся, будто от черного мысленного испуга.
— Неужели так трудно переменить насильственный принцип существования на миротворческий? — возмутился Курнопай. — Сотни тысяч человек послать на гибель было легко… А ведь всем хотелось жить. И почти все не оставили после себя детей и не осуществили надежд возвысить народ, не проявили своего дара, не познали счастья.
Байки, сдобренные ехидством, о застенчивости великого маршала по части женского пола не переставали крутиться в училище термитчиков. Но что-то не слыхивал Курнопай о простоватости Данциг-Сикорского. И вдруг снова бесхитростное признание. Да, легко было посылать на гибель. Всеоправдательной и прекрасной считалась смерть за державу. Отдать жизнь за нее — возвышенней предназначения тогда и не было. Не долга — предназначения.
— А умереть за САМОГО?
— Никто никогда не допускал, что САМОМУ требуется защита. САМ, подобно Богу: за пределами уязвимости. Собственно, САМОГО внедряли в самийцев настоятельней, чем Бога. Нами ОН воспринимался как духовная инстанция над Богом. Не случайно у Бога одна буква прописная, а у НЕГО — все. И в местоимениях ОН пишется прописными буквами.
Рассерженный вихлянием памяти («Никакой не склероз: дисциплинарная разболтанность».), Данциг-Сикорский зашлепал по спрессованному из глины и покрытому лаком полу, массируя седую впрожелть голову. Вспомнил, о чем забыл. По-пацаньи виновато подбежал в Курнопаю. Как не вспомнить?! Вспомнил он его вопрос, являющийся основным вопросом современности. Все государственные предводители сознают, что трагедия постигнет человечество, если не перейти от насильственного принципа существования на миротворчество, тем не менее большинство продолжает вооружаться или воевать, и лишь отдельные из них имеют символические военные арсеналы и армии, полагаясь либо на торжество благоразумия, либо на неуклонный вывод: в момент ядерного испепеления сгорит будущее людей. Сознавать, к несчастью, — не значит поступать. Поступать — не значит достигать. Мощь безумия сравнима с ядерной мощью, могущество здравомыслия аналогично ружейным выстрелам. Английские женщины бились против крылатых ракет у себя на острове, но североамериканцы привезли эти ракеты и установили. Россия и Индия наращивают борьбу за уничтожение ядерного оружия, а правительство Соединенных Штатов, наперекор своему народу, увеличивает выпуск ядерных подлодок. Если опираться на Библию, — зачатые грешниками, распявшие богочеловека, люди не могут, как бы ни старались, сделаться святыми. Если опираться на историю, куда САМ явился для очищения племен и народов от телесной скверны, от глупости и злокозния, то и мы не в силах спасти планету: САМ-то скрылся от нас во внутриземный тайник. Обезнадежился — иначе и не решить. Если положимся на Природу, то просчитаемся: на Земле мы так ее обидели, отвратили, запугали разрушительством, что она не захочет нас спасать. Для самоубийства?
«Молодые неутешней стариков», — внушал Ганс Магмейстер курсантам, продвигаемым в элитарии. Этот парадокс он выводил из психологического склада, определяемого возрастной полярностью: «Не тем отчаиваюсь, чего не имею, а тем, чего у меня полно».
Неутешность маршала не укладывалась в честный парадокс Ганса Магмейстера, но все-таки Курнопай старался не подчинять гневу извлечения рассудка. Взъярила его простая житейская претензия к старикану: коль ты завяз среди людей темной пагубы, будут постыдством потуги на мало-мальское самооправдание.
Раздосадован на Данциг-Сикорского, уехал Курнопай. Дома, бродя в пустынной квартире (хоть и беременная, занялась Фэйхоа оккультными делами, все ей мнилось в тревогах, что уважительность ее бездействия может послужить поводом для отстранения мужа с поста державного ревизора), он опростил собственное настроение до зависимости от дней, когда страдал от должностной несвободы, возникшей для самийцев явно еще задолго до правления Черного Лебедя и маршальства Данциг-Сикорского. Ганс Магмейстер смеялся над извечной буксовкой локомотива человечества, не боясь впадать в крамолу против учения САМОГО: «Все сегодняшнее — ненынешнее, все конечное — бесконечно в обе стороны времени». Следовало унять нетерпение. И чем настойчивей он склонял себя к нему, тем безудержней хотел перекраивать то, что мешало ему осуществлять справедливость. Его беспокойство взлихорадилось, едва он отыскал в альбоме свою детскую фотку, полную устрашающего совпадения с карточкой Данциг-Сикорского его ранней мальчишеской поры.
Нетерпение («Сличить, сличить фотку с той, в апартаменте Данциг-Сикорского!») принесло Курнопая к дворцу. Здесь и возник перед ним угрюмый Болт Бух Грей, кивком повелел следовать за собой. Не к эскалатору пошел, а к лифту, который, покачивая донцем, начал спускать их внутрь железобетонного пня, где, как обреченно думалось Курнопаю, должны были находиться казематы. Там тебя никто не отыщет. Розовый свет придавал костюму Болт Бух Грея, сшитому из легкого шелкового полотна, фарфоровую глянцевитость. В момент, когда они оставили клеть, свет выделил во тьме лабиринта твердую белизну куртки, и его как перекусило сомкнувшейся сталью дверных половинок. Кабы не лоск куртки, то, поспевая за священным автократом, Курнопай поссаживал бы локти и плечи о наждачную шершавость бетона.
Поворотов было так много в лабиринтовой тьме, что заподозрил Курнопай за этим зловредное намерение. Священный автократ хочет довести его до ярости, теряющей контроль, а если он нападет — отвалтузить до полусмерти и расстаться с надеждой на братство с задроносым типом, не ведающим признательности.
Идея, кощунственная по отношению к нему самому, взбудоражила угнетенное сознание Курнопая. Будь он на месте священного автократа, предал бы ненависти Болт Бух Грея, уж точно бы давно замуровал.
Увиделось ему, именно благодаря мгле, кромешное несовершенство собственной натуры. Нормальный человек покладист, лишен всеотрицающей нетерпимости к стремлениям других людей, ценит тех, кто его боготворит, а те, кто его любит, им любимы, по крайней мере, чтимы, а он погряз в просматривании всех и всего лишь через себя самого. Забыл он завет, исходивший от САМОГО к ним с Фэйхоа в день посвящения. Говоря о Мировом Разуме, тем более о Мировом Чувстве, САМ внушал им, каковы есть величайшие духовные сокровища Вселенной и что есть неустранимая их скверна, которую возможно убавлять, как, впрочем, возможно и прибавлять энергию Мирового Разума и Чувства, находящихся на гибельном спаде у них на планете. И почти во всем он, Курнопай, содействовал убыли этой энергии. Правда, он способствовал вместе с отцом и Фэйхоа возобновлению упраздненных семей. Но сам-то не сделал и одной решительной попытки воссоединить мать и отца, самому примириться с Каской-Верой. Как потянулся к нему Огомий! Но чем скрепил он их взаимную генетическую тягу? Да-да, он вусмерть досадил Болт Бух Грею, пора, если не опоздал, приняться за искупление, и тем не менее он не согласен с ним, что одноклеточная жизнь семьи — атавизм, что человечеству уготована массовидность существования. Ох, опять он за старое. Противостояние Болт Бух Грею, оно на грани враждебности многомоторному САМОМУ. Но жутко ошибиться, склоняя себя к покорности. Не ради запутывания их понимания говорил САМ в день инициации о том, что сущности Мирового Разума и Чувства слиянно-различны, противоположно-едины, совмещаясь, несовместимы, не совмещаясь, совместны. Иначе не были бы столь ясны сложные философские формулы. Умник Ганс Магмейстер (и о нем, когда узнал о его ссылке, душа не заболела), дисциплинировавший умы курсантов, лично ему проговорился: «Мыслители открывают законы существования ради общественной цели, затемняющей для человечества их подлинное назначение».
Вспышка лилового света остановила Курнопая. По бликам зрачки уловили створку полированного дерева формы полукруга. Створка стронулась вправо и уносила своим движением рисово-белое отражение болт-бух-греевского костюма. Створка дуговидно втянулась куда-то вроде бы в твердь, обозначила того полированного дерева вогнутость, которая теперь мерцала крапчатой и волновой текстурой.
Болт Бух Грей шагнул, с поворота приластился спиной к изящной вогнутости. Не Курнопай догадался (он ничего не ждал, кроме каземата), а его тело, что перед ним лифт, и ноги сделали только шаг и меленько переступили, едва створка слегка наехала на запятники сандалет.
Они очутились вплотную друг к другу. Дыша в ключицу Курнопая, Болт Бух Грей спросил его о том, почему-де он, священный автократ, легчайшим образом ходит в полной темноте, а Курнопаю примнилось иносказание, будто бы священный автократ имеет в виду непроглядную историческую темноту, и он, на всякий случай шутливо, ответил, что не первое поколение людей двадцатого века идет вслепую, так что образовалась естественная привычка. На это Болт Бух Грей сказал, что якобы спрашивал без подтекста. Лифт поднимался бесшумно, Курнопай прошептал на ухо Болт Бух Грею:
— Сова.
— Я — жаворонок. У нас в семье все жаворонки. Фермеры встают рано, ложатся рано. По мере возможности сохраняю крестьянский режим. Крестьянство — мой ориентир, моя опора. Кто, между прочим, твой ориентир и твоя опора?
— Справедливость.
— Безотносительная справедливость равна абсолютному нулю, то бишь знаменует полнейшее равнодушие.
— Стихийно моя душа ориентирована на рабочий класс.
— Стихийно? Экстравагантное недоразумение. Рабочие — второй слой человеческой почвы. Как верхний слой земли обеспечивает бытие почти всему живому, так крестьянство обеспечивает судьбу общества в целом. Для меня всякая вторичность паразитарна. В недрах крестьянства возникло все, чем славится урбанистическая цивилизация: машины, выплавка металлов, производство оружия, ткачество, моделирование одежды, музыкальные инструменты, строительство, религия, астрономия. Первые мореплаватели, навигаторы, биологи, географы, гидротехники, зодчие, ювелиры, химики были из крестьян. Племенная жизнь и сельская община создали величайшие предпосылки для формирования государства и его правящей иерархии. Это главнейшее достижение крестьянского творчества.
— Стоит ли, господин автократ, переоценивать роль государства?
— Люди недооценивают его.
— Потому что опыт, а также интуиция подсказывают им, что оно окончательно лишило их воли, что оно главный обирала или приспешник грабителей, что оно подготовило вероятность гибели планеты. Разве у кого-нибудь хватило бы средств на содержание миллионных армий, на изготовление сотен тысяч самолетов, танков, пушек, на изготовление стратегических ракет и ядерных боеголовок?
Лифт остановился, им было тесно, они жмурились от солнечного света, но продолжали спорить, а выскользнув из кабины, очутились в зале, который представлял собой полый хрустальный шестигранник.
— Эх, Курнопа-Курнопай, неидеологическая ты личность, — сказал с укоризной Болт Бух Грей.
— И не желаю быть идеологической личностью. С помощью государства властолюбцы превращают в фикцию любую идеологию.
— Мальчиком ты был идеологической личностью. Ума не приложу, когда и почему ты сделался семейно-бытовым существом. Недовоспитался ты в училище. Жаль. Ты, впрочем, совсем молод. Придется доделать то, чего не доделали командпреподаватели. Ты нуждаешься в воспитании чувства патриотической целесообразности. Воля, независимость — вот что фикция. Воля личности — ничто, воля организации, а государство — изумительнейшая организация, — все. Не обессудь. Всенепременнейше освобожу в тебе революционера из-под навалов мещанства. Не выдержишь испытание, предупреждаю, это будет моим последним усилием спасти тебя для Самии.
Болт Бух Грей исчез в кабине.
Курнопай прислушался, определяя, спускается лифт или все еще находится рядом. Он услышал гул столицы, сходный с гулом прибрежного океана. Как сквозь грань призмы, глянул на город и отшатнулся. Пирамидальная, обелисковая, крестовая из-за небоскребов, столица топырилась подобно кладбищу для богачей, находящемуся на плато за рекой Огомой.
Сны без снов были обычны для Курнопая. Когда Фейхоа, у которой и минутный отрывок ночи не проходил без сновидений, досадовала на безоблачность его психики, он полушутя-полусерьезно пенял на порчу видеомозговой системы в антисониновую эпоху. Правда, не совсем он жил без снов. Сны у него случались. Звуковые. Он радовался им. Они навеивали задумчивость, ясную, как верещание цикад, западали в душу, повторялись исподволь, желанные, сродни мотиву, красоте которого нашлось загадочное созвучие в сердце.
Однажды он услыхал легкие до невесомости звуки. Невольно в его уме они назвались молекулярными. Они толклись на месте комариками-столбунцами. Когда он наладился слухом для разгадки звукового роения, определил, что ошибся. Звуки не толклись — двигались. На волнах, гладко катившихся из открытого океана, метрах в ста от берега, начиналось закипание гребней, но оно, не доходя до отмели, стихало, размываясь в пенную пленку. Еще мальчишкой обнаружившим гидродинамику шторма, ему вспомнилось, что вот-вот скорость наката увеличится и закипание потеряет постоянство. Так и произошло. Закипание расслоилось на три стадии: шелеста, шороха, шипения, — но не пересыпалось в пушистый гул, прежде чем волна, скручиваясь, не рухнет на берег и, разрываемая воздухом, не разразится хлопками, подобными ракетным пускам с танковых платформ. Должно быть, мозг его, как подумалось сквозь сон, выделил из музыки океана лишь гребневое закипание наката. Ждал тогда Курнопай, что возникнет зрительный ряд, пытался представить себе зеленые воды залива в лиловых накрапах там, где под ними росли водоросли, но зрительный ряд так и не появился, и темным до полной бесцветности осталось представление.
И внутри хрустальной призмы Курнопаю приснился звуковой сон. Пел женский голос. Он доносился издалека. Чувствовалось, что он, планируя оттуда, куда поднялся, летит не над асфальтом, не среди плоскостей железобетона и стекла, а над степью, где свободен от деревьев, дыма и туч небосклон. Он не улавливал запахов, но почему-то предполагал, что травы цветут: лисохвост в сиреневых остьях, тимофеевка то в лиловой опушке, то в горчично-желтой, и в тон им метлица, молиния, трищетинник. О цветении трав он знал, как природный кочевник. Но это была не равнина — простор, который заманивал их с отцом, и они уклонялись в сторону от крутого берега Огомы, а вольная степь, где кормились стада винторогих сайгаков, короткогривых лошадей, мохнатых зубров. Знал он и то, что близится вечер, что после дня верховой езды прилег в тень золотой яблони, но не для отдыха, а ради того, чтобы ощутить ласковость предвечерья, и скакунов не отпустил — держал за поводья, чтобы сразу пуститься в путь к скифской стоянке, едва его молодая жена закончит сбор мяты. Пела она, бредя́ вдоль ручья. Он и не глядел на нее и слов поначалу не разобрал, но теперь, когда она почти рядом, на расстоянии пяти пастушечьих кнутов, слова слышны в небе, как бубенчиковые трели жаворонка:
Вольготно ему было с закрытыми глазами под золотой яблоней, в тени которой, взматывая головами и ударяя копытами, переминались на месте два золотых скакуна. Почему-то он был уверен, что она скифянка, что и он тоже рожден скифом, однако чужеродность звучала в том, о чем пела женщина, и Курнопай пытался вспомнить, откуда эти слова, и вдруг уяснил, что всего лишь скользнул взглядом по ним в «Кама-Сутре», и захотелось ему, чтобы только напев летал над степью, ведь в нем содержалось все самое сокровенное, что объединяло их с женщиной, а смысл, замкнутый стенами изречений, как дворец кремлем, из-за укрытости своей огорчал твердой, пусть и стройной неполнотой.
«Страшусь, страшусь, как псориаза, изречений, претендующих на законченность для всех времен и народов. Никакие формулы не подтверждаются практикой, а потому, чтобы жизнь строилась по справедливости, нужна совесть!..» А голос-то пропал… Лицо скифянки осталось неизвестно… Одежда… Стать… И совсем незнакомый голос. То, что возможно и необходимо для своей поры, теряет… Но почему сразу целый ворох голосов?
Пробудился. Под небом цвета снежной воды пересекались красные, солнце уже за горизонтом, бинты реверсивного следа самолетов-ракетоносцев. И в перекрестьях следа была чужеродность, подобная той, которая претила в изречениях «Кама-Сутры», пропетых приснившейся скифянкой.
«САМ, а что у нас было до ТЕБЯ или после ТВОЕГО прилета?» — почему он обратился к САМОМУ, не подготовясь излучить свой вопрос, Курнопай не отдавал себе отчета. Скорее всего сказалась потребность войти в откровение с самим собой. «У нас-то своя, касательная мужчины-женщины нравственная эстетика, неужели не водилась века тому назад? Наверняка водилась, но мы затуркали ее в подспуд? Зачем мы тянемся к чужому? Оно возникло в глубинах другой психологии… Коли есть у нас свое, укажи. О, я не против единопланетарного соприятия народами свойств других народов и особенностей. В конце концов, конечно, существует миллион лет шаровая взаимосвязь между атмосферами, океанами, материками, этносами… Но не рано ли начались межэтнические отношения в делах пола, религий, этик, социальных построек? Все развивается неравномерно. Так ведь? Дельфин не должен заимствовать поведение альбатроса, альбатрос — дельфина? Что-то, может, и удастся, несущественное, нюанс, как многозначительно выражается Болт Бух Грей. Остальное — к позору, к выморочности, в крушение, даже в никуда».
Не ждал он ответа от САМОГО — не сосредотачивал свой телепатический слух. С безошибочной определенностью ему не удалось запечатлеть, сам ли он попытал себя или великий САМ индуцировал в его сознание вопрос:
«А генофондизм?»
Раньше чем Курнопай усовестился, точно бы прожгло жаром его щеки и лоб. Ему стало стыдно перед САМИМ, не важно, наблюдает ОН сейчас за ним или нет. Но куда стыдней стало за собственную несправедливость. Редко найдешь страну, ученых которой не беспокоило бы ухудшение генофонда своего народа. Но нет ни одной страны, кроме Самии, где бы улучшение генофонда приняло характер религиозно-государственной политики. А он не то что не понимал этой новаторской самостоятельности — колотился против нее, унижал ее, выступал против нее этаким борцом-реакционером, цепляясь за промахи первоначальных установлений.
— Что, очнулся? — не громовой раздался радиоголос Болт Бух Грея, как тогда, в чистилище перед Музеем Еретиков, а шепотливый. Просто шепоток не отозвался бы в спине Курнопая подирающим кожу ужасом: то был шепоток человека, который один знает о твоем непростительном криминале.
«Неужели Болт Бух Грей только что пасся в моем сознании?» — подумалось со щемящей безысходностью.
— Чего молчишь?
— Молчание — золото.
— О золоте?! Вот так та́к! Ты да Фэйхоа — всего вас бескорыстников в верхах. Не будь бессребреником, разве бы я поставил тебя во главе держревизорства. Из-за твоих кунштюков праха твоего давно бы не сыскать… Очнулся, спрашиваю?
— Не ведаю ни сном ни духом, что такое «кунштюки»?
— Вытворялки твои. Слушай, Курнопа-Курнопай, ведущая сексжрица скоро поднимется в призму с группой первых леди Самии. Они там в башенке изучают «Кама-Сутру». Это особые сексрелигиозные занятия. Демонстрации приемов не избежать. Обычно сам присутствую на занятиях для показа. Сегодня буду участвовать в международной встрече, совершенно секретной, глав государств. Ты, Курнопа-Курнопай, подозреваешь ли о существовании тайной дипломатии?
— Куда нам лаптем черепаший суп хлебать?!
— Мой персональный любимец, будешь исполняющим моих обязанностей. Всему, о чем будет просить датчанка, повинуйся. Это не просто участие в увлекательных занятиях. Это необходимейшая обязанность по твоему вкладу в банк улучшения генофонда нации, народностей, племен Самии. Без фокусов, Курнопа, то бишь без кунштюков. В противном случае ведущая жрица прибегнет к помощи негритянок. Пускай твои наисладчайшие радости не сопровождаются насилием. Кстати, тем, что у меня в стране собирается межконтинентальная встреча глав государств, в некой мере я обязан посредничеству Скуттерини. Завидую тебе, Курнопа-Курнопай. Не подумай, что совсем обездолюсь. Политика — обворожительнейшая из женщин! Что приемы «Кама-Сутры» по сравнению с тем, какие политика выкручивает?! Счастливых оргазмов, посвященец Фэйхоа, посвятитель Кивы Авы Чел, мечта женщин страны великого САМОГО и его славного потомка священного автократа Болт Бух Грея.
Он лежал на свернутом батуте и, когда увидел выступивших из стены женщин, хотел броситься туда, чтобы успеть воткнуться в лифт, другой, просторный, но оказалось, что ему, сонному, кто-то пристегнул руки и ноги. Покрутил запястьями. Наручники легкие, гладкие, пластмассовые. Поднатужился, вознамерясь выдрать их с «мясом». Не выдрались. Простак. Из таких простаков, что маслины глотают, а косточки выплевывают. По виолончельному очертанию фигуры узнал датчанку. Даже сквозь пепельную сутемь угадывалась чугунная плотность ее тренированных бедер. Тогда, в притушенном свете лампионов близ храма Солнца, был у датчанки природный цвет волос (светло-русый), теперь ее завитая крупными кольцами голова отливала красной медью.
Она села в ногах у Курнопая, разглядела, что он разут, придвинулась бедром к его ступням. С пренебрежении он вдавил пальцы в боковую впадинку, и датчанка плаксиво-тягучим голосом бабы, которую часто обижают, но которая так и не притерпелась к обидам, пожаловалась:
— Больно же.
— Уберись, — сказал Курнопай смиряясь.
Она поерзала на ворсистом покрове батута и неожиданно посочувствовала ему:
— Замаяли твою независимость, юноша. Женат. Знаю. И все-таки повадки юноши. Я не про телесное. Про духовное. Наш век не терпит независимости. Зато на каждом шагу кричат про независимость. Я не во всем разделяю твое поведение. Нельзя же быть все время напряженным. Вовсе, бывает, перенапрягаются. Расслабляйся. Не кое к чему, ко многому нужно относиться расслабленно. Асфальт как прикатывают? Спокойненько. Неторопливенько. Каток ездит туда-обратно, сикось-накось. Первоклассные дороги прокладываются без поспешности. Не проложишь ты своего шоссе, тропинки не проторишь, если все время вперед да вперед, напряжение да напряжение. Нет у напряжения источника надежнее расслабленности. Ты благодушествуй, благородный юноша, пока буду спрашивать первых дам вашей несравненной автократии. Юноша, в тебе дух викингов. Самодержавие Болт Бух Грея, поверь, при всех твоих трудностях, гуманней множества республиканских режимов. Леди, прошу подготовить площадку для занятий.
Леди разбросили ковер-круг, отстегнули Курнопая от батута, усадили посреди ковра, где был выткан попугай.
Датчанка пояснила Курнопаю, освобождаясь от оранжевых, сшитых из сквозного газа одеяний, что сегодня он будет, согласно древнеиндуистской мифологии, богом любви Камой. Кама исторгнулся из сердца верховного бога Брахмы и, значит, является саморожденным. На ее взгляд, есть люди, произведенные на свет обыкновенной супружеской парой, но духовно так сотворившие себя, что с полным правом могут зваться саморожденными. На основании духовной ипостаси Курнопай относится, подобно священному автократу, к саморожденным и, следовательно, в этом смысле отождествим с Камой, чего в соединении с молодостью достаточно для выражения бога любви. Не случайно его посадили на попугая. Юный Кама изображался сидящим на попугае, с луком из стебля сахарного тростника, тетивой служили пчелы, стрелами — цветы. Выстрел цветком, и человек наделялся чувственным влечением, отказ от чего был равнозначен кощунству. Эпического героя Арджуну за отвергнутое желание на год подвергли евнухизму. Булла, обрекающая на кастрацию, днями подписанная верховным сексжрецом, вступит в силу на первом празднике генофондизма. Она одобряет буллу. Чувственность, которой пренебрегли, вносит смерчи хаоса в гармоническое равновесие ублаготворенных камаэмоций. Равновесно-сладострастное ублаготворение немыслимо без познания Камы — божественной нежности, нуждается в телесно-духовных наставлениях. Свод наставлений заключил в «Кама-Сутру» проникновенный Ватсьяяна семнадцать веков тому назад. Человечество утратило в пути ароматические смолы для умащивания тела, культуру мысленного общения — его заменило звукословие… Много чего. К счастью, невежество не возобладало в Индии, как в Финикии, Атлантиде, и гениальный труд камапоэзии дошел до нас, закреплен, развивается гением наследника САМОГО женолюбивым Болт Бух Греем. Нельзя не порадоваться тому, что верховный жрец вскрыл противоречия «Кама-Сутры» и отверг устарелые рекомендации, ибо они не соответствуют задачам улучшения генофонда, достижениям наиболее передовых идей сексреволюции. Болт Бух Грей отринул самое первое наставление, постулированное «Кама-Сутрой»: «Женщина создана для мужчины и должна быть ему верна». То, что женщина создана для мужчины, — убогая банальность. То, что она должна быть ему верна, — пережиток, реакционное воззрение на эмансипацию освобожденной женщины.
Прежде чем сбросить ремешковые туфельки, датчанка оглядела восьмерку женщин (как-то Фэйхоа говорила, что восемь по индуистским верованиям — магическое число), усевшихся по кругу в позе лотоса, и сказала, что переходит к опросу. Девчонистую женщину, ее прическа была уподоблена ананасу, она попросила разобрать третье наставление «Кама-Сутры» в свете разъяснений верховного жреца, дававшихся им на занятиях в Призме. Свирельным голосом девчонистая женщина вывела третье наставление: «Познавай «Кама-Сутру» лишь с тем, кого желаешь». Она задержала дыхание, и Курнопаю подумалось, что ничего по-болт-бух-греевски прогрессивного не скажет это еще не испорченное существо. Оказалось, что она, хотя и стыдилась отвечать, но уже уцепила трактовку верховного сексжреца:
— Помните, я сказала священному автократу: «А если никого не желаешь?» Он ответил: «Желаешь или не желаешь, надо применять закон сознательного отношения». Гений верховного сексжреца открыл мне глаза на обязанности эмансипированной леди державного круга, живущей в век генофондизма. Я не желаю мужа, но сознанием заставляю желать. Для улучшения генофонда народов Самии я сознательно пожелаю любого мужчину, когда на то будет повеление от имени сексжречества и автократства.
Датчанка похвалила девчонистую женщину за то, что она прониклась законом сознательного отношения, открытым мыслителем Болт Бух Греем. Стоявшая во весь рост на паркетном полу белого клена, где и отражалась, хотя башню освещало только халцедоновой пыльцой Млечного Пути, датчанка скользнула к центру круга, села перед Курнопаем, не склоняясь бюстом, на свои пятки. После обещания продолжить опрос «Кама-Сутры», она заявила, что первой предоставит себе право, согласно сану, перейти к практическим занятиям.
Было сумеречно, но Курнопай стеснялся наготы, тем более что незнакомые женщины еще не разоблачились и пусть не пристально поглядывали, но уже осваиваясь с чувством, что придется искать подходы к мученику нравственной щепетильности. Исключением среди них была девчонистая. Жалея себя, по недавнему замечанию жрицы, за «плотскую непроясненность», она сострадала его неприспособленности к государственной морали. В отличие от своих учениц, датчанка алчно прицеливалась к Курнопаю; ярило ее то, что за сопротивление посвятить Киву Аву Чел верховный жрец не отдал на секспотеху головореза номер один ей и товаркам, а также то, что ясновельможная ревнивица Кива Ава Чел нахлестала ее тогда плетью до рубцов, до сих пор различимых на ощупь.
За пять лет в училище Курнопаю надоели практические занятия. Само словосочетание, не сходившее с доски расписаний, обрыдло, поэтому, едва датчанка вознамерилась воспользоваться саном сексжрицы для перехода к практическим занятиям, его стыдливое благодушие сменилось отвращением, но он решил не нарываться на принуждение (негритянки явно наготове) и, как ни морочило его прямолинейную натуру, слукавил. Из-за упрямства он прибегнул к язвительному лукавству.
— Ваша святость, — сказал он и, так как произнесенное вслух обращение понравилось ему, тщеславно повторил: — Ваша святость ведущая сексжрица, практические занятия, что вы под этим подразумеваете?
— Мой медоносный бог Кама, подразумевать ничего не надо.
— Почему?
— Ватсьяяна запечатлел в «Кама-Сутре» то, что требует наглядного показа. Сейчас я продемонстрирую раздел «Женских объятий». Их шесть: «Стыдливость», «Работа сверлом», «Волнующее», «Манящее», «Прыжок к счастью», «Сплетение лиан»… Шесть ступеней ласки ведут к блаженству. Поэт нежности подчеркнул в конце раздела, что женские объятья «Прыжок к счастью» и «Сплетение лиан» влекут мужчину к необузданной страсти, подавляющей стыд, лишают его рассудка. Итак, приступаю к наглядному показу. Мужчина из позволяющего себя ласкать превращается..
— Ваша святость, а где мужчина?
— Вы что же, не мужчина?
— Я — бог любви Кама.
— В фигуральном смысле. Но Кама при том, что он бог, он еще из мужчин мужчина.
— Согласен.
— Браво!
— И в том, и в другом качестве я не собираюсь быть манекеном.
— И превосходно! Манекены из папье-маше, вы — из мужского мяса, одухотворенного божественностью.
— Ваша святость, я — бог любви, а не постыдной похоти.
Захлопала весело ладошками вертикально, молитвенно прижатыми к груди, девчонистая женщина. В ее возможности выказалась неиспорченность. Обрадованный поддержкой после гневливого взгляда жрицы на девчонистую женщину, Курнопай стал говорить о том, что он ученный бог, и не кем-нибудь ученный, а всемогущим Шивой, и поделом ученный: искусился наглостью возбудить страсть бога Шивы и в наказание был испепелен дотла лучом его лобного глаза. Если бы не мольбы преданной жены, богини Рати, навсегда завершил бы он, Кама, свое существование. Шива научил его не навязывать страсть богам. Тем самым он внушил ему волю не подчиняться желаниям других, особенно желаниям темных, желаниям демонов.
— Нет соответствия действительному богу Каме. Он неукротим в искушении сексуальными страстями. Это главная функция Камы. Подобная функция и у его нимф, в индийской мифологии они — апсары. Апсары — искусительницы людей и желанные соблазнительницы богов. Апсары — постоянные наложницы Камы. От оргий, которые закатывает с ними, то по их желанию, то по своему, сотрясает космос.
— Ложь! — возмутился Курнопай и хотел разомкнуть ноги, все еще находившиеся в позе лотоса, но сплоховал: датчанка успела придавить их своим тяжелым бюстом, а державные леди прижулькнули к попугаю.
Все, что происходило потом с Курнопаем, сопровождалось тьмой. Перво-наперво ему надели наручники выше локтей, соединили их за спиной тесемками из нейлона (в училище на шнурах, чуть потоньше тесемок, тягачи буксировали танки). Курнопай ничего не видел, они напылили на вату лак для волос и втиснули ему в глазницы: воспользовались обрезанным чулком из эластика — натянули с затылка на переносицу.
Огорченный голос попросил Курнопая не вертеть башкой, но сознание вернулось к нему не столько потому, что вдруг возник мужской голос, сколько потому, что резало глаза, и он пытался отклонить лицо из-под пальцев, протиравших его ресницы спиртовой влагой. Открывши глаза, он невольно привскочил от пылающей боли в них и почувствовал, что руки с ногами ничем не спутаны.
— Терпи давай. Не ослепнешь — борный спирт развел.
Теперь он узнал голос Болт Бух Грея и сказал, что лак легко смывается теплой водой. Прежде чем принести воду, Болт Бух Грей посетовал, будто бы без медицинского разрешения (сейчас прибудет его личный врач) Курнопаю нельзя принимать душ. Болт Бух Грей принес спешно воду. Едва Курнопай промыл глаза, накинул на него махровую простыню и сам отер ему лицо. Минут через пять, поохав, он сокрушенно укорил Курнопая за то, что он опять заартачился, в то время как было необходимо с чувством ответственности подменить его, и все обошлось бы без самоуправства жрицы и прекрасной восьмерки державных леди. («И она тоже, девчонистая леди?..») На другую реакцию рассчитывать не приходилось: во-первых, он, глава сексцеркви и автократ Самии, повелел проявлять нетерпимость, вплоть до казни над причинными органами мужчины и женщины, ко всем, кто мешает новой религии, спасительной для страны САМОГО; во-вторых, своим сопротивлением Курнопай дал повод для развязывания зоологической стихийности, каковская выказывается и пострашней, ежели не забывать, что войны, ведущиеся издревле на земле, суть кровопролитные действия, в основном осуществляются скопом, то бишь коллективно. Именно здесь, в башне, его мозг окончательно оформил наблюдение как над индивидуумом, так и над массовыми структурами — группировкой, толпой, народом, человечеством. Отдельная особь, как правило, добропорядочна, разумна, щедра, не впадает в эйфорию злодейства, массовые же структуры непроизвольно заражаются стадной патетикой смут, жестокости, раздоров, по инерции скатываются к безрассудству, непримиримости, внутриплеменным убийственным потрясениям, континентальным и глобальным бойням. Два в эти дня у него страдания. Они неравнозначны, но взаимосвязаны, больше того — двуедины. Страдание о нем, Курнопае. Страдание из-за его сексрелигиозной и социально-общественной ретроградности. Обладать высочайшими духовно-физическими статями — и не желать заложить их в освежающий, укрепляющий, элитарный массив народов и национальностей Самии. Кем бы он был, не появись на телевидении бабушка Лемуриха с внуком? Они придали ему умственный толчок в сторону Гималаев величайшей деятельности во имя и для Самии, во имя и для планеты, во имя и для выхода в созвездие Ориона. Понятно, генетическая линия САМОГО рано ли, поздно взыграла бы в нем, но они с бабушкой придали его подкорковым устремлениям первую космическую скорость. Так он из фермерской среды, которая была и остается цветом народа, выскочил на воинскую орбиту, где без особых усилий обретаешь сторонников хунтизма. Фермерство, как таковое, чуждо стремлениям властвовать. Фермерство — труд. Хунтизм — способ захвата власти. Изредка у труда возникает потребность, диктуемая необходимостью, делегировать своего представителя на пик власти. Труд и САМ делегировали Болт Бух Грея на пик власти.
Его второе страдание обуславливается отсутствием справедливых возможностей средствами власти гуманизировать стремительным образом жизнь Самии и жизнь человечества. Чего проще отозваться старанием на святую идею генофондизма?! Так нет — сопротивление. Среди сопротивленцев — персональный любимец Курнопай. И он не хочет Самию разношерстных людей, унаследовавших множество пороков и болезней тела, психики, превратить в Самию образцовых личностей. Почему преуспевает в Америке правящая элита? Она уже не одно поколение не позволяет себе ассимилироваться с теми, даже из ее среды, кто генетически заразен. Стерильная чистота наследственности — принцип элитариев Америки. Он идет дальше: спаривать генофондистски образцовых, наследственно нечистым запретить воспроизводство поколений. За непослушание — выхолащивание. Решение этих вопросов будет в руках авторитетнейших комиссий, созданных из религиозников, генофондистов и медицинской науки. Так вот, его второе страдание обострилось на межконтинентальной встрече глав правительств. Он внес на повестку дня неслыханный для встреч по проблемам тайных дипломатических сговоров пункт. Не догадайся он увязать его с темой миросохранения, пункт не был бы рассмотрен. Пункт сформулирован так: «Сексрелигия и генофондизм как средство миросохранения». Он не рассусоливал, обосновывая логику своего учения. Не на войнах необходимо строить политику дипломатий, хотя, разумеется, политика очаговых войн спасает сегодняшний мир, то бишь уменьшает народонаселение мира во всех регионах земного шара. Необходимо строить ее на рождении посредством отбора. Чистота рождения, в связи с нею — резкое уменьшение рождения отбросит неизбежность войн как универсальный экономический регулятор. Человечество уже в ближайшую четверть века должно в обязательном порядке уменьшиться раз в пять — десять, значит, проблема прокорма, обеспечения одеждой, жилищем, ресурсами, энергиями снимется сама собой. Он не побоялся предложить четыре шкалы для установления уровня народонаселения во всех странах мира. Первая шкала: великие конгломераты народов типа Индии, США, России, Китая. К концу первой четверти будущего века эти конгломераты обязаны сократить свое количество до двухсот миллионов человек. Вторая шкала: страны, в которых население от пятидесяти миллионов до ста пятидесяти, к примеру Индонезия, Бразилия, Япония, Бангладеш, Пакистан, Мексика, Великобритания, Италия, Франция, Корея, обязаны иметь не свыше сорока миллионов человек каждая. Третья шкала: страны ниже пятидесяти миллионов, но не меньше десяти должны иметь не больше восьми миллионов. Все остальные страны не могут превышать четверти своего нынешнего населения. Ух, на какой национализм я натолкнулся! Огромные народы не желают убавляться, средние хотят стать великими, великие народы в количественном отношении, едва выбравшись за пределы третьей шкалы, стремятся дорасти до уровня шкалы первой. Защитники племен и национальностей, исчисляющихся сотнями и тысячами человек, мечтают, дабы эти племена и народности плодились по геометрической прогрессии. Тьма-тьмущая протестов, противоречий. Раздосадовали. Я врезал им за оголтелый национализм, затем предложил собрать всепланетный конгресс по народонаселению и определить пределы рождаемости всем, без исключения, народам. Ярлык прожектера пытались присобачить. Не получилось. Однако и не стали принимать решения по этому пункту, он-де в идеале приемлем, но для практики нереален. Спасительнейшая идея, так нет, ее — в неосуществимость. Из-за лоскутных интересов, из-за крохоборского индивидуализма. Вечная история — спасительную идею на штыки, в отвал. Христа распяли, Галилея на костер, Мальтуса пинают все кому не лень. Его в эпигоны Мальтуса пробовали загнать. Отмел, но по отдельным линиям присягнул Мальтусу. Мальтуса встревожила избыточность людей, когда эта многоликая беда лишь обозначилась в условиях машинно-урбанистической цивилизации. Мальтус — гений предвидения. Англия как родина прежде всего встревожила Мальтуса, но более он встревожился будущим человечества, а этого, заботы о человечестве, терпеть не может большинство политиков, экономистов, богачей, церковников. И философы терпеть не могут, особенно те, кто не провидел грядущего. Мальтус-де, как и вы, господин председатель (я председательствовал на межконвстрече), греховен по отношению к Богу, поскольку религиям противна идея препятствия рождаемости, и не гуманен по отношению к людям, которые могли бы родиться, но не родятся. Если бы-де каждый из нас не родился, это было бы трагедией для каждого из нас и уроном для каждой из наших родин. Тут я, во-первых, логикой их долбанул: для того, кто не родился, совершенно исключена трагедия, как для фантома, во-вторых, насчет урона: урона не бывает из-за того, кому не удалось припожаловать на белый свет. Их суждения были фантомными, то бишь призрачными, и я указал им на реальность бытия планеты. Антропологи сходятся на том, что хомо сапиенс существует три миллиона лет. Они же утверждают, что на переходе от эпохи палеолита к эпохе неолита, следовательно, двадцать тысячелетий назад, было на планете три миллиона людей. Итак, за три миллиона лет человечество накопило три миллиона человек, по одному как бы человеку прибывало за год. За двадцать тысячелетий оно увеличилось до пятидесяти миллионов, то бишь больше двух тысяч за год. В начале новой эры оно составляло двести миллионов человек. Волосы встают дыбом! За три года рожать больше, чем за всю историю человечества до нашей эры. Ты представляешь себе, Курнопа-Курнопай?
— Представляю.
— И что же представляешь себе?
— Ежегодно рождается девять сегодняшних Греции.
— Сногсшибательно!
— Двадцать Норвегии или триста двадцать Исландии, по две Испании и Португалии или Канада, Гаити, Уругвай, Гваделупа, Венесуэла, Боливия, Гренландия и Аргентина вместе взятые.
— Ты здорово меня подкрепил! Особенно одну идею, которую, к стыду своему, я струхнул высказать. Ты прямо-таки географ! Ну-ка, еще подкрепи.
— Десять Океании.
— Конкретно.
— Полинезия, Меланезия, Микронезия.
— Читывал об них. Ай, райские земли. Потрясающей необычайности народы! Завлекательнейшие культуры! Лишь за одно то, что есть у нас на планете такое место, оно заслуживает спасения и бесконечной жизни. Мы относим себя к цивилизованным народам, некоторые народы, прежде всего островные, приписываем к стадии дикости. По мне, благородней дикарей нет. Что касается каннибализма, то он, как и среди животных, рыб, насекомых, пресмыкающихся, среди дикарей был самым что ни на есть мудрым сокращением популяций, связанным с переуплотнением. Моя идея в чем? При тебе возникла. Запомни для истории. Да шучу, настырная ты особь. На стадии цивилизации человек размыкается с природой, расплевывается, борется с нею методами насилия. И тем самым перестает чувствовать ее команды. Проводники перерублены, взорваны. Импульсы не доходят до биологического реле, регулирующего численность вида. Взять китайцев. Не подумай — я ценю китайцев. Бумагу придумали они, экскаватор — они. Их философия даосизма сравнится разве что с индуизмом. Американский прагматизм ниже, потому что свел философичность к практицизму. Это все равно что из поэзии выхолостить чувственность. О, забыл. Из философии после индуизма я больше всего почитаю Пьера Тейяра де Шардена. Я подкрепился его постулатом, который утверждает, что необходимо признать за окружающей нас общественной жизнью «биологическое значение». Так вот, китайцы. Они составляют четверть населения планеты. А живет на планете больше двух тысяч народов. Юкагиров, к примеру, шестьсот человек, айнов двадцать тысяч, гавайцев сто тысяч. И в таком наклоне, в такой позе. Греки в пору Эллады и Византии столько всего сделали, так повлияли на человечество, а была их, сравнить с нами, горстка. Как они повлияли на мировую философию и культуру! Ты едва из материнского лона, но уже знаешь, что идеализм и материализм дали греки, диалектику они, киников они, софистов они. Именно софисты смело высказались об относительности понятий человека о природе. Киренаиков — тоже они. По киренаикам, высшая цель человека в наслаждении. Стоиков — опять же они. Учение великого САМОГО слегка восприняло дыхание стоицизма в плане этического повиновения мировому закону. Как деятеля его привлекает в греках то, что они дали два принципа государственного правления: коллективный — народовластие, групповой — олигархия. Султанско-мандаринско-царские правления я отношу к групповым: властелин и двор. У Главправа Черного Лебедя тоже было олигархическое правление. Мое правление началось с олигархии военного толка. Я вывел его на абсолютно новый путь. Человек летал, но только Гагарин вывел его в космос. Новое у меня в неразрывном сочетании единовластия, то бишь автократизма, с демократичностью во всем и вся. Да, еще о греках: искусство человечества в основном идет их путем в скульптуре, в театре, в поэзии, архитектуре… Собственно греков: ахейцев там, ионийцев, эолийцев, дорийцев, пеласгов, делегов — в пору Эллады не было миллиона человек, к началу двадцатого века нашей эры и трех миллионов не было, сейчас нет и девяти миллионов. Вот величайший, мудрейший пример соблюдения экологического регулирования в приросте населения. Ты, мой измученный Курнопа-Курнопай, не суди меня за суд над другими народами. Мои мысли на первый взгляд наглы, на самом деле они бесстрашны. Размножение, ничем не ограниченное, есть вид преступления перед человечеством, более того — оно есть род демографической агрессии. Пора выработать в Организации Объединенных Наций демографическое право. Эту экологическую опасность необходимо определить как самую страшную, захватническую, дабы увязать ее с экологическими тревогами об убывающих кислороде, воде, пище, недрах. Это и создаст сознательно-этическую нормативность существования. Китайцы уже осваивают сознательно-этическую нормативность существования: один ребенок на семью. Раньше чем кто-либо они дисциплинируются демографически. Пойдут за ними другие народы — обретут равенство перед существованием, географическим пространством, потреблением. Если на моем веку будет конгресс по народонаселению, я предложу в преамбулу документа по демографической экологии такие слова: «Все современные народы имеют право на существование и несомненное право в сравнительно равном количестве представлять себя на планете Земля». Вот будет справедливость. Я, исходя из этой идеи, и предложил межконтинентальному совещанию решительно сократить расходы на вооружение, перекинуть на осуществление генофондизма. В плане генофондизма я подперся изумительнейшим образом! Только человечество чистого генофонда, то бишь освободившееся от шлаков, как освобождаются от них во время плавки металлы, способно остановить свое соскальзывание к полному самоуничтожению. Ты бы слышал мой друг, как меня понесли. Перво-наперво заклеймили националистом, ибо, дескать, ты против ассимиляции. Ну я им и смазал и правой, и левой: «Вы, господа политики, в основном жалкие однозначники, в крайнем случае — двузначники». Они в замешательстве. Что я имею в виду? Я их эпатирую: «Я-то уже исключительный, вне конкурса четырехзначник!» — «Нашел чем хвастать! — возмутились. — Количеством женщин». Я им: «Детьми от женщин всех народов Самии, социальных слоев и прослоек». Хотите убедиться, моих детей-генофондистов мимо вас проведут. Не захотели: секретнейшая встреча. Но что касается ассимиляции, я за все и вся, но с учетом исторической данности. Поверили. Правда, новую штормовую волну подняли. Как ты, дескать, смеешь сравнивать жизнестойкие народы с вымирающими по естественным причинам племенами?! Увы, межконтсовещание пока не поддержало меня. Я не считаю несвоевременной мою теорию. Представители громоздких народов — воротилы международного масштаба. В них намертво засел инстинкт всепожирания и всепоглощения. Я дал им понять… К сожалению, монстры не сознают монстризма. Каюсь, сорвался. Дипломатия, тем более тайная, требует выдержки, равноценной созерцательному спокойствию. Тогда идите, сказал им, к ядерному катарсису. Реагаж был разный. Большинство — окрестил их бездушными роботами от политики или чугунными сердцами — не взволновались. Кое-кто стал подзуживать, дабы припорошить юморком атмосферу: «Ах, молодые теоретики, не отличают блуд от арифметики». Жирнюга из страны… Нет, не назову. Жирнюга мне говорит: «Похвальна, молодой человек, начитанность. И нахватанность похвальна даже». С Грецией? Народы Эллады за тысячелетия до новой эры выкачали из себя все виды талантов. Две тысячи лет отдыхают, но отдых не закончился. Профессор Гумилев из России, которого вы, господин священный автократ, еще не прорисовали, нарек эпоху подъема этноса или суперэтноса, группы народов в полосе единства, пассионарным взрывом. Период спада энергии этноса или суперэтноса он определил словом «надлом». Греция в периоде надлома. Так зачем ставить ее в пример? Китай?! Он после средневекового надлома вступил в эру пассионарного взрыва. Китай всегда был индивидуален. Он настойчивей Индии борется с размножением. Жирнюгу явно мои доказательства впечатлили. При серьезнейших обстоятельствах, по его инициативе, я законтачил с ним. Он и говорит вдруг печальным тоном: «Катарсис? Ядерный? Кабы катарсис, было бы идеально. Очищение пространства огнем. Очищение генофонда человечества — огненный процесс, но другого характера — агломерация. Я буду голосовать за демографический катарсис как орудие очищения и обогащения высоких свойств человечества, ежели господин председатель Болт Бух Грей изымет из своего предложения идею нормативности. Несводима численность народов, народностей, племен к равному числу особей».
Эх, Курнопа-Курнопай, я не стал рессорить на пункте уравнивания численности народов. Не было резона. На какие уступки я ни пойди, отфутболят мой пункт по религиозным мотивам, экономическим, расовым, идеологическим. Дабы смазать по их мозгам, я сказал, что мне страшна в них готовность вовлечь себя и Землю в небытие, но лишь бы сохранить незыблемость закоснелых позиций. Еще сказал, что не было и нет религий, экономик, идеологий, из-за которых стоило бы губить планету. Тут блаженненький западноевропеец выискался. Глобальный расклад между безрассудством и благими пожеланиями еще в девятнадцатом веке сделался такой, что, как ты ни улучшай генофонд, запозднились. Мы уже во власти роковой социально-нравственной необратимости, посему не спасут землю ни индусы, ни капиталисты, ни социалисты, ни генофондисты-сексуалисты. Ты знаешь, мой Курнопа, что я непреклонный. Я скисал, но я и зверел из-за этой непробиваемой политической стены. Я им вмазал: «Наша встреча — отражение того, насколько обыдиотилось человечество, так давайте хотя бы сами вырвемся из трала порочного идиотизма». Что ты, Курнопушка?! Они позубоскалили как над непорочным зачатием, так и над непорочным идиотизмом и перешли к обсуждению следующего пункта. Вот ситуация, в которой заключена многоразветвленная система причинности для страдания. И ты давай не заземляйся на пылевом, ну не крупней крупинки пункте, ввиду существования самийского пункта и пункта вселенского. О, Курнопа, президент Зэт предлагал мне военную помощь, и я, заметь, не воспользовался ею, когда твой отец, ты и Сержантитет едва не погубили меня. Зэт, отвергая демографическую уравниловку, выдал изречение, являющее собой верх философско-руководящей казуистики: «Всему присуща кривизна, неравномерность, неравновеликость, разномассивность, разномастность, разнообъемность, разнопространственность». Как ты думаешь, проницательнейший державный ревизор, я прав в оценке казуистики Зэта?
Курнопай, которому заточение в призматической башне показалось нескончаемым, слушал Болт Бух Грея сквозь полуявь-полусон. Подчас мысли властителя взбадривали его своей дерзкой свежестью, и он вдумывался в них с непосредственностью пытливой натуры, но умственного удовольствия не испытывал. Не был уверен, что священный автократ говорит взаправду. Всемирный подход в экологическом плане к демографическому генофондизму, да еще и под знаком спасения человечества через обогащение его благородных сущностей вывел Курнопая из состояния дремы.
— И вы бы могли выдать такое изречение.
— Я? — растерялся Болт Бух Грей. — Я охарактеризовал казуистичность изречения…
— Казуистична сама действительность.
— У-удивил! Я на что аналитик, не всегда погружаюсь на глубочайшие смысловые глубины. У, туда-сюда! Выходит, ты возводишь мой интеллект в ранг, обладающий реальными силами к самым глубоченным философским погружениям.
— Возвожу.
— У-уважил. У, как Иисус Христос по душе в пуховых носочках прошел! И все же в этой объективке на действительность есть ущерб, не приемлемый для меня. Я за оптимизм в истории, то бишь я зрю выход из мнимой безвыходности в сексрелигии, соединенной с генофондизмом.
— Во всемирном масштабе, священный автократ, ваша идея спасительна.
— И в самийском.
— Сомневаюсь. Над Самией рок. В ней даже гениальные идеи превращаются в свою противоположность.
— У нас? Чем? Что превращает их в свою противоположность?
— Практика.
— Ты судишь, не зная. Пообщайся хотя бы с Огомием. Твой верный брат и сторонник. Я, отец, меньше для него значу. Огомий душевно, умственно развит так чутко… Других моих детей посмотри. Мечта народов.
— Посмотрю.
— Нельзя верить только себе. Я верю себе, в себя, но я верю тебе, в тебя.
— Пока сексрелигия и генофондизм, какими испытал на собственной судьбе, отвратительны. Они лишены целомудрия. Они — элитарная дьявольщина. Они увеличивают животное потребление для верхушки.
— Курнопаюшка, сам ты элитарий из образованного класса.
— Образованного? Обычная грамотность, скорей специализированная. Я умудрился кое-что постичь за счет тревог натуры. Я проклинаю грамотность. Да и образованность. Именно она привела, треклятая, человечество к трагедии. Топор создавался без математических формул. А формулу ядерного распада для первых атомных бомб — в конечном счете формулу всемирного убийства — создал Эйнштейн. Если кого и не подпускать к генофондированию — образованный класс. О, мне запомнился урок державных леди. Палачество от духовного, фашизм от физического.
Болт Бух Грей поднялся с персидского ковра цвета свежей крови: вальяжно он на нем полеживал — вниз животом, опираясь подбородком в сомкнутые ладони. Все, о чем он говорил, как бы оно ни захватывало, Курнопай не принимал на полную веру: мешала благоустроенность лица Болт Бух Грея, горделивая ублаженность его тела, точно бы подсушенного жаркими гимнастическими тренировками. Но едва он поднялся с ковра, в нем проглянул крестьянский парень, до того уставший за день на сельских работах, что пониклой была каждая его кровинка-мышечка, в глазах — застойная вода грустной усталости. Внезапно Курнопай захотел поверить ему безотчетно и целиком.
Раскаиваясь в том, что к тягостным заботам Болт Бух Грея, пекущегося, в отличие от него, обо всех на свете, он прибавил свое расстройство, граничащее с безответственным ребячеством, Курнопай попросился в отставку. Прочувствованная убежденность виноватого, отворившаяся в голосе Курнопая, была для Болт Бух Грея куда приемлемей, чем его упертость, и он щелчками стал бить пальцами по воздуху и, уходя к лифтовой стене, внятно внушал:
— Привыкай. Разберись в ценностях. Прочь от заковыристых мук. Они уродуют. Трудимся. Двигаем страну вперед.
Медиком, присланным Болт Бух Греем, оказался главный врач державы Миляга. Короткая стрижка гудроново-черных волос была в прострелах седины, отчего прежняя уютность его манер влияла еще смягчительней. Вместе с тем Миляга уже отзывал сановностью. Сановность была в плотной мясистости, в просторном покрое пончовидной рубахи, сшитой из цейлонского батиста, в конструкции шорт — штанины впереди и сзади остроугольны. Обходительность Миляги, в которой раньше и предвзято нельзя было обнаружить угодливости, нет-нет и претила элегантно-заискивающей приятностью.
В минуты осмотра, когда Курнопая задела угодливость Миляги, он вдруг ощутил в сердце подчинительное потрясение от высказываний священного автократа, и оно с новой внезапностью помогло ему обнаружить в себе возможность к заискиванию.
«Должно быть, как раз, — подумалось Курнопаю, — самое трепетное лакейство потому и омерзительно, что начинается на вершинах власти».
Но при угодливости, вкрадчивость которой навряд ли уловил бы Курнопай, если бы не видел Милягу в детстве, был в державном враче холодок, вызываемый прочно приживленным чувством обязанности, где внутренняя спешка подобна инстинкту ускользания в условиях вздорной, не тобой заваренной каши. Холодком именно такой обязанности повеяло на Курнопая, едва Миляга велел ему принять душ, после вкатил антисептический укол и выдал справку, освобождающую от участия в празднике Генофондизма. Вручение справки он сопроводил похвальбой:
— Облеченный доверием священного автократа, я могу позволить себе и столь опасное деяние. Ведь вы, господин державный ревизор, признаны академией медицины генофондистом номер два.
Понурый был Курнопай, хотя Фэйхоа вела себя так, будто бы ее не волновало, почему он отсутствовал. Досадуя на жену, он спросил, откуда ее странное молчание, и она ему напомнила, что выросла в питомнике гарема, где единственный мужчина спрашивает и взыскует, а женщины ждут его ласки и милости. Она не смутилась, отвечая, и не была уклончива, и он решил, что это безразличие, и разрыдался, а после, когда она успокоила его, рассказал об уроке по изучению «Кама-Сутры».
Фэйхоа плакала, а он ее успокаивал и выслушивал, каменея душой, о том, как в ночи и дни его отсутствия им на квартиру звонили элитарные леди и, вереща от страсти, гундося, приклацивая языком, восхищались впечатлениями от урока. Все, от чего можно было отчаяться, она пережила до возвращения Курнопая, и пусть он не сердится. Ее душа точно саванна после пожара.
Тогда он спросил Фэйхоа, а надо ли жить дальше, и она ответила без колебаний, что нужно, потому что первичная, невыдуманная цель жизни человека, как и цель существования всего во вселенной, в том, чтобы жить. А после он рассказал ей о том, что является страданием Болт Бух Грея, и спросил с апокалиптической тревогой:
— Верить или не верить?
И она ответила, что верить, сомневаясь, ибо учение САМОГО заключает в себе это. И еще он спросил, вероятен ли, на ее взгляд, национальный не-эгоизм, который позволил бы подравнивать количественное существование народов, и она ответила без колебания, что вероятен, потому что астронавты и космические аппараты не нашли в нашей Солнечной системе иной планеты, где мог бы обитать человек, отсюда и возможность согласия с демографическим проектом автократа и его практического преломления, но, разумеется, не такого стремительного, на какое он полагается, ведь постепенен человек, ибо он дитя Эволюции, как сам же он это определил в счастливое время их лагунной любви.
— Но тогда как быть со свободой воли отдельной личности? Найдутся люди, у них будут возникать внегенофондические привязанности. Ради общего потомства они примутся бунтовать.
И сказала Фэйхоа, что тут дилемма: или существование или самоотречение. (Здесь Курнопаю думалось робко, что самоотречение, самопожертвование, наверно, происходит от слова САМ?) И к тому же подчеркнула, что самоотречение в природе истинного человека, и лишь человек-индивидуалист, человек-растлитель, человек-монстр не обладает этим спасительным качеством, полным величья, оберегающего жизнь.
— А не сложится ли так, что расплодятся еще незримей среди других народов всепронизывающие народы, и они-то сведут на нет множественную красоту двух тысяч народов, оригинальных в языке, чувстве, культуре, укладе?
— Множественность красоты не исчезает бесследно. Она сливается, как вещества в сплавах, но не через посредство злодейства.
— Природа и человечество испытали это.
— Человечество становится бдительным. Нацизму не победить.
— Практика показывает, что вместо одной головы змея, дракона или демона вырастают десятки, тысячи.
— Человечество, как помнит себя, всегда борется с ними. Практика? Сейчас практика вроде сильней.
— Среди безверия верить трудно. Я предпочту верить.
— Я не могу, Фэ.
— Не убедила?
— Слова перестали быть целомудренными, поэтому не убеждают полностью.
— Вспомни о Мировом Чувстве. Оно противоположно-едино.
— Не хочу. То, о чем говорил САМ, узаконивает противоречивость. Безотрадно. Оптимизм, на глазах которого бомбят Землю, проклятье.
На праздник Генофондизма не пошла и Фэйхоа. Беременность сопровождалась изнурительной тошнотой, и Миляга, не без оправданий и сетований как бы за ее освобождение не попасть в опалу, выдал ей медицинскую справку.
Торжество Курнопай не собирался смотреть. Пешочком втихаря прогуляется до Огомы, но Фэйхоа не отпустила его из-за недоброго предчувствия, а также заставила посидеть у телевизора: мало ли там что может стрястись.
Пока он препирался с женой, праздник начался. Камера то выхватывала ликующее лицо Болт Бух Грея, то детей-генофондистов, которые гуськом тянулись по свежестриженой траве стадиона, держа над плечиками флажки с профильными портретами священного автократа. Курнопай смотрел с заслоненным вниманием на веселый вид мальчишек и девчонок, среди которых были совсем карапузики, но скоро настроился на пристальность и обнаружил, что впередиидущий — Огомий, а ребятня, семенящая за ним, если глядеть на мордашки и фигурки, имеет прямое отношение к Болт Бух Грею.
В уши врубился гортанно-радостный, полированный голос теледиктора, сказавшего о том, что он свидетельствует, исполненный гордости за отечество, что шествуют по изумрудному полю стадиона дети будущего, чьим отцом-генофондистом является молодой правитель Болт Бух Грей, своим деянием внушающий надежду на бессмертие народонаселения планеты.
За болтбухгрейчиками прошли цепочки детей, но коротеньких, не таких красивых и ладных, и на их флажках были профильные портреты отцов-генофондистов. Некоторые из них были знакомы Курнопаю: Бульдозер, Миляга, Скуттерини, министры, генералитет, популяризаторы сексрелигии, знаменитые клерки, работяги, актеры, зодчие, писатели. Даже злосчастный монах милосердия глядел с флажков.
Недоумевая, почему нет портретов матерей-генофондисток, Курнопай увидел их в небе, отпечатанных на шелковых полотнищах, которые тянули за собой летящие нырками дирижабли. На самом почетном месте, первым на первом полотнище, красовалось изображение Каски-Веры.
Перед парадом почетных генофондариев показали будку спортивного комментатора Чапа Чапыча. Чап Чапыч, длиннотуловищный, празднично дрыгал короткими ножками, полулежа в гинекологическом кресле. Кресло он купил у старьевщиков в знак уважения, как афишировал это во время передач, к сексрелигии и генофондизму. При этом он подчеркивал, что уродцы, подобные ему, должны без пощады лишаться права на генофондаж. Отпрыгавшись, изобразив восторг существования, Чап Чапыч произнес медовой вязкости басом, что счастлив объявить выступление благодетеля Самии, прямого потомка САМОГО, пророка сексрелигии, родоначальника генофондизма, священного автократа Болт Бух Грея.
Прежде чем страна услышит своего предводителя и производителя, он, Чап Чапыч, скажет пару слов по просьбе восхищенного народа. Восхищенный народ просил его объявить во всеуслышание, что автократия Болт Бух Грея не токмо не уступает демократии в бережливости к человеку и обществу, но и превышает: ее цель — процветание всего человечества. И раньше выпадали везучие тысячелетия, чье время освещалось деянием правителя семи пядей во лбу. Последнее тысячелетие до новой эры! Император Ашока! Первый антивоенный правитель, первый коронованный миротворец! При Ашоке утвердились две религиозных философии: буддизм и джайнизм. К сожалению, Ашока не был правителем-мыслителем величины Будды и Джины. Зато он первый утвердил систему царского демократизма. Наш властелин Болт Бух Грей сопоставим с императором Ашокой, поелику первым выдвинул систему демократической деспотии. Но наш правитель превышает Ашоку: он не токмо автократ — священный автократ. Священный потому, что создал и сексрелигию, и учение генофондизма. Он совмещает в себе, выражаясь образно, Ашоку с Буддой, Ашоку с Джиной. К месту сказать, у Джины, носившего также имя Махавира и Вардхамана, было звание тиртханкара, что означает — создатель пути. Болт Бух Грей — создатель пути, как Джина, Будда, Христос, Магомет. Я спрашиваю себя: «Знало ли человечество подобного правителя?» Аз грешный хватил жизни, изучил историю людей. Аз грешный, калека, чьим помыслом не может быть помысел о продолжении рода, поелику Самия и все страны мира должны создать золотой фонд человечества, я отвечаю себе и нашему восхищенному народу: «Я не вспомню подобного правителя-мыслителя в истории, не вспомню, и на своем веку». Прежде чем поблагодарить телезрителей за внимание, добавлю, что у священного автократа как мыслителя были предшественники, но им не хватило тиртханкаристской энергии, и то малое, о чем они догадывались, он поставил с головы на ноги. Учение, поставленное вверх тормашками, вы можете себе представить, способно ли оно было захватить умы и души людей? Сексрелигия и учение генофондизма, поставленные на ноги, захватили наш изумленный народ и с быстротой электронов покоряют интеллект всех народов. Спасибо! Итак, будет говорить благодетель Самии, прямой потомок САМОГО, пророк сексрелигии, родоначальник генофондизма, священный автократ, справедливый обладатель других титулов, чинов, званий, санов, мыслитель во властителях Болт Бух Грей.
Ганс Магмейстер учил курсантов-термитчиков держать мундир лица наглухо застегнутым на все пуговицы в момент, когда вас хвалят. Должно быть, еще сержантом дворцовой охраны Болт Бух Грей прошел выучку Ганса Магмейстера. Мундир его лица был застегнут наглухо в минуты выступления Чап Чапыча. Ганс Магмейстер ни капельки не сомневался в том, что всем приятны похвалы. Он предостерегал от выражения приятности, а того, чтобы кто-то расплылся от похвал или же по-дурацки радостно осклабился, и совсем не допускал. Мигом надолго получишь завистников по службе, даже командпреподаватель, хваливший тебя, при случае сведет с тобой счеты, вплоть до кровавых. По Гансу Магмейстеру, зависть — всеобщее жизнеопасное чувство, страшное своим бессознательным постоянством, стремящимся реализоваться, потому и нельзя давать малейший повод к зависти. Он не отрицал того, что сами похвалы тоже возбуждают зависть, но летучую, потому что они воздействуют на слуховое восприятие, сладкое в человеке по сравнению со зрительным восприятием и забывчивое. Исключением, обладающим слуховой злопамятностью, были для него музыканты, особенно композиторы с абсолютным слухом, певцы, актеры, поэты, администраторы всех рангов.
У Курнопая не было уверенности в том, что и при выучке, полученной у Ганса Магмейстера, он сумел бы, как Болт Бух Грей, соблюсти застегнутость, слушая Чап Чапыча, дрыгающегося коротконожку, благостно лежавшего в гинекологическом кресле.
Встал Болт Бух Грей вровень с коброголовыми микрофонами каким-то больным. Уголки рта передернулись, он точно бы придавил коренными зубами ломтик лимона. Продлись дольше мгновения кислотная мина Болт Бух Грея, и все не поверили бы его неудовольствию передержкой, допущенной Чап Чапычем, но он, заскорбев, уронил уголки губ, и, наверно, редко кто не обнадежился, будто бы Болт Бух Грею чужда душевная неопрятность.
— Прихожане и прихожанки сексрелигиозной церкви, — заговорил он трагически тихо, как будто собирался известить о землетрясении, в результате которого погиб целый город. Стадион затаил дыхание, Болт Бух Грей сделал паузу, и послышался невещественный шелест такой тонкости, точно это звучали космические волны, бегущие из вселенной. — Вы улавливаете? САМ излучил на всех нас, кто присутствует здесь, энергию своего благословения на удачу нашей грандиознейшей программе. — Болт Бух Грей вскинул руки, застыл, наполняясь какой-то мистической мощью, и, поведя ими вниз, вытянутыми во всю длину, прозрачно вымолвил два слова, как отлил из хрусталя.
— Склонитесь ниц.
Стадион, уже принагнутый движением рук священного автократа, склонился, истово повинуясь, чтобы энергия благословения обуяла его до сердечных глубин.
— Вернитесь в исходное положение, — сказал он одними губами, которые, похоже, онемели от преклонения перед САМИМ, так ободряюще нежданно возвратившимся к народу.
Потом Болт Бух Грей начал праздничную речь, но теперь это был властитель, повелевавший по-молодому дерзко, с издевочкой, перевитой лаской, потому что ведал уже, кто перед ним.
— Я вас фраппирую, прихожане и прихожанки, генофондистки и генофондисты, мои подчиненные и подопечные. Я вас фраппирую, то бишь неприятно изумлю. Праздник, и какой праздник! И все-таки фраппирую. Дабы прониклись, чего ради фраппирую. Как люди не стыдятся убивать врагов на войне, так мы сегодня не будем стесняться святого акта демографии, долженствующего спасти от вырождения народы и племена Самии. Для пущего убеждения спасительности сексрелигии, также генофондизма мы допустили на праздник телеоператоров всех стран мира, то бишь трансляция будет вестись целиком на земной шар. Эпоха так эпоха! Она знаменует собой зачин эры глобальности. Куда уйдешь от глобальности? Никуда. В противном случае — всеобщая смерть. Ныне нет экономических систем, нет идеологий, ради которых стоило бы уничтожить земшар. Постулат сам по себе кощунственный, однако лишь с виду: кощунствен сам ход экономики, идеологии, национально-географической жизни на земле Все клянутся идеей сосуществования, упорно продолжая существовать по отдельности или блоками. Блоки — препятствие ко всемирному спасению, к братству. И тут возникает не где-нибудь, в стране САМОГО объединительная религия: сексрелигия. В основе ее культ непрерывности жизни, культ продолжения рода, культ целесообразного регулирования народонаселения любой страны в частности, народонаселения мира вообще. Сексрелигия, и только сексрелигия может утвердить идею всеобщности существования. Своими сущностями она утверждает другие цели, спасительные для человечества: не войну — мир, не разобщение — соединение, не ухудшение — совершенствование, не хаос — гармонию. Дабы ясней ясного стала моя теория, еще раз фраппирую участников праздника и телезрителей. Человечество развивалось под знаком порчи, распада, хотя и утверждало устами своих трибунов, госдеев, священников, что идет по пути цивилизации. Цивилизацией называли сферу сервиса, достигаемую за счет убийства природы. Поистине человечество рубит сук, на котором сидит. Тем более в понятие цивилизация нельзя включать армию, атомистику, потому что они работают на отрицание жизни. Идеалы цивилизации — сельское хозяйство, медицина, астрономия, гимнастика, генетика. Идеал идеалов — генофондизм. Он дает возможность человечеству осознать свою порчу и средства для полного физического и духовного очищения. Не надо думать, что генофондизм — чисто демографическая наука, сексрелигия — религия плотской чувственности. Они — наука и религия о переустройстве обществ на земле. Ничто не окажется не непереустроенным из того, что сложилось доныне. Переустроится все: философия религии, нравственность, психология, институты административного управления, культура, право собственности. Любой из вас ежедневно сталкивается с правом собственности. Оно многозначно до неуследимости. В нем много справедливейшего и много жесточайшего. Самое страшное в нем на данный момент для нашего спасительнейшего дела — абсолютное право на тело человека. Оно вытекает из семейно-супружеского права. С этим правом не улучшить народы Самии, человечества. Без разрушения постепенного этого права невозможно успешное отправление сексрелигиозной обрядности, духа сексрелигии, невозможно и осуществление идеи генофондизма. Данное разрушение мы уже начали в верхах. Совсем недавно, в течение недели, любимец САМОГО, мой персональный любимец, любимец Самии, державный ревизор Курнопай осуществлял генофондирование группы первых леди нашей державы. Надо отдать должное сексврачам, сексологам, секссвященникам державы — они в результате обследования установили запрет на генофондаж и посвящение целому ряду министров и высокопоставленных военных. Будут обиды, огорчения, приступы отчаяния у лиц, лишенных этих прав, как и права на лишение продолжения рода. Некий министр, впавши в амбицию, требовал отставки. Пока отставка ему не дана. Терпимость — вещь важная. Однако решение сотрудников сексфронта останется в силе. В роду министра были шизофреники, дауны, туберкулезники, самоубийцы. Так мы будем поступать отныне и присно во имя прекрасного потомства Самии. Здесь в неукоснительном порядке надо объявить, что комиссии по отбору генофондистов и генофондисток будут отдавать предпочтение тем женщинам и мужчинам, в семейно-родовом генофонде которых по преимуществу были земледельцы, священнослужители, финансисты, менеджеры, учителя, творцы культуры, науки, техники, гуманитарии, рабочие-изобретатели, мастера-умельцы и, конечно, конечно, футурологи. Мы будем ограничивать в область демографического воспроизводства приток людей, гены которых отягчены милитаристической информацией, информацией об алкоголизме, наркомании, врожденных телесно-духовных уродствах, информацией о завистничестве, мстительности, лживости, неблагонадежности по отношению к заветам САМОГО, к историческим ценностям Самии, к новшествам политического прогресса, религии, этики. И в настоящем случае я фраппирую вас, но подумавши, откинув эгоистические настроения, вы примете мое учение, так как оно — учение о грядущей нескончаемой жизни людей в противоположность глобальной ситуации, которая пока что запроецировала человечеству близкое самоистребление. Сексрелигия, генофондизм созданы мною для предотвращения самоубийства человечества. Казалось бы, спасение найдено. И нет дилеммы: глобальное самосожжение или очищение от скверны, которая привела к угрозе ядерного самосожжения? Дилемма есть и накренена в сторону небытия. Я не стал бы в праздник фраппировать вас на трагический лад, однако избавление от катастрофы идет через осознание глобальности мирового катаклизма, главное — через активную, без ущемлений практику генофондирования, в чем, поскольку программа слишком ответственная, необходима беспощадная дисциплина и, коль скоро порча достигла жутких размеров, также сексрелигиозная кара вплоть до уничтожения по решению трибунала жрецов во главе со мной. Посему я призываю участников демографического действа мановением воли избавиться от стыда и совершить на мягкой травке стадиона священный акт, как то делали наши предшественники, каковых еще тогда не раз дирали чудища духовных и телесных уродств. В будущем на празднике Генофондизма, если, благодаря нам, человечество выживет, генофондирование будут осуществлять юноши и девушки. Обходятся ведь одной молодостью соревнования фигуристов, лыжников, легкоатлетов, конькобежцев, пловцов, стриптизеров. Почему сейчас мы не пошли этим путем? Первое. События показали, что в интимных условиях генофондарии уклоняются от близости, то бишь зачатье как величайшая цель поругается. Второе. Сексологи планеты провели статистику рождения гениев. Выявилось, что от отцов и матерей, достигших весьма зрелого возраста — сорока, пятидесяти, а то и шестидесяти с гаком, рождались самые грандиознейшие люди. Третье. Мы ориентировались на то, что у каждого возраста найдутся свои болельщики, либо на то, что у знатных или безымянных особей будут свои поклонники. Всем вам известна моя посвященка Лисичка. Я искренне сожалею, что она не зачала во время посвящения. В моей практике — это прискорбный случай. Мои коллеги по высшим инстанциям шутят, что, мол, вам, священный автократ, можно дать еще одно звание: звание верховного сексснайпера. Лисичку мы придали в качестве партнерши маршалу Данциг-Сикорскому. Тут, по ассоциации, прибегну к воспоминанию. Три года тому назад я возглавлял делегацию во Французскую республику. Переговоры шли не совсем так, как прогнозировалось. Я переживал. Скверный сон. В час пополуночи вздумалось проветриться. Покинул резиденцию. Елисейские поля. Почти безлюдные, темновато. Брел вверх по Елисейским полям. Впереди старик. Рослый. Сутулость. Подошвами приволакивает. Навстречу ему бежит девочка в манто. Распахнулась. Голенькая. «Мсье, — к старику, — сик-сик?» — и полами кокетливо помахала. Слышу старик: «Что ты, деточка?! Ведь мне на девятый десяток». Она запахнулась в манто и так-то неотразимо, чертовски задорно: «Мсье, это не ваша забота». И старичок за ней побежал. Камешки свистели под ногами. Там, как говорится, развлечение для заработка. И то какой энтузиазм! Лисичка, мы убеждены, проявит куда больший энтузиазм, поскольку цель захватывает дух по причинам невероятнейшей идейности. Кто-то, конечно, поскалит зубы, пошутит, посмеется, позлорадствует, теша недоброжелательную душонку, но… на то и праздник. И все-таки я призвал бы щадить престарелого военачальника. Может, у вас в возрасте Данциг-Сикорского тоже будут венозные икры и позвоночник, покореженный спондилезом.
Хохот оскорбил Курнопая. Он ушел в кабинет, но не захлопнул дверь. Его оскорбленность за маршала не была гневливой — местами речь священного автократа засасывала…
Кресло, отделанное шкурой росомахи, приняло Курнопая в меховые объятья, и он, с паническим чувством вспомнивший о башне-призме, отчаялся от того, что автократ подверстал его го́ре (проклятье первым леди державы) к празднику Генофондизма.
Обвалы хохота, сотрясавшие стадион, навострили слух Курнопая.
Под видом просьбы о сочувствии Болт Бух Грей поизмывался над плоской и сухой ногой бармена Хоккейная Клюшка, но оправдал его участие в празднике коммерческим дарованием, редким для самийцев, разъедаемых хозяйственной безалаберностью и не умеющих из-за наследственного бескорыстия получать на одну денежную единицу сто единиц прибыли. По этой необходимейшей нужде включен в актив генофондариев — весьма музыкальное словообразование произвел Чап Чапыч — зарубежный делец Скуттерини, работающий на благо промышленности.
Курнопай не знал, будет ли участвовать в генофондаже на зеленом поле бабушка Лемуриха, и на всякий случай молил САМОГО, чтобы священный автократ не затронул ее. Увы, он запозднился с мольбой. Болт Бух Грей со смаком расписал могучие телеса Лемурихи и явно на посмешище выставил грудь: ею, мол, она могла бы выкормить несколько поколений водородных бомб или поколение сверхсовременных авианосцев. Такие груди-де перевелись, стали реликтами, подобно мамонтовым деревьям и баобабам. Так как мы собираемся культивировать реликтовые груди, им будет почетное место на генофондажах. Для них мы устроим конкурсы «Миссис первая грудь Самии». В партнеры бабушке Лемурихе он выделил державного врача Милягу, преобразовавшегося в сжатый срок из застенчивого слюнтяя в носорога полового разгула. Свой замысел, дабы знаменитую телебабушку Лемуриху обгулял первый медик государства, Болт Бух Грей объяснил желанием сплавить ее золотоносные свойства: простонародный характер, умилительнейшее преклонение перед пастухом народа — всем памятно ее мление перед покойным Главным Правителем, — ее неукротимую энергию ради счастья общества, ее костяк, способный без устали нести на себе горные массивы мяса, слить с рафинированной интеллигентностью Миляги, с его обходительностью, данной от природы, с его пластичным умением подлаживаться под требования эпохи.
Когда распотешенный стадион затих и насупился в ожидании коронного номера, Болт Бух Грей подарил улыбку камерам планеты. Не обворожительность светилась в лице — откровенное удовольствие от того, что удивительные вещи ему придумались и столь сплоченно воспринимаются.
Он сказал, что хватит говорильни, ибо на говорильню у всего земного шара дикая аллергия, но тем не менее попросил еще минуту, дабы подбить бабки.
Курнопай, и сам не заметивший, как вернулся к телевизору, проворчал:
— Разглагольствует без меры… Минутку, видите ли, просит накинуть.
Фэйхоа старалась не раздражаться ради рождения спокойного ребенка. Ласково она позакручивала волосы Курнопая на палец, промолвила загадочным шепотом бабушки Лемурихи:
— Сосерцай и помалкивай.
Курнопай повиновался. Он давал себе зарок не дергаться при жене, чтобы не родилась психопатка. Странная уверенность: родится дочка — была странна даже ему самому.
Подаваемый операторами сразу с четырех сторон, Болт Бух Грей стоял перед коброголовыми микрофонами в белоснежных плавках с типографскими отпечатками туманности Конская Голова. Никель молнии, деля плавки на две половинки, прядал таким горячим блеском, что казалось — прожигает зрачки.
Едва взор священного автократа притуманился, а лицо начала освинцовывать усталость, в которой читался надрыв от напрасных усилий, неутешных скорбей, от замыслов, зараженных изверенностью, камеры перекинулись на представителей общественности, сидевших в ложе сбоку, за спиной у себя священный автократ никого не терпел из правительственных чинов, генералов, монополистов, технократов…
Разрослась и точно бы лопнула угрюмая ряшка Бульдозера. Из угловой тени выплыла каравеллоподобная шляпа, под нею открылись приспущенные веки с бахромчатыми ресницами. Курнопай вздрогнул, узнавая мать. Так и не вскинулись ее веки. Стесняется? Нездорова, но присутствовать необходимо? Соскучился он о ней! Как им надо помириться. Неужели она все еще не осознала, что антисониновая платформа Сержантитета подрывала само существование народа, что они с отцом не лиходеи Самии, а спасители?
Прежде чем подбить бабки, священный автократ проверил, не заело ли молнию на плавках, и, ободренный тем, что молния запросто расхлестывалась, зычно проговорил:
— Мои предшественники во времена всех бывших и теперешних формаций, то бишь предшественники-преобразователи земного шара, лишь обнадеживали народы замыслами об улучшении их жизни, но только ухудшали ее, увеличивая могущество своих государств. Я, потомок и наследник САМОГО, и мой народ, мы действительно улучшим бытие страны и земшара, потому что не отвергли религий, верно, на короткий срок приостанавливали их действие, да еще придумали религию спасения, универсальную в современных обстоятельствах, потому что ясная постановка задач не даст нам потопить практикой теорию. — Он захлебнулся воздухом торжественности, прокашлялся, повелел слегка расщепленным баском, зашелестевшим от звуковой стружки:
— Се-екс-жри-и-цы на по-ле ста-ди-он-на.
Портьеры входов на стадион разлетелись. Выбежали жрицы. Полы оранжевых накидок хлестались. Капюшоны, надуваясь, обозначали декоративные вышивки со сценами из посвящений. На капюшоне проклятой датчанки, она с подскоком мчалась к центру поля, мелькал то он, Курнопай, на которого наседала Кива Ава Чел («Стыдоба, стыдобушка…»), то Болт Бух Грей, манипулировавший с Лисичкой.
На капюшоне негритянки, какую Курнопай запомнил по ее ненависти к родственникам, картинно белели вышивки, где Курнопая, ничего не видевшего сквозь чулок, напяленный на голову, сняли крупным планом в хрустальной башне. Прискорбным, даже чудовищным для Курнопая было то, что на капюшоне вышили его и девчонистую женщину, которая посочувствовала тогда ему в башне и все-таки не уклонилась от насилия над ним, может, и не собиралась уклониться, только двуличничала.
Курнопай страшился смотреть на Фэйхоа, едва глянул — на него напал колотун. Она сидела в профиль к нему, из-под височного уголка ее закрытого глаза выкатывались слезы, его начало трясти, он в голос заплакал, но думал, что нужно сдержать себя, чтобы успокоить Фэйхоа, а доводов не находил (прошлое поругано, настоящее до неверия противоречиво, будущее во тьме) и рыдал все громче, неутешней.
У Фэйхоа была такая воздушно-летучая походка, что Курнопай недавно сказал ей: «У тебя, Фэ, ступни, подбитые ветром!» И вдруг она идет к нему какими-то стальными ногами. Ее руки, обычно пуховей страусового пера, были тяжелы, да еще и хладны, словно она умирала. И Курнопай снял их, почти потерявшие способность двигаться, со своей кудлатой головы, целуя, отогревал дыханием.
— Современность не по нам, — повторяла Фэйхоа. Ей трудно было говорить: немота губ, разбухший язык. — Теперь нет спасения от жизни, пока не вырастим ребенка.
Нежданный голос Ковылко ворвался в телевизионную тишину. Мигом он заставил Курнопая и Фэйхоа забыть о самих себе. Каска сидела справа в углу правительственной ложи, Ковылко — в левом.
— Господин священный автократ, — крикнул Ковылко, — с любовью-то как быть?
Ковылко — бурый берет, увенчанный белой пипкой, ждущие спасения глаза медведя коала, опаленного эвкалиптовым огнем.
Болт Бух Грей — винт шеи, черный каракуль затылка, плечо, вскинутое напряжением, самоуверенность, исключавшая подвох.
— С любовью-то как быть? — переспросил Ковылко и переступил с ноги на ногу.
— Все, что я говорил, пронизано любовью, — ответил Болт Бух Грей. Угловой оператор преодолел растерянность и подал крупным планом полный страстной веры лик автократа.
— Оно с точки зрения вообще… Куда деваться с любовью, ежели берется в учет одна похоть? Под соусом религии этот еще к ней приляпывается — генофонд.
— Наш славный председатель смолоцианки, незачем любовь куда-то девать. Любовь — великолепнейшее из земных чувств.
— Так-то оно так, да получается не эдак. Все же вы, ты пример… Лошади там, племенной жеребец, ты с отцом… Пускай для здорового будущего Самии… Но нельзя все же отношения мужчины с женщиной сводить к случке.
— В случке ничего предосудительного не нахожу. Благородный акт ради продолжения рода потрясающих животных. Вы — горожанин, и судьбы лошадей вас не волнуют. Утрата той или иной конской генерации не менее прискорбна, чем исчезновение с лица земли того или иного племени.
— Никак не втолкую, господин священный автократ. Меня, скажем, назначили бы сегодня выйти на стадион… Прилюдно совесть мешает говорить… Молодую, к примеру, в пару назначили. У ней за миловидность и сложение титул королевы красоты.
— Чернозуб, у тебя губа не дура! — не без умиления сказал Болт Бух Грей. — Это в наших возможностях, — добавил он сочно и оглядел испытующе стадион; оттуда понеслись возгласы одобрения, переросшие в клокочущий утробный рев.
— Вы не дослушали, — попытался пробиться тростниковый голос Ковылко сквозь штормовые валы воплей.
— Ты, Чернозуб, родил, — рявкал Болт Бух Грей в микрофоны, перекрывая мольбу Ковылко, — богатыря Курнопая! Так как нам отказать тебе в распрекраснейшей мисс Самии? Бери хоть сейчас. Я сам собирался ее генофондировать. Передаю тебе. Бери! Продолжайся! Я же генофондирую полинезийку Юлу, дабы планетяне ведали о национальной широте народов Самии. Лапуля, где ты?
Возле Каски-Веры поднялась синеглазая девушка, одетая только в оранжевую мужскую рубашку.
В рев втолокся топот, вбивались хлопки, а священный автократ продолжал вздымать штормовое неистовство стадиона выкриками о своем державном благородстве, переданном ему великим САМИМ.
От душевного транса Ковылко было приковался взглядом к затылку Болт Бух Грея. И вдруг он посмотрел вдаль, на горластые трибуны, поднявшиеся во весь рост и взмахивавшие белыми платками, точно на корриде, когда матадор с изяществом по рукоятку всадил шпагу в загривок быка и зрители требовали ему в награду ухо этого быка.
И оператор, и режиссер осмелели: на экране, разделенном пополам, синхронно зрительному ряду Болт Бух Грея давался зрительный ряд грозного Ковылко, сжавшего над плечами кулаки.
Курнопай невольно одушевился. Рано торжествуют трибуны: отец переждет их беснование и задор священного автократа, все взвинчивавшего и взвинчивавшего себя, но не уверенного в том, что ему удастся заткнуть хайло Чернозубу.
— Мне королева красоты на дух не нужна, — закричал Ковылко, едва Болт Бух Грей выжидательно осекся, а стадион принялся усаживаться. — Я Каску люблю! Другая, пускай она ангел божий, мне поперек души. Ты все САМ да САМ… Доса́мкался, изуродовал народ.
— Разве я против твоей любви к маме Вере? Но мама Вера сама решила свою судьбу. Я слова против не скажу, если она пожелает вернуться к тебе, достойнейший председатель смолоцианки. Тем более что вы оба включены в золотую гвардию генофондистов.
— Что моя любовь — участь погибла. И это капля в море. Ты и твои сержантишки погубили семьи, где были совет да любовь. Заместо любви и согласия вы подсунули народу чуму разврата. Будьте вы прокляты, растленные хунтисты.
Ковылко встряхнул кулаками над пушистой сивой головой и стал уходить с державной трибуны.
Провожая Ковылко разочарованным взором, Болт Бух Грей говорил под насупленность стадиона, что правильно, выметывайся отсюда, Чернозуб, нечего тебе тут делать, ты не понял ни революции сержантов, ни курса на три «Бэ», ни генофондистской философии спасения Самии и прогрессивного человечества. Терпимость имеет смысл, когда заблуждается революционер. Ты — реакционер, враждебный системе государственной целенаправленности, отражающей чаяния заблудшей планеты. Раз так — власть и народ расстаются с тобой.
Ковылко почему-то спрыгнул с нижней ступеньки, хотя она была не выше других в гранитной лестнице, и заспешил к портьерам выхода. Вероятно, он чувствовал, что добром не покинет стадион.
На мгновение умолкший Болт Бух Грей, когда Ковылко приблизился к выходу, заключил шепотом прощание с ним.
— Беги, поправ глобальный праздник. Тебе не уйти от суда жрецов во главе со мной и, что позорней, от суда истории, благодарной нам за спасение человечества.
Священный автократ возвысил голос до патетической зычности:
— Праздник продолжается. Генофондарии и генофондистки, бе-ег-ег-гом ырш по мес-ес-ес-стам.
Первым, на кого напали телекамеры, был маршал Данциг-Сикорский. Лапы старика греблись по траве. Полусогнутые ноги от шага к шагу подгибались все сильней. Кабы не Лисичка, — она готовно его подстраховала, приобняв за торс, — он воткнулся бы коленями в поле стадиона.
Режиссер спохватился, что показ самого почитаемого полководца, перенесшего черную опалу, принял кощунственный характер, поэтому приказал камерам ловить юность и двоить, четверить, восьмерить кадры.
Едва в центре экрана появился Болт Бух Грей, спускавшийся к полинезийке Юле, Курнопай обрадовался, что операторы не показывают стариков. Он не собирался оставаться у телевизора, да и Фэйхоа настаивала выключить подоночный ящик, но Курнопай медлил, чтобы убедиться, что не покажут бабушку Лемуриху. Курнопаю даже примнилось, будто САМ пресек эту позорную возможность.
До чего ж разочаровала Курнопая его склонность к самоутешению. Показали бабушку Лемуриху ни откуда-нибудь, с «тамбура». Презрительно-скульптурное словцо курсантов горестно облагоразумило его:
«На что надеялся?!»
Фэйхоа брезгливо выключила телевизор.
— Бэ Бэ Гэ позвонит сегодня вечером. Спросит мое мнение женщины в положении. Разгромлю. Не было и не должно быть безнравственных праздников.
— А я скажу — антипраздник.
Действительно, Болт Бух Грей позвонил вечером, но отнюдь не для того, чтобы спросить, а для оповещения, что со всех континентов идут телеграммы протеста и что в стране кое-где вспыхивали митинги, клеймившие сексцерковь и правительство, однако он не то что не поколеблен, напротив, утвердился в замыслах и надеждах. Человечество настолько извратилось и сжилось со стихийно и сознательно ожидаемой гибелью, что отказывается спастись и готово для уничтожения Самии применить ядерное оружие. Он убежден, что и они, Курнопай и Фэйхоа, в настоящее время на стороне врагов его дела, и все-таки он будет рисковать существованием отечества, благодаря чему, в конечном счете, очнется и сохранится в усовершенствованном виде самоубийственно глупое, неподатливое человечество, испокон веку с беснованием воспринимающее социальное творчество, которое спасает, а не гробит. Кручинился великий искатель, выдумщик, обнаруживатель новых законов державного и глобального существования. Невзирая на это, Курнопай намеревался вмазать ему за скороспелое осуществление серьезных идей, каковое лишь способно порочить и как бы выступать со стороны дьявольских сил, но не сказал, потому что в это время услыхал горловое болт-бух-греевское рыдание.
После праздника Генофондизма маршал Данциг-Сикорский слег. Фэйхоа пыталась понаведать его, но он передал через Милягу, что скорей умрет, чем позволит себе взглянуть на нее. Она чистый человек, верный себе и заветам строгой морали, он — падшая скотинка. Пристрелить, выбросить стервятникам.
Курнопая маршал встретил как пострадавший пострадавшего. Раненные насилием и покорствованием, они долго сетовали на то, что словно передаются по наследству волевые до палачества методы государственных преобразований. Похоже, есть оккультный генетизм или духовно-демонический?
Встреча ухудшила состояние маршала, и Миляга посоветовал Курнопаю либо не навещать больного, либо говорить с ним о предметах отвлекающих. Хотя Курнопай стал говорить со стариком о реалиях, поддерживающих оптимистическое горение, Данциг-Сикорский все сильней впадал в саморазочарование и в неверие, что курс священного автократа сделает Самию обетованной страной, указывающей путь другим народам и землям. В день их последнего свидания, когда маршал, казалось, пошел на поправку, был весел и одет в летнюю парадную форму, он попросил Курнопая толкнуться к САМОМУ. Курнопай к этому времени вовсе не обнадеживался на счет САМОГО: передал страну на произвол судьбы, отсиживается где-то, равнодушный отступник, — но он, как ни морочило его желание ответить отказом, пообещал Данциг-Сикорскому толкнуться к САМОМУ, чему старикан обрадовался со смешливой детскостью в синеньких глазах и вручил Курнопаю ключ от арагонитового туннеля, ведущего к дворцу, откуда можно попасть к САМОМУ. Этот ключ-дубликат, не приводивший в движение систему электронной охраны, подарил ему под секретом на самый опасный случай Главправ Черный Лебедь. Ключ самого Черного Лебедя попал к Болт Бух Грею, который уверен, что другого такого ключа не было в стране и нет.
В полночь священный автократ объявил о трехдневном трауре по маршалу Данциг-Сикорскому, умершему от старости. Накануне похорон Болт Бух Грей присвоил ему, как одному из пионеров сексрелигии и генофондизма, новое посмертное звание «Спаситель нации». На поминках хмельной Миляга расчувствовался перед Фэйхоа от воспоминания, что он и Курнопай были приговорены к замурованию, да уцелели, благодаря доброму сердцу правителя, и возвысились до чрезвычайности. Не ища повода для нарушения державной тайны, шепнул ей на ухо, что маршал застрелился из-за самокритического надрыва. Фэйхоа испугалась, как бы Курнопай тоже не покончил с собой, и пригрозила Миляге, если не прикусит язык, рассказать священному автократу о навете на спасителя нации Данциг-Сикорского. Миляга раскаялся — сболтнул, так как выпил лишку. Фэйхоа не уберегла мужа от правды. Перед заседанием кабинета министров Болт Бух Грей попросил Курнопая к себе; с укоризной он выговорил ему за то, что его способность к мучительству сомнений начинает производить пагубное влияние на натуры, не склонные к рефлексии.
У подъезда, так уж повелось, Курнопая встречали ходоки за справедливость, жалобщики, заявители о безобразиях… В особняк державного ревизорства они не хотели обращаться по разным причинам: страшились, что за ними подслеживают, что в кабинетах чиновники снимут их на видеомагнитофон и за большие деньги продадут кассеты преступникам, что от официального обращения толку не будет, потому как те, кто там принимает, поставлены не для ради честности, а для обмана, козней, в лучшем случае — для уговора… Они надеялись лишь на совесть Курнопая, потому и поджидали его возле дома. Просители, как правило, были из простонародья. На этот раз его встречали девушки племени альгамейтов: по синим волосам розовые лотосы, на мешковине кофточек бурый трафарет охотника, который целит пикой в марлина, стоя на корме пироги, прямые юбочки потрескивают пластинками бамбука.
Межгосударственному тресту понадобилась береговая полоса Огомы, занимаемая альгамейтами, где геологический спутник обнаружил нефть. Племени предложили выкуп и переезд в пристоличный портовый поселок развлечений. Племя не согласилось. При помощи сил порядка из соседней страны Клингийи его вывезли на вертолетах в джунгли. В прошении, обращенном к верховному ревизору, девушки умоляли спасти их капельный народ от гибели в джунглях, где, кроме трясины и злых духов, ничего нет.
Чем прискорбней была история, тем стремительней действовал Курнопай: затянешь — события перейдут в состояние необратимости.
Выслушивая альгамеек, он обдумывал вариант незамедлительных решений. Он сразу помчался бы в свою резиденцию, если бы не присутствие старика, борода которого была распластана во всю ширину груди. Ощущение какой-то зависимости от этого старика, тем более зависимости от него племени альгамейтов мешало Курнопаю броситься к машине и погнать к державному ревизорству.
Старик стоял в тени саговника, и так как сквозь перистые ветки, чуть выше его головы, садило резким светом фонаря, разглядеть лицо было невозможно. Кабы не белая, с морозцем седина, то и борода оставалась бы в черной глухоте. На миг, едва бородач полуповернул лицо, обозначился в наплыве рыхлых век глаз тапира, правда, лишенный спокойствия этого увальня горных отрогов, мерцающе-тревожный и, почудилось, такой знакомый, что сердце загоревало до ностальгического обмирания.
Обычно просители обретались тут же в сквере. Под влиянием энергии, исходившей от старика, удалось Курнопаю уговорить девушек заночевать в гостинице ревизорства; находилась она неподалеку.
К подъезду он пошел один и уже около ступенек загреб ладонью позади себя, зная, что старик ждет, будто они заранее условились о встрече.
Первым в подъезд не позволил себе войти, хотя и тревога, точно сквозняк, прокатилась по спине.
Когда бородач скользнул мимо через распахнутую дверь парадного, Курнопай удивился, что от стремительного подъема по ступенькам стариковское дыхание не зачастило. Собственно, дыхание-то он не услыхал, и тотчас ему стало ясно, что это Ганс Магмейстер, который успокаивал дыхание после бега тем, что затаивал его; тому же он учил следовать курсантов во всех случаях, вызывающих напряженную пульсацию легких. Если кто-то пугался затаивать дыхание, боясь, что легкие лопнут от натуги, то Ганс Магмейстер советовал съесть воздух и мигом перекрыть гортань.
Чисто перекрыл свою гортань Ганс Магмейстер: возле клети лифта он поприветствовал Курнопая невозмущенным голосом, а ведь парадное было не о три ступеньки, а о двадцать одну.
В отличие от курсантов, с кем Ганс Магмейстер занимался мимикрологией, преподаватели училища считали его человеком потаенной судьбы и, по мере возможности, уклонялись от общения с ним. Предостерегаемый ими (ничего определенного, так, намеки с помощью прижмуров глаз, щечно-губных ужимок), Курнопай благодушествовал. Да разве вечный аналитик, выдумщик, оригинал способен на подлость?
В кабине лифта, отделанной черными пластинами эбенового дерева, высветилось до подробностей лицо Ганса Магмейстера: лиловые зрачки, морщинки по носу, меленькие, точно корешки травы, впросинь бескровные губы. Раньше, без бороды, оно воспринималось как страдальческое, с уклоном в жесткость. Теперь, в окладе мерцающих волос, его иначе не определить, чем лицо праведника, кого и во сне не морочит греховность. И вдруг Курнопаю сделалось больно за себя: как тогда, так и теперь Гансу Магмейстеру удалось перекрыть его проницательность. Раньше ему не приходило в голову подключать афоризм Ганса Магмейстера «Искусство охмурять блистательней искусства правды» к нему самому. Что-что, а искусство охмурять, наверно, небезотносительно к великому ведуну мира иллюзии, гипноза, экстрасенсики?
Закручивала, закручивала Курнопая накатная волна подозрения. Ожидалось, лишь только они выйдут из лифта, окончится этот закрут. Однако подумалось нежданно: «Подослан». И не запротестовал, хотя то и дело чувствовал, что впадает в измышление вопреки собственному желанию.
А сомнение уж несло Курнопая к горькой уверенности, что не осталось для Ганса Магмейстера закрыто его состояние. В гостиной, чтобы удостовериться в этом и покаяться, выверил выражение лица Ганса Магмейстера и, кроме заботы, ничего в нем не обнаружил.
Ганс Магмейстер училищных лет всего лишь числился для Курнопая опальным. Типа забавы опала: по-молодому весело определялось ему положение социального государственного психолога для избранных. Замышленным для потехи, оно виделось еще из-за того, что он вроде бы нес наказание за вину Главправа, которая подразумевалась, но за которую властелин после смерти совсем не осуждался.
Не принимал Курнопай всерьез и деревенскую ссылку Ганса Магмейстера. Невзаправдашняя ссылка. Для какой-то надобности туда толкнули. Может, самого Болт Бух Грея поручение. Неровно дышит к фермерам священный автократ, на первое место их ставит в партийной иерархии, и они довольны, невзирая на то, что он не подпускает их к рычагам управления, даже своих родственников и тех оберегает от должностей за пределами сельской географии.
Вполне вероятно, что обожание возбуждает корысть. Раз поклянешься фермерству, то и обеспечь представительство у кормил власти. Да-да, не исключено, что Ганс Магмейстер внедрен в сельский округ для наблюдения за свежевозгорающимися процессами в крестьянской среде, а то и для ловкого их погашения.
Под воздействием этих мыслей о Гансе Магмейстере, вспомнился Курнопаю Музей Еретиков, где замурован прах Сыроедки, родной сестры Болт Бух Грея, уклонившейся от исполнения сексрелигиозных обрядов. И внезапно он надоумил себя на догадку, что Музей Еретиков — творение Ганса Магмейстера. Чему-то новому среди фермерства, что окажется неугодным Болт Бух Грею, Ганс Магмейстер сыщет умертвляющее определение.
Просьба Ганса Магмейстера об отмене опалы пришлась впротивоток внутреннему строю, который сложился в Курнопае по отношению к этому человеку. Если бы единственным препятствием было приятие его положения как заслуженного, то Курнопай без особых затруднений назначил бы следователей для проверки, справедливо ли наказуется столь немалый срок деятельности Ганса Магмейстера до революции сержантов и не искупил ли он уже свою вину. А то ведь было другое препятствие тому, чтобы он назначил следователей для пересмотра дела: его предубеждение, что все иезуитски хитрое, значит, пагубное, охраняющее произвол, мешающее совершиться честным народным выводам, измышливалось Гансом Магмейстером. Но гораздо большим препятствием было то, что Курнопай вдруг уверился, будто бы деятельность Ганса Магмейстера не просто не прерывалась, а продолжалась в курсе Сержантитета на Три «Бэ», да еще и при одном «Бэ» неоглашаемом, ну, понятно, и в сексрелигии, также в демографических новшествах, в которых, правда, проглянул вселенский здравый смысл, хотя и осуществляемый у них в стране ради наслажденчества элитариев, преступно безжалостного и вульгарного.
Не без неловкости Курнопай высказал Гансу Магмейстеру то, каким представлялся он ему раньше, и то, как подумал о нем теперь. Говоря, мало-помалу он ощущал сомнение в оценке сегодняшнего Ганса Магмейстера. Конечно, стремясь к самообелению, мудрый хитросплетатель сумел на него повлиять. И все же склоняла Курнопая к сомнению выдержка, с какой Ганс Магмейстер выслушал его, сопровождавшаяся любознательным взором, за чем подразумевалось, что постижение верховного ревизора державы ему сейчас важней личного освобождения от опалы. Именно на его посту, несуразном и скверно поддающемся освоению, Курнопаю приоткрылась истина об отсутствии культуры слушать собеседника не только у верхних людей, но и у среднего сословия и даже у простонародья. Нет, не подкупал его слушанием Ганс Магмейстер. Наверняка он владел этой культурой от своей глубины и природной сути.
Он тоже на месте Ганса Магмейстера прибегнул бы к восторженной иронии, когда бы начал объяснять самого себя.
Он-то, недооценивал он себя. Из психолога армейского пошиба, некоторое время дворцового, преображен в идеолога государственного, да чего там, забирай в зенит, планетарного ранга. Сознавал бы себя прежде идеологом подобной высоты, не упустил бы колоссальных футурологических возможностей. Ах, надо же, не запрограммировал себе еще при Главправе роли ссыльного у олигархических прощелыг во главе со священным автократом Болт Бух Греем.
Не хотел Курнопай прерывать Ганса Магмейстера. Пусть выговорится на иронической волне, вдруг да не заметит, как обмолвится в том, о чем привык скрытничать, тем более что его он ни разу не перебил. И все-таки Курнопай прервал Ганса Магмейстера. Слишком уж ненатурально смелы, до провокационности злобны были слова об олигархических прощелыгах во главе с Болт Бух Греем. От рассудка, а не по страху Курнопай возразил ему, что, хотя и знает за священным автократом недостатки, но подачу, будто бы Болт Бух Грей из прощелыг прощелыга, принять не может.
Ганс Магмейстер не рассчитывал на это, поскольку не относил властелина к прощелыгам: получилось уникально — революционер произвел переворот вкупе с прощелыгами. К чему в священном автократе у него есть претензия, так это к передержкам его авантюризма. Сам по себе авантюризм прекрасен, ибо в основе оного лежит безоглядный риск. Одиночки типа Кортеса, Писарро, Бальбоа, Альмагро сочетали в себе авантюризм с прощелыжничеством, что низводит их до степени грабителей. Болт Бух Грей классический авантюрист, поскольку, в отличие от конкистадоров, не преследует в событиях личных выгод. Его передержки совершаются из-за нетерпения. Он стремится быстрей и лучше достичь державной пользы. Результаты огромны, однако не менее разрушительны. Передержки в укор авантюристу, но они ему прощаются, ежели он мыслитель общегуманистического склада. Мечта о гармонизации численности народов и народностей выводит Болт Бух Грея в светочи глобуса. Есть спасительный ход для человечества: убавлять себя не посредством войн — способом демографического уравновешивания. Недаром он, Ганс Магмейстер, некогда изрек: «Неравенство — это состояние, способное обходиться без регулирования совестью. Равенство — это то, что достигается духовным согласием вне обид и обмана». Итак, авантюризм Болт Бух Грея? Он спасает, но и гробит. Перестанет гробить, едва доверится совести верховного ревизора, целиком подчинив его контролю и персональную деятельность.
С малолетства Курнопай не позволял себе клевать на лесть. Влияние отца. Бабушка Лемуриха была способна променять золото беспроигрышной игры на ипподроме на восхищение Главправом. Ковылко домогался без устали, чтоб она доказала, от каких достоинств диктатора она заходится до приторности. Ох, какую гордыню он в ней разжигал! «Преклоняются не за что-то, преклоняются за ничего». От лукавого, негодовал Ковылко, ее лесть. Бабушка не врубалась, конечно, почему лесть: что чувствует, то и срывается с языка. Чувства тоже фальшивыми бывают, старался втолковать ей Ковылко. Тогда и начал Курнопай догадываться о том, что человек может не подозревать о неистинности того, что выражает. Позже он чаще убеждался в том, горюя, что люди цинично подозревают о прискорбной истинности говоримого, но почему-то не усовестятся. Да, Ганс Магмейстер выразил мечту Курнопая, не самолюбивую вовсе, а ради осуществления справедливости, чтобы и священный автократ был подконтролен ревизорству, но Курнопай воспринял это как умудренную лесть, вероятно, выловленную из его сознания, а потому и настораживающую. С прямолинейностью Ковылко он осудил Ганса Магмейстера за то, что он хочет подольститься к нему. Скорей он попробовал бы облегчить судьбу виновного, но раскаявшегося человека, чем того, кто невольная жертва пройдохи Главправа, но пользуется средством преуспевающих хитрецов всех времен и народов: лестью.
Положение головореза номер один было разве чуть меньше действительного положения державного ревизора, однако Курнопай не припомнит случая, когда бы он, опальный Ганс Магмейстер, подольщался к нему. И на самом деле Курнопай не припомнил такого случая, но не признался в этом: и теперь Ганс Магмейстер выполняет секретное предназначение. Сценарии меняются, роль в общем, наверно, та же.
Следующий миг завяз для Курнопая в ощущении безысходности их встречи. Этот миг всегда воспринимали его собеседники и сразу удалялись. На счет служебного бесстыдства отнес он нежданное одухотворение Ганса Магмейстера. Он заговорил, будто бы не огорченный безотзывностью Курнопая, о своем давнем наблюдении. Ехал подростком по железной дороге об одну колею, вдруг видит отвод от колеи, указанный стрелкой и объявленный плакатом: «Зона запасного пути». Всего-то метров десять тянулся запасной путь и заканчивался перед болотом, ускользающим в джунгли. Он, Ганс Магмейстер, давно проложил в душе запасной путь, выводящий к справедливости. Этот путь в собственной душе он связывал, свято веря в его спасительность, только с ним одним, Курнопаем, да путь-то оказался коротким и уходящим в джунгли.
Курнопаю было не в новинку преднамеренное ущемление людей. Ущемился — и мигом вызвал к себе внимание, замешенное на раскаивании. И ну перед тобой извиняться, уверять в том, что тебя уважают и любят, и желают помочь.
Не простягой был Ганс Магмейстер, чтобы надавить на эту психологическую черту, которой весьма добычливо пользуются оголтелые приспособленцы. Курнопаю передалось: ходатайство о личном Ганс Магмейстер завершил, посему приступит к более насущной цели своего визита.
Пусть верховный ревизор не примет за всепрощенческий альтруизм его советы. Самый важный из советов, отчасти высказанный: надо безотлагательно решить проблему подконтрольности правительства во главе с Болт Бух Греем держревизорству. Одновременно необходимо пробить вопрос об организации вооруженного подразделения, подчиненного только верховному ревизору и обладающего полномочиями арестовывать членов правительства, не исключая самого автократа. Господин Курнопай может воспринять эти советы как подстрекательство к прожектерству, но, увы, ошибется, не принявши в учет характер Болт Бух Грея, склонный к риску на грани крушения и к заигрыванию с народом, перед коим опаскудился и перед которым лишь таким образом загладишь вину, когда дерзнешь на политический поступок, вызывающий шок у посредственностей и ретроградов. Позвони он сейчас Болт Бух Грею и потребуй закон о войске державного ревизорства и о праве ареста высоких лиц, не исключая правителя, весьма быстро получит положительный ответ.
Курнопай подумал, что по сговору с Гансом Магмейстером священный автократ проверяет его на верноподданничество собственной персоне и уж теперь-то, если Курнопай послушается Ганса Магмейстера, ясным-ясно, отправит вслед за Ковылко на остров для вольерного выращивания райских птиц, что, пожалуй, было бы спасением от должностной загерметизированности.
Искупление (разве другой смирился бы с участью отца, отправленного в двадцатилетнее изгнание?) и безысходность (ничего значительного не совершить, подлейшего не перекрыть) заставили Курнопая обратиться к священному автократу. По каналу сверхтайной связи выслушав его, Болт Бух Грей взял час, дабы поразмыслить.
В кабинете, где они с Гансом Магмейстером находились, как бы повеяло предгрозовым электричеством. Ганс Магмейстер, однако, не устрашился. Даже пониклость Курнопая не встревожила. Напротив, в его ярче засиневших глазах обнаружилась большая убежденность в том, что Болт Бух Грей ответит согласием.
— Ганс, почему вы не волнуетесь? — подосадовал Курнопай.
— У вас излишне опосредованный момент, у меня состояние катарсиса. Очищение духа под воздействием страха и сострадания — это и есть, согласно Аристотелю, катарсис.
— Неужели вы, на самом деле, одновременно и страшитесь, и сострадаете?
— Катарсис же.
— Можно раскаяться, но едва ли вероятно очиститься, если греховен.
— Все обладает способностью к очищению. Вода обладает, небо, твердь, тем более — душа и дух.
— Сомневаюсь…
— Я — нет. Очищение от скверны предполагает и очищение от вещей невинных, но грустных. Неполнотой маял бы меня катарсис, не открой я одну из тайн вашей родословной. И это я открою ради очищения. Вы — баловень судьбы, счастливчик. Вероятно, до поры, пока Болт Бух Грей находит нужным?
Курнопай замер. Тревога о том, чем ответит священный автократ, согласием ли, отказом, куда-то мгновенно подевалась.
В прискорбный период восьмилетней войны Ганс Магмейстер имел на фронте чин психонавигатора, необъявляемый, и звание генерала от медицины, прикомандированного Главправом к Ставке верховного главнокомандования. Обязанности он сам себе вменял, по мере того как вживлялся в батальное существование. Через посредство ставки он стремился управлять настроением частей на передовой. Чтобы перекрывать упадничество, он ввел вдохновительные дни, официально именовавшиеся днями свиданий. Этими днями предопределялись подзарядка храбрости, упорства, внушение, что боязнь смерти неуместна, ибо в действительности душа вечна и лишь всякий раз, покидая бренную оболочку, получает новое воплощение. Душа труса, тем паче предателя, переселяется в насекомое, пресмыкающееся, в лишайник, в стервятников, душа подвижника — в младенца, коему быть святым, мыслителем, добродеем, а то и в кого-то из божественных созданий. Гостьи: невесты, матери, сестры — твердили изречение древнегреческого философа Гераклита, почитаемое САМИМ: «Доблестней смерть — счастливей доля». Понятно, каждая гостья, прежде чем она допускалась к воину, получала дозу надлежащего духовно-патриотического напутствия.
Информировали Ставку как о массовых настроениях, так и об индивидуальных врачи, фельдшеры, санитарки. Сообщения делались по каналам кибернетики. Машина памяти, где они оседали, производила только соответствующую сортировку фактов, обобщал и предписывал рекомендации он, психонавигатор. Никто не имел права уклониться от осуществления этих рекомендаций. Высшие руководители армии, не исключая верховного главнокомандующего, кем являлся маршал Данциг-Сикорский, тоже получали советы и редко ослушивались. Единственным советом маршалу, от которого он попытался отбрыкаться, был совет хотя бы день провести в обществе женщины. Создалась беспобедная обстановка. Обладатель изумительной выдумки на малые и широкомасштабные операции, Данциг-Сикорский, согласно фронтовой молве, исчерпался. Впрочем, и ропот был, выразившийся в язвительной шуточке: «Наш Мориш не ловит мышь».
Ганс Магмейстер не видел замены Морису Данциг-Сикорскому, но и не сразу нашел выход, как сорвать его с тормоза.
Незадолго до восьмилетней войны умерла от гриппа супруга Данциг-Сикорского. До нее он избегал женщин, после — тоже. Среди военных его стыдливость и непорочность опасались вышучивать. Он был строг к телесной невоздержанности. Аскезу он утверждал как мерило нравственного существования фронтовиков. И если позволял солдатам и офицерам встречи наедине с женами, то при наличии документов о браке, освященных церковью, и очень секретно, чтобы не возбуждать животной зависти. При непререкаемом влиянии психонавигатора Ганс Магмейстер не решался намекнуть маршалу, что ущемлением мужской природы он низводит свой военный гений до состояния анемии. Однажды, едва заметив, как приластился Данциг-Сикорский тоскующим взором к молодой конвоирше, приехавшей к Ставке главкома с боеприпасами для телохранителей, Ганс Магмейстер велел маршальскому денщику Батату задержать ее и поместить в коттедж, предназначенный правительственным визитерам. Пусть готовится к ублажению важной военной персоны. Батат было принялся опротестовывать поручение: если, мол, под персоной подразумевается главнокомандующий, то неисполнимая затея. Застенчивость — не самое сильное препятствие; человек соблюдает чистоту, навроде как белое духовенство, и не допустит слабинку, от кого бы ни шло искушение, даже от самого сатаны. Но Ганс Магмейстер остановил его, ухватив, что тут воля денщика еще правильней натуры маршала. Между прочим, подчиненные, находящиеся у важных должностных лиц в услужении, обычно знают о том, каков есть их повелитель и как он будет поступать, гораздо определенней, чем он сам. Коли, мол, поступится его высокопревосходительство личной дисциплинарной установкой (куда денешься, ежели у психонавигатора и над ним власть), то все получится, навроде как у Наполеона Бонапарта: тому привели знаменитую актрису Франции в чем мать родила, а он только огладил ей спину да шлепнул по ягодицам, с тем ее и увели, навроде как лошадь с аукциона, у которой рекорды на бегах, знаменитые стати, родословная начата аж с до новой эры, но никто не позарился на нее. Не в его, Ганса Магмейстера, манере прикрикивать на нижестоящих, хотя рассудком он вычислил, что любая манера, вплоть до зверской, резонна: представлять лишь надо, с кем имеешь дело и для чего. Пришлось прицыкнуть на Батата, чтобы меньше рассусоливал да помалкивал о необъявляемой должности, в противном случае угодит под трибунал. Батат завертелся винтом, изобразив исполнительский задор, который не сумеет перекрыть целый вражеский полк. Упрямилась, конечно, конвоирша: не за тем-де нанялась в армию, еще, не дай бог, донесут главкому, тогда с позором демобилизуют. Батату да не умаслить патриотичную девушку. Если он ударился в исполнительство, зарядит себя таким энтузиазмом, что волну полнолуния, прущую вверх по Огоме, кинется перекрывать. Склонил он ее ласковым уговором, привравши при том, будто бы без ее жертвы целомудрием не достичь победы да будто бы сам главком ее на эту операцию благословил. Зато маршал артачился, как тибетский отшельник. И этого пришлось пристращать: фронт теряет веру в батальное торжество, не исключено смещение главнокомандующего, поскольку он потерял дееспособность, остается одно-единственное — или отставка или ликвидация мозгового застоя испытанным мужским способом. Смещение посредством путча Данциг-Сикорский исключал, надеясь на незыблемость своего авторитета у молодых офицеров. Верно, он спохватился о том, что вовсе не защищен от мгновенного решения Главправа: «Хозяин ждет-ждет да и сбросит без предупреждения».
Поинтересовавшись, кто она («Та самая, та самая, на которую вы засмотрелись!»), Данциг-Сикорский поставил условие, чтобы для девушки он остался инкогнито: встреча в полной темноте, наклеить бороду и усы, сделать ложные шрамы на боку и ногах. Допущенную оплошность — уговаривал-то девушку на ублажение важной военной персоны денщик маршала Батат — исправляли простой хитростью, время от времени выдергивая Данциг-Сикорского со свидания нервными вызовами: «Господин генерал, к главкому!», «Вас, господин генерал, разыскивает начальник штаба фронта»…
Психологический прогноз на встречу оправдал себя. Данциг-Сикорский сфантазировал оригинальный авиационный удар: трофейные бомбардировщики, за которыми следовали тоже трофейные транспортные самолеты, начиненные десантниками, зашли в воздушный тыл страны Нисап со стороны океана, словно бы им навстречу выметнулись с аэродромов, закамуфлированных в горные склоны, самийские ракетоносцы. Ракетный удар по столице Нисапы предварил бомбежку, чуть после, за бомбами, посыпались с неба парашютисты-смертники. Они должны были погибнуть, нанеся урон важнейшим объектам столицы. Но, прежде всего, приземлясь на особняк правительства и возле стоящих рядом с ним зданий, уничтожить премьер-министра и его военных советников. Замысел главкома был осуществлен ценой гибели всех десантников. Это была их плата за трехлетнюю жизнь, когда им не отказывалось ни в чем. Хотя были уничтожены не только премьер-министр и его военные советники, но и все правительство, расчет на сокрушительную панику не оправдался: тотчас взялось руководить страной правительство-дублер. И все-таки наметился решительный сдвиг в настроениях самийских фронтовиков: нисапцам перед ними не удержаться.
Вот и подошел он, Ганс Магмейстер, к той тайне родословной Курнопая, которая обеспечила ему положение счастливчика. Не надо произносить? Понятно о чем речь? И тем не менее он произнесет, чтобы докопаться до других его тайн. Каска — дочь Данциг-Сикорского. Судя по тому, что Лемуриха обожала Главправа, нельзя думать, будто бы ей невдомек, что она родила от великого маршала. Есть люди с гелиоцентрической установкой в генах: они поклоняются, теряя при этом здравый смысл и достоинство, только первым лицам. Все обожают солнце, но лишь у немногих безотчетно чувственное отношение к светилу подконтрольно здравому смыслу и достоинству.
Батат — отец Болт Бух Грея. Из благодарности его отцу Лемуриха вытащила пацана Болт Бух Грея с фермы и в конце концов вживила в дворцовое сержантство, каковое ей еще тогда, при Черном Лебеде, представлялось высшей силой, находящейся рядом с Главправом. Он, Ганс Магмейстер, даже склонен допустить, что подспудно Лемуриха провидела в Болт Бух Грее грядущего предводителя Самии. Не надо, погодите, господин верховный ревизор. Мой ответ на вашу подозрительность — правда. Я не стану ее ужесточать, однако и подсахаривать не буду. Лемуриха уклонялась от обихаживания садовника Данциг-Сикорского, тем паче не сделалась его возлюбленной, потому что для нее существует только тот, к кому благоволит властелин и у кого, следовательно, имеется официальный иммунитет. Будь он справедливцем, превозносимым народом, да разделяй она в душе всю глубину его дум и поступков, все равно маршал Данциг-Сикорский оставался бы для нее почившим в бозе: никто и ничто — с точки зрения правителя — неизменно для нее, никто и ничто.
Лемуриха отблагодарила Батата, его сын Болт Бух Грей отблагодарил дочь Лемурихи Каску и ее внука Курнопая. Что такое? Неужели нельзя выслушать? В благодарности автократа, пускай он священный-пресвященный, не могут не быть запрогнозированы наполеоновские планы. Болт Бух Грей, вестимо, спит и видит себя императором. Почему бы не видеть? И наш век породил скороспелых императоров. Он женился на Каске неспроста: дочь военного гения Мориса Данциг-Сикорского, что вполне приравнивается к монархической крови. Не удастся в императоры самому, посадит на трон Огомия, внука маршала Данциг-Сикорского, брата Курнопая, пращур какового по отцу был вождем огромного племени, королем по существу. Что уготовано планами Болт Бух Грея вам, господин Курнопай, персонально? Позитивный план: вы, и стар и млад знает, давно в контрах с нашим правителем, не исключено, что народ свергнет его, тогда верх пирамиды займете вы, посему Болт Бух Грей спасется бегством в джунгли Самии, где окажется недостижим, потом вы его амнистируете; второй вариант бегства священного автократа: вы не помешаете ему прихватить миллиарды в золоте и драгоценностях и переправиться за рубеж. Негативный вариант. Все те, кого путч дворцовых сержантов вынес наверх, объединяются в хищничестве — богатства нации они качают, как нефть из земли. Справиться с ними немыслимо, их связи могущественны внутри страны и вовне, с международными банками, с корпорациями, милитаристическими кругами. Люди видят хищничество. Назревает взрыв. Восстание. Священный автократ переходит на сторону масс. Фигурой для нападок он делает вас. Вы, назначенный верховным ревизором, не просто не стремились пресечь ограбление державы и народа: вы содействовали этому. На ваше имя за услуги отечественным и зарубежным деловым кругам положены громадные суммы в банки Швейцарии, Нидерландов, Южно-Африканской Республики. Но это не все. Из вашего сейфа в державном ревизорстве выгребают перед оком телекамеры нумизматическую коллекцию из монет всех времен и народов, стоимость каковой не уступает стоимости сокровищ халифа Харун ар-Рашида. Бушующие толпы выволакивают вас из резиденции ревизорства, вам грозит расправа. Болт Бух Грей стремится вас арестовать, дабы казнь совершилась после следствия, которое должно выявить и обезвредить зловещий заговор ограбления Самии. Но массы устраивают вам самосуд. По прошествии траура Болт Бух Грей вводит вашу вдову Фэйхоа во дворец в качестве своей младшей жены и соправительницы. Пресса извещает страну о том, что она, похищенная малюткой, дочь аравийского шейха или арабского эмира. Не исключено, что ее генеалогию выведут из рода сиамских королей. Может, даже отыщут в ней кровь японских императоров. Тут первосвященники выразят пожелание мирян о несменяемости на главенствующих постах Болт Бух Грея, и наделят его титулом монарха, и коронуют вместе с Каской-Верой и Фэйхоа.
Пока слушал Курнопай Ганса Магмейстера, его не покидало любопытство, сопровождаемое невольной снисходительностью. От не свойственной ему снисходительности он пробовал избавиться, однако, вопреки усилиям, это чувство прямо-таки стервенело в нем. И мало-помалу накалилось до гневного презрения. Как только Ганс Магмейстер замолчал, явно обольщенный собственным на редкость феерическим прозрением, Курнопай принялся совестить его за недоброжелательство, дьявольщину предсказаний, за вычисление поступков средствами рационализма, не берущего в учет человеческих чувств, даже таких могучих, как материнство, любовь, честность, постоянство привязанностей, стыд… Собрался он посожалеть о том, что озлобился Ганс Магмейстер со времени училища термитчиков, но тот на нерве перекрыл его грустное участие: в эпоху Главправа ошибочно осужденных людей, кому посчастливилось вернуться с урановой каторги, нахваливали в газетах за неозлобленность. На самом деле не все не озлобились. Именно их-то уводили от мести лжесвидетелям и чинам карающих государственных учреждений хитрецы из законоблюстителей, мнимых и для самих себя. Не стоит поэтому порядочному деятелю присягать каверзе, ловко снимающей праведную социальную ярость. Злоба индивидуума и есть составная часть общественной ярости.
Запутал сознание Курнопая симпатичный психонавигатор. Было мудрено не замолкнуть и не ощутить, что обида Ганса Магмейстера, пришедшая в состояние крайности, чужда напраслине, и что пора прощения за работу на Черного Лебедя для него наступила. И все же уязвил себя тем Курнопай, будто бы поддался очарованию Ганса Магмейстера, и выкрикнул, что, хотя и польщен происхождением от великого полководца Данциг-Сикорского, но нравственно не признает, что ради перелома в восьмилетней войне надо было прибегнуть к произволу над целомудренной конвоиршей и аскетически чистым главнокомандующим.
Они замолчали надолго.
Выпроваживать Ганса Магмейстера совестился Курнопай. Он еще не ответил, возьмется ли избавить его от немилости: пока не был уверен, что опала психонавигатора морально несправедлива. К тому же Ганс Магмейстер имел право дождаться, как отзовется священный автократ на его предложения, толкнувшие Курнопая, пожалуй, на самую нетерпимую наглость по отношению к властителю.
И Курнопая томило то, что на сегодня он вроде исчерпался для определения дальнейшей судьбы Ганса Магмейстера и уже тяжело ему выносить его присутствие, а также то, что он не подстегивает волю для поиска, как разрешить проблему, не исключено — иезуитскую, одного из своих учителей, быть может, такого влияния, которое способствовало развитию в нем потребности доискиваться до истины.
Он сидел, переживая свою неохоту выбраться из внутренней неподвижности. Если бы это был транс, пусть бы даже бессветной глухоты, то у него не было бы причины для особого беспокойства: как образовался затор в его душевном мире, так его и своротит — быстро. Но здесь впервые давало о себе знать чувство, настораживавшее предугадыванием безразличия, которое станет постоянным, не подвергаемое воздействию ни отдельных человеческих тревог, ни вселенских.
И принуждал он себя думать о том, что должен сейчас возродить в душе работу правды, иначе с этих минут начнется омертвление его натуры и, вполне вероятно, через недели, в крайнем случае, — через месяцы, его «я», загерметизированное безразличием, никогда не пробудит беспокойства своей совести. Так думая, он разжигался несправедливой карой его отцу, просьбой Ганса Магмейстера, сделавшегося вялым от кручины, переселением в джунгли альгамейтов, пещерным наказанием девушек, отказавшихся от секспосвящения, а они ведь цвет нравственности их бесправного народа, разломами в семьях, где возобновилась исконная ревность самийцев…
Удалось, удалось Курнопаю восстановиться. Не производя насилия над умом (вернулась обычная любознательность), он спросил Ганса Магмейстера об его отношении к САМОМУ.
— Отношение автоматическое, — ответил тот с естественностью, где невольно выявилась привычка. Сразу спохватясь, будто выказал себя по отношению к САМОМУ кощунственно, Ганс Магмейстер прибегнул к смягчительному объяснению: — Еще в чреве матери, как сердцебиение, внедряется нам дух САМОГО. Даже формирование сознания не прерывает в нас пульсацию ЕГО духа. Это не значит, что он не задумывался над тем, кто есмь САМ. Занятия историей Самии, фольклорной и письменной, обнаружили ему изменяющуюся модель веры, якобы пересоздаваемую в чем-либо ИМ САМИМ, но в действительности легко соотносимой в свежих представлениях с принципами философии, присущими очередному властелину. САМ издревле наличествует в стране как активный многозначный идеал, и по внушению и поддержке которого осуществляются разные правления. Определил измерять ценность общества развитием ткачества и настенной живописи — и нет деятельности прекрасней, оправдывает завоевательные походы — и всем по нутру битвы, пышные погребения героев, использование пленных в качестве шутов, преподавателей правильных манер, прокладчиков дорог из булыжника, поощряет развитие эгоистических стремлений личности — и никому не придет в голову, что из-за этого увеличатся преступления, а большинство будет твердить, будто бы таким образом формируется самостоятельность, даже цельность индивидуума… В последнюю пору учение САМОГО вылилось в философскую систему, втянувшую в себя чужие как материалистические, так и идеалистические принципы, диалектический метод которых кое в чем доведен до абсурда: «Слиянно-различны, противоположно-едины, совмещаясь — несовместимы, не совмещаясь — совместны». Перемудрствовал Болт Бух Грей, пересолил в парадоксальности.
— Он-то причем?
— Я уже говорил об определенного рода подпитке духовного идеала творчеством очередного великана, ибо он сделался владыкой Самии.
— Может, САМ и есть идеал, сложенный тысячелетиями?
— Будда, когда его спрашивали, есть ли бог, молчал. Я не Будда, тем не менее промолчу, значит, не отвергну, но и не подкреплю.
— Я учился соображать под воздействием ваших постулатов, господин Магмейстер. Как же, однако, временами мне очень бывал неприятен ваш скептицизм.
— Категория приятного из области галантности и гурманства. Сферы интеллекта не приемлют приятности. По их части ни кого не щадящая точность.
— Интеллект окрашивается во все тона человеческих чувств.
— Когда он блефует. Есмь идеал и есть блеф, подменяющий его собой.
— Не все, что есмь и есть, достойно выражения.
— Все.
Они насупились и опять замолчали.
Звонок Болт Бух Грея примирил их. Полуночная информация по телевидению принесет народу Самии обалденный рескрипт священного автократа о придании в распоряжение верховного держревизора специальных войск, подчиненных ему и только ему, а также о том, что верхдержреву дается право арестовывать правительственных лиц вплоть до самого священного автократа, чем Курнопа-Курнопай, которого раньше ничто не могло ублажить, конечно, будет доволен, ибо ни одна формация на протяжении планетарной истории ни разу не поднималась до состояния, когда бы правитель отдавал свою судьбу какому-либо чиновнику, находящемуся в подведомственной ему иерархии.
Болт Бух Грей говорил бесстрастным тоном электронного диктора, но Курнопая весть об умопомрачительном рескрипте почему-то не настораживала. На миг в его уме скользнула мысль о мистификации, однако сразу забылась. Вполне вероятно, что натура, руководствующаяся сомнением и подозрительностью, в момент, когда по законам опыта и логики нет причин для малейшего доверия, вдруг воспринимает происходящее с полным отрицанием собственной природы.
Прежде чем отключиться, Болт Бух Грей переменил тон и выпалил с жаром:
— Что ж, внук достославной бабушки Лемурихи, ты стремился к всевластию и обрел его. В правдоискательстве ты не был сладострастником. Власть без ограничений, увы, приводит к патологическому сладострастию, сравнимому с кровожадностью карательных отрядов и палачей при гильотинах. Один лишь я за всю земную историю не впал в патологическое сладострастие. Следуй своему покровителю, прямому потомку САМОГО.
Рескрипт, действительно, огласили в полночь по телевидению. Утром Курнопай собирался заехать за альгамейтами в отель, но вынужден был задержаться дома. Неожиданной демонстрацией наглухо затопило улицы столицы. Люди шли, потрясая над собой газетами, на которых сиял крупными розовыми буквами текст рескрипта. Кое-где над головами колыхались обои, натянутые между клюшками для игры в гольф. На чистой стороне обоев таращились, указывая на лозунги, многоглазые духи радости, какими их рисуют в детских книгах. Лозунги провозглашали Болт Бух Грея демократом номер один, надеждой самийцев и человечества. В плакатах, посвященных Курнопаю, подчеркивалось, что он за народ, что он противник узурпаторов разных мастей, что при нем Самия очнется для борьбы, красоты, стыда и верности заветам САМОГО.
Курнопай смотрел на толпы, и то верилось ему, то не верилось, что демонстрация возникла стихийно.
Тем же днем он навестил в казармах приданные ревизорству подразделения.
Благодаря самолету-невидимке, снабженному телекамерами, он понаблюдал деревню альгамейтов, Огому перед ней и противоположный берег. Джунгли самийского берега лежали точно папоротники мезозойские, плотные невпрогляд. На берегу Клингийи джунгли не сохранились. Их вырубили и выжгли для разведения риса, бананов, королевских ананасов, инжира. Операцией, намеченной им (оповещение о действиях за три минуты), предусматривались гидродесанты на деревню выше и ниже нее прямо на Огому; посадку ракет-лягушек, начиненных пехотинцами, среди которых будет он сам, Курнопай намеревался произвести на ритуальной поляне племени, предварив эту посадку выбросом парашютистов в лесные чащобы рядом с ней. Берег Клингийи он тщательно выверил миль на сто в глубину, однако присутствия войск не обнаружил, что, хотя и тревожило его, однако направило на дерзость: не намечать отпора, пока оттуда не последует атака воздушных аппаратов!
Перед десантированием на деревню и на реку каждый из трех отрядов выкинул с самолетов по фиолетовому зонту, что означало предложение о капитуляции. Но никто не собирался сдаваться: ни представители межгосударственного нефтяного треста вместе с буровиками и геологами из самийцев, ни клингийцы из подразделения сил порядка. В бою они проявили непреклонность — все погибли.
Когда Курнопай брел по освобожденной деревне, его подкараулили две пули: одна угодила чуть ниже ключицы, другая — в лопатку. Они были на излете, запутались в пулезащитном жилете, причинив туловищу только динамическую боль. К тому, что пули оказались выпущенными из снайперских винтовок, увязли в жилете одновременно, да еще на излете, он отнесся как к смертельному предупреждению. Но это не расстроило его: он горевал об убитых, в большинстве своем не старше двадцати лет.
Не ожидал он, что сразу же, вопреки полученному могуществу, столкнется с подлогом, затеянном для коварства. Среди мертвецов, одетых в болотно-зеленую с прожелтью клингийскую форму сил порядка, он обнаружил личного недруга Пяткоскуло и восьмерых его приспешников, тоже именовавшихся раньше головорезами, из-за чего тогда их распирала заносчивость, а после суда над сержантитетом урезоненных ликвидацией этого грозного звания.
Ничего противозаконного в операции, осуществленной Курнопаем, не было, и тем не менее юридическая защищенность мнилась как жалкая уловка, лишенная не то чтобы крох милосердия — черствого благородства. Он предугадал нападки зарубежной печати. Ему следовало повести дело в одиночку, как на смолоцианке. Ну да там была у него родственная заинтересованность: спасение отца. Был бы во главе забастовки чужой человек, Курнопа-Курнопай послал бы впереди себя головорезов. Еще ту разрешил бы учинить расправу. На этот раз он устроил расправу, самое страшное — у своих над своими. Разве нельзя было послать разведку ради выяснения, кто одет в форму клингийских сил порядка? Муссировалась несколько противоположная этому точка зрения, и тоже словно бы с гуманистических позиций, а в сущности, чтобы обрушить его положение. Бывший головорез номер один, любимец САМОГО и Главсержа создан для бескровных способов борьбы. Он не из тех, кому доверяют войска, оснащенные сугубо современным оружием, которое может не только истребить людей, но и вековечные джунгли. Крайней оценкой, связанной с освобождением деревни альгамейтов, являлась с виду наиболее мягкая оценка: страшные правонарушения призваны выкорчевывать деятели с каменным характером. Верховный ревизор слишком жалостлив — муху не пришибет хлопушкой.
Почти ни в чем из газетных толков Курнопай не находил справедливости. Корреспондентов не заботила судьба альгамейтов: о них вовсе не упоминалось, как будто их не изгоняли из деревни, где они жили со времен ножей-скребков. По-обычному он всей душой домогался правды от читаемого, тогда как целью газетных выступлений было заиграть его для дальнейшего пребывания на посту ревизора.
Курнопаю хотелось оправдаться перед Болт Бух Греем тем, что он сердцем согласился с его, священного автократа, идеей о необходимости сохранения чудесного разнообразия племен, народностей, народов нашей планеты, отсюда и попытка такой кары за обиду альгамейтов, чтобы на корню прекратить подобный разбой. Но Фэйхоа убедила мужа не впадать в малодушие и наивность, так как у него есть право на независимость поступков и так как, искренно скорбя о павших, не исключая Пяткоскуло, он, вполне вероятно, даст повод правителю посмеяться над ним, пока не подозревающим, кем замышлялось изгнание альгамейтов.
Болт Бух Грей сам вышел на Курнопая по каналу сверхтайной связи. Ни укоров, ни поучений. Сочувствовал? Да. Сочувствуя ему, сочувствовал себе, похоже, в большей мере именно себе, ведь он нес бремя ответственности и за САМОГО.
— Жизнь беспощадно своевольна, — сказал, словно бы все беспредельное множество людей, природных созданий, предметов человеческого труда, событий, что ее составляет, является единым существом.
Курнопай не стал ему возражать, хотя и пугающей сложностью в ней, по его разумению, было многоволие, за которым невообразимо уследить и которое не упорядочить, да, пожалуй, и не нужно упорядочивать: хаос слагается в гармонию, гармония хаотизируется. Злонамеренность определенных людей священный автократ подменял, сам того, наверно, не подозревая, своеволием жизни в целом.
Курнопай приготовился к болт-бух-греевскому доказательству своеволия жизни, однако ошибся: на священного автократа навалилась усталость от тревог за Курнопая, и он только и сумел поостеречь его от нетщательности.
Этот краткий разговор с повелителем навел Курнопая на беспокойство, выражавшее себя в предосторожностях. Он собирался возвращать племя на вертолетах, чуть не отправился за ним и вдруг ощутил какую-то робость перед пространством над джунглями. Радары, установленные на патрульном дирижабле, зафиксировали нечто вроде воздушных поплавков над лесом. А когда дирижабль задержался над тем местом на километровой высоте, разведчики углядели завесы из воздушных шариков. Консервная банка, выброшенная в люк, крутясь мимо завесы, мгновенно точно бы разбрызгалась. Оказалось, что банку разодрало взрывом воздушного шарика. Кто поставил минное поле поверх джунглей, не удалось обнаружить.
Для охраны альгамейтов в их береговой деревне Курнопай оставил роту автоматчиков. Мало-помалу охранников отстреливали вкрадчивые снайперы. Однажды ночью рота была добита, племя оттранспортировано в порт развлечений, к утру спиленные хижины альгамейтов Огома вынесла в океан.
Вождь племени телеграфировал Курнопаю о том, что альгамейтов устраивает новое местожительство.
Прошли месяцы, прежде чем Курнопай поборол пониклость, из-за которой зачастую оставался безразличен к авантюрным историям, успешно раскручиваемым следователями ревизорства.
В разгар приема в честь очередной мисс теперешней Самии, каковой священный автократ сделал полинезийку Юлу, Курнопай спустился в пень небоскреба, где без задержки открыл арагонитовый туннель, а вскоре, невольно любуясь серебристой чернотой обсидиановых ступеней, поднялся по лестнице к колоннам ротондовидного дворца. Здесь теплилась алмазная сутемь. Отсутствие крыши способствовало тому, что между колоннами скапливался свет Млечного Пути.
Пока не очутился во дворце, Курнопай не испытывал опаски быть настигнутым. Он, взлихораженный, целя фонариком в нижнюю часть родонитовой стены, описал круг, но не обнаружил и намека на дверь или замаскированный ход. Второе кольцо вдоль стены он проделывал успокоительным шагом, направляя луч фонарика на высоту двух метров. На этой высоте он и заметил слегка сместившуюся в стене панель. Внимательно посвечивая на розовую плоскость, он чуть не вскрикнул от радости: навстречу его взгляду как бы промерцали пять звезд, составляющих ромбическую фигуру: синий Ригель, пояс Ориона, красная Бетельгейзе.
Подпрыгнул. Схватился пальцами за сглаженный каменный срез. Легонько смещал ладони, чтобы выжаться до пояса. Пальцы попали в удлиненные ямки. Кто-то явно много лет подряд поднимается здесь и спускается. Когда подтягивался, колени скользнули в неглубоких желобках. Удлиненные ямки и желоба были шире его пальцев и коленей. Главправ Черный Лебедь был не больше Курнопая, священный автократ его роста. Стало быть, тот (САМ, конечно, САМ!), кто здесь шастает, крупнее их, массивнее.
Подтянулся. Наклоняясь туловищем, толкнул головой панель. Темнота просияла звездной сутемью, обозначился винтовой, без ступеней спуск; чернота его материи, блесткой, крупитчатой, как лунная порода, которую он видел в музее геологии, обладала приятной приманчивостью, хотя и не успокаивала: по мере того как он сходил по спуску, пронимало трепетом, подобным тому, который возникает в минуты, когда мелко-мелко трясется земная кора.
Спиральный спуск закончился воздушным кругом, забранным в обсидиановый обруч. Курнопай машинально взглянул на ладони. Пыли на подушечках пальцев почти не было. Значит, САМ поднимался наверх не так давно и, возможно, присутствовал на празднике Генофондизма.
Осветил дыру. Луч не сумел заглубиться в темноту, но возбудил ощущение пространственности. Угадывалась вероятность бездны.
Из-за того, что не обнаружил приспособлений для спуска во мглу, опять испугался: «Настигнут. Не дадут разыскать САМОГО». Безысходность отворилась в нем поспешностью. Он припал к каменному борту, позвал в бездну.
— СА-АМ?
— А? — откликнулась бездна откуда-то издалека и не голосом — одним дыханием.
— САМ, ТЫ ждал меня?
— Я? А-а-а… Ждал.
И теперь одно дыхание, и не подумаешь, что эхо: оно полирует голос, перекидывает его с грани на грань.
— ТЫ сказал: «Ждал». ТЫ ведь живешь без внимания к стране. Сейчас мы не земля САМОГО, а священного автократа Болт Бух Грея.
— А? А-а-а… Да, — вознеслось откуда-то из бо́льшей вертикальной дали.
Когда слова срывались в бездну, у Курнопая создалось впечатление, что они попадали в поглотительную ловушку. Не то чтобы это напоминало падение осыпающегося щебня с горного обрыва в океан. Ловушка поглощала слова к САМОМУ, но возвращала в пространство лишь те, которые годились для ответа. Да неужели они проходят двойную кибернетическую обработку? Если проходят, то обессмысливаются надежды на САМОГО и надо возвращаться. Нет, САМ не должен допустить цензуры над собой.
Курнопай полежал над краем бездны и спросил:
— САМ, САМ, зачем ТЫ, житель безграничных вселенных, остался на крохотной нашей планете, а теперь удалился в земную полость? САМ, САМ, ТЫ болен? САМ, САМ, ТЫ разочарован?
Ловушка бездействовала. Сдавалось, что слова опускаются до самого дна, откуда силы отражения еле вытягивают их, вот и не слагаются они, бессильно заглохшие, в ответы или намеки на ответы.
— Ну, хорошо, ТЫ не хочешь о себе. Скажи об общем. Мир погибнет? Есть ли это в замысле Бога? А если ТЫ один из богов, есть ли это в ТВОЕМ замысле?
Пока лежал над люком в ожидании отзыва, Курнопаю впервые представились слова звуками, телесность которых воздушна, и когда их оболочка разрывается, смысл, летуче разливаясь, не в силах обнаружить себя.
Это заставило его тонко прислушиваться к возвращению слов, они вели себя в согласии с представлением. Но вдруг после разрывов оболочки соединились, и родилось неэховое слово:
— Безрассудство.
— САМ, САМ, я не понял. Мир погибнет или безрассудство мира?
Он не дождался звукового ответа. В сознание ворвалась жесткая мысль:
«Безрассуден только человек».
«Наконец-то я раскочегарил ТЕБЯ, САМ. А, сообразил. Тебе осталось только телепатическое общение…»
«Не только».
«САМ, САМ, безрассудство, по-моему, производно. Неукротимая жадность — вот причина причин».
«Жадность сама производна».
Неожиданное недовольство охладило душу Курнопая. Так он мог бы говорить сам с собой. Неужели мозг столь ловко подстроил ему беседу с самим собой?
Соображение о том, что вероятность передачи власти Болт Бух Грею обусловила в САМОМ какой-то психический недуг, заставило Курнопая продолжить телепатический диалог с САМИМ.
«В чем же тогда причина причин?»
«Подмена духа экономикой. Экономику сделали Богом, но Бог-то постоянно оборачивается сатаной всеисчерпывания, всеотрицания, всеуничтожения».
«Империализация глобальной жизни?»
«Все началось гораздо раньше. Подумавший о выгоде без зазрения совести, был первым расщепителем духа. Ротшильдизация финансовой жизни Франции, пальмерстонизация хозяйственного аппарата монархической Англии — отсюда началась победа бездушного материализма над святостью идеализма. Доход попирает милосердие, расчет — альтруизм, разврат — платонизм».
«САМ, прости. Еще раньше началось. Иудой, который продал и предал Христа. За сделкой Иуды, кроме экономики, политика, преступление против Бога и народа».
«Да».
«САМ, САМ, а приговор Понтием Пилатом Иисуса Христа к распятию — преступление государства перед Духом…»
«Почему было сказано о ротшильдизации и пальмерстонизации? Финансы в их магнатском проявлении ежедневно находят Иуду, чтобы продал и предал Христа. Государство в лице законоисполнителя ежедневно приговаривает Христа к смерти и распинает».
«САМ, САМ, мрак… Но не везде же. Ведь существует три мира».
«Каких?»
«Олицетворяемых Индией, Россией, Америкой».
«Их больше. Но куда ты дел самый сущий — астральный? Только в астральном мире нет примата экономики и производных ее, в частности, эксплуатации и насилия над духом».
«САМ, САМ, не разделяю».
«Ты слушай. Черная победа экономики над духом — земное явление, временное. Дух неодолим. Он отходит в тень, терпеливо ждет пробуждения, затем — искупления и возрождения в духе».
«САМ, САМ, как найти согласие социализму, империализму и странам третьего мира?»
«Я удалился. Я устал».
«Почему ты устал? Почему не устают индийские боги?»
«Люди всегда стремятся переложить чувство ответственности на богов и властеосуществителей, вместо того чтобы бороться и мыслить самим. Сейчас эпоха ответственности народов. Работают и воюют они. Автократ бессилен, всевластие нейтрализуется, если народ самовитый. Ох, нет покоя».
«САМ, САМ, я ведь с бедами… Не выговаривай, пожалуйста. Ну, а сексрелигия и генофондизм действительно могут спасти человечество?»
«Сказано все».
«САМ, САМ, погоди. Хочу ТЕБЯ лицезреть».
Чем дольше Курнопай ждал, тем явственней чувствовал, как полнится безмолвием его сознание. И хотя он противился непрошеной идее, будто бы вел мысленный разговор с самим собой, пока мог отвечать, ему подумалось, что он застрял именно на том, чему не находил законченного ответа.
Однако обнадеживал Курнопая, что он беседовал не с самим собой, жар, которым был пронят весь его организм и особенно область сердца. Под влиянием этого жара он свесил голову в круг и посвечивал фонариком. Прорисовалась невесть откуда взявшаяся конструкция. Попробовал ее на ощупь. Холодок металла. Когда отводил руку, задел за что-то. Стеклянисто мерцая, в темную глубину размоталась лестница.
Спускался. Лестница потягивалась, облегала тело, заботясь о том, чтобы он не сорвался.
Едва спуск утомил Курнопая, его нога нашарила деревянную по звуку шороха вещь. Красно вспыхнули лампионы, прикрепленные к ножкам кресла. Он примостился в кресле, лампионы потухли. Установилась вопрошающая тишина. Метрах в ста от него, может, в километре, реяли вроде бы качели. На качелях, трудно уследимый в очертаниях, мерещилось, летел кто-то белый. Длиннобородый вроде, удлиненный в туловище старик, окутан тогой, тога так и никнет к нему, время от времени отпрянув, мучительно полощется, словно сюда неведомым подземельем пробиваются ветры океана.
Брунжание, схожее со шмелиным, возникло под сиденьем. Курнопай тревожно поворачивал голову, чувствуя, как чем-то прочным вблизи замыкает его тело. Тлеющий огонек, розово-фиолетовый, в цвет кусту весенней будлеи, появившийся перед ним, обнаружил голубой шар, в нутро которого его заключило.
Он не растерялся. Дышалось легко, да еще повеяло знойным запахом дрока, и ему невольно поблазнилась гора, отраженная в Огоме, где вихрились желтые зарева.
Качели продолжали реять, но отдаляясь, и не было на них длиннобородого старика в тоге, а пошатывался высокой спиралью змей. Стального отблеска три клювастых головы производили впечатление спаянных.
Цикадный треск близ локтя заставил Курнопая прислушаться. Вполне вероятно, включилась радиосвязь САМОГО. Как он был разочарован, как неистовствовал, ударяя кулаками по ручкам кресла, когда в капсулу начал выталкиваться хохоток Болт Бух Грея, согретый всепрощением. Что священный автократ не обратил внимания на Курнопаеву ярость, даже не отразилась в его подначке:
— Ну и что? Тебе открылись пружины существования, идеи, в корне изменяющие мир?
— Прочь! — крикнул Курнопай.
— Остынь, милый Курнопа-Курнопай. Разрешение противоречий в нас самих. По-моему, я говорил тебе о законе невыясняемости жизни? Напомню смысл закона, нами же, человеками, непроизвольно сотворенного. Мы так запутали природу Природы и свою собственную, что до первоначальности нормальной природы Природы и природы человека пока не дорыться. — Он вздохнул. — Понимаю тебя. Не приемля что-либо, ты стремишься найти возможность для усовершенствования механизма общества Самии. Не уверен, что твое стремление всегда сознательно. К несчастью, интуицией не заместить разума. Напрасно ты ищешь вовне для того, дабы понять правителя и действие системы державного и религиозного порядка, вливаемых правителем в общество. Ты ищи в себе ради общего блага. Покуда ты растил мечту проникнуть к САМОМУ, я находился в очередном духовном поиске ради блага Земли и всего человечества. Я мог бы почивать на лаврах. Не чьи-либо, мои творения глобального порядка: сексрелигия, генофондизм, герметизм. В чем ошибка бытия людей на Земле? Как выдраться из непроходимых джунглей сей ошибки? Видишь — ты молчишь. Кого-либо другого не посвятил бы в свою находку, тебя посвящу. По инерции. Преклонение тоже обладает инерцией. Моей пунктуальностью в сем вопросе ты должен проникнуться хотя бы потому, дабы пожалеть свои страдания в поисках праведных истин и мое упорство в высветлении твоего сознания, чему нет ожидаемых мною результатов. Мыслители, правители идеального порядка за последние века вели людей к обществам сравнительно справедливого экономического равенства. Такие общества созданы, создаются. Но история выявила, что улучшение экономики не ликвидирует человеческих неустройств, пороков, унижений, войн… Скорей увеличивает их. Фашистско-капиталистическая реакция на социализм, создание атомной бомбы… Никто пока не умел предвидеть последствий своих самых гуманистичнейших побуждений и действий, как скажем я. Спасибо огромное за урок мудрости в связи с тем, что я не предвидел скрытых опасностей курса на три «Бэ». Тоже, понимаешь ли, я впал в социальный экономизм как в панацею от всех бед. Коренным образом он сути не меняет. В Германии Гитлера жилось благополучно в смысле материальном. Отнюдь не выше материальное удовлетворение сегодня в республиканской Франции, чем в монархической Дании и Японии, в суперимпериалистических Соединенных Штатах Америки… Тито, Сталин, Мао были социалистическими диктаторами, но положение и довольство народов Югославии, России, Китая было весьма различно. Латинская Америка — зона свирепейших президентов, тем не менее о президентах, подобных Жанио Куадросу, Жоао Гуларту, мог бы мечтать народ любой страны. На мой взгляд, представитель хваленой североамериканской демократии президент Гарри Трумен своим приказом бросить атомные бомбы поставил себя на лестнице подлостей ниже всякого фашистского деспота. Если человечество погибнет, то ни кто-либо открыл ему путь в никуда — Трумен. Я веду твой мятущийся мозг, Курнопа-Курнопай, к тому, что лишь общества психологического равенства, независимо от их вывески, зачастую рекламной либо назывной, сумеют давать народам истинное удовлетворение от жизни. Такое общество я строю в Самии. Оно будет именоваться обществом симпатиатов. О трех базисах постройки общества тебе известно: сексрелигия, генофондизм, герметизм. Объединительный для них базис — симпатиатство. Что подразумеваю? Воспитание граждан державы САМОГО в духе симпатии, приязни, невражды друг к другу. Нет религий, идеологий, экономических структур лучше, умнее, справедливей, честней… Все частичны в своих устремлениях, в отстаивании интересов. Все они так либо иначе индивидуалистичны, агрессивны, несправедливы в смысле равенства разного рода, потому что думают о своих якобы преимуществах и навязывают их. Я создаю дополнительную основу для мира между идеологиями, религиями, социальными структурами, то бишь народами, группами граждан, отдельными индивидуумами. Как сейчас? Страны обожают нос друг перед дружкой драть: «Мы самая комфортная страна!», «У нас самые высокие горы!», «У нас больше всего на душу населения стали, телевизоров, рогоносцев, бюрократов, служащих сервиса, небоскребов, космических кораблей». И еще: «Мы первыми придумали цифры!», «Нам принадлежит Библия», «Нашим гением создан двигатель внутреннего сгорания», «Мы дали миру Наполеона, импрессионистов, комика Фернанделя». Все это ничтожная похвальба. Должны быть душевные предпосылки для симпатии, дружбы, доброжелательного взаимодействия, национальной скромности, а не предпосылки для вражды, ущемления, спеси, мщения… Ничто не имеет оснований для гордыни, заносчивости, преимущества… Вчера отличились греки, сегодня — колумбийцы, завтра — бирманцы. Все лучшее на земле становится общим. Да, я священный автократ, маршал, миллиардер… Но что я без фермера, солдата, рабочего, клерка? Ничтожество. Неприятие строится на разнице талантов, богатств, положений, национальностей… Это трагическая ошибка драть нос перед другом, воевать друг с другом, унижать друг друга. Нет ничего лучшего для людей, чем симпатизировать друг другу. Ты молишься другому богу, у вас другая форма собственности и лица, вы ничего не внесли в сокровищницу интеллекта, однако тебе, вам я обязан симпатизировать, потому что побуждение к доброжелательству не приводит к распре, неравенству, к войне. Никто, будь отдельный человек либо народ, не может думать: «Я лучше тебя», «У меня больше прав», «Я тебя проучу», «Вы не так пользуетесь вашими ценностями». И личности, и народу необходимо до неизбежности думать: «Я такой, как ты, только я умею делать деньги, ты пасти овец», «У нас равные права перед историей, счастьем, естественной смертью», «Я, несмотря на то, что ты по неведению либо намеренно причинил мне боль, я не стану тебе мстить и тонкостью манер приведу тебя к раскаянию, и ты возвысишься сердцем и умом». Воспитываться симпатиатство будет во всех. Социальный экономизм не решил проблемы разобщения людей, лежащей в основе личной, межгосударственной, глобальной вражды, напротив — увеличил разобщение. За экономизмом, мною не отрицаемым, полпланеты забыло о значении воспитания. Махатма Ганди доказал, что можно привить целому народу принцип ненасильственной борьбы. Стремление к ненасилию, само ненасилие мы пригребем к симпатиатству как часть того, что составит его мораль, культуру. При довольно-таки привлекательной цельности духа ты мог бы стать одним из первых симпатиатов земшара. Я собирался поселить тебя в одном подъезде с барменом Хоккейной Клюшкой, с министром Бульдозером, с Кивой Авой Чел… Мы не разводимся, она упросила меня жить по отдельности, мы в сущности уже обитаем порознь, симпатиатство требует уважения к свободе воли, а также великодушия, если даже оно будто якорь линкора в твоем горле. Симпатиатство — благородные уступки, добрососедство, непринесение ущерба самолюбию, неущемление профессиональных интересов, творчества, коллекционирования, признание абсолютного права на личное имущество, будь то зубочистка, либо машиностроительная компания, либо океанская ферма на северных островах Самии, где разводят каланов… Ты слушаешь, Курнопа-Курнопай?
— Слушаю.
— Привлекает?
— Привлекать привлекает…
— Имеется нюанс.
— А у меня не только оттенки — тона. Ради симпатиатства дайте хоть словечко сказать.
— Ежели я свою жизнь не поскупился в твои руки отдать, то, пожалуйста, говори.
— Теория напоминает новорожденного китенка.
— Неординарно.
— Няни-китихи не вытолкнут детеныша на поверхность, чтобы вздохнул воздуха, он захлебнется.
— У моих теорий налаженное дыхание. Взять симпатиатство… Ты уже подключился к нему.
— Ваш генофондизм, священный автократ, как он теперь осуществляется, в двадцать первом веке превратит Самию в страну сладострастников и уродцев.
— Нет, Курнопа-Курнопай. От стихийности мы пришли к науке.
— Многие клянутся наукой, а дела идут по законам невежества и бесстыдства.
— Тебе бы только разоблачительствовать. Ты получил пост важней моего. Ты знаешь, что плохо, отвратительно, неправильно. Отметай согласно идеалу. Нет, ринулся в пустоту. Дабы истину вызнать до каких-нибудь…
— Нюансов.
— До каких-нибудь элементарных микрочастиц правды типа протонов или адронов.
— Все можно замаскировать под любовь, под чистоту, под гуманизм. Идеал, под прикрытием которого осуществляется похищение удовольствий, обман, насилие — оборачивается сломом жизни. Намаскировались… Ядерные боеголовки — для сохранения глобальной гармонии, бессонность — для процветания общества, герметизм — для державной независимости.
— Ох, Курнопа-Курнопай, напраслина. Протоиндийская цивилизация, судя по раскопкам в Мохенджо-Даро, просуществовала две тысячи лет без войн. Это результат обособления. У них оружие не изменилось за это время. Пришли арьи, легчайшим образом завоевали протоиндийцев. Обособление требует внутреннего самосовершенствования. Я был бы убогим мыслителем, когда бы не видел положительного в разгерметизации. Философия протоиндийцев о непричинении зла, у них дома были даже с закругленными стенами, передалась другим народам Индии, обрела в индуизме и джайнизме дух ненасилия. Кстати, непричинение зла, ненасилие хорошо подпитали мое учение о симпатиатстве. Преобразование человеческого сознания…
— Из чистого — в грязное, из честного — в лживое, из бескорыстного — в хищническое…
— Пы-э-рекратить.
— Вот оно, ваше симпатиатство.
— Мы с тобой военные. Но и военная субординация будет меняться. Служба слежения сориентируется на симпатиатство. Ты мальчишкой поддерживал отца в негодовании по поводу слухачества бармена Хоккейной Клюшки. Отец негодовал, однако бармен не прекращал подслушивать. Симпатиатство пресечет поползновения, каковые не нравятся соседям. Вздумалось бы бармену подслушивать вас с прелестной Фэйхоа, ты рассердился бы, он не повторил бы этого. Повторил бы, его поведение обсудили бы на сборе мужчин подъезда, в милых, естественно, выражениях. Ясно, что людям закоренелых криминальных пристрастий труднее прививать моральные нормы симпатиатства. Зато новым поколениям оно будет прививаться сплошняком. Понимаешь ли, Курнопа-Курнопай, сколь важно вернуть человека и человечество к теплоте взаимного обращения? Человек только стал становиться человеком, а уже сделал все, дабы обесчеловечиться. Симпатиатство вернет человека и человечество в лоно человечности. Кстати, моральное обсуждение антисимпатиатских поступков мы будем подкреплять в необходимейших случаях мерами разного рода изоляции от общества, вплоть до тюремного заключения, но условия изоляции примут мягкий характер. Ты внимаешь ли мне, верховный ревизор Самии?
— Я за органичность. Приязнь, такт и терпение, сдобренные улыбкой, — это славно. Но преднамеренное сюсюкание создаст фальшь взаимоотношений, поливаемую сиропчиками.
— Эх, Курнопа-Курнопай, попираешь ты новое.
Курнопай собрался ответить, но не успел, да и растерялся: голубая капсула отцепилась от лестницы. Но падение, набиравшее метеоритную скорость, после толчка перешло почти что в зависание. Погружение в бездну, пусть и чуточное, продолжалось.
Он посветил вверх. Над шаром серебрился миниатюрный аэростат. Потом он пригляделся к воздушной черноте. Белые видения не возникали. Почему-то вспомнилась толпа среди пустыни тьмы, там, в телевизоре, откуда катился бас великого САМОГО. Как получилось так, что посвящение Фэйхоа отпечатлелось в его душе любовью к ней, а духовное посвящение, осуществленное самим САМИМ, находилось от него как бы в галактической дали, подобно созвездию Ориона? Тогда он, конечно, не был готов воспринять САМОГО. Но готов ли сейчас? Неужели система тех идей существует не для взаимодействия с людским бытием? Может, она самоценна покамест в себе самой?
— САМ, САМ, — закричал он в страхе от невыясненности, — покажись. Я не все спросил.
Герметичность шара не мешала голосу Курнопая излучаться в бездну. Волны крика уходили теперь в безотзывные ее объемы.
— И все-то бы ты апеллировал в самую конечную инстанцию, — укорил его Болт Бух Грей.
— В самую высшую.
— После того как я развил перед тобой учение о симпатиатстве, ты бы должен был относиться к моей душе, как мадонна Литта к младенцу. Ты бы каждое мое слово, каждый свой поступок, обращенный в мою сторону, оборачивал бы золотой сеткой. Между прочим, своим замечанием о золотой сетке на руках мадонны Литты твоя Фэйхоа дала толчок моему разуму для создания учения о симпатиатстве. Ее же второй толчок в этом плане. Дельфины, откусывающие хвосты рыбам, плывущим в арьергарде косяка. Народы земшара замедляют движение друг друга примерно таким образом. Только вместо откусывания хвостов — войны, банковские аферы, для ограбления чужих валют, экономические диверсии, эксплуатация…
— Мой многомудрый вождь, я много раз тебя слушал. Не мешай мне выйти на САМОГО.
— Вот-вот… Кстати, целью твоей жизни могла бы быть только Фэйхоа. И это было бы высочайшим твоим достижением. Ан неймется тебе. По закону симпатиатства ты позволял бы Киве Ава Чел любить тебя, от чего, вполне вероятно, ты сделался бы счастливейшим из счастливцев. Но ты пристрастился к погоне за единственно достойной для тебя дамой по имени Иллюзия.
— Э, нет: по имени Истина. Я хочу знать, кто САМ. Может ли быть, что он иллюзорен?
— САМ расшифровывается так: СЫН АСТРОНОМИЧЕСКОГО МИРА.
— В храме священник давал бабушке Лемурихе другую расшифровку: ОН — СОВЕСТЬ АНГЕЛЬСКОГО МИРА.
— Курнопа-Курнопай, а вот в среде крестьянских мальчишек ОН расшифровывался с веселой наглецой: СВИНОПАС, АРТИСТ, МАКЛАК.
— Что за «маклак»?
— Много всего: маклер, прах, плут, сводник. В училище дворцовых сержантов, там свое: сытость, амбиция, маразм. Глагольная расшифровка тоже ходила: СВИСТИ. АНАЛИЗИРУЙ. МАСКИРУЙ.
— Цинизм.
— Согласен. Между прочим, плохо ли, если ОН иллюзорен?
— Плох отрыв выдумки от дела. Симпатиатство — новая приманка для ловли людей на красивую блесну. Серьезное должно быть благородно.
— Разве у меня не серьез, не благородство?
— Да. Ради наслажденчества, извлекаемого властелином из неразоблачаемого притворства. Для спасения идей вечного обмана.
— Наслажденчеству сильных правда не препятствие.
— До поры до времени.
— Если есть, Курнопа, идеи вечного обмана, они же — идеи вечного движения.
— К рабству, распаду, крушению.
— Невозможный человек, чего ты добиваешься?
— Соответствия свободы — справедливости равных.
— Я этим и занимаюсь, но это осуществлять сложней всего.
— Ты работаешь ради себя и элитариев. И, что страшней, — вроде бы укрепляя и созидая, ты разрушаешь.
— Созидание и разрушение — единый процесс. Ты или кто-нибудь другой загарпунит идею симпатиатства, как загарпунивает акулу кархародон, коя хищник наистрашнейшего из хищников.
Чем кархародон еще невероятен: он несет яйцо, слоняющееся по дну океана три года. Из яйца выводится кархародончик, и тотчас себе защитник и надежда. Моя идея уже снесла яйцо со своим продолжением, бессмертным, полагаю.
— Разрушая нравственность народа, нельзя созидать его дух и укрепить телесное здоровье.
— Эх, Курнопа-Курнопай, в том, что создала вековечность, ты сомневаешься. Творчество мое ради счастья Самии и всей планеты ты не принимаешь. Я больше не в силах быть твоим доброхотом.
— А я тебя не просил…
— Я откликался на чувство совести.
Моментами шар несло по горизонтали, должно быть, задевало центростремительными силами земного вращения. Покачиваясь, Курнопай набаюкивал себе надежду, что летит к САМОМУ, встретится с НИМ, разрешит все, о чем мечтает его многострадальная страна, да и планета Земля.