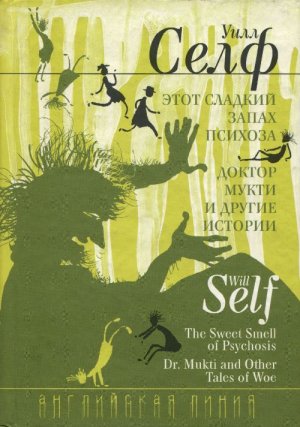
ЭТОТ СЛАДКИЙ ЗАПАХ ПСИХОЗА
Перевод Анны Логиновой
Виктории и Анне
У окна отдельного кабинета клуба «Силинк»[1] стояли двое мужчин; они наблюдали за третьим, который в это время маячил на углу Дарбле-стрит. Это был толстенький человечек под сорок, в не самом дешевом, но и в не особо дорогом тренчкоте. В его жидких русых волосах уже красовалась проплешина; правда, толком всего этого они видеть не могли, потому что стояли на четвертом этаже и смотрели практически вертикально вниз.
— Да ну, вряд ли он собирается это сделать, — сказал Ричард Эрмес. — Думаю, пойдет домой, к жене под крылышко.
— А вот я не уверен, — ответил его приятель, Тодд Рейзер, в свою очередь затягиваясь «косяком», который передал ему Эрмес. — Он безусловно хочет — вот только интересно, хватит ли у него духу.
Стоявший на углу сделал пару шагов к краю тротуара — точно собирался перейти дорогу и отправиться восвояси, — но внезапно обернулся, чтобы еще раз взглянуть на здание, расположенное позади.
Трудно сказать что-то определенное об этом здании; из-за слоя копоти непонятно было даже, когда оно построено; портик был испещрен многочисленными кнопками звонков. И хотя с этого расстояния Ричард не мог их толком разглядеть, он знал, что над каждой из них скотчем приклеен клочок бумаги или картона с надписью «модель». В дверном проеме также красовался знак, наподобие тех, что вращаются в потоке воздуха от проезжающих машин на придорожных заправках, на одной стороне которых значится «БЕНЗИН», а на обороте «ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО». Но этот знак гласил «МОДЕЛЬ» — и с обратной стороны тоже.
Облаченный в тренчкот потенциальный «клиент» снова замаячил на дороге; теперь он в нерешительности переминался с носка на каблук. «Ставлю пять фунтов, что он это сделает», — сказал Тодд Рейзер, доставая означенную купюру из бокового кармана пиджака.
— По рукам. — Ричарду не хотелось, чтобы тот, кто стоял на углу, поднимался на лифте и трахал какую-то из тамошних шлюх. Ричарду хотелось, чтобы он топал на станцию Тоттенхем-Корт-роуд и ехал по Центральной линии к себе домой, в тихий зеленый пригород Парсон-Грин, или Тархем-Грин, или еще какой-нибудь Грин, где он наверняка жил, а от пригородной станции — пешком к супруге, с чистой совестью и не пропахшим лубрикантом со спермицидом мужским достоинством. Ричарду этого очень хотелось.
Вдруг, точно прочитав мысли двоих наблюдателей, толстячок в тренчкоте резко развернулся на каблуках, опасливо оглянулся по сторонам и юркнул в здание. Ричард и Тодд не спускали глаз с его — теперь четко различимого — профиля, который появился сперва в окне лестничной площадки первого этажа, потом второго, потом третьего.
— Наверное, ищет товар этажом повыше, — презрительно хмыкнул Тодд.
— А может, просто знает, что делает, — возразил Ричард.
И тут они потеряли его из виду. Ричард вздохнул, пытаясь представить, что происходит там, внутри. В комнатушке шлюхи неровный пол, покрытый жиденьким сереньким ковриком. А кровать — какая там может быть кровать? Суденышко для коротких и малоприятных поездок. Какая-нибудь рухлядь, на которую как завалился, так и скатился. Ричард почти ощутил тяжелый дух той комнаты — вонь самых дешевых духов, сигаретного дыма, легионов мужских достоинств и использованных презервативов. Все это перекрывал почти фекальный запах масла для тела. А какова собой сама проститутка? Жеманная страхолюдина, решил Ричард, подставляет лысеющему клиенту свою сухую щелку — он уже видел, как тот снимает тренчкот, аккуратно складывает его и кладет на трехногий табурет.
— Давай пятерку, — бесцеремонно прервал нить мыслей Ричарда Тодд, грубо ступив на нее языком, превратившимся в кожаную подметку. И вновь передал приятелю «косяк», вернее то, что от него осталось. Ричард неуклюже завозился, пытаясь не обжечься, с трудом засовывая руку в карман узких джинсов.
Но человек в тренчкоте появился снова. Быстрой семенящей походкой вышел он из парадной двери публичного дома.
— Глянь-ка на него! — Тодд не поверил своим глазам. — Теперь он и в самом деле напуган.
Ричард перестал копаться в поисках пятифунтовой банкноты.
— Ты проиграл, — сказал он.
— Чего?
— Проиграл ты, — повторил Ричард. — За то время, что он там пробыл, невозможно кого-либо трахнуть.
— Гм… Похоже, так. Ну, тогда держи! — Тодд достал из кармана банкноту в пять фунтов, скатанную в трубочку, и протянул Ричарду, который, внутренне слегка содрогнувшись, заметил на ней остатки присохшей сопли и запекшейся крови. — Видать, правда, домой, к жене под крылышко. — И ушел, громко хлопнув дверью.
Однако, как увидел продолжавший наблюдать Ричард, домой человек в тренчкоте идти и не подумал. Куда там. Он пересек дорогу по диагонали и исчез за горизонтом, очерченным подоконником. Вошел в «Силинк», с содроганием понял Ричард. Ричард был удивлен, если не сказать, ошарашен. Возможно, будучи членом клуба, он имеет отношение к медиаиндустрии и боится, что его узнают. А может, ему все равно? Может, и не существовало вовсе никакой женушки в пригороде с названием, оканчивающимся на -Грин, и никто в этот самый момент не снимал с конфорки кастрюлю с приготовленным для него ужином — пусть настоится и немного остынет.
Ричард вздохнул. Он был молод, строен, среднего роста, с курчавыми белокурыми волосами. В тонких чертах его лица сквозила какая-то настороженность; на веках и изгибах ушных раковин проглядывали тонкие голубые венки. Выражение лица было целеустремленным, немного насмешливым, однако лишенным — пока еще — коварства хищника городских джунглей. Жены у Ричарда не было, да и подружки тоже. Мрачно это как-то, подумал он, — одни лишь шлюхи с сухой щелкой.
Смаковать эту мысль ему не хотелось — так было противно, что даже горечь во рту появилась. На самом деле молодой Ричард вовсе не был черствым грубияном. Слегка кашлянув, он сглотнул, ссутулился, вздрогнул и затем последовал тем же путем, которым только что вышел Тодд Рейзер, закрыл дверь и принялся спускаться по винтовой лестнице, покрытой оранжевым ковриком, пока не очутился в баре.
Время коктейлей подходило к концу, и атмосфера в баре клуба «Силинк» была по меньшей мере тяжелой. Последние пару часов толпа раздавленных суровостью действительности, озлобленных жизнью и обиженных на судьбу напряженно работала над тем, чтобы утопить свои тяготы в боксах для сенсорной депривации, полных алкоголя. Квалифицированную помощь в проведении этой безальтернативной терапии оказывал им шеф-бармен заведения, Джулиус. Он выписывал пируэты за зеркальным стеклом барной стойки, выделывая па с бутылками виски, джина и водки, снимая оные с полок и наполняя стаканы, бокалы и стопки. Он танцевал канкан с шейкером, ламбаду с кубиками льда и чарльстон с бутылками пива. Двигался Джулиус быстро и легко. Его ярко-рыжая шевелюра походила на лужайку, выстриженную по проекту какого-нибудь кубиста от ландшафтного дизайна, в ушах красовались серьги в виде яшмовых гвоздиков, а рубашка, фартук и даже оправа очков были безупречны и сияли изяществом и совершенством. Выправка Джулиуса столь неопровержимо говорила о высшем классе, что — как частенько бывает — в сравнении с ним члены престижного закрытого клуба «Силинк» выглядели какими-то потрепанными.
Все это Ричард имел счастье наблюдать, стоя в небольшом фойе возле бара и собираясь войти внутрь, для чего ему пришлось чуть ли не вскарабкаться на высокий дверной порог. Из-за этих-то порогов и общего функционалистского декора заведения — оголенных ламп, окруженных плетенками из проволоки, ярко-оранжевого коврового покрытия под ногами, мебели с ножками из стальных трубок, привинченных к полу, — в сочетании с непрерывным вибрирующим гулом, присущим этому месту, клуб и получил свое морское название. Ибо располагался он в здании, расположенном непосредственно над миниатюрной веткой метро Почтового ведомства, и специальная комиссия решила извлечь, так сказать, тематическую пользу из муниципальной необходимости. Но важнее другое: пребывание в клубе с морским названием порой было не легче, чем в открытом море.
И тут Ричарда накрыла с головой волна посетителей. Рекламщики, телевизионщики, редакторы, композиторы, сочиняющие джинглы для рекламных роликов, актеры, эти самые ролики озвучивающие, пиарщики, дизайнеры-консультанты, девушки из галерей, рекламные художники и просто бездельники с деньгами и связями. Это и были завсегдатаи клуба «Силинк». Казалось, все они курили, пили, принимали вычурные позы, то и дело вертя головой, словно надеясь разглядеть более выгодные прожекты за затылками — или телами — собеседников.
Ибо тенденция смотреть по сторонам, а не вглядываться в лица ближайших соседей, была настолько присуща обитателям клуба, что в результате получалось нечто похожее на «мексиканскую волну», когда болельщики на трибунах стадиона попеременно встают и садятся, создавая «круг на воде». Ричард позволил волне пытливых взглядов обрушиться на него, впитав все до капли. И сам, тем временем, принялся внимательно изучать комнату, чтобы рассмотреть всех присутствующих и вычленить в толпе тех, кого знал, кто заинтересовал его и кому было что предложить.
Однако Ричарду не пришлось долго выдерживать наплыва людского внимания, ведь в обычном своем углу сидел Белл, а подле него — божественная, недоступная и от этого еще нестерпимей желанная Урсула Бентли. Пульс Ричарда учащенно забился — лысый тип в тренчкоте был забыт в тот же миг. Тодд Рейзер тоже был с ними, равно как и прочие прихлебатели. Прозрачные черные глаза Белла встретились с глазами Ричарда с расстояния десяти метров — с крошечного стеклянного горизонта, образованного краем бокала мартини, который держал в руках Белл. Белл поднял палец и постучал им ровнехонько по центру собственного лба. Это был фирменный жест Белла — во всяком случае, один из. Он означал: «Можешь приблизиться»… или, точнее: «Пожалуй, я снизойду до общения с тобой». Ричард поспешил к нему.
Разумеется, об одной группе посетителей клуба я не упомянул выше. О той самой, малозначительным членом которой и являлся Ричард. А именно: поденщиков от журналистики, ибо если и был raison d᾿être[2] клуба «Силинк», то лишь в генерировании темной и сырой атмосферы, столь плодотворной для грибницы полуночных сплетен. Словом, сырой погреб большого города.
Соотношение поденщиков от журналистики и прочих посетителей клуба составляло приблизительно один к одному. О нет, то не были журналисты с принципами или закаленные в боях репортеры. Никто и не думал о том, чтобы не так сильно нагибаться над барной стойкой, дабы ослабить давление на шрам от заряда шрапнели, настигшей его, когда он освещал Балканский кризис. Никто не кучковался в уголке, чтобы на полном серьезе изложить остальным, что она думает по поводу неокейнсианских тенденций в деятельности Министерства финансов (в частности, в новых ограничениях на выдачу займов в государственном секторе экономики). Абсолютно ничего похожего.
Поденщики от массмедиа, собиравшиеся в «Силинке» потрепаться в баре, потрескать в ресторане, «повтыкать» в телевизионной, попинать мяч в комнате для игры в настольный футбол и поплестись в сортир — занюхать щепотку «порошка», занимали совершенно иную нишу в пищевой цепи массовой культуры. Они промышляли передачей избитого, трансляцией банального и распространением никому не нужного. Они писали статьи о статьях, делали телепрограммы о телепрограммах и комментировали чужие высказывания. Они вращались в самых поверхностных, самых тонких и эфемерных слоях околокультурной рефлексии, постоянно разыгрывая диалоги общества с совестью, безусловно, имевшие резонанс — но не громче, чем от постукивания скрепкой по одноразовой тарелочке из фольги.
Как и многие, коротавшие вечера в этом баре за никчемными беседами, днем Ричард трудился в шахте по добыче слов открытым способом, выдавая на-гора вагонетки бессмысленных статеек. Номинальной его работой было сочинение заметок для колонки светской хроники и обзора разного рода премьер и новинок одного ежемесячного популярного журнала, посвященного обзору текущих и анонсу будущих событий в театральной, художественной, — то есть культурной жизни города; он подрабатывал — строчил совершенно лишенные темы тематические статьи в мужской модный журнал, расписывая преимущества прессов для глажки брюк, ароматерапии и скибординга.
Какова его роль во всем этом, он не знал — все было для него новым и неизведанным. Еще в прошлом году он работал в отделе новостей добротной старой газеты, испокон века издававшейся в старинном уютном городке на севере страны. У него была подружка, которая очень хотела родить ребенка, и квартирка, в которой, в свою очередь, хотелось установить перегородку.
И вдруг пара статеек, написанных им по собственной инициативе и отправленных наугад в несколько лондонских журналов, пришлись тем по вкусу. И снизошла волна похвалы на подошвы его ботинок, и понесла их вместе с обладателем к столу главного редактора, где поднялась и прихлынула к языку, который заявил, что он, Ричард, уходит с работы; после чего опустилась ниже, к мужскому достоинству, побудив оное покинуть уютные муслиновые недра вагины его подружки. И Ричард подался на юг — в географическом смысле.
Он нашел работу и снял квартирку в Хорнси. Мрачного вида конуру; она смотрелась тем мрачнее, чем больше претендовала на статус настоящего жилья. Все в ней казалось меньше обычного — кровать, стулья, газовая плита. Даже перемычки на дверях были сантиметров на пятнадцать ниже стандарта, и это значило, что, когда Ричарду случалось приходить домой поздно или в пьяном виде, или и то, и другое (как оно чаще всего и бывало), он то и дело ударялся головой о притолоку на пути из одной комнатенки в другую.
Словом, если с переездом на юг его жилплощадь уменьшилась, то социальные горизонты оставались неясны. Он поразился, насколько легко ему дались первые шаги — ожидал, что пробиваться придется с трудом, на каждом шагу сталкиваясь со снобизмом и всяческими подлянками. Но коллеги по журналистской поденщине неожиданно прониклись к нему расположением, точно новизной своей он олицетворял кого-то вроде Ариэля, очаровавшего их остров скуки. То, что он работал на севере страны, что ходил в частный детский сад, простота и безыскусность, с которой он рассказывал о родном доме и о родителях, казалось им странным и в то же время располагающим, и скоро его стали приглашать на бесчисленные вечеринки, где в узеньком, не шире бутылочного горлышка закутке у самодельного бара наливали болгарские вина — щедро, до краев.
После таких вечеринок — по случаю открытия того-то, запуска сего-то или просто банкетов для прессы — Ричард присоединялся к веренице гуляк. Они направлялись в клубы респектабельного лондонского Вест-Энда, и те из их числа, кому посчастливилось удостоиться членства, пропихивали вслед за собой и прочих в «Сохо-Хаус», к Фреду, и, разумеется, в «Силинк» — роскошный рай для посвященных, в эту мастерскую высокомерия.
На Ричарда клуб «Силинк» произвел неизгладимое впечатление. Здесь он встретил кинозвезд, поп-звезд и — что еще важнее — звезд своей собственной профессии, суперподенщиков от журналистики.
Дорогие девушки грациозно скользили по оранжевым коврам заведения; Ричард жадно пожирал их глазами. Он желал их; с прошлого года у него не было секса — если не считать пары торопливых соитий с непосредственной начальницей по журналу, успешной анорексичкой лет сорока, оказавшейся фетишисткой — любительницей перчаток. От третьего раза он уклонился, — после того как она предложила ему надеть кухонные прихватки перед началом процесса. О том, что это — чего он сильно опасался — не повлияло на их профессиональные отношения, не стоит и говорить. И до, и после этого она благополучно продолжала не обращать на него внимания.
Но девушки из «Силинка»! ААААААААААААООО! Как он их желал! Их блестящих волос и тонкой, как папиросная бумага, кожи! Жалобных голосков и пустых глаз! Всем им было присуще выражение тотального презрения — выученного в дорогих школах равнодушия. Они скользили по клубу, а Ричард пристально рассматривал кресты их тел, замечал каждое подергивание плечиком, каждый наклон головы, улавливая малейшие нюансы в их одежде и прическах.
Но самой желанной среди этих беззаботных дев, зовущих с тривиальных скал, была Урсула Бентли. Урсула писала для одного ежемесячного глянцевого журнала якобы дневник, где рассказывала о своих любовных похождениях. К величайшему смятению Ричарда, худшего чтива ему видеть не доводилось, но, так как это была она, он во многом шел на уступки — уступки размером со списание долгов странам Третьего мира. Он страстно желал ее. Ибо она была не просто красива — она была так неправдоподобно красива, точно бриллиант чистейшей воды, найденный в грязи возле китайской забегаловки, — что для глупенького Ричарда очищало его, себя и всю мерзость и летаргию, весь жалкий пафос, которым, как он чувствовал, был пропитан клуб «Силинк».
Так-то Белл и заполучил его, сделав Ричарда членом своей маленькой группки.
Ричард сел на предназначавшийся для него стул и привлек внимание одного из официантов — прекрасно зная, что из-за низкого статуса ждать выпивки ему придется минут -дцать. Белл был, по обыкновению, немногословен. Он сидел в центре, окруженный приспешниками, будто огромный паук в центре паутины; его окружали, окутывали тончайшие нити — нити слухов и сплетен, мнений и разногласий. И посреди всего этого восседал Белл, прислушиваясь, фиксируя и пережевывая информацию, чтобы в нужный момент отрыгнуть ее.
Ведь если кто и был в «Силинке» центром притяжения, «пупом», подлинным Вотреном[3], ведущим наверх из глубин корабль скандала, то это Белл. Белл, как и прочие, был поденщиком от журналистики — да-да, — но в то же время и гораздо больше, чем просто поденщиком. Он вел ежедневную синдицированную колонку[4] в «Мейл» и «Стэндарт» — колонку эту просматривали миллионов десять идеологически незрелых читателей. Еще он вел еженедельную телепрограмму — интервью со знаменитостями под названием «Кампанология»[5], — которую показывали в «прайм-тайм» в пятницу вечером, и пятнадцать миллионов зрителей смотрели ее в прямом эфире. А еще он вел интерактивное шоу в нейтральной зоне на «Ток Радио», которое, положим, выходило в эфир между двумя и четырьмя часами воскресного утра (хотя записывалось шестью часами раньше), но тем не менее умудрялось достичь ушей около четырехсот заблудших душ.
Столь полный охват событий, конечно, предполагает диаграмму пересечения Венна[6], и один из самых раболепных прихлебателей Белла как-то подсчитал — путем неких хитроумных статистических вычислений, — что, по логике вещей, в Великобритании существуют двести тысяч человек, которые занимаются исключительно тем, что слушают голос Белла, смотрят на лицо Белла или читают написанные Беллом слова, и так жизнь напролет. К слову, тот же самый прихлебатель как-то умудрился заслужить неделю одобрения своего ментора, всерьез проталкивая идею, что Беллу стоит начать трансляции напрямую в подсознание и тем самым заселить мир грёз.
Беллу было под сорок. Крепкий и коренастый, одинаково широкий и вдоль, и поперек тела, он казался бы квадратным и монолитным, не будь его фронтальная сторона странно плоской и как бы двухмерной — этакий обман зрения. Мало кто из смотревших на него обращал внимание на солидные габариты; скорее их немедленно зачаровывал фасад. Репутацию он имел такую, что никто не ожидал увидеть то, что видел, встречая его во плоти, но Белл был привлекательным, аккуратным и приятно ухоженным. Его торс являл собой сплошной прямоугольник, руки — прямоугольники потоньше. Ноги — под стать рукам. Он носил простые, ладно скроенные костюмы, которые лишь подчеркивали то, как он просто и ладно скроен.
Это само собой. Более же проницательному и опытному наблюдателю, если ему доведется смотреть сквозь Белла — в данном случае на доски обшивки позади фигуры оного — достаточно долго, удастся разглядеть вещи и поважнее. Под шерстяной материей дорогого костюма скрывалось тело неимоверной силы — тело Минотавра, полубыка-получеловека с мощным костяком и несокрушимыми мускулами. Даже держался Белл так, как держался бы Минотавр: слегка наклонив вперед торс, ноги крепко стоят на палубе клуба «Силинк», руки раскинуты вперед и слегка в стороны, точно их обладатель пытался построить как можно большую пирамиду благоприятного пространства и компенсировать любой недостаток солидности созданием превосходного центра тяжести.
Потом его голова, также наводившая на мысль о том, как удачно он использует углы. Мало кто на самом деле знал, что у Белла практически нет шеи, что пагода, венчающая его плечи, крепится на мощном каменном основании из мышц и жира. Мало кто — включая тех, кто спал с Беллом и в чьи удаленные (или, напротив, ближние) чувствительные участки тела впивались его выдающиеся челюсти, — заметил, насколько выступы и скошенные углы этого лица придают ему сходство с лицом доисторического человека, неандертальца. Скорее, встречая Белла на публике, они находили его… удивительно привлекательным.
Челка его блестящих черных волос свободно ниспадала на высокий белый лоб. Глаза тоже были черными — однако чернота эта излучала тепло. Безупречный цвет лица подчеркивала небольшая родинка на щеке — опять же в форме колокольчика. Губы были ярко-красными — но не влажными. Нос, хотя и с широкой переносицей, обладал превосходной формы ноздрями. А на подбородке и скулах было достаточно кости, чтобы картина смотрелась завершенной. Немудрено, что Белл нравился — и нравился часто. Нравился — больше или меньше — везде и всем, кому только хотел.
Даже в дебрях разврата, именуемых клубом «Силинк», склонность Белла трахать как баб, так и мужиков была поразительной. Ему нравились и те, и другие. Кто-то из завсегдатаев бара говорил, что он предпочитает первых, другие утверждали, что, напротив, последних. Как бы там ни было, с выбором объекта у Белла проблем не возникало. Конечно же при его профессии легкие, ни к чему не обязывающие поспешные соития были обычным делом; те, кто достаточно неустойчив, хрупок и слаб, чтобы устоять под пристальным взглядом из-под бровей, не замечали, как уже опрокидываются на спину, машинально располагая колени и бедра максимально удобным для пенетрации образом.
Но Белл не ограничивался лишь подножным кормом — отнюдь. Он был способен соблазнять и тех, кто пытался избегать его, кто не спешил попасть под обаяние его сладких речей, пущенных метко, точно индейское лассо-бола, чтобы опутать нижние конечности жертвы и повалить ее на плюшевый ковер пампы. А таких было много, ведь — черт возьми! — даже обитателям Вест-Энда иногда присущи гордость и цельность натуры; даже у них есть отношения, которыми они не хотели бы рисковать.
На них-то Белл и обращал свое особое внимание. Казалось, ничто так не поддерживало этого человека в тонусе, как поиск долгосрочных отношений — браков, сожительств, тайных романов, чтобы втиснуть свое похотливое тело между двумя людьми, связанными тесными узами, силясь разорвать сплоченных годами, опытом, общими детьми… даже любовью.
Вереницы плачущих жен, подружек, дружков, партнеров и любовников в бессильной ярости слонялись по бесчувственным мостовым вокруг квартала особняков в Блумсбери, где Белл жил. Белл не пытался скрывать свои грешки. Вообще тот факт, что телесный столб Белла должен был иметь столько же выпуклостей, сколько и столбцы его синдицированной колонки, казалось, и лежал в основе всех его амурных похождений. И у него непременно был «его мужчина» или «его женщина». Это тем более верно, поскольку все завсегдатаи «Силинка» всегда знали, на кого он на сей раз положил глаз, как знали и то, что слезы в туалете и всхлипывания в трубку телефона в фойе — лишь вопрос времени. Шодерло де Лакло не пришлось бы ничего сочинять, вздумай он писать про Белла.
Вот такую-то истерику и обсуждали прихлебатели Белла в тот самый момент, когда на волну разговора настроился Ричард, ранее расслышавший плач покинутой пассии. Урсула Бентли говорила: «По-моему, ей надо бы обратиться куда-нибудь, есть же специальные клиники… ну, остыть, понимаете, да…»
— Вообще, я не уверен, что тут дело в наркотиках. — Это сказал человек по имени Слэттер, руководивший пресс-службой, которой во многом покровительствовал Белл.
— Хм, — фыркнула Урсула, презрительно скривив хорошенький ротик. — Если не в наркотиках, то в чем же, черт возьми? Однажды она постучала в парадную дверь дома Белла в пять утра, белая как смерть, трясется, короче, сами знаете, как это бывает. Правда ведь, Белл? — И она обратила сияющий взор на своего наставника, который едва заметно кивнул массивной головой, подтверждая: мол, да, было дело.
Слэттер, собираясь возразить, попытался что-то сказать, пока Урсула не закончила фразы, но, увидев, что Белл поддержал ее, немедленно закрыл рот и принялся обозревать свои ногти. Этот Слэттер был человеком блаженно отталкивающей наружности. Тощий, с нездорового оттенка дряблой и отвисшей кожей; одевался Слэттер исключительно в готовые костюмы — летом будто скроенные из винила, а зимой — из основы под ворс коврового покрытия. Плечи его пиджака вечно были припорошены слоем перхоти; струпья перхоти отчетливо виднелись и на коже головы. Те самые ногти, которые он так сосредоточенно обозревал, были столь аккуратно окантованы — каждый окаймлен изящным темным полумесяцем, — что грязь выглядела почти декоративно. Несмотря на это — или, может, более зловеще, благодаря этому, Слэттер был «правой рукой» Белла, его доверенным слугой, мальчиком на побегушках. Это он выполнял поручения, доставал кокаин, отправлял плачущих девочек в абортарии Эджвера.
Его руки были запачканы — а значит, руки Белла — чисты. И, как и положено паразиту и его хозяину, которые выработали превосходный modus vivendi[7], они жили в симбиозе, совершенно не обращая внимания на то, кому какая выпала роль.
Белл пока не проронил ни слова; натянутые нити неловкости и контроля, связывающие его с прихлебателями, гудели и вибрировали. Кто-то сегодня, подумал Ричард, получит шанс отличиться, заслужить похвалу, взять на себя ответственность и сообщить что-нибудь действительно интересное, что позабавит и увлечет прочих?
Ответ не заставил себя ждать: Тодд Рейзер.
— Ни за что не догадаетесь, — начал он, — что мы с юным Ричардом только что видели… — Он подался вперед, и его блестящие волосы сползли с ворота жокейского пиджака, обнажив написанное там название веб-сайта.
— Верно, — тявкнул Адам Кельберн, заместитель главреда «Кохонес»[8], модного журнала для мужчин, того самого, куда пописывал Ричард. Кельберн тоже был из второстепенных, пусть и исполненных энтузиазма, Белловых прихлебателей. — Не догадаемся. Так что сдаемся, Тодд, выкладывай.
Рейзер, чтобы приблизиться, выгнулся еще больше, превратившись в джинсово-вельветовую подставку для бокала мартини.
— Стоим мы, значит, в комнате наверху, хе-хе, и тут молодой Ричард заметил типа, который тусовался у входа в бордель напротив, кх᾿хе-хе-хе.
«Когда-нибудь-в-недалеком-будущем» Рейзер собирался снимать фильмы, ну а сейчас, разумеется, делал рекламные ролики. В общении он был резок, а временами и откровенно груб — то есть в общении со всеми, кроме Белла.
— …Значит, решили мы заключить пари, — осмелится ли он зайти и в самом деле отодрать какую-нибудь тамошнюю шлюху, хе-хе-хе… — Он смолк и шумно отхлебнул из бокала.
И тут воздух окрасился чернильными модуляциями голоса Белла:
— На сколько спорили?
Ричарду, как всегда, стало не по себе от тщательно выверенного спокойствия его голоса.
— Спорили! — Рейзер вздрогнул. — Ну, спорили… на пятишку, да, Ричард?
— Верно.
— По-любому, красавец заходит в здание траходрома и тащится пешком через три лестничных пролета. Ну, думаю, я победил — потому что я с самого начала на это ставил, — как вдруг он разворачивается и катится вниз, хе-хе-хе-хе…
Даже своим хихиканьем Рейзер эксплуатирует женщин, с негодованием подумал Ричард, чувствуя, как мысль об эксплуатации женщин неодолимо овладевает им.
— Вообще-то, — заметил Ричард в открывшуюся, чтобы поглотить анекдот, пасть, — домой он не пошел.
— Да ну? — Рейзер умудрился высморкать эти два односложных слова.
— Ну да. Он зашел в клуб.
— Сюда? В «Силинк»? — Это произнесла Урсула Бентли. Она разговаривала с Ричардом… в том числе. У него ёкнуло сердце.
— Ага. Вон он стоит, у барной стойки, с Джулиусом треплется.
Шесть пар расчетливых глаз ненавязчиво проследовали в указанном Ричардом направлении и принялись обозревать толстячка в тренчкоте, точно окончательно избранную жертву.
— Кхе-хе-хе-хе, — захихикал Рейзер, — чтоб меня перекосило, молодой Ричард прав!
Никто не обратил на него внимания, потому что несколькими едва заметными непосвященному глазу движениями Белл дал понять, что желает говорить.
— О᾿кей, — произнес он, — давайте немного повеселимся. Слэттер, спустись-ка к консьержу и узнай, как зовут нашего лысого друга. Рейзер, пойдешь с ним. Как только ухватишься за дверную ручку, сразу же ступай через дорогу. Говоришь, он поднимался на верхний этаж, — очевидно, там есть какая-то шлюха, которую он либо хочет видеть, либо уже вида ее не выносит. Сунешь ей бабла, пусть придет сюда и назовется личной гостьей этого, лысого, потом зайдет в бар — словом, устроим им маленькое рандеву. — Последние два слова он произнес по-французски.
Ричарда ошеломила вибрирующая, оглушительная тишина, наступившая после этих слов. Он чувствовал себя так, будто кто-то огрел его по затылку рыбьей тушей весом не меньше центнера.
Примерно так же чувствовал он себя и три часа спустя, когда сидел в самом дальнем углу «Дыры» — нелегального питейного заведения, расположенного на Олд-Комптон-стрит в недрах подвала магазинчика, торговавшего порнухой и всякой мелочью. Ричард был ошарашен здешней атмосферой — абсолютно, нарочито зловещей. Он никак не мог забыть выражение лица давешнего бедняги, когда в бар вошла та самая шлюха, украдкой скользнула к нему и игриво положила руку в синяках на эполет его тренчкота и потерлась обесцвеченной пероксидом бровью о его плечо. Ричард запомнил его лицо, близорукий, пронизанный болью взгляд и пунцовую краску, которая залила шею и быстро поднялась до самых кончиков редких волос несчастного. И Ричарду стало стыдно — оттого, что все это случилось из-за него.
И вот он сидел с мрачным видом, судорожно цепляясь за соломинку трезвости в бушующем море опьянения. Белл тоже был там — стоял поблизости, болтая с двумя чернокожими парнями в жилетках со шнуровкой и синих рабочих брюках, и чувствовал себя превосходно. Белл был в ударе: он даже держался так же, как они, и — Ричард едва уловил это сквозь неумолчный шум — разговаривал почти как они, то есть с акцентом и оборотами, присущими чернокожим, став, таким образом, ближе и понятнее собеседникам.
И Урсула там была. Выглядела по-прежнему безупречно — даже в столь поздний час. Ричард не заметил покраснений вокруг ее синих глаз, а копна ее густых каштановых волос нисколько не потускнела и не засалилась. Скорее наоборот — этот вечер со всеми спиртными излишествами только придал ей жизни, живости. Укрывшись за опьянением, точно за деревом, он все вглядывался в ее черты. И как она могла общаться с подобными людьми? Как могла спокойно воспринимать жестокие шутки вроде той, которую они только что сыграли над беднягой в тренчкоте, — если не была порочной по самой сути своей? Как она могла?
Ричард понял, что ему угрожает опасность — опасность выставить себя идиотом. Он был слишком пьян. Когда, пошатываясь, Ричард побрел сквозь толпу посетителей в сортир, расположенный в конце подвальчика, дабы исторгнуть из себя всю скверну, он то и дело спотыкался о чужие лодыжки и задевал бумажные стаканчики. В уши его лились проклятия, но он слышал их будто откуда-то издалека, — ибо им приходилось преодолевать юдоль слез. Я стою, сосредоточенно думал он, фокусируясь на моменте, когда моча начнет изливаться из пениса, так что она со мной не уйдет. А она пойдет со мной? О! Пойдет?!
Конечно же Ричард знал, что и она тоже. Вряд ли кто-то из перманентной клики Белла избегнул сей участи. Это был просто еще один способ поставить на них свое клеймо, вроде выдачи удостоверения члена клуба. Это происходило всего один раз… или не один? Она ведь была такая… такая, блин, соблазнительная! Идеальная фигура: большая и высокая грудь — причем без всяких ухищрений с ее стороны; талия, которую так и хотелось обнять, гибкие бедра и длинные, сильные ноги; и это лицо! Глаза, голубые-голубые, обалдеть можно; темные брови идеальной формы, где надо — округлости, где надо — острые углы, обтянутые безупречной розовой кожей. Как-то раз Урсула невзначай сообщила Ричарду, что ее туалет состоит лишь из капельки увлажняющего крема и «Жики», нежного и неудержимо эротичного аромата, созданного Герленом для императрицы Евгении.
Капелька увлажняющего крема! Как хотелось Ричарду стать этой капелькой. Чтобы его выдавили на ватный тампон, которым она проводит по этим щекам, этой шее, этой груди. Боже! Да она с ним и через улицу срать не сядет, Ричард был в этом уверен. Но он не мог оставить ее в покое. Не мог….
— …Засиделся, молодой Ричард? — Над ним навис Тодд Рейзер. Ему удалось нависнуть потому, что Ричард практически сполз со стула. Рейзер представлял собой отличный объект для упражнений в каламбурах: он и сам был коротышкой, и снимал короткометражки. Даже его джинсы раздражали — они должны были быть мятыми, но почему-то не были. Рубашки он тоже предпочитал из тяжелой материи, и Ричард не мог удержаться, чтобы не представить еще более мрачные предметы верхней одежды в недрах Рейзерова гардероба — состоявшего из кардиганов, наглухо застегивающихся на «молнию» и джемперов-безрукавок от «Фейр Айль». — Знаешь, я думаю, что там тебе не особо светит… — хмыкнул Рейзер, как показалось Ричарду, подавшись всем телом в направлении прекрасной госпожи Бентли.
Где-то в глубине горла Ричарда открылся небольшой отсек, наполненный желчью. «В᾿ф, бр-р», — попытался возразить Ричард и вдруг очутился на задних ногах, точно жеребенок, насквозь пропитанный кампари, и — также невольно, — пробормотал «Д’брночи» в направлении Белла, Урсулы и Рейзера. Опомнился он уже на Олд-Комптон-стрит, торгуясь с покрытым племенными татуировками и вооруженным планшет-блокнотом контролером на стоянке такси, возле киоска у бара «Полло».
Вскоре после этого такси уже катило на север по Тоттенхэм-Корт-роуд. Ричард безвольно откинулся на заднем сиденье, по большей части еще под действием анестезии, но в то же время превосходно чувствуя всем телом рытвины и ухабы дороги.
На пересечении с Юстон-роуд поставили огромный рекламный щит, чтобы заслонить стройплощадку по соседству с небоскребом Юстон-Тауэр. Ричард уставился на него затуманенным взором, различил каемку зарождающейся зари у его верхнего края — и тут разглядел его полностью. Щит был из тех, на которых при помощи вращающихся треугольных панелей поочередно сменяются три рекламных изображения; когда такси притормозило у светофора, женские половые губы, окруженные складками безупречной шелковой плоти, начали тасоваться, точно карты колоды в руках опытного шулера, пока не уступили место до боли знакомым чертам: ярко-красным губам и носу с широкой переносицей. На Ричарда смотрели теплые черные глаза Белла; Беллов большой палец касался широкого, белого, Беллова лба. Последним, что явили Ричарду вставшие наконец на место панели, был рекламный слоган: «Всю ночь на MW 1053/1089 кГц. Звоните в колокол — звоните мне, Беллу».
Сигнал светофора тем временем сменился, ноги зеленого человечка на индикаторе соединились, таксист нажал на «газ», и автомобиль, качнувшись, двинулся дальше. Голова Ричарда откинулась на спинку заднего сиденья. Где-то теперь эти красные губы? Может, ласкают шелковую кожу, заключавшую в себя тело Урсулы? Ричард издал гортанный стон. Таксист тут же обернулся к нему на своем обтянутом дерматином водительском кресле.
— Все в порядке, а? — спросил он, угадав профессиональным чутьем, что блевотина и желчь уже давно подступили к горлу Ричарда.
— Да, — бр-р, ну да — в порядке.
И они снова тронулись в путь. Никогда прежде Хорнси не казался ему такой уютной гаванью, как в этот раз.
На следующее утро Ричард отправился на собрание редколлегии «Рандеву», мерзкого, насквозь фальшивого журнала афиш и анонсов, в котором он работал, — и вдруг в зал вошла одна из редакторш, держа на кончике пальца листок бумаги для записей, с клейким краем. Она направилась к Ричарду — он сидел рядом со своей начальницей, той самой любительницей перчаток — и сковырнула прилипший к ее пальцу листочек на кончик его пальца. Ричард уставился на несколько нацарапанных там слов. На листке было написано: «Звон. Урсула Бентли. Просила перезв. 602 3368. Срочно!»
Ричард вовсе не думал о новом фильме Чико Франкини «Расхититель могил», не обращал внимания на разговоры о грядущем фестивале этнической музыки под эгидой компании «Шелл Ойл»; не проникался интересом ни к выставке Кандинского в галерее Бэнксайда, ни к оригинальной трактовке дягилевской «Весны священной», поставленной театральной компанией Корнеля в театре «Сэддлер Уэллс». Волны культурных событий вяло шлепали по грязной, замусоренной береговой полосе Ричардова сознания; а у самого горизонта покачивался на волнах и медленно шел ко дну пробитый танкер. Всю глубину своего несчастья Ричард познал на заре, когда увидел, как из пробоины в корпусе танкера исторгается густая струя пива, вина и водки, а из трубы валит черный наркотический смог.
Этот день должен был стать днем преодоления — ну, или попыток такового. А вовсе не днем, когда Ричард вынужден был бесстрашно пересмотреть свои морально-этические принципы и обдумать их недостатки. Он почти физически чувствовал, как ощупывает языком язвы на прикушенных щеках; как пытается не обращать внимания на то, что его собственные пальцы окружены толстыми и неповоротливыми пальцами призрака. Как ближе к ланчу оценивает ущерб, так сказать, изнутри, взирая на свои испражнения.
Офис редакции журнала «Рандеву» для страдающих похмельем был сущим адом. Под нефотогеничным, безжалостным светом ламп дневного света его открытое пространство вызывало ощущения куда хуже, чем просто «средней паршивости», когда плитки облицовки пола и потолка сталкивались и бились друг о друга, раздавливая и сплющивая все, что должно было разделять их. Вдобавок там имелись свободно стоящие перегородки из какого-то строительного материала, высотой по грудь, обитые тканью с грубым ворсом противного серо-желтого, как овсянка, цвета. Журналисты, редакторы, сотрудники типографии, секретари, дизайнеры и курьеры, населявшие этот чахлый лабиринт, спешили по нему, неся в руках какие-то бумаги, время от времени возвышались над перегородкой, чтобы крикнуть кому-нибудь из коллег, что копия вот-вот будет готова; в довершение всего, в офисе который день прокладывали кабель.
Возле кулера с водой и на лестничной площадке у туалетов кучковались сотрудники «Рандеву» — покурить сигареты «Силк Кат» и обсудить крупицы того, чем завтра будут заняты умы прочих лондонцев. Они на полном серьезе обсуждали открытие тематических ресторанов и угасание моды на экспериментальные постановки оперных спектаклей — точно это были события вселенского масштаба, призванные ознаменовать новую эпоху. Даже в хороший день Ричарду от них становилось тошно.
Вершиной этой эфемерной пирамиды, водруженной надменными жрецами, было утреннее заседание редколлегии. Как замредактора отдела, дважды в неделю Ричард был обязан на них присутствовать. Именно на таких заседаниях хоть что-то действительно делалось — когда на редколлегиях присутствовали редакторы отделов, они лишь создавали видимость деятельности. Но, в конце концов, думал Ричард, — в чем состоит его работа? В том, чтобы уменьшить важность и без того неважного события? Инвентаризировать культуру? Ну напишет он сто пятьдесят слов о каком-либо романе, какой-то пьесе или альбоме какого-нибудь исполнителя, ну приладит в уголке фотографию размером с почтовую марку; и частенько — по его собственному нескромному мнению — посетует, что сам он обошелся бы с темой значительно лучше, чем тот, о ком он пишет.
В это утро собрание было еще ужасней, чем обычно. Главред, в чьих разглагольствованиях в равных долях присутствовали разговор по делу и манипулирование людьми, на сей раз занимался тем, что всячески унижал редактора отдела премьер, психически неуравновешенного типа со стремительно развивающейся героиновой зависимостью. Еще до завтрака прольется если не кровь, так слеза, мрачно подумал Ричард; тут принесли записку.
Ее записку. Которая разнесла в щепки дурацкие перегородки и вдребезги разбила стеклянные стены кабинета главного редактора (он заказал их, посмотрев фильм «Вся президентская рать»[9]). Ее записка впустила в помещение пахнущий кокосом бриз и трели гавайской гитары. Густая струя алкоголя была смыта очистительной пеной желания. Дрогнула и рассеялась темная пелена ядовитого наркотического дыма. Ричард не мог оторвать взгляд от листка бумаги с клейким краем; его взору неожиданно открылось будущее — точно полоска девственной земли на горизонте. Будущее, в котором Урсула Бентли звонила ему в офис. Нирвана.
Оставшуюся часть собрания Ричард досидел, развлекаясь тем, что терся лукой эрегированного пениса о нижний край стола переговоров, пока не дотерся до того, что внутреннюю часть бедра пронзила острая боль. Пару раз он от этого, мягко скажем, экстраординарного занятия чуть было не кончил в штаны, но ему это было необходимо, чтобы не допустить чрезмерного увлечения влажными эротическими грезами. Ричард даже не рассердился, когда любительница перчаток — во время короткой передышки — ткнула искусственным ногтем в его золотого тельца в виде листка бумаги для заметок и вкрадчиво произнесла: «Что, Ричард, Урсула Бентли, да? Красотка, ничего не скажешь, — хотя, прошу прощения за каламбур, ей пару раз пришлось-таки позвонить в колокольчик, а?»
Как только собрание закончилось, Ричард быстро-быстро засеменил по лабиринту из перегородок, словно лабораторная крыса, спешащая за положенной согласно условиям эксперимента дозой кокаина. Пригнувшись, он добрался до тупичка, в котором располагалось его рабочее место, и набрал номер. Судя по номеру, его обладательница жила в Кенсингтоне. Когда туман статических помех рассеялся гудком соединения, воображение Ричарда нарисовало портрет Урсулы в ее кенсингтонской квартире: высокие-высокие потолки, персидский ковер размером с небольшое поле, застекленные горки, полные редких драгоценных безделушек. И конечно же Урсула, родная сестра аристократок из книг Сомерсета Моэма, возлежащая в эркере на диванчике в стиле арт-деко. На ней — длинное, ниспадающее причудливыми складками платье цвета слоновой кости. Лиф отделан золотом, талия обхвачена золотым пояском; золотом же украшены подол и рукава. А трубка ее телефонного аппарата — в форме фигуры юноши, Адониса, правда, без пошлых подробностей сделана из слоновой кости и золота, как и сама Урсула.
— Да? — Голос Урсулы был на удивление неприятным.
— Э-это Урсула? Урсула Б-бентли? — Голос Ричарда тоже не источал мёда.
— Да-а.
— Это Ричард. Ричард Эрмес.
— Ах, да, молодой Ричард. Вчера вечером ты что-то очень быстро смотался. Что случилось? — Голос у нее был и в самом деле неприятный — но не для Ричардовых ушей.
— Ну, э-э, утром на работу и все такое… — Дурак! Он не знал, что ей прекрасно известно, что это за «такое». Ричард не имел ни малейшего понятия о том, чем занимается Урсула помимо своей рубрики «Записки честолюбивой малышки» — остряки переименовали ее в «Записки частолюбивой малышки». Судя по тому, как она не обращала внимания на то, что касалось денег, — например, на свою долю счета в ресторане, — мир журналистики был местом, где она вращалась, но не обитала.
— A-а, в «Рандеву», с этой, как ее — ну, фетишисткой, которая перчатки любит?
— Мне очень жаль, но я не расслышал. Что? — Ему и впрямь было жаль, что этих двоих могло что-то связывать. Он чувствовал (полнейший абсурд), будто уже предал Урсулу, совершил преждевременную измену.
— Ну, знаешь, Ричард, твоя начальница, Фабия, она ведь фетишистка. Только не говори мне, что ты с ней ни разу не того и ничего не знаешь. Как-то на одной вечеринке прижала она меня в гардеробной. Я тогда была немного навеселе, ну, и поддалась. И тут она достает из кармана лыжные перчатки — толстые такие, стеганые. И давай меня уговаривать, чтоб я их напялила и отдрючила ее как следует. Потом я про нее много всего слышала — и непременно про перчатки. Ну, а тебе что предлагали? Кожаные? Варежки?
— Вообще-то кухонные прихватки.
— Ха-ха! Круто, Ричард. Туше́, как говорится.
Господи! Наконец-то ему удалась фраза! Мириады розовых фламинго вспорхнули с берегов вулканического кратера Ричардова нутра.
— Ну, а я решила, что мне рано вставать особо незачем, и я поехала с ребятами дальше.
— К-куда? — Стаю фламинго расстреляли из автоматов нацистские вивисекторы.
— Сперва в гей-бар на Черинг-Кросс, потом вернулись в «Дыру», — Беллу что-то там понадобилось, ну, а после поехали в Блумсбери.
— К Б-беллу?
— Ну да. А там мы балдели. У Белла была такая штука, «блисс» называется, нечто среднее между «крэком», амфетамином и «льдом»[10]. Ее надо было курить в маленькой трубочке. Балдеешь, как… как… не знаю что. По-любому, — продолжала Урсула, — к тому времени Рейзер уже свалил, так что Белл звонит ему, знает же, что Рейзер не может устоять перед наркотой, — и говорит: «Эй, Тодд, не хочешь доехать до меня попробовать „блисса“? Все наши в сборе, а еще у меня тут парочка залетных девчонок, которые приехали в город и мечтают пообщаться с киношником…» У Тодда тут же потекли слюнки, да так, что даже мне было слышно, и он начал: «Да-да, да-да», как какой-нибудь хренов Маттли[11]. И Белл говорит: «А вот фиг тебе», и кладет трубку. Представляешь? Ха-ха-ха!
— Хи-хи-хи, — поддакнул Ричард, который совершенно не понимал, что тут смешного.
— Бедняга даже приехал-таки в Блумсбери и полчаса названивал в домофон, прислонившись к кнопке, пока Белл не сообразил отключить его…
— А ты во сколько попала домой? — Храбрость Ричарда, как и всегда в общении с Урсулой, была скорее рефлекторной.
— Что?
— Ну… вернулась во сколько?
— Не знаю. Не помню. В полседьмого или в семь. Короче, утром — по-любому спать охота. Так вот, слушай сюда — сегодня Мирнс, ну, который занимается «зеленым шантажом»[12], устраивает вечеринку, так что я тут рассылаю ориентировки. Увидимся в семь, в клубе — я буду рано.
— О!
Ррррррррррррррр…
Какое-то время Ричард слушал доносившиеся из трубки короткие гудки, но с таким видом, словно его слух ублажало сладострастное урчание Маленького Мишки. Вот так он и будет звать ее отныне: Мой Медвежонок.
Потом он стряхнул с себя наваждение и обернулся к компьютеру. На экране монитора мелькала фирменная корпоративная заставка журнала: рисованный персонаж, олицетворяющий среднестатистического читателя (вид сзади), помечающего маркером те события культурной недели столицы, которые он или она непременно посетит. Ричард щелкнул «мышью»; экран пискнул и явил набросок статьи примерно в двести слов. В то время как мириады стай розовых фламинго вращались, будто галактики, вокруг вселенной его сердца, Ричард Эрмес принялся править материал. Ему позвонила Урсула Бентли! Она пригласила его на… рандеву! (А что еще могло означать это «рано»?) В такой день даже сочинение дешевых дифирамбов в адрес нового представления комика Раззы Роба под названием «Гини-гини, хей-хей!» было сущим кайфом.
Весь день Ричард топтался в виртуальном «углу для принятия решений» — точно так же, как давешний тип в тренчкоте вчера вечером. В пять он отправился в Хорнси — за тем лишь, чтобы на полпути отказаться от этой мысли. Он вышел из метро на станции «Арчвей», решив, что, даже если и попадет домой, все равно не успеет принять душ и домастурбироваться до состояния бесполого нечто (в этот вечер Ричард и думать не желал о том, что с ним приключится конфуз вроде невольной эрекции), а уж тем более — заняться туалетом и гардеробом с тщательностью и рвением, которых не знал с тех пор, как подростком собирался на дискотеку.
Иными словами, чем провести недостаточно времени в своей игрушечной квартирке Венди[13], он предпочел не возвращаться туда вовсе. Уж лучше заявиться в «Силинк» этаким бесшабашным, невыспавшимся, невшибенно крутым прожигателем жизни, словно он забежал сюда по пути из одного злачного места в другое. Этаким мачо, да; и при встрече энергично потереться о щеку Урсулы своей щетиной, сурово и очень по-мужски, пожирая ее нескромным взглядом, точно говоря: я такой жесткий не только здесь, и тем самым заставить ее покориться. Ричардовы грязные, с пузырями на коленках, брюки, мешковатая рубаха и поношенные туфли Урсула примет за обескураживающую сексуальность и подкупающее отсутствие неловкости. Он еще подумал: а может, усугубить это дело, нарочито втянув голову в плечи и пафосно, с елейным еврейским акцентом провозгласив «Стиль, шмиль!»?
Вот такие мысли пестрой вереницей проносились в мозгу Ричарда, когда он рысил по грязному вестибюлю небоскреба Арчвей-Тауэр; слезились глаза, в которые попал песок, поднятый порывами сухого холодного ветра. Похмелье наконец-то начало отступать; все, что он чувствовал теперь, — странное водянистое ощущение в паху да намертво закупорившую обе ноздри слизь, твердую, как два крошечных коралловых рифа.
На ходу он то и дело посматривал на часы, чувствуя, что время неумолимо убегает от него, тогда как сам он пребывает в перманентной, страшно неловкой агонии настоящего. Из этого состояния его вывела витрина конторы Смита, сработавшая как своего рода «зрительная соль». А именно стенд с экземплярами газеты «Радио Таймс», расположенный так, чтобы привлечь внимание прохожих. Внимание Ричарда он привлек исправно; да что там — грубо схватил его за шиворот; так любитель подраться хватает за ворот случайного прохожего, сунув воинственную свою физиономию ему под нос, который бедняга тщетно пытается в вышеупомянутый ворот спрятать. В данном случае физиономий было много. Белловых физиономий, строй Беллов плечом к плечу, сущий колокольный перезвон, эхом отозвавшийся в голове Ричарда. Под каждой улыбающейся колокольной макушкой стояло (в различных вариантах) зазывное: «Позвони мне!»
Ричард нашел компромисс. Он снова спустился в метро и поехал в центр. Выйдя на Тоттенхэм-Корт-роуд, он зашел в магазин мужской одежды и купил черные брюки из плотной хлопчатобумажной материи, черный же блейзер, черную водолазку, чистое белье и носки. По-хорошему, он не мог себе этого позволить — но очень уж хотелось выглядеть презентабельно, чтобы удостоиться внимания прекрасной Урсулы.
Ричард проскользнул в «Силинк» без пяти семь и сразу же двинулся по коридору в мужскую уборную. Там он побрился с небывалой тщательностью. Раскорячившись в одной из кабинок, он не менее тщательно вытер подмышки влажной туалетной бумагой, перед тем как разорвать целлофановую упаковку и надеть обновки. Еще пять минут у зеркала — не обращая внимания на комментарии завсегдатаев «Силинка», выстроившихся в очередь за его спиной и желающих причесаться, просморкаться или понюхать порошку, — и Ричард готов как никогда. Твердой походкой он направился по коридору в сторону бара. Ни дать, ни взять нормандский рыцарь в битве при Ажинкуре.
Первая же стрела не заставила себя ждать: она была выпущена в него вертикально — барменом Джулиусом. Ричард вошел в бар, уселся на высокий табурет, положил локти на барную стойку и попробовал проделать хитроумные манипуляции по привлечению внимания Джулиуса. Минут через пятнадцать ему это удалось. Наконец рядом с Ричардом вырос рыжий газон, и Ричард как можно более небрежно вопросил: «Джулиус, привет — Урсулу не видел?»
— Нет, — ответил бармен, и его начальная «н» пронзила Ричарда от затылка до загривка; остальные две буквы прошли сквозь шею навылет. Ее здесь нет? Уже десять минут восьмого — она должна прийти. Неужели она играла с ним?
— Мне… — Но рыжий газон уже маячил в противоположном конце бара, обслуживая актера, самым значительным достижением которого на тот момент являлось озвучивание рекламного ролика лекарства от несварения желудка «Пепто-Бисмол».
Ричард обошел клуб «Силинк» размашистой, многолапой походкой разъяренного белого медведя. Он то бросался вверх по лестнице, то скатывался вниз, заглядывал в кафетерий, смахивавший на ресторан, и в ресторан, походивший на кафетерий; пару раз он даже громко называл ее имя возле дамской уборной, мягким голосом, весь дрожа, но в низкой тональности: «Уууурсуууу-лааа….»; до тех пор, пока из уборной не вывалились две карги от журналистики — у них аж ноги подгибались от смеха, так их позабавило его поведение.
Потом он немного поторчал в баре, сжимая и разжимая кулаки, точно сдавливая невидимые шарики из физически ощутимой резины беспокойства. Ричард не хотел, чтобы Кельберн, Рейзер, Слэттер и прочие прихлебатели пришли раньше нее — эта мысль была невыносимой. Он тут же утек бы в слив омерзения, напрямую соединенный со сточной канавой прошлой ночи. По меньшей мере он мог бы поговорить с Урсулой один на один, пока этого не произошло. Он мог бы воспользоваться преимуществами, данными ему тем самым листком клеящейся бумаги для записей.
Ричард вдруг вспомнил об отдельном кабинете, в котором вчера были они с Рейзером. А что, если она там? Одну из горничных, обслуживавших те комнаты, в свое время «обслужил» Белл, Ричарду с трудом в это верилось, но после того случая она решила, что теперь перед ним в долгу. Она сделала так, чтобы у Белла и его приспешников был доступ к копии ключа всякий раз, когда им хотелось уединения в стенах клуба.
Если Урсула там, то чем она там может заниматься? Последствия долгого дня размышлений, неуверенности и с трудом сдерживаемой похоти начали сказываться на сознании Ричарда. В голову ему лезли мрачные картины того, как Урсула делает минет — Рейзеру! Слэттеру! Кельберну! Или кому-то из еще более грязных и похожих на хорьков Белловых прихлебателей. В то время как видения, одно ужасней другого, громоздились в Ричардовом воображении, сам Ричард взгромождался по ступенькам наверх. Когда он вскарабкался-таки на пятый этаж, сердце его бешено колотилось, а зрительное поле то расширялось, то тут же сжималось, как мехи аккордеона. Ни секунды не колеблясь, твердой рукой он открыл дверь.
Заскрипели петли, дверь распахнулась — и он увидел, что в самом центре комнаты стоит раскладной столик, вокруг которого различил четыре мужских силуэта; мужчины играли в карты. По одежде и сложению Ричард узнал в них четверых приближенных Белла — Рейзера, Слэттера, Кельберна и Мирнса, того самого шантажиста. Но когда они обернулись посмотреть на непрошеного гостя, посмевшего им помешать, Ричард увидел четыре лица с практически одинаковыми чертами. Толстая шея, выступающая нижняя челюсть, высокий белый лоб, красные губы и широкая переносица. Словом, четыре Белла — колокольня какая-то. Четыре пары черных глаз долгую-долгую долю секунды созерцали Ричарда. Сверлили его взглядом, словно он был больной печенью и они намеревались произвести биопсию.
Зрелище этой колокольни оказалось столь непостижимым, столь необъяснимым, что Ричард привалился к стенке коридора и скорее губами, нежели голосом, проговорил «Что за хре…». Он потер глаза; его накрыли головокружение и тошнота, точно перед обмороком. Ноги его подкосились.
И тут чья-то твердая рука ухватила Ричарда за плечо, и до его ушей донесся уверенный и в то же самое время мягкий голос: «Ты чего, Ричард?» Ричард помотал головой, пелена перед глазами развеялась, он посмотрел в устремленные на него черные глаза и отпрянул было в сторону, но на сей раз перед ним стоял настоящий Белл, подлинный Белл. «Пошли, пошли!» — и Белл, подхватив Ричарда под мышки, поднял его. Подхватил и поднял с такой же легкостью, с какой другой поднял бы бесплатную газетенку, чтобы тут же отправить ее в мусорное ведро. В первый раз к Ричарду прикасался большой, сильный мужчина — и он нашел это обескураживающе волнительным: Белл был таким сильным, таким несокрушимым.
Белл опустил Ричарда в кресло. Прочие бросили играть в карты. Они по-прежнему сидели на стульях, развернувшись к двери, но клонами Белла быть перестали. Их лица снова были их лицами, и все они ехидно смотрели на Ричарда. Тодд Рейзер поднялся, стряхивая здоровенные хлопья пепла от «косяка» с маленькой своей коленки, и спросил: «Все нормально, юный Ричард? А то мне уж было показалось, что ты вот-вот вырубишься».
— Я… я в порядке, да. Все нормально. Просто слишком быстро поднялся по лестнице.
— Что, дыхалка подвела, юноша? Поди, всю ночь кутил? — Это было сказано с откровенной насмешкой. Сочувствовать Рейзер отродясь не умел.
— Н-нет, не в этом дело. Я просто слишком быстро бежал по лестнице, а потом увидел… вас всех… и вы были похожи…
— На что же? — спросил Слэттер, который в этот момент обкусывал желтыми зубами кожистую пленку вокруг ногтя. — На что — или на кого — мы были похожи?
— В-вы были похожи… — Ричард указал на большого человека, стоявшего в данный момент у окна, — …на Белла.
Комната взорвалась смехом, а точнее — саркастическим хихиканьем всех тембров, от хриплого, существительного «Хо-хо-хо» Слэттера до Рейзеровых подобострастных междометий «Хе-хе-хе»; даже Белл немного посмеялся. Ричард еще не отошел от шока, чтобы испытывать нечто вроде стыда; он все прокручивал в уме событие, произошедшее полторы минуты назад. Неужели в комнате и в самом деле было четыре Белла? Или ему почудилось? В конце концов, то, что Белл вездесущ, общеизвестно; и, раз уж у Ричарда была галлюцинация, то вполне логично, что привиделся ему человек, чьи поступки и мысли всецело завладели его сознанием. Кто еще это мог быть, если не Белл — разве что…
— Урсула! — воскликнул Мирнс-шантажист. — Как приятно тебя видеть, ты прекрасно, чудесно выглядишь! — Он поднялся и пошел ей навстречу. Ричард убрал ладони от лица и заморгал. Она стояла в дверном проеме, упираясь поднятыми над головой руками в дверной косяк и небрежно закинув ногу за ногу. На ней был усыпанный блестками топ из золотистой ткани; блестки украшали тонкую сетчатую материю, больше открывавшую, чем прятавшую, ее embonpoint[14]. Вдобавок на Урсуле была короткая юбка — да не просто короткая, а сущий ламбрекен[15] — полосочка плотной, похожей на парчу ткани, которая едва закрывала нижнюю часть живота, по обеим сторонам коего свисали расширяющиеся книзу лоскуты материи. Будь у Урсулы просто прямые ноги, картина и тогда выглядела бы весьма живописной. Однако благодаря той позе, что приняла Урсула, материя, ниспадающая по обеим сторонам, точно занавесом обрамила место, где соединялись ее роскошные бедра. У Ричарда невольно вырвался глухой стон.
Но никто, кажется, не обратил на это внимания; все, как один, поднялись навстречу Урсуле. Все по очереди целовали воздух в нескольких сантиметрах от ее щеки — лучшего способа показать, что каждый из них предпочел бы проникнуть на несколько сантиметров вглубь ее тела, и не придумаешь.
Ричард продолжал наблюдать за происходящим, бессильно лежа в кресле. Интересно, даст ли она знать, что сожалеет о несостоявшемся рандеву, что это все — трагическое и нелепое стечение обстоятельств? Она дала знать — вытянув руки в его направлении и шаловливо потерев пальцами друг о друга.
Много позже, тем же вечером, Белл со товарищи отправились на такси в восточную часть города. Кто-то пробовал было предложить поход в ресторан, но Мирнс, — в конце концов, это ведь была его вечеринка, — уже поужинал «с Пабло» (эвфемизм месяца, принятый в компании в значении «употреблять кокаин») и вовсе не хотел, по его собственному выражению, платить энное количество фунтов за заказ столика, еще столько же — за обслуживание, и в двадцать, вашу мать, раз больше — за игрушечную порцию еды. Поскольку все прочие тоже успели закусить в компании господина Эскобара[16], никто особо не возражал.
Вечеринка Мирнса началась точно так же, как и все прочие вечера Белла с его приближенными в клубе «Силинк», продолжалась точно так же, как и все прочие вечера в клубе «Силинк», и теперь близилась к своему логическому завершению: компания собиралась переместиться в Лаймхаус курить опиум.
Белл сидел на переднем сиденье и разговаривал с водителем. Ричард и Мирнс — на заднем, а Урсула — между ними; прочие разместились во втором такси. Понадобилось проявить небывалую предусмотрительность и даже слегка сжульничать, чтобы подобраться так близко к Урсуле. Не то чтобы она игнорировала его больше, чем обычно — она просто его не замечала.
Водитель — сириец средних лет, с усиками, как у карикатурного полковника Блимпа[17], животиком и усталым лицом — рассказывал Беллу длинную запутанную историю, запинаясь и с подлинным чувством; историю своего пребывания в тюрьме после покушения на президента Ассада. Казалось, Белл был тронут рассказом, кивал и что-то негромко одобрительно бурчал. Но Ричарду почти ничего не удавалось расслышать, потому что в машине работало радио, транслировавшее интерактивное шоу все того же Белла. Как обычно, Белл вел себя по-хозяйски: он бранил звонивших, провоцировал и игнорировал их. Радио-Белл и Белл, сидевший в машине, были полномочными представителями друг друга.
Ричард счел это странным, однако ни Урсула, ни Мирнс, казалось, ничего не заметили. В этот момент Мирнс рассказывал ей, как курил опиум в первый раз: это было в Патпонге, в компании тринадцатилетних проституток-тройняшек. Ричард буквально видел, как задвигались ребра Урсулы, когда она захихикала. Неизбежный аромат «Жики» густо заполнил пространство. Если бы фирма «Мэджик Три» выпустила освежитель воздуха с дистиллированным ароматом Урсулы, он бы назывался «Аромат перепиха». Член Ричарда к тому моменту превратился в железный брус, который зачем-то вколотили ему между ног. Он попытался сконцентрироваться на рассказе таксиста. Это было что-то вроде истории о том, как отважному, доброму и сильному духом человеку пришлось столкнуться с трусостью и холодной жестокостью. Некогда таксист, оказывается, был генералом ВВС и подружился с братом Ассада. Они вместе кутили в Швейцарии. Девочки и шампанское «Круг». Скоро генералу надоело такое упадничество, и он организовал переворот, который кончился тем, что его упекли за решетку на двенадцать лет. В тюрьме ему отбили ноги. Отбили мужское достоинство. Систематически выкручивали пальцы.
Все эти душещипательные подробности представлялись особенно гротескными сквозь наркотическую пелену, что обволакивала одурманенную кокаином хихикающую компанию во главе с Беллом с того самого момента, как они покинули «Силинк». Ричарду было не по себе. Белл продолжал сочувственно кивать. Такси тащилось через город. Когда они остановились на светофоре у пересечения с Кингстон-роуд, Ричард взглянул налево, и в зазоре между бетонными опорами автобусной остановки и покачивающимся задом двухэтажного автобуса увидел рекламный щит магазина нижнего белья, на котором была изображена молодая женщина с такими потрясающими формами (пышная грудь, соски напряжены, но не торчат), что Ричард стал всерьез опасаться за свои штаны.
Но позади остановки, в дверном проеме, среди мусора, сидел человек с ампутированными ногами и пил лагер «Энигма» из жестяной банки. Точно завороженный, смотрел Ричард на торчавшие в сторону дороги культи, защищенные кожаными колпачками. Ботинки безногого, подумал про эти колпачки Ричард. И попытался представить, что ему ампутировали мужское достоинство и на культю в паху нацепили такой же кожаный колпачок. В ту же секунду Ричард почувствовал, как спадает напряжение в его эрегированном члене. Такси поплелось дальше.
Два авто доставили Белла со товарищи на Миллиган-стрит, что близ Лаймхаусской дамбы, практически одновременно, и пассажиры высыпали на овеваемую ветром дорогу. С небесных хлябей заморосило, как частенько в Лондоне в эту пору; холодный влажный язык палого листа лизнул Ричарда в щеку. Он оглянулся, но никакого дерева поблизости не увидел; над ним возвышалась, будто собранная из конструктора «Лего», башня Канэри-Уорф с воздушным маяком, мигавшим тускло, как огни провинциальной дискотеки в небе большого города. Белл дал таксисту номер своего счета и расписался в планшет-блокноте в том месте, куда ткнул некогда выкручиваемый палец. Когда неудавшийся убийца Ассада уехал, Ричард обратился к Беллу:
— Ну, и что ты об этом думаешь? Впечатляющая история, так ведь?
— Какая история?
— Ну, про Сирию, про Ассада — таксист рассказывал.
— А, ты об этом, — честно говоря, я не особо вникал; хотел еще раз прослушать запись сегодняшнего шоу. Реплику, которую я произнес в адрес этой, как ее…
— Кого?
— Ну, актрисы, в «мыле» еще снимается.
Белл отвернулся от Ричарда и поднялся по нескольким ступенькам к двери дома, перед которым топтались его спутники. Ричард обернулся к Урсуле:
— Ты слышала, о чем рассказывал таксист? Хоть что-нибудь?
— О чем?
— Об Ассаде, о пытках… — Ричард не мог поверить, как это его так понесло, что он стал пытаться проникнуть в глубокие слои кожи этого вечера.
— Ну да, краем уха. Ужас, правда? — Урсула принялась рыться в сумочке в поисках сигареты. Челюсти ее пережевывали пустоту, как кокаиновую жвачку.
— Вот и я про то же. Подумать только: в мире происходят подобные вещи, а мы только и делаем, что говорим ни о чем, занимаемся ерундой, так, черкаем на обоях. Правда, иногда от этого становится не по себе?
На мгновенье Урсула перестала жевать. Она посмотрела на него долгим, спокойным взглядом. Заглянув в ее глаза, он увидел в них то, что всегда хотел увидеть: она его поняла. Она, подобно ему, сознавала, что вся эта бесконечная карусель вечеров ничего не значит; и у нее, как и у Ричарда, были возвышенные устремления. Жизненные устремления, которые Белл и компания сочли бы скучными и банальными, а на самом деле полные любви, надежности и доверия — то есть важнейших ценностей. Протянув руку, Урсула нежно потрепала светлые кудри Ричарда.
— Знаешь что? — сказала она.
— Ч-что?
— Ты славный.
Старик китаец, впустивший их в полусгнивший дом, был старым знакомым Белла. Белл справился о здоровье его внуков, расспросил про общих деловых знакомых. Пока они болтали, остальные толпились в коридоре. Постепенно все заползли внутрь. В свое время этот покосившийся дом начала девятнадцатого века, вероятно был частью старинных трущоб Лаймхауса, густо заселенного трехмерного пространства связанных между собой узеньких проходов, внутренних двориков и многоквартирных домов; теперь же он догнивал в одиночестве, кусочек прошлого, притулившийся на краю территории предприятия «Доклендс Энтерпрайз».
Китаец провел их сквозь вереницы комнат, не столько отделанных, сколько естественно впитавших поразительное множество стилей. В некоторых из них на стенах висели персидские ковры, в других — плакаты поп-звезд, но большая часть была освещена лампами дневного света и покрыта плиткой, точно туалет или марокканское кафе. Везде стоял запах сырости и затхлости, и повсюду были люди, люди и наркотики. Двое иранцев сидели на фаллических подушечках-валиках и нюхали героин; на обтянутом вельветином диване развалилась стайка девиц из приличных семей, — уместных тут, как стадо горилл в Риджентс-парке, — одурманенные амфетамином девицы хихикали и гладили волосы друг друга; а когда Белл со товарищи начали подниматься по ступенькам, на пути им встретились двое чернокожих, которые курили «крэк» через трубку, сделанную из бутылки из-под минеральной воды «Уолвик».
— Лично я предпочитаю «Эвиан», — съязвил Мирнс, проходя мимо.
— Чё ты сказал, сука? — прозвучало в ответ, но приятель говорившего прошипел: «Ладно тебе, Дэнни», и тот притих.
Впоследствии Ричард с трудом мог припомнить сам процесс курения опиума. Это происходило в мансарде, покатый потолок вынудил собравшихся принять самые причудливые позы: кто стоял прямо, а кто едва не лежал пластом. Китаец прислал к ним дочку — или, скорее, внучку, а то и правнучку, — на вид девочке было лет одиннадцать; она занималась тем, что набивала трубку, пускала ее по кругу, очищала от нагара и проделывала вышеописанное снова.
Ричард пялился на Урсулу, которая позволила Беллу положить ладонь ей на затылок и аккуратно поднести толстый чубук трубки к ее рту. Стоит ли говорить, что у этой процедуры был премерзкий подтекст. Ричард уставился на потрескавшуюся краску плинтуса и толстый слой пыли на абажуре. Снаружи, на улице, собака кричала на лающего пьяного. Густой, сладкий, осязаемый опиумный дым заполнял комнату. Вдыхая его, присутствующие ощущали, как снисходит на них умиротворение — так засыпают беспокойные дети, послушав на ночь сказку.
И тут вломился тот самый неф, что курил на лестнице, влепил Мирнсу зуботычину и был таков. Последствия этого инцидента оказались не столь бурными, как можно было ожидать. Белл вышел из комнаты и разыскал китайца-хозяина, который, в свою очередь, нашел вышибалу — здоровенного мальтийца по имени Винс; некогда ему раскроили надвое и неудачно собрали обратно нос.
Китаец проводил компанию вниз, сквозь анфиладу комнат, утешительно бормоча себе под нос. Белл отвечал: «Ничего, ничего, не важно…», таким тоном, как понял Ричард, чтобы китаец непременно догадался, что важно, и очень, и что надо непременно что-то с этим сделать.
Снаружи уже ждали несколько такси — кто-то, вероятно, вызвал их по мобильному. Компания расселась по машинам. Когда они отъезжали, Ричард заметил давешнего чернокожего — тот был на ступеньках, и Винс, кажется, душил его. Или, может, — мысль втиснулась в мозг Ричарда так же болезненно, как газы при несварении вдавливают живот в ремень, — Винс его трахал, а сонную артерию сдавливал для усиления оргазма.
И снова «Силинк» — на сей раз комната для игры в настольный футбол. Клуб приобрел у педофила — члена… парламента, огромный стол для этой игры. И теперь те, что страстно хотели — и кому не суждено было — стать мачо, гнули свои ограниченные члены, дергали за рычажки и со всей дури лупили по мячу. Пристроившись у стены так, чтобы никому не мешать, Ричард понял, что зажат между двумя парами брюк от дорогих костюмов, обладатели коих — во всех отношениях — физически слились с полустертыми двадцатисантиметровыми бесполыми фигурками, которыми они манипулировали.
Белл тем временем возле барной стойки беседовал с Треллетом, пожилым и одним из самых влиятельных людей из их компании. Треллет был актером-комиком, умудрившимся заработать приличные суммы, исполняя роль неуклюжего добряка — отца семейства в одном бесконечном ситкоме. На самом же деле, всякий раз после окончания съемок очередной серии, выражение лица Треллета магическим образом преображалось, становясь из крайне добродушного ограниченным и злобным. Внешне весьма похожий на карманный вариант Роберта Морли (когда тот играл бандита в старом фильме с Хамфри Богартом «Победи дьявола»), Треллет был таким же распутником, как и Белл, вдобавок откровенным извращенцем.
И вот теперь Ричард не смог удержаться, чтобы не начать прислушиваться к их разговору. И пока он слушал, его нежные уши, покрытые тонкими голубыми прожилками, стали сперва бело-розовыми от стыда, а потом приобрели сердитый густо-розовый оттенок бессильного гнева. Треллет рассказывал два случая из жизни на схожие темы — схожие тем, что этого человека прямо-таки заводило унижать всех, кому выпало несчастье с ним связаться.
Первая история была про юную аристократку-кокаинистку, которую Треллет заставил лизать кафель, себя, его, Треллета, — и только тогда дал лизнуть порошка. Вторая — еще хлеще: целое откровение. Треллет — и это было рассказано с тошнотворным апломбом — как-то содержал любовницу — взрослую женщину, страдающую синдромом Дауна («любовница» в данном случае эвфемизм, скорее речь идет о сексуальном рабстве), в квартирке по ту сторону моста Бэттерсибридж. Треллет, двигая тяжелой челюстью и весь дрожа от восторга, смачно описывал детали домашнего быта и прочих недобровольных «удобств».
Урсула Бентли облокотилась о перила, Венера в блестках, темно-русые волосы точно вторым корсажем обрамляют грудь и плечи. Хорошая штука — опиум; покуришь его, и тебе будет казаться важным только то, что действительно важно. По крайней мере, так думалось Ричарду; он собрался и отчаянным усилием воли заставил себя игнорировать тот факт, что Треллет, мягко говоря, злоупотреблял привилегиями гостя, — «Не поверишь, парень, у нее был такой влажный, такой липкий рот». Ричард поднялся. Миновав игровой стол, он направился к Урсуле, положил недрогнувшую ладонь ей на плечо и сказал: «Пойду-ка я закажу такси. Может, тебе тоже вызвать?»
Если бы Урсула в тот самый момент вела переговоры о прекращении подрывной деятельности Ирландской республиканской армии, Ричард удивился бы точно так же, как когда она обернулась и с улыбкой ответила «Да».
В ночь после вечеринки шантажиста Мирнса Ричард отправился до Кенсингтона, где жила Урсула, в одном такси с ней. Она снова поерошила его кудри, назвала «славным», коснулась губами его щеки и не выразила никаких возражений, когда он предложил пообедать вместе когда-нибудь «потом». Только когда такси отъехало от ее дома, он осознал, что в кармане у него лишь десятка да горсть мелочи. Урсула, как обычно, не пожелала внести свою лепту, а ни чековой книжки, ни пластиковой карточки у него с собой не оказалось. Таксист довез его до Ноттинг-Хилла, где вышвырнул из машины, и дальше Ричард поплелся пешком.
Он брел сквозь клочковатый утренний туман; прошел по Портобелло-роуд, мимо Фронт-Лайн, где уже в этот ранний час собрались наркоманы, безнадежно скрючившись в причудливых позах у букмекерской конторы, они сверлили глазами проезжающие машины, словно глаза их были лазерами наведения ракет «земля-порошок». Ричард знал, кто они и чего они хотят. И знал, что сам сродни им — даже больше, чем они могут себе представить.
До Хорнси он добрался, когда уже совсем рассвело; тело его приобрело контрастные оттенки, как после наркоза: голубые, красные, пурпурные, снизу, сверху, зигзагами; несмотря ни на что, в паху у него все равно точно рог торчал, он беспрестанно думал об Урсуле, представляя ее в различных положениях и позах; голой, одетой, прогнувшейся назад, — даже с ампутированными ногами, как давешний пьяница в Ист-Энде, — чтоб легче было в нее войти. Но, когда Ричард добрался-таки до кровати, то понял, что похоть переполняет его, — и он не может ни унять ее, ни сдержаться. Всего после трех прикосновений он исторг сперму, как исторгает из себя жидкость пузатый любитель пива в общественном туалете. Три сгустка спермы насквозь промочили его игрушечное одеяльце. Стоит ли говорить, что в то утро до редакции «Рандеву» он не дошел.
Осень покинула Лондон — залетная, сезонная туристка, одетая в рыжевато-коричневые опавшие листья от «Берберри», и оставила окутанный древней скорбной зимней стужей город прозябать в одиночестве.
На всякой улице бывает свой праздник, и вскоре Ричард Эрмес сменил любительницу перчаток на должности редактора рубрики «Премьеры». Повышение по службе принесло ему кое-какие привилегии, включая быстрое продвижение его кандидатуры для принятия в клуб «Силинк». Теперь ему требовалось всего пять минут, а не пятнадцать, как раньше, чтобы дождаться Джулиуса и сделать заказ. Также он приблизился к центру, к воющей пустоте тропического шторма, именуемого Белловой компанией. Теперь ему непременно звонили по телефону перед каждым сборищем. К нему так же, как к прочим, Белл относился свысока и иногда унижал его — но не больше, чем остальных.
В те вечера, когда у него не хватало наличности либо сил, чтобы подъехать в тот или иной ресторан, бар или клуб, где компания заседала в этот раз, ему неизменно звонили с мобильного телефона, и сквозь треск доносилось:
— Ричард? Да, это Белл. Мы тут подумали, что нам чего-то не хватает. Урсула тоже здесь, и она… ей… немного скучновато. Она сказала, что очень хочет тебя видеть.
— Серьезно? А где вы?
— Мы — в… Слэттер, где мы? — как Ричард ни напрягал слух, он не мог расслышать ничего, кроме хихиканья и гогота, и ничего похожего на обмен информацией, а потом: — Да, в греческом ресторанчике в районе Финч… — Далее непременно следовали гудки, оставляя Ричарда в состоянии адовых мук неизвестности — и вот непонятно ему: то ли хватать «Желтые страницы» и листать на предмет любого совпадения параметров поиска «греческий ресторан» и «Финч», то ли просто биться башкой о стену до беспамятства, чтобы забыть и себя, и ненаглядную Урсулу.
А иногда ему звонили и в самом деле посреди ночи, часа в три, в четыре или даже в пять, после того как Ричард доставит Урсулу домой (что ему теперь позволялось делать — за свой счет, естественно), или уедет домой сам, оставив ее с компанией. И снится ему, что он гонится за ней по прибрежному песку где-нибудь на Ривьере, — как вдруг настойчивая трель звонка возвращает его в потные пределы кровати, резко поднимает с постели, и он рывком снимает трубку с рычага: «Алё? Кт’это?», — для того лишь, чтобы услышать зловещее урчание гудков; когда он набирает 1471, леденящий душу механический голос произносит: «Вам звонили сегодня в четыре сорок пять утра; извините, номер не сохранился». Больше всего его убивало это «извините», как будто записанный на пленку голос на самом деле извинялся за то, что у него, Ричарда, возникли трудности.
В чем-то дела его пошли лучше, в чем-то хуже. Белл и компания всё так же развлекались жестокими проделками, как студенты-второкурсники, но в то же время Ричард добился кое-каких успехов в своих ухаживаниях за Урсулой, правда, продвигались эти ухаживания со скоростью улитки, накачавшейся туиналом[18]. Теперь почти каждую неделю они вместе обедали — в закусочной, располагавшейся примерно на одинаковом расстоянии от редакции «Рандеву» и ее кенсингтонской квартиры. Во время этих совместных обедов она была совсем другой — была той Урсулой, которую он хотел… хотел… хотел сделать своей женой. Она предпочитала сэндвичи с тунцом и майонезом на кусочке пеклеванного хлеба, в то время как он неизменно заказывал салями на кусочке ржаного.
Не было больше приступов неудержимой веселости, свойственных ей по вечерам; не было имиджа «дрянной девчонки», демонстрации ног и бюста и шепота вагины. Не было кокаиновой фальши, неестественно красных, цвета кетчупа, губ, блестящих, как кристаллы порошка на зеркале, глаз. И не было ее аромата — сладкого, неописуемо соблазнительного парфюма, так ей, по мнению Ричарда, свойственного, как Земле свойственна сила притяжения. Без этого запаха она была доступней — и невыразимо проще и роднее.
Она казалась игривой и веселой — даже стала понемногу рассказывать о своем прошлом, тем более милом Ричарду, что оно во многом походило на его собственное: отец, которого она любила, но после развода родителей чувствовала, что отдаляется от него, мать, от влияния которой она никак не могла избавиться, сестры, которые с удовольствием приезжали к ней в гости покутить в большом городе, а потом бранили ее же за отсутствие четких жизненных принципов, праздность и легкомыслие. Они с Ричардом сочувствовали друг другу, обсуждали мелкие невзгоды и разочарования. Ричард даже готов был обсуждать с ней последний выпуск ее колонки, невзирая на то, что вся эта писанина производила в мире шуму не больше, чем использованная ватная палочка, упавшая на сырое полотенце.
Зато во время таких обедов не упоминались ни Белл, ни его прихлебатели, и когда они встречались снова, в тот же или на следующий вечер в баре клуба «Силинк», куда что девалось. Те же мерзкие шуточки, те же жестокие розыгрыши. А Урсула вела себя так, точно и не было этих совместных обедов, точно они соприкасались в двух параллельных, никак не пересекающихся мирах.
Но проблема была еще глубже и тревожней. По мере того, как зимняя стужа пропитывала город, сперва проникнув в подвал, потом пробираясь выше, захватывая этаж за этажом, — пока не объединились холод земли и небесная стужа, приемы для прессы, презентации книг и премьерные показы достигли новых высот неистовства и бесполезности. Белл и компания теперь не только ужинали с Пабло — почти каждый день они пили с ним чай, а иногда — обедали и даже полноценно завтракали.
Главным образом потому, что в начале ноября у компании появился новый дилер, снабжавший ее кокаином. Нашел его Слэттер. Этот индивидуум был Слэттеровым подобием, — настолько усыпанным перхотью, что невольно представлялось, будто горстка его «продукта» добавлялась в качестве бонуса в каждый пакетик. Но, несмотря на подобные «бонусы», товар у него был — высший сорт: сливочно-белый, с крупными кристаллами, непримятый — и поставщик этого товара был всегда на связи, всегда готов — надо лишь нажать несколько прорезиненных кнопочек. В самом деле, Ричард так часто пользовался услугами дилера (как правило, по велению Урсулы), что вскоре был забит в группу «постоянные клиенты» в записной книжке мобильного телефона дилера, причем занимал одно из первых мест в «топ-десятке» «нюх-парада».
Ричард стал употреблять столько кокаина, что цифры на обратной стороне его кредитки из впечатанных превратились в рельефные и выпирали, как надпись «Поло» на мятных леденцах. Ричард стал употреблять столько кокаина, что порой по утрам его нос был забит так, что прочистить ноздри не удавалось ни острым ногтем, ни полными пригоршнями подсоленной теплой воды. Однажды он даже всерьез собирался дойти до устроенного в здании конюшни гаража в конце улицы, чтобы работавший там угрюмый автомеханик просверлил ему в носу дырку большего диаметра.
Ричард стал употреблять столько кокаина, что больше не беспокоился о возможности непроизвольной эрекции — скорее его беспокоило то, что очень скоро у него может не случиться никакой.
Но сильнее всего из последствий возросшего потребления кокаина Ричарда угнетало то, что участились происшествия, которые он окрестил — главным образом, чтобы убрать с них зловещий налет — «бель-эпок»[19]. А именно — поразительно похожие на реальность галлюцинации, начавшиеся с инцидента в «Силинке» в день вечеринки Мирнса-шантажиста, когда ему чудилось, что он видит знакомые черты Белла, но, приглядевшись, обнаруживал, что это кто-то из прихлебателей сверлит его злобным взглядом.
Однажды серым похмельным утром, проходя по Олд-Комптон-стрит, Ричард заметил широкую Беллову спину: он стоял, низко нагнувшись, у таксофона в том самом гей-кафе на углу Фрит-стрит. Ричард удивился — чего это Белл встал в такую рань, и, по мере того, как приближался к спине — одетой в модный костюм от Беррис в мельчайшую клетку «куриная лапка» — он пристальнейшим образом ее рассматривал, дабы убедиться, что не обознался. Он даже зашел за горизонт темной брови — медленно и аккуратно, как космический зонд ощупывал бы каждый изгиб на поверхности чужой планеты, чтобы не совершить серьезной оплошности.
Но это определенно был Белл. Оттенок кожи Беллов — точь-в-точь такой, какой бывает у внутреннего края старинной чайной чашки веджвудского фарфора, да и черные пряди челки обрамляли лоб точно так, как у Белла. И безымянный палец руки, сжимающей трубку, украшал такой же, как у Белла, перстень с печаткой. Ричард радостно воскликнул «Привет!», но уже между «при» и «вет» спина у таксофона обернулась, и, когда Ричард увидел лицо, на мгновенье ему показалось, что перед ним одновременно появились два набора знакомых черт: Белла и кого-то еще. И тут черты Белла рассеялись, и его взору предстало лицо Треллета. Продажный трагик принялся распекать Ричарда: «Чего это ты делаешь, кретин! Чего ты в меня вцепился, как… руки убери!»
Ричард, пошатываясь, побрел прочь. В голове у него отчаянно гудело. Он чувствовал себя не столько униженным, сколько болезненно дезориентированным и озадаченным. Вот оно как — и в то же самое время в воздухе витал всепоглощающий аромат «Жики». Почему от Треллета пахло духами, которые Ричард ассоциировал исключительно с Урсулой? Собственно, веских причин, по которым от него не должно ими пахнуть, тоже не было, но все равно это очень странно.
Опять же, тот случай, когда Ричард договорился встретиться с Тоддом Рейзером — поесть суши в маленьком кафе в подвальчике Японского центра на Брюэр-стрит. Ричард припозднился. В то утро у него было едва ли не самое тяжелое похмелье в жизни. Когда он высморкался в крошечную, размером с мыльницу, раковину своей квартирки в Хорнси, из носа пошла кровь, после чего он рухнул в обморок, крепко треснувшись башкой о батарею. Ричард не удосужился сходить в «Рандеву» — он попросту отправил факс, что «болен», с почты на углу. Впрочем, его коллеги не особо удивились: они были в курсе и знали, что делали, когда прикалывали фотографию Ричарда к доске объявлений, воткнув кнопку прямо в нос.
Помятый, согбенный, спустился он по узенькой лесенке в суши-бар. Над одной из лакированных шкатулочек с кусочками сырой рыбы склонился — Белл! Но, когда Ричард спустился, а палочки Белла поднялись к его лепным губам, изображение большого человека замерцало и стало рассеиваться, точно отражение на воде, по которой пошла рябь; черты его мгновенно преобразились. Там, где только что сидел Белл, ухмылялся Тодд Рейзер.
Ричард сглотнул и закачался. В воздухе витал всепроникающий аромат «Жики» — немного приторная композиция из цветочно-фруктовых ароматов. Ни слова не говоря, Ричард прошел мимо Рейзера и отправился в уборную, где закусил с Пабло.
Однако большинство «бель-эпок» имели место в клубе «Силинк» — и это случалось все чаще. Где бы Ричард ни был застигнут врасплох Белловыми прихлебателями — в ресторане, в комнате для игры в футбол или в каком-то из двух баров, — сперва он видел их в облике Белла, а уж потом — в их собственном. И при этом неизменно пахло «Жики», пахло Урсулой.
Это беспокоило бы Ричарда гораздо больше, не знай он, что с каждым днем становится все ближе к Урсуле, ближе к тому, чтобы сделать ее своей. Теперь она позволяла ему целовать себя в обе щеки при встрече, а при прощании — в уголок идеальных губ. День за днем, вечеринка за вечеринкой, «дорожка» за «дорожкой» кокаина, губы Ричарда становились ближе к губам Урсулы. Он знал, что нравится ей — да она этого и не скрывала. В его присутствии она больше не рассказывала о своих интрижках — и он был ей за то весьма благодарен. Не так давно она любила поговорить об амурных похождениях — нарочито и холодно, будто желала подсчитать точное количество желчной зависти, которая переполняла все его существо. Теперь же, когда Белл и компания чересчур увлекались своими дурацкими выходками, она частенько брала его за руку и уводила.
Знал Ричард и то, что он балансирует на грани. На работе возникли проблемы. Главный редактор так прямо и сказал ему: давай-ка не волынь, ходи на работу каждый день, просыпайся и сдавай материалы пораньше, иначе в следующем году вместо карьерного роста будет тебе карьерный спад. Редактор устроил Ричарду приличную головомойку, не забыв упомянуть, что его непутевого подчиненного часто видят в «Силинке» в компании Белла со товарищи: «Он, положим, и может себе это позволить — главред покосился на Ричарда сквозь стекла дурацких пятиугольных очков от какого-то дизайнера, — но он поднимает двести штук в год и пишет энное количество тысяч знаков в неделю… — Пауза повисла в плохо проветриваемом воздухе; Ричард думал: я болен, я болен, и все мы здесь больны… — Ну, а ты ему на что?»
«На то», решил Ричард, чтобы Беллу было кого помучить. Хотя он и презирал Белла и весь Беллов свет, его неудержимо влекло к этому ловкачу. Это привело к тому, что Ричард стал испытывать физическое отвращение к Беллу. Теперь он рассматривал его массивную, плотную фигуру не с благоговейным любопытством; нет, теперь это зрелище его откровенно волновало. Лезли всякие мысли о жесткости беллощетины, о плотности белого Беллова мяса, о запахе беллокрови и беллосекреций — мерзкие, тошнотворные мысли. Мысли о том, чтобы прикоснуться к пальцам, печатавшим эти нетерпимые мнения, эти предвзятые суждения, эти безосновательные инсинуации! О том, чтобы прижать губы к осиному жалу этих губ, с которых срывались такие оскорбления, и почувствовать своим языком напоенный ядом его язык!
Ричарду это снилось — и он с криком просыпался в предрассветную влажную и липкую зимнюю стужу.
Словно вызванная этой болезнью, питаемая ею, вездесущность Белла в медиапространстве еще никогда не представлялась Ричарду столь очевидной. Казалось, рекламные щиты, прославляющие его радиошоу, росли как грибы после дождя. Такой щит появился на Черинг-Кросс-роуд, и на Стрэнде тоже. Начиная с давешнего, на Юстон-роуд, — который Ричард непременно проезжал, возвращаясь в лихорадке домой в такси, в три, в четыре, а то и в пять утра, — треклятые щиты вытянулись цепью, точно маяки-напоминатели, дразня его всю дорогу до Хорнси.
Если Ричарду случалось подобрать в метро старый номер «Стэндарт», он непременно оказывался свернутым так, чтобы первой бросилась в глаза Беллова колонка. В обычном своем виде — маленькими параграфами фальшивого насквозь текста. «Неудивительно, что благоуханная Ясмин Филипс так полюбила группу-резидент клуба „Гриндлис Апстейрз“. Это ведь джаз-бэнд — а наша милая Ясмин страсть как любит подержать во рту чью-нибудь „трубу“…». Между параграфами, полными клеветы и поклепа, была вставка, вроде перманентного подзаголовка: звукоподражательное «БОМ» звонящего колокола. Никого этот колокол не спасал — лишь обрекал на отчуждение и индифферентность тысяч пассажиров метрополитена.
Перед Рождеством телешоу Белла стало выходить в эфир чаще. Каждый вечер Минотавр заседал в пластиковом лабиринте студии и заставлял своих «гостей» корячиться под шквалистым огнем ехидных вопросов. Каждое утро был повтор вечерней передачи, чтобы невнимательные зрители, наркоманы пульта, могли вдохнуть воздух Беллосферы и посмотреть нарезку из самой материи времени и пространства вместе со своим чудотворцем.
Ричард подумал о доме, о том, что неплохо бы туда съездить. Отец, в прошлом адвокат, ныне на пенсии, будет рад его видеть. Они будут играть в шахматы и ходить вдоль сонных полей в местный паб — пропустить по кружечке пива, пока жена отца готовит ужин. Впереди будет бежать и задирать ногу у каждой «живой изгороди» отцовский охотничий пес. Отец будет пускать колечки и струйки дыма из трубки. Ричард откровенно и подробно расскажет ему все, что случилось в Лондоне, и они это обсудят. Вдруг у отца найдется мудрый совет касательно того, как вести себя с людьми, подобными Беллу, и как относиться к их деяниям. С первым же глотком настоящего эля он ощутит, что этот мир намного реальней, чем вся лихорадочная возня Белла и компании. А на рождественский ужин будет индейка, притом с начинкой.
Это откровение пришло к нему в уличном сортире близ Ноттинг-Хилл-Гейт, и когда видения домашнего уюта рассеялись, он обнаружил, что привалился щекой и плечом к склизкому желтому кафелю. Человек, который присматривал за туалетом, тряс его за плечо: «Ты это, начальник… береги свой хрен и ширинку застегни, — посоветовал он, — а то оглянуться не успеешь — отрежет какая-нибудь блядешка и завтра продаст на блошином рынке Портобелло-роуд!»
Ричард решил уехать из Лондона на следующий день после корпоративной вечеринки по случаю Рождества. Но до этого он хотел еще раз попытаться покорить вершину под названием Урсула. Если ничего не выйдет — что ж, он смирится, будет жить дальше, развяжется с Беллом и компанией, начнет ставить перед собой более высокие цели, смахнет пыль с прежних идеалов и заново загорится идеей карьерного роста.
Он позвонил ей в то спокойное время, в которое у него должен был быть обеденный перерыв, пойди он в то утро в редакцию.
— Урсула?
— Да?
— Это Ричард.
— Ричард — как приятно тебя слышать! Ты едешь в загородный дом Кельберна на уик-энд? Вроде как ему привезли из Сандоза, ну, из Швейцарии, немного «экстази», и мы там оторвемся по полной.
— Не знаю. Вообще-то я в пятницу собирался к папе ехать. Рождество ведь.
— Да, да, правильно. Я должна была об этом подумать…
— И, если честно, Урсула, Кельберн у меня уже в печенках сидит.
— Я тебя понимаю.
— Урсула…
— Да?
— Мне бы хотелось увидеться с тобой перед отъездом.
— Сегодня вечером я буду в клубе. Я встречаюсь…
— Наедине, Урсула. Вдвоем. — Он слышал ее дыхание на том конце провода. И живо представил себе, как вздымаются и опадают теплые полукружья ее груди, обтянутые нежной кожей.
Затем она ответила:
— Я тоже хотела бы встретиться с тобой наедине, Ричард.
— Тогда, может, поужинаем вместе? Вдвоем, скажем, в четверг?
— Давай. О’кей, тогда заезжай за мной, и вообще не пойдем в «Силинк». Я должна была ужинать с Беллом и каким-то телепродюсером из Эл-Эй, но, думаю, они и без меня обойдутся.
Повесив трубку, Ричард отправился в мужской туалет, заперся в кабинке, прислонился к стульчаку, облегчился, а потом высыпал прямо на продукты своей жизнедеятельности три четвертых грамма кокаина. Высыпав порошок, совершив грязное жертвоприношение, он помолился над стульчаком — помолился о том, чтобы с Урсулой все получилось, и поставил на кон свою бессмертную душу.
Три дня спустя в домофон квартиры Урсулы Бентли позвонил совершенно другой Ричард Эрмес. Он стряхнул с себя кокаин — так космические сквозняки смахнули рубку ракеты-носителя «Сатурн-V». Пабло было отказано в ежедневных ужинах, и чистая душа подтолкнула мозг и тело Ричарда к решительным действиям. Он переделал кучу работы, прибрался в квартире, уладил с банком вопрос о превышении кредита и позвонил обоим родителям. Он чувствовал себя не менее добродетельным, чем какая-нибудь девяностолетняя монахиня в закрытом монастыре, готовая со спокойным сердцем предать Богу девственную свою жизнь. Словом, как это ни парадоксально прозвучит — он был готов к любви.
Они ужинали в «Брассери Сен-Квентин», что напротив Бромптонской часовни. Начнем с того, что Урсула вела себя спокойно и сдержанно — как всегда за обедом. Никаких разговоров про Белла и компанию. Ричард нервничал, но внешне оставался спокоен. Он успел хорошенько изучить и официантов, и карту вин. К тому времени, когда они добрались до главного блюда (по крайней мере, он, ибо Урсула довольствовалась закуской из тертого пармезана на листьях салата и собиралась заказать еще порцию), он понял, что все идет как надо. Она смеялась его шуткам, сама вставляла в разговор остроумные замечания; раз или два ее коленка под столом коснулась его колена.
В тот вечер Урсула была хороша, как никогда. На ней было классическое «маленькое черное платье» из трикотажного бархата, черные замшевые туфельки на высоком каблуке и чулки цвета сепии — он знал, что это именно чулки, когда следовал за ней по ступенькам «Брассери», и хотел заглянуть за верхнюю их, швов, границу. Ее грудь вздымалась и опадала в бархатных тисках лифа платья. Локоны темно-русых волос были собраны на затылке. Карие глаза с золотой искрой смотрели на него так, как никогда раньше — приятно-изумленным и откровенно-чувственным взглядом.
Но, несмотря на все это, Ричард был потрясен до глубины души, когда, после того, как он заказал кофе, она подалась к нему, лишний раз продемонстрировав пышность и округлость груди, накрыла его ладонь своей изящной ладошкой и сказала: «Давай не будем заказывать ликер — у меня дома есть бренди, Белл угостил…» И обдала его ароматом «Жики» — так львица испускает запах мускуса.
Ричард вскинул руку, чтобы остановить недавно отошедшего от столика официанта. «П-принесите счет, пожалуйста», — пробормотал он, запинаясь, точно Оливер Твист в работном доме.
И отчего он решил, что она богата? Квартирка, в которую Урсула впустила Ричарда, была не больше его собственной — просторная комната, крохотная кухонька и ванная. Сквозь высокое окно с грязными и мутными стеклами виднелось то, что звалось чудовищным, нелепым оксюмороном: световая шахта.
Имелись и кое-какие предметы мебели: раскладной диван-кровать, кресло, комод. А из шкафов торчали, свисали со спинок стульев и подлокотников кресел, и просто валялись на полу экстравагантные одежды, в которых она представала в своей клубной ипостаси: микроскопические юбочки, блестящие чулки и обтягивающие топы без бретелей. С абажура настольной лампы также свисала пара чулок — для того ли, чтобы приглушить свет, или нет, Ричард так и не понял.
И над всем этим, точно пороховой дым над «ничьей землей», витал пронзительный аромат «Жики», — запах был такой силы, что Ричард почти видел молекулы бергамота и лаванды, которые пенились и кипели в спертом воздухе комнаты.
Она принесла с кухоньки бутылку бренди. Ополоснула два пыльных бокала и налила себе и Ричарду — примерно на четыре своих изящных пальчика. Сойдя с помоста каблуков, она пересекла комнату. Нажала какие-то кнопки, и из невидимого динамика полился голос трип-хоп-певицы Мартины: «Уверен, что хочешь быть со мной? — мне нечего дать тебе/Когда есть доверие — будут и радости/Когда нам станет страшно — будем слушать ритм…» Трип-хоп, танцуя и подпрыгивая, разносился по комнате. Урсула опустилась на диван-кровать, пригладив выцветший ворс обивки гладким своим задом. Ричард присел рядом.
Сначала он чувствовал неловкость — пиджак его лучшего костюма был тесноват и натирал под мышками, но, как только он обнял Урсулу, руки уже чувствовали только ее, только сладострастность ее скульптурного тела. Его губы припали к бесконечной сладости ее пахнущих маринадом губ. Это произошло так естественно, что обольщение показалось ему вполне взаимным. Язык Урсулы скользнул ему в рот, и он встретил его своим. Желтоголовый уж обвился с гадюкой.
Не было неуклюжей возни, не было неловкости — он ласкал ее полную грудь, гладкие бока и нежную кожу бедер.
Теперь они лежали поперек дивана. Руки Урсулы шарили по его талии, вытаскивая из брюк подол рубашки, — прохладная рябь ее ладоней на горячей плите его живота. Он застонал, продолжая целовать ее. Она застонала в ответ. Мартина ответила им обоим протяжным стоном. Его пальцы нырнули под подол ее платья. Он ощутил кружевные резинки чулок и наконец нашел то, что искал. Ему не верилось, что у нее такая нежная кожа. Все еще не веря, он ощутил прикосновение шелка над лобковыми волосками, над раскрывшимся лоном.
Они разделись. Она просто села на кровати, вытянула руки и стащила платье через голову. Ее лифчик и трусики были из атласной, цвета слоновой кости, ткани. Его эротическая фантазия сидела тут во плоти, рядом с ним. Словно, мастурбируя ночи напролет на ее образ в своих мечтах, он создал ее из своего ребра — в которое превратился его член.
Он снял рубашку и брюки. И улыбнулся ей — но она была не в том настроении, чтобы улыбаться; она просто притянула его голову к своей. Его пальцы нашли ее соски, пощекотали их, ущипнули. Она застонала. Потом его руки переместились южнее, потянули за резинку ее трусиков. Он схватил ее за причинное место, точно за загривок. «Трахни меня, — сказала она, — пожалуйста, трахни». Она высвободила его член. Руки ее были точно сухой лёд. Он издал гортанный стон, приподнялся, срывая последние листья одежды со стебелька ее тела. Она откинулась на кровати, выгибаясь и взбрыкивая. И снова ухватила его, помогая проникнуть в себя.
Едва погрузившись в нее, Ричард понял: в лучшем случае три рывка — и он кончит. Он почувствовал, как сперма поднимается вверх, будто шипучая жидкость в пробирке. Ему надо что-то сделать, что-то придумать, чтобы избежать самого главного, самого обидного фиаско в своей жизни. Надо как-то ослабить, притупить желание. Чей образ может послужить ингибитором этой бурной химической реакции, выключателем для этого электрического импульса? Нет, не уютное, пухленькое тело прежней подружки — какой-никакой, но все-таки эротический образ, пусть и далекий от совершенства, что лежало сейчас под ним, тяжело дыша и умоляя его продолжать. Нет, не серьезное, морщинистое лицо отца — хотя и эта картина слегка поумерила его пыл. Нет, это должно быть что-то по определению неэротичное, что наверняка отобьет всякую охоту….
— Трахни меня! — умоляла Урсула. Пятки ее лежали на его ягодицах, она подталкивала его: не останавливайся. «Трахни!» — дышала она ему в загривок. Ногти ее впились в его голые плечи. И тут его осенило: и это было единственным правильным решением. Белл! Он станет думать о Белле. О высоком белом Белловом лбе; Белловых влажных похотливых губах; черных-черных волосах Белла. Он станет думать о Белле — и тем самым сможет умерить свою прыть и избежать непоправимого.
После чего Ричард смог приступить к атаке на распростертое под ним тело с новыми силами и несокрушимой уверенностью в своих силах и возможностях.
Губы ее открылись. Глаза закатились в экстазе. Волосы раскинулись веером вокруг головы. Черты ее начали преображаться… нет, не преображаться — изменяться! Они менялись, становились жестче, грубее. Лоб Урсулы вдруг сделался выше, массивней и белее, лобные доли — выпуклыми. Менялись и руки, которые обнимали Ричарда: они стали больше, мускулистее и волосатее. Он попытался вырваться, но ноги, обхватившие его повыше ляжек, тоже стали крупнее и сильнее. Ужасающе огромные, они захватили его в плен. С благоговейным ужасом наблюдал Ричард, как прекрасная грудь, которую он еще мгновенье назад целовал и прикусывал, точно высохла и превратилась в две твердые, широкие суповые тарелки, а возле каждого соска теперь торчал завиток жестких черных волос.
Член Ричарда мгновенно опал. Он не просто выскользнул из мягкой своей темницы — его оттуда выплюнули. И голос, умолявший Ричарда не останавливаться, больше не был голосом Урсулы, он сделался низким и гортанным — голос был не развязным, но проклинающим.
Белл прижал Ричарда к своей могучей груди. Поерошил его светлые кудри и потрепал по щеке грубой своей дланью. Ричард не понимал, как он может слышать слова Белла — ведь по комнате метались его собственные жалобные крики. «Вот и хорошо, теперь ты тоже с нами, — сказал большой человек. — Я уж думал, что ты никогда не сможешь — не будешь принят в компанию по-настоящему».
И, когда он притянул Ричарда к себе, тот вновь ощутил в горле щекочущий аромат «Жики». Только на сей раз аромат этот не был сладким — он был горьким, как кокаин.
ДОКТОР МУКТИ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ
Перевод Александра Беляева
Доктор Мукти
Доктор Шива Мукти был психиатром скромных достижений, зато чрезвычайных амбиций. Хотя вряд ли бы он с этим согласился. Даже если бы его старинный друг Дэвид Элмли, человек на редкость мягкий, заметил ему: «Шива, ты психиатр скромных достижений, зато чрезвычайных амбиций», — в протест на это последовала бы целая тирада. Счегоэттывзял? Скромного по чьим меркам? По какой шкале? А насчет скачущих эттыкчему? К тому, что я смею полагать, будто заслуживаю лучшей участи, чем вшивое консультирование в «Сент-Мангос»? Для тебя это слегка не по-английски? Не крикет, а, старичок?
При всем желании Элмли, ситуация была отнюдь не гипотетической. Сносимый потоком самооправданий, он пошел на попятный. «Да ладно, Шива, ты же понимаешь, я не это имел в виду. Не принимай мои слова близко к сердцу, не стоит так переживать из-за того, что некоторые жители Индии любят крикет больше англичан».
Но это только изменило направление муссона в голове Мукти, теперь под воздействием взрыва негодования ветер погнал волну на бедные огни святого Элмли.
— Крикет! Индия! — бросил он. — Ты в этом вообще ничего не смыслишь. Поверь, Дэвид, если бы у тебя был отец вроде моего, ты бы не говорил таких вещей.
— Каких вещей? — Элмли тут же начал медленно соображать.
— Чрезвычайные амбиции, скромные достижения. Ты понятия не имеешь, что у меня было за детство на самом деле, под каким давлением я работал, насколько весомые ожидания мне необходимо было оправдать. Меня даже на ночь одного не отпускали, пока я не поступил в медучилище, пока мне не исполнилось двадцать! Отец взвалил мне на плечи целый воз своих нереализованных амбиций, я все время пытался выжить под тяжестью заблуждений этого старого дурака касательно смысла жизни, прогресса, науки, которые давили на меня как мешок с цементом. Дэвид, в детстве он вечно допекал меня: Шива, не делай этого, Шива, не делай того, Шива, почему ты не садишься за уроки? Ведь скоро экзамены, Шива! А теперь ты говоришь, что мои амбиции чрезвычайны, но поверь, я сдержан и скромен! Если бы я не прошел через все это дерьмо, то попросту не вставал бы по утрам, а плыл по течению к этому зачумленному муравейнику.
Мукти дико глядел по сторонам на покрытые «Формайкой»[20] столы в столовой для сотрудников «Сент-Мангос». Помещение пережило принудительное преобразование пять лет назад, когда больницу поглотило заведение под названием «Хис-Хоспитэл». Преобразование приняло форму тонких листков того или иного материала, пришпиленных, прикрученных или просто прибитых гвоздями по всем свободным нишам и ложным проемам в стенах, что обнажило ту малую степень исключительности, которой обладало неоготическое здание. Выдававшиеся колонны забрали в деревянные чехлы, тогда как контрфорсные арки были свалены в кучу среди такой же кучи ДСП. Краска во многих местах облупилась, и до сих пор все достигнутое только создавало бестолковую горячку в этом и без того нездоровом начинании. Теперь невозможно было отличить пол от потолка или одну стену от других. Блестящие синие поверхности столов выглядели как увеличенные люминесцентные лампы, меж тем как менее яркие лампы дневного света свисали наподобие прикрученных столов с потолка. Еду подавала бригада с островов Самоа, их желтые лица маячили среди клубов вонючего пара, словно лунные блины, проглядывающие сквозь несущиеся облака.
Дэвид Элмли работал неподалеку от «Сент-Мангос» на Кливленд-стрит. Двадцать лет он занимал свой маленький уютный офис. Вместе с напарником он разрабатывал строительные скобяные изделия — щеколды, ограды, почтовые ящики; сам Элмли специализировался по дверным петлям, спрос на которые был устойчивым с тех пор, как он бросил колледж в начале восьмидесятых. Если бы у него было хоть немного чувства юмора, он бы, вне всяких сомнений, говорил о своем призвании: ломиться в закрытые двери мне ни разу не приходилось. Но он так не говорил, ибо чувства юмора был лишен напрочь. Не обладая особо цепким умом, глубоко погруженный в себя, он был склонен к мрачному и деструктивному абсурдизму.
Дефилируя в сторону Шарлот-стрит во время обеденного перерыва и вдруг оказавшись временно не при деньгах, вместо того чтобы дойти до банкомата, Элмли чаще корректировал русло своего долговязого течения в направлении госпиталя и выбирал опцию задешево поесть в компании Мукти.
Дэвид Элмли был в курсе всего, что касалось детства Шивы Мукти. Они ходили в одну среднюю школу. Обе семьи жили всего в нескольких дверях от Кентонпарк-Кресент. Не то чтобы старшие Элмли и Мукти тесно общались между собой, но Дэвида и Шиву связала дружба, которая, невзирая на разницу в темпераментах друзей, часто распространяется и на старших и в конечном итоге длится всю оставшуюся жизнь.
Дружба началась со взаимной неприязни. Признание этого охарактеризовало бы их как очень честный дуэт, на самом деле, и, возможно, вместо того чтобы ограничивать свои ассоциации, это открытие могло бы спровоцировать своего рода откровенность и переоценку ценностей, что является основой настоящих дружеских отношений. Но между ними не было той степени искренности — скорее много чего, достойного крепких выражений. У Элмли осталась болезненная бережливость единственного ребенка, маменькиного сынка, который отказывался взрослеть. В итоге теперь, в сорок с небольшим, у него сохранились рвение и широко распахнутые глаза на все. Если на горизонте маячило что-то новое, Элмли говорил: О, я возьмусь за это/раздобуду/пойду туда. Но на самом деле он никогда ни за что новое не брался, и весь этот маскарад с очевидной напускной бравадой был лучшим подтверждением его робости и упрямства.
Мукти, который также был поразительным образцом подавленного развития и единственным ребенком в семье, обладал полностью противоположным характером. Прикрываясь поношенным плащом, скроенным из замшелого встречайте-по-одежке и отделанным побитым молью я-это-я, он был одновременно переменчивым и твердым неофитом. Тяготы и лишения детства Мукти наверстал, когда поступил в медицинский колледж, став большим кутилой и законченным бабником. Он даже ухитрился жениться на втором году обучения. Надо ли говорить, что сделал он это без ведома родителей и семейного астролога. Вне каст, вне расовых предрассудков и, по сути, не от мира сего.
Одним ударом он превратил в руины тысячи лет жизни по канонам брахманов. Его приятелям было хорошо известно, что новоявленная миссис Мукти — белокожая блондинка, поскольку она работала уборщицей в том месте, где они жили, но менее ясным было произошедшее с ней в этой связи. В одну из недель Мукти с важным видом прохаживался по коридорам колледжа, демонстрируя всем свою невесту, и вскоре старшие Мукти уже были в курсе всего.
Он был малявкой с непропорциональной, устрашающе широкой грудью, замшевые ботинки и блейзер строгого типа (с гербом Общества садоводов Кентона); а она была тучной и абсолютно дикой, несмотря на прозрачное сари и полное отсутствие познаний в английском. Мукти не вписывались в общепринятый образ смиренных индусов, когда — под влиянием недавно вышедшего документального фильма о Махатме Ганди — они казались нацией послушных владельцев торговых ларьков, ютившихся по углам. Уже неделю спустя эта анемичная Сандра пропала и больше не появлялась. Ходили слухи о ребенке — жертве аборта, усыновленном или, возможно, попавшем на небеса, — но сам Шива ничего об этом не говорил, а приближенные к нему, учитывая, что они находились в этом положении исключительно благодаря физическому соседству, предпочли не рисковать и лишний раз не испытывать его печально знаменитый взрывной характер.
Да, Шива Мукти был змеиным отродьем; билингв, иммигрант в первом поколении, один из кончиков его языка был высунут в сторону предков, тогда как другим он лизал мороженое, которым угощал его окружающий мир. Он был падок на все новое — на культовые американские фильмы, японские штучки, итальянские тачки. Небольшого роста, он всем своим ростом олицетворял воплощенное пренебрежение; густые блестящие иссиня-черные волосы по склонам надбровных дуг; отвисшие мочки ушей — признак божественности по индийским представлениям, — покрытые мельчайшими черными волосками. В молодые годы, когда, порвав с семьей и бросившись в водоворот жизни, Шива Мукти был готов заграбастать широко раскинутыми руками все, что только попадется, его манера поведения была одновременно живой и обаятельной, но со временем наступила пора пересмотра взглядов и неоправдавшихся ожиданий, которая, подобно винтовой двери, ударила его прямо по лицу.
В тот момент, когда Мукти сидел напротив Дэвида Элмли в столовой для персонала в «Сент-Мангос» и в сотый раз распинался по поводу того, как плохо с ним обращались в местном отделении государственной службы здравоохранения, его улыбка, порой очаровательно кривившая рот, теперь неизменно выражала гримасу застывшей неудовлетворенности.
Почему же Мукти и Элмли так упорно разыгрывали откровенность и доверительность? Опасное положение. Серая, зыбучая субстанция, лежащая в основе стольких взаимоотношений.
— С места не сдвинусь, — повторил Шива и откинулся на спинку пластикового стула, ковыряясь в одноразовой пластмассовой мисочке с шоколадным муссом мелкими злыми движениями пластмассовой ложечки.
— Понимаю тебя, — откликнулся Элмли, — а что на это скажет Свати?
На самом же деле он был крайне далек от того, чтобы понять своего друга. Если бы Дэвид Элмли проснулся однажды утром в объятьях Свати Мукти, ему бы не потребовалось оправданий, чтобы остаться в таком положении в этот, а также и во все другие дни, пока не протрубит последняя труба и долговязые, белесые трупы не встанут из-под земли, дабы уравновесить таким образом множество пропащих душ.
Дэвид Элмли, не нуждаясь в окончательном визуальном подтверждении, прекрасно знал, что длинные, почти цилиндрической формы груди Свати Мукти венчались огромными, гладкими, синевато-коричневыми кругами, а на вершине каждого круга был вытянутый, розовато-коричневый сосок, предназначенный для самого Элмли. Когда Свати кормила грудью своего единственного ребенка, Моана, Эмли думал, что растает от любви к ней. Запах ее грудного молока, розовая вода, хна и благовония, ее крошечная головка кофейного цвета, еле заметная под складками свободно свисающего сари, выражение лица Свати — царственное и вместе с тем трогательное и ранимое, — все это чудесным образом доводило Элмли чуть ли не до слез умиления, сопровождавшихся сильной эрекцией.
С этих пор Дэвид Элмли поклонялся алтарю Свати. Он предпочел бы каждый день совершать перед ней пуджа, поднося ей все, что бы она ни пожелала, вроде экзотических фруктов или дорогих цветов. Он мечтал будить ее по утрам заунывными звуками старинной флейты, затем омывать ее великолепные члены, облачать ее в лучшие, самые белоснежные одеяния, а потом просиживать дни напролет в душном доме Мукти, овевая свою богиню окрашенным черной краской страусиным пером. С наступлением вечера Элмли распределил бы остатки даров среди остальных поклонников культа — Шивы, Моана, пожилой миссис Мукти, дядюшек и тетушек — перед тем как оседлать свой велосипед и укатить в направлении Тутинга, где он обитал в гордом одиночестве.
Чего Дэвид Элмли не ожидал никогда — в основном потому, что он сам всего шесть месяцев как был женат на докторантке из Японии, жаждавшей получить вид на жительство в Великобритании, — так это того, что сексуальная жизнь Шивы и Свати уже более ста лет назад заехала в пустыню, подожгла свою машину, засунула себе в рот ствол пистолета и спустила курок. Понятно, что всякая личная жизнь заканчивается подобным образом — в далеких, всеми забытых уголках и в соответствии с личным разумением.
Они по-прежнему чувствовали привязанность друг к другу, потому что между ними действовала мощная сила притяжения. Даже если бы Шива выглядел как Квазимодо, Свати все равно считала бы его недостатки достоинствами. Отчасти причиной был ребенок, поскольку даже в семь лет он продолжал спать в их спальне. Они не выдворили Моана из своей постели, когда ему исполнилось шесть, и в результате сейчас он почивал на надувном матрасе у ног родителей, как будто был одним из тех странных человекоподобных псов, что охраняют надгробья средневековых рыцарей. Но, помимо этого, ребенок был предлогом, как нередко случается. Это само по себе объясняет тот факт, почему многие люди, будучи взрослыми, ощущают дискомфорт и в качестве родителей.
Откровенно говоря, идти Моану было особо некуда. Дом в Кентон-парк-Кресент всегда служил кратковременным пристанищем для родственников, понаехавших со всех концов света, где их застала индийская диаспора. Пожилой мистер Мукти, — хоть и был строг к сыну и его соседям (на протяжении многих лет он чувствовал, что его председательство в местном сельхозсовете давало ему превосходное право указывать, какие растения надо высаживать, а какие нет), — тем не менее относился к своей роли отца семейства со всей серьезностью. Дилип Мукти был старшим сыном глубоко консервативного священника из известного на весь мир храма Дурга в Варанаси. Он потряс брахманов тем, что сбежал в северо-восточную часть Лондона, где стал региональным менеджером транспортной администрации города. В глазах отца то, что поначалу Дилип Мукти собирался изучать абсолютно никчемную западную метафизику, ни в коей мере не оправдывало. Что же касается двух друзей-иммигрантов, работавших на автобусах под его началом, — у них были две причины ненавидеть Дилипа. Неприятие субординации и наиболее остро ощущаемое презрение к тем, кто давит на принявших свободное решение. Ведь он любил каждую сторону своей работы, а к автобусам питал особенно теплые чувства.
Поскольку у его родителей имелось еще двенадцать отпрысков, толкучка, в которой рос Шива, была такой, что в раннем детстве он думал, будто все домочадцы принадлежали и служили его родителям, ибо еда подавалась на тонких металлических тарелках за двумя длинными столовскими столами. Гостиная представляла собой квадратную комнату, битком набитую разнокалиберными креслами и диванами, где могло уместиться около двух десятков что-то жующих прямо со сковородки, рагахамминг, пялящихся в ящик родственников. Если передвинуть одно кресло, то сдвинуть с места другие уже не получится, поэтому уборка комнаты напоминала собирание гигантского паззла.
Теперь, тридцать лет спустя, ситуация изменилась, но не кардинально. После золотой лихорадки осталось ощущение, что клан Мукти, замахнувшийся на Кентон, Хэрроу, Вэмбли, Стэнмор и Бернт-Оук, был сборищем наиболее упрямых и экономически нежизнеспособных родственников. Действительная степень родства тех, кого на семейном жаргоне собирательно именовали «тетки и дядьки», вызывала сомнения в случае с двумя из них, относительно же трех остальных вообще переставала существовать. Была бы такая возможность, они бы заняли две спальни, пожилая миссис Мукти оккупировала бы третью, оставив одну так называемым хозяину и хозяйке дома.
Но как бы то ни было, при всех неудобствах и компромиссах семейной жизни абсолютным фактом оставалось то, что Шива никогда не видел свою жену голой. Если бы Дэвид Элмли это знал, возможно, его ревность испарилась бы без следа. Если бы он добился расположения Свати, а она бы изменила ему, унизила или попросту бы его не замечала, он в бешенстве дошел бы до того, что стал бы рассылать ее фотографии в откровенных позах в соответствующие издания, типа «Неземные азиатские крошки», существуй подобные в самом деле.
Да, Шива никогда не видел свою жену голой. В самом начале их отношений, сразу после всех этих слащавых свадебных церемоний в храме Нисден, он попытался размотать ее сари при ясном свете дня, находясь в сомнительном уединении в их новой спальне. Она рассмеялась ему в лицо и бросилась за дверь. Этот смех не был смехом из-за стеснительности, застенчивости или нервов, смехом, который можно было бы по меньшей мере расценить как намек на то, что в лучшем из возможных эротических миров она с криками счастья позволит ему овладеть ею в тот момент, когда они прислонятся к мягкой вогнутости необычного, застегивающегося на молнию, покрытого стеганым нейлоном отдельно стоящего гардероба, про который в 1972-м мистер Мукти думал, что за такими будущее в смысле хранилища одежды. Отнюдь. Это был наглый смех в лицо, типа, да-кто-ты-такой-чтобы-ко-мне-прикасаться. Смех, выражавший киловатты сексуального превосходства и самоуверенности. Что весьма странно, ибо, насколько знал Шива, до него у Свати был только один кавалер, отъявленный кузен Джаеш. Именно эта связь рассматривалась желанной и крайне властной Свати в качестве единственной возможной, и в дальнейшем благодаря этому выяснилось, почему ее родители дали свое согласие на такой компрометирующий брак с Шивой Мукти.
Когда же их соитие в конце концов случилось, его сюжет стал очевиден очень быстро и сразу был увековечен в камне подобно индийским храмовым барельефам эротического характера; любому обладающему чувством собственного достоинства каменотесу не составило бы труда изобразить сцену подобной статики. В абсолютной темноте, под пуховым одеялом, указательный палец Шивы скользил вокруг клитора Свати, точно приклеенный к этому безрадостному зуммеру, в то время как двумя другими пальцами он проникал в ее влагалище. Спустя полчаса таких упражнений у нее либо случился бы оргазм, ложный оргазм, либо она возбудилась бы настолько, что впустила бы его; однако к этому времени окончательно разочарованный Шива сподобился лишь на пару резких толчков и сразу кончил. Уфф! После того как Свати забеременела, проникающий аспект этих схваток дождевых червей в суглинистом мраке их брачного ложа исчез окончательно, замененный редкими и вымученными стараниями ее тонких пальцев, словно Свати была утомившейся монашкой, доившей корову Шива, который в свои юные годы скакал как молодой румяный сатир по лесистым склонам кавказской буйной плоти — в рыжих веснушках, украшенной родинками, златовласой, в синих венозных прожилках, — всегда полагал, что, когда он наконец заживет спокойной совместной жизнью с индианкой из высшей касты (и это представление сохранялось на протяжении короткого брака с Сандрой), ему откроются доселе не слыханные сексуальные удовольствия, исполненные того древнего изощренного атлетизма, что заставит его рыдать от невыразимой радости жить такой жизнью. Он считал само собой разумеющимся тот факт, что правильные индийские девушки — вроде Ринас и Лакшмис, с которыми он делил медовые печенья и за которыми гонялся с визгом по кустам на семейных сборищах — непременно, пока он учится в медицинском колледже, будут изолированы в своих спальнях на вторых этажах тихих родительских загородных домов, где их обучат самым нежным и наиболее умопомрачительным методам того, как доставить удовольствие будущим мужьям. Между тем он был вынужден испытать на себе безграничную на вид готовность белых девиц ко всем видам случайных случек: к куннилингусам и фелляциям, когда он сильно натирал себе подбородок, а его пенис был надраен до блеска; к отвратительной содомии, изредка к ударам хлыста — короче, ко всему, что, по всей вероятности, могло их завести.
Но его старшие двоюродные братья, как оказалось, врали, рассказывая сказки о немыслимых наслаждениях и бесконечной радости, царившей в их брачных ложах. Это было — осознал Шива с ужасающей ясностью, как человек, приговоренный к пожизненному заключению, когда за ним в первый раз захлопывается дверь камеры — сплошной бравадой, глупой маской, которую надевали все эти люди и без которой не представляли своей жизни; все у них было одинаково замечательно, животы их жен вздымались и опускались с безмятежным безразличием океанской мощи.
Но у Шивы не было даже этого. Он не получил ни капли того уважения, коим до сих пор пользуется в своем кругу отец их огромного шумного семейства. Единственный раз Свати была беременна Моаном, и этого ей вполне хватило — как еще мог Шива расценить ее пассивность? А когда Шива пришел к тому, что стал пересматривать всю свою жизнь — и заодно всех представителей класса британских индусов, — его поразило, что он и его жена были в самом авангарде социальных перемен, боровшихся за инертное демографическое течение, и они вступили в тихий бассейн стагнации деторождения, держа сына перед собой наподобие небольшого плавательного матраса.
Если бы точно так же обстояли дела с карьерой Шивы, находись он в авангарде психиатрии, тогда по меньшей мере неудовлетворенность его жизнью дома была бы компенсирована. Но его карьера — на начальном этапе рванувшая с места со стремительностью красной спортивной «альфы-ромео» — завязла в «Сент-Мангос». В «Сент-Мангос», где в тускло освещенных коридорах стоял соответствующий мерзкий запах, где уровень кадрового обеспечения настолько низок, что как-то раз Шива обнаружил себя поправляющим смирительные рубашки на особо буйных пациентах, как если бы он был заказным психотическим портным; в «Сент-Мангос», где коридоры и приемные увешаны акварельными плакатами с успокоительными. В «Сент-Мангос», где Шива встречал своих больных в холодных каменных нишах, и его не удивляло, что те принимали его за горгулью.
Он подумал, что с ними все по-прежнему. Один со светлой головой, похожей на луковицу, жидкими волосами, свисающими на высокий лоб; у другого вздута верхняя губа, словно он умудрился проглотить собственную кустистую бороду; и еще женщина — одна из множества — с лицом, на котором читалось горе, глубокие морщины тянулись вниз по ее щекам под действием гремящей и грохочущей машины саморазрушения, но, вопреки этому, она продолжала при помощи помады вырисовывать дуги а-ля Купидон в уголках бесстрастного и не внушающего любви рта. Вот с таким человеческим материалом ему приходилось работать, и Шива с трудом скрывал презрение, которое испытывал к своим пациентам. Нельзя сказать, чтобы кто-то из коллег это заметил хоть на секунду — внешне доктор Мукти оставался таким же добросовестным врачом-трудягой, каким был во времена стажерства и затем, когда работал в регистратуре. Но внутри он сгорал от несправедливого отношения к своему должностному званию. Кого и на какой предмет консультировать? Явно не эти человеческие отходы, скопившиеся снаружи за его дверью в целлофановых мешках. На что, в самом деле, походила бы такая консультация? Предпочитаете голоса или тремор? Тахикардию или недержание? Манию или неспособность сидеть спокойно в кресле по причине того, что я прописал вам такие транквилизаторы, от которых все ваши мышцы превратились в мясной фарш?
В первый год своего назначения Мукти старался. Он брал кипы записей и сидел допоздна, прорабатывая до мелочей все эти «консультации». На собраниях отделения он спорил по поводу финансирования и навлек на себя неприятности со стороны администрации. Его неисчерпаемая энергия била через край — он был всего-навсего человеческим аппаратом, которым управлял демон амбициозности.
Достаточно скоро Шива Мукти понял, что у него нет на это никаких оснований. Ему приходилось без конца зубрить в надежде, что когда-нибудь он столкнется со случаями синдрома Капгра (какие-то незнакомцы присваивают себе личины членов семьи несчастного больного), или де Клерамбо (удивительным образом, эту обманутую женщину страстно обожал министр иностранных дел Франции), или даже эпидермозоофобии (субъект заражен морскими вшами либо еще более экзотическими паразитами), но суровая действительность заключалась в том, что в основном пациенты, которые проходили в его двери — или которых приводили либо привозили, — были крайне находчивыми да к тому же ужасно многословными шизофрениками.
Шизофреники с их лишенными метафор описаниями собственных похожих на лабиринты тайн, инопланетных похищений и побегов из тюрем; шизофреники с их утомительной неуемностью и еще более невыносимым самобичеванием; с их ужимками, гримасами и наклонами с целью выяснить, не спрятано ли под столом у Мукти подслушивающее устройство; шизофреники, которые, точно сумасшедшие попрошайки, вечно среди нас и для которых — Мукти, надо отдать ему должное, все же был толковым и честным психиатром — он мог сделать так немного.
Само собой, он мог умерить пыл, мог насильно держать человека в клинике, мог гарантировать, что сотрудники социальной службы начеку и что бедные черти не займутся самолечением вплоть до полного забвения, но он не мог исцелить их — это было в руках Бога или богов, случайностей или Случая. И если это было в руках божества, то довольно остроумного, распределяющего души больных согласно тому же правилу, что обычно применялось в самых тупых представлениях, а именно Правилу Трех Третей. Одна треть больных была неизлечима, другую можно было с помощью лекарств довести до еле ковыляющей видимости нормального состояния, а третья в конечном счете неожиданно выздоравливала.
Шизофреники — что особенного мог с ними сделать доктор Мукти? В конце концов, этими проблемами занимались целые исследовательские институты, клиники для проведения группового психотерапевтического лечения в неформальной обстановке, в которых работали исключительно профессионалы; на этом поле было довольно тесно, места попастись оставалось немного. Кроме того, теперь все стороны сходились в том, что если прорыв когда-нибудь наконец случится, то в области фармакологии. Такой всем-психиатрам-психиатр, как он, вряд ли мог внести значительный вклад. Не существовало оригинального способа общения с теми людьми, которые считали, что чем больше чешешь, тем меньше чешется, равно как не было революционной диеты для тех, кто полагал, что все продукты производят в подземных жилищах насекомых в Минроуде.
Как же Шива Мукти мечтал заниматься своим делом в каком-нибудь прошлом столетии, когда поле психиатрии было еще довольно закрытым. Когда по ничем не огороженной саванне умственного беспорядка рыскали мелкие стада кочующих врачей и охотились на всё, на что только могли. Ни у кого в то время не хватало безрассудства и смелости остановить любого грамотного человека, творившего что ему вздумается в свое удовольствие. Гипноз, электричество, водометы — на сколько фантазии хватит, все что угодно можно было выдать за уникальную терапию. Черт, да сам Фрейд отстаивал целебные достоинства кокаина, прописывал множество уколов, вызывая у пациентов привычку к наркотикам! И что бы стало с методикой «лечения разговорами» Фрейда, будь она представлена в наше время с присущим ему уровнем недоверия, с нынешними практикантами, сующими таблетки, которые им втюхивают господствующие фармакологические корпорации? Без сомнения, знаменитый житель Вены был бы посрамлен, разбит в пух и прах и выгнан из города вместе со своей кушеткой. Даже в шестидесятые — когда маленький Шива еще обдирал коленки на кентонских заборах — любители Р. Д. Лейнга и Зака Баснера могли вбить себе в голову, что шизофрения вообще не является заболеванием организма.
Мысли о Лейнге, обретавшемся на периферии Лондона, в Шенли — в этом сборочном конвейере заблуждений размером с индустриальный квартал, — принимавшем ЛСД с пациентами, уже повидавшими гораздо больше, чем им бы хотелось, чьи галлюцинации были положительно испорченными, заставляли кровь Мукти свертываться от неприятного возмущения. А это воплощение абсурда Баснер! Он не только управлял фальшивым «Домом идей» в Уиллесдене, но к тому же самым наглым образом поставлял на рынок «самораспознающее средство» — «Ридл», — которое так хорошо расходилось, что это позволило жирному мошеннику обзавестись солидным отдельным домом в Хэмпстеде, где он и проживает по сю пору. Баснер, рисковавший — как считали многие — такими выходками испортить себе репутацию, появлялся даже на праздничных игровых шоу, где произносил тупую дежурную фразу: «Мы же не помогаем никому из сидящих здесь, не так ли?» И все же, несмотря на это — или, скорее, к сожалению, благодаря этому, — Баснеру удавалось восстанавливать свою репутацию снова и снова. Все это указывало на то, что медицинский истеблишмент, чьим олицетворением скорее была бы вежливая, сдержанная, седовласая фигура, исполненная несказанной добродетели, вместо этого оказался легковерным разиней, страдающим гебефренией. Даже сейчас, в свои семьдесят, Баснер до сих пор ведет консультацию в «Хис-Хоспитэл», сидя грудой мяса на вершине гейзера из талантов помоложе. Баснер, подобно знаменитому шуту, он все еще скачет по больничным отделениям и палатам, постукивая неудачливых соседей свиным пузырем, полным неистового веселого нахальства.
Конечно, Шива Мукти знал, что это неслыханное изобретение — свиной пузырь, полный нахальства. Поскольку, хоть он и ни разу не довел свою мысль до конца — и лучше бы ей оставаться в состоянии зародыша, не то его быстро уличат в слепом фанатизме, — было очевидно, что Баснер еврей, а раз так, то у него непременно есть выход если не на светило, готовое поспособствовать его продвижению, то хотя бы на некое число друзей, занимающих высокие посты и способные обеспечивать уверенность в том положении, которое он занимал.
В Королевском Психиатрическом колледже не было блата для индусов, а если и был, то не нашлось никого, кто протянул бы Шиве свою волосатую руку помощи. В любом случае, представить такое казалось почти невозможным, поскольку всяких индусов там было столько же, сколько богов в индуистском пантеоне. Индуизм — Шива признавал это с сожалением и гордостью одновременно — даже не начал существовать в качестве самостоятельной религиозной доктрины вплоть до сумерек господства в Индии Британской империи, и он не походил на все эти монотеистические верования по типу финансовой пирамиды, в соответствии с которыми некий бог с большой дубиной дубасил робких прислужников, имевших дубинки поменьше. О нет.
Шива надеялся, что найдутся какие-нибудь индусы, разделяющие взгляды зилотов, раздающих листовки в храме Нисден и помогающих мирным гражданам с северо-востока Лондона попасть на самолет, прилететь в Дели, пересесть на внутренний рейс, приземлиться в Варанаси, взять такси и отправиться голыми руками ровнять с землей храмы. Однако он не мог связать этих людей с тем типом преданного содействия, которое снискали Баснер и его приспешники за их полную трудов жизнь.
Итак, Баснер сидел наверху, в гнезде своего офиса на десятом этаже «Хис-Хоспитэл», слетая вниз только за тем, чтобы прочесть почетную лекцию в Королевском Обществе охраны подёнок, или чтобы принять участие в книжной презентации, или засветиться в телевизоре лишний раз, но теперь в качестве почетной говорящей головы, которая могла вещать таким образом, что зрители понимали все ровно настолько, чтобы чувствовать себя умными и быть в курсе дела.
Баснер смотрел на покрытый зеленью «Хис» и представлял себя — или это Шива его так представлял — владельцем городского особняка, окидывающим взглядом свой личный парк. Между тем находящийся ниже Мукти барахтался в заполненной одноокисью канаве, погребенный под спудом пыльного кирпича и склизкого известкового раствора; подчиненный, он трудился невыносимо долгие часы на передовой войны за психическое здоровье без всякого признания со стороны коллег, общества, пациентов или семьи. Его отец обычно усматривал резон в том, чтобы не заострять внимание на профессии сына Шивы, связывая свое неодобрение с низкой — и тем не менее разрушительной — тактикой осыпать похвалами работу героических хирургов, которые, по словам пожилого мистера Мукти, вынимали кусочки мяса из одних людей и заменяли их кусочками, вынутыми из других (умерших) с таким видом, словно работали в центре быстрой починки выхлопных труб.
Тем не менее все эти вещи — неприятные пациенты, разрушающаяся инфраструктура, нелепая зарплата, недостаточно высокий статус — можно было бы сносить, если бы не то обстоятельство, что Зак Баснер, не особо страдавший невниманием к коллегам снизу, настаивал на укреплении отношений. Если бы Баснер игнорировал его, Шива бы с радостью сбросил того со счетов в ответ, но на конференции по аффективным расстройствам пожилых людей Баснер явно счел обязательным для себя подойти к Шиве и представиться.
— Вы, надо полагать, Шива Мукти, — заметил он. — А я ваш сосед сверху из «Хис-Хоспитэл»… Зак Баснер.
Какое презрение вызвало у Шивы то, как Баснер произнес собственное имя в конце предложения. Подобная манера типична для знаменитостей, вечно пробующих и зондирующих нерв признания у своих собеседников, словно настоящие дантисты-знаменитости.
— Знаю, — ответил Шива.
— У нас там пациентов всего ничего в том месте, которое по праву принадлежит вам — полагаю, у вас те же проблемы?
— Да.
— Вероятно, вы пользуетесь теми же методами, что и мы, и при лечении сохраняете всю документацию?
— Иногда, но если попадаются трудные случаи, мы отправляем их к вам.
— Ха-ха, — скорее произнес, чем рассмеялся Зак Баснер. — Думаю, вы мне нравитесь, Мукти.
Широко улыбаясь, он сматывал и разматывал пушистый кончик своего мохерового галстука. Шива отметил, что у Баснера тоже была эта идиотская черта абсолютно самодовольных людей, убежденных, что любой спад низкопоклонства, обычно проявляемый теми, кто плясал под их дудку, означает еще более глубокую и сильную степень почтения.
Что за идиот, подумал Шива, пожимая протянутую ему мягкую бледную руку. Он отошел в сторону от Баснера и влился в стадо специалистов по психическому здоровью, которые толклись и вертелись вокруг пещеристых площадей, где проходила конференция, и предвзятому глазу могло показаться, что они не сильно отличались от тех, кого им приходилось пользовать.
Баснер начал отправлять к Шиве пациентов за повторным заключением, и в это молодой психиатр поверить не мог. Когда он вышел в вестибюль, где его ожидал луковоголовый овощ со товарищи, Мукти обнаружил там парней и девиц, которые его почтительно обступили, помахивая планшетками с диагнозами, точно флагами. Своих больных говорунов Зак Баснер снабжал сопроводительными письмами — короткими, выдержанными в разговорном тоне и, на взгляд Шивы, слишком гномическими.
«Дорогой Шива.
Это Дэвид Можжевел, им владеет ощущение, будто он человек-креозот: сотворен из креозота и имеет миссию нести людям свет креозотного учения. Вне сомнений, он шизоид, к тому же у него явные атипичные симптомы, связанные с гормональными нарушениями. Мне на глаза попалась Ваша статья в БЖОП[21], и я подумал, что вы согласитесь взять на себя риск дать повторное заключение по этому случаю.
Заранее благодарю,
Зак».
Поверить нельзя! Вот так, на голубом глазу! Решительная, ленивая, самонадеянная, фамильярная, самовлюбленная уверенность. Шива Мукти посмотрел на человека-креозота, который стоял кое-как, точно поставленный прямо утробный плод, что было типично для псевдопаркинсонизма, связанного с лечением нейролептическими средствами. Человек-креозот оглянулся, в его глазах зияла абсолютная пустота, радужные оболочки напоминали бурые круги из креозота вокруг гнилых черных зрачков. «Проходите, пожалуйста», — в итоге с неохотой сказал Шива.
Вернувшись к себе, Шива уселся, в то время как человек-креозот еле втащился в помещение, своими лапами, как у сумчатых, хватая прохладный воздух. Чтобы хоть чем-то занять себя во время этого минимарафона, Шива бегло пробежал записи абсолютно стандартной истории болезни. Мог ли Баснер — рискнул предположить он — подкинуть ему этого пациента совершенно искренне, вникнув в суть бумаг и на самом деле уважая его взгляды? Шива мысленно вернулся к содержанию «Заметок об эндокринном нарушении и симптоматическом приукрашивании, характерном для шизофренических отклонений». Его доводы были просты, но, возможно, в сильной степени подрывали традиционные методы диагностики.
Моффат, врач одного из отделений, как-то попросил Шиву осмотреть молодую женщину, у которой был привес на начальной стадии и жуткие прыщи, но все это впоследствии привело к госпитализации в связи с тем, что у больной начались острые боли в левой части головы, сонливость, рвота и диплопия. К этому добавилась апоплексия гипофиза, и Моффат заключил, что дело пахнет опухолью. Однако сканы выявили только крошечный геморрой, что совершенно недостаточно при таких тяжелых симптомах.
Но кроме того, у нее были яркие галлюцинации — и это объясняет, почему Моффат обратился к Мукти — она кричала, что огромный сахарный столп медленно выходит из ее влагалища.
— Что ты об этом думаешь? — спросил Моффат, чем-то напоминавший мелкий рыжий шотландский прыщ, глядя на мертвенно-бледные прыщавые подушечки на щеках пациентки.
— Какого размера ваш сахарный столп? — уточнил Шива у молодой женщины как ни в чем не бывало.
— Ууууу, — простонала она, — просто огромный на самом деле, вздымается все выше и выше, такой изогнутый на конце, и потом резко ударяется о землю, а вокруг — ящики для всякой всячины, люди, города…
— И что, хорошая штука, ну, этот столп?
— Золотая, — пропела женщина, судорожно хватаясь вытянутым пальцами за складки больничной простыни. — И мальчикам в два раза больше подходит для забавы.
На соседней койке женщина, чьи выпученные глаза и желтушная кожа свидетельствовали о болезни желчного пузыря, прижимала к тощей шее плюшевого медведя и в ужасе указывала на Шиву.
— Ее владение английским, — сказал Шива Моффату, когда они стояли в нише, неподалеку от которой располагался огнетушитель, — выше всяческих похвал.
— Неудивительно, она преподаватель английского по профессии, — ответил Моффат.
Шива пробежал глазами записи — в истории болезни молодой пациентки не было ни слова о психических расстройствах.
— Ну и что с ней делать, как ты считаешь? — спросил он.
— Пока у тебя не возникло никаких иных соображений, я начну с глюкокортикоидных гормонов.
— Мм-м-м… — протянул Мукти. — Вероятно, глюкоза поможет как-то справиться с сахарным столпом.
— А?
— А что, если — в качестве предположения — она ощущает — не полностью на сознательном уровне, но каким-то участком мозга, — что у нее недостаток сахара. Это всего лишь интуиция, но мне в прошлом попадались пациенты, у которых были симптомы, включающие психотические фиксации на чем-то конкретном, и, когда они получали требуемое, им становилось лучше.
— Ты думаешь, это тот самый случай? — Моффат в недоумении посмотрел на Шиву.
— Поглядим, так или иначе, ты все равно собирался дать ей глюкокортикоиды. Понаблюдай за ней и сообщи мне, если столп исчезнет.
Спустя неделю или около того Моффат зашел к Шиве и рассказал, что столп действительно пропал.
— Теперь она в абсолютно здравом уме, поразительно, но, как только мы ввели раствор, столпа словно никогда и не было.
— Что ж, как я уже говорил, прежде мне встречались подобные вещи, хотя это пока самый яркий случай. Возможно…
Он решил посвятить Моффата в содержательную часть выгодного дела.
— Нам стоит написать статью вместе. Ты возьмешь на себя физиологическую часть, а я — все, что связано с психиатрией. У меня есть друг в БЖОП, который на это клюнет.
Моффат сразу же согласился, и Мукти вдогонку спросил его:
— Каков прогноз насчет этой женщины со столпом?
— Боюсь, она не жилец. У нее все же обнаружилась опухоль, правда, не в голове. Жаль, милая была женщина.
Но с человеком-креозотом дело обстояло совершенно иначе. В отличие от пациентки Моффата, у него было множество форм — болезнь проявлялась ощутимыми нарастающими волнами вопреки чувствительности, и каждая из них грозила приковать Шиву Мукти к его креслу. Помимо этого имели место калоотправления и мочеиспускания, потоки рвоты и еще чего похуже. Человек-креозот вонял, как лисица, и был безумен, как горностай. Он весь кудахтал и дергался, пока нескончаемый поток монотонной брехни про креозот извергался из его рта, напоминавшего по форме почтовый ящик.
Креозот-то креозотом, но что в нем такого? Антисептик естественного происхождения, или, возможно, человек-креозот был поглощен его свойствами, связанными с защитой древесины? Шива наклонился вперед и услышал лучезвуковое гудение.
— На желтое, наносить на желтое… — говорил человек-креозот. — Не облегчает, но помогает. Собрать с куста, все обобрать, сжечь куст, будет хруст, из этого сделать креозот, налить его в маленькие коричневые бутылочки, вот, и продавать в старой аптеке в Читтлингтоне, на этой стороне деревни, а не там, где клуб.
— В самом деле? — уточнил Шива.
— Выпускают в маленьких коричневых бутылочках, этикетки клеят вручную, стоит недорого. Вы, — сказал он многозначительно, — должны попробовать.
— Непременно, — промычал психиатр.
Рядом с беднягой несло еще сильнее: гнилостный привкус мешался с другими, более резкими запахами. Шиве предстояло произвести медосмотр, он не мог упустить ни малейшего отклонения, даже при том, что направление было от его главного соперника. Как же Шива мечтал иметь медсестру — или лучше дезактивизационный аппарат, — чтобы осматривать вот таких. Но увы: он мужественно достал резиновые перчатки из дозатора и профессиональным движением надел их на руки.
— А теперь, — обратился он к зловонной кожуре человеческого существа, — я намерен устроить вам полное обследование, мистер… — Шива посмотрел в записи: — Можжевел. Не могли бы вы снять с себя одежду?
Ничего такого он не мог. Он нуждался в крепких, сильных руках, чтобы расстегнуть брюки, затянутые упаковочной лентой. Нуждался в крепком плече, к которому можно было бы прислониться, пока, шатаясь, не удастся освободиться от свисающей кучи ваты и бинтов. Нуждался в умелом руководстве, перед тем как отделаться от кучи сбившегося нейлона, образовавшего бандаж в верхней части его туловища. В итоге человек-креозот оказался колченогим и заброшенным куском плоти в мокрой молескиновой рубашке. Теперь запах разложения был настолько силен, что проходившая мимо медсестра заглянула к Шиве, обеспокоенная тем, не нужна ли ему помощь. Вместе они уложили человека-креозота лицом вниз на кушетку и осторожно задрали рубаху.
Он не просто бесчувственно бормотал об антисептиках, он отчаянно в них нуждался. Доктор Мукти не мог припомнить, доводилось ли ему видеть до этого заражение такой степени тяжести. В принципе нельзя было вообразить, чтобы плоть человеческая находилась в таком состоянии, не говоря уже о том, чтобы столкнуться с этим прямо здесь и сейчас. Это была инфекция стран четвертого мира, из серии тех, что поражает детей, которые, к примеру, не смогли вымыть какой-нибудь леденец, прилипший к пляжному мячику, поскольку не способны добраться до ближайшего зараженного источника воды по причине слепоты, вызванной трахомой.
Шива вместе с медсестрой с трудом промыли ободранные участки кожи и удалили пятна гноя. Сестра орудовала антисептическими салфетками, пока Шива с помощью пинцета отлеплял клочки септической корпии, оставшиеся от прежних неудачных попыток врачебного вмешательства. Человек-креозот вел себя на удивление спокойно, не двигался, а просто бормотал, уткнувшись в обмотанный бумагой подголовник: «Один, два, ну, возможно, три слоя необходимо нанести, чтобы на весь год защитить древесину более грубой фактуры…» — от его хриплого, но уместного выступления шелестела бумага, издавая звук, похожий на вибратор духового инструмента казу.
Закончив процедуру, Шива и медсестра подняли больного на ноги. Шива завязал на себе одноразовую одежду, а сестру послал надеть халат. Пока он заполнял необходимые бумаги, человек-креозот упорно продолжал: «Купили три бутылочки в аптеке и трехдюймовую кисточку у старика мистера Пиндара, торговца скобяными изделиями, но не хватило, ведь забор-то тянется вокруг всего кладбища, потом еще на вход…» Моффат сам напишет, когда человек-креозот прибыл в отделение. По правилам его нужно поместить в малую психиатрию. Шива вдруг вспомнил о той загадке, которую они разгадывают с Моффатом: что, если, чисто случайно, человек-креозот сможет послужить подсказкой?
На следующий день Шива пошел проведать нового пациента и обнаружил у него Моффата.
— Баснер направил к тебе этого тупицу? — Моффат кивнул рыжей утиной башкой в сторону человека-креозота.
— Мистера Можжевела? Да, он попал сюда из Хиса.
— Спрашиваю, поскольку у меня есть подозрение, что ты хочешь подверстать его под свою теорию.
— Ума не приложу как. — Шива нагнулся посмотреть на лицо Можжевела, но оказалось, что вчерашний человек-креозот спал.
— Тут шизофрения с богатой историей, вряд ли его навязчивые креозотные идеи связаны с нехваткой креозота в организме.
— Ты уже говорил это, Мукти, говорил, но дело в том, что, когда его вчера к нам доставили, он был в совершенно ясном уме. За ночь его состояние ухудшилось, хотя теперь я думаю, это был жар, вызванный заражением, и мы, так сказать, нанесли на него второй слой после утреннего обхода. Ему было значительно лучше, и он смог мне все о себе рассказать; похоже, он церковный староста одной из деревень в Букингемшире.
— Это уже кое-что.
— Что?
— Ничего, — задумчиво ответил Шива. — У преподавательницы английского на самом деле был недостаток сахара, но она не была сумасшедшей, начнем с этого. Если ты говоришь, что Можжевел повернут на почве креозота из-за инфекции на спине, как, черт возьми, объяснить вот это! — Он потряс листами перед лицом Моффата. — Душевнобольной со стажем в двадцать лет?!
— Не знаю, но, может, дело в том, что эти симптоматические приукрашивания случаются независимо от основной патологии. Короче, я лишь хочу, чтобы твой ум был готов к любым неожиданностям.
— Есть. А почему бы тебе не подготовить к любым неожиданностям свою ванную, а, Моффат? Посмотри только на его ноги. — Шива ткнул пальцем в сторону черной пятки, торчавшей из-под простыни.
— О, боже, — вздохнул Моффат. — Попробуй заставь сестер мыть этих пациентов — проще позвать работников зоопарка.
Позже в тот же день Шива сидел у кровати Дэвида Можжевела.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он как всегда идеально поставленным тоном, выражающим спокойную заботу.
— Гораздо лучше, спасибо, доктор, — ответил Можжевел. — Похоже, эта чертова зараза у меня на спине слегка ударила по моим мозгам. Вчера, попав к вам, я нес всякую ахинею?
— Ну, кое-что из ваших слов… как бы это сказать… звучало странно, но, несомненно, имело определенный смысл. Особое внимание вы уделяли креозоту.
— Тут нет никакой тайны, доктор, моя работа напрямую связана с креозотом, ремонт здания церкви и тому подобное.
— Да-да, я понимаю, но, по словам доктора Баснера — помните его? — вы называли себя «человеком-креозотом» и утверждали, что у вас миссия нести высшее знание об этом всему человечеству, в чем якобы и заключается спасение для всех нас.
— В этом тоже нет ничего удивительного, доктор… доктор?..
— Мукти. Я психиатр-консультант здесь, в «Сент-Мангос».
— Дело в том, что я не только церковный староста, но еще и проповедник, и, вероятно, в лихорадочном возбуждении мои обязанности перемешались у меня в голове?..
— Может, и так.
— Мукти! — Моффат окликнул его, выходя из палаты. — Как ты считаешь, какое лечение назначить Можжевелу?
— А что было прописано?
— Куча всего: галоперидол, карбамазепин, производное бензодиазепина….
— Боже упаси.
— Ты шутишь, Можжевел абсолютный псих, я говорил с его терапевтом.
— Даже если так, почему бы не дать ему передохнуть, попытка не пытка. Посмотрим, что станет с его бредовыми симптомами. Если они снова проявятся, придется вернуться к нашим методам, в любом случае бедняга, возможно, справится — ему столько всего вкатили, что на несколько месяцев хватит.
— Не кажется ли тебе, что такое поведение немного неэтично, а, Шива? — крикнул Моффат ему вслед, и, хотя Шива ускорил шаги, слова достигли цели и кружились у его ушей, точно навязчивые летучие мыши, пока он возвращался в мрачный покой своего кабинета, помещавшегося в готического вида нише.
Неэтично. У входа в кабинет он увидел, что его дожидается юная особа в глубокой депрессии. Брови проколоты, губы тоже, из щек торчат промышленного типа гвозди, но в ушах ничего нет. Шива предположил, что это, по ее представлениям, слишком прозаично. Он подумал об изумруде, украшавшем нос Свати. Это стоило ему трех месячных окладов, но он не пожалел ни об одном потраченном пенни: любая драгоценность поменьше смотрелась бы нелепо на ее безупречном лице. Юная страдалица яростно крыла на чем свет стоит своих либеральных родителей-европейцев, ее грязная майка была сплошь в мелких дырах с чернотой по краям — следы курения травы, — будто изрешеченная пулями из мелкокалиберной винтовки. Шива хотел ей сказать — с целью остановить неумолимый поток ругани, — что если она намерена продолжать в том же духе, то окажется в пирсинговом аду. В аду, где черти будут выкручивать болты и гайки из ее андроидной рожи, которую потом с удовольствием натянут на длинный шампур. В аду, где она будет вечно корчиться на решетке для сатанинского барбекю вместе с сотнями других депрессующих подростков. Но вместо этого он потянулся за блокнотом и выписал направление к психотерапевту.
К концу следующего утомительно долгого дня кожа Шивы щетинилась колючими иголками, которые появляются на экране его компьютера перед тем, как тот погаснет. Он прошел сквозь вечерний шум и гам «Сент-Мангос» — шлепанье столовских подносов, громыханье тележек, хлюпанье швабр — и направился из грязного вестибюля на улицу, в чумазые сумерки тоттенхэмской Корт-роуд. Вблизи водостока у обрывистого фасада здания Шива заметил побитый жизнью мусорный ящик на колесиках, а рядом валялась картонная коробка. В надписи на боку коробки — «100 новеньких сосок» — он усмотрел многозначительную связь с раздавленным апельсином, лежавшим сверху. Общая психиатрия ежедневного мусора. У станции метро копошилась небольшая стайка уличных торчков; шелестящие, рваные куртки придавали им сходство с потрепанными воронами. Замариновать бы их в метадоне, с горечью подумал Шива, проносясь на полной скорости мимо билетных автоматов.
Дома в Кентоне дядья и тетки поедали рис с далом, сидя за длинным столом на кухне. Белая хлопчатобумажная ткань рукавов их одеяний, скрывавших костлявые темные руки, натягивалась до состояния прозрачности в тот момент, когда они тянулись за кругляшками бобовых зерен, и съеживалась темными складками, когда они клали шарики еды в розовые полости своих ртов. Дядя Раджив что-то жевал из сковородки, время от времени поворачиваясь к матовому стеклу кухонной двери, которую он открывал ногой, чтобы деловито плюнуть в темноту прохода, ведущего в сад позади дома. Свати, неземная в розовато-лиловом сари, носилась от согбенного дяди к кривой тетке, наполняя их рифленые пластиковые стаканчики водой из нержавеющего кувшина. Из соседней комнаты доносились гогочущие голоса Симпсонов и ответное хихиканье Моана. Шива уселся и стал вертеть в руках тарелку с едой, пытаясь представить себе, как выглядела бы жизнь в доме, не похожем на автовокзальную столовку. В доме, где Свати, Моан и он сам садились бы обедать втроем, на тарелках из китайского набора перед ними были бы аккуратно разложены мясо, зелень и картофель. Семьи европейцев среднего класса, по мнению Шивы, всегда одевались слишком официально, какую бы пеструю одежду ни предпочитали, находясь в неформальной обстановке семейного круга.
Покончив с едой, Шива объявил, что собирается прогуляться по округе. Хотя эти прогулки были недавним новшеством, они не вызвали никакой реакции, поскольку Шива и так чаще отсутствовал, даже когда вроде бы присутствовал. По причине занятости у Шивы не получалось поиграть с Моаном перед сном; в какой-то момент утомленный Моан погружался в беспокойный сон, и это служило лишним примером равнодушного отношения Свати к воспитанию ребенка. Итак, Шива запирался в крошечном кабинете, в который он переоборудовал бывший закуток для мытья посуды. Здесь он «погружался в предмет». В самом начале своей карьеры Шива был в курсе дел, продираясь сквозь книги, журналы, статьи, прилежно блуждая по перекрестным ссылкам от недомогания к теории и практике лечения, пока в его голове не выстрелила пружина гипотезы. Но теперь… что, собственно? Действительно ли все эти академические теории были всего лишь гессианскими мешками, набитыми сухим словесным мусором, навязанными затем в качестве спасения от великих потопов отчаяния, подавляющих реальных людей? Пока эта дерзкая разрушительная мысль, как деформированный ноготь, врастала в самую суть его души, с Шивой несколько раз случалось озарение: а может, то, что с ним произошло, было серьезнее, чем просто истощение? Может, он сам неврастеник? Но если так, что он мог с этим поделать? Отдать себя на растерзание коллегам, инспекторам мышления? Или заплатить кому-нибудь, менее образованному и проницательному, чтобы тот сидел вместо него в кабинете и думал о его проблемах? За это говорил тот факт, что в первом приближении и конечном счете подобных практик было предостаточно.
Или ему стоило вернуться к традициям брахманства, несмотря на то, что поезд, ведомый твердой рукой его отца, ушел уже далеко? Опять прийти в храм и попробовать встать на годичный ухабистый путь богов. Или ему стоит отказаться от благ мирских ради того, чтобы с миской для подаяния в руках достичь просветления? Абсурдная идея. У некоторых из дядьев и теток была эта вычурная и надменная опрятность высшей касты, но Шива даже в самые счастливые моменты жизни ощущал свою связь с землей, свою неоскверненность ею.
Нет, Шива Мукти предпочитал сам назначать себе режим терапии, фланируя по улицам мимо полукружий домов северо-западного Лондона, словно он был электронной частицей, бегущей по краям гигантского мозжечка, состоящего из зелени бирючины и красного кирпича. Ему нравилось прогуливаться от кладбища к кладбищу — от Уилдстоуна к Харроу-он-зэ-Хилл, от Харроу-он-зэ-Хилл к Пиннеру. В иные ночи он забредал далеко на запад, до Хорсенден-Хилл, и, растворяясь среди низкорослых кустарников, возвышавшихся над промышленными кварталами Парк-Рояла, он чувствовал касание мимолетного вдохновения. Возможно, осмеливался предположить Шива, мой потенциал больше, чем я могу допустить? И, следя за вороватой фигурой какой-нибудь секретарши, спешащей домой со стороны Харвестер-Инн, располагавшегося за игровыми площадками, он улавливал параноидальную связь между ней и собой. Она оборачивалась, чувствуя его взгляд, в момент, когда он пригибался к земле среди сырых непролазных дебрей, где клочки туалетной бумаги висели на стволах берез, как маленькие, вонючие поминальные листовки.
А когда огненные сумерки оборачивались багровым вечером, Шива Мукти любил высматривать неприметные кафе, где никто на него не обратит внимания и никто не узнает. Шива сравнивал это спокойное время с теми моментами истины, когда щелкает термостат, и холодильник, незаметно шумевший все время, замолкает. Сам не будучи курильщиком, он получал удовольствие, садясь в курящих зонах пабов и ресторанов, потягивая синеющими губами коричневатого цвета клубы дыма, которые только что покинули легкие сидящих рядом. Это помогало ему сосредоточиться, а потом снова расслабиться и ни о чем не думать.
Нынче же, сидя в гостиной бара Круэл-Си, что на Ханипот-Лейн, прислоняясь головой к стенке гудящего игрового автомата, Шива думал о человеке-креозоте и — о Баснере. Какое высокомерие со стороны старшего психиатра отправить этого тяжело больного пациента к нему без того, чтобы хоть бегло осмотреть беднягу. Может, Баснер и впрямь полагал, что симптомы человека-креозота подтверждали идеи Шивы, или он просто издевался над ними обоими? Был только один способ выяснить это и даже дать Баснеру пинка. Шива уцепится за человека-креозота, пока тот находится в «Сент-Мангос» — как бы ни улучшилось его состояние, — и, в свою очередь, отправит к Баснеру кого-нибудь из своих пациентов для повторного заключения. Имелся у него один на примете. У некоторых психиатров — и Баснер, Шива не сомневался, был одним из них — пациенты лечились годами; врачи гоняли их из больницы в больницу, будто демонстрируя дорогое украшение. И в каком-то смысле так и было, поскольку эти больные украшали излюбленные идеи занимавшихся ими психиатров. Шива, однако, пациентами-любимчиками не обзавелся, ему не хватало времени на то, чтобы гулять с ними или кормить их. Зато некоторые его пациенты по болезни были к нему привязаны и даже, несмотря на высылку в терапевтические гулаги на периферии Лондона или отправку еще куда подальше, тем не менее возвращались в «Сент-Мангос», к Шиве с безошибочной точностью почтовых голубей, следуя инстинктивному внутреннему голосу.
Роки, недоделанный растаман шести-семи футов ростом, был одним из таких. Он преклонялся перед Шивой с трогательной щенячьей привязанностью ребенка, забитого сверстниками и получившего расположение сердобольного учителя. Классический шизоидный случай, тяжелая кататония перемежалась явной манией. Примерно каждые шесть месяцев он уходил в «Эджвер» или «Фраерн Барнет» — на одну из этих подающих сигналы авиабаз для умственно незаземленных. Остальное время Шива присматривал за ним благодаря больничной группе захвата. У Роки имелась муниципальная квартира с кроватью в особняке на севере Юстон-роуд, и он вполне со всем справлялся в одиночку. Соседи его знали, и знали, что он относительно безобиден. Шива, хоть и не мог его выносить, но, несмотря на это, неожиданно стал покровительствовать ему за те четыре года, что они мозолили друг другу глаза. Настолько, что пару раз побывал у Роки дома. Роки угощал его перезаваренным чаем без молока и сахара из крошечной кружки в горошек, и пока Шива опасливо пил мелкими глотками, хозяин дома подробно излагал историю камня, который исполнял роль стола и находился посередине гостиной. Это был священный объект, домашнее божество и даже причина клички своего почитателя. «Он поведал мне о времени, проведенном в Вавилоне, потом его перенесли оттуда в святые земли Зиона. Он все рассказал мне, этот камень». Благоговейный взгляд Роки перескакивал с доктора на каменного тезку, который, на взгляд Шивы, был подозрительно похож на шлакобетонный блок, обтесанный грубым теслом.
«Теперь посмотрите сюда, док-к-тор Мукти, видите надпись на камне?» Шива вежливо наклонился. «Что он сейчас говорит, скажите мне, что говорит Камень». На поверхности неровно и неразборчиво было нацарапано: «ВАВИЛОН 10 000 ЛЕТ». Шива покорно прочел надпись. «Это его слова!» — на лице Роки возникла блуждающая улыбка. «Камень знает свою историю, от пчему он теперь пришел сюда и пведал ее мне», — и так далее, и тому подобное. Несмотря на все внешние признаки его шлакобетонного фундаментализма, нет ничего предосудительного в том, что растаманы приняли Роки в свои ряды. Хотя у него и были дреды, которые струились с высокого лба, как ржавая пенистая вода, понимание Роки доктрины оставалось достаточно туманным, при этом употребление квазисвященного средства — марихуаны — отправляло его в мир потрясающих и еще более головокружительных видений.
Роки тормознет возле комнаты Шивы примерно на неделю и примется с потолка сочинять уйму того, что он называл «пророчествами». Как и у большинства шизофреников, воображаемые, полные мелких деталей, альтернативные миры Роки были невыносимо прозаичными, удивительно реалистичными, несмотря на их фантастический космизм, и больше всего походили на своего создателя. Как если бы — Шива мысленно вернулся к тем временам, когда он еще опасался спекуляций на этот счет — галлюцинации, связанные с болезнью, были прямым следствием воображения больного. И возможно, отсюда вытекала способность умственно нормальных людей принимать луну за лицо — способность, благодаря которой они не всматривались глубоко в кратеры-глазки.
Кроме того, Шива знал, что Роки был загадкой, блуждавшей кругами в рамках банальности. С его огромным ростом, грязной военной одеждой, неровной походкой, трясущимся лицом и беспорядком на голове, он казался апофеозом сильнейшего сумасшествия; тем не менее, он конечно же был статистически еще менее опасен, чем самые безобидные тихони. Любому хорошему психиатру это ясно. Однако, после того как какой-то безответственный идиот несколько раз дал Роки попробовать травы прошлым летом, апостол Камня — твердо уверенный, что это сатанинское чудище — решил прочесть проповедь двум толстым теткам в автобусе номер 88, катившем по Хэмпстед-авеню. С тех пор его поведение дало отчетливый крен не в лучшую сторону. В конце каждого месяца, когда оставленные Шивой запасы хлорпромазина в его мышцах иссякали, вместо угрожающих, но безобидных вспышек у Роки случались приступы настоящей ярости.
Баснер ни о чем этом не знал. Шива направит к нему Роки, сие гуманоидное взрывчатое вещество замедленного действия с поражением лобной доли, из-за чего уровень серотонина в его мозгу упал ниже плинтуса. Направит к нему Роки с таким пояснением:
«У этого больного аметафорическая тенденция в опасной фазе. Его полная неспособность порождать синонимические или сравнительные речевые обороты сразу напомнила мне о вашей работе 1978 года „Преломленная преднамеренность: отклонения шизофренического характера и заново воплощенная поэтика“. У меня нет никакой уверенности в том, что этого больного можно спасти, но есть надежда, что вмешательство более опытного и внимательного специалиста могло бы стать причиной новых интересных открытий, каковые окажутся применимы и в других случаях».
Это будет чем-то вроде завуалированного подобострастия, надеялся Шива, рассчитанного на абсурдное интеллектуальное тщеславие Баснера. Старший коллега вышвырнет из койки какую-нибудь печальную гербефреничку и отыщет для Роки место в отделении для хроников. Роки непременно направит свою фиксацию на Баснера, и кто знает, к чему это приведет? Шива Мукти еще мог допустить, что это будет проверкой на вшивость диагностических способностей Баснера, но даже в самых мрачных, как «Сент-Мангос», пещерах мыслей, он едва ли осмеливался признать в этом гораздо более примитивный акт возмездия — судебную ордалию[22]. Если Баснер не обратит внимания на поражения лобной доли, перед ним предстанет terra incognita во главе с разъяренным, свихнутым Роки, угрожающим ему своими призраками.
Что ж, пусть. Роки был в сослан на холм, где располагался «Хис-Хоспитэл», а объемистая история болезни осела во внутренней почте. Затем Шива стал ждать сам не зная чего — может быть, какого-то знака или предвестия? Облака дыма над Юстон-Тауэр, которое будет свидетельством того, что виновность соперника подтвердилась.
Он ждал, лечил, умерял свой пыл, но никаких новостей не поступало. Он спускался в метро, мясистым дыханием города его тащило по подземным недрам, после чего он шел домой. На следующее утро наставала очередь окраин — они гнали его назад сквозь дымку мокрых бирючин и испарения свежего гудрона. Каждую поездку Шива ощущал как очередную морщину на вислой коже своей стареющей жизни. Мистер Дабл[23] — так Шива окрестил нового пациента по причине его исключительной любви к повторам — заходил к нему два раза, а потом еще два раза. Очищающий дождь омывал листья платанов на Шарлот-стрит, вымачивал их до изнеможения, пока те не срывались с веток и спешащие ноги не втаптывали их в городской суглинок.
Дома, в Кентон-парк-Кресент, миссис Мукти вместе с более активными тетками и дядьями готовилась к Дивали. Нити китайских фонариков вынимались из коробок, хранившихся на чердаке, на кухне варганили угощение, один дееспособный дядька был послан в газетный киоск за бенгальскими огнями и фейерверками, вышитый жилет Моана отдали в химчистку. Роль Шивы во всем этом сводилась к хозяйственным расчетам. Такова индийская традиция, и хотя она с бо́льшим усердием соблюдалась в касте купцов, чем среди знакомых брахманов, Шиве хватало мороки, когда он был моложе. Подсчитать доходы и расходы, скалькулировать, сколько семья может потратить, раздать и предусмотрительно отложить — все это подтверждало его роль главы семейства. Он даже составлял графики на компьютере. Но сейчас Шива сидел в своем уютном жилище, пялясь невидящим взором на пустой экран, весь во власти картин того, как Баснер осьминожьей хваткой вцепляется в спутанные волосы Роки. Когда пожилая миссис Мукти спросила его, сколько они должны пожертвовать в этом году храмовому фонду, Шива ухватился за первое, что возникло в его горячечном мозгу, решив, что пусть будет чуть больше, чем в прошлом.
Семья Мукти привыкла к внезапной задумчивости и вспыльчивому нраву Шивы. Он знал, что порой может сорваться — как-то, например, шлепнул Моана по тощей заднице, когда тот слишком достал его, прося разрешения поиграть на компьютере, — но даже не подозревал, что его болезненное напряжение отражается и на других сторонах жизни. Словно запас масла, оно растекалось по сочленениям между всякими импульсивными мыслями и необдуманными поступками, смазывая ему руки и ноги, отчего те откидывали неожиданные коленца. Он сшибал кружки, напарывался на шариковые ручки, не один раз делал себе инъекции в бедро.
Две недели спустя после того, как Роки был сослан к Баснеру, Шива сидел в столовой для персонала и обедал с Дэвидом Элмли. Любитель острых ощущений замер, его испачканный нож застыл в воздухе, указывая на руки Шивы.
— Ты весь в порезах и царапинах — что случилось?
— Понятия не имею.
— Говорят, за мелкими неприятностями всегда скрывается подавленный гнев.
— ЗНАЮ! — вспылил Шива.
— Хорошо, хорошо, не надо рвать на себе волосы.
Элмли снова сосредоточился на картофельной запеканке с мясом, а ядовитый взгляд его друга заметался по плохо освещенной комнате, ненадолго задерживаясь то на тусклом светильнике, то на чьем-нибудь сумрачном лице. Через два столика от обиженных друг на друга приятелей обедала оживленная более обычного группа пышущих здоровьем работников социально-психиатрической помощи. Шива сразу узнал в них Особую группу захвата из «Хис-Хоспитэл». Наверное, подумал он, они тут кем-то занимались неподалеку, вот и зашли вкусить льготный обед. Он прислушался к их веселому гомону, дабы убедиться, что ничего серьезного не произошло. Высокий мужчина с землистыми, прыщавыми щеками, психиатр группы, говорил:
— Не думаю, что надо во всем винить старика, все же этот парень был здоров как черт….
— И буйный, как дьявол, — вставила блондинка с кудрявыми волосами, которая, Шива определил это с первого взгляда, была медсестрой.
— Это точно. — Нервный худой чернокожий мужчина в форменной кожано-джинсовой куртке перегнулся через стол, обвинительно подняв палец: — Но факт остается фактом: пациент мертв. Известно, что Баснер заведовал лекарствами, так я вам еще одну вещь скажу, это все знают и подавно: каким бы ни оказался итог расследования — причем еще не факт, что расследование будет, — он выйдет сухим из воды, мать его!
Другие согласно зашумели, а психиатр стал веско и размеренно говорить о должностном преступлении, о его причинах и последствиях. Но Шива больше не слушал: при упоминании имени Баснера тяжелый гул тревожного набата заложил ему уши. Его пробил озноб, и он обхватил себя руками, словно пытаясь согреться.
— Что опять? — спросил Элмли, которому никак не удавалось ухватить вилкой последние непослушные горошины.
— Н-ничего, — пробормотал Шива. — Я, п-пожалуй, пойду. — И, бросив наполовину съеденный обед — пирог, покрытый корочкой, поникшую капусту, вялый картофель — и кошелек заодно, он выскочил из столовой.
Когда, пятью минутами позже, Элмли пришел вслед за Шивой к нему в кабинет, то обнаружил, что его друга била дрожь, а кожа Шивы приняла тот самый бледно-темноватый оттенок, какой появляется у смуглых людей во время шока или внезапной болезни. Шива говорил по телефону с привратником «Хис-Хоспитэла», который был ему обязан поставкой нелегального кодеина. Пообещав держать язык за зубами, Шива с легкостью выведал шокирующие подробности произошедшего.
Баснера вызвали по громкой связи — поскольку его старший ординатор оказался недоступен — заняться разбушевавшимся больным. «Ну, один гребаный придурок-растаман… — льстиво говорил в трубку старый привратник, — я его тут уже встречал… Короче, он полностью слетел с катушек, только четверым удалось с ним справиться, тогда Баснер накинул ему жгут на руку и вколол такую дозу, что мама не горюй, но не спрыснул перед тем, как сделать укол. Так что этот наркоша огреб по полной. Может, с кем другим так бы не обошлись, но этот вроде был не особо силен по части мозгов — вы улавливаете мою мысль, доктор Мукти?»
«Т-то есть?»
«То есть, буквально, растаману досталось по башке. Я слышал, по крайней мере, от двух дежурных врачей, что Баснеру должно быть известно об этом. Учитывая неудачный укол, плохи дела у старика, вам не кажется?»
Шива не счел нужным выражать свое мнение, просто напомнил привратнику, насколько велик его долг, который эта информация покрывает лишь частично. После чего бросил трубку.
— Что вообще происходит? — Челюсть Элмли отвисла, став почти невидимой в тусклом свете комнаты.
— Ничего, — ответил Шива, беря возвращенный кошелек.
— Так таки и ничего, — начал Элмли, но увидев обезумевшие глаза Шивы, продолжать не стал. Выходя, он поймал значительно более здравый взгляд служащего из приемной. Они оба посмотрели на дверь офиса Шивы и подмигнули друг другу, правда, Элмли не понял, в чем именно заключался их сговор.
Тем вечером семья Мукти должна была пойти в храм Нисден, а затем отправиться в кондитерскую «Амбика», что в Саутхолле, где все, и стар и млад, набросятся на липкие, приторные, желатиновые конфеты. Шива машинально собрался. Еле переставляя налитые свинцом ноги, с каждым шагом он все больше убеждался, что следующий день застанет его вместе с Баснером на скамье подсудимых по обвинению в пособничестве ужасному должностному преступлению старого шарлатана.
У семейства Мукти имелась семиместная машина, стоявшая неподалеку от дома, в гараже, где хранились старые садовые инструменты и прочее в том же духе — сверла, гаечные ключи, водопроводная арматура… Шива понятия не имел, как обращаться со всем этим отцовским хламом. Страсть Дилипа Мукти к садоводству и всяким поделкам была намеренным оскорблением по отношению к его брахманскому происхождению, зато сын Дилипа, Шива, вернулся, по крайней мере, к тому типу человека, который направил свое неприятие материального мира в некое подобие культа превосходства.
Долго в тот вечер Шива сидел за баранкой и слушал глухой рокот мотора — от этого звука дрожали стекла, а серо-голубые выхлопные газы затуманивали пыльные кольца шлангов и ржавых выступов. Абсолютная реальность самоубийства внезапно поразила Шиву еще до того, как он завел мотор. Каким именно образом он отвернет насадку от шланга и прикрепит ее к выхлопной трубе? Успеет ли газ пройти? А если так, то чем перерезать шланг? Через несколько минут он вышел и, кашляя и отплевываясь, открыл гаражную дверь. Тетушки и дядюшки уже поджидали его, их парадные костюмы и сари выглядывали из-под обычной одежды. Мать Шивы снисходительно хмыкнула, когда он появился из сизого облака, Свати только надула безупречные губки.
В храме Шива вел себя как полагается, но это было исключительно ритуалом, совершаемым нервной системой. Глядя по сторонам на мирную суету вокруг — на чаши с лепестками и фруктами, ниши, заполненные изваяниями божеств, на алтарь с пантеоном важных богов, — он осознал, насколько ненавистными и беспорядочными казались ему все проявления его религии. Если раньше было иначе, то теперь он больше не верил в социальную систему, которая удерживала индуса в рамках всех этих верований и внутренне противоречивой космологии. Без постоянной практики и без брахманского высокомерия, помогающего абстрагироваться, это звяканье, пение, воскурение благовоний, волокита с фруктовыми подношениями — все эти атрибуты праздника казались Шиве бесполезной мишурой и лишь напрягали его. Что такого в этом индуизме, в этих деревенских украшениях, в которые рядится философская традиция древних софистов? И впрямь всего лишь назойливая деятельность коллективного сознания миллиарда человек? А как же те, британские индусы, что стоят тут кругом на коленях с широко раскрытыми глазами, молитвенно сложа руки? Кто они, кроме того, что по большей части — безмолвная масса закрытой диаспоры? Сколько десятков тысяч его единоверцев закончили свой век здесь, приехав сюда за счастьем, а вместо этого затерявшись в толпе в аэропорту Хитроу?
Шива попробовал представить, как выглядят религиозные торжества Баснера. У него остались сумасшедшие воспоминания тридцатилетней давности о домах одноклассников-евреев; они были связаны с обрывками сведений, усвоенных в переходном возрасте, с полупереваренными фактами и глубоко засевшими взглядами, способными убедить любого образованного человека, что он обладает абсолютной истиной касательно тех областей, о которых даже не слышал.
Пока ученые индусы пели свои песнопения, а собравшиеся внимали им, Шива Мукти обратил свой внутренний взор не в сторону мокши, но в направлении семьи Баснера, собравшейся вокруг длинного, высокого стола из красного дерева с гладкой, словно зеркало, поверхностью. Баснер и несколько его старших сыновей надели страшные маски, изображая наигранную суровость, и головные уборы из черного шелка в виде черепов. В это время еще более многочисленные дочери-подростки во главе с миссис Баснер нацепили на себя парики а-ля мадам Помпадур, огромные и красные, как двухэтажные автобусы. Пока миссис Баснер подавала на стол исключительно диетическое угощение — жиденький супчик и мягкую лапшичку, — Баснер собственной персоной зачитывал молитву из малюсенького свитка, который он вынул из кожаной коробочки, привязанной к предплечью. В центре стола сиял огромный подсвечник, воск вдохновенно капал со свечей перед его преподобием; нечеткие, гортанные слова на смеси английского и иврита, содержащие прямое обращение к Богу-единому-и-сущему с просьбой большего вознаграждения от частных пациентов и всяческого продвижения по карьерной лестнице, Шива понимал без труда.
В недрах огромного дома Баснера, который, по представлениям Шивы, походил на замок Дракулы, реконструированный Иваной Трамп[24], со старомодным механическим грохотом зазвонил телефон. Дочь пошла ответить и вернулась с «бакелитом»[25] на подносике в форме почки. Баснер взял трубку, нервно теребя филактерию, привязанную к его руке. Да-да, да, — сказал он в отверстие, потом, после паузы, — нет-нет, нет. Конечно, я прошу прощения — его голос повышался — нам всем очень жаль, но мы с семьей этим вечером смотрим церемонию празднования Йом-Киппур[26], каемся самым категорическим образом. Понимаю… благодарствую.
Баснер с чрезвычайной аккуратностью вернул трубку на место в ее колыбель. Подняв бокал с рубиново-красным, сладким до тошноты вином, он произнес тост: «Королевский колледж против меня не пойдет, что же касается ГМС[27], Леви согласился замолвить словечко». Слава Господу! — внезапно завопили остальные Баснеры. Воистину слава! — ответил старший Баснер и, допив остатки вина, швырнул крошечный хрустальный бокал в жерло камина, за решеткой которого внушительно рычали языки пламени и угарного газа и где он лопнул с громким хлопком: «Бах!» Последовав примеру старшего Баснера, остальные члены семьи стали швырять в камин бокалы, булочки белого хлеба, чистые тарелки и вообще все, что под руку попадалось. Апчхи-ах! Ой-ой-ой! — чихнула и закричала миссис Баснер, запустив пальцы в бриллиантах в забранную наверх толщу искусно уложенных накладных волос. Ну и веселье у нас сегодня, ах!
— Шива?! — Свати положила свою татуированную хной руку ему на плечо. Он пришел в себя в кондитерской «Амбика» на Саутхолл-Хай-стрит, слабо понимая, как они все туда добрались. То, что они покинули храм и ехали потом сквозь полосатую, как тигр, лондонскую ночь, прошло будто во сне. Но вот он, Моан, стоит на цыпочках у большого стеклянного прилавка и тычет пальцем в груду медовых шариков в серебряных бумажках, привлекая внимание чудаковатого хозяина, дюжего парня в запачканной белой куртке и со щегольскими густыми усами в фут шириной. А вот дядюшки — столпились вокруг противня на прилавке в углу и болтают с продавцом, что-то толкущим в ступе. А прямо перед Шивой его собственная мать роняет на землю порцию кульфи[28] в форме ступы; и жена уже в который раз повторяет: «Шива, с тобой все хорошо?»
Шива ощутил себя на острове, на атолле самоосмысления в какофоничном океане слов, многоязыком море социализирующихся семей британских азиатов. Сквозь плотную атмосферу гастрономических запахов прорезались зазубренные аккорды саундтрека к болливудскому мюзиклу, корибантическая безудержность которых проецировалась на экран под потолком, над головами собравшихся. Он до того ушел в себя, ему было настолько невмоготу, что в тот момент, когда его жена с нежной заботой к нему прикоснулась, Шива был в состоянии осознать только, что она делает это впервые за долгие годы; с покалывающей в глазах жалостью к себе он накрыл ее тонкие пальцы своей широкой, плоской ладонью и сказал: «Нет, да, конечно, это из-за работы, понимаешь, я отвлекся».
Но это было далеко не так. Позднее, ночью, после того, как последние ракеты улетели в пригородный космос и потух последний бенгальский огонь, и Моана удалось затолкать в постель, и все дядюшки и тетушки и пожилая миссис Мукти разбрелись по своим комнатам, и Свати, с ее характерным зеванием, похожим то ли на вздох, то ли на вскрик, свернулась калачиком в кровати и провалилась в пропасть бессознательного, Шива остался восседать на остроконечном утесе беспокойства, чувствуя, как мрак вокруг дома наполняется духами умерших. Его отец, еле волоча ноги, прошел вдоль Кресент со стороны автобусной стоянки в Стэнморе. На нем были белые фирменные лунги и твидовый пиджак, под мышкой торчал зонт, обернутый в номер «Таймс», — будто ракета с эфемерной боеголовкой.
Дилип Мукти, должно быть, изрядно надорвал спину на почве религии предков, но не мог от нее окончательно избавиться. И хотя с возрастом он сумел осознать это, его сына забавлял политеистический характер отцовского рационализма и приводила в бешенство очевидная фальшь, позволявшая ему консультироваться с астрологами, одновременно понося их. «Наша вселенная гелиоцентрична, Шива, — говорил сыну Дилип. — Эти идиоты с их допотопной абракадаброй, они не только верят, что Солнце вращается вокруг Земли, они на этом еще и неплохо зарабатывают!»
Дилип Мукти был ярым приверженцем научных теорий социального развития; позитивизм, марксизм, кейнсианство[29] — для него ни на йоту не имело значения, на каких общепринятых политических призраках эти пророки основывались. Чтобы занять место в его сознании, от учений требовалось одно: объяснять человеческий феномен в терминах физических процессов. То же самое с чистыми науками: Дарвин, Эйнштейн, Гейзенберг, Крик и Уотсон — эти удивительные люди боролись с темными силами иррационального, а потому его отношение к ним было глубоко свято. При жизни Дилипа, угол основной спальни служил святыней для его божеств. Гипсовые бюсты Маркса и Конта, фотографии Фридмана и Кейна, тома «Капитала» и «Происхождения видов». Он даже подготовил свой собственный, переделанный, секуляризованный обряд пуджа: зачитывал вслух ключевые пассажи из газетных вырезок, прикрепив их под опухшими бровями философа немецко-еврейского происхождения.
Теперь, будучи мертв, Дилип Мукти больше не пугался фейерверков на Дивали, а потому, оседлав дорожный знак на углу, принялся аккуратно подпиливать свои ухоженные ногти, монотонно ругая Шиву за его профессиональное преступление. «Несомненно, Шива, — зудел он гундосым, с примесью хинди, голосом, долетавшим до настороженных ушей сына через створку окна, — это очень, очень плохо. Для меня очевидно, что ты повинен в смерти того пациента. Ввязавшись в немыслимую дуэль, ты лишил человека жизни. Ты всегда был импульсивным болваном, а теперь к тому же стал убийцей.
Этот человек рассказал мне о твоей связи с ним и о том, как ты отправил его к Баснеру. Этот человек, — он указал на изгородь из бирючины позади себя, — в самом деле расстроен, кто станет его винить?»
«Меня крючит, док Мукти, совсем паршиво. — Роки вылез из кустов и, трясясь и дергаясь, встал рядом с мертвым отцом Шивы. — Да, я псих, и все такое, но теперь я совсем того, и обратно, по ходу, никак. Тебе, в натуре, должно быть стыдно, чувак. Без вариантов».
Шиве действительно стало жутко стыдно, он вспотел, сидя на кровати, в этот момент Свати издала стон, Моан захныкал, и холодный рассвет полосами вспыхнул на скатах крыш. Но сильнее стыда Шива чувствовал страх. Если Баснер сядет, то утащит его следом, как пить дать. Не ходить на работу тоже бессмысленно, если не сказать хуже. Это при нынешних обстоятельствах могло быть истолковано только как свидетельство вины.
Тем утром больше не было новостей о смерти Роки — утром, которое завершилось попытками Шивы восстановить ускользающий образ женщины, чье лицо выглядело так, словно вылеплено из глины судмедэкспертом. За обедом — Шива поедал его в одиночестве, делая вид, что читает потрепанный номер БЖП, — тоже не удалось услышать ничего нового ни про Баснера, ни про его преступление. Не изменилась ситуация и на следующий день, большую часть которого Шива провел в попытках угадать истинную — или еще какую — причину претензий маленькой девочки по имели Мавритания, утверждавшей, что родная тетка домогалась ее посредством расчески.
Так и не восстановив душевного равновесия, Шива находился в полной уверенности, что это всего лишь затишье перед бурей, которая разнесет в щепу тростниковую лодчонку его давшей течь карьеры. Сон пропал, притаившись в углах спальни. Дрожащий, с ввалившимися глазами, Шива по утрам ехал в метро из Кентона, ощущая себя пассажиром поезда призраков в компании теней своего отца и Роки. Роки посмертно достиг свободного владения английским, что побуждало его использовать всевозможные поэтические тропы и описательные гиперболы: «Поезд снова землю роет, прет как червь сквозь мертвеца… — Он медленно покачивался, держась за поручень и бормоча Мукти прямо в ухо: — Точно яйца из личинки, из тягучего туннеля вылезают поезда, проникая прямо в сердце. Что ж теперь, дружище Мукти, станешь Мухти, верно, да? Зажужжишь небось тогда?»
Через три недели этих жутких видений Шива был уже почти готов поддаться страху и связаться с Баснером, Королевским колледжем, да хоть с самим Генеральным медицинским советом, готов был выложить всю правду о «дуэли». Но на выручку пришел сам противник: продемонстрировав умение держать паузу, в течение которой Шива чуть не отправился на тот свет, Баснер выбрал момент и отразил слабый удар, нанесенный смертью Роки, в письменной форме:
«Дорогой Шива,
Я должен был связаться с Вами несколькими неделями ранее, учитывая несчастные события вокруг смерти Вашего бывшего пациента Джеральда Нэвилла (по кличке „Роки“), но мне пришлось принять участие в конференции в Лодзи, где я делал доклад на тему эндемичности славянской бедности. Само собой, Вы слышали о том, что произошло. Подозревая закрытую головную травму, поскольку других объяснений такой чрезвычайно эмоциональной неустойчивости и повышенной агрессивности Роки не наблюдалось, я должен был его усмирить: для того, чтобы снять сканы, было прописано успокоительное. К несчастью, у него обнаружился артериальный склероз в прогрессирующей форме (возможно, побочный эффект — хоть я ни в коей мере не подвергаю сомнению Ваши методы лечения — чрезмерной дозы внутримышечных уколов хлорпромазина, которые получал больной), что в такой стрессовой ситуации и привело к смертельному сердечному удару.
Шива, я уверен, что Вы, как и я, отвергаете установившуюся безнравственность, пасующую перед профессиональной этикой истинной психиатрии. У меня также не вызывает никаких сомнений, что Вы, как и я, переживаете боль каждого из своих пациентов столь же глубоко, как если бы на его месте был Ваш родственник. В этой связи, я прошу Вас, хоть нас и разделяют пространство и время: давайте вместе почтим память Роки слезами горечи».
Шива почувствовал себя подопытной крысой, принужденной волочить огромную опухоль по кругу клетки вивисектора. Он почтил слезами горечи свою скромную персону, которой манипулировали с таким чудовищным вероломством. Но ниже следовало:
«Возвращаясь к постылой прозе: явно те же слухи, что дошли до меня здесь, в „Хис“, касающиеся Вашего участия в деле больного — хотя и в другой форме и с иными подробностями — просочились к Вам в „Сент-Мангос“ и представили меня в невыгодном свете, отведя мне ведущую роль в произошедшем. Уверен, что МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА, — Баснер, в отличие от иных эпистолярных борзописцев, не использовал прописных букв; таковыми их видели глаза Шивы, — И ДЛЯ НАС НЕТ НАДОБНОСТИ ПОСВЯЩАТЬ ПОСТОРОННИХ В НАШИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДЕЛА».
Он понимал! И понимал, что Шива понимает, и хотел сказать… да, он хотел сказать, что теперь это только между ними и что он не предаст это дело огласке, что он готов вести борьбу до конца.
«Именно поэтому, — буквы снова стали поменьше, — я направляю к Вам еще одного из своих пациентов с целью получения Вашей экспертной оценки».
Шива услышал скрежещущий, щелкающий звук, идущий из вестибюля, будто какое-то насекомое размером с человека поедало край ковра, прибитого к неровному старому паркету.
«Его зовут Мухаммед Кабир, и у него самые четкие и развитые галлюцинации из всех, какие я только имел счастье встречать за всю свою сорокалетнюю врачебную практику. Составные элементы видений Кабира общеизвестны: паранойя, навязчивое стремление законспирироваться из-за причин этнического характера, но полное развитие сценария, включая внимание к деталям времени и места, дает нам совершенно уникальный случай. НЕ СОМНЕВАЮСЬ, — прописные буквы вернулись, — ЧТО С ВАШЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОНИКНУТЬ В САМУЮ СУТЬ ЯВЛЕНИЯ.
Остаюсь, как всегда, Вашим другом и коллегой,
д-р Зак Баснер».
Шива засунул письмо под бюро и чернильный прибор с надписью «Мазь от герпеса „Зовиракс“» (в комплекте с лотками для мелких бумажек) и взял папку из буйволовой кожи, в которой были медицинские записи. Для человека с «исключительно развитыми галлюцинациями» папка оказалась на удивление тощей. Кабир, выросший на окраине Бирмингема, в Мозли, едва ли вообще болел в своей жизни. Имелись обычные детские болячки и подростковое воспаление гланд. Затем был перерыв в несколько лет, когда он вообще не обращался к врачам. А потом — пожалуйста: приступ психического расстройства, кататония. Два месяца он провел в доме родителей, прикованный к постели и страдающий недержанием; все это сопровождалось перманентным беспорядочным бредом. Кабира обнаружили, когда он прыгал и скакал у обочины трассы М-25 в Саут-Мимс, вооруженный охотничьим арбалетом, с помощью которого пытался подстрелить камеру наблюдения. Его задержали на бечевнике[30] Манчестерского водоканала, где он заставлял каких-то подростков слушать убойные проповеди из Корана. В «Харрогит» на Маркет-сквер он раздавал флаеры с надписью: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН». В конце концов, Кабир попал на орбиту Баснера, еще одного ревущего метеорита, бороздящего просторы городского космоса.
Шива выглянул за дверь и посмотрел туда, где обычно ожидали больные. Высокого роста, со светлой кожей, пакистанец по происхождению — или Шиве так только показалось, — Кабир сидел, скосолапив ноги и скрестив руки на самом прямом и неудобном из имеющихся стульев. Его продолговатая голова сужалась в острый подбородок, из-за чего приобретала коническую, ракетообразную форму. Уши были тонкими, как лезвия бритвы, стабилизаторами этой падающей ракеты. Карие глаза под тяжелыми веками шныряли зигзагами туда-сюда по ковру, словно повторяли увиденный узор. Пытаясь умерить непрестанную дрожь, Кабир довольно громко щелкал и скрежетал зубами, девственно белыми на фоне пухлых розовых губ. Пациент был одет в плотные синие джинсы и фиолетовый короткий жакет, скроенный из какой-то смеси шелка и синтетики. Одна из его обутых в кроссовки ног так сильно стучала, что это вызвало у Шивы мысли о чем-то потустороннем.
Какое-то время он стоял и слушал, выхватывая случайные слова — шухер, имплантат, передатчик, перемежавшиеся отрывками молитв на арабском. Затем Шива прервал этот бред, прочистив горло: «Гхм». Одним невозможным рывком Кабир вскочил на ноги, его острый подбородок был нацелен на Шиву. Вот, вот — и всему конец, сейчас этот тупой наемник Баснера сделает свое дело… Но высокий, трясущийся человек не приближался, только протянул руку, и Шива пожал ее. Казалось, что держишь мягкий, бескостный камертон, по которому только что ударили. «Надеюсь, вы сможете мне помочь, доктор, — произнес Кабир благородным тоном. — Не понимаю, почему я сумасшедший, хотя все и уверяют меня в этом».
Шива усадил Кабира в своей нише, взял блокнот и шариковую ручку и приготовился записывать галлюцинацию.
На следующий день зашел Элмли, и Шива взял его с собой на обед.
— Баснер прислал мне еще одного, — сообщил он другу за побитой жизнью треской и потрепанными чипсами.
— А-а. — Элмли старался выглядеть подобающим наперснику образом. — И что на этот раз?
— Думаю, со всей справедливостью можно сказать: я долбанул быка за рога.
— Взял, — не удержался Элмли, став вместо наперсника придирой. — Есть выражение: «Взять быка за рога».
— Не важно. — Шива махнул вилкой по воздуху. — Меня занимают не выражения, а факты, и факт состоит в следующем: несмотря на то, что этот Кабир демонстрировал все классические симптомы хронического состояния при циклотимии[31], на самом деле у него и близко нет ничего подобного.
— Правда? — Элмли знал, что лучше не вникать в значение термина — по ходу беседы станет ясно.
— Да. В дупелину пьяный, он перескакивал с пятого на десятое, объяснял, что сам не может справиться, потому что ему в мозг имплантировали передатчик. Но при этом был в состоянии дать мне продолжительный, связный отчет на тему того, чем вызвано его отклонение.
— И чем же?
— Благодаря блестящим успехам в школе он получил место в Кембридже, когда ему было всего семнадцать. Пока Кабир изучал философию и физиологию, на него вышел рекрутер из МИ-6. Кабиру, как иммигранту во втором поколении со всеми вытекающими отсюда последствиями, льстило это внимание, и он откликнулся на предложение. И настолько рьяно, что в итоге вступил в ряды Службы и в течение длительных каникул прошел тренировочный курс в их штабе, по итогам которого ему дали задание.
— Но почему, — удивился Элмли, — почему они были в нем так заинтересованы?
— Прошу тебя, Дэвид, запомни: для Баснера и еще нескольких врачей это просто галлюцинация. Короче, по окончании обучения его уговорили взяться за выпускную работу, заняв пост в Тель-Авиве. Израиль! Ты можешь себе это представить — британский мусульманин, почти ребенок, в Израиле! Вообще, по его словам, произошло следующее: днем он присоединился к сбитым с толку салагам, или кто они там, а ночью проник в одну из многочисленных группировок воинствующих израильских арабов, которая была связана с экстремистами «Хамас».
— Хочешь доесть мою треску? — Элмли потыкал рыбу вилкой. — Мне ее не осилить.
— Нет, не хочу я твою вонючую треску. Скажи мне, — Шива уставился на него, — неужели тебя это все не цепляет, и ты не находишь это хоть сколько-то интересным?
— Ну… Да, нахожу, просто ты мне столько всего рассказал о галлюцинациях твоих пациентов…
— Это особый случай. Напугав его до сумасшествия, несчастного ребенка заставляют еще глубже внедриться в группировку. Его берут на секретные сборы, проходящие на оккупированных территориях, где люди в кефиях размахивают автоматами Калашникова и клянутся убить всех евреев и американских империалистов. Ему приходится давать жуткие клятвы и участвовать в террористических нападениях. И тогда случилось неизбежное…
— Палестинцы раскусили, что он британский агент?
— Нет-нет, гораздо хуже… Однажды ночью, когда его проводили обратно через КПП, он был схвачен израильтянами. Тем, кто его допрашивал, он выдал заранее заготовленную версию, однако Британская разведка отрицала знакомство с ним, в итоге он оказался брошен на произвол судьбы в страшных застенках пыточных камер Моссада.
— Держась за…
— Ни за что не держась, Дэвид. Если ты не веришь, что подобные места существуют, то мир, в котором ты живешь, представляет собой детскую игровую площадку, где самая большая опасность заключается в том, что не выдержат наколенники! Нет, они пытали его, эти головорезы, и, ясное дело, в конце концов он сломался, согласился со всем, что ему вменяли в вину, и суд Линча приговорил его к тюремному заключению навеки.
Шива сделал паузу, отчасти для создания эффекта, отчасти чтобы ввести собеседника в нужное состояние. Элмли смотрел в возбужденные, настороженные глаза Шивы, пока тот внимательно изучал бледные, как сыворотка, лица врачей-стажеров, заигрывавших с работницами столовой, которые, все как на подбор, были в нейлоновых сетках для волос. Элмли стало интересно, задумывается ли теперь Шива о своем браке. Если бы только Шива не прогнулся под давлением родителей, а ему самому — неизвестно каким образом, чудом — посчастливилось бы оказаться в нужное время в нужном месте, тогда, возможно, сейчас именно он делил бы ложе с несказанно прекрасной Свати? Элмли представил, что ее воздушное тело не оставляет складок на брачном матрасе, а когда она поднимается — словно высушенная головка одуванчика разлетается от порыва весеннего ветерка…
— Ты меня слушаешь?
— Да-да.
— Так вот, я говорю, мало того, что израильтяне пытали беднягу чуть ли не до смерти в своем вонючем гулаге, так в конце концов они натравили на него совсем уж матерых бандитов.
— Слушай, Шива, ты правда увлекся, кто угодно, услышав тебя, решит, что ты антисемит!
— Это галлюцинация, Дэвид, не забывай, всего лишь галлюцинация. Итак, его окончательно доконали, и Кабир заболел, причем так сильно, что казалось, вот-вот умрет. Потом, спустя еще черт-те сколько, пуделя Ее Величества явились и начали разнюхивать, что да как. Очевидно, одно дело — подвергнуть кого-то из своих пыткам и унижениям, другое — довести его до смерти: сразу же волна недовольства — семья пострадавшего выражает подозрения и намерена обратиться в прессу. Минуту назад Кабир еще находился в израильской тюрьме, но вот он уже летит Британскими авиалиниями из Бен-Гуриона и через несколько часов оказывается у себя дома в Бирмингеме. Правительство, натурально, все отрицает, никакой официальной компенсации. А теперь представь, мой дорогой Дэвид, что это счастье приваливает в Государственную службу здравоохранения. Заходит в приемную к Баснеру. И что, ты думаешь, он решает?
— Ну, он… я не… наверное…
— Ты что, Дэвид, ты не мог столько лет слушать мои лекции по психиатрии и так ничему и не научиться.
— Ну, наверное, он поставил ему диагноз шизоида и прописал какие-нибудь лекарства.
— Именно! Именно так этот боров и поступил, равно как и прочие психиатры, общавшиеся с больным. Никто из них не удосужился проверить достоверность его историй, никто не почесался нормально обследовать бедолагу, никто не озаботился связаться с семьей пациента и услышать их версию случившегося. Баснер с его крепнущей год от года уверенностью в экзистенциально-феноменологическом подходе к лечению душевных расстройств — самый страшный, самый вредоносный и эгоистичный лицемер, но остальные так называемые целители, которые контактировали с этим человеком, почти настолько же…
— А ты сам, — вставил Элмли в очередном припадке самодовольства, желая закрыть тему, дабы спокойно решить, что выбрать: яблочную запеканку или маленькую, обернутую целлофаном тарелочку с сыром и печеньями.
— Я в наибольшей степени, само собой. Я обследовал Кабира, взял у него анализ крови, связался с его семьей, пообщался с ними, я даже пробился сквозь бюрократов из Министерства иностранных дел и Министерства по делам Содружества — какой эвфемизм! — и знаешь, что я обнаружил?
— Что?
— Это все правда! Правда, черт побери, до последнего слова!
— Прямо до последнего?
— Ну, насколько мне удалось выяснить. МИ-6 — не та контора, чтобы каяться психиатру-консультанту из «Сент-Мангос» в своих прегрешениях. Но факты подтвердились: все, что Баснеру и прочим шарлатанам требовалось сделать, — просто позвонить. Мухаммед Кабир выполнял задание Британской армии, и хотя он был осторожен с родителями, они имели вполне четкое представление, чем занимался их сын. Что же касается его мании, неспособность Баснера определить которую равноценна преступлению, то она оказалась сифилисом, сифилисом в запущенной форме, черт возьми!
Какое-то время Дэвид Элмли раздумывал, как отнестись к словам Шивы. Не то чтобы он ему не верил или не оценил детективные изыскания друга, но вопиющую, граничащую с фанатизмом страсть Шивы принять было непросто. С его — непрофессиональной, надо заметить — точки зрения казалось, что доктор Мукти обосновал все симптомы, найденные у пациента, однако Элмли подозревал, что основания для этого не так очевидны.
— М-м, Шива, — осторожно начал он, — ты намекаешь на то, что Кабир заразился сифилисом от заключенных израильтян? А как же быть с передатчиком, ты говорил, он жаловался, будто ему в мозг имплантировали передатчик. Что ты на это скажешь?
— Я ничего не утверждаю по поводу израильтян: у меня нет доказательств, равно как и нет точного подтверждения со стороны секретных служб, что Кабир работал на них — иначе они вряд ли бы назывались секретными. Но взгляни на это с другой стороны — представь, что ты прошел через то же, что и он? И представь, что все так бы и закончилось, как в его ситуации, — разве идея, что твои мучители вживили передатчик тебе в мозг, не показалась бы тебе резонной и даже целесообразной?
— Так что ты теперь будешь делать?
— Что делать буду? Как, ну, лечить его, само собой. Моффат займется венерическими делами, я попробую повысить его умственные способности, хотя, откровенно говоря, думаю, шансы наши невелики. Тогда встанет вопрос о компенсации.
— Компенсации?
— Ну, ясное дело, должен же кто-то, в конце концов, взять на себя ответственность за случившееся.
Произнося эти слова, Шива имел в виду Министерство обороны, но, когда он вернулся к себе в кабинет и заперся в его оштукатуренных стенах, будто живое изваяние погруженного в заботы божества, владевшее им чувство триумфа и ясность намерений пошатнулись, стали терять былую четкость и вскоре обернулись самыми ужасными предположениями. Если верно, что враг его врага — его друг, явилось бы это грубейшей тактической ошибкой? По меньшей мере, зная с долей уверенности, что у этого больного сифилис, Баснер направил к нему Кабира, чтобы спутать диагноз, а в худшем случае — подобно тому, как Шива обошелся с несчастным Роки, — Баснер хотел предательски отомстить ему, задействовав психа в качестве дистанционного неконтролируемого орудия, тупой бомбы, автоматического биомеханического снаряда.
Или ему просто было любопытно? Допустим, баснеровский метод лечения Можжевелла, человека-креозота, неверен, но даже после того, как заразу со спины удалили, едва ли Шива сумел поставить свой диагноз. Лечение Можжевелла сошло на нет, смотрите все! К тому же душевное состояние церковного старосты сильно нарушилось. Правда, не так, как на момент прибытия, но он остался при убеждении, что его миссия — нести креозот больному и разлагающемуся миру. После трех недель пребывания Можжевелла в отделении Моффата, Шиве пришлось организовать перевозку пациента в клинику для душевнобольных неподалеку от его дома в Бирмингемшире, к тому же, насколько он знал, там ему не стало лучше.
Теперь этот Кабир, еще один случай, этиология которого может быть как медицинской, так и психиатрической, и хотя Шива был уверен, что старший коллега издевается над ним, злорадствуя над его положением, также он понимал: если хоть в малой степени его затруднение станет заметно — не говоря уже о признании того, что между ними происходило, — это вызовет катастрофу. Нет, он ответит Баснеру в самой корректной форме, ясно и спокойно, ничем не выдавая своего страха.
Доктор Зак Баснер стоял у себя в офисе у окна и растерянно смотрел на зеленый парк, раскинувшийся по ту сторону массивной трапециевидной громады западного крыла «Хис-Хоспитэла». Сеял мелкий дождь, штрихуя близлежащие дома и пенясь на их крышах. Взгляд Баснера скользнул от окна, чтобы вобрать в себя упорядоченный интерьер самого офиса. Вся стена аккуратно заставлена книгами — все, от Фомы Аквинского и Адлера до Саса[32] и Заратустры — три монолитных шкафа из ДСП с историями болезней и медицинскими записями; свободное пространство стен украшают три глиняных «Воображаемых топографии» Бойса[33], подаренные врачу признательным художником, которого Баснер вылечил от лекарственного психоза в начале семидесятых.
Да, дела идут хорошо, думал Баснер, продуктивно. Когда его «Дом идей» и зарождение «Количественной теории безумия» переживали трудные дни, Баснер придерживался полностью противоположной точки зрения. Тогда его жизнь, равно как и восприятие ее, отличалась сознательным пренебрежением всех категорий, всех классификаций, всех систем. Но с возрастом, особенно когда хаос домашней жизни стал достаточно ощутимой проблемой, он начал ценить всякую ясность, какую только мог найти в мутных водах психиатрической медицинской помощи. «Порядок в голове — это, — он обожал читать лекции студентам, — здесь и сейчас. Это все, что у нас есть, и наша обязанность выжать из этого все, что мы пожелаем».
В качестве подтверждения и одновременно опровержения этой истины, не имеющая себе равных баснеровская коллекция копролитов, в какой-то момент заполнившая ввысь и вширь все доступные поверхности, теперь строгими рядами расположилась на столе, окружив компьютер, словно космический корабль пришельцев, осажденный кучей окаменевшего дерьма. Мысли о сущем и конкретном вернули Специалиста на землю, точнее, к письму, которое он получил этим утром от Шивы Мукти из «Сент-Мангос». Через пару минут начинался обход больных, и хотя необходимости в участии Баснера не было, он решил-таки, что пойдет. Мукти направил к нему на обследование очередного пациента — Баснер в этом нисколько не сомневался. Он с некоторым интересом прочел первую часть письма Мукти, где говорилось о Мухаммеде Кабире, но почему бы не ознакомиться с его новым направлением без подготовки, как матадор, когда тот бросается на арену, становится лицом к лицу с разъяренным быком, не вооруженный ничем, кроме разума, и размахивает перед его носом плащом, чтобы разозлить животное? Эта мысль пришлась Баснеру по душе, тонкая улыбка прошила его пухлые, жабьи черты, а толстая рука потянулась к кончику мохерового галстука и начала шустро его скручивать, как язык какого-то диковинного зверя, психиатрического хищника, который настолько эволюционировал, что стал питаться назойливыми мухами психоза. Он повернулся на каблуках с той резвостью, на какую только способен шестидесятилетний мужчина, и вышел из комнаты. На столе осталось письмо Шивы Мукти, раскаленное от злости автора.
Больница «Сент-Мангос»
Отделение психиатрии
Дорогой Зак,
Пишу Вам касательно Мухаммеда Кабира, которого Вы так любезно направили ко мне за повторным заключением. Насколько богатым и полезным оказался этот случай! У меня нет желания осуждать Ваш способ лечения больного, но я вынужден сообщить, что Ваш диагноз был изменен согласно моим обследованиям. Не имея ничего общего с гипоманиакальным состоянием, состояние Кабира, как выяснилось, в высокой степени обусловлено сифилисом на поздней стадии. Мне удалось это определить, просто взяв анализ крови. Далее, несмотря на необходимость существенных уточнений, по сути, то, что говорил Кабир, — правда. Он служил в армии в чине офицера и подвергся опасности при выполнении секретного задания в Израиле.
Боюсь задеть Ваши личные чувства, но я обязан отдать дело Кабира на рассмотрение властям и в этой связи считаю необходимым указать Ваше имя на всех письмах. Разумеется, я буду держать Вас в курсе дел.
Наша ситуация принимает своего рода колебательный характер, поскольку я, в свою очередь, хотел бы воспользоваться возможностью и попросить Вас еще об одном повторном заключении. Вам должны были дать на рассмотрение случай мистера Тадеуша Вадья, которого я наблюдаю последние годы. Вадья — польский эмигрант пятидесяти семи лет — до недавнего времени работал инспектором по технике безопасности и охране труда. У него не обнаружено симптомов сильной психопатологии, за исключением ненормальной и резко выраженной формы эхолалии. Я говорю «ненормальной», потому что он скорее повторяет за собой, нежели за другими, в остальном следуя правилам обычной беседы. В каком-то смысле, говорить о патологии в данном случае было бы неверно, ибо за исключением личных неудобств, семейных трудностей и раздражения при общении с незнакомыми людьми, никакого нарушения функций не наблюдается. Однако Вадья основательно изучил свое состояние и раскопал экземпляр Вашей статьи «Два раза: повторение как итеративная когнитивная способность», что привело к предсказуемым результатам.
Коротко говоря, он сам попросил меня направить его к Вам в надежде, что Вы с Вашей превосходной хваткой в области психологии когнитивных дисфункций сможете ему помочь. Должен лишь добавить, что если этот пациент не вызовет у Вас интереса, и не принесет Вам никакой пользы, ради бога, не стесняйтесь отослать его обратно ко мне. Мне хорошо известно, насколько надоедливыми могут быть надоедливые пациенты.
Остаюсь Ваш,
д-р Шива Мукти.
Назвать «мистера Дабла», как выразился доктор Мукти, «надоедливым», было опасным и безответственным преуменьшением. Мистер Дабл мог привести в бешенство: пять минут в его компании довели бы Альберта Швейцера до того, что он стал бы грызть клавиатуру органа. Больной был психически прокаженным, его зараза прилипала ко всем, с кем он входил в контакт. Можно не сомневаться, что это не эхолалия в чистом виде, это способ реакции больного на болезнь. Он тянул резину, юлил, запинался, словом, пытался любым способом перехитрить собственные неконтролируемые мысли. Примерный разговор с ним мог быть таким:
— Как Вы себя сегодня чувствуете, Тадеуш?
— Ничего, ничего, я — я думаю-думаю п-прбвтьещенемного поработать над этим, вы заметили — п-прбвтьещенемного поработать над э-, тьфу, этим, вы заметили, тьфу ты. Больно, мать его! Больно как икота, мать его! Как икотамать-мать…
— Вы принимали пилюли, которые я Вам прописал, Тадеуш? Мне кажется, их успокоительное действие должно помочь вам.
— Две принял — две принял. Извините-извините. Две принял — две принял. Извините-извините. Господи, это кошмар какой-то — я прочел утром в газете, что, Господи, это кошмар какой-то — министр внутренних дел Великобритании…
И так далее, и тому подобное, с непредсказуемыми поворотами. Шива пробовал когнитивную терапию, прописывал тьму лекарств, пытался даже самым искренним образом общаться с пациентом. Вадья посвятил его в свои домашние обстоятельства, оказавшиеся предсказуемо чудовищными. Имелась жирнющая, злющая жена, жирнющая, до фанатизма религиозная мать, два выросших ребенка, которые, как настоящие кукушата, не хотели покидать чужое гнездо.
В начале Шива полагал, что в расстройстве Вадья должна быть какая-то положительная сторона. Как Баснер, его Немезида, выстрогал из своих безнадежных больных ступени для карьерной лестницы, так и он, Шива, станет таскать Вадья, накачав его всякой всячиной, по фешенебельным литературным салонам, где сверхъестественная способность Пола повторять огромные куски диалогов с самим собой произведет сильное впечатление на возбужденных поэтесс этаким беккетовским абсурдом. Затем поэтессы обовьются вокруг Шивы, декламируя символистские вирши с нарастающим ритмом, пока все их голоса не сольются во всеобщий гвалт. Так он всего лишь фантазировал, ибо вскоре был вынужден признать, что ничего сколько-нибудь привлекательного в болезни не было, эхолалия это или еще что. Внешний вид роли не играл. Славянская кубической формы красно-белая голова с жестким хохолком и фасадом, обнесенным сеткой лопнувших капилляров, была посажена поверх широких плеч, переходящих в страшные, похожие на ковш экскаватора, руки. Мысль, что этот несущийся человек-поезд когда-то мог отвечать стандартам безопасности, казалась смешной, особенно учитывая пьянство.
Ах да, пьянство, маленькая деталь, которую Шива забыл упомянуть в письме. Он не решался назвать Вадья алкоголиком, во-первых, по причине культурологического предубеждения — Шива считал, что все, кто носит имя «Пол», пьют не просыхая, — а во-вторых, несмотря на то, что больной глушил сливовицу и хлестал высокоградусную водку, все это можно было оправдать понятным способом самолечения.
В пабе, в компании корешей, повторяющиеся в режиме «вырезать-вставить» пассажи мистера Дабла были обычным делом. Как он рассказал терапевту, там он чувствовал себя «сво-сво-бодным-бодным». Случайные условия, вынуждавшие его повторять фрагменты речи — все эти «э-э», «мэ-э», «что», «ух», вводные «действительно», «фактически», «страшное дело» и даже целые обороты типа «нувыпоняли», «побольшомусчету» — давали понять, что он ничем не отличается от своих собутыльников, его штормит, он наклюкался до такой степени, что его вопли эхом отскакивают от стен шхуны. Но, кроме того, Шива прекрасно знал, что в пьяном виде Вадья становился опасен: если он терял контроль, то резко и окончательно.
Забыл упомянуть? В самом деле, могло ли случиться, что Мукти упустил из виду такую важную особенность состояния своего пациента? Может, Шива надеялся, что Вадья заявится в «Хис-Хоспитэл» в пьяном виде (и это инициатива скорее Шивы, чем его больного), причем до такой степени, что если Баснер рассердится или, еще хуже, даст слабину, то Вадья набросится на него?
Дэвид Элмли стал прощупывать ситуацию, встревоженный регулярностью, с какой Шива Мукти общался с Баснером, но Шива ему ни в чем не признался, только отметив про себя этот факт. Он ждал и размышлял, наблюдая за коллегами и продолжая вести себя самым образцовым образом в делах с больными, дабы не вызвать ни у кого подозрений, а, наоборот, убедить всех в своей сверхурочной занятости. Когда поступили неизбежные новости в форме записки от Кевина Уотли, старшего ординатора Баснера, Шива обнаружил, что испытывает странную легкость. Итак, думал он, просматривая скудные сведения об увечьях Баснера, полученных от руки сумасшедшего алкоголика-эхолалика — теперь действительно началось. Теперь Баснер, равно как и я, не может отрицать, что это битва насмерть. Я пролил первую кровь, теперь надо ждать еще более грозного ответа.
Шива вооружился шприцом для подкожных инъекций с достаточным количеством хлорпромазина, чтобы остановить любого берсерка на фенсиклидине. Он установил угловое зеркало на стене снаружи своей ниши, чтобы через фрамугу можно было увидеть, кто ждет его в вестибюле. Крадучись кривыми и темными коридорами старой больницы, Шива время от времени поворачивался на каблуках, чтобы в случае чего отразить атаку. Он был уверен, что теперь все настолько серьезно, что ожидать от Баснера рыцарского поведения и придерживаться выбранного оружия было бы безрассудством. Нет, к моменту очередного удара этого хитрого еврея нужно иметь под боком медсестру, ассистента, а может, даже еще одного психиатра. Чтобы остался шанс выжить, надо быть готовым к нападению из-за любого угла.
Лишь несколько дней спустя, когда Шива осознал весь смысл записки Уотли, он перестал думать, что все зашло слишком далеко. По описанию Уотли, произошедшее с Баснером вызывало боль и жалость: он лежал, распластавшись на полу отделения, а мистер Дабл пытался накормить его обломками «Ридла». У Баснера были сломаны два ребра и челюсть, при помощи которой бедолага изрек тысячи самодовольных утверждений. Он взял отгул по состоянию здоровья на неопределенный срок, но его коллеги полагали, что насовсем.
От сострадания к старику Шиву уберегли в первую очередь те самые чувства, что привели к таким крайностям поведения, теперь дико усилившимся. О каком чистом сострадании может идти речь перед лицом таких мощных атавистических императивов? Шива, чья борода была заплетена в косички, как у дикарей, а боевые слоны выстроились рядами, вышел биться с противником на старом как мир поле чести, амбиций и ненависти. Чем больше он рассуждал о развитии ситуации, тем более соглашался с ее справедливостью. Его отец был глубоко неправ, отказавшись от собственного наследства. Что могли сделать эти лихорадочные, бабьи теории девятнадцатого века против мужской традиции брахманства, которая тянется уже пять тысяч лет, если не больше? Теории, которые были — Шива не мог удержаться — поделками этих в высшей степени слабых казуистов, евреев.
Зак Баснер лежит в chaise longue[34] в небольшой комнате для переодевания, примыкающей к спальне хозяина, в своем доме на Редингтон-роуд в Хемпстеде. На самом деле, учитывая рост и вес Баснера, его ложе точнее было бы назвать chaise courte[35]. Что же касается спальни хозяина — с горечью размышлял Баснер, — то почему не хозяйки? Ему было чертовски неудобно, его лишенные волос белые голени выходили за пределы лежака, обнажая икры со вздутиями нелеченых варикозных вен. Пальцы Баснера, хрустящие вследствие артрита, сжимали груду одеял и пытались расположить ее поудобнее поверх его трясущихся форм. Похоже, у меня жар, печально думал он, хотя было это следствием побоев, нанесенных пациентом Шивы, или не связанной с инцидентом болезнью, он сказать не мог.
Из соседней комнаты до него доносилось то, что стало причиной его изгнания — буханье чемоданов и чехлов с одеждой, вынимаемой из шкафов и гардеробов, резкий шелест шелковых платьев и блузкок, постукивание друг о друга коробок с румянами, укладываемых в косметички. Шарлота — вторая по счету миссис Баснер — собиралась в очередное «маленькое путешествие». Баснер мучился душевной болью — жениться повторно было непростительной ошибкой. Он не мог отменить детей, нажитых с Шарли, но если бы с помощью какой-то смены парадигмы было бы возможно удалить ее из своей жизни, вероятно, он бы так и сделал. Слишком поздно к нему пришло осознание того, в чем он теперь находил подтверждение своим Эдиповым пережиткам: ему хватило ума предположить, что, связавшись с женщиной на двадцать лет моложе, он даст собственной жизни второе дыхание. Шарли была такой красивой и оживленной, когда Зак встретил ее на той конференции в Финляндии (которая называлась «Безграничные потери и ограниченные поражения», если память ему не изменяет). Оживленная и заботливая, как казалось с виду. Баснеру было почти шестьдесят, и он уже устал от работы, супружеских ссор и бесконечных эндшпилей в воспитании молодых. Шарли предложила ему свой торс — вкупе с неохватными плечами.
Как он мог проглядеть, что все это закончится таким вот образом? Как такое произошло с ним, уже приближающимся к семидесяти, усталым и больным, обреченным на метания по карликовой кушетке, поскольку его изменница-жена собралась слетать к своему любовнику-итальянцу? О да, у нее все еще хватает стыда выдавать это за деловую поездку и называть Массимо просто знакомым психиатром, с которым она работает над каким-то исследованием. Но для какого такого исследования требуется весь этот постоянно растущий гардероб? Разве что для сравнительного анализа воздействия белья «Ля Перла» на двух мужчин-психиатров разного возраста — когда один из них вдвое старше другого.
Баснер напрягся и немного повернулся. Немудрено, что лежать неудобно, мысленно проворчал он, с такими-то рогами. И это размышление в очередной раз вернуло его к собственной самонадеянности и безрассудству, плоды которых он теперь пожинает. Играть в espontaneo от психиатрии — в моем-то возрасте и с моим-то опытом! Приступить к осмотру нового пациента, должным образом не вникнув в записи — да просто даже не заглянув туда! Нет, в этом виноват только он сам, и больше никто.
Шарли влетела в комнату, ее пышные формы были втиснуты в дорогое платье и отдавали пьянящим ароматом быстро распространяющейся амбры. Вся покрыта китовыми кишками, усмехнулся про себя Зак, и эта мысль немного разогнала боль от радостной измены супруги.
— Вот график, Зак. — Она пошелестела листком бумаги. — Анна поднимет детей и соберет их в школу. Тебе нужно только подстраховать ее днем пару часов, когда их привезут обратно. Ты справишься с этим, правда же?
— Ну… да… но… — пролепетал он.
— Ну же, Зак, это ведь твои дети!
— Я понимаю, но разве ты не видишь, в каком я состоянии, Шарли, я едва могу говорить из-за чертовой челюсти.
— И кто в этом виноват? — огрызнулась она. — Тебе в твоем возрасте вообще не следовало бы заниматься больными, тем более в одиночку пытаться вылечить нескольких пациентов, да еще без необходимой подготовки.
— Но это моя профессия, Шарли, — то, чем я занимаюсь!
— В данный момент, Зак, ты занимаешься детьми, пока я в отъезде. Два часа днем и по ночам — небольшое одолжение, мне кажется. — Она так быстро запечатлела поцелуй на его потном лбу, словно муха приземлилась на секунду и тут же унеслась в раскрытую дверь.
Он слышал, как она вприпрыжку сбегает по лестнице, стучит каблуками в холле и открывает тяжелую входную дверь. Ожидавший внизу таксист был послан наверх и, как водится, нарисовался в комнате для переодевания; багаж Шарли располагался вокруг похожего на созревший в неурочное время года фрукт, толстого кожаного чемодана самого Зака. «Хрршо, старичок», — пробормотал таксист, добавляя свой «набор мачо» — запах сигарет и старой машины — к еще не выветрившемуся парфюму Шарли. Но Зак Баснер не ответил, он повернулся лицом к стене и, вздохнув, отгородил глухим заслоном от этого хамства свои большие, покрытые пушком уши.
Неделя присмотра за детьми в его состоянии! В его возрасте! Об этом нечего было и думать. Не то чтобы он не любил Алекса и Крессиду, но их шум, возня и неприятие правил, которые он пытался установить, жутко утомляли его. Заставляя близнецов съесть ужин, или ограничивая их время у телевизора, или отдергивая руку одного ребенка, схватившего за волосы другого, он пытался вспомнить, каким был опыт общения с его первыми детьми, как он с ними справлялся. Конечно, в то время отношения не отличались такой строгостью. Когда мальчики были совсем маленькими, вся семья жила неподалеку от пациентов «Дома идей» Зака в Уиллесдене. В те непростые времена жильцов не называли «пациентами», только «клиентами», эвфемизм, который Зак открыто презирал. И лечили их не так, каким бы буйным и необузданным ни было их поведение. Все они варились в одном котле — пациенты, врачи, взрослые и дети. Существовали обычные домашние задания: практика заказов молока, наблюдение за подготовкой уроков, азы подтирания задов, но Зак не мог припомнить, как это все осуществлялось.
Он не уклонялся от этой ответственности — вовсе нет. Он всегда гордился тем, что брал на себя долю бремени, но почему-то вневременное домашнее «сейчас» — которое не было таким уж иным в проявлении, как он часто отмечал, свободной формы активной, межличностной психотерапии — не соотносилось ни с какой четкой хронологией. Это Дэвид, старший, сломал себе зуб, сверзившись с садовой лестницы, или Бруно? А мочился в постели кто — тоже Бруно? А когда именно им обоим разрешили носить длинные брюки? Почему он так хорошо помнил обоих мальчиков, их верхние губы, нависавшие над нижними, их босые ноги — совсем не босые, а как у фавнов, получивших частное образование?
Даже теперь, когда он старательно готовил миски хлопьев и читал вслух детские книжки, успевшие стать классикой с тех пор, как он впервые познал, что значит быть родителем, Баснер пытался воскресить то изумление молодого отца, наблюдавшего за двумя миллиардами нейронов, самоорганизующихся в способность чувствовать, и видевшего подобие этого процесса на мелких поросячьих мордашках с маленькими носиками, украшенными двумя свисавшими сосульками зеленого цвета.
Но в тот вечер, блуждая кругами по кухне, кренясь на один бок, в халате, пояс которого цеплялся за модные кухонные прибамбасы, пока он героическим усилием пытался приготовить ужин для близнецов своими артритными пальцами, при этом его поврежденная челюсть болела и пот капал со лба, так вот, в тот вечер Зак Баснер не мог достичь мысленного контакта с детьми, не считая еле ощутимой возвышенной близости. Как говорится в современной поговорке, от которой его тошнило, он был им по барабану.
Совсем по-другому Зак вел себя с младшим коллегой Шивой Мукти. Он тяготился мыслью, как тесно переплетены и исполнены взаимовыручки индийские семьи. Окажись Зак на месте Мукти, вместо этой изоляции он, без сомнения, был бы окружен запахами сандала, женщинами в сари, и каждая бы наперебой пыталась облегчить груз его ответственности, помогала бы ему и всячески баловала его.
Согнувшись в три погибели в своем кабинете и слушая тошнотворный, вязкий, будто каша, звук, с которым старческие челюсти пережевывали что-то в комнате по соседству — как нечто настолько мягкое может так раздражать? — Шива Мукти терзался видениями покоя, явно доставлявшим его Немезиде наслаждение. Видения Шивы стали отвратительно подробными с тех пор, как он взял за обыкновение выкуривать «косячок» под вечер. Свою дозу экспериментов с наркотиками он получил, еще будучи студентом-медиком: немного спида в целях повышения контроля, бета-адреноблокатор для восстановления спокойствия на время устных экзаменов. Став младшим врачом, Шива, бывало, вводил себе остаток диаморфина, который колол какому-нибудь старому, измучившемуся бедняге. Однако он до сих пор никогда всерьез не отравлял ничем своего организма из соображений сохранить тонус и потенцию. Гашиш у него хранился давно — перепал от Роки, когда у того случился яркий приступ инстинкта самосохранения. Без каких-либо далеко идущих намерений, Шива бросил это богатство в ящик стола и напрочь о нем забыл.
А теперь, вот уже около недели, каждый вечер после ужина он занимал позицию возле мусорных баков позади гаража. Взирая на неогороженные участки загородных садов, каждый с безлиственным деревом и голыми шпалерами, он совершал приготовления к своей элегической церемонии. Резкий дым отдавался в его чувствительных мембранах, пока он разливался проникновенными извинениями в адрес души покойного шизофреника, а в ответ слышал пожелания долгих лет счастья.
Но однажды, когда Шива вернулся домой, на него накинулся кухонный линолеум, а лампы ударили по нему сверху столбами света. Тетушки и дядюшки верещали, словно священные мартышки, которых незнамо как занесло на другой конец земного шара. Шива удалился к себе в кабинет и заперся среди коробок с папками, где он сам себя мучил ночь за ночью, грезя о спокойном выздоровлении своего соперника.
Доктор Зак Баснер находился в санатории высшего класса в австрийском Тироле. Пока он лежал на диване в окружении подушек с сатиновыми кисточками, девицы с ямочками на щеках искусно удаляли корки с огуречных сэндвичей, а услужливые студенты-медики изображали внимание. Нападение Вадья, вовсе не имевшее характер грубого и тяжелого насилия, обернулось для Баснера возможностью растянуть слабую нить своих теоретических спекуляций. «Кто полностью понимает взаимосвязь между заболеваниями? — Шива уже слышал, как Баснер обращается к восторженной аудитории в присущем ему фирменном ораторском стиле. — Была эта самая пресловутая эхолалия моего пациента попыткой противостоять его же алкоголизму? Возможно, повторяя сам за собой слово в слово, он разыгрывал навязчиво-маниакальное расстройство? Или, напротив, не являясь ни в коей мере буйным алкоголиком, Вадья выпивал с целью медикаментозного воздействия на свою однополярную депрессию? Из этого следует, что повторы были сигналом, постоянно звучащим, дабы уберечь его от зарождающейся кататонии…»
Под воздействием старого доброго зелья Роки сценарии поведения Баснера в голове Шивы развивались и их содержание становилось настолько убедительным, что он почувствовал доверие к баснеровским лжетеоретизированиям. Шива даже коротко набросал кое-какие соображения по этому поводу, сохранив их где-то на границе сознания, с тем чтобы потом, при случае, проверить их.
Через какое-то время, неминуемо, трава начала мутить его мысли, и тогда к дому подошла тень Роки и постучалась в дверь. Дикий ужас взобрался вверх по водосточной трубе и пронзил мозг Шивы через крошечное окошко в ванной. Ощутив чье-то присутствие, когда посреди ночи он зашел в туалет, Шива поднял глаза и столкнулся с серозно-черным лицом. Печальный, изможденный рот Роки открылся, изрыгая докучливую мольбу: «Есть какая работенка, Док? Маленькая, крошечная, для меня не бывает мелких поручений. Я вычищу твои ногти за десять пенсов, да, вычищу, пока они не засверкают, как две половинки луны, о да, я справлюсь…» Шива смотрел не отрываясь в грустные мертвые глаза, после чего закрыл окошко с удивительной неспешностью, сменил одежду и спустил в трубу потраченную жизнь.
Дэвид Элмли сидел у себя в квартире в Тутинге. Она находилась на первом этаже блочного дома тридцатых годов, именовавшегося «Мимоза-Корт» и расположенного в двадцати метрах от Хай-роуд. Вокруг дома валялось битое стекло, росла пыльная трава, а в четырех этажах оттуда плоская крыша упиралась в монохромное небо. Ну и, конечно, от здания «Мимоза-Корт» расходились две спирали генетического кода южного Лондона: бесконечно перестраиваемые мясные лавки, международный пункт связи и ночной магазин. А за горизонтальными свинцовыми окнами дома скрывались невидимые жизни его обитателей.
Сначала Элмли снимал здесь комнату в квартире знакомого студента, который владел ею на правах аренды. В то время в квартире проживало четверо, каждый создавал собственный маленький мир в одной из кубических комнат, выходивших в узкий коридор. Тесная кухонька была неизменной базой для кулинарных экспериментов; кастрюли с чем-то бобовым бурлили на заляпанной жиром плите, странные фруктовые напитки готовились в массивном блендере. Элмли помнил тщательно составленные и развешанные графики дежурств, заполненные цветными полосками — свой цвет для каждого жильца, что порождало множество взволнованных противоречий. Теперь эти жесткие обвинения упрямого эгоизма и непоколебимые позы мученичества ощущались как наследие варварства, но, оборачиваясь назад, Элмли считал их всего лишь необходимыми колебаниями молодых людей на пути к взрослой атрофии.
Остались в прошлом пыльные растения в горшках и неудобные матрасы-циновки на полу, канули в Лету любимые потертые коллекции пластинок, постеров с выставок искусства в европейских столицах как не бывало, исчезли и сами одетые в джинсы студенты, которые сидели на коленях на ветхом ковре и забивали «косяки» с травой, искали языками губы друг друга, усеянные угревой сыпью, или играли в го. Один за другим, они были вытеснены собственными повзрослевшими клонами. Владение на правах аренды квартиры перешло к Элмли, а когда его бизнес был на гребне волны, он вышел из доли и в начале девяностых воспользовался своим правом купить квартиру по линии Совета.
Неудача брака с Митико столкнула Элмли в эту стабильность. Для Шивы Мукти не было сюрпризом то, что Элмли перепутал деловые мотивы с любовными отношениями — Шива понимал: кипучий и безосновательный энтузиазм побуждал Элмли видеть основу любого союза как нечто взаимозаменимое. Положение или убеждение — одно могло заменить другое.
Спустя годы Элмли обустроил квартиру со вкусом, но аскетично. Стены белые, паркетный пол выкрашен черным. Мебель и всякая техника — по минимуму, только самое необходимое и в основном по возрасту сопоставимое с самим зданием. Создавая эту среду, Элмли получал удовольствие, но теперь чувствовались холод и пустота, модернизм оказался пародией сам на себя.
После ухода Митико Элмли решил, что устроит себе достойную жизнь в качестве бакалавра. В его квартире хватит места и для работы, и для культурных поисков, и для хобби. Он станет путешествовать. В отличие от тех одиночек, что не умеют общаться с детьми, он поддерживал близкие и теплые отношения с отпрысками своих друзей. Как же бедные родители завидовали ему! Когда дети подрастали, они находили в дяде Дэвиде именно тот тип верного друга, с которым можно быть на равных, который видел разницу, когда дело касалось преодоления непростого этапа гормонального перехода от ребенка к взрослому.
К сожалению, друзей, захотевших воспитывать детей в соответствии с идеалами Элмли, не оказалось. Он мог цепляться за них — так он думал, — но расставаться с ними было испытанием. Налаживание новых отношений предполагало спонтанность, качество, которым Элмли обладал только на уровне фантазии, когда он объявлял себя готовым взяться за то, сделать это или купить еще что-то.
В результате он уцепился за Шиву Мукти. Вместе с ним бродил по ярмаркам-распродажам и суматошным игровым площадкам Кентона. Шива Мукти позволял ему полакомиться остатками со своего ломящегося от изобилия стола, будь то случайные связи или страстные поцелуи. Шиву Мукти Элмли никогда особенно не любил, но его самодельный плот, сколоченный из неловкой дружбы, наскочил на мель, и вот они вдвоем сидят друг напротив друга в столовой для сотрудников «Сент-Мангос» и обслюнявливают возрастающий институциональный характер их отношений.
Позиция крёстного в политеистической картине мира отсутствовала, но Элмли пробовал соорудить нечто особенное вместе с Моаном. Для начала он старательно запомнил дни рождения, однако Моан был поглощен семейным кругом и едва ли придавал этому значение. Шли годы супружеской жизни, и Шива, казалось, все меньше и меньше склонялся к тому, чтобы снять разделение на работу, семью и ту малость социальной жизни, которой он обладал. В компании Шивы Элмли мог находиться в переделах столовой у него на работе и изредка, когда бывал допущен, в домашней столовой семейства Мукти.
Элмли нравилось, когда Мукти приходили к нему в гости в Тутинг. Он часто думал над тем, как их угостить и чем развлечь, и представлял ту гордость, с какой он продемонстрирует им царящий вокруг порядок и уют его счастливой одинокой жизни. Элмли понимал, что в этом было что-то неправильное, похожее на желание подросшего мальчика похвастаться своими игрушками. Впрочем, это не имело значения, поскольку даже Шива с трудом решался на такой долгий вояж в южном направлении, а когда все же решался, то в итоге был в состоянии только вращать глазами, уставясь в пол гостиной и жалуясь на судьбу. Недавно Шива отважился на подобное путешествие в компании травы, перепавшей от Роки. Они оба дымили марихуаной, и Шива изливал гнев, испепеляя в раскаленных углях горячечного воображения любой жест, исходивший от Зака Баснера, отчего мозги его друга тихо шипели на сковороде подкорки. Из желания подумать о чем-нибудь более приятном, Дэвид Элмли поймал себя на том, что вражда Шивы с Баснером затягивает и его, как будто он был в нее непосредственно вовлечен, несмотря на все попытки этого избежать. Он обнаружил, что теперь видит в этом смысл. Его жизнь представляла собой последовательность неудачных связей, а в профессиональной деятельности, куда ни посмотри, все вокруг на сто восемьдесят градусов предсказуемо. Ему стало отчетливо ясно — нужно объединить этих разобщенных людей или навсегда развести их в разные стороны.
В момент прозрения, когда действие травы чуть отпустило, Дэвида Элмли с силой религиозного обращения поразило еще кое-что: осознав, что он сам должен сыграть активную роль в войне между истиной и ложью, здравым умом и сумасшествием, добром и злом, он был не способен определить, кто из психиатров прав, и даже более того — не мог решить, на чьей он стороне.
Вперед ведет только один путь, заключил Элмли, возвращаясь в собственное тело, облаченное в джинсовый костюм и клетчатую рубашку, и придал себе необходимое выражение внимания. Он наведается к Баснеру, станет одним из его пациентов-убийц и тогда поймет, что делать. Или довести начатое до конца, как бы ужасно это ни было, или раз и навсегда избавить мир от изобретателя «Риддла»[36].
Шарлота вернулась из Венеции довольная собой, как ненасытный дож. Баснер вернулся на работу. Коллеги, по крайней мере, были ему рады. Они старались убедить его смотреть на вещи проще и тратить поменьше сил на преподавание и подготовку грядущей лекции в Королевском Обществе охраны Подёнок. Но Баснер жаждал снова взнуздать норовистого мустанга врачевания. В столь почтенном, прочь сомнения, возрасте, да еще с этим Массимо, сосущим эликсир его жизни, самым лучшим для Баснера было бы заниматься тем, в чем он знает толк больше всего. Он чувствовал, что если оступится теперь, то уже навсегда.
Пациент по имени Дэвид Элмли был направлен к Баснеру врачом из Фитцровии: «…проявляет признаки острой депрессии, соматические отклонения, склонность к суициду. Я направил бы его в „Сент-Мангос“, но он уверяет, что там могут возникнуть конфликты личного характера. Возможно, пациент нуждается в курсе психотерапии или даже в краткосрочном стационарном лечении». Со впалыми щеками, оттопыренными ушами, редкими волосами, Элмли вдобавок имел манеру хлопать себя по бедру, что выглядело почти оскорбительно.
— Я торгую железными скобяными изделиями для строительства, — объявил он Баснеру. — У нас бизнес с напарником, я отвечаю за петли… а теперь… хе-хе, теперь, боюсь, меня сорвало с петель…
Он подождал, пока Баснер сглотнет смешок, и бесцеремонно уселся за странно украшенный стол толсторожего психиатра, отчего стали видны тощие лодыжки его неподвижно скрещенных ног, и, вероятно, полностью погрузился в созерцание своих ярко-лиловых носков.
Так они сидели добрых пять минут, дизайнер с сорванными петлями и слесарь душ человеческих. Вначале Элмли было очень неудобно, но постепенно энергия невозмутимости Баснера распространилась и на него. Он успокоился и стал вспоминать те кратчайшие пути, что не привели ни к чему, и те безвыходные положения, что проторили дорогу сюда.
В конечном счете, вспомнив о своем могучем скрытом намерении, ради которого он оказался в этом кабинете, Элмли заговорил:
— Мне кажется, доктор Баснер, что, прежде чем вы сможете помочь мне, вам лучше узнать немного мою историю.
После чего последовала еще одна длительная и безмолвная пауза; как спускающийся с лодыжки реликт, носок удостоился еще более преданного и участливого взгляда. Затем Баснер прочистил горло громким «Э-эгхм-м-м!» и ответил:
— Не обязательно.
Это случилось неделю назад. Сейчас Элмли смотрел в окно на видневшиеся фрагменты Тутинга и неба, нащупывая в кармане пластиковую пачку таблеток. Весь путь от северного Лондона, пока он крутил педали велосипеда с крошечными колесами мимо вереницы магазинов, связывавших Воксхолл-кросс, Стоквелл, Клэпхэм, Бэлхэм и, наконец, Тутинг, умиротворение переполняло его нутро. Знаки с изображением кебаба один за другим вырисовывались из темноты, принимая очертания отрезанного человеческого бедра с торчащей костью, отчего Дэвид Элмли еще крепче уцепился за мысль, будто он сам выбрал то, к чему его принуждали.
Несколько дней спустя Элмли опять сидел в столовой «Сент-Мангос» на своем обычном месте. Была ли тяжесть в животе вызвана антидепрессантами, которые прописал ему Баснер, или это результат их побочного эффекта? А может, это было — не важно, чем вызванное — тревожное предчувствие предательства? Трудно сказать — с тех пор, как он отправился искать помощи, Элмли будто попал в комнату, увешанную зеркалами, но, заглядывая в них, он видел не свое лицо, а маски сумасшедших людей, одновременно знакомых и незнакомых ему. То ли Баснер, словно специалист по шпионам, «раскрутил» его, то ли он сам добровольно решил стать двойным агентом? Как бы то ни было, теперь он сидел и резал ножом корнуолльский пирог на серию продольных сегментов, будто готовя его для анатомического исследования, в результате которого предстояло выяснить значение нарезанного кубиками картофеля для жизни организма, и украдкой через стол поглядывая на своего друга-тире-врага.
Казалось, что с Шивой ничего необычного не происходит: он жевал сырный сэндвич, характерно откусывая мелкие кусочки передними зубами, и нервно вертел в бугристой руке бутылочку с уксусом, заставляя ее вращаться на выпуклых у основания стенках. Но если Элмли отводил глаза, а потом снова быстро бросал на них взгляд, губы Шивы превращались в кровожадные надутые красные створки, за которыми проглядывали клыки. Да и рук у него уже было не две, а четыре, и в каждой он держал по отрезанной голове. Даже бутылочка с уксусом трансформировалась в череп, когда Шива подносил ее ко рту, истекавшему кровью. Элмли затряс головой, чтобы прогнать это кошмарное наваждение, а Шива спросил: «Все в порядке?» — на что его друг пробурчал нечто невнятное и неопределенно махнул рукой.
Во внушительном, но немного обветшавшем актовом зале Королевского Общества охраны Подёнок атмосфера была гнетущая, но заинтересованная. Среднего размера группы профессионалов-единомышленников и посвященные в курс дела непрофессионалы сидели тут и там на кожаных сиденьях. Сквозь высокие узкие окна, на которых были раздернуты вельветовые гардины, виднелся Мэлл и Сент-Джеймс-парк перед ним. Вечер выдался безоблачный и очень холодный. Иней сахарной глазурью покрыл бетонированную площадку, деревья и траву, отчего проезжавшая с хрустом машина казалась блестящей, крошечной и игрушечной. В таком виде центральный Лондон представал волшебным, как и всегда, за исключением того времени, когда стада кентавров мчались по Конститьюшн-Хилл или крылатые драконы кружились в небе над Трафальгарской площадью.
Зак Баснер стоял за кафедрой, подводя итог своей самой масштабной и всеобъемлющей лекции. В самом деле, она была настолько эклектичной, что большинство слушателей, вне зависимости от образования, смогли бы с тем или иным успехом обобщить все сказанное. Он изложил чужие аргументы и привел собственные опровержения, рассказал серию уморительных анекдотов и продемонстрировал поразительную теоретическую подкованность; лекция сопровождалась рядом удивительных артефактов, разложенных на столе, застланном сукном, а ассистент показал подборку забавных слайдов. Тон выступления был выбран настолько верно, что в любой момент достаточный процент аудитории мог ощущать то приятное состояние интеллектуального возбуждения, что идеально подходит для восприятия. В общем, лекция имела безусловный успех.
Однако нашелся один слушатель из всего зала, который не разделял общего единодушия, его голова не кивала в ответ на реплики, сознание отказывалось — даже на пару секунд — принять превосходство этого психологического оштукатуривания поверх более прочного — и убедительного — внутреннего содержания, сконструированного для самолюбования. Шива Мукти так глубоко сидел в откидном кресле, что с кафедры была видна только идеально центрованная копна его блестящих черных волос. Губы Шивы шевелились, но слова были обращены к самому себе, они интроектировали поток ремарок, который не был слышен даже его непосредственным соседям, — поправки замечаний Баснера, дискредитирующие наблюдения, полные ненависти проклятия. На пальцах левой руки Шива нарисовал гласные, на пальцах правой — согласные, и стал выгибать из них смачные, сочные акростихи. Его карие глаза, с фиолетовыми колодцами апатии и беспокойства в глубине, обстреливали актовый зал, выискивая законспирированных недругов, настроенных против него, которые сошлись здесь, в августейшем собрании, чтобы получить самый свежий отчет от своего владыки.
После того как Баснер закончил и прозвучали непродолжительные аплодисменты, аудитория поднялась и, неуклюже проследовав между кресел, разбилась на группки вокруг столиков с канапе и подносов с бокалами сладкого и кислого вина. Мужчины и женщины демонстрировали свои навыки, накопленные в течение сотен подобных сборищ. Манера, с какой они задерживались перед собеседником, какие одновременно критические и безразличные позы они принимали, как они наклонялись, давая пройти официантке с подносом, — все это наводило на мысль о непринужденной близости, возникшей за время долгих профессиональных связей.
Для Шивы это было абсолютной ерундой, криво сляпанным прикрытием их гнусной деятельности. Он спрятался за дорической колонной, сжав в кулаке пирожок с мясом с такой силой, что тот съежился на десятую долю дюйма. От пыли ковров красного цвета и длинных коричнево-малиновых гардин у Шивы свербело в носу, а его несчастные уши с обвислыми мочками страдали от гула болтовни, накатывавшей волнами одна за другой, которую с ходу понять было невозможно, но Шива не сомневался, что справился бы с этим на досуге, будь у него желание поглотить такое количество белиберды.
Он отметил, что в центре каждой группки обязательно находится еврей. У экрана проектора стоял Леви из Института психоанализа, Бернерс из «Модсли» возле бюста Роберта Бертона, Вайсбраун, директор «Гратон-Клиник», у покрытого сукном стола, и, разумеется, сам Баснер, осаждаемый у кафедры небольшой группой прихлебателей. И пока Шива наблюдал, как страшный Каббалист приказывал своим големам творить еще больший произвол, ему открылось все устройство их тайного сговора. Это не было семитским соглашением обоюдной выгоды, нет. Точно так же, как Баснер намеревался устранить Шиву Мукти при помощи психов-убийц, так и Президиум Старейшин Психо-Зиона следил за сообществом, включая не только отдельных несчастных бездельников, но целые скопления невротиков мелкого калибра, которые будут месяцами и даже годами лежать на твердой почве здравомыслия, пока кто-то случайно об них не споткнется. Нет, тут была кампания коврового бомбометания по культуре посредством производства психических болезней. Вся нынешняя зацикленность на умственных отклонениях — их рук дело, это они насаждают ее везде, куда ни посмотришь — на страницах женских журналов, по телевизору в дневное время, в академической прессе и в отделах «Помоги себе сам» крупных книжных. Тяжело больными в психическом плане — теперь снова загнанными в сообщества — были как раз федаины, террористы-самоубийцы этих монстров, обученные взрывать набитые людьми торговые центры, чтобы повергать в шквал паники счастливых покупателей.
Тут Шива Мукти прервал свои разоблачения, обнаружив, что сам разоблачен. Он заметил, как Баснер отвернулся от группы людей, с которыми только что беседовал, — лысый мужчина в костюме с мехом, женщина-кадавр с гепатитной кожей, еще одна особа неправдоподобно высокого роста с дирижаблями грудей, — и поманил Шиву составить им компанию; на его жабьих губах играла размашистая улыбка, манера Баснера была напыщенной, наигранной в квадрате, как у актера, исполняющего роль актера. Шива отступил на несколько метров и столкнулся с мерзким обронзовевшим Алканом, великим отцом-основателем «Имплицитного метода в психоанализе». Тот взвизгнул, повернулся на каблуках и выбежал из комнаты.
«А это Шива Мукти, — обратился Баснер к своим прихлебателям, — игривый, как жеребенок. Разумеется, я уже некоторое время наблюдаю за ним». И четверо его собеседников понимающее захихикали.
Зак Баснер был озадачен, вернее, находился в совершенном замешательстве. Ему не было видно, как этой молодой особе, сидевшей перед ним, с белой, будто бумага, кожей на открытых участках и пепельно-черной в местах, скрытых под пепельно-черной одеждой, удавалось сохранять вертикальное положение. Снаружи комнаты, в разгаре озаренного солнечным светом утра, во дворе психиатрического отделения «Хис-Хоспитэл» три немолодые пациентки, которые непонятным образом навсегда приютились в щелях отделения, как свернувшиеся сухие листья поздней осенью, что-то бормотали и кудахтали сами с собой, растягивая деревянные четки, насколько позволяли кожаные нити.
Баснер устроил больше, чем просто поверхностный осмотр… он заглянул в записи… Лиз Гуд, попросив медсестру присутствовать при этом. Осторожность никогда не бывает излишней, если имеешь дело с истериками, и Баснер знал по себе, чем сие может обернуться. Возможно, Лакан рассматривал женскую истерику как культурную икону, но, по представлениям Зака Баснера, в худшем случае это было опасной неприятностью, в лучшем — хорошим шилом в заднице.
Когда Лиз Гуд сняла с себя пепельно-черную облегающую одежду, ее задница больше всего напоминала общипанную гузку цыпленка. Мягкая плоть, вся в цыпках, была разрезана пополам идиотскими и совершенно непривлекательными сатиновыми с виду стрингами; кусок одежды, по мнению Баснера, имевший такое же отношение к нижнему белью, как сноска к основному тексту, но у него не было ни сил, ни желания попросить ее снять этот предмет туалета. Стринги смотрелись как наружный скелет, нелепый тазобедренный пояс, натянутый на внешнюю сторону субтильного тела. Она радостно и простодушно заявила, что понятия не имеет, что с ней такое, призналась только, что длительное время пребывала в летаргии и изнеможении, что и привело ее в отделение экстренной медицинской помощи.
Баснер заново ознакомил Лиз Гуд с теми фактами, обсуждая которые дежурный врач и сестры успели хорошенько перемыть ее тощие кости:
— Уровень гемоглобина у вас в крови — шесть, мисс Гуд, понимаете, шесть! Уровень здоровья — где-то от двенадцати до четырнадцати. Неудивительно, что вы ощущали сильную усталость и упали в обморок сегодня утром: по всем признакам вам полагается уже давно быть в гробу! Вы меня понимаете: в гробу!
Запихивая свои бледные конечности обратно в черные, пахнущие пачулями одежды, словно змея, влезающая в сброшенную кожу, Лиз Гуд остановилась и наградила Баснера изнуренной улыбкой, отягощенной любопытной смесью презрения и самоосуждения. Баснер был в замешательстве.
Он опять зашуршал бумагами, но не нашел там ничего, кроме результатов анализов и нескольких замечаний. В ответ на стандартные вопросы Лиз Гуд в любом случае не сообщала ничего информативного. Она отрицала наличие постоянного места жительства, лечащего врача или близких родственников. У нее не было ни профессии, ни истории болезни, ни религии. Она назвала свой возраст — двадцать восемь — и пол, но, судя по манере общения с Баснером, эти сведения удалось из нее вытрясти под страхом тюрьмы.
— Я повторяю, мисс Гуд, существует только одна возможная причина, по которой вы попали сюда с таким низким уровнем гемоглобина, и это связано с серьезной потерей крови в течение минувшей недели или около того. Только что мы с Джорджиной тщательно вас обследовали и не обнаружили никаких признаков травм или увечий. Если вам нечего рассказать, то нам будет совсем трудно решить, как с вами поступить.
— Я не сумасшедшая, — отозвалась она тихим, но твердым голосом и стала теребить свисающие концы своей пепельно-черной шкуры.
— Я и не предполагаю, что вы сумасшедшая, — ответил он в лучших традициях публичных выступлений, но его внутренняя система адресации завопила: ТЫ ПРОСТО БОЛЬНАЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ! — Послушайте, — продолжил он. — Я не уверен насчет курса лечения, но пока отведу вам койку в палате, чтобы вы могли восстановиться после переливания крови, которое вам необходимо. Есть еще один специалист, молодой коллега из «Сент-Мангос», знаете эту больницу? — Он решил дальше прощупать ее в надежде вызвать реакцию, чтобы попытаться определить связь пациентки с реальностью.
— Большое готическое здание около Уоррен-стрит.
— Оно самое. Так вот, этот врач, доктор Шива Мукти, мне кажется, мог бы вам помочь, я бы позвал его взглянуть на вас.
Она пожала плечами, приподняв их как пару безвольных самоубийц. Ее пальцы с обгрызанными до ужаса ногтями дернули за край ворота свитера, отчего кротовья мордочка вынырнула обратно в кабинет.
— Джорджина, отведите мисс Гуд в процедурную, — обратился Баснер к медсестре, — и разыщите, украдите или попросите нужную кровь. Думаю, переливанием стоит заняться незамедлительно.
Как только пациентка покинула кабинет и заковыляла прочь в сопровождении Джорджины, поддерживающей ее за острый с голодухи локоть, как если бы это был черепок сосуда из тонкостенного фарфора, Баснер повернулся к окну. За долгое время практики он научился не обращать внимание на мучительное мычание и лай, доносившиеся из-за двери. Когда через пятнадцать минут Джорджина вернулась и сообщила, что Лиз Гуд сбежала, он только безучастно пожал плечами. Все равно, как старик попросил бы ее сделать минет, позже подумала Джорджина, сидя в кафетерии и подцепляя языком полоски рифленых чипсов. Хотя в этом что-то есть, даже интересно.
Доктор Шива Мукти, вернувшись к многочисленным сердцам и неисчислимым объятьям своего семейства, на мгновение почувствовал ясность. Если это и не сумасшествие, то — признавал он — переживание глубокого стресса. После доклада Баснера в Королевском Обществе охраны Подёнок, он понял, что потерял сон. Было такое ощущение, что жизнь уходит из него, эмоциональный «восьмой фактор», который сторожит его чувства, прекратит страшные рыдания и остановит кровотечение. Он разбудил Моана, затем Свати. Она включила ночник, дававший шестьдесят ватт неуверенной желтизны, потом общий свет, добавивший еще добрую сотню свечей. У Шивы был срыв. Моан увидел, что его папа стоит у окна спальни и кроет матом священных мартышек, наблюдая, как те карабкаются по шпалерам на заднем дворе. «Ты спас нашего бога Раму, — кричал Шива. — Почему же ты не можешь спасти меня, черт побери?».
Свати отправила Моана спать в комнату тещи, достала из ящика стола мужа успокоительное, которое, она знала, он там хранил. Затем влетела обратно в спальню, ее пижама и халат лучились светом неземной богини, вложила в его руку стакан и, когда челюсть Шивы отвисла от изумления, кинула ему в рот таблетки. Он проглотил их, как ягненок.
На следующее утро Свати позвонила главному администратору «Сент-Мангос» и объяснила, что ее муж плохо себя чувствует. Потом она отвела Шиву к их личному врачу и просидела с ним все время, пока тот выписывал больничный. По наущению Свати, там было написано туманное «синдром хронического переутомления». Потом она привела его домой и заставила помогать ей готовить на кухне обед — вид деятельности, до сих пор ему незнакомый. В течение всего этого времени Шива был удивительно послушным и покорным. Даже когда она достала его телефонную книгу и с грохотом шлепнула ее перед ним, он все с тем же безразличным видом продолжил вынимать семена из бамии.
— Мне кажется, тебе надо с кем-то поговорить, Шива, — обратилась к нему Свати. — С каким-нибудь старым другом, желательно терапевтом, которому ты доверяешь. Надо с кем-то поговорить, так дальше нельзя. Твое поведение беспокоит Моана, он писается в постель. Его учитель сказал, что он задирает младших, что он угрюмый и замкнутый. Он тебя вообще не видит, Шива, ты не занимаешься с ним ничем, чем занимаются с детьми все отцы…
— Н… — хотел он было возразить, но она смерила его взглядом, полным такого эмоционального букета из любви, злости, жалости и отвращения, что он только кивнул в знак согласия.
Шива назначил встречу с Гуннаром Грунбейном — они были довольно дружны в медучилище. Грунбейн порекомендовал ему кое-что помимо письменных характеристик. Он обучался психоанализу под началом Адама Харли, одного из самых упорных критиков Баснера. К тому же то обстоятельство, что Грунбейн был немцем, ставило его вне тайной психо-семитской диаспоры, которая, по навязчивой идее Шивы, правила миром.
Грунбейн жил неподалеку. Кабинет доктора примыкал к стене его пугающе мрачного дома в Доллис-Хилл. Грунбейн называл это помещение кабинетом и даже умудрился придать ему вид такового, поставив там оттоманку, разместив персидские миниатюры и устроив перед дверью предбанник, но скрыть, что на самом деле это перестроенный гараж, ему так и не удалось. На не очень белых стенах сохранились масляные пятна, несмотря на огромный автоматический кондиционер.
Опираясь на историю своего кабинета, Гуннар Грунбейн применил механистический подход во врачевательстве душ. Не для него были все эти шаманские фокусы ортодоксальных школ, не разделял он и повышенно-чувствительной интерперсональности. Нет, если вы пришли к Грунбейну, то должны быть готовы, что вашу душу разложат на основные компоненты, а потом методично соберут заново. Смажут эго, снимут фаску с суперэго, вулканизируют подсознание, по всем деталям пройдутся рогожкой сопереживания, прежде чем засунуть обратно в моторный отсек личности.
«Обычно я ограничиваюсь тем, — довольно говорил он, — что демонстрирую пациенту содержимое его сознания, а дальше он уже сам думает, как быть со своей жизнью». Конечно, такая техника пользовалась абсолютным терапевтическим успехом, как и любой другой принятый метод. Его клиенты находили, что Грунбейн — либо лучший, либо худший терапевт в зависимости от того, любили они его или нет, и поступали соответствующим образом. Тем, у кого были серьезные проблемы, довольно долго вдалбливали, что они сопротивляются его методике или не откровенны сами перед собой, после чего их отправляли на поруки бедных родственников или в пасть дикому уличному кошмару Грунбейн оставался в своем гараже, где его офисное кресло черной кожи, вросшее в бетонный пол, пребывало в некоторой депрессии. Казалось, он находился в смотровом колодце, откуда мог направлять стальной взгляд прямо в хаос внутреннего мира клиентов.
Я не видел Гуннара по меньшей мере семнадцать лет, думал Шива, закидывая ноги на оттоманку. В медучилище Грунбейн был худым, с лицом эльфа, а теперь перед Шивой сидел грузный, лысеющий, средних лет мужчина. Они немного поболтали о коллегах, женах и детях. Говоря о последних, Грунбейн упомянул, что у него их трое, а Шива, заглянувший в переднюю комнату, исполненную суровости, пока шел сюда по садовой тропинке, вдруг похолодел от мысли заводить детей в атмосфере фригидности. По сравнению с этим холодным прибежищем дом Мукти предстал в более радужном свете. Старые бронзовые статуэтки важных, сидящих на корточках или скачущих богов, пыльные стены, задрапированные выцветшими шелковыми портьерами, черно-белые фотографии семейства Мукти, путешествующего по железной дороге в сторону Миссури, униформа, очки в черной оправе, похожие на глазницы испуганных лесных обитателей. Даже кухня-тире-столовая с родственниками, чавкающими и хлюпающими беззубыми деснами, была лучше, чем все это.
В гараже Грунбейн раскрыл свой набор психо-слесарных инструментов и начал отвинчивать болты, на которых держались сознание и подсознание Шивы. И, вероятно, именно потому, что Грунбейн был настолько лишен эмоций во время общения с глазу на глаз с запутавшимся клиентом, Шива обнаружил, что может говорить и говорить. О том, как его преследовал призрак собственного отца, стоявшего на углу улицы и просившего подаяния — шарик риса и кунжутных семян, чтобы освободиться из заточения, а сын бездушно отказал ему в этом. О неудачном браке, который, будто странным образом катясь в обратном направлении, приводил к тому, что Свати становилась для Шивы все более отчужденной. Упомянул о сыне Моане, которого он видел так редко, что, когда мальчик дал невероятное объяснение своим проступкам — он швырял джемом в стены, воюя с гигантской мухой, жившей за плинтусом, — Шива автоматически поставил ему диагноз шизофреника и стал думать, какое лечение подойдет шестилетнему. Наконец он начал рассказывать о своей работе и как раз подбирался к разоблачению заговора и роли Баснера во всем этом, когда Грунбейн прервал его:
— Боюсь, на сегодня наше время закончено.
— Что?
— Ровно пятьдесят минут, Шива. Мы закончим разговор в следующий раз. У меня есть окна по четвергам и пятницам.
— Но я как раз подошел к самому важному.
— Все это очень важно, Шива. То, что ты рассказал, имеет огромное значение, ты дал мне богатую почву для раздумий.
В сознании Шивы возник нежданный образ того, как Гуннар Грунбейн размышляет над его проблемами в ванной, обдумывает его неврозы, почесывая свои тевтонские яйца и намыливая свою гладкошерстную промежность. Как он всегда и подозревал: подвергнуться терапии означало заплатить за незначительную уверенность в малой толике чужого участия.
— Послушай. — Шива попытался растопить беспристрастие Гуннара Грунбейна, глядя на терапевта, как на последнюю опору. — Имеет место ситуация, и она развивается. Я к тебе не за сочувствием пришел или за советом, тут же…
— Меня ожидает следующий пациент, Шива, он тоже человек. Что бы там у тебя ни было, но придется подождать, итак, четверг или пятница? — Грунбейн взял с кресла ежедневник и ручку, приготовившись записывать, будто служащий в приемной какой-нибудь компании.
— Ладно, тогда, наверное, четверг.
— Отлично, ровно в одиннадцать, решено. — Грунбейн захлопнул ежедневник. — И вот еще что, Шива…
— Что?
— Мне стало интересно — и хотелось бы, чтоб ты об этом подумал: почему ты выбрал профессию психиатра?
В предбаннике Шива столкнулся с поразительным экземпляром: два метра черного кашемирового пальто, верх которого венчала надушенная и безупречно завитая черная борода ассирийского не то бога, не то царя. Владелец этой божественной растительности обозрел Шиву неподвижными черными глазами, но не сказал ни слова.
Свати ждала на улице, ее изящные пальцы в кружевных рукавицах из хны постукивали по рулю машины. Подчеркнув, что они с мужем поменялись ролями, она осталась на месте водителя и сама повела машину в Кентон. Шива еле сдерживал негодование: как можно вести себя настолько непрофессионально?! Получается, что клиенты Грунбейна должны покинуть гараж и прилегающую территорию до того, как закатится очередной побитый драндулет? Непрофессионально и бестактно, до такой степени бестактно, что его поведение — наряду с повышенной аналитической ретенцией — сильно попахивало патологией. Шива решил, сразу придя домой, заглянуть в справочник по психиатрии, хотя он и так был почти уверен, каким именно отклонением страдал Гуннар Грунбейн.
Остаток недели, под жестким настоянием Свати, Шива как мог глубоко погрузился в домашние дела. Все эти годы Свати смотрела и училась, будто знала, что такой день наступит. Теперь пришло время применить терапевтические навыки, почерпнутые от мужа, на нем самом. Что она и сделала с великим усердием. Дни проходили в абсолютной ясности, пациенту давались задания, и, если он выполнял их как надо, его поощряли, а если пренебрегал ими, то был наказуем соответствующим образом. Бамия и еще раз бамия.
Шива отводил Моана в школу и впервые в жизни общался с его учителями, он занимался семейным бюджетом и отчитывался перед Свати, вычистил сарай в саду и вынес мусор на свалку. После обеда Шива забирал сына из школы, а по возвращении домой они вместе занимались домашним чтением. Наградой Моану была видеоигра. Но, хоть Шива и не мог сказать об этом своей сестре-сиделке Свати, он счел, что влияние видеоигр чрезвычайно негативно. Экран телевизора начал выдуваться пузырем, как только пиксельные фигуры принялись охотиться друг за другом, после чего окончательно лопнул. Зеленые завитки из игры про джунгли, которую Моан обожал, разрослись так, что переплелись с многочисленными конечностями настольных бронзовых фигурок.
Стараясь не выказать страха перед сыном, Шива в ужасе наблюдал за тем, как Сарасвати, Калки и Ганг бросались в драку и бились с уродцами в камуфляже и с жесткими гребнями панков с того света. Моан хихикал, визжал и дергался, ловко обстреливая световыми лучами осыпающиеся стены покинутых храмов. А его отец еле сдерживался, чтобы не закричать, когда панки пытались выпрыгнуть с экрана ему на колени. Игра длилась всего час, но для Шивы это была манвантарас, сумасшедшая бойня длиной в четыре миллиона триста двадцать тысяч лет.
Во время ужина семья Мукти редко отличалась словоохотливостью. Жирные стремительные движения пальцев в рис с далом и обратно прерывались только беззубой просьбой передать блюдо или налить чего-нибудь. Шива не знал даже, сообщила ли Свати матери мужа, теткам и дядькам причину его болезни, но домочадцы никак не отреагировали на то, что он не ходит на работу. После ужина Моана отправляли спать, а остальные в полном составе набивались в одну комнату, усаживаясь перед телевизором и смотрели все подряд — полицейские сериалы, постановки, комедии, выпуски новостей, и только изредка благоговейная тишина прерывалась недовольным бормотанием кого-то из стариков. Актеры, игравшие неверных, дикторы, сообщавшие плохие новости, холерические офицеры правоохранительных служб — казалось, они жили вместо всех Мукти, которые вознеслись на небо, превратились в пожилых богов и богинь, обряженных в цветастые ткани, и взирали на этих смертных шутов внизу с ведическим цинизмом. Немощные создания, чья иллюзорная значимость может враз погаснуть от одного нажатия священным пальцем на кнопку пульта телевизора.
Когда наконец старики разбредались и Свати с Шивой шли в свою спальню, у Шивы начинались наваждения. Засыпал он с легкостью — темазепам этому способствовал, — но забвение было неизбежным. Как только его голова касалась гладкой наволочки, подушка вздымалась горой, по которой Шива скатывался в клокочущую бездну собственных кошмаров. Там он снова был худеньким голенастым мальчиком, его до блеска выглаженные серые школьные шорты колыхались на горячем адском ветру, а смертоносные джаггернауты[37] с жуткими железными оскалами радиаторов неслись ему навстречу. И когда они с ревом пролетали мимо, Шива пытался схватить плюшевых мишек, которые были к ним привязаны, отчего поролоновые внутренности несчастных медведей вываливались сквозь пушистый мех. Но внешность обманчива, а больше ничто не связывало его с детством. Джаггернауты исчезали в песчаном вихре, и Шива оставался с болезненным ощущением, что все былые восторженные совокупления были просто неистовыми объятиями с плюшевыми женщинами. Реальность оборачивалась смертью. После чего наступал нормальный сон.
Сначала картины детства были такими далекими, что скорее походили на чью-то чужую ностальгию по временам и местам, неизвестным Шиве. В этой засекреченной местности вздымавшийся у горизонта холм служил только для того, чтобы подчеркнуть абсолютную ровность серо-зеленых полей. Воздух был теплым и слабым, цвета сладкого чая с молоком и специями, словно в нем растворили землю, как если бы всякая без исключения пригоршня праха была собрана и после просеяна меж усталых пальцев. Линия железной дороги прорезала равнину тупым скальпелем, рядом вскипали кровавые розовато-лиловые вьюнки, телеграфные провода простегивали отрезки путей, а через равные интервалы узелками на проводах сидели дронго[38] с блестящими хвостами.
Затем эта картина начинала мерцать и превращалась в прозаичные холмики и пригорки средней Англии. Из окна машины Шиве открывался вид на чистенькие фермы и образцовые домишки, пока Дилип Мукти вез семью с одного придорожного пикника к другому, покоряя государства с рядами покрытых «Формайкой» столов, каждый из которых охраняли женщины в сари, скупо выдававшие чапати из «тапперуэровских»[39] коробочек.
Во взрослом возрасте Шива только однажды побывал в штате Уттар-Прадеш, тогда им двигал неуправляемый дух сомнения. Поезд из Дели с пыхтением одолевал милю за милей по равнине Ганга, пока не отхаркнул его — очередной плевок человеческой слюны — в фатальную плевательницу межкоммунальной жестокости, остановившись в отдаленном лабиринте из грязных кирпичей, коровьего навоза и неона. И все это называлось городом. В пыльном сумраке люди толпились на майдане, лихорадочно пытаясь отойти в сторону, чтобы пропустить на свое место других.
Весь в синяках от острых коленей и локтей кишащего потока, оглохший от ора, Шива кое-как умудрился подозвать тук-тук и заплатил одурманенному коноплей водителю, чтобы тот увез его прочь из города. Он добрался до остановки у дороги, это был обветшалый караван-сарай, и провел там три дня, слушая все более и более ужасающие новости о том, как убийства и грабежи распространялись по равнинам.
В конце концов, тревел-чеки компании «Томас Кук»[40] его выручили — он смог раздобыть место в микроавтобусе, направлявшемся на север, в сторону Непала. За восемью пассажирами захлопнул дверцу водитель: выразительный сикх, крутивший руль коленями, дабы его коротенькие руки оставались свободными, чтобы поглаживать огромный старый револьвер «Энфилд», который он придерживал у пояса, как стальной лингам[41].
Микроавтобус трясся по бесконечным колеям; напротив Шивы сидел какой-то хиппи из Австралии, единственным облачением которого была викторианского вида ночная рубашка. Шива решил, что, по его представлениям, примерно так выглядит традиционная индийская одежда. Милю за милей хиппи читал сонеты Шекспира, не обращая внимания на мух, ползавших по его густым светло-грязным локонам. Много позже Шиву чуть не стошнило, когда он услышал: «Сравню ли с летним днем твои черты?»[42]
Но самым выдающимся обитателем автобуса был крошечный мальчик в синих шортах и рубашке «Аэртекс», спокойно сидевший рядом со своими миниатюрными родителями. Этакое безукоризненное семейство. И как бы жарко ни было в автобусе, как бы в нем ни воняло и сколько бы мух ни заносило встречным ветром, никто из них не выказывал ни малейших признаков дискомфорта. Три долгих дня и три долгих ночи мальчик возился с игрушечной машинкой, игрушечной коровой и игрушечной губной гармошкой. Все время, что Шива наблюдал за ним, мальчик аккуратно громоздил эти предметы один на другой, используя ногу в качестве подставки: сначала машинку на корову, а корову на гармошку, потом гармошку на корову, а корову на машинку. Снова и снова, будто проверял на работоспособность новую индуистскую космологию.
В деревне, где они остановились, длинные ряды тощих мужчин открыто и фаталистично гадили у дороги в канаву, полную битого кирпича. В нескольких ярдах от этого места потрепанный брезент защищал прилавки с провизией от жестокого солнца. Высокий худой великан без одежды, не считая клетчатой набедренной повязки, готовил джалеби, вытаскивая бесконечную какашку теста из бумажного конуса и кладя ее в сковороду, до краев наполненную шипящим маслом. Шива вместе с толпой мальчишек таращился на то, как великан искусно укладывал колбаску за колбаской, втирая в них одной рукой сахар, пока те дымились на сальном листе газеты, по которому ползли древние букашки санскритского алфавита. Жара буравила Шиве виски, отбивая осколки костного мозга. Человек за искореженным прилавком мелкими порциями вынимал из жестянки сладкие консервы «Ласси»[43], поднимая ковш и затем наливая белую пену в металлические стаканы. Когда он ухмылялся, что случалось часто, его губы в пятнах от бетеля обнажали сталактит зуба, болтавшегося в верхней десне его пещероподобного рта. В море молока Шива заметил айсберги. Он знал, что их делали из неочищенной воды, но ведь от одного стаканчика вреда не будет? Уж очень ему хотелось остановить сумасшедшего, который трепанировал жарой его череп.
Через три месяца, два кресала и четверть мира спустя, Шива лежал на кушетке для обследования в больнице тропических болезней, очередной больной дизентерией с субконтинента, понятия не имевший, насколько неприятной может быть колоноскопия. Врач, живо реагирующий господин с внушительным прикусом, заставил лежащего на боку Шиву принять позу велосипедиста, после чего вставил стальную трубку ему в анус. Затем поднес глаз к другому концу трубки.
— Что вы видите? — спросил Шива, поскольку врач, казалось, не стремился выражать своего мнения по ту сторону от натужного хрюканья и неприятного бульканья.
— Ничего особенного, — услышал он в ответ. — Всего лишь фекалии, похожие на кроликов.
— Ну, так штовыхотите, если смотрите в трубку, которую сами вставили мне в задницу? — огрызнулся Шива, но это не возымело действия на специалиста по тропическим болезням; он просто извлек трубку с характерным хлопком — «плоп» — и велел ему одеваться.
Долгое время сновидения Шивы были гораздо реалистичнее бодрствования. Эти сновидения пугали его. Он метался и стонал под пристальным взглядом худенькой, изящной докторши. На протяжении многих лет Шива опробовал имевшиеся в его распоряжении средства диагностики на своей жене, запихивая ее то в одну, то в другую дисфункциональную колодку, но со Свати все было в порядке. Ее достаточно категорическое неприятие близости, утрированная поглощенность домашним хозяйством, разумная набожность — все это не было следствием невроза или каких-либо отклонений в поведении. Нет, Свати Мукти осознала неуравновешенность мужа вскоре после свадьбы. Она выжидала, прежде чем отважиться на беременность, не имея потребности в постылой контрацепции, поскольку Шива был полностью погружен в себя. Едва забеременев Моаном, она уже жалела об этом. Раздражительность Шивы, перепады его настроения, его странные представления о вере — Свати не знала, что и думать. Почитав профессиональные руководства мужа, она пришла к выводу, что если он и не шизофреник, то, по крайней мере, находится в пограничном состоянии.
О том, чтобы завести еще детей, не хотелось даже думать. Наблюдать за Моаном и пытаться угадать, какие психологические проблемы у него могут возникнуть, уже было достаточным испытанием. Этот груз, да плюс ко всему — ожидание того, что муж свалится; надо быть начеку и, если что, подставить под него стул, как под пьяного. Шива считал, что жена его не любит, но на самом деле любовь Свати была настолько сложной и глубокой, что Шива оказался не готов ее принять. Свати изо всех сил старалась не дать ему упасть, и не потому, что он был любящим мужем или ответственным отцом — ни то, ни другое, — а как частичное возмещение долга его пациентов. Так, Свати Мукти, вытянувшись в постели по струнке в лоскутной ночной рубашке с вышитым на левой груди павлином, смотрела на измученного мужа и дожидалась утра. Сомнения прочь, ему надо и дальше ходить на сеансы к Грунбейну на неформальной основе; госпитализация станет следующим шагом.
Хныча и лязгая зубами, Шива распахнул ворота и вступил на очередное поле своей потешной фермы. Он вывел корову в изрытый копытами угол возле корыта с водой, затем спустил брюки, готовясь покрыть ее. Его первая жена Сандра брыкалась и мычала под ним. Несмотря на возбуждение поднявшейся плоти, Шива все же заметил с благородной досадой брахмана брызги серовато-синих капель на внутренней стороне ее ануса. Конические пальцы Сандры, напоминавшие ювелирные подставки для колец в форме деревьев, зарылись в землистую перину, а ее мычание высокими нотами разряжало давящую атмосферу.
— Что это за дела, Шива? — крикнул Зак Баснер, одной рукой раскрывая дверь настежь, другой включая свет, третьей поправляя очки, а четвертой скручивая и раскручивая ворсистый язык своего мохерового галстука. — Мне не кажется, что удовлетворение эротических фантазий, связанных с твоей бывшей женой, приведет тебя к чему-то серьезному, во всяком случае, в отношении карьеры.
Сандра увидала окровавленные зубы Баснера, мяукая, выскользнула из-под Шивы и забилась в дальний угол мрачной тесной студенческой комнатушки. Рот Шивы забило песком абсолютной подавленности. Баснер подошел к мягкой односпальной кровати и присел на сбитые простыни. Положив одну руку на плечо Шиве, он продолжил:
— Необузданная женская страсть, ее деструктивные и всепоглощающие аспекты… — Двумя другими руками он теребил фалды своего белого пиджака, меж бортов которого показался вздувшийся бугор, скрытый вельветом брюк. — Но, Шива, такая характеристика еврея немного отдает клише, не правда ли?
— К-как ты можешь б-быть одновременно евреем и б-богом?
— А так, — протянул Баснер. — Я, как видишь, Закибасна, твоя супруга, но это не мешает тебе примерять самые жестокие фантазии на меня, мм-м?
Шива попытался ответить на такое обвинение, но из его рта вырвался только сухой треск. В любом случае, это было не важно, потому как Закибасна не слушала — она точным движением накинула на шею Шиве веревку от очков и теперь затягивала петлю. Шива почувствовал, как вздулись кровеносные сосуды на лице, будто какой-то ребенок, исчадье ада, лопал шарики пузырчатой упаковки. В конце концов, все погрузилось в алую тьму.
Свати дала Шиве выспаться, но, отведя сына в школу и вернувшись, обнаружила, что ее муж уже встал, надел костюм и повязал галстук.
— Сегодня утром ты должен пойти к доктору Грунбейну, — сказала она. — Зачем ты так вырядился?
— Больше я с этим жуликом никаких дел иметь не собираюсь, — ответил Шива. — Я в тысячу раз лучше него образован, к тому же мне пора на работу. Я поправился.
— Не идиотничай, Шива. — Она положила руку ему на плечо. — Минувшей ночью ты бредил во сне, тебе нельзя в больницу.
— Можно. — Он скинул с плеча ее руку. — И даже нужно, и не пытайся… — Он взял свой кейс и провальсировал к входной двери: — остановить меня!
Он стартовал в приличном темпе, обогнул тихий поворот у Кентон-парк-Кресент и дальше по Кентон-парк-роуд вышел на Кентон-роуд. От развилки до Кентонской станции подземки полмили пешком. Кентон, Кентон, Кентон — для маятника жизни Шивы эти два слога означали дом, рутину, прочную внутреннюю связь со всем земным. Кен-тон. Кен, тон. Что означают эти слоги сами по себе? Тонна Кенов[44] или, на шотландском диалекте, груз знаний? А может, это всего лишь звуки, «кен» и «тон», полные того же смысла для Шивы, что и слова на мандаринском диалекте китайского, значение которых резко меняется в зависимости от тона. Шиве казалось, что «Кен-тон» на мандаринском могло означать нечто сложное и поэтичное, например, то чувство, что возникает у идущего к станции метро, именно этим утром, когда он решил не поддаться душевному срыву, а победить своих врагов.
Мне нужно, чтобы меня крепко обняли, вдруг понял Шива. Почему нельзя войти в этот неухоженный сад, постучаться в эту дверь с облупившейся краской и упасть в объятья располневшей и расстроенной женщины, которая покажется на пороге? В то же мгновение мысль о линии метро Бейкерлоо-лайн и Оксфорд-циркус, затем о Централ-лайн в сторону Тоттенхэм-Корт-роуд показалась ему пугающе чуждой. Предстоит бесконечная дорога, грубая сила столицы засквозит в каждой клеточке сиденья цвета электрик в вагоне метро. Свати была права, он не готов к этому. Он болен, лучше бы вернуться, позже посетить Грунбейна, добиться хоть какой-то ясности в голове. Что там этот Гуннар велел ему сделать в качестве психотерапевтического задания на дом? Подумать над вопросом… но над каким? Ах да, почему он решил стать психиатром.
Чтобы угодить отцу, подумал Шива. В ранней юности, когда они с отцом были ближе, Дилип Мукти посвятил сына в свою интеллектуальную святыню и начал брать его с собой в длительные и бессмысленные поездки на общественном транспорте, ставшие выражением доверительности их отношений. Отец и сын искали прибежища, чтобы подобраться ближе друг к другу. Сонные не в часы пик электрички глухо грохотали по рельсам в сторону Беркхэмстеда, Чертси и Эмершэма; автобусы «Грин-лайн» катили по глубоким туннелям и дорогам Кентиш-Уилд; вечное метро, лондонские городские автобусы, все пути были открыты отцу, стоило ему махнуть своим удостоверением. Во время этих непонятных разъездов Дилип Мукти говорил, а Шива слушал. Глядя на дома у обочины — каждый с полоской сада, пятном сарая, промельком оранжереи, ребенком, выхваченным в момент игры в мяч, — Дилип рассказывал сыну о своем детстве в шипящем логове ядовитых змей — религиозных политиков высшей касты. Имена — Вивекананда, Рамакришна — почти ни о чем не говорили мальчику, секты, которые упоминал отец — Арио и Брама-Самадж, — казалось, не имели никакого отношения к миру Шивы, состоявшему из клик, крикетных команд, гребли на каноэ по водохранилищу Уэлш-Харп и ухаживаний на школьных дискотеках.
Так же далека была от Шивы основная дилемма всей жизни его отца — продолжать ли ему семейные традиции или окончательно порвать с этим. Дилип Мукти хотел убедить Шиву, что в его возрасте нужно интересоваться исключительно тем, может ли истина примириться с древними религиозными практиками или же ей стоит принять реалии современности. А Шиву занимала лишь мерзость откровенной порнухи, ходившей по рукам в школьных туалетах для мальчиков. Неужели правда, что у девочек, на которых он смотрел сквозь романтические линзы пастельных тонов, были такие же зияющие раны под их юбочками, больше похожими на набедренные повязки?
Дилип Мукти говорил о себе в манере, исключавшей личные местоимения. «Что делать? Куда пойти? Одно дело бастовать, совсем другое — понимать, чего ради. Податься в Англию? Многие уже рванули из экономических соображений, но из соображений мировоззрения? И что дальше?» Годами позже Шива понял, что это был просто способ общения на втором языке, но тогда отцовские воспоминания носили характер откровений, как будто их изрекал новоявленный Рамаяна.
Дилип Мукти мог бороться с узами своей касты, класса, культуры и нации, но не мог отказаться от джнаны, способа познания мира. В косматых лицах мыслителей эпохи Просвещения отец Шивы отыскал еще одну разновидность смирти — того, что держится в памяти — и старался запомнить ее, создавая свою собственную устную традицию при передаче сыну.
О, эти бесконечные путешествия! Дорога туда и обратно, во время которой отец разглагольствовал о Дарвине, Милле, Марксе и даже Фрейде, с томиком «Эвримен»[45] — свидетельство важного мыслителя, — лежащим, как бутерброд, на коленях в раскрытом виде и обнаруживающим начинку образованности. Почему Шива стал врачом? В угоду отцу. А почему психиатром? Не просто чтобы угодить отцу. К этому ли призывал Дилип Мукти в ответ на мили гудрона и стальных рельсов? Воспользоваться высшими способностями рассудка, дабы вычленить иррациональное, отделить его и уничтожить? Мартышек — в клетки, слонов — таскать тяжести, тигров — пристрелить, змей — укротить. Полный, вечно зарождающийся вновь, меняющий форму индуистский бестиарий станет подходящей пищей для его наследника на стезе психолога-вивисектора.
К тому моменту, когда Шива подошел к поезду, Дилип Мукти почти полностью вернулся в свое прежнее состояние. Его брюки были взрезаны по швам и превратились в лунги. Он даже забросил садоводство, заявив, что «земля не родит». Но Шива понимал, что теперь, приближаясь к концу жизни, отец боялся загрязнения. Боялся, что контакты с Джоном Иннесом на предмет посадок могли лишить его шанса достичь просветления иного рода. Итак, подобно Эдипу, будучи преисполненен самых лучших намерений, Шива вдруг обнаружил, что совершает отцеубийство. По контрасту с тем, что Дилип снова облачился в религиозные одежды предков, белый пиджак Шивы выглядел высокомерно и был оскорбительной частью вооружения его личности.
В последние годы жизни, несмотря на женитьбу Шивы на Свати, Дилип часто вспоминал о позоре сына: о его жалкой интрижке с «английской девкой». Казалось, Дилип верил, что именно этот импульсивный акт коренным образом изменил статус всего клана Мукти и в сильной степени повлиял на решение — не совсем его собственное — покинуть Индию и искать правды на Западе. Когда прочли завещание усопшего, выяснилось, что исполнение его последней воли — доставить прах в Варанаси, где развеять над Гангом, — было возложено на плечи шурина Джаеша. Шива остался в Кентоне, удивительным образом реинкарнировав в воображаемый образ отца, некогда им же отвергнутый.
«Почему, отец? — громко вопрошал Шива, стоя у цветочного киоска неподалеку от станции. — Почему ты не мог любить меня так, как положено отцу? В конце концов, я был твоим единственным сыном». Но тень Дилипа, так долго маячившая на периферии мутнеющего воображения Шивы, теперь пропала из поля зрения. Шива купил билет, сел в поезд и промучился всю дорогу до города.
Как бы там ни волновались в больнице, желание снова увидеть Мукти в ближайшее время было пропорционально потребности в его услугах. Едва ли задавленным коллегам Шивы было дело до того, свихнулся он или нет, все, что их занимало, — ответственность за несметное количество больных, которую он взвалит на свои плечи. Больных вроде Дарлин Дэвис: утром портье обнаружил эту молодую женщину в глубоком обмороке, она лежала возле урны, полной медицинского мусора, неподалеку от входа в отделение экстренной медицинской помощи. «У нее уровень гемоглобина — шесть. Шесть!» — воскликнул помощник Шивы, заглянув в ее записи, и нырнул обратно в свою нишу.
Дарлин Дэвис слишком хорошо подходила для «Сент-Мангос». В обтягивающей черной одежде и с пепельно-черными волосами а-ля Штруввельпетер[46] она сочетала все готические атрибуты в одном мрачном обличии. Ее кожа была настолько белой, глаза настолько запавшими, а рот до такой степени синюшным от помады, что, подвернись Шиве гроб, он бы не задумываясь запихнул ее туда. Дарлин Дэвис сидела, раскачиваясь на собственной заднице, обернутая в собственные конечности, пока он ходил туда-сюда и задавал всякие вопросы. Как она умудрилась потерять так много крови? Понимает ли она хоть приблизительно, что с ней не так? Кто был ее лечащим врачом? Сначала она вела себя, как многие военнопленные психических войн, отрицая все, кроме собственного имени и половой принадлежности. Только когда Шива начал беседовать сам с собой — «Я всегда жил в окружении семьи или с друзьями, но мне интересно, что этот такое — жить одному», — Дэвис откликнулась:
— Я живу не одна. — В ее голосе слышалась гордость. — Я живу с компанией… э-э… наверно, вы бы их назвали творческими людьми.
— А вы как их называете?
— Художники.
— Понятно, и где это сообщество художников находится?
— В Лондоне.
— Догадываюсь.
— И в Париже.
— Париж, ну да, там мило.
— Без понятия насчет мило, но там нереально круто. Там мы в основном и зависаем, а как надоест, сваливаем, берем любую рвань на колесах, типа фургон, что угодно, и вперед. Еще одна точка с другой стороны этого стремного парка, Бут Шамон, слыхали?
— Не то чтобы…
— Да ладно. — Дэвис с явным удовольствием поплотнее обхватила себя руками. — Здоровый, как корыто из известняка, вырезанное в холме. Все, что осталось от скалы, — похожая на острие штуковина посередине, к которой ведет мост. Диггер говорил, что сюрреалисты называли его «Мостом самоубийств», а этот чувак, поэт, Арагорн…
— Арагон.
— Да хоть как. Короче, этот малый сказал, что люди, просто вышедшие типа по магазинам прошвырнуться… короче, их вдруг начинало штырить… ну… по ходу, кинуться с моста их тянуло.
— А кто такой Диггер?
— Один чувак.
— Художник?
— Просто чувак.
И так далее в том же духе. Она перескакивала с пятого на десятое и сыпала идиотскими словами, составлявшими точки и тире телеграммы, которая передавала Шиве новости, опережаемые образами и видениями каких-то важных командных центров в мозгу Дарлин. Когда он вновь вернул разговор в русло ее физического состояния, она рассердилась.
— Ниченезнаю!
— Но вы должны знать: у вас огромная потеря крови, литр как минимум, при вашем уровне гемоглобина… — Шива, прохаживаясь, посмотрел на ее костлявую шею. — Скажите, Дарлин, — этого не надо стесняться или бояться: вы наносили себе порезы?
— Нет.
— Не было ли с вами несчастного случая за последнюю неделю?
— Нет.
— Аборт?
— Нет — перестаньте пороть чушь! Слушайте, я знаю, что мне нужна кровь, так почему вы мне ее не даете?
— Все не так просто, Дарлин, сначала вас нужно осмотреть.
— Ну так вперед. — И она стала расстегиваться и стаскивать с себя тянущиеся черные предметы одежды, обнажая бледные бугорчатые конечности так стремительно, как будто выдергивала их из земли.
— Постойте, постойте, — забормотал Шива. — Я позову помощницу.
Шива вышел. В предбаннике сидел некий господин лет тридцати и читал глянцевый журнал. Даже мельком Шива заметил контраст между сияющими лицами на обложке журнала и бледностью мужчины. Его крупный нос был весь в шрамах от прыщей, а гнойные следы бакенбард соединяли непослушные седоватые волосы с небритыми щеками. Он уставился на Шиву, который тут же почувствовал, что между ним и Дарлин есть какая-то связь.
Шива перегнулся через стол служащего в приемной и прошептал ему:
— Позовите охрану, пусть они поставят кого-нибудь в коридоре. У меня в кабинете потенциально опасный пациент, женщина, и она не должна покинуть больницу ни при каких обстоятельствах. И еще… — Он еще понизил голос. — Позовите Шэрон, будьте добры. Она должна помочь мне с осмотром.
Когда спустя пять минут появилась младшая медсестра, Дарлин тряслась от холода в больничном халате, а Шива Мукти сидел за столом, выписывая номера из телефонного справочника.
— Пожалуйста, Шэрон, обследуйте мисс Дэвис по полной программе. Поищите, нет ли каких травм или шрамов на коже, даже самых ничтожных — эта юная леди потеряла много крови. — Он игриво улыбнулся. — А мне надо сделать пару звонков. — И он оставил их вдвоем.
Шэрон попросила Дарлин снять больничную одежду. Под одеждой ничего не оказалось, не считая черных сатиновых стрингов, на ее теле смотревшихся как нечто инородное и не имевших никакого отношения к сексуальной привлекательности, — так накладные усы никогда не заменят настоящие. Шэрон поразили волосы на теле Дарлин — при столь глубокой стадии анорексии вероятнее было бы столкнуться с грубой, шершавой кожей. Она внимательно и добросовестно обследовала все покрытое мурашками тело Дарлин, сектор за сектором, но не нашла никаких шрамов на ее полупрозрачной коже, решительно ничего, что могло быть следствием неумелой откачки литра крови. Шэрон знала, что должна попросить Дарлин снять стринги и совершить вагинальный и ректальный осмотр, но все имеет свои пределы.
Тем временем в офисе чуть дальше по коридору доктор Мукти выяснял подробности по телефону. Он ни на секунду не верил, что словосочетание «Дарлин Дэвис» было настоящим именем пациентки, и, чем больше размышлял, тем больше убеждался, что эта юная леди уже не в первый раз заявляется в отделение экстренной медицинской помощи лондонских больниц с пугающим шестым уровнем гемоглобина. Сначала он связался с отделением ЭМП внизу и спросил, не обращалась ли к ним за последний год пациентка, по описанию похожая на Дарлин. Ничего. Но потом, когда он уже бросил свои телефонные попытки, неожиданно посыпались результаты. Женщине двадцати восьми лет в состоянии как у Дарлин и точно так же не идущей на контакт переливали кровь в Уиттингтоне шесть месяцев назад. Еще одной молодой особе была проведена та же процедура в Миддлсексе двумя месяцами ранее, а в начале лета прошлого года дарлинообразную пациентку наблюдали в «Сент-Томас», но та сбежала, когда ее привели к дежурному психиатру. Последнее место, куда дал запрос Шива, было отделение ЭМП в «Хис-Хоспитэл». Да, появлялась, ее отправили к доктору Баснеру, но от него она тоже скрылась, прежде чем ей была оказана помощь.
Ручеек холодного пота заструился по спине Шивы. Баснер. Жирная свинья, пьющая кровь этой девушки. Вывод неизбежен: что бы она там ни говорила, у нее систематически выкачивали кровь. Баснер был в еще большей степени дьявол и макиавеллианец, чем Шива мог когда-либо представить. Он «гонял» Дарлин по городу целый год, ухватившись за молодую сумасшедшую как за превосходное оружие для дуэли с Шивой.
Шива дрожащей рукой вернул трубку на место. Медленно подошел к двери и выглянул в коридор. Диран, полный охранник-нигериец, прохаживался взад-вперед. На посту он проявлял практически неистовую апатичность, но, по крайней мере, был здоровенным амбалом. Шива занырнул обратно — новые связи заискрили в его горячечном мозгу. Тот, с растрепанными волосами, — ее подельник? Или тоже один из людей Баснера? Как бы то ни было на самом деле, действовать следовало стремительно.
Спиной к неровной стене Шива прошуршал по коридору. Ну, точно, он все еще там, поднял глаза и посмотрел на психиатра пиявящим взглядом, исполненным понимания. Шива вздрогнул. А вдруг он взбесится, если Дарлин долго не будет? Выглядит достаточно ненормальным, от него можно ждать чего угодно даже среди утренней суеты в «Сент-Мангос».
Шива повернулся спиной к основному коридору и дал знак Дирану.
— Сюда, — позвал он. Полный нигериец зашаркал, приближаясь. — Будь начеку.
— Есть.
Собравшись с духом, Шива решился встретить опасность лицом к лицу. Он подошел и сел рядом с пациентом.
— Вы — друг Дарлин?
— Кого? — Смущение пациента казалось искренним.
— Молодой дамы у меня в кабинете.
— А, ну да, она позвонила и сказала, что сидит здесь, вот я и рванул сюда, думал отвезти ее домой после всего, что с ней должны…
— Должны?..
— Ну, лечение, вроде, которое…
— Послушайте, мистер…
— Диггер.
— Да, Диггер, чудесно, слушайте внимательно. Я думаю, что эта юная леди систематически теряла кровь в больших количествах, судя по всему. Пока мне еще не ясно, по какой причине, но я намерен это выяснить. Вы могли бы мне что-нибудь рассказать?
— Я вам много всего могу рассказать. — Диггер отложил журнал и принял позу профессора, нога на ногу, скрещенные пальцы на колене. — О силах, импульсах, законах и поступках… Но вряд ли мои россказни помогут, это не связано со всей вашей хренатенью.
— Хренатенью?
— Ваш халат мясника, ножи и шила для разделки крупного рогатого скота, антипсихотические тараканы на ужин — ну и прочая хренатень в этом роде.
— Понимаю. — Шива поправил лацканы халата и откинулся в кресле. — Вы говорите о моей должности психиатра. — Несмотря на трескучее натяжение в воздухе, он любовался собой. Какая-то жуткая общность была между этим субъектом в струпьях и загадочной малокровкой.
— Да-да, бедный доктор Айболит, продался говеным фармакологам. Да.
— Скажите… — Шива нагнулся, чтобы посмотреть Диггеру прямо в глаза — зрачки были не больше булавочных головок. — Вы живете вместе с Дарлин?
— Живу с ней, сплю с ней, дою ее, пью ее — вам-то что?
— Значит, вы — один из этих… художников?
— Можете и так назвать.
— И вы кочуете между Лондоном и Парижем? — Шиве все это напоминало подколы на пьяных посиделках.
— Между Вавилоном и Кушем[47], между землей и небом. Точно, мы ловим падающую звезду, и она типа распарывает нам руки на лоскуты.
— Типичная форма шизофрении, — невольно пробормотал Шива.
— Чево-чево?
— Ничего-ничего, — елейно отозвался Шива. — Ничего, что затрагивало бы лично вас. Но вызывает опасение состояние вашей подруги и, что еще важней, как она до такого состояния дошла. Послушайте, Диггер, у меня есть все основания полагать, что вы как-то связаны с потерями крови Дарлин, раз вы так много времени проводите вместе. Тут попахивает криминалом, так что, если вам есть что сказать, думаю, следует это сделать, пока не подключилась полиция.
Но Диггер только пронзил Шиву своими реактивными глазками-булавками, после чего процедил:
— Ни-че-го.
В кабинете Дарлин по-прежнему сидела в кресле, больничный халат висел на ней, как на вешалке.
— Ничего не могу обнаружить, — проговорила Шэрон, как только Шива вошел.
— Никаких травм, синяков, порезов, даже следов от уколов?
— Говорю же, нет.
— И вы тщательно осмотрели ее, в том числе вагинально и ректально?
Шэрон покраснела.
— Ну… нет, я не подумала…
— Чего не подумали? — взорвался Шива. — Ладно, не важно, сейчас сделаем. Вас не затруднит снять халатик, мисс Дэвис, и стринги тоже, будьте добры.
Халат упал с ее вешалочных плеч, и она стала похожа на осколок матового мрамора, весь в прожилках, отвратительно обнаженный лучами солнца, струившимися в окно. Она была настолько слаба, что для равновесия ухватилась за спинку кресла, освобождаясь от клочка нейлона. Без него она выглядела еще хуже. Стринги были чем-то вроде вытяжного троса, и теперь весь ужас ее состояния раскрылся над ней, как парашют.
— Хорошо, спасибо. Шэрон, помогите, пожалуйста, мисс Дэвис лечь на кушетку.
Сестра обхватила кусок мрамора осторожно, словно боясь порезаться, и они вдвоем заковыляли по паркету. Когда молодая леди приняла горизонтальное положение, Шива приблизился к ней, натянув резиновые перчатки. Вот она, есть, в незащищенной полости ее паха. Не было нужды в вагинальном или ректальном осмотре, поскольку все уже обнаружено. Полдюйма в длину, синевато-багровая в середине и желтоватая с черным по краям. Ошибки быть не могло — это ранка от катетера.
— В итоге, я вытряс все это из нее.
— Что, кровь?
— Ты что, совсем меня не слушаешь? — Шива перегнулся через стол, буравя своим оживленным взглядом окаменевшее лицо Элмли.
— Нет-нет, я слушал, просто хотел прояснить, что именно ты из нее вытряс. То есть весь рассказ же про кровь, так?
С Элмли определенно было что-то не так. Его обычный щенячий энтузиазм сорвал поводок и удрал — даже такой равнодушный и нелюбящий друг, как Шива, заметил это. А заметив, не смог припомнить, видел ли Элмли в последнее время, минимум, за две-три недели перед собственным кратким отсутствием. Теперь у Элмли был отстраненный и глупый вид человека, сидящего на лекарствах. И, кроме того, была в нем какая-то шероховатость, даже потрепанность, чего прежде Шива не наблюдал.
— Так ты хочешь узнать или нет?
— Да, я сгораю от любопытства! — Элмли изо всех сил попытался изобразить это самое сгорание, разинув рот и направив на Шиву пылающий взор, до того метавшийся по столовой.
— Поскольку я поставил ее перед лицом очевидного — приемы под вымышленными именами в других больницах и шрам от катетера, — она раскололась. Оказалось, это культ кровопускания!
— Ты серьезно?
— Абсолютно! Сатанинский культ кровопускания, а она — чертова ведьма в этой стае или скорее банк крови. Все подробности обстоятельств подтвердились. Она состоит в группе, которая кочует между притонами в Лондоне и Париже. Но они не художники, разве что некое творчество можно усмотреть во всех этих дьявольских играх. В общем, каждые пару месяцев они берут две-три добрые пинты крови у бедной девицы, мешают с землей, спермой и чем-то еще, затем что-то малюют на протяжении всего шоу, пентаграммы, видимо. Странновато. — Шива замолчал, подыскивая верные слова. — Но уж больно охотно она мне все это рассказала — будто заранее подготовилась.
— И что ты тогда сделал?
— То есть?
— Ну, с ней, с этой молодой особой?
— А ты как, блин, полагаешь, что я с ней сделал? Сунул ее в палату быстрее, чем ты успел бы пикнуть, она свихнутая, точно хренов мешок со змеями. И я выяснил это, Дейв. Ото всех остальных знахарей-ухарей она улизнула, но не от меня. Я ее отправил прямиком в отделение — там ей сделают переливание. Накачаем ее, а потом доберемся до дна этого идиотизма с культом.
— Я бы подумал… подумал бы… — на все лады затянул Элмли, туда-сюда водя пластиковой ложкой со слоем взбитых сливок. — Я бы подумал…
— Я слишком кататоник для прочих мыслей, — вставил Шива. — Что это с тобой сегодня? Если бы я не знал тебя прежде, решил бы, что ты обкурился.
— Я никогда не курю на работе, ты же знаешь.
— Да-да, с тобой случился несчастный случай на производстве, не тем концом петлю к двери приладил.
— Строго говоря, — тон Элмли был ровным, но глаза горели от ярости, — это невозможно.
— Строго говоря, что ты хотел сказать перед тем, как мы углубились в этот многословный аппендикс?
— Только то… — Наконец крошеная ложечка бисквита со взбитыми сливками достигла рта Элмли. — Что ее бойфренд — по моему разумению — это шанс выведать побольше.
— Ты прав. — Шива, казалось, слегка смутился. — Я действительно думал об этом, и не только из соображений узнать побольше, но потому, что он и остальные фрики, должно быть, сталкивались с криминалом. Но этот гребаный жиртрес из Нигерии, наш охранник, даже штаны на своей заднице не удержал бы, не будь ремня. Спокойно дал ее бойфренду уйти. Правда, если мы ее не выпустим, он скорее всего снова объявится, в смысле, она — как наживка, а он…
Шива резко замолчал. Во время беседы он безостановочно запихивал себе в рот кусочки курицы и пережевывал их, брызгая гневом. Теперь же сидел, остолбенев и разинув рот, одинокая мясная жила свисала с его нижней губы. Элмли — хоть и не был гуттаперчевым — повернулся на сто восемьдесят градусов, сидя на своем стуле, чтобы увидеть, на что уставился его друг. Бледный с лица, волосы в разные стороны, небрит, что-то в районе тридцатника — обладатель этих достоинств грозно смотрел на них.
— Это он, — выдохнул Шива, — ее бойфренд, пропади он пропадом.
Элмли отметил внезапную перемену в обычно вонючей и уютной атмосфере столовой, где он вдруг остался совсем один в эпицентре ветров, под проливным дождем, а вокруг сгущалась зловещая тьма. Мужчина поднялся с того места, где сидел, и подошел к ним, чуть не споткнувшись об их столик, настолько он торопился. Элмли удивился, что им не пришлось его уговаривать. Мужчина подсел к ним за стол.
— Меня зовут Диггер. — Он нацелил свой подбородок на Элмли, как будто собираясь ударить его в лицо острием. — О чем этот вот говорил только что?
— Ни-ни о чем.
Не столько атмосфера открытой угрозы, которой веяло от Диггера, насторожила Элмли, сколько опасение, что он пропустит важную реплику. Ясное дело, Диггер находился тут по воле кого-то, кто контролировал их обоих, и собирался дать Элмли пару долгожданных указаний.
Однако на Шиву это все не произвело никакого впечатления.
— Я рассказывал Дейву о вашем банке крови. И что спросил у тебя ее настоящее имя, поскольку был уверен: Диггер — тоже не настоящее.
— Естественно, это кличка.
— Да ну?
— Ну, да.
— И как, мистер Загадка, у тебя духу-то хватило привалить сюда — это столовая для сотрудников.
— Я ничего не ел, просто хотел найти вас.
— Да что ты? — Шива стал рыскать по столу, будто искал зажженную сигарету или стакан с виски, чтобы усилить эффект. — И что же стряслось?
Диггер поднялся и развернул свой стул. Потом уселся на него, как на пластмассовую лошадку, и закатал рукава военной рубашки, обнажив безволосые локти, покрытые черными завитками современных примитивных тату.
— Так-то лучше, — произнес он, и Элмли подумал, не было ли это сигналом. — Послушайте, — продолжил Диггер, — раз теперь вы ее держите у себя, нам хана, серьезно.
— Ой ли? — усмехнулся Шива. — Не поверю, что у вас возникнут сложности с тем, чтобы найти еще одну сдвинутую бедолагу, согласную стать вашей зомби.
— Вы не… вы не понимаете. — К удивлению обоих — Шивы и Элмли, — по щекам Диггера катились слезы, а плечи сотрясались от волнения. — Их обязательно нужно любить, если не любишь, ничего не получится. Вся эта история про любовь — весь ритуал, вам это должно быть лучше известно.
Шива уже собирался было просить Элмли усмирить Диггера — или хотя бы попытаться это сделать, — пока он позвонит в полицию, но последнее откровение застало его врасплох.
— Хотелось бы узнать побольше. — Шива щелкнул пальцами. — Звучит потрясающе.
Диггер взял себя в руки, глотнул колы из стакана Элмли, тем самым укрепив связь между ними.
— Действительно потрясающе и очень важно. Если вас это интересует, я покажу — вам обоим.
— Что, ритуал кровопускания?
— Ну нет, конечно, этого я показать не могу, это тайна, дело личного характера, как ни крути, но я могу показать вам, где все происходит, тогда поймете, такие разумные люди, как вы, непременно. Хотите отправиться туда?
Шива посмотрел на Элмли, который согласно кивнул — его вытянутое лицо выражало важность и вальяжность.
— Хорошо, — сказал Шива.
Ну и ну, думал Шива, следуя за Диггером, идущим впереди по коридору, а затем два пролета вниз по лестнице на улицу. Первый день после перерыва, и на тебе, прямо в дверях, здрасьте-пожалуйста, подлинный образец психотической конфабуляции[48], да еще и затрагивающей целую кучу народа! Определенно, это ляжет в основу истории болезни, каких я до сих пор не писал. Возможность заглавной статьи в БЖОП мгновенно пересилила в сознании Шивы мысли о Баснере и его каббале.
Дойдя до главного входа, Диггер подал знак Шиве и Элмли приблизиться.
— Для вас обоих небезопасно светиться в моем обществе, — сказал он. — И меня никто не должен видеть — за нами постоянно следят.
— Что вы имеете в виду? — спросил Шива, но Элмли понимающе промолчал.
— Наш культ — всего лишь звено в цепи, есть один над нами, а над ним еще один. Насколько я понимаю, могут быть и другие культы, но сейчас не важно, насколько это нас касается, важно то, что за мной постоянно следят — как бы я не обнаружил чего-то из своих познаний. Так что я выйду первым, а вы за мной. — Он указал на Элмли. — Между нами должна быть минимум сотня ярдов. Потом вы. — Он ткнул пальцем в Шиву. — На том же расстоянии от него. Не сомневайтесь, я буду идти достаточно медленно, чтобы вы не отстали. Все ясно?
Оба его собеседника кивнули, и Диггер вышел на улицу.
Услышав в воздухе над собой металлический гул реактивного самолета, Шива поднял глаза в темно-синее небо. Жара, полураздетые прохожие, столики, выставленные на тротуар перед ресторанами, — все свидетельствовало о лете. Внезапном лете. Вроде бы утром, когда он садился на поезд в Кентоне, было другое время года, нет? Но если не лето, то какое? С трудом окинув мысленным взором последние несколько месяцев, Шива осознал, что смена сезонов перестала его трогать с тех пор, как минул Дивали. Это все мысли, заботы, заключил он, переутомление. Шива снял пиджак и перебросил его через плечо, ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу. Поискав глазами Элмли, он заметил спину торговца строительным хламом, который заворачивал за угол Шарлот-стрит. Шива поспешил за ним.
Троица, растянувшаяся, как слова в бреду сумасшедшего, проделала путь к северу через Фицровию. Чертовски умно, подумал Дэвид Элмли, блестящий способ сыграть на тщеславии Шивы. Рук? Баснера за всем этим Шива не замечал благодаря собственной высокомерной уверенности в том, что он имеет дело с огромной психиатрической загадкой, этаким новоявленным Шерлоком Холмсом, идя по следу психических миазмов центрального Лондона. Элмли нащупал в кармане пиджака стальной прямоугольник, и, нажимая большим пальцем на зазубренную защелку, играл лезвием. Нож марки «Стэнли» был не самым надежным оружием, но Элмли не сомневался, что, если придется, спокойно сможет пустить его в ход. Диггер позаботится о том, чтобы Шива вел себя тихо или, в крайнем случае, наоборот.
Офисные девицы, сидя на скамейках, вкушали бобовые проростки в виде салатов из прозрачных коробочек, неподалеку от них сидели откормленные сосисками мужики в засаленной одежде. Шива подумал о вечной проблеме потертостей на локтях и о том, что людям делать в этой связи. Потом подумал о храме Нисден — что он, собственно, такое? Эти башенки, вздымающиеся среди мелкой измороси над соседними крышами, — словно мавзолей, тонущий в вязком навозе. Шива представил размалеванную фигуру Вождя Краснокожих, стоявшую снаружи у закусочной «Лоун-Стар» на Глоцестер-роуд. Двадцать лет назад он думал, что этот истукан долго не протянет — краска пооблупилась, да и сама фишка уже была банальной. Но он по-прежнему стоял на своем месте, в то время как бесчисленные могучие строения из бетона, стали и стекла сровняли с землей. И по-прежнему рядом располагались трогательные атрибуты едальни: кактус, с которого лохмотьями свисала штукатурка, пыльное перекати-поле из колючей проволоки, крашеный задник глиняной стены. Интересно, подумал Шива, если бы он мог втереться в эту модель государства Апачи, удалось бы ему почувствовать себя индейцем в большей степени, чем сейчас? Или, другими словами, смог бы он вообще почувствовать себя индейцем?
Дэйв Элмли заметил евреев на крышах зданий, они перемещались от вентиляционной трубы к бочке с водой, их длинные черные одежды развевались на ветру. Евреи были повсюду, многие медленно проезжали мимо на своих «вольво», волосы на их головах шевелил теплый ветерок. Вот как просто идти на север в самом сердце их владений, да еще собираясь нанести им удар. Вряд ли они ожидают чего-то подобного, может, их даже охватит паника.
К тому моменту, когда Шива подошел к развилке у Графтон-Уэй и свернул вправо на Тоттенхем-Корт-роуд, Диггер уже успел пересечь Эустон-роуд и направлялся по Хемпстед-роуд в приличном темпе. А Элмли в это время находился на середине перекрестка, поглощенный суматохой дорожных работ, и, видимо, ведя беседу со скоплением лежащих на земле и ждущих своего часа светофоров.
Шива видел, как из отделения ЭМП больницы университетского колледжа выскочила машина «скорой помощи». Это был яркий автомобиль, красно-оранжевые шевроны расходились болезненными полосами. Бело-зеленые номера на задних дверях были вписаны в синюю звездочку с кадуцеями. Только сумасшедший, подумал Шива, по своей воле залезет в этот пестрый фургон, но в данном случае — он понимающе усмехнулся — сумасшествие исключается.
Теперь по Хемпстед-роуд и дальше на Стенхоуп-стрит, где жил Роки. Любопытно, подумал, Шива, кому достался его камень? Дальше по Парк-Уиллидж-Ист и через железнодорожные пути. Вдоль Морнингтон-Террас, потом до развилки с Паркуэй и на Оувэлроуд. Однажды Шива прочел, что когда Риджентс-Парк-Террас только построили, она была одна на юру, рядок домов, похожий на гигантский конструктор «Лего», ожидающий присоединения нового района. На фоне зловонной духоты летнего полдня дома выглядели свежими и привлекательными. Глядя на темные холлы, увешанные старыми плакатами, Шива предполагал, что тут живут зажиточные пейзане, крупная буржуазия. Вне всяких сомнений, именно в этот момент они обсуждают ловкие, но при этом вполне реальные решения своих проблем. Чай, который они пили, был ароматным и освежающим. Китайский или индийский. Молоко? Нет, вряд ли. На середине пути сгорбленная фигура Диггера прошла мимо фабрики старых фортепиано и свернула за угол на Джеймстоун-роуд. Шива заторопился.
Двадцать минут спустя Шива стоял в дверях прачечной самообслуживания на углу Квинс-Кресент и Грэфтон-роуд. Запах горячей ткани ударял ему в лицо, монотонный звук стиральных машин назойливой мухой жужжал в ушах. Чуть поодаль у бара мешкал Элмли. Он приобрел четвертинку скотча, к которой совершенно в открытую прикладывался. Растрепанный вид, бледное, взволнованное лицо — словом, петельных дел мастер играл свою роль послеполуденного бездельника сравнительно живо. Взглянув на другую сторону перекрестка, Шива увидел, как Диггер при помощи связки больших ключей отпирает стальную дверь, возведенную — скорей всего, Советом — для охраны от таких, как он, чтобы не дать им попасть в этот огромный четырехэтажный дом.
Диггер скрылся внутри, и Шива отпустил свой взгляд парить среди квартирных многоэтажек на Мэнсфилд-роуд, скакать по пухлому зеленому брюху Парламент-Хилл и после взмыть к небесам. Диггер снова возник в темной, прямоугольной раме двери и помахал им, хватая рукой воздух. Сначала Элмли, следом Шива ступили на тротуар, затем на мостовую. От избытка адреналина каждый шаг казался Шиве уроком анатомии. Его мышцы удлинились, стали сокращаться с плавной легкостью, хрящи поглощали удары кожаных подошв о гудрон, нервы реагировали на все препоны и уколы боли, которыми сопровождалось его пребывание-в-мире. В то же время неуместные воспоминания начали возникать с предельной ясностью: школьник четверть века назад припадает к земле, чтобы собрать разбросанные по игровой площадке картофельные чипсы, смеется, видя, что они перемешались с осенними листьями, а затем кладет все это без разбору к себе в карман.
Войдя внутрь, Шива обнаружил, что Диггер и Элмли ждут его, стоя рядом друг с другом. Они дали ему пройти, после чего Диггер взялся за трудоемкую операцию по закрыванию стальной двери, запиранию ее на замок, а затем все то же самое с передней дверью.
— Осторожность не повредит, — прошептал он. — За нами следили неделями.
— Полиция? — так же шепотом спросил Элмли.
— Нет, — ответил Диггер, — другое ведомство.
Не вдаваясь в подробности, он дал своим спутникам знак следовать за ним, и они начали своеобразное турне по бесхозному сооружению.
В каждой из комнат, куда они входили, Диггер что-то болтал, словно был агентом по продаже недвижимости, уговаривающим их купить краденое помещение.
— Это комната Педро. — Он обвел жестом законопаченные досками окна, вывернутые осветительные приборы, выкорчеванную раковину, которая лежала на боку посередине комнаты. — Примерно четырнадцать на восемнадцать футов, потолок двадцать. Оригинальная лепнина не тронута, но Педро пару раз выстрелил из пневматического пистолета в розочку на потолке.
Узкие лучи солнца пронзали деревянные балки, прибитые поперек эркера, и Шива проследил взглядом их дорожки до того места, где они касались пола и стен. Непонятный мусор то мозолил глаза, то пропадал, желоб медной трубы дополнял очарование от вида нескольких пружин, торчавших из прорезей кресла. На дальней стене висела потрясающе плохо выполненная картина маслом, изображавшая отвратительную женщину средних лет. Ее глаза были жестоко вырезаны, а на их месте красовались кусочки апельсиновой кожуры.
Шива все еще находился на гребне волны адреналина. Время замедлилось до такой степени, что он мог провести множество отдельных мгновений, слушая, как свистят легкие Элмли или скребут ногти Диггера, чешущего подбородок.
— А где Педро? — поинтересовался Шива, и его голос прозвучал на удивление глубоко и полнозвучно.
— На работе, — огрызнулся в ответ Диггер, как будто это было само собой разумеющимся.
Они шли дальше, Диггер заходил в каждую комнату и называл ее размеры, имя владельца, после чего указывал им на то, что ему представлялось достойным внимания. Во второй комнате громоздилась шаткая кипа старых матрасов, покрытых чем-то комковатым, кашеобразным — мякиш поролона вперемешку с разлитым древесным клеем.
— Это принадлежит Энди, — пояснил Диггер, — когда он в дееспособном состоянии.
От контраста между резким светом, сочащимся сквозь трещины, и глубокими мрачными проемами перед глазами Шивы поплыли темные пятна, но даже это не помешало ему заметить очевидное.
По всему первому этажу: на маленьких полочках, в неработающих холодильниках, в дверных проемах — везде были небольшие керамические горшки и грубо вылепленные глиняные фигурки в ржаво-красных пятнах. Запах запекшейся крови, чем-то напоминающий то, как пахнет старое железо, распространился по дому и смешался с более домашними запахами застарелого пота, спиртных испарений и марихуаны, создав крепкую атмосферу бардака раз и навсегда.
— Спальня хозяина, — продолжал свою экскурсию Диггер. — Восемнадцать на двадцать два фута, потолок двенадцать, традиционная роспись. Мелисса развешивает здесь свои тряпки, называет их «мои лунные мышки», о да!
Когда глаза привыкли к свету, Шива увидел, что розовую комнату пересекают мириады бельевых веревок, увешанных сотнями-тысячами использованных тампонов. Подсвеченные наискось наклонные ряды свисающей ваты, инкрустированной засохшей кровью, в целом имели вид чего-то неземного, даже прекрасного. Шива не мог удержаться, чтобы не сказать нечто нестерпимо прозаичное, вроде: «Наверно, она давно здесь живет, раз успела уже накопить столько… лунных мышек?»
— Я не говорил, что все они — лично ее. — Диггер нахмурился. Опять показалось, будто он думает, что Шива должен не только высоко оценить это искусство — если оно таковым является, — но к тому же понять его.
Элмли стоял в лестничном проеме, у стены, с которой сырыми клочьями слезали допотопные обои. «Анаглипта»[49] его собственного лба также была пропитана влагой проступившей вдруг испарины.
— С тобой все хорошо? — Шива коснулся рукой плеча Элмли. Тот отпрянул, вынув руку из кармана, со среднего пальца капала кровь.
— Круто, — заметил Диггер.
Они взобрались по ветхим лестницам — ступени проломаны, балясины выдернуты, — и Диггер призвал их восхититься гигантским коллажом на стене, составленным из мультяшных постеров, реклам напитков и старых чеков. Все это — включая молочные пакеты, использованные чайные пакетики и высушенный маленький комочек, который, как выяснил Шива, осмотрительно пройдя мимо, оказался мышиным трупиком, — было приклеено к неровной поверхности стены. Сверху послышалось хлопанье крыльев, Шива поднял глаза и увидел спутанный клубок растений, пустивших корни у водостока и пробивающихся сквозь дыру в стекле. Голубиный помет угодил на торчащие сколы.
— Одиннадцать на семь футов, потолок десять. Клетка, кстати, для пугливого хомячка, ага.
Здесь обои были в полоску, на полу — голый дощатый настил, за исключением островков линолеума там, где доски были выдраны с корнем. Небольшая плетеная стойка, предназначенная, насколько понял Шива, для хранения пластинок на сорок пять оборотов, примостилась на ветхом куске штукатурки. Три одинаковые женские лодочки — две правые и одна левая — выстроились рядком вдоль плинтуса. Корзина для пикников валялась изуродованная, передняя часть пробита противовесом подъемного окна. На подоконнике стояли три игрушечных солдатика с винтовками, нацеленными на сухую хлебную корку. Рядом виднелся худой голый торс пластиковой куклы побольше, ее груди без сосков блестели на солнце. Игрушки раздражали несоответствием в масштабе, наводя на мысль, что, возможно, в этом притоне, по аналогии, когда-то жили гиганты или карлики, а может, и те, и другие. Шива стал опасаться назойливого голубиного «куу-куу-куу-куу», на последнее «куу» раз за разом падало ударение.
— Пойдем дальше? — спросил Диггер.
На последнем лестничном пролете, ведущем на чердак, глиняные модельки и горшки образовывали беспорядочные массы уродливых людей. Пятна крови на стенах составляли целые полотна. Все трое неловко остановились, сначала Диггер, потом Шива, за ним Элмли, пока Диггер выуживал ключи и отпирал дверь. Входя, он пригласил их последовать за ним.
— Комната Зака, — объявил Диггер и продолжил: — Пора.
Это был знак. Элмли повернулся и схватил Шиву за плечи. Сукин сын, да он силен, подумал Шива, когда Элмли толкнул его в сторону Диггера. Этого и следовало ожидать. Диггер, которому не оставалось выбора, если он не хотел быть сбитым с ног, обхватил Шиву руками. Нож уже был наготове. Элмли кинулся вперед и резанул Шиву по горлу сначала в одном направлении, потом обратно, глубоко и с силой.
Падение на пол заняло пять минут. Сначала Шива решил, что розовые капли, брызгающие по наклонным стенам и летящие в слуховое окно, — очередное актерское ухищрение, но потом понял, что это его собственная кровь хлещет на контуры безобразных фресок. Обложка альбома рок-группы семидесятых, подумал Шива, преломленная окаменевшим сознанием жуткого художника. Фреска занимала три стены неправильной формы — крупные ряды синих, фиолетовых и розовато-лиловых ритуальных знаков, округлых и угловатых, дополненных пустынным пейзажем. Скопление из трех пирамид наподобие выброшенных картонных коробок возле зарослей качающихся пальм. Караван верблюдов, кочующий по дюнам, упрямо не желающий соответствовать правилам элементарной перспективы: вожак заметно крупнее другого, вставшего на дыбы верблюда.
Дэвид Элмли сцепился с Диггером, совершая медленные и вялые телодвижения, как если бы пытался использовать на практике теоретические знания по применению силы. Их схватка была настолько неспешной, что Шива решил, будто Диггер в ней вообще не участвовал, а его старый друг просто упражняется с ножиком. Элмли делал пассы лезвием в разные стороны перед своей конской мордой, издавая характерное фырканье и всхрапыванье. Но как бы там ни было с этой дракой, в течение второй минуты падения Шивы Диггер тоже упал, и хотя Шива не мог сдержать ненависти к Элмли, ему было приятно, что тот умудрился победить этого представителя культа.
Третью минуту своего падения Шива Мукти провел за чтением надписи, нацарапанной над небом пустыни. Смысл букв не имел явного отношения к самой картине, их ржавый цвет, а также то, каким образом элементы букв переходили в пятна и кляксы, — все это свидетельствовало, что надпись появилась после того, как была создана сцена с пустыней. Надпись гласила: «Я поймал звезду, и она мне порезала руки».
Я поймал звезду, и она мне порезала руки. Есть в этом что-то от символизма, подумал Шива, и в таком контексте был почти пикантный ужас. Элмли отступил назад, в дальний угол, за круто скошенную стену. Он скорчился, как домашний паук, и трясущимися руками совал таблетки в рот, из которого доносились стоны. Он буквально пожирал их с хрустом, выступившая на его губах белая, как мел, пена каплями стекала в ямочку на подбородке. Даже на расстоянии Шиве удалось прочесть предупреждение на коробочке с таблетками: «Не превышать положенную дозу», и в этом тоже определенно было что-то символистское.
За последнюю минуту, перед тем как коснуться пола, у доктора Мукти была масса времени, чтобы оценить, куда именно он собирается упасть. Это был центр не пентаграммы в пятнах крови, как он ожидал, но тщательно вычерченной звезды Давида — два скрещенных треугольника, тонкими линиями нарисованные мелом на досках пола. «Куу-куу, куу-куу» — долбили свое голуби. Сверху в небе доктор Мукти увидел самолет, улетающий в лазурный эфир, как громоздкая машина, ведомая вверх по кристальному холму. После этого Шива ударился о пол и остался лежать в луже собственной крови, как ослабевший многоопытный тюлень.
Доктор Мукти подумал, что сейчас было бы уместно, чтобы все действующие лица пришли к нему сюда на чердак. Свати, как всегда невозмутимая на вид, в чудесном сари, отороченном золотом; Моан, хотя, скорее всего, эта ситуация может пагубно сказаться на ребенке; мать Шивы, его тетки и дядья тихо зашли бы гуськом в двери и выстроились вкруг могилы, наподобие греко-индийского хора; коллеги Шивы из «Сент-Мангос», несущие на руках кожаное офисное кресло, в котором восседает Гуннар Грунбейн, и конечно же пациенты, мотавшиеся туда-сюда между «Сент-Мангос» и «Хис-Хоспитэл», возможно, как раз мимо этого дома. Несчастные живые орудия убийства, однократно использованные и после выброшенные, которые теперь по праву могут быть допущены к даче свидетельских показаний касательно последнего удара. Учительница английского с гипогликемией, человек-креозот, бедняга Роки с его поэзией а-ля то, что пишут на коробках с хлопьями, мистер Дабл, Мухаммед Кабир — все они должны почтить их с Элмли своим присутствием. Он мечтал быть как Камла Деви, чтобы массы людей собрались на берегу стремительной реки из его собственной крови. Но, естественно, единственным садху, которого к нему допустили, оказался доктор Зак Баснер.
Баснер вошел в дверь с абсолютно будничным видом, словно играя самого себя с подчеркнутой непринужденностью. На нем были его обычные серые фланелевые брюки, криво завязанный зеленый мохеровый галстук, а из-под полы его твидового пиджака торчал один край рубашки «Виелла» — особенно безобидная маленькая деталь, которую Мукти заметил, когда Баснер повернулся запереть дверь.
— Где же, — забормотал Шива, чей голос был похож на голос захлебнувшегося грудничка, — сегодня грозное индуистское божество, доктор Баснер? Ни множества пар рук, ни ожерелья из черепушек, ни окровавленных зубов?
— Я просто подумал, — мягко сказал доктор Баснер, — что на такой поздней стадии мы можем обойтись и без этого. — Он подошел и поставил ногу Шиве на грудь, прямо посередине. — Победителя на судят, — изрек он в тоне спокойной беседы.
— Еще кое-что… — захлюпал Шива. — Мне хотелось бы узнать…
— Да? — Жирные пальцы скручивали и раскручивали зеленый язык галстука, торчащий нос приблизился к Шиве.
— Почему? То есть почему я?
— Э-э, вы помните, когда мы впервые встретились? — Доктор Баснер убрал ногу и с трудом нагнулся вниз, его жабьи черты нависли над лицом Шивы.
— Да… — Темнота по краям чердака громоздилась и сгущалась. Она почти поглотила лежащую фигуру Элмли и теперь отбрасывала любопытные щупальца на звезду Давида. — …это случилось на той конференции по эмоциональным отклонениям.
— Именно так. Я представился вам как сосед из «Хис-Хоспитэл». Помните?
— Да.
— А вы взглянули на меня довольно презрительно и сказали: «Я знаю». Тоже помните? — Теперь на голове Баснера красовался темный капюшон.
Больше Баснер ничего не добавил, только посмотрел на Шиву с выражением сострадания и одновременно без признаков такового.
И тут Шиву поразила догадка.
— Только, — еле выдавил он, — и всего? Из-за этого? Все, что было… все эти больные, с которыми так жестоко… целый… злостный заговор… моя жизнь… жизнь Элмли… все из-за… того случая?
Баснер медлил с ответом, капюшон темноты становился все плотнее, затмевая его лунное лицо до тех пор, пока только один старый бездействующий кратер рта, серый и непривлекательный, не остался в угасающем луче сознания Шивы. Рот открылся и закрылся, и словно откуда-то издалека Шива услышал последние слова своей Немезиды:
— А разве этого не достаточно?
161
Он проскользнул в квартиру как раз в тот момент, когда пожилой господин наклонился поднять газеты с напольного коврика. Паренек не мог поверить своему счастью — ведь его преследовал ублюдок-извращенец: легкие разрывались, сердце билось как сумасшедшее, колени ныли из-за дикого количества лестничных пролетов, которые пришлось преодолеть, а брюки увлажнились от мерзкой струйки испуга, когда открылась дверь. Пожилой господин разогнулся, и показалось убежище: комната, залитая солнцем, где царили пыль и спокойствие. Паренек помедлил пару секунд. Старик с бумагами в руках прошаркал в коридор и посмотрел в другую сторону — туда, где находился лифт. Именно этого парень и ожидал — он шмыгнул внутрь квартиры, через крошечную прихожую кинулся в спальню и припал к полу, все еще дрожа, как заяц.
Заметил ли старик? Или, хуже того, не засек ли кто-то из преследователей, как он забежал в квартиру — может, углядел край спортивного костюма из тонкого нейлона или клок выцветших волос? Хотя вряд ли они сразу кинутся вдогонку. Не, не кинутся. Раз они знают, где он, то станут ждать, пока не стемнеет, если придется. Накалять атмосферу особой нужды нет, теперь здание было почти пустым, большинство жильцов давно съехали. Проблемные семьи — проблемные, главным образом, для самих себя — были выпровожены в другое здание, абсолютно такое же, но находившееся на противоположном конце города и бросавшее вызов всем и вся: этакий гигантский бетонный ренегат. Что касается остальных жильцов этого дома, то почти все, кто был в хороших отношениях с Советом, получили право переселиться в новые дома. Кирпичное, с тремя спальнями, убежище было расположено на одном из окраинных островков в форме почки, выросшей на пустыре, который образовался после того, как братьев-близнецов этого здания стерли с лица земли. Каждый новый жилой дом был упакован в подарочную обертку, деревянный забор опоясывал пару квадратных метров газона: раздолье для надувных пластиковых игрушек годовалых детей, помимо того, имелось подобие водоема и подсобное помещение.
Итак, здание было практически пусто. Оставили только некоторых, особо упертых, кто не захотел съезжать, решительно прикипев к жилищу. Большей частью это были пожилые люди, вселившиеся сорок лет назад, когда здание только построили — секцию за секцией, блок за блоком. Тогда они уже были родителями семейств помоложе, а теперь находились на пенсии. Тогда они ворчали, что им пришлось покинуть свои маленькие улочки, где они выросли, теперь питали такие же чувства к блочному дому, в котором прошла большая часть их жизни. Немудрено, что те же самые люди, громче всех вопившие, что их переселяют в новый дом, теперь не хотели с ним расставаться. Сначала не заставишь, потом не остановишь. Переворот в сознании в течение сорока лет.
Еще были оригиналы, собиратели разнообразного барахла, а также хранители, громоздившие редко кем посещаемые выставки артефактов, которые они понатырили из брошенных квартир, и, конечно, разводчики голубей, разрешавшие своим пернатым любимчикам практически все — занимать балкон и даже другие комнаты. Птицы ютились на оборванных занавесках, протертых коврах и истоптанном линолеуме, оставляя помет на краю искусственного обрыва.
Ныне в здании была занята лишь треть от общего числа в сто семьдесят квартир, всего сотня жителей вместо прежних тысяч. Парень был в курсе — он знал этот дом. И понимал, что его преследователи тоже имели о нем представление. Когда поголовье жильцов упало и человеческое тепло заменили лужи и пятна, на освободившееся место пришли Кривая Кишка и его компания. Они осели в здании типа этого и устроили там бардак — делали крэк, укрывали краденое, а в наиболее жестких случаях, на именинах Люцифера, тащили своих пленников в брошенные квартиры — или девок соперников, или самих соперников. Кроваво-красные закаты, матрасы в крови.
Кривая Кишка выглядел так, словно только что вернулся с бала у Сатаны, прихватив необычный гостинец — обваренный кусок мяса, болтавшийся у него на шее, как мятый индюшиный гребень. Не было кары, какую Кривая Кишка не мог бы обрушить на бедного паренька (которого, кстати, звали Карлом), когда они повстречаются. Гадать не приходится — рано или поздно это случится. Они его достанут. Как и удовлетворение всякой страсти, это всего лишь вопрос времени.
Почему бы не смыться? Прежде город славился могучим портом, будучи скорее отправной точкой, нежели пунктом назначения. Теоретически Карл все еще мог вскочить на корабль, направляющийся в Китай или Бразилию. А там женился бы на местной, выучил язык, как любой другой беглый заключенный. Вернулся бы лет через тридцать пять, открыл бы ресторан, и не в старом околотке, а на новом месте, где о том, что с ним чуть не произошло, ходили бы мрачные мифы, а не опасные кривотолки. Почему нет? Потому что Карла приковала к месту, ошеломила чудовищность собственного проступка. Он замер, как ребенок, разваливший теплицу, и остался, где был, остолбенелый, будто осколок огромного стекла припечатал его к земле, богатой перегноем.
Это напоминало танец, который они внезапно вместе поставили: согнутая поза пожилого и стремительное движение молодого. Карл нашел убежище, а пожилой господин — бесплатную газету, полную объявлений про реабилитационные центры, солярии, салоны-магазины ковров, тридцать три удовольствия. Эти объявления были ничейной территорией, окружающей крошечные редакторские редуты, за которые велись ожесточенные бои; реклама уличных торжеств, школьно-спортивных соревнований и сообщения о местных преступлениях. Престарелую пенсионерку изнасиловали, молодую мать-одиночку обокрали, инвалида поколотили его же костылями. Множество преступлений совершено против конкретных людей. Карл нес ответственность кое за какие правонарушения из тех, о которых сообщал «Адвертайзер». Ума спланировать их у него бы не хватило, да и начать первым кишка была тонка, но, определенно, он не сделал ничего, чтобы остановить злодеяния. Он хватал за волосы, прятал ценности, слышал тошнотворное шамканье камня, пожирающего плоть. Карл читал вполне сносно, но предпочел не смотреть на объявления, касающиеся его самого. Ему и так было известно, что произошло.
Пожилой господин поднял бесплатную газету с коврика — куска «Аксминстера»[50], аккуратно приклеенного изоляционной лентой ровно по линии, — хотя в этом едва ли был какой-то смысл. Старик тоже вполне мог читать, но рекламные объявления не имели к нему отношения. В свои лучшие годы он глотал ошеломляющее количество всякой литературы, прочитанным можно было устилать полы. Пятьдесят квадратных футов романов, тридцать — поэзии, и еще многие сотни газетных выпусков каждый год. Теперь же ему требовались не только очки с их похожими на рыбьи глаза линзами, но и выпуклый кусок прозрачного акрила, который он клал поверх первой страницы: при таком увеличении загогульки букв казались волосатыми. Но даже в этом случае дело шло медленно, словно дешифровка современной писанины дедовскими методами. Да, чтение ему давалось с трудом, но обойтись без этого было нельзя. Пожилой господин принадлежал той эпохе и той породе людей, для которых самосовершенствование почиталось превыше всех прочих занятий. Он бы не смог расстаться с привычкой к чтению, даже если бы захотел. Поэтому читал все, что попадалось под руку — бесплатные листовки или, в те редкие случаи, когда ему удавалось доползти до цокольного этажа, ассортимент местных газет из магазинчика на углу. Его помощник по дому приносил ему, помимо прочего, крупнотиражные издания. Он был смышленым малым, этот помощник, но почти совершенно безграмотным, поэтому одни и те же названия появлялись раз за разом снова и снова. Дэрмот — так звали старика — помнил многие из них наизусть. Невероятные перестрелки на каких-то левых фермах стали для него символом веры, участники перестрелок жили, умирали и воскресали при перечитывании.
Дэрмот затворил входную дверь и, опираясь на трость и хватаясь за поручни, прикрученные к стенам, добрался до кресла. Эти поручни он когда-то соорудил в помощь своей жене, которая в последние два года, превозмогая трудности, осознанно двигалась навстречу смерти. Кресло — с точки зрения мебели ничего особенного — смотрело в окно, его потрепанная обивка могла наблюдать за плывущими по небу облаками.
Карл стоял за дверью спальни. Его футболка, мокрая от пота, прилипала к телу. Он дрожал от страха. От ожидания, что дверь в квартиру распахнется, и Кривая Кишка со всей компанией найдут его. Или войдет старик и обнаружит непрошеного гостя либо просто почувствует, что в доме кто-то есть, и вызовет полицию. Квартира была небольшой — несколько комнат и кухонька, выходившая на балкон. В таком крошечном помещении наверняка даже гулкий стук сердца отчетливо слышен. Карл начинал ненавидеть хозяина своего убежища, ненавидеть его за предательство, которое — он был уверен — вскоре случится.
Он стоял, прижатый фанерной дверью спальни и застигнутый вихрем нескольких жизней сразу, сваленных именно в этот конкретный ящик, задвинутый потом в комод высотой двести футов. Вот ведь куча барахла. Как можно было до такой степени захламить и без того крошечное пространство, поставив рядом два шкафа? Громоздкие, древние гробы с зеркальными дверями и набором внутренних ящиков. Они были придвинуты к правой стене, а у левой выстроился ряд кресел, точно суровые, неприветливые и страдающие ожирением престарелые родственники, наблюдающие брачный танец молодых. Одно из кресел было покрыто зеленым плюшем, другое — засаленным коричневым дерматином, из искалеченных подлокотников третьего торчал поролон. Четвертое болезненно накренилось, одна из ножек сломалась под тяжестью просевшего днища.
Карл закончил мысленную инвентаризацию, вдвойне удивленный тем, что сподобился на это при таких обстоятельствах. Он замер и насторожился, прислушиваясь к шуршанию мусорного мешка: будто где-то звучала приглушенная, далекая музыка, от которой его отделяли двенадцать дюймов бетона. Сколько времени прошло с тех пор, как он влетел в эту квартиру? Как ему еще удалось чудом остаться целым?
В гостиной, через дверь от него, пожилой господин, то есть Дэрмот, сидел и смотрел в окно на город. Зрелище имело форму прямоугольника. Прямоугольника, полного других прямоугольников, аккуратно зажатого с правого края между морем к западу и рекой прямо по курсу на юге. Ранними росистыми утрами — каковых было предостаточно — из той точки, где дежурил Дэрмот, казалось, что шиферные крыши домов сверкают. Свет нивелировал углубления между ними, отчего они смотрелись отдельными черепицами, аккуратно прижатыми одна к другой руками какого-нибудь трудолюбивого бога.
Был ли это тот же самый бог, что жил в соборе в форме лунного модуля — в здании, расположенном ровно посреди города, в самом центре поля зрения Дэрмота? Или это был другой, квартировавший в соборе по соседству? Мрачное здание — то ли заколоченный кинотеатр, то ли подстанция, — которым заканчивалась огромная трасса. Справа налево: минареты старых судоходных компаний у пристани, грязно-белая труба радиостанции, болезненно-коричневого оттенка громада больницы, имевшей собственный конической формы дымоход для сжигания ненужной одежды, — и, наконец, пара пристроек для богов.
Дэрмот более не верил в бога, которого считали пилотом лунного модуля. Не верил с тех пор, как его жена скончалась в болезненно-коричневой больнице. Последние два года, что он ухаживал за ней, Эвелин, задыхаясь от такого количества жизни кругом, каждый день глядела с их края обрыва на другой край и на каньон, где ей — они оба это знали — суждено было принять смерть. Это зависело только от того, когда ее дыхание запнется, ток крови иссякнет окончательно, счетчик сердца перестанет щелкать — как раз к тому моменту вызовут перевозку. Когда Эвелин оказалась прикованной к постели и умирала, город повернулся к Дэрмоту своей массивной холодной спиной. Прежде он обладал чуткой душой, но теперь его брусчатка и известка были скорее не выражением духа его жителей, а готовой к эксплуатации фабрикой по переработке их тел.
В детстве Дэрмот узнал о природе бога лунного модуля. Он был славным малым, вполне справедливым, весь в белом, вечно возился с мелюзгой, обдавая их благоуханием своей святости. Но при этом не чурался строгости и мог навлечь жуткую кару на тех, кто не хотел принять его сторону. Став старше, Дэрмот пришел к осознанию того, что все происходит с позволения славного, но строгого Бога лишь до тех пор, пока опасаешься его карающего жезла. Жезла, похожего на стальной прут, способный превратить тебя в кашу, вроде балки одного из портовых кранов, что стоят в доках. Дэрмот принимал все это, поскольку находил насущным и близким человеческой — если не божественной — природе. Должно существовать мерило. Шкала с пометками «добро» и «зло».
Последние двадцать лет особенно изобиловали несчастьями. Дэрмот думал, что окончательно потерял веру после смерти сына, но это обстоятельство оказалось лишь началом его духовного падения. Он хватался за свой брак, держался за него — судорожно, превозмогая боль, — и когда Эвелин не стало, он бросился за ней. Что может спасти человека, если его лицо расплющено о грубый бетон? Белые одеяния Бога, послужившие парашютом; все прочее — типа твори добро, и тебе воздастся — ничего не значащая ерунда, клубничное желе в качестве бесплатного приложения. Осознав это со всей очевидностью, Дэрмот ударился в скептицизм, а собор — хоть и непривлекательный, но все же, как он полагал раньше, осмысленный — стал воланом, по которому промазали; мачтовым, который кричит, находясь на земле; треснувшим стаканчиком из-под йогурта. Но больше всего Дэрмота доводил модуль — он взлетел на воздух тогда же, когда и глупые людишки. Они топали себе по Луне, а он приземлился на эту мертвую планету, лишенную веры.
В спальне Карл расслабился до того, что ощутил всю полноту боли в мочевом пузыре и ломоту в коленях. Но он был по-прежнему начеку, старика мог встревожить даже малейший шорох нейлона по стенной штукатурке. Ужас продолжал растекаться от груди к ногам. Кривая Кишка и его банда будут ждать сколько потребуется, но в конце концов ему все равно несдобровать. Прождут хоть целую вечность, пока наконец не выстроится последовательность «ботинок-пах-брусчатка», которая и станет провозвестником мести. Месть, с точки зрения Тухлой Кишки, — единственное блюдо, отличающееся от фаст-фуда.
Но, боже мой, сколько же барахла! Все эти комоды, кресла, груды пыльных занавесок, ряды зеркал и вылинявшие кипы толстых книг, эти сгоревшие обогреватели с железными решетками и расплавленные электрочайники. Тут попадались настолько доисторические пылесосы «Гувер», что Карл решил: они сляпаны из фенов и старых брючных штанин. Имелись еще какие-то прибамбасы, определить предназначение которых он был не готов; два металлических кувшина, установленных под краниками, торчавшими из главного бака, оснащенного циферблатом. Может, этот старик — изобретатель на пенсии? Доктор Что, равно как и мистер Кто?
Спальня-то была всего — сколько? — где-то девять на пятнадцать футов и что-то вроде девяти футов в высоту. В свое время Карл поработал на стройке, так что имел общее представление об арифметике. Итак, все это пространство, все тысяча двести пятнадцать кубических футов, состояло, как и множество других, из прочного старого дерева, мягкой влажной мастики, жесткого конского волоса, осыпающегося хлопьями нитрата серебра и сырых ДСП. И надо всем этим царил густой, как пыль, старческий запах.
Мебель досталась Дэрмоту в наследство. От его родителей, когда те отправились в мир иной и он с Эвелин въехал в этот дом. Затем, после смерти сына Дэрмота, к ним переехала невестка, а под конец и его дочь, решившая перебраться подальше от городской суеты. Когда-то они занимали целых три квартиры. Дэрмот не настолько был глуп, чтобы считать то время счастливым, но, как ни крути, это все-таки значительный кусок его жизни.
Теперь то время прошло, пронеслось в неровном темпе жизненных происшествий и наконец полностью остановилось: дни повторяются, каждый следующий похож на предыдущий, а он все катится под гору в направлении неминуемой и окончательной неподвижности. Когда бывший жилец убрался насовсем, пришли люди из управления и «слегка освободили» квартиру. После чего она опустела. Дэрмот предпочел остаться в пустоте, таким образом слегка наполнив ее собой.
Пятнадцать диванных подушек разного вида, просто подушек — некоторые в полиэтилене, некоторые без, — два набора столов мал мала меньше, шестиугольных и прямоугольных, детский раскладной стул, три матраса, поставленных на попа, один из них двойной, поверх него — ворох женской одежды. На невежественный взгляд Карла, кое-что было вполне приличного вида, остальное поношенным, но все вместе — нелепо устаревшим. Настольные часы в футляре, подставка для растений, пара картин маслом, покрытых грязью, в одной коробке из-под чая — фарфоровая посуда, в другой — дополна кастрюль и сковородок. Карл понимал, что все это добро просто навалено здесь, в этих пятистах кубических футах списанной мебели, — нет, каждая вещь была аккуратно сложена, умело пристроена на определенное место.
Еженедельно, когда приносили «Адвертайзер», Дэрмот читал объявления из раздела «Куплю/Продам» и оценивал имущество, хранившееся в спальне. Таким образом он узнавал, насколько упало в цене его богатство. Три комплекта занавесок с сетками. Синего цвета. Пять фунтов. Тел. 6789115, вечер. После этого он выпивал чашку чаю и чашку пищевой добавки со вкусом земляники. Последнее он принимал пять раз в день — это избавляло от необходимости готовить, пусть даже сэндвич. Он употреблял и твердую пищу, два куска хлеба с супом по вечерам, но суп тоже был из пакетика, как и пищевая добавка. Дэрмоту нравились пакетики, он считал их прямоугольничками, наполненными жизнью. Пять регулярных дозаправок в течение восемнадцати часов бодрствования. Паломничество к чайнику каждые три часа, а через двадцать минут после этого следовал хадж в туалет — если следовал. Если же нет, то предстояла душераздирающе унылая процедура: стащить с себя промокшие штаны и белье, промокнуть тряпочкой влагу, отправить грязное белье в корзину и отыскать чистое. Почему, в ярости разорялся он в подобные моменты, почему она оставила его одного выносить такую муку? Он не подписывался на это вдовство, на это невыносимое и убогое существование.
Короткими ночами он лежал на диване, разложенном рядом с креслом. Дни были воплощением спокойствия по сравнению с редкими часами старческого сна — ступни ледяные, голова горит, боль в артритных ногах разносится по всему телу, вызывая дрожь и гул в костях, словно он — железный остов кровати, по которому ударили ломом. В дневное время по меньшей мере была ясность, по ночам же никакой определенности. Темнота — нормальная или зловещая? Натр или сера?
Карл услышал, как Дэрмот пошел греметь своими дневными горшками. Услышал щелчок и бульканье электрочайника, клацанье зубных протезов старика, клекот в его груди. Булькающие звуки отозвались в Карловом мочевом пузыре. Делать нечего — ему нужно справить нужду. Ждать, пока старик уснет и можно будет воспользоваться туалетом, он не мог. Нет, похоже, придется прямо здесь.
Карл пошарил в поисках подходящей емкости среди массы окружающего хлама. Все, что ему требовалось — ваза или горшок, его бы это вполне устроило. Но ничего подходящего не попадалось, даже небольшие кастрюли и сковородки были наглухо завалены: если сдвинуть хоть одну, остальное с грохотом посыплется вниз. Видимо придется облегчаться прямо не сходя с места. Все равно из-за вони в квартире старик ничего не почует, подумал он. Повернулся к стене, будто это был писсуар, и рванул эластичный пояс, расстегивая брюки. Пожалуй, решил он, надо отливать мелкими порциями, аккуратными концентрическими кругами, чтобы поменьше шуметь. Потребность была настолько сильной, что Карл покачнулся и нейлон с треском зацепился за покрытие из «Артекса».
Карл зажал струю большим и указательным пальцами. Синяя ласточка, вытатуированная на сращении пальцев, намокла. Он дождался, пока с неизменным бульканьем и щелканьем старик прошел в соседнюю комнату. Напрягся изо всех сил, чтобы не закричать, не взвыть или не закашляться… но все обошлось, только с мягким шелестом упал лист бумаги. Согнувшись в три погибели, Карл прошлепал к двери и дальше в коридор. На стене висел барометр, на другой — календарь. У входной двери стоял телефонный столик. Буря. Свобода. Пестрота. Пророчество. Ясность. Связь. Выхода нет. Он заглянул в гостиную и увидел голову старика — блестящую лысину в пятнах, — выступающую над спинкой кресла, повернутого к окну. Голова была беззащитной, как яйцо, которое собирались разбить, или мячик для гольфа, по которому вот-вот должны были ударить так, чтобы он взмыл вверх, перелетел через реку и населенный квартал, а также через дельту реки перед ним, после чего плюхнулся бы обратно на землю, запрыгал и покатился до полной остановки среди зеленых полей, простиравшихся до туманного горизонта.
Долгие минуты голова старика оставалась совершенно неподвижной, потом вздрогнула, послышался еще один мягкий шелест. Опьяненный чувством опасности, Карл постучал сбитыми костяшками пальцев по побелке дверного косяка; голова разве что чуть-чуть покачнулась. Карл на полшага прошел в комнату. Теперь он мог разглядеть впалую стариковскую щеку, ухо — бугорчатый выступ хряща, съеденного временем, а на столике сбоку от кресла лежала телесного цвета пластмассовая пластинка слухового аппарата. Парень захохотал, щелкнул пальцами, повернулся, вломился в ванную и, освободив другую руку, стал отливать по-собачьи.
Днем Дэрмот обыкновенно читал более объемные издания. Предпочтений у него не было. Все, что ему попадалось, вполне годилось к употреблению — он был уже слишком стар, чтобы отравиться. Слишком стар и слишком горд, обозревая со своего двадцатого этажа, как разрушается город. Когда-то он видел десятки — даже больше — других корпусов, но теперь он был один, и корпус тоже остался всего один, как привалившийся к барной стойке небес, затянутых облаками, пьянчужка, чьи кореша уже сровнялись с землей, растеряв остатки человеческого.
Дэрмот читал книги, не заботясь об их содержании. Буквы были странниками, равно как и люди на улице внизу. Течение времени из всего делает вымысел, размышлял он. Когда его семья впервые въехала в этот корпус, обосновавшись в квартире с тремя спальнями на двенадцатом этаже, Дэрмот узнавал в лицо каждого третьего прохожего на улицах в округе, и если даже не помнил чьего-то имени, то точно знал имя его матери, отца или брата. Процесс, в который была замешана и затем восстановлена на новом бетонном остове вся улица — раз-два, разобрали и заново собрали на двести футов выше, — объединил людей узами какого-то более прочного родства. Боже мой, такой-то и такой-то жили в конце той улицы, а такая-то вечно все тащила на себе, а вон те, детишками, все время пробирались на стройку, но даже их выводку досталась тут квартира — теперь они постоянно катаются на лифте, устраивая вечно одни и те же безобразия.
Карл вышел из туалета, проплыл в коридор и протянул руку к дверному замку. Если идти, то теперь, оставаться едва ли возможно. И все же… все же… снаружи могло быть что угодно, чего лучше поостеречься, готовая петля, в которую он долгие годы все больше и больше залезал. Почему не остаться, почему? Они схватят его за шкирку и швырнут на крыши гаражей в конце огороженного поля, а затем поднимут опять. Вынут осколки стекла из кожи щек и запихнут в глаза. Один будет держать за ноги, пока другой размахнется для удара.
Что ждало Карла снаружи? Всего-навсего взбучка, избиение, возможно, даже до смерти. Так вышло. Если он выживет, в награду ему достанется только бесплатная порция новых остервенелых пинков. Ну да, еще девица с растрепанными косами и искусственным загаром; удивительно симпатичная, что ни слово, то матом, но привлекательная. В том-то и беда, потому как эта девка, Доун, просто использовала Карла, точно камешек, по которому можно было перескочить через последний приток реки под названием Сдержанность. Он слишком хорошо знал, где окажется блестящий мысок ее ботинка в следующий момент: на одном из этих ублюдков, а то и на самом Тухлой Кишке.
Карл задумался. Пока он заперт в квартире старика, есть возможность поразмышлять обо всем, на что прежде у него не находилось времени за весь дневной цикл, когда он ширялся, дрался и трахался. Неужели эта мутотень — спор вокруг награбленного из ломбарда в центре города — действительно была связана с Доун? Что, если и впрямь Кривая Кишка дал Карлу по репе, чтобы потом просто убрать его с дороги? Зацикливаться на этом не имело смысла, но что ему оставалось? Подумать о тех, кому будет его не хватать, пытаясь отыскать в их жизнях то место, которое отводилось ему?
Карл помнил, что номер квартиры был не то 161, не то 162. Он достаточно хорошо знал корпус, так как его мать была временной жиличкой в аналогичном доме на другом конце города. «Жиличка» — от этого слова просто воротило. Она не вела учетной книги, не занималась общественной работой, а была по-военному суровой, простой женщиной. Прошмандовка. Она обитала в грязном углу, на верхотуре бетонного эскарпа, вместе с праздной оравой себе подобных. Девочки, которым было хорошо за сорок и которые чавкали и причмокивали за едой. Девочки, которые принимали визитеров — мальчиков с не самыми чистыми помыслами — в любое время дня и ночи: беспорядочные страсти искажают время. Девочки, которые к двадцати пяти годам уже вовсю набивали резину, используя ее по нескольку раз, после чего швыряли вконец отработанные средства на переполненные колесные мусорные ящики. За латексный кулек, полный человеческих зачатков, получаешь бумажную упаковку, которая вполовину сократит твою человеческую сущность. Какая аккуратность.
Да, Карл имел представление о том корпусе, но он заходил туда всего лишь за случайной подачкой или чтобы обменяться парой грубостей с мамашей. Она для него не существовала, грязная корова, принимавшая любого встречного, даже придурков-иммигрантов, которые хлынули в дом, точно грязные притоки реки, превратившейся в помойную канаву. Даже этих. В пустой спальне Карл почувствовал железистый вкус желчи, подступившей к горлу. Должно быть, вы решили, что он, не зная ничего иного, давно привык к этому, — отнюдь.
Дэрмот помнил, как они с матерью ходили в ломбард, чтобы она выкупила свою брошку. Это было мрачное, но потрясающее место; он запомнил дешевый золотой сервиз в потрепанной деревянной коробке. Сколько ему тогда было — года четыре, может, пять? Еще перед войной. В тот день его мать была счастлива, но она сделала все, чтобы Дэрмот осознал: есть другие люди, которым повезло гораздо меньше. Она рассказала ему, что каждое колечко за стеклом витрины — чья-то горькая притча, чья-то ниточка счастья, которую с легкостью переплавили в скорбь. И на протяжении всей своей жизни, каждый раз проходя мимо ломбарда, Дэрмот слышал всхлипы невыкупленных обещаний, доносившиеся из-за стекла.
Да-да, все жители этого корпуса знали друг друга. Автобусные экскурсии, сеансы игры в вист, а долгими летними вечерами мужчины в рубашках с длинными рукавами и дамы в хлопчатых платьях выходили на порог своего общего дома и, стоя на вымощенном камешками крыльце, курили и беседовали. Им хорошо жилось вместе, или так только казалось. Но теперь Дэрмот понимал, что на самом деле за той общиной присматривало добрососедское око, пока вокруг царили разброд и шатание. Когда они въехали, детям было одиннадцать и девять, соответственно. Семьям с детьми помоложе определили первые четыре этажа. Но даже при этом Дэрмот считал, что его дети росли со всеми вместе, пока не повзрослели. Когда они вселились, он был в самом расцвете, полон энергии и оптимизма. И он не ошибался — несмотря на свое тщеславие, — полагая, что окрестные жены находят его привлекательным.
Их квартира на двенадцатом этаже выходила на противоположную сторону — оттуда начинались парк и предместья. Он так же сидел там у окна — продолговатого экрана вроде этого, только показывали тематические фильмы — и смотрел, как молодая женщина, с которой у него был роман, шла, толкая перед собой коляску по гаревой дорожке на фоне кипучей зелени. Мысленным взором он и теперь видел каждое движение ее тяжелой груди, покачивающийся между плеч поток карамельных волос. Помнил, как целиком зарывался в них, в этот густой пучок эмоций — страха, страсти, раскаяния. Драма, что разыгрывается на мощеной сцене перед корпусом, обычная и неизменная вставка, присутствующая в любом действии, в ее долгой и мрачной тени регулярно меркнут сотни, а то и тысячи судеб.
Тогда он думал, что течение времени больше не в силах справиться с тем, через что ему пришлось пройти, но как же он ошибался. Дэрмот исповедовался богу лунного модуля, и космонавт в белом космическом костюме наподобие стихаря велел ему самому привести в порядок собственную жизнь. Дэрмот так и поступил, покончив со своими приключениями, не успели они начаться. Отказался напрочь от неродных белых телес, отбрасывающих родные тени на обои с розочками.
Эвелин и не догадывалась, думал он. Когда Дэрмот в конце концов отошел от бога лунного модуля, он понял, что тот больше ничего не значит. Он наблюдал крушение его космического корабля, сгоревшего в переполненной ладаном атмосфере чужой планеты; вера в будущее. Смерть их сына оказалась страшным ударом для обоих, выбила почву у них из-под ног — какое значение имели теперь давно минувшие полдни? Всего лишь реклама мороженого в перерыве — напоминание о том, что когда-то он был сластеной.
День разгорался. Карл раскачивался на каучуковых подошвах ботинок, сидя на корточках все в той же спальне, среди неестественной мебели, доставшейся в наследство — от отца сыну. Если старый пердун зайдет в комнату, он спрячется за дверь и будет только выглядывать изредка, чтобы понять, куда за это время успело пробраться застланное катарактой облаков боязливое око солнца. Течение времени он определял по звукам, на которые прежде никогда не обращал внимания; не то чтобы все они были настолько неуловимы, просто в жизни Карла до сих пор не возникало потребности ловить что-то подобное.
Он услышал сирены патрульных машин и, вместо того чтобы заинтересоваться, не по его ли это душу, стал наслаждаться их слабыми завываниями. Они походили на звуки бормашины в руках немощного дантиста, взвизгивая на высоких оборотах и норовя высверлить вечный кариес из этого загнивающего города. Когда закончились занятия в школе через дорогу, Карл услышал веселые позывные фургончика с мороженым и удивился, что, по сравнению с сиренами полицейских машин, фургончик, призывающий деток скорее насладиться карамельными полосатыми палками-сосалками или парой вафельных колец-наручников, звучал более угрожающе.
Когда стемнело, поднялся ветер и ударил в окно. Карл увидел голубя, который, приняв этот порыв ветра за хищника, заметался и начал терять высоту. Карл уже давно перестал сидеть на корточках, опустившись на колени, но в онемевших икрах и ступнях до сих пор ощущалась адская боль. Он представил их белыми, бескровными, оторванными от тела свиными ляжками за стеклом в мясном отделе. Затем попробовал подняться, но не смог удержаться на ногах, шатнулся и повалился вперед, в комнату, ударившись головой о ножку кресла. Карл взвыл — громкий гортанный звук.
И как раз именно в этот момент старик вошел в комнату. Он присел, его мягкий тапок оказался в паре дюймов от уха Карла. Паренек лежал неподвижно, чувствуя, будто в его полых ногах копошатся и зудят вязальные спицы. Он изогнулся и уставился в стариковские совиные глаза. Они смотрели прямо на него, но старик не подавал совершенно никаких признаков, что видит Карла. Он просто повернулся на сто восемьдесят градусов, опустил каучуковый конец трости прямо на мочку левого уха Карла, затем убрал трость и повернулся в другую сторону. Карл был до того напуган, что не смог даже вскрикнуть; но вместе с тем произошло еще одно откровение: старик был либо в маразме, либо почти полностью слеп, поскольку сразу не заметил Карла, да и вряд ли теперь заметит.
Наступила ночь. Небо, как в щелочи, растворило темноту у поверхности земли, оставив позади кубики света, покачивающиеся на зыбкой поверхности брусчатого моря. Дэрмот принял свою ночную пару чашек чаю и опустился в кресло, после чего Карл тоже решил выпить чаю. Он прокрался вдоль задней стены и вошел в кухоньку. Повернул кран и с мягким плеском наполнил чайник. А когда тот начал закипать, приглушил автоматический щелчок посудным полотенцем, после чего заварил себе пищевую добавку со вкусом клубники; он имел слишком богатый опыт в воровском деле, чтобы понимать: всегда хватай самое-самое. Карл смаковал свой ужин, стоя у балконной двери и прислушиваясь к еле слышному стариковскому шуршанию в другой комнате, шуму вентиляционной системы и завыванию ветра.
Он обратил внимание, насколько все омерзительно аккуратно было у старика на кухне: место для каждой вилки, тарелки или пакетика строго выверено, как по линейке. Аккуратно до омерзения, но в то же время грязно до жути. Сезонные земляничные осадки выпали над щелями между плитой и холодильником, холодильником и кухонным столом. Вся грязь, которую старик успел натаскать во время своих нечастых вторжений во внешний мир, скопилась здесь, превратившись в бурую морену на линолеуме мышиного цвета, «под мрамор». Водопад перед раковиной изрядно разъел линолеум, его жилисто-венозную поверхность.
Будь у Карла возможность прочесть эту историю, он бы понял, что она стара как мир. Дэрмот изо всех сил старался поддерживать порядок на своем пятачке пространства, но затем появлялся помощник и переворачивал все вверх дном. Прихлебывая чай, Карл сгрыз пару хлебцев. Рядом с плитой к стене была прибита подставка для приправ; на ее верхней полке в ряд стояли баночки с таблетками — лекарства старика. По форме баночек, знакомым названиям и отчасти интуитивно Карл узнал некоторые из них. Он аккуратно отвинтил крышки (защита от детей), взял пару таблеток из одной, еще одну из другой банки и проглотил все три залпом, запив последним глотком клубничной жижи. А потом, распластавшись по стене, вернулся в спальню. Он решил остаться здесь на ночь.
Совершая свой еженощный рутинный ритуал — запихивание согбенной плоти в помятую пижаму, — Дэрмот вспоминал о тысячах ночей, из которых состояла его супружеская жизнь. Он вновь вызывал в памяти те ощущения — каково это: всегда чувствовать на себе взгляд другого, взгляд, полный возмущения или подозрения, редко — равнодушия и никогда — холодности. Теперь влажные глаза его былого семейства заменили холодные линзы кабельного телевидения, которое провели из соображений защиты вырождающегося населения корпуса от всякого вреда. Дэрмот не верил в эффективность подобного средства. Что требовалось — так это взгляд, скорее предупреждающий беду, нежели констатирующий ее наступление. Взгляд бога лунного модуля, сошедшего на землю, или взгляд жены перед тем, как они лягут спать, когда она ревниво ищет следы, возможно оставшиеся после чьего-либо болтливо-стыдливого присутствия.
Чаще всего во взгляде Эвелин чувствовалась теплая приязнь одного родителя по отношению к физическому присутствию другого. После смерти жены дочь Дэрмота на несколько месяцев вернулась в город. Она остановилась у друзей, живших на другом берегу реки, где город граничил с деревней. Каждый день она приходила навещать его на переправу, которая пролегала между высокими каменными набережными. Дэрмот прямо чувствовал приближающийся теплый взгляд Сюзанны, исполненный дочернего участия. Но у него хватало мудрости осознать, что это чудо не могло длиться вечно, что это был ее долг по отношению к нему, что вскоре она станет черствой и начнет его избегать. Тогда она съедет. Разумеется, она и ночи не вынесет в этом доме; оставить ее здесь — все равно что запереть в палате для умалишенных.
С той поры такие взгляды стали большой редкостью, на долю Дэрмота выпадали разве что случайные, мельком брошенные жалкие их подобия. Помощник-домработник смотрел на него, проверяя наличие признаков жизни, словно изучал покрышки колеса на предмет повреждений. Врач из неожиданно возникшей на первом этаже кирпичной пристройки смотрел на него с некоторым любопытством, и Дэрмот понимал, что тот видит. Человека семьдесяти с лишним лет, знаменитого курением и пьянством, человека, всю жизнь прожившего в городе и занимавшегося тяжелым физическим трудом — рутинной работой, вызывающей переутомление. Да, врач смотрел на Дэрмота и удивлялся, что, несмотря на артрит, тот был еще вполне крепким овощем.
Большинство сверстников Дэрмота отправилось вслед за Эвелин — в больницу; здание было настолько огромное, что обладало почти естественными свойствами: по мере того как солнце вставало, пересекало небо и садилось, крылья корпусов меняли свой цвет. И точно так же, вслед за Эвелин, все эти люди последовали из больницы на кладбища, в некрополи, раскинувшиеся там, где городская мозаика начинала распадаться на кусочки и никто более не боялся захлопнутой крышки гроба.
Азиатского вида человек в магазине на углу смотрел на Дэрмота с некоторым состраданием, это Дэрмот осознавал, однако сострадание его было так ограничено здравым смыслом, что он с вежливой деловитостью снабжал Дэрмота газетами, пищевыми добавками и чайными пакетиками, но не более того.
Те глаза были единственными, только они записывали его ущербный облик на свою пленку, правда, Дэрмоту было не особо горько. Он не мог их винить за то, что его собственное зрение стало ему изменять. Годы наблюдений с высоты за жизнью насекомых внизу привели к тому, что, когда он сам опустился вниз, все эти жучки стали непомерно огромными, их розовые мандибулы хватали чипсы и сервелат в кафе, их волосатые усики подрагивали, когда они играли на тотализаторах, их блестящие на солнце щитки лоснились от дождя, когда они шустро ползли по улице. Но, несмотря ни на что, ему хотелось лишь одного — чтобы на него снова посмотрели неравнодушным взглядом. Пусть это будет взгляд, полный ненависти или презрения, ему бы и такой сгодился, главное — сильные, прошибающие эмоции. До сих пор был кто-то, кто занимался вечным присмотром перед сном; кто-то, кто выглядывал из-за двери и наблюдал, как он привычным движением раскладывает диван, кто смотрел, как он с трудом влезает на кочковатую поверхность простыней, которые не менялись неделями и сминались еще больше от его барахтаний в потемках.
Что же до проблем со слухом, то, собственно, тот же самый врач настаивал на вмешательстве. Однако отвратительную хреновину из пластика телесного цвета Дэрмот презирал. Он сделал глоток воды с порошком и, водворяя себя на край судна, позволил себе кислую улыбку, вспомнив слова Эвелин о его глухоте: «Если дело касается тебя, ты все прекрасно слышишь».
Ночью оба они спали и видели каждый свой сон об уходе. Дэрмоту снился его дом, который стремительно увеличивался в размерах, становясь шире, мощнее и выше. Телевизионные антенны на крыше и подъемник шахты лифта пронзали небесный покров, а широченные балконы цеплялись за деревья и кусты. С того места, где он сидел, вблизи верхушки скалы, сотворенной человеческими руками, Дэрмоту были видны дороги, ведущие в другие страны, и даже сами территории этих стран вдали. Взяв в руки богато украшенный латунный телескоп, лежавший у кресла, он с его помощью разглядывал людей, идущих по улицам далеких городов; их было так ясно видно, как будто они находятся с ним в одной комнате. Вскоре Дэрмот сделал открытие: если он замечал что-то нехорошее — чье-то неподобающее поведение, чей-то дурной поступок, — то мог положить этому конец, всего лишь сжав губы или подняв палец.
В конце концов, Карл нашел себе пристанище в глубине платяного шкафа. Сначала он было решил заночевать на полу, покрытом ковром, в сухой щели между слоями мебели, но потом отказался от этой мысли. Ведь если Кривая Кишка с подельниками ворвется сюда, то ему конец: посадят на кол посреди пустыни. Поэтому он влез в шкаф, массивный гроб из орешника и красного дерева, поваленный на бок. Улегшись там внутри и закрыв зеркальную дверцу, он испугался, что задохнется, и тогда слегка приоткрыл ее, вставив в качестве распорки одну из вешалок, скопище которых валялось в углу.
Ему с трудом удалось угнездиться среди вороха старых костюмов и пальто. В ноздри ударил гнилой запах нафталина. Карл, как был в неудобной позе, так и уснул — таблетки снотворного сделали свое дело. Они схватили его за костлявые плечи мощными цепкими пальцами и поволокли в пучину сна.
Во сне солнце садилось вновь и вновь, скрываясь за выступом берега реки, погружаясь в другую реку — расплавленной лавы. Здания в центре города проступали со всей отчетливостью, их грязные фасады сверкали. В том городе, где Карл родился, время остановилось — далекое прошлое и ближайшее будущее сошлись и породили колдовское царство: купола, замки, площади, космодромы, парки для развлечений и гуляний и открытое ристалище, на котором рыцари, закованные в космолеты, состязались, добиваясь сексуального расположения генетически модифицированных мамзелей с коническими грудями и такой же формы шляпами. Вопли, доносившиеся с места состязания, на самом деле были звуками нот, извлекаемых из недр реактивных двигателей. В царской ложе ворочался и возился Карл, то и дело ударяясь плечами о ее края в попытке укусить свои же собственные колени. Со стороны можно было услышать только приглушенные трепыханья и гулкие тяжелые улары, предсмертные муки гигантской моли.
Жильцов башни, в которой проживал Дэрмот, не устраивало отведенное им жизненное пространство. Они рассчитывали на большее. Немногословные мужчины с самодовольно надутыми губами и плоскими кепками, сдвинутыми на глаза; рукава закатаны, брюки подпоясаны толстыми кожаными ремнями. Тысячи этих мужчин сталкивали шкафы с балконов, после чего со шкафами начинали твориться всякие чудеса. Гвоздями к ним приколачивались сараи, к сараям же, в свою очередь, на клепках прицеплялись теплицы и оранжереи. Подобно зубчатым подъемным блокам, эти кратковременные конструкции парили в темном небе.
Когда забрезжило утро, в момент пробуждения, Дэрмота снова поразило, так же, как в первый раз, с точно выверенной силой, сколько же иронии было в том, что его телу, искореженному и шелушащемуся, отсыревшему и прогнившему, все же, судя по всему, удалось пережить разрушение этого взмывшего вверх утеса из стали, бетона, асбеста и камня. Ранним утром — и это был главный факт, который предстояло заново осознать после пробуждения; это было важнее, чем дышать, думать или двигаться, — Дэрмот ощущал со стороны здания что-то вроде родительского присутствия, одновременно и сурового, и мягкого, крепко обнимающего его, защищающего всей своей надежной массой, взирающего на враждебный мир сквозь сотни своих прямоугольных глазков. От здания даже исходил запах родителей — хмельной аромат исключительной близости, влекущий и в то же время отталкивающий.
Доковыляв до дивана-кровати, Дэрмот снял покрывало, свернул его, чтобы развернуть на следующий день, и принял свою обычную позу. Вскоре его голова попала в поле зрения Карла, который прихрамывая, на цыпочках пробрался через комнату к туалету. Хренов фрик, — подумал Карл, — если бы я не слышал его шагов и звука сливного бачка, то поклялся бы, что он с прошлой ночи не вставал.
Насколько быстро возникает рутина? Если поместить два агрессивных и запуганных существа вместе в замкнутое пространство, то довольно быстро. Особенно если один не очень в курсе намерений другого. За первый день, проведенный в квартире Дэрмота, Карл настолько вошел в монотонный ритм жизни старика, что под конец ему стало казаться, что он прожил тут уже несколько месяцев. Когда старик кашлял, Карл пользовался случаем и тоже прочищал горло, когда он пил чай или еще какое пойло, Карл и тут не упускал момент, когда же старик ходил в уборную, Карл шел следом и сразу же занимал освободившееся место. Старик задавал тон, помогая Карлу достичь очередной ничтожной цели. В промежутках Карл занимал позицию у правого окна спальни. Здесь, если присесть на корточки, можно было спрятаться за грудой старых кухонных стульев, а если встать перед окном — смотреть на город.
За то время, что Карл тенью следовал за стариком, произошла странная вещь. Он начал постигать, что это значит — жить с кем-то, приноравливаться, терпеть тихий, но раздражающий шум соседства. Разглядывая город, он учился терпению. Получал образование.
В стороне от грузового порта в устье реки стояли танкеры, торговые судна помельче направлялись вверх по течению, разрезая килями бурую ткань воды. Карл научился отличать одни от других. Он наблюдал за отливом и одновременно за потоком новоиспеченных жильцов внизу. Синие мусорные контейнеры на колесиках скопились у садовых ворот, потом выстроились вдоль тротуара, чтобы извергнуть содержимое своих недр в отвратительные пасти мусоровозов. После чего развернулись и убрались восвояси. Мокрое белье повисло на веревках и оставалось в таком положении, пока, съежившись, не высохло. Огромных размеров курятник, принадлежащий начальной школе по соседству, заглотнул одинаковых цыплят, потом выплюнул их, опять заглотнул и снова выплюнул. Карл видел крошечные фигурки: серые, чуть выше — синие ноги перегоняли свои темные тени по зеленому игровому полю. Пожилая женщина держала за руку малыша, а тот с важным видом вышагивал вдоль стены. И все это время по обеим сторонам проезжей части шли машины, каждая на положенном расстоянии от впереди идущей — множество вагончиков на резиновых колесах, бегущих по невидимым рельсам.
Проходили часы, дни, постепенно Карл совсем отключился. Он пялился на местность, покрытую облупившейся краской, на голубя, приземлившегося на карниз окна спальни, пока тот не разрастался до размеров вселенной, перед которой Карл благоговел. Игра с переменой погоды и света над городом вводила его в транс. Утопая на дне бетонных ущелий, он никогда не задумывался о том, что творилось наверху. День был просто сухим или дождливым, солнце либо светило, либо нет. Но теперь каждый порыв ветра или мгновенный луч солнца вызывал существенное изменение в его сознании. И прежде всего — облака, всклокоченные и застывшие — сама суть, из которой сделаны грезы. Им предстояло либо обернуться человеческими фигурами, пейзажами, животными или богами, либо на ветру превратиться в бесформенную массу и размазаться по всему небу.
Облака, размышлял Дэрмот — его пальцы были перепачканы чернильным узором, оставшимся на коврике для газет, — облака могут походить на что угодно. Вероятно, поэтому мы тоже думаем, что можем стать кем нам вздумается и заниматься чем попало? Ранним утром небо было невыносимо лимонно-голубого цвета, пустота боли в голове, когда съел или выпил что-то очень холодное, пустота, кричащая, чтобы ее заглушили беспощадными ударами, смертельным шквалом воздушных налетов, пусть сотни солдат и бомбардировщиков разнесут эту прозрачную, испаряющуюся голову медузы Горгоны. Затем со стороны моря накатили валы кучевых облаков, и Дэрмот извлек из далекого и редко посещаемого чулана собственной памяти воспоминание о том, как они с матерью ходили на сеансы.
Была уже середина тридцатых, но люди по-прежнему ощущали себя живущими во флигеле, пристроенном на скорую руку к мавзолею Первой мировой. Дэрмот скривился — они не знали, что новое явление Смерти уже в скором времени станет бронировать билеты. Его мать, грустная, скованная, одетая, опережая возраст, на старушечий манер, что существенно старило всякую женщину — но, возможно, к ней это вовсе не имело отношения? — взяла его с собой в город и привела в затемненный зал спиритуалистической церкви. Внутри, сидя на скамейке, зажатый меж одинаковых женщин, чья доверчивость была закутана в шерсть, муслин и фланель, он наблюдал за одной дамой — сначала она вела себя спокойно, но потом начала выть и трястись, задирая толстые лодыжки настолько импульсивно, что было видно белье. Затем сквозь накрашенные губы она выдохнула на всеобщее обозрение некое клубящееся облако, которое, под аккомпанемент криков и аханья, принимало те очертания, какие хотелось увидеть присутствующим. Пяти- или шестилетний Дэрмот подумал, что это кто-то взмахнул газовой тканью. Для него в этом было вполне достаточно магического; когда они возвращались домой, мать не могла сдержать стыдливого возбуждения: она была неожиданно говорлива, то призывая его к тишине, то заставляя дудеть в дудку на одном дыхании, и он решил, что лучше не спрашивать ее, свидетелями чего они только что стали. Пусть бы она даже увидела Вождя Краснокожих и услышала загробные пророчества. Облака — не важно, чем вызванные — могут олицетворять собой что угодно.
Когда щелкал выключатель чайника, или скрипела дверь ванной, или просто слышался шелест фартука старика, облако рассеивалось, и Карл возвращался обратно на дикое вражеское поле боя площадью в шестьсот квадратных футов, где он сражался за собственную жизнь. Адреналин вскипал в его мозгу; настороженно, но как будто под действием транквилизаторов, он протанцевал в крошечный коридор, ощущая каждым вздыбленным волоском любое движение в квартире. Отметил горячее, насыщенное дыхание трубы над дверью в ванную, прислушался к задумчивым фистулам вытяжки, его обрызгало из нагревательного бака, звучавшего как запертый в буфете клокочущий водопад. Карл посмотрел на голову старика взглядом, полным терпения убийцы и жестокой почтительности настоящего охотника, для которого саванна — его бог.
Вот уже три дня, как Дэрмот снова находился под присмотром. Он почувствовал качественную перемену во взгляде наблюдателя и от этого будто заново ощутил самого себя. Временами взгляд слегка ласкал его легкими движениями умозрительных пальцев, а временами прямо впивался — острый, полный недобрых намерений. Но чаще всего взгляду были присущи вялое равнодушие, по которому Дэрмот так истосковался, и приязнь близкого человека, которой ему так не хватало.
Каждую среду по утрам около половины десятого к Дэрмоту приходил домработник, молодой толстяк по имени Шон. Карл в очередной раз вылезал из гардероба, куда он прилег ненадолго отдохнуть, и в этот момент услышал поворот ключа в замке. Дикость, но так было на самом деле: новый, слегка отмороженный образ жизни напрягал Карла еще больше, чем прежнее шатание по улицам. Я СНОВА ЗДЕСЬ, МИСТЕР О’ЛИРИ, — заорал Шон с порога. — ЭТО Я — ШОН.
— Догадываюсь, что Шон, черт тебя побери, — ответил старик, — кто же еще?
Трудно сказать, что поразило Карла больше всего — голос Шона, голос старика или, собственно, сам факт речи. В голосе Шона крупными буквами читалась УГРОЗА, в то время как усталый, скрипучий голос старика был полон разочарования и от него веяло могильным холодом. Неосознанно Карл наделил Дэрмота всеми теми качествами, которых недоставало его собственному дремучему отцу: ведь очевидным было только то, что он вообще есть. Если б старика не было, ничего бы не вышло, а так Карл представлял его добрым, мудрым и сведущим. Человеком, который, несмотря на тяжесть прожитых лет, мог вызывать уважение просто тем, что разлеплял морщинистые губы и своим некогда командным, но не лишенным сострадания голосом произносил одно единственное слово: «Нет».
— Я СНАЧАЛА ПРИБЕРУСЬ В СПАЛЬНЕ, МИСТЕР О’ЛИРИ, — проревел Шон и, достав из кладовки рядом с ванной веник и совок, начал излишне громко имитировать бурную деятельность. Грохот сопровождался тяжелыми приближающимися шагами. Карл прикрыл дверцу своего шкафа. Он был так напряжен, что ему показалось, будто скрипнули его мышцы, — удивительно, почему пришедший не обратил на это внимания. Звуки шагов раздались у самого лица Карла, и шкаф прогнулся под тяжестью здоровенной задницы Шона. Помощник старика по хозяйству издал характерный, долгий, громкий и рокочущий звук, отчего древесина завибрировала. Потом зажег сигарету.
— Ты же не убираешься там, — сухой, далекий голос старика песком сыпался Карлу в уши, — ты опять куришь свои чертовы сигареты, разве нет? ТАК ТОЧНО, МИСТЕР О’ЛИРИ, — рявкнул в ответ Шон. — ВОТ ВЕДЬ, ДЬЯВОЛ, ИМЕННО ТАК! Давай, Шон, — снова посыпался песок, — если тебя очень уж тянет перекурить, можно одновременно сделать что-нибудь полезное. Поставь чайник и пойди сюда. Поговори со мной, ты же знаешь, сюда ни одна живая душа не заглядывает. ТОЧНО.
Бессмысленное признание повторилось, шкаф облегченно вздохнул, как только Шон убрал с него свою грузную тушу. Когда Шон вышел из комнаты, Карл распахнул дверцу, подперев ее вешалкой. Плевать на риск, ему нужно было знать, что творилось за стенкой. Бульканье, щелчок, плеск, кашель, стон старого кресла, принявшегося на себя нелегкую ношу.
СДЕЛАНО, МИСТЕР О’ЛИРИ. Спасибо, Шон. Я ТУТ КОЕ-КАКИХ КНИГ ПРИНЕС, МИСТЕР О’ЛИРИ, ОДНУ СЕКУНДУ, СЕЙЧАС ДОСТАНУ ИЗ СУМКИ. А вот это славно, весьма любезно с твоей стороны, Шон. ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ ПОСЛЕДНЯЯ ПОРЦИЯ? Да-да, очень даже. Я ПОДУМАЛ, ЭТО КАК РАЗ ТО, ЧТО ВАМ ПО ДУШЕ, МИСТЕР О’ЛИРИ, ТАК ЧТО ПРИНЕС ЕЩЕ ИЗ ТОЙ ЖЕ СЕРИИ.
На что бы это могло быть похоже? Дэрмот задумчиво разглядывал книгу, пытаясь по обложке оценить содержание. О чем думает Шон, глядя на тихо, спокойно сидящих и читающих людей? Судя по всему, он понимает, что из кипы бумаги каким-то образом возникают истории, но наверняка сам процесс кажется ему пыткой: сидеть и ждать чего-то, глядя на крошечную поверхность с какими-то невразумительными значками.
У ВАС ЕДА СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ, МИСТЕР О’ЛИРИ, — произнес Шон немного погодя. — ВЫ НЕ СПУСКАЛИСЬ В МАГАЗИН В ПОНЕДЕЛЬНИК? Нет-нет… — пролепетал старик. — По правде сказать, Шон, мне не стоит лишний раз волноваться. ВЫ НИ НА ЧТО НЕ ЖАЛУЕТЕСЬ, МИСТЕР О’ЛИРИ? — выкрикнул домработник. — ВЫ ЖЕ ИХ ЗНАЕТЕ. ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ ЕСТЬ, КАК ПОЛОЖЕНО, УПРЯЧУТ ВАС В ПРИЮТ НЕ УСПЕЕТЕ ДАЖЕ ПОПРОСИТЬ… НЕ УСПЕЕТЕ ПОПРОСИТЬ… — Он запнулся, подбирая клише. — Не успеете попросить об эвтаназии, — вставил старик. КАК СКАЖЕТЕ МИСТЕР О’ЛИРИ, КАК СКАЖЕТЕ. ТАК ЧТО — СПУСТИТЬСЯ В МАГАЗИН? У МЕНЯ СЕГОДНЯ УТРОМ ЕСТЬ ВРЕМЯ. Было бы замечательно. ТОГДА КАК ОБЫЧНО? Да, как обычно, и еще кое-что, Шон: купи каких-нибудь фруктов, если найдешь — апельсинов или яблок, что у них есть, и батон хлеба, и немного… ОГО! С ЧЕГО ЭТО, МИСТЕР О’ЛИРИ?! Я НАЧИНАЮ ПОДОЗРЕВАТЬ, ЧТО У ВАС ГОСТИ. МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, Я ПОЧУВСТВОВАЛ НЕЧТО СТРАННОЕ В КВАРТИРЕ, КОГДА ВОШЕЛ. ЧТО-ТО НЕ ТАК. Ты прав, Шон. — Старик оставался невозмутим. — Я завел себе шикарную любовницу, не поверишь, такая умница, навещает меня каждый день, и в дождливую погоду, и в солнечную. Даже пешком по лестнице поднимается, если лифт сломан. Мне крупно повезло, в моем-то возрасте и при таком артрите. ДА ЛАДНО, БРОСЬТЕ, МИСТЕР О’ЛИРИ, — заржал Шон. — ВЫ ШУТИТЕ, ПРОСТО ПРИКАЛЫВАЕТЕСЬ НАДО МНОЙ. Нисколько, Шон. — Старик продолжал говорить спокойным тоном. — Я слишком завишу от тебя, чтобы над тобой шутить. КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО, МИСТЕР О’ЛИРИ. ЛЮБОВНИЦА ТАК ЛЮБОВНИЦА. А ТЕПЕРЬ ПОДАЙТЕ-КА МНЕ ПЕПЕЛЬНИЦУ, И Я ПОЙДУ ЗА ПОКУПКАМИ. ПРИЯТНО ВИДЕТЬ, ЧТО ВЫ ПИТАЕТЕСЬ ЧЕМ-ТО, КРОМЕ ЭТОГО КЛУБНИЧНОГО ПОЙЛА — ОНО ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖИРТРЕСОВ ВРОДЕ МЕНЯ, А НЕ ДЛЯ СТАРЫХ, ВЫСОХШИХ ГРИБОВ ВРОДЕ ВАС.
Карл четко представил себе, как Шон выходит из квартиры, шлепает по мокрому полу к лифтам, жмет на кнопку, ждет и после давит всем своим весом на подошедший лифт, устремляя его вниз. С ясностью галлюцинации Карл видел, как он заходит в мини-маркет, перекидывается сальностями с девицей за прилавком, изучает ее задницу, пока девица достает товар для старика. Потом он вразвалку идет обратно к корпусу, трезвонит, чтобы его впустили, обменивается веселыми бессмысленными фразами с консьержкой, открывшей ему дверь, отводит глаза от одного из представителей банды Тухлой Кишки, который ошивается в коридоре, затем снова заходит в рябую железную кабину лифта и поднимается наверх. Что с ним творится? Карл не мог поверить в то, насколько точно он представляет все эти события.
А ВОТ И Я, МИСТЕР О’ЛИРИ, УЖЕ ВЕРНУЛСЯ. Приветствую тебя, Шон. У НЕЕ ОКАЗАЛИСЬ БАНАНЫ И ЯБЛОКИ, НО АПЕЛЬСИНОВ НЕ БЫЛО. Какая жалость, они хуже хранятся. НЕУДИВИТЕЛЬНО, У ВАС ТАКАЯ ЖАРИЩА. А ТАБЛЕТОК И ВСЕГО ПРОЧЕГО ПОКА ХВАТАЕТ, МИСТЕР О’ЛИРИ? Есть все необходимое. А ВАША ДОЧЬ, ОНА ЗАХОДИТ К ВАМ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ? ИЛИ ЗВОНИТ? Звонила где-то с неделю назад. ЭТО ДО МОЕГО ПОСЛЕДНЕГО К ВАМ ПРИХОДА? Пожалуй.
Карл слышал приготовления к очередному чаепитию, и, пока в кухоньке шумел чайник, до него доносились тяжелые шаги Шона, слонявшегося по комнате и хлопавшего дверцами шкафов.
— Пыль — это умиротворение, — выдохнул старик. ЧТО-ЧТО? — крикнул Шон. Я говорю, что пыль приносит умиротворение, если все кругом покрыто мягким слоем пыли, можешь быть спокоен: ты находишься в надежном месте. ВЫ ТАК ВСЕГДА ГОВОРИТЕ, МИСТЕР О’ЛИРИ, КОГДА Я ПРИХОЖУ, — заржал Шон. — ЕСЛИ ВАМ НЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ Я ПРОТИРАЛ ПЫЛЬ, ТАК И СКАЖИТЕ! Плюнь на уборку, Шон, в этом нет необходимости. — Шон захрипел и снова уселся. — КАК ОБЫЧНО, МИСТЕР О’ЛИРИ, МОЯ АСТМА…
Дальше послышался звук, с которым, шумно прихлебывая, пьют чай. Из коридора, складывая полуненужные чистящие средства, Шон заорал, обращаясь к Дэрмоту: — МНЕ ОСТАВИТЬ СВОЙ КЛЮЧ, МИСТЕР О’ЛИРИ? ВАМ ОН ПОНАДОБИТСЯ? Нет, — прохрипел старик, — возьми его с собой, как обычно, Шон. С РАДОСТЬЮ ОСТАВИЛ БЫ ЕГО В БУФЕТЕ, ВОТ ЗДЕСЬ, МИСТЕР О’ЛИРИ. ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК Я НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА МОИ ПОДОПЕЧНЫЕ ВОЛНУЮТСЯ. Мне спокойнее, если ключ будет у тебя, Шон. Мои же вот тут, так? ТАК ТОЧНО, ИМЕННО ЗДЕСЬ. Хорошо, тогда увидимся на следующей неделе, Шон. ЕСТЬ «УВИДИМСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ», МИСТЕР О’ЛИРИ!
Дверь захлопнулась с двойным лязганьем. Сидя в темноте шкафа, как задумчивое привидение, Карл не мог понять, почему Шон не догадался о его присутствии в квартире. Этот жиртрес хоть и почувствовал неладное, но все же не учуял его. Почему? Ведь если он каждую неделю приходит к одним и тем же людям в одни и те же квартиры, то должен знать, как пахнет в домах у его подопечных, это же естественно?! Или вонь в стариковской конуре, к которой Карл уже успел привыкнуть, перебивала все прочие запахи? Версии зудели и бились о стенки черепа Карла.
Запах сигаретного дыма все еще висел в тесном воздухе квартиры. Когда Шон закурил, Карл чуть не поперхнулся от желания сделать то же самое. Табак имел запах всего сразу — еды, секса, наркотиков, дизельных выхлопов, сырых бирючин и дешевого парфюма. Карл даже не подозревал, как он соскучился по сигаретам — до сих пор ему вообще не приходила мысль о куреве. Что с ним творится в этом непонятном заточении? В кого он превращается?
Карл более вдумчиво поразмыслил над визитом Шона и над своими чувствами, этим визитом вызванными. Злость, даже ревность. Но почему он считал Шона жирдяем, если даже не видел его? И все же он был уверен в этом, голос принадлежал полному человеку. Если бы Шон задержался подольше, Карл ощутил бы, что изменился окончательно, перестал быть собой раз и навсегда. Лучше свалить — Шон указал ему на все причины. Этим же вечером он выберется отсюда и отправится к своей девчонке.
Опасность собственного намерения заставила Карла почувствовать себя лучше. Наконец вроде бы он успокаивался. В любом случае, старик наверняка догадался, что у него в квартире кто-то есть, а может, знал это с самого начала. Знал, что Карл здесь, но терпел его присутствие все то время, пока «гость» оставался вне поля зрения. Ёлы, он же попросил Шона купить лишней еды, может, хочет, чтобы Карл остался? Карлу показалось, что он все понял. Если он сам пришел в такое состояние после трех дней, в течение которых обозревал мир из окна двадцатого этажа, каково же старику, долгие годы занимавшемуся тем же?
После обеда, выпив свои традиционные напитки, Дэрмот медленно, пересиливая боль, убирался в квартире. Выполнял все то необходимое, чего Шон мастерски избегал, — сыпал хлорку в унитаз, ванну и раковину, протирал универсальным чистящим средством все поверхности в кухне, складывал простыни и одежду для стирки. Он отыскал плошку — осталась от сына или от дочери? Для Эвелин слишком современного вида — и уложил в нее незрелые бананы и восковые яблоки. Затем поставил плошку на стол у стены справа от двери.
Когда наконец тишина возвестила о том, что старик перестал двигаться, вышел Карл. Беззащитная голова снова рельефно выступала над спинкой кресла, газеты сложены рядом, кухня задыхалась от невыносимой чистоты. Новые предметы — фрукты, книги, хлеб, масло — как-то необычно светились в этой привычной обстановке, словно попали сюда с другой планеты.
Долгое время Карл стоял, глядя на голову над краем кресла и усилием воли приказывая старику — О’Лири, как его называл домработник — обернуться, но тот не двигался. В конце концов Карл вошел в кухню и сделал себе бутерброд, стараясь, по возможности, вернуть все в исходное положение. Потом встал у окна спальни и начал есть. С моря принесло туман и вместе с ним растрепанную стайку чаек. Птицы поднялись до высоты здания и принялись кружить перед ним. Карл подумал, что их негнущиеся крылья придают им немного неестественный вид, делая их похожими на оперенные модельки самолетиков. Ему больше нравились голуби. К западу, за грузовым портом, Карл мог различить ветряки с тремя лопастями, вращающимися от ветра. Он оставил мир вращаться как есть, и ветряки превратились в пропеллеры огромного транспортного корабля, направляющие его в воздушный океан. Как тошноту, Карл ощутил холод ключей старика в своем кармане. Они были там.
Сумерки долго растекались по небу, медленно просачивалась морось. Все внизу приобрело остроту черт, стало чистым и влажным. Взгляд Карла приковали к себе четыре одноквартирных дома, стоящие на островке зелени, окруженном рвом блестящего гудрона. Из школы показался зонтик и, перебирая ножками, виднеющимися у кромки, скрылся в зелени островка. Четверо стояли и смотрели на открытый капот автомобиля, как на дохлую собаку, словно решая, где ее закопать. Другие приехали на фургоне, открыли дорожный люк, поставили вокруг него желтоватую пластиковую ограду высотой по пояс, дабы не повредить достоинству города, и приступили к гинекологической операции.
Когда наконец кончики оранжевых иголок проткнули толстый покров ночи и О’Лири принял свои завершающие день пару чашек, после чего прерывисто справил малую нужду и улегся, Карл созрел. Стоя и держась за щеколду, он почувствовал, будто балансирует между всем и ничем, но затрудняется сказать, что по какую сторону двери.
Переступая через порог, Карл остановился, отчасти ожидая, что О’Лири сейчас поднимется со своего дивана-кровати и станет умолять его остаться. Но никаких звуков, кроме лязга и гула приближающегося лифта, не последовало, — просто вверх по пищеводу дома ползла очередная порция человечины. Ступив на коврик, Карл приготовился услышать крик, с которым на него сейчас накинутся, шлепанье кроссовок. Но ничего подобного. Когда лифт в тишине подъехал, Карл уже опрометью мчался по коридору, добежав до конца, распахнул дверь и метнулся вниз по ступенькам. Через три лестничных пролета он оказался на семнадцатом этаже, где и вызвал лифт, чтобы ехать вниз. Двери разошлись, обнаружив пустоту шахматных клеток линолеума, воняющего хлоркой. Через открытый проход Карл мог видеть общий холл, выкрашенный в серый цвет. Растения в горшках на низких столиках, информационные объявления, шелестящие на прибитой к стене доске под действием искусственного сирокко вперемешку с песчаной пылью покоя. Веселая попса лилась из динамиков, прикрученных к потолку, но ее никто не слушал, никто не плясал. Долгие секунды Карл не мог двинуться с места, здание всем весом навалилось на его голову и плечи, но потом он рванулся, освободился от давления и стремглав бросился наружу, в ночь.
В течение всего дня Карл продумывал маршрут: задними дворами, вдоль замусоренных бульваров и поперек заброшенных пустырей. Теперь он перебирался из одной полосы мрака в другую малоосвещенную область, избегая пабов, поскольку перед дверями каждого из них кучковались подростки, обходя уличные фонари и пряча лицо от прохожих на остановке. А когда наконец пересек границу района, где верховодил Кривая Кишка, задышал свободнее. Он откинул капюшон, до сих пор плотно укрывавший его голову, и позволил ночному воздуху остудить вспотевшее лицо. Посвежело. Идя длинными улицами, вдоль которых выстроились узкие дома, он начал обращать внимание на вещи, его окружавшие: псевдокаменный фасад, портик с фонариками по бокам. В окне наверху мать расчесывала длинные, мышиного цвета волосы дочери. Девочке на вид было около тринадцати, но головка ее выглядела такой крошечной, чуть ли не приплющенной. Каждое движение гребня сверкающим лучом отражалось от люстры и попадало в глаза Карлу через прогал в занавесках. Женщина повернулась к окну, словно почувствовала его присутствие, и Карл пошел дальше. Свернул на соседнюю улицу. Здесь дома были трехэтажными, и каждый пятый — либо сожжен, либо заколочен досками. Карл свежим взглядом посмотрел на эту разруху. Сгнившие оконные рамы, забранные гофрированным железом двери, вдребезги разбитые стекла, канализационные люки, забитые водорослями.
Один знакомый Карла, бывавший в этих местах, по возвращении рассказывал, что центр города именно такой, как им его показывают по телевизору, — сверкающий, вылизанный, за всеми зданиями следят должным образом. Понятно, что это чушь. Все города выглядят точно так же, как этот, — раскуроченными, раздолбанными, выжженными. По ящику вместо города показывали по-умному сконструированные наборчики, но к концу дня те, кто работал над программой, снимали свои костюмы, надевали спортивные штаны и куртки и возвращались по домам, на улицы вроде этой.
Замечтавшись, Карл повернул на главную улицу и, подняв глаза, заметил приближающегося к нему типа — внешне знакомого. Один из бывших корсаров Тухлой Кишки. Фрэнк, так звали этого типа, был до того мерзким, что когда его вышибли из банды, то напоследок малость наподдали: отшибли почку и начистили морду. К счастью, Фрэнк опустил свою бритую башку. При нем был рюкзак из нейлона, бело-синий, под цвет тренировочного костюма. Карл прижался к перилам, укрылся за искореженным мусорным баком. Но если Фрэнк его и заметил, то виду не подал.
Пройдя дальше по дороге, Карл нырнул в аллею прямо у автобусной остановки. Подкатил серый автобус, он успел вскочить в уже закрывающиеся с шипением двери. Сел сзади, под отвратительной огненно-рыжей рекламой. В ней содержался призыв слетать задешево в какие-то и без того недорогие страны. Заплатив столько же, сколько стоит один грамм героина, можно было немедленно перенестись на солнечные берега. Но что в таком случае оставалось Карлу? Выждать пару недель, прежде чем снова сдаться в тюрьму в аэропорту. При свете ламп в салоне автобуса прочие заключенные сидели как прикованные к своим сиденьям, и автобус, как жирная продолговатая змея, зашипел дальше по городу.
Семья Доун жила в невысоком доме, всего в три этажа. Позвонить договориться о встрече или хотя бы набрать ее мобильник — так вопрос не стоял. Карл собирался явиться без объявления, иначе не было никаких гарантий, что ему в следующий раз удастся вылезти сухим из воды. У него были к ней чувства, но веры в списке этих чувств не значилось.
Он повертелся вокруг здания, скорее походившего на сарай, в поисках входа и в итоге, перелезая через дощатый забор, сверзился в заросли крапивы. Ему были видны ее окна на втором этаже. Тогда он полез по водосточной трубе, хватаясь мокрыми руками за жесткий и хлипкий пластик. Человек-паук, блин, тоже мне. Крепко держась за кронштейн, он закинул мысок одной кроссовки на подоконник, а рукой ухватился за край окна, чтобы потом поудобнее уцепиться за металлическую фрамугу. Перенес вес своего тела и сразу заглянул в комнату Доун — шаткая, головокружительная перспектива. Она была у себя — лежала на ковре, в трусиках и футболке, косы растрепаны как никогда: волосы выглядели как на картинке, нарисованной баллончиком с краской на ее круглой голове. Она лежала на животе, ноги лениво согнуты в коленях крест-накрест. Крошечные вспышки ваты между загнутыми пальцами ног — недавно красила ногти. Доун одновременно листала журнал, жевала жвачку, курила, трепалась с кем-то по мобильнику и слушала музыку, подставив бум-боксу свободное ухо. Не замечаемый ею, Карл волен был любоваться ее аппетитными розовыми ляжками, обтянутыми хлопком ягодицами, мочками ушей с многочисленным пирсингом и всем прочим, что было в ней женского и женственного. Этого, пожалуй, ему бы вполне хватило, и если бы Карл мог слезть вниз так же, как забрался наверх, вероятно, он так бы и поступил. Нельзя было не принимать в расчет другие обстоятельства: например, непростой папаша, весь покрытый татуировками, точно стена здания граффити, а также мамаша, стремительная и клювастая, как птица-секретарь, вышагивающая по саванне.
Карл прислонил ухо к приоткрытому окну и прислушался к звукам, фонтаном бившим из комнаты: девчачий треп, визг попсы, шелест бумаги. Все такое живое, особенно по сравнению с жилищем старика. Карл жадно вдохнул дым ее сигарет и аромат ее парфюма. Она закончила болтать, положила мобильник на ковер, затушила сигарету. Потянулась выключить музыку, ее ягодицы напряглись, и во внезапно наступившей тишине он произнес: Доун. Господи, твою мать. Она упала на спину, одной рукой прикрыла низ живота, другой — лицо. Ее глаза безуспешно пытались что-то нащупать в темноте. Это я, Карл, — добавил он, просовывая свою покрытую щетиной рожу в проем между стеклом и металлом. Черт! Впусти меня, — в его голосе послышалась мольба. — Впусти меня, Доуни, не могу же я висеть тут целую вечность.
Она подошла к окну, открыла его, и Карл ввалился в комнату. Только встав перед ней и посмотрев в ее тускло-голубые глаза, он заметил на ее щеке порез, на который наложили швы; чуть выше был синяк, уже начинавший желтеть. Господи, Доуни, — выдохнул Карл. — Это еще что такое? Он взял ее за подбородок большим и указательным пальцами, будто ее лицо было карманным зеркальцем, в которое он мог увидеть, что его ждет, и повторил только что сказанное: Господи, Доуни, это еще что такое? — Ничего, — ответила она, и следом: — Ишь, какой заботливый! Сам-то где был, любовничек хренов, весь город на ушах, не знаю даже, как ты отважился на улице-то показаться, где тебя черти носили?
Он подвел ее к односпальной кровати, которая была втиснута в тесный альков, образованный нишей в стене с обоями в цветочек. На полке у изголовья вперемешку валялись противозачаточные пилюли, сигареты, пачки колес, нож, словом, все необходимое для юной хулиганствующей неформалки. Они сели по-турецки друг против друга, и Карл опять начал: Скажи, Доуни, это из-за меня? Но она не ответила, только кончиками пальцев с обкусанными ногтями приблизила его испуганные губы к своему упрямому рту.
Что-то в этом поцелуе было сродни поведению грызунов — так крыса орудует в чулане с припасами. Карл отстранился. Милые черты Доуни — тонкий и чуть изогнутый нос, ясный лоб — были окутаны туманом возбуждения. — Что с тобой? — спросила она. Нет, ничего. Он скосил глаза в пол. — Если ты меня не хочешь, я знаю того, кто хочет, — и она отвернулась. Ее футболка задралась, обнажив кофейного оттенка полоску кожи, поперек которой пролегал изжелта-пурпурный след, оставшийся от удара тяжелым ремнем.
Твою мать, Доуни, — вырвалось у Карла. — Это его рук дело? Его? Скажи… скажи, что это он, и я… я… — Что ты? — Она поднялась, нагнулась за сигаретами и зажигалкой, подошла к темному окну и стала смотреть на улицу, словно стоя на борту тихоокеанского лайнера. — Что ты сделаешь, Карл? Снова смоешься? Думаешь, мне это по кайфу, то, что он сделал? Думаешь, он мне нравится?
Но Карл не собирался сдаваться. Он подошел к ней и, взяв за плечо, развернул к себе лицом. Скажи — просто скажи мне, он это был или нет? Она коротко хохотнула, протиснулась мимо него к двери, закрыла ее на маленькую серебристого цвета задвижку. Затем вернулась, раскрыла одну упаковку. На полке у изголовья кровати раскрошила две дорожки желтоватого порошка. Что это, винт? При помощи шариковой ручки препроводила порошок в себя.
В ноздрях покалывало; они сидели бок о бок на кровати, почесывая носы и тычась ими друг в друга, две городские крысы, отравленные вкусным ядом варфарина.
Доун взяла две сигареты, поднесла огонь к их белым кончикам. Одну передала Карлу. — А предки не войдут? — Не, главное, что я дома, остальное им до лампы. К тому ж у них пара новых каналов по ящику, скоро «Спокойной ночи, малыши».
Ее рука упала на убедительную складку в области его паха, и, щурясь от дыма, он посмотрел на пораненную кожу Доуни не только с чувством сострадания, но и с предчувствием возможности. Когда он тронул Доуни за плечи, ее гормоны так взыграли, что она чуть ли не броском затащила его на себя, и их соитие больше походило на дзюдо. Они хватали друг друга за отвороты кимоно и тянули в разные стороны. Борцовским ковром служило измятое пуховое одеяло. Карл обнаружил себя в состоянии совершать кое-какие маневры применительно к Доун, но не совсем те, что она ожидала. Амфетамины, напряжение, потенциальная перспектива встречи с Тухлой Кишкой — все это приводило его в отчаяние. Через некоторое время Доун свернулась клубочком, этакая полевка-забияка в травяном гнездышке. Похоже, заснула.
Может, думал, Карл, она так часто балуется винтом оттого, что ее не забирает… А его-то как раз забирает. Он сел, встал, походил, нагнулся. Справил малую нужду в крошечную раковину, пристроенную в углу спальни, пересохшее нёбо липло к ледяной сухости языка. Может, она вовсе и не спит, притворяется, а сама ждет его, и это лишь постановочный номер?
Карлу было одинаково страшно как уйти, так и остаться. Он провел час, скрючившись в стенном шкафу, ее эфемерные платьица и расклешенные джинсы спадали ему на плечи, как головной убор фараона. Еще два часа он провел, дрожа перед прямоугольником окна; мысли шныряли туда-сюда в тесноте черепной коробки. Наконец, когда восходящее солнце посеребрило черепицы крыши дома напротив, он пошевелился.
Удерживая равновесие на подоконнике, он повернулся лицом к комнате, чтобы начать спускаться на вытянутых руках. Доун сидела на кровати. Во всей своей наготе, со своими ссадинами и выражением божественной ненависти на лице, она обращалась к Карлу, будучи как бы вне его времени и пространства. Узы предательства натянулись вместе с тем, как Карл свалился в траву двумя этажами ниже. Он ударился, перекувырнулся и, ругаясь про себя, пожелал, чтобы эти узы смогли втащить его обратно через продолговатое окно, вернуть в предательские объятия Доун. Что угодно, но только не это.
И снова плестись, тащиться на деревянных ногах по раскрошенным от света фонарей улицам. Боязливо, на цыпочках, в обратный путь в убежище, в корпус, вопреки всему гордо возвышавшийся посреди города как насмешка над городскими властями.
В такую рань автобусов еще не было. Дорога Карла пролегала среди божьих отхожих мест, затем вверх вдоль пологого холма, мимо больницы. Несмотря на ранний час, несколько такси с хищным видом уже тарахтели по окрестностям. У смерти и болезней не бывает перерывов и выходных.
Карл посчитал, что ни у кого из банды Тухлой Кишки не хватит духу прождать его всю ночь. Они не могли заметить, как он выходил из корпуса, на улице он ни на кого не напарывался, никто не «провожал» его до дома Доуни, чтобы заняться им уже там. Нет, все они спали в своих вонючих постелях и пускали слюни, в этом можно было не сомневаться.
Он проскользнул в пустой холл. В динамиках по-прежнему надрывалась попса, двери всех трех лифтов приветливо его встречали. Карл воспользовался первым лифтом и поднялся на семнадцатый этаж. Крадучись к лестнице, накинув капюшон и пригнувшись, он не заметил мамашу с ребенком, пока буквально чуть не наступил на них. Резко отпрянул к стене. Мамаша выпрямилась, не выпуская из рук плуга детской коляски, и посмотрела на него с усталостью крестьянки, которая призвана трудиться по какому-то зову природы, помимо своей воли. В коляске сидел ребенок ясельного возраста, по виду заметно крупнее тех, кого обычно возят в колясках и кому суют соски. Интересно, что устроит этот засранец, если вылетит из коляски, праздно подумал Карл. Заревет белугой?
И тут он узнал измученную заботой женщину: Гарриет Мак-Кракен, она работала в школе, где он учился. Карл, — начала было она, — какого черта ты тут делаешь? Но он уклонился от ответа, в его мозгу мгновенно выстроилась цепочка: Гарриет — Перл, Перл — Дэйви, Дэйви — Дэн по кличке Манго, один из головорезов Тухлой Кишки. Даже если они не следили за зданием, не пронюхали, что он до сих пор тут, все равно в скором времени узнают. Он протиснулся к лестнице и, перескакивая через четыре ступеньки, выкрашенные в красный цвет, молил, чтобы ее визит не обернулся тем, чем грозил обернуться.
Карл вошел в квартиру номер 161, открыв дверь ключом, оставшимся у него с прошлого раза. Голова О’Лири находилась там же, где и всегда: похожая на седое яйцо, она покоилась в мягкой чаше спинки кресла. Он почувствовал такое облегчение, что чуть не крикнул: «Мистер О’Лири, я дома!» Но какой смысл? Старик все равно ничего не услышит. Карл прошаркал в кухню, стащил горсть таблеток снотворного, проглотил, запив прохладной водой из крана, и побрел к себе в спальню.
Как в старом фильме ужасов, подумал он, укладываясь в свой шкаф и прикрывая крышку. Скоро ли этот фильм закончится? Солнце взошло, а злые жители деревни все никак не поднимутся к замку Графа с вилами и косами наперевес. Верно ли, что в скором времени этому конец и я смогу гулять по улице с тем смешным чувством, с каким вечером выходишь из кино? Вскоре, окруженный темнотой, Карл погрузился в сон.
Когда наблюдающий взгляд исчез, Дэрмот ощутил себя брошенным. Но когда взгляд вернулся — и Дэрмот это почувствовал, проснувшись от неожиданно яркого рассвета, предсказать который было совершенно невозможно, — в нем светилась настоящая злоба, что-то убийственное. Теперь этот взгляд был острым уколом, горящим лазером, смертоносным лучом.
Карл проснулся в шкафу, выспавшийся и бодрый, и тут же резко, с силой ударился головой о петли. Черт бы их побрал, подумал он, и следом: пора пришибить старикашку, пора избавиться от этого О’Лири. Бегать с моей лодыжкой не получится. Неизбежность убийства стучала у него в ушах, горячая кровь била струей, переполняя чашу решимости. Может, Доун и подождала часок после того, как он ушел, прежде чем позвонить, но Карл не сомневался, что она уже все разболтала. Потом еще эта Мак-Кракен. Они догадаются сложить вместе два куска мозаики — даже их мозгам это будет по силам. Они придут за ним и, когда старик откроет дверь, кокнут обоих. Но если избавиться от О’Лири, можно будет забаррикадироваться и протянуть тут еще с недельку. К тому моменту их стремление все же должно поутихнуть, всему есть пределы.
Точно, избавиться от старикашки — в этом был свой резон. Абсолютно ничего личного, просто, извини, старик, так уж вышло. Он постарается не причинить боли, накрошит каких-нибудь таблеток в пищевую добавку, а когда О’Лири начнет отходить, поможет ему посредством подушки. Учитывая возможные последствия вторжения в квартиру Тухлой Кишки, это милосердие с его стороны. Как они это называют — младонацизм?
Ранним утром зрение Дэрмота было острее всего. Особенно таким, как это: яркое солнце, ни облачка, разве что пара сероватых мазков над холмами к югу отсюда. Кроме того, признавался Дэрмот сам себе, старость приводит к дальнозоркости. Становишься дальновидным, можешь фокусировать взор только на расположенных вдалеке предметах, то же касается жизненных обстоятельств. Не пригодная к употреблению сорокадневной давности пища ударила в голову со всей распухшей, пучащей силой, которая сопутствует ее первому поглощению. Неудивительно, что таким правильным казалось изо дня в день сидеть на двадцатом этаже. Отсюда можно было смотреть вдаль.
Но, вне зависимости от остроты зрения, такое событие пропустить было невозможно. Они шли по прямой дороге, ведущей от города к корпусу, демонстрируя по мере движения все приемы и ухватки, которые почерпнули из кинобоевиков. В какой-то момент они разделились, один проломился через забор на пустырь возле школы, другой кинулся к парку, кто-то — на школьную игровую площадку, еще один прошел мимо оздоровительного центра. После чего все снова сошлись вместе, и их всосали стенки огромного кишечника того корпуса, к которому они направлялись. Дэрмот догадывался о цели их визита. Вряд ли им известен номер квартиры, но это уже дело техники. То, что они полны решимости, это было очевидно.
А Карл лежит в своем гробу и планирует убийство. Какие ощущения это у него вызовет, в реальности? Он пытается отбросить неприятные воспоминания. Когда они ловили крыс на стройплощадке, остальные давили тварей кувалдами, а потом смеялись, глядя на лежащую в гравии лепешку, конвульсивно подергивающуюся в предсмертных судорогах. Карла же одолевала дурнота, и он тайком уходил курить в туалет. Ключ к успеху в том, чтобы все делать быстро и управлять собственной злостью, использовать ее для достижения цели. Что, его положение не достаточно отчаянное, разве мало он натерпелся? Ему доводилось слышать о гораздо более тяжких зверствах, которые оправдывали на абсолютно гнилых основаниях. Карл уперся руками и ногами в стенки своей тюрьмы из красного дерева, стал напрягать и расслаблять мышцы, сведенные судорогой. Вот так, раз-два, раз-два, накачивая пульсирующую ярость.
Дэрмоту потребовалось много времени, прежде чем он смог нагнуться и присесть. Пытаясь контролировать свои порывистые движения, он наклонился к полу в три этапа. Старик словно был воплощением всего здания, его тоже пытались разрушить, подрывая ему здоровье аккуратными ударами.
В дверцу шкафа постучали. Карл не мог поверить, его разум не принимал такого поворота событий.
Дэрмот снова постучал в дверцу и остался ждать в умиротворяющей пыли унылой спальни.
Карл приоткрыл дверцу шкафа, и его взгляд упал на шлепанцы старика. Невольно он стал открывать дверцу все шире, как бы впуская старика в проем по частям, пока наконец оба обитателя квартиры не посмотрели прямо друг на друга.
— Надо поговорить, — сказал Дэрмот. — Они разведали, что ты еще здесь, но у меня есть план, как тебе помочь.
— Ч-то? — Это был не вопрос, Карл просто пытался обратить внимание Дэрмота на неестественность какого бы то ни было разговора между ними. Что это могло значить? Старик на самом деле в курсе, что Карл уже давно здесь? Или это чистая импровизация?
— У меня есть план, и я собираюсь тебе помочь. Все здание под их присмотром, им известно, что внутри живет только несколько стариков, скоро они постучатся в дверь. Если не обмануть их, сказав, что ты уже ушел, тебя обнаружат. Они хотят устроить тебе взбучку, так? Верно… так… а может, тут пахнет еще чем похуже. Например, деньги, так я понимаю? Да, деньги. Ладно, давай, вылезай из этого шкафа, надо поговорить.
Карл извлек себя из шкафа и, потягиваясь и разминаясь, поплелся в комнату: один мятый синтетический костюм, из воротника которого торчит бледное лицо. Он был крупнее О’Лири, моложе и сильнее его, но старик сбил Карла с толку. Сомнения прочь, у старика было самообладание. Что это, волшебство, какая-то особая мудрость?
— Сколько?
— Что — «сколько»?
— Денег, денег сколько надо?
Карл назвал цифру.
— Хорошо, мы их поделим, доставай.
Карл вынул из заднего кармана стариковских панталон обернутый в полиэтилен продолговатый сверток. Он столько времени пробыл в кармане, что старик и забыл о его существовании. Как будто сверток превратился в отдельный орган. Печенка с зеленью, почка с капустой. Карл пересчитал купюры, еще хранившие тепло тела, разделив их на две стопки.
— Я вызову такси, — сказал Дэрмот. — Попрошу водителя остановить прямо перед дверьми внизу. Ты проводишь меня до лифта, я спущусь и выйду к машине. Затем велю водителю ехать медленно мимо тех двоих, чтобы они меня точно разглядели, разглядели, что я их дурачу. После чего мы отчалим.
— И чем это поможет?
— Они подумают, что это ты. Давай. — Дэрмот указал на куртку и штаны, висевшие на Карле, как на пугале. — Снимай, я вызываю такси.
— Но почему, почему вы мне помогаете, мистер…
— Дэрмот, зови меня просто Дэрмот, ты как раз задолжал мне по части фамильярности.
— Хорошо, Дэрмот, так почему?
— Причин много, мой мальчик, очень много. Отчасти из-за моего собственного сына. На него напали и убили бандюги вроде этих. А то с чего, ты думаешь, я тебе позволил столько времени здесь оставаться? Но есть и другие причины, часть из которых содержат своего рода корысть. Ладно, поторапливайся, стаскивай с себя все это барахло.
Кривая Кишка стоял на углу у Оздоровительного центра, наблюдая за тылами. В одной руке он держал крошечный мобильный: рука здоровая и мясистая, телефон, маленький и твердый, — электронная песчинка, затерянная во впадине кулака. Другая рука поглаживала погрубевшую кожу в районе ключицы. Он наблюдал и выжидал. Прямо сейчас или вот-вот это должно случиться, он не сомневался. Телефон в его руке просигналит, и он бросится через дорогу, усеянную мятыми жестянками и расплющенными колесными колпаками, на ходу расстегивая манжеты.
Машина затормозила у тротуара, завернув за угол прямо перед ним. Кривая Кишка одновременно осознал три вещи: во-первых, это было такси, во-вторых, человек, сидевший на заднем сиденье с накинутым на голову капюшоном — Карл, и, в-третьих, этот человек показывал ему средний палец. Он направился было к машине, намереваясь выдрать с мясом дверцу и вышвырнуть Карла на асфальт, но машина рванула с места, оставив его наедине с проклятьями и тщетными попытками попасть по крошечным клавишам крошечного телефона.
Карл решил проверить, поместится ли он в кресле Дэрмота, — да, в самый раз. Вид отсюда открывался великолепный: протяженный город, выплеснутый в продолговатое окно и уместившийся в нем. Денек был чудесный, и впервые за долгое время Карл не испытывал страха. Дэрмот сказал ему, что не вернется и что он может пользоваться квартирой сколько захочет, отныне она полностью в его распоряжении. Карл позволил ощущению спокойствия, чувству тихой созерцательности овладеть собой в полной мере. Много над чем предстояло поразмыслить сегодня, но для начала надо пойти заварить чашку пищевой добавки со вкусом клубники. Еще одно новое ощущение, которое досталось Карлу в наследство.
Огромные пяти- и шестиэтажные коричневые здания делового центра внизу были рассечены продувными магистралями. По-настоящему город больше никуда не спешил — последние лет двадцать как минимум. На смену спешке пришла суматоха во время обеденных перерывов, голодные конвульсии офисных служащих в поисках пищи. Колени молоденьких женщин, кривящиеся под серыми юбками; расстегнутые, свободно болтающиеся белые рукава молодых людей; галстуки, которые ветер зашвыривал им на плечи. Помощник продавца костюмерной лавки подумал, что никогда не видел более странного покупателя, чем еле ковылявший через дорогу старик, чья черепашья голова высовывалась из капюшона куртки, как из панциря. Но, несмотря на его опасения, старик был настолько полон уверенности, вел себя так непринужденно, что помощнику продавца не оставалось ничего другого, кроме как безропотно выполнять свои обязанности.
— Мне бы хотелось, чтобы вы сняли с меня мерки, — отчеканил Дэрмот. — Нужна добрая тройка, никакого готового барахла.
— Конечно, сэр.
— У меня наличные, так что я был бы особо признателен вашим людям за оперативность.
— Слушаюсь, сэр.
Дэрмот сбросил спортивную куртку паренька и остался в рубашке, брюках и кардигане в ожидании узкой пряжки сантиметра. Он уже чувствовал, как помощник продавца зрительно измеряет его и совершает все необходимые подсчеты. Устремленный на Дэрмота взгляд был спокойным, почти взгляд жены, с оттенком прагматичной оценки и немого участия.
Пятые качели
Стивен пришел в себя и обнаружил, что лежит на проезжей части, сырой и холодной. Его колени были прижаты к груди, сведенные судорогой пальцы рук сложились в молитвенном жесте, словно о чем-то умоляли гудронированное шоссе. Щеку и подбородок прижало к сточной канаве, запруженной винегретом из грязной листвы и кусков пенопласта, вроде того, что используют при упаковке грузов. Рядом лежало мертвое тело шестилетнего Дэниела. Стивен приподнялся на локте; водитель черного кэба, сбивший насмерть его сына, возвышался над трупом. Стивен отметил, что на обоих были шорты, у Дэниела джинсовые, у водилы — хаки. Водила растерянно чесал репу.
— Он мертв? — спросил Стивен.
— Ессессьно, — дружелюбно ответил водила, разве что немного мрачным голосом. — Капотом -ак м-латком шарахнуло па куп-лу, нькаких шанс-в.
— Мне кажется, это неправильно, — Стивен горько сплюнул, — что маленький мальчик погибает в таком отвратительном месте.
Он поднялся и качающейся походкой двинулся к водиле. Стал показывать жестами на развилку, на новые типовые дома, цилиндрические гаражи и мастерские, расположенные в арках железнодорожных мостов, на огни светофора и на кривой рельс безопасности у обочины шоссе. Это ж как надо погнуть рельс, чтобы тот практически перестал быть рельсом?
— Да, эт- сршенно нипра-ально. — Водила почесывал подбородок. — Ты б скорей предпочел, штобон н-ходился в свежей чистой кроватке, п-доткнутый сафсех старон адьял-м, да, и штоб сестр- и врачи вакруг, да?
— Да, вот именно.
— Скажу те одну вещь… — Водитель, несомненно, относился к тому типу людей, для которых оказать услугу другому считалось делом благим. — Тут ряд-м «Сэн-Мэри». Че ска-ашь, мож тряхнем мальца -лек-трошоком, п-сморим, палучится ли паднять -во и дам-чать да места за двац- минут? Туда черть-скока переть, да еще ждать, чтоб приньли, пока он -пять не отключилсь.
Не то чтобы это был собственно электрошокер: просто длинные, толстые кабели в желтой оплетке. Вилки смахивали на те, что подсоединяются к портативному генератору. Стивен с удивлением увидел, когда водила убрал челку со лба ребенка, что под ней у Дэниела оказалось необходимое устройство: розетка с тремя отверстиями. Водила подсоединил, что нужно, и вернулся к своему кэбу, который все это время стоял с включенным двигателем: огромное черное воплощение нерешительности.
— Атличн, — крикнул водила, — скажи-иму, шо ты иво любишь!
— Я люблю тебя, Дэниел, — проговорил Стивен, присев рядом с ним и впервые за все это время обратив внимание на его шею, застывшую в неестественном изгибе, лужица запекшейся крови и мозгового вещества виднелась у основания головы.
Водила дал полный газ, провода дернулись, Дэниел открыл глаза: «Папа?»
— Все хорошо, Дэниел, — сказал Стивен, ощущая огромную, необъяснимую утрату. — Сейчас мы отвезем тебя в больницу.
— Но я по-прежнему буду мертвым, да, пап?
— Да-да, конечно же.
Вернулся водила и передал Стивену некий предмет, который с одинаковым успехом можно было назвать или большой таблеткой, или маленькой баночкой. Того же желтого цвета, что и кабели.
— Эт- чудная штука, приятьль, — пояснил он, — ат кантакта с вадой разрастаеца в тыщу раз!
— Как зерно?
Стивен посмотрел на пластиковый цилиндр и представил, что было скрыто внутри: удивительная, биомеханическая энергия. Он почувствовал, как слеза борется с натяжением более сильной поверхности во впадинке его века, норовя вот-вот соскочить, обернувшись моментом времени. Наконец-то. Скатилась по щеке, шлепнулась на цилиндр. И все полетело к чертям…
…И распалось на куски какого-то идиотского коллажа, слепленного из соплей, радиочасов, лампы, книжки и обращенного к нему, похожего на луну лица ребенка ползункового возраста, который находился в нескольких дюймах от него.
— Бисса-бусса, — выдал малыш, и затем: — Тррррррряяям!
Стивен приподнялся на согнутых руках. Отголоски взорвавшегося сна еще гудели в голове, беспорядочно мешая увиденное с его же ассоциациями, одновременно аляповатыми и блеклыми. Действительно ли сны настолько прозаичны, думал он, или они становятся таковыми после их переосмысления? Коллективное бессознательное, казалось, теперь было грамотно выстроено для мерчендайзинга, как огромный супермаркет, полный психтоваров быстрого приготовления. Но все же… его ребенок… мертв… думать об этом было невыносимо.
— Труууууууулллль! — вмешался малыш, засовывая ручонку в свои черные кудряшки.
Стивен обхватил маленькие плечи и посадил малыша на себя.
— Э-ге-гей! — сказал он, прижав губы к его густой шевелюре.
Малыш извернулся на руках Стивена, ткнув его ручонкой в подбородок, и показал язык.
— Ладно, — лязгнул зубами Стивен. — Подъем! — И он переместил малыша обратно на пол.
Широкий хлюпающий подгузник и низ синтетической пижамы поддерживали малыша в вертикальном положении; выражение солидности передалось спокойной рожице карапуза. Стивен встал, пошатнулся, его грубое лицо скривилось в болезненной гримасе. Как бы случайно, но на самом деле сознательно, он отпихнул крошечное тельце в сторону потрескавшимся ботинком, и малыш повалился на бок, курчавая головка шлепнулась на коврик. От удивления, не в состоянии сопротивляться, дитя осталось лежать и тихо хныкать. Стивен пристально рассмотрел пузыри слюны, выступившие на идеальных розовых губках: в рыбьем глазу каждого пузырька ярко бликовали сетки, развешанные по окнам спальни. Он не мог произнести их названия, этого абсурдного слова. В конце концов, название — все равно что признание, а он не имел к нему никакого отношения.
— Спальня похожа на какую-то ванную! — выругался он, после чего добавил: — А ванная похожа на какую-то спальню!
И в самом деле. Она постелила коврики для ванной по обеим сторонам кровати, в гирлянде из сетки на окне висели высушенная морская звезда и морские коньки, пойманные в мелкие ячейки, на стенах красовались обои в вертикальную полоску, бело-синие. Но на этой регате никогда не было никакой гребли, кроме дружной и стремительной.
Стивен вломился в примыкающую ванную, в которой белые подушки с бахромой были разбросаны по небольшой поверхности, покрытой ковром; над самой ванной висела полка из сосны, набитая разбухшими книгами в мягких обложках; а над раковиной — зеркало в позолоченной узорчатой раме. Стивен схватился за прохладные края раковины и подумал, не вырвать ли ее из пола. Посмотрел на свое лицо в зеркале. «Картина маслом!» — бросил он. И правда: двухдневная щетина цвета графита, печальный анахронизм прыщей и морщин на тех же щеках, — он выглядел скорее престарелым рабом, нежели стареющим мастером.
Стивен заметил в унитазе кусок дерьма — осталось от нее, видимо, на память. Мягкое, коричневое, легкое — как она сама. Он откинул полы несуществующего рубища и свесил свой зад над унитазом.
— Клал я на твое дерьмо! — провозгласил он со злостью и в то же время в приливе дикой духовной тенденциозности почувствовал удовлетворение оттого, что сэкономил пару галлонов воды.
Перед его мысленным взором прокрутился в обратную сторону видеоклип про изнуренных женщин третьего мира, и они побрели назад прерывистой походкой прочь от далеких запыленных оазисов к своим поселениям, хижинам с коническими крышами. Передвигаясь ползком, в поле зрения появился малыш.
— Я гажу на дерьмо твоей мамаши, — обратился к нему Стивен в режиме беседы, но, поднатужившись, он подумал, что нехорошо вести себя подобным образом, все эти пинки между делом, некорректные замечания… Далеко не безобидные вещи. Но почему она оставила его с ребенком одного?
Когда он уже поднялся с целью подтереться и невольно обернулся назад, то увидел, что его дерьмо соединилось с ее, их фекалии переплелись, и аппендикс его какашки любовно располагается на ее массе, словно обнимающая рука. Близость, подумал Стивен, сильно переоценивают. Как-то раз среди ночи, с остервенением набросившись, она стала лупить его, спящего, своими пятками по расслабленным ногам. Лупила, проклинала, и тогда он был вынужден вознаградить ее за сомнения — сомнения в том, что он вовсе не спал. И вот теперь она ушла.
После того, как малыш справился с порцией жиденькой кашки, Стивен подумал о том, как он вообще оказался тут, в занюханной кухне на противоположном краю города. Со времени переезда прошло уже два года, и вот он проснулся с чувством потерянности, желая вернуться в тот дом, который перестал быть таковым, и исчезнуть из этого, который домом никогда и не был. Он окинул взглядом кухню: острые меламиновые дверцы, не попадавшие в пазы, месопотамский абрис электрочайника, узловатое безволие подставки для кружек в форме дерева; и вдруг осознал, насколько бесконтрольно разбегались в разные стороны все линии его жизни. Не стоило, нельзя было брать на себя такую ответственность… он не сможет владеть сопряженными с его жизнью жизнями других — это постоянное эмоциональное непопадание «в пазы». Единственное, что он ощущал — огромное чувство жалости к собственной жалости в свой же адрес.
— Йоо-хоо! — выдал малыш.
По радио закаленный голос вещал насчет облачности. Стивен слышал о том, что в небо забрасывают специальные приспособления и подсчитывают облачный покров для каждого участка. Существовало что-то вроде грубого подсчета. Насколько он понял, — средняя облачность. Скосив глаза в небольшое окошко между сходящихся на конус стен лондонского кирпича, Стивен увидел облачность выше среднего: серое на сером и серым погоняет, бесформенные волны серости, накатывающие одна за другой. Так пасмурно было на протяжении всех его свободных дней. Свободных от чего? Он вспомнил вчерашнее утро и ту мерзость, что навалилась на его календарь-ежегодник фирмы «Саско», когда он, если тот вдруг забыл, сказал своему боссу, что не придет на следующий день. И началось: «А как же…», «Вы что, не понимаете?..», «А может, вам?..». Хотя все было внесено в график, все его выходные, и подчеркнуто мягким фломастером. Как бы то ни было, его работа, в чем она, собственно, заключалась? Ни в чем — говорить по телефону на прощание «До встречи» людям, которых он в действительности никогда не видел.
— Пррррррьвет! — напомнил о себе его сосед по утреннему столу.
Стивен слишком быстро попытался вытащить его из детского стульчика; пухлые ножки застряли в отверстиях сиденья, и он своротил всю конструкцию — башню из металла и пластика, пентхауз плоти. Затем вернул все на место, выпутал ножки малыша, попробовал заново. Сменил подгузник, с аккуратным безразличием подтер попку. Заклеил мешочек с экскрементами. Как и положено, подумал он про себя, это добро поместят туда же, куда и десятки тысяч аналогичных кульков, после чего отправят на мусорную свалку в Ист-Мидлэндс, где все это пролежит миллионы лет, чтобы потом предстать перед археологами будущего в качестве веского доказательства того, что их предки поклонялись дерьму.
Стивен одел своего подопечного; пальцы малыша, похожие на разбухшие сосиски, вяло хватались за ремни и застежки. В синтетическом комбинезоне малыш, на взгляд Стивена, выглядел каким-то карликом-подчиненным инспектора по ядерным взрывам, который готов оценить степень токсичности Чернобыля, раскинувшегося снаружи. Пятясь и возвращаясь в неудобные пределы квартиры, где спальня, ванная, кухня и гостиная выходили в коридор размером с коврик для мыши, Стивен маневрировал детской коляской, ведя ее одной рукой, а другой цеплялся за голое покрытие. Эта коляска, взятая напрокат, — что за смехотворное, кривобокое устройство! Словно шутовская боксерская перчатка на телескопической руке со складными подпорками-перекладинами, она была сделана как бы специально для того, чтобы шибать его по роже снова и снова. Перекладину можно было сложить, но убрать — никак. Вот она опять отскочила и зацепилась за дверь, и, пока он ее закреплял, пленник сбежал. К моменту водворения преступника на место деталь снова отскочила.
На улице Стивен скрепил ребенка и транспортное средство союзом пластиковой застежки и нейлоновой сетки, затем присел на невысокую стенку, шедшую вдоль живой изгороди, и, чувствуя уколы острых веток сквозь тонкую одежду, расплакался — всего на несколько минут. Ровно на этом месте его и накрыла Несудьба, эта мерзкая, отвратительная тварь. А когда он поднялся и покатил коляску вверх по тротуару, Несудьба увязалась за ним, решив прокатиться.
— Типути, — промямлил малыш, заметив болтающийся с тренькающим звуком замок на здании, мимо которого они проезжали, и Стивен погрузился в раздумья, как же это так вышло: ребенок растет, все прекрасно, вот-вот начнет говорить, а сам Стивен тем временем становится аутистом!
Но кое-что нехорошее вскоре должно было случиться. Страшное событие ждало своего часа. Ополоумев, билось в оконное стекло реальности своими черными крыльями, точно птица, залетевшая в комнату. Нет, думал Стивен, катя коляску, не стоило выводить жену из себя все более частыми и долгими совместными поездками на машине. Знал же, что она совершенно не ориентируется, и тем не менее заставлял ее. К друзьям ли поехать или просто в магазин, я постоянно изобретал новые маршруты, каждый раз немного длиннее. Она протестовала: «Стивен, я уверена, что раньше мы ездили туда другой дорогой». А чтобы ее еще больше запутать, я отвечал: «Мы просто срезали». Теперь ни машины, ни жены не было. Точнее, была бывшая жена, но они уже не кружили, точно боксеры, по квартире — границы ринга сравнялись с границами города, а они будто так и застыли в клинче, молотя друг друга короткими ударами в корпус.
На автобусной остановке Стивен оказался в компании пожилой дамы, которая пила из банки не самое дешевое пиво, и опрятного пожилого господина, который развязно опирался на трость. Пожилой господин шутки ради прицепил к своей шляпе перо, его твидовый костюм был безупречно отутюжен. Он выглядел так, словно наблюдал за бегунами или наездниками на поле, которые должны были показаться из-за угла и промчаться по главной улице, вылезая вон из кожи и брызгая пеной во все стороны. Он выглядел счастливым. Стивен опустился на одно из покатых, покривившихся пластиковых сидений; горе пронзило его, как изжога. Тем временем Несудьба, пользуясь случаем, решила позабавиться с ребенком.
Она пощекотала ему пятки, и малыш хихикал: «Хи-хи-хи». Потрепала его по щекам, в ответ малыш прижался к ней своей кудрявой головой. Она отнеслась к ребенку с исключительной благожелательностью, взвалив на себя короб его детского, похожего на галлюцинации, воображения, полный игрушечных машинок и аккуратно сложенных кубиков. За всем этим были слишком высокие серые стены, не подойдешь, а сверху раздавались привязчивые громкие звуки. Малыш, еще слишком маленький, чтобы понять, кто перед ним, решил, что это неожиданно свалившийся на него результат родительского отсутствия, и с готовностью принял мираж.
— Блюм-с, — пробормотал он.
Но пожилая женщина, не понаслышке знавшая эту особу — которая висела клоками в ее слипшихся волосах, жирным пятном размазалась по ее шее, — закричала, тряся руками и пытаясь избавиться от наваждения: «Пшлапрочь, прочь-тменя!»
Лагер слегка вспенился, образовав небольшой гребень, Стивен дернул ручку коляски, чтобы развернуть ее и откатить на несколько футов назад, и нащупал в кармане салфетку. Подошел автобус.
За то время, что потребовалось бестолковому старичку, чтобы заплатить за проезд и вскарабкаться на сиденье, Стивен смог управиться со своим беспокойным грузом, сложить коляску и убрать ее в рюкзак. Пока автоматические двери автобуса с шипением закрывались, Несудьба тоже успела незаметно вскочить на подножку и уселась прямо за водителем на одно их мест, предназначенных для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. Пожилая женщина — если женщину пятидесяти трех лет можно так назвать — стояла на площадке и благоговейно смотрела, как автобусная остановка уплывает вниз по течению шоссе, все дальше от автобуса.
На другом конце города бывшая жена Стивена распоряжалась огромным особняком в эдвардианском стиле. Стивен не знал, водила ли она любовников — его не посвятили, — но даже если и так, в шикарных комнатах места для них было достаточно. Одни только шкафы-кладовые могли приютить пятерых-шестерых альковных героев, и когда Стивену хотелось погрузить себя совсем уж в поганое настроение, он представлял себе этих деятелей в укрытой со всех сторон темноте, женские наряды шуршат поверх их мускулистых плеч, а горе-любовники все в ожидании, кого же она предпочтет. Бывшая жена Стивена была красавицей. Элегантная, волосы цвета воронова крыла, точеный профиль. Она презирала сексуальную невоздержанность в конкретных мужчинах — что он знал по себе, — но удивительно: в целом это качество ее восхищало. Таким образом, представить ее с кучей любовников было гораздо проще, чем с одним бойфрендом.
Несудьба шла за Стивеном след в след, пока он грохотал коляской по брусчатому покрытию с проступающим между камнями опасным скользким мхом. От автобусной остановки они двинулись в гору по дороге вдоль словно вырезанных из картона домиков, стоявших впритирку, затем вокруг игровых полей с похожими на виселицы воротами. Миновали газгольдер, спустились короткой улочкой, сплошь усаженной тесными домишками с террасами, наконец, прошли вдоль череды невзрачных магазинчиков, каждый из которых был очевидным образом устроен ко всеобщему неудобству. В ассортименте овощного имелось лишь несколько сортов фруктов и овощей, в мясной лавке — только сосиски и фарш, пара лотков которого считалась привлекающим внимание украшением витрины; да и в скобяной лавке тоже никогда не было того, что требовалось. Стивен вспомнил, как однажды хотел купить здесь предохранители на тринадцать ампер, в другой раз полуглянцевую краску, бельевую веревку, цементный раствор, но ничего из этого в наличии не оказалось. Абсурд: в прошлом году лавку переоборудовали и укомплектовали заново, но в ней по-прежнему не появилось ничего нужного. Возможно, подумал Стивен, эта лавка существовала только затем, чтобы ее периодически переукомплектовывали — что толку заботиться о розничной торговле ради чьей-то пользы, когда можно просто делать это для себя.
Они свернули за угол на Теннисон-авеню и прошли мимо дома Хиксов (престарелая мать прикована к постели, сын на игле), мимо дома Фэйкнхэмсов (он — скрытый педофил, она — подпирает колонны в местной церкви), мимо дома Гартри (ни одного ребенка, зато полно котят). Как так случилось, что он, Стивен, был изгнан из этого ядовитого Эдема, когда столько рептилий сохранило свои владения? В очередной раз — уже не в первый и даже не в тысячный — его посетила мысль инсценировать самоубийство при помощи подходящего крушения поезда, на который он не собирался садиться, или стать жертвой разрушенного офисного здания, в которое он никогда не зайдет, или просто оставить одежду на скале, в кои-то веки аккуратно ее сложив… — уйти прочь от общепринятых стандартов и норм, от детей, от боли.
Нагнувшись, чтобы отпереть калитку, он уловил острый запах мочи, исходивший от ребенка. Лучше так не оставлять — появится сыпь, и тогда маменькиного гнева не избежать. Войдя во двор, расстегнул ремни и усадил малыша на траву за мусорными ящиками. Глянул на пустые окна в доме, каждое в катаракте сетчатой занавески, но не заметил за ними никакого движения.
— Уа-а-а, — запротестовал малыш, вырываясь из комбинезона, выпрастывая наружу пухлые ножки и приводя себя в порядок после того, как удалось избавиться от абсорбирующей ваты.
Пока Стивен искал чистый подгузник в специальном отсеке внизу коляски, он услышал, как открылась входная дверь дома, и увидел свою бывшую жену: она стояла на пороге, излучая презрение. За ее худыми плечами виднелась глубь коридора, с обеих сторон которого громоздились школьные портфели, ряды ботинок, кипы спортивной одежды и стопки книг.
— Ха! — воскликнула она, скрестив руки, и Стивен, глядя на ее быстрые пальцы, сжимающие локти, и на лучащуюся из глаз ярость, тут же вспомнил, что бывает, когда она в гневе.
«У меня вши! — Те же самые руки в бешеном возбуждении. Она сидит на краю кровати. — Гребаные гниды, мать их!»
Он соскакивает с супружеского ложа, внезапно осознав, что больше туда не ляжет. Глаза рыщут по ковру в поисках объекта, за который можно было бы зацепиться в этом мире, вдруг потерявшем устойчивость и ставшем пугающим. Но он замечает только голую куклу Барби, брошенную малышом; ноги куклы прижаты к голове, обнажая розовый пластиковый лобок, этакий волнительный шарнирчик. Как подобная штука может быть игрушкой? — с таким шквалом несуразности он не мог сладить.
— Дети! — рявкнула бывшая жена Стивена куда-то в глубь дома, и еще раз, громче: — Дети!
Стивен управился с запаковыванием ребенка и вернул его обратно в двухместную коляску.
Теперь у него было так мало забот, что он старался относиться к ним с усердием, достойным лучшего применения. Живя в маленькой квартирке на другом конце города, он каждый раз заботливо мыл пластиковую миску малыша, затем сушил ее и убирал в буфет. У него больше нет особняка с многочисленными углами и комнатами, заваленными нажитым за годы семейной жизни барахлом.
Шестилетка и восьмилетка спустились по лестнице в коридор, как застигнутые врасплох конспираторы, не желающие признать, что связаны общим делом. Сняв свои куртки с вешалки в коридоре, они нацепили их с такой исполнительностью и послушанием, что Стивен поразился — до того трогательно это выглядело. Затем, когда они стали втискивать ноги в «веллингтоны»[51], ему захотелось подойти и помочь им, но он знал, что делать этого не стоило. Они спрыгнули с порога и зашлепали по тропинке к тому месту, где он стоял.
— ‘рьвет, пап! — поздоровался старший ребенок, девочка, а мальчик просто сказал: «‘рьвет». Оба кивнули малявке в коляске, как во время чего-то официального, будто им предстояло впервые познакомиться, «‘рьвет», — снова сказали они.
— Пр-трль, — промямлил малыш.
Стивен присел на корточки и подполз вперед, чтобы заключить в объятья всех троих. От них пахло черничным соусом, а от их волос — шампунем. Глядя на бледные личики детей, он в очередной раз заметил, как резкие материнские черты вытесняют его, и так слабые и невыразительные.
Бывшая жена Стивена снова показалась в коридоре, таща за руку упирающегося двухлетку.
— Не хочу! — ныл ребенок. — Я останусь тут, останусь тут…
— Он не хочет выходить? — спросил Стивен, отчасти с надеждой.
— Нет-нет, он пойдет с тобой, — ответила она, со знанием дела запихивая ребенка в куртку и затем усаживая на пол. Засовывая его ноги в «веллингтоны», она остервенело твердила, как заклинание: «Если ты думаешь, что я позволю тебе лишить меня этой несчастной пары часов в неделю, когда весь дом в моем распоряжении… единственное время, когда я могу поговорить по телефону, да хотя бы просто вымыть голову… У тебя и мысли такой не возникает, правда? У тебя вообще никаких мыслей…»
Малыш, в свою очередь, продолжал стоять на своем:
— Мне нужно кое-што показать папе, ‘тамушто… а Дэниел сказал, что я не пойду… он завзял, он… он…
— Джош хочет взять с собой свою каталку, — объяснил Дэниел.
— Я ему говорила, что она будет только мешаться, — добавила старшая, Мелисса.
— Но она мне нужна! — крикнул Джош с порога.
— На, забери свою чертову игрушку! Забери-свою-чертову-игрушку!
На слове «забери» бывшая жена Стивена взяла с полки игрушку — переднюю часть автомобиля с колесами и рычажком переключения скоростей; на слове «свою» она сунула ее в руки Джоша; на слове «чертову» — выставила его на порог; и на слове «игрушку» захлопнула дверь.
В застывшем мгновении, перед тем как Джош начал отчаянно реветь, Стивен обернулся и посмотрел назад. По противоположной стороне улицы мимо шли две монашки. Обе были в очках, на обеих — синие платки и синие плащи. Из-под плащей виднелось около пары сантиметров белого нейлона. Во всей этой амуниции, подумал Стивен, они выглядели одновременно как богомолки и как медсестры, словно шли ухаживать за Спасителем в специально оборудованное отделение для только что снятых с креста. Монашки сверкнули линзами в его сторону, и Стивену захотелось крикнуть: «Спасите этих крошек, возьмите их под свою опеку! Более нуждающихся в вашей помощи не найти…» Но вместо этого он обернулся к Джошу, все еще причитавшему: «Ууу…ууу…ууу…», малыш был на грани истерики: «Уаааа-а-а-а-ааа».
— Пойдем-пойдем, Джош, нечего плакать, мы уже идем, пошли…
Стивен поднял ревущего мальчугана, сжимающего в руках игрушку, и, продолжая бормотать что-то утешительное, понес по тропинке к тому месту, где возле коляски столпились остальные; усадил его внутрь, пристегнул ремнями, положив игрушку малышу на колени, выкатил коляску за ворота, старших расположил по обеим сторонам от нее — маленькие ручонки схватились за поручни — и вместе с потомством, вчетвером выстроившимся в ряд, пустился в обратный путь. Несудьба заняла исходное положение в арьергарде.
— Все в порядке, Джош, все хорошо. Мы здорово проведем время, вот увидишь…
Мелисса взяла дело в свои руки, и, хотя он был ей за это благодарен, на Стивена вновь накатило тошнотворное чувство неадекватности, собственного родительского бессилия, растекавшееся по нему слоем напалма, от которого нельзя было избавиться.
— Итак, дети, — произнес он с воодушевлением, — куда мы сегодня отправимся? В музей? Зоопарк? В кино? Решать вам — как скажете, так и будет!
— Мы уже ходивали в кино…
— Ходили, — Стивен поправил Дэниела; от этих нервных встрясок у шестилетнего малыша в первую очередь страдала грамматика.
— Ходили в кино вчера.
— И как?
— Ничё.
— Тогда как насчет зоопарка или музея?
— У-у, скучища, — хором ответили те, что постарше.
— Тогда куда? Для прогулок по парку немного пасмурно, нет?
Молчание было знаком несогласия.
— Может, хотите пойти к четырем качелям?
— Да, и ты нас подбросишь вверх, все выше и выше…
— Так высоко-высоко, что мы перелетим через перекладину…
— Или улетим в космос, на Луну, на Марс, на…
— В другую галактику…
— В другую вселенную, ты хотел сказать?
— Хорошо, качели так качели, но космических путешествий не обещаю.
Другая вселенная — хорошая мысль! Стивен не сомневался, что Дэниел и Мелисса хотели пойти к четырем качелям, потому что это было связано для них с тем временем, когда они еще жили все вместе. Старшие дети полюбили эту забаву: двое качелей на ближайшей площадке, еще одни в примыкающей части заброшенного парка и, наконец, последние были запрятаны на площадке муниципального микрорайона. Может, они надеялись взлететь на этих качелях как можно выше и, описав огромную дугу, попасть в прошлое?
— Плющщщ, — выдал малыш, сидевший в коляске по левому борту, и только теперь Стивен осознал, что на дворе осень: ребенок пытался воспроизвести звук шагов и колес, шуршащих листьями на тротуаре.
Осень, понятно, почему такое сырое, гнетущее небо, похожее на грязную серую тряпку, которая ждет, когда ее выжмут. Осень, чувство невосполнимой утраты в самом полном смысле этого слова. Осень, отсюда эта непреходящая ноющая усталость, одолевающая Стивена. Он отдал бы все что угодно, лишь бы завалиться до весны в этот колючий кустарник. Осень, теперь ясно, откуда этот силос под ногами, валяющиеся палочки от карамелек, колечки-открывашки от жестянок, размокшие бумажные стаканчики — урожай после школьных каникул. Осень, тогда-то все это и случилось.
— Ну-ка, поди сюда! Ты, ты, иди сюда! Подойди и сядь рядом. Сядь сюда, кому сказала!
Ее живот, округлившийся и распухший, покоился посреди смятых подушек, ночнушка задралась недовольными складками.
— У Мелиссы месяцами ничего такого не было — месяцами! Я каждый день расчесываю ей волосы — каждый! Ну-ка, сядь, дай-ка я гляну в твои волосы. В твои чертовы волосы!
Вот так, точно полураздетые обезьяны, разрушая все социальные устои, они занялись каким-то первобытным грумингом. Она шебуршит и скребется в его волосах.
— Вот! Вот! У тебя тоже! И гниды — чертовы гниды! Что это, Стивен? Ты, гребаный ублюдок! Вшивый подонок. Кто она, а, Стивен? Школьница?
Нет, никакая она не школьница. В тот момент, все еще размышляя о волнующих прелестях Барби, Стивен подумал, что, возможно, будь она школьницей, с правдой было бы проще смириться, в этом случае правда не показалась бы такой гротескной, такой необычной. Но, разумеется, необычной была ложь; правда была гораздо прозаичнее: она — школьная учительница Мелиссы.
На торговой улице паровоз Стивена, с буфером в виде двухместной коляски, прогрохотав мимо невидимых стрелок и разъездов, повернул налево, на холм, по направлению к детской площадке. Несудьба ехала в тормозном вагоне.
— Ту-тууу! — выдал малыш, а сидевший рядом Джош, то и дело хватаясь за рыжее пластмассовое колесо, подудел в рожок.
— Как дела в школе? — спросил Стивен у Мелиссы, потому что почувствовал, что должен это спросить.
— Ниче, — ответила она.
— Ничего хорошего или ничего плохого? — уточнил он.
— Ничего. Ни-че-го.
Вот так вот, в этом заключалось все его участие в образовании дочери.
Только они добрались до площадки, как двое старших бросились прочь от коляски, как две ракеты, самонаводящиеся на качели, и понеслись по грязной траве. Чайки с недовольными криками разлетались в стороны. Стивен толкал коляску по тропинке, мимо дурацких скамеек, на которых лизались двое подростков. Он почувствовал сильное физическое родство к пацану с его прыщами и угрями на подбородке. Ему даже захотелось дотронуться до них, но он переборол в себе этот порыв — глянул под ноги и обнаружил, что наступает на лепешки собачьего дерьма: где коричневого, где черного, где побелевшего и ссохшегося, где серовато-желтоватого. Занятно, как два карапуза в коляске умудрялись не обращать внимания друг на друга. Может, через пару месяцев Джош обернется к соседу и ни с того ни с сего спросит: «Ну что, ты уже способен поддержать беседу?»
На площадке Мелисса и Дэниел заняли места на самых больших качелях. Дэниел отталкивался ногами и, раскачиваясь, набрал уже приличную высоту, но Мелисса никак не могла справиться и просто болталась из стороны в сторону. Стивен вынул Джоша из коляски и посадил на небольшие качельки, продев его ноги в специальные отверстия. Потом проделал ту же процедуру с другим малышом и стал качать обоих.
— Держитесь, держите равновесие! — командовал он.
— Пап, покачай меня! — крикнула Мелисса. — У меня не получается!
— Она не умеет! — радостно закричал Дэниел. — Не умеет! Не умеет!
— Заткнись, Дэниел! Замолчи! — Мелисса чуть не плакала.
— Восемь лет, а на качелях кататься не умеет! — верещал он, болтаясь где-то наверху.
— Заткнись — я серьезно!
— Так-так, — сказал Стивен, отходя от малышей, — давайте-ка я покачаю вас обоих.
Он раскачал качели Мелиссы, затем стал качать одной рукой качели сына, другой — качели дочки. Сначала подталкивая сами сиденья качелей, потом спины детей. Он чувствовал эти спины, изгибы позвоночников, тепло маленьких поп. В самой высшей точке, куда улетали качели, детские тела на мгновение оказывались в невесомости, поддерживаемые только его руками. И при этом он не чувствовал физического родства с этими детьми — своими детьми! Качаясь, Мелисса и Дэниел отделялись от неожиданно повзрослевших самих себя и отправлялись странствовать во времени — если не в пространстве — в те края, где живут радость и веселье, к простому и понятному здесь и сейчас. На подъеме Стивен щекотал их под мышками, и они хихикали. Потом забегал спереди и как полоумный матадор уворачивался от их ног-рогов, уже летевших вниз под радостное верещание. Затем он мчался к малышам и раскачивал их маленькие качельки, после чего снова возвращался к старшим и опять принимался за них. Теперь смеялись уже все, кроме самого мелкого. Несудьба взяла рукавичку, которую кто-то повесил на ограду, и примерила, не подойдет ли ей по размеру.
Затем все прекратилось. Дэниел с визгом затормозил, его каучуковые подошвы прошаркали по каучуковому покрытию. Он спрыгнул с качелей прежде, чем они остановились, и подошел к неподвижной карусели. Встав коленями на край, он просунул свою черноволосую голову в одну из металлических стоек, словно собрался молиться. Весь ужас обстановки вернулся: хмурое небо, обшарпанная игровая площадка, слой каучука отходит от битумного покрытия, которое, в свою очередь, отслаивается от бетонного; лазалка, поставленная меньше месяца назад, похожа на аляповатый крендель из стали для великана, питающегося железом; сами качели: цепи некоторых из них обмотаны вокруг перекладин — свидетельство нашествия вандалов постарше, а может, какие-то дети решили покинуть орбиту… У забора невдалеке — битое стекло, возле вмятины в бетоне навалены погнутые шоссейные барьеры безопасности, сама же вмятина наполнена водой и листьями; контейнер, обитый деревянными рейками, будто ремнями безопасности. То, что настолько прочная штуковина также могла подвергнуться нападению, говорило о небывалом демографическом взрыве, подумал Стивен.
Мелисса тоже слезла с качелей. Оба малыша сидели на своих качелях, едва покачиваясь.
— Эй, все сюда! — Стивен попытался впрыснуть в сказанное побольше энтузиазма, словно это был поддельный наркотик. — Пошли на вторые качели.
— Качели! — громко и четко выговорил ползунок с потрясающей дикцией. Но никто не обратил на это внимания.
Вторые качели находились на недавно отстроенной площадке поменьше, около «Уан оклок клаб». Молодые бойцы понеслись туда по лужайке, напрямик, мимо футбольных ворот, торчащих посреди окружающей грязищи. Двое старших умчались вперед, самый мелкий ехал в коляске, а Джош еле тащился со своей пластмассовой игрушкой. Стивен вспомнил, как Мелисса и Дэниел жадно цеплялись за него, умоляя носить их на руках, даже когда им было больше, чем Джошу сейчас. Но этот двухлетний шкет просто плелся сам по себе, нуждаясь в поддержке отца не более, чем тот в его.
Как всегда в выходные, «Уан оклок клаб» был закрыт, железные задвижки опущены до земли, на их рифленых поверхностях видны растекшиеся следы граффити. Этой площадке нашествие варваров еще только предстояло, каучуковое покрытие не было повреждено. Каждый официально установленный спортивно-развлекательный снаряд находился на своем месте ковра из лоскутов зеленого каучука. Песочница была укрыта навесом и заперта на висячий замок. Горка оборудована аккуратной крышей с коньком, вверх вели прочные деревянные ступеньки, каждая покрыта черным каучуком. Небольшие помосты в форме листиков клевера стояли вокруг, держась на огромных пружинах. Все было таким новым, милым, бери да играй. Воплощение домашнего уюта наперекор улице.
— Черт, как все близко, — довольно громко пробормотал Стивен, усаживая Джоша и мелкого на следующие качели. Он представил себе этот улично-домашний игровой комплекс в пределах всей игровой площадки, а ее, в свою очередь, в масштабе города, город внутри страны, а страну — наряду с другими странами мира. Весь мир — огромная и захламленная игровая, заполоненная сломанными и списанными за негодностью игрушками грудного человечества, которое на протяжении десятилетий пребывало в жутком настроении. Два отвратительных тысячелетия. И подобно камере наблюдения над красным полем в центре площадки, Бог смотрел на все это из-за ограды, как чадолюбивый человек молча смотрит на педофилов.
Стивен опять раскачал двоих малышей, затем подошел к детям постарше и принялся раскачивать их. Качели смотрели друг на друга, четыре пары «веллингтонов» были нацелены на Стивена, пока он носился туда-сюда, безнадежно старясь сделать так, чтобы все качались одновременно.
— Мне эти качели больше всех нравятся, — сказала Мелисса.
— А мне третьи больше всех, — ответил Дэниел.
— Эти быстрее, — возразила Мелисса.
— Да. — Дэниел поддерживал беседу, словно находился на коктейльной вечеринке. — Но третьи крепче! Мне нравятся те, что покрепче!
— Синииии! — пропел самый мелкий.
— Я пьятница, — сказал Джош.
— Ты пьяница?
— Я сильно пьятница, — повторил он.
Уйдя с площадки, они пошли по короткой аллее, которая закончилась тупиком. У края тротуара были припаркованы брошенная машина и два опрокинутых скутера. Машина была сожжена и раскурочена. Все стекла оплавлены, сиденья разрезаны в клочья, жженый поролон наружу. Приборная доска вырезана, провода вывалились на пол. Ни одно из колес не уцелело, высота была как раз для Джоша, который сквозь дебри рванул к развалюхе, держа в руке свою игрушечную деталь. «Машинка, моя машинка», — приговаривал он.
— Нет, это не твоя машинка! — перехватил его Стивен. Он поднял малыша слишком резко и водворил на свободную сторону в детской коляске. Джош принялся реветь. Трое остальных детей испуганно уставились на него.
— Прости, Джош, прости. — Стивен присел на корточки, чтобы оказаться с ним на одной высоте. — Мне правда очень стыдно. Смотрите! — Он не сводил взгляда с обвиняющих лиц. — Вон, посмотрите, сколько там всяких сладостей и вкусностей! Как насчет такого предложения?
Ответом была тишина, если не считать трех носов, сопевших на три такта, и тогда, пародируя выступление какого-то пятисортного американского актера, ставшего заложником собственного репертуара, Дэниел произнес: «Ладно, короче, проехали».
И они покатили вперед.
Прогулка к четырем качелям не складывалась — Стивен это понимал. Ему нужно было отбросить сомнения, сопровождавшие его по жизни, и взять детей под контроль — но как? Как на практике заняться гигиеной своей психики в этом отвратительном городе? Валявшиеся скутеры напоминали трупы животных — каждое в липкой лужице собственного масла. Бензиновая вонь ржавеющей техники была невыносима. У стен заброшенного магазина, мимо которого они проходили, громоздилась гора мусора, похожая на замерший гребень волны, целая развитая экосистема: расплющенный позвоночник пылесоса, терзаемый тростью зонта; зонт, в свою очередь, запутался в куске габардина; сверху к ткани прилип презерватив, выкинутый минувшей ночью, край которого с одной стороны разъела кислота птичьего помета. Стивен посмотрел на часы, несмотря на данное себе обещание не делать этого. Несудьба выжидала урочного часа.
На улице снаружи книжного магазина, приняв позы, соответствующие субботнему вечеру, стояли несколько мужчин. Один подбрасывал в воздух пустую пивную бутылку и ловил ее при помощи своей шеи, другой яростно и методично рвал на клочки квитанции тотализатора, и искусственные снежинки порхали вокруг его опрокинутого мира. Машины рывками проталкивались по неровной поверхности дороги. После оглушительной тишины игровой площадки автомобильные сигналы и скрип тормозов казались почти дружелюбными. Стивен направил коляску прямиком в один из магазинов, старшие дети плелись сбоку.
Все эти магазины были похожи один на другой, одинаковые своей однородностью. В каждом продавался небольшой ассортимент всяких товаров. Многие полки были пустыми, другие же ломились от никому не нужного барахла. Один магазин предлагал вам выпивку, курево, ямс, десятикилограммовые мешки с рисом, маниок, конфеты, видеокассеты б/у, а напротив вы могли приобрести чехлы на сиденья для стульев, одноразовые наборы для барбекю, арахис, вантузы, баклажаны, выпивку, кости для собак, снова курево, конфеты и черно-белые телевизоры с диагональю шестнадцать дюймов. Первый был полностью перегорожен железными решетками, так что покупателям приходилось осуществлять необходимые операции в своего рода собачьей клетке, тогда как двери соседнего были открыты нараспашку, кристаллическая сода и подставки для благовоний — бери не хочу.
В этом магазине за прилавком, заваленным иностранными газетами, сидел кареглазый человек с синюшными кругами под глазами, в кашемировом свитере с V-образным вырезом, и ковырял в зубах канцелярской скрепкой. Стивен позволил детям их любимые конфеты и колу. Более того, самому мелкому карапузу было разрешено держать обветренными ручонками красную жестянку. Приторная дрянь — никакой пользы. Сладкая отрава. Липкая, зернистая, стопроцентно выхолощенная гадость.
— О’кей, босс, — сказал человек за прилавком, когда Стивен заплатил.
— Спасибо, сэр, — парировал Стивен.
Ни один из них не был уверен в том, иронизировал другой или нет.
Третьи качели располагались за променадом, на небольшом, убогом клочке парка, дурацком пупке, заросшем травой и кустами и еще более замусоренном, чем улица. Эти качели Стивен ненавидел сильнее всего. Здесь было неуютно, сюда выходили задворки магазинов, извергающих отвратительные выбросы нечистот в незакрепленные, переполненные мусорные контейнеры на колесиках, поблизости валялось пять-шесть раздавленных каштанов. Но детей это не волновало, они были охвачены сладкой лихорадкой, неслись вперед — Джош вслед за старшими, карапуз в коляске между глотками колы верещал свое дежурное «Уууииии». Вскоре они поравнялись.
На раскачивавшихся по инерции качелях, к которым неслись дети, сидели три подростка, передавая друг другу единственную сигарету. Две девицы и парень. Даже отдаленно от них не исходило никакой угрозы, но, сидя на крошечных, как ни крути, качелях, они явно не соответствовали масштабу. Три подростка. Одна из девиц была симпатичной, только слишком перебрала с косметикой: губы сверкают розовым блеском, волосы намазаны гелем и зализаны в аккуратные кудряшки, спускающиеся с ее лба кофейного цвета. Другая была покрупнее, потемнее, пышные груди — настоящий континентальный шельф, огромный зад пересекают болтающиеся цепи. Одета в нечто черное и эластичное. Парень был в джинсе, жакет до бедер, застегнутый на все пуговицы, широкие штаны, которые расходились где-то в районе колен. Бейсболка «Лос-Анджелес Рэйдерс» была с такой силой натянута на его лоб, что волосы напоминали пушистые меховые наушники. На коленях у той, что с кудряшками, лежал мобильный телефон, гарнитура хэндс-фри свисала из ее нежного, украшенного золотом ушка. Она щелкала клавишами телефона, а парень раскачивался на качелях, то подлетая к ней, то откидываясь обратно, и делал вид, что хочет выхватить телефон у нее из рук. Девица покрупнее не обращала на них никакого внимания, пялилась на свои ботинки и курила.
Какое-то время они не замечали ни Стивена, ни детей. И Стивен исподволь оценивал про себя эту троицу, оказавшуюся тут не в самый подходящий момент: ничтожного пацана, что приставал к кудряшке, и безмолвно наблюдавшую за ним неуклюжую спутницу в черном. Три переростка, по-видимому, пришли на эту детскую площадку в надежде снова почувствовать ту чистоту, которой, возможно, у них никогда и не было. Вдруг кудряшка заметила Стивена с детьми. Она встала, взяла на буксир своего кавалера, потянув за шнурок — мобильный он в итоге все-таки схватил, — и подошла к другим качелям, в форме доски. Толстушка тоже поднялась и потащилась за ними, в шутку пиная пацана здоровенной ножищей. Кудряшка выхватила свой телефон обратно, пацан подтянул штаны и уселся на середину, а толстушка встала на край доски и устремила взгляд в чашу парка.
Выводок Стивена занял места на качелях. Стивен помог Джошу залезть на качели и начал его раскачивать, двое постарше нагибались и отталкивались сами. Оставшийся малыш все еще сосал колу, пристегнутый в коляске как пилот, постоянно дергаясь; белки его глазенок посверкивали в опустившихся сумерках. Ржавые звенья цепей скрежетали в таких же ржавых пазах: «ирр-орр-ирр-орр».
Мелиссе надоело качаться, она спрыгнула на землю и пошла к подросткам. Остановилась в нескольких футах от них, окинула внимательным взглядом всю троицу и сказала: «Привет!» Никакой реакции. «Привет!» — повторила она, на этот раз громче. С тем же успехом — подростки не обращали на нее никакого внимания; Стивену захотелось оставить Джоша и увести Мелиссу оттуда, но он не мог. «Привет, меня зовут Мелисса!»
— О’кей, Мелисса, — отозвался парень.
— О’кей, — эхом прошелестела кудряшка, а толстушка тихо захихикала неожиданно высоким голоском: «Ии-хи-хи».
Мелисса вернулась к коляске и некоторое время оставалась там, разглядывая малыша. Она нагнулась, протянула руку к капюшону его комбинезона и потянула за завиток. Малыш заверещал в ответ: «Лислслсл».
Затем Мелисса подошла к Стивену и, посмотрев на него с выражением, которое она подцепила у своей матушки, спросила:
— Пап, а почему Сетутси черная?
На этот раз парень и обе девицы оглянулись, три пары глаз уставились на бледное лицо Стивена и на такие же лица его детей, подростки нерешительно подошли в коляске, к которой сидела полуторагодовалая малявка.
— И правда черная, — сказал парень, ни к кому конкретно не обращаясь. — Настолько же, насколько я белый.
И словно по какому-то тайному сигналу, а может, из соображений общего неодобрения этого межрасового скрещивания, все трое дружно побрели прочь. Последнее, что донеслось с той стороны, куда они уходили, — звонок мобильника: «ди-ла-ла-дууу, ди-ла-ла-дууу».
Стивен перестал раскачивать Джоша. Подошел к коляске и начал расстегивать ремни Сетутси. Чтобы как-то себя занять, он вынул матрас для пеленания и расстелил его на сырой траве. Затем достал влажные полотенца и чистый подгузник. Расстегнул комбинезон Сетутси и приспустил эластичный пояс ее вельветовых штанишек. Подгузник был полон. Стивен снял его, вытер полотенцем влажную кожу, затем подсунул руку под вспотевшую спину и приподнял малышку так, чтобы можно было надеть новый подгузник. Пока он возился с застежками, трое бледнолицых столпились у него за спиной.
— Разве Сетутси не приучена ходить в туалет? — спросила Мелисса.
— Ну, приучена, в принципе, но мы же целый день были на улице, вот я и надел на нее подгузник.
— Джош приучен ходить в туалет.
— Я в курсе.
— Мама говорит, что взрослые не приучают детей ходить в туалет, потому что ленятся.
— Ну, может, я и ленюсь немного, но дома Сетутси сама прекрасно ходит в туалет.
— А ты спишь в одной кровати с мисс Фостер? — спросил Дэниел и, пока Стивен думал, как ответить, продолжил: — Мисс Фостер больше не преподает в нашей школе.
— А можно, мы пойдем к тебе, пап? — спросила Мелисса. — Можно, мы у тебя поужинаем?
— А у тебя дома есть видео, пап? — загорелся Дэниел. — Можно, мы во время ужина будем смотреть телевизор?
Джош, присев перед Сетутси, стал щекотать ее и одновременно застегивать на ней комбинезон. Сетутси тихо захихикала. А в сознании Стивена всплывали жуткие картины — спальня, похожая на ванную, где они кричали и ругались — ноздри помнили запах ее кокосового кондиционера, который когда-то возбуждал, но теперь вызывал отвращение — он осознавал, что это был серьезный прорыв. Что это внезапное истязание было началом приятия — для него, для них — того, что потом и произошло. Само собой, Мелисса и Дэниел прекрасно знали, почему Сетутси чернокожая и что именно это означало. До сих пор Стивен предоставлял им эту реальность в рассрочку, неравными порциями, словно Сетутси была пролетающей мимо птичкой, едва заметной в размытом пейзаже из окна машины. Теперь дети взяли инициативу в свои руки, чтобы создать более полную и правильную конструкцию — историю, которая бы увлекла их.
Вопросы все сыпались и сыпались, пока Стивен отводил Джоша в кусты и помогал ему справить нужду, затем поцеловал его и усадил с краю коляски. Расследование не остановилось, даже когда они уже вышли из загаженного парка и направились в сторону четвертых качелей. Стивен изо всех сил старался давать правдивые ответы, внимательно и экономно преподнося им эту правду: да, они с мисс Фостер делят ложе, и, конечно, он сейчас позвонит их маме и спросит, можно ли им пойти к нему домой, но они не должны злиться, если мама не разрешит. И, само собой, он знал, что Сетутси похожа на него, несмотря на черную кожу. Ну и, разумеется, она похожа на них, потому что наполовину она им сестра.
Свинцовая тяжесть депрессии понемногу отпускала Стивена. Он ощущал, как физическое сострадание, по которому он истосковался за долгие месяцы, прошибает его, как ток. Слезы подступили к глазам. Ему хотелось прижать к себе всех малышей сразу. Вместо этого он посадил двух мелких в коляску, почувствовав неровные толчки с обоих бортов — Дэниел и Мелисса повисли по краям. Стивен ощутил радость отцовского груза. Он не обратил никакого внимания на заколоченные досками окна дома, мимо которого они проходили. Не заметил мусорный бак, который полыхал огнем, так что его пластмассовые недра растеклись по тротуару. И, самое существенное, — он не увидел Несудьбу, которая за это время обошла все здание, успела прикрыть глаза превысившему дозу, стиснуть аорту жертве сердечного удара, ударить по родничку ребенка, боровшегося за жизнь, после чего улучила момент, чтобы снова к ним присоединиться.
Когда они подходили к четвертым качелям, уже разливался свет фонарей. Крошечный четырехугольник двора, черный каучук под яркими белыми огнями. Поднимался ветер, рвалась пелена облаков. Оснащение этой площадки было помельче, чем у «Уан оклок клаба», поэтому окрестные дети предпочитали кататься на горных велосипедах уменьшенного размера по ближайшей дороге, друг за другом прыгая с рампы, которую один из них прислонил к «лежачему полицейскому». Имелись качели побольше, но они были заняты. На них безучастно сидел толстый чернокожий мальчик, годом старше Дэниела или около того. Его спортивный костюм был на несколько размеров больше, чем надо, вдобавок подержанный или заботливо выбранный родителями, дабы скрыть вес ребенка; Стивен внутренне посочувствовал мальчику.
Когда они вошли на площадку, мальчик просиял и тут же заговорил с ними.
— Меня зовут Хэйли, — сказал он. — Мне семь, но я великоват для своего возраста, да, вот, а еще я хожу в «Пентон инфантс», вот, да, а еще мне нравится футбол и играть в «геймбой», правда, своего у меня нет, есть только брата, вот. А как вас зовут?
Сначала он спросил Дэниела, но затем захотел узнать, как зовут остальных и сколько каждому лет.
— Мне сорок шесть, — сообщил Стивен, смеясь, хотя что-то тревожное сквозило в выражении лица Хэйли — его глаза были выпучены и он сильно потел. Возможно, подумал Стивен, у него не в порядке щитовидная железа. Похоже на то.
Хэйли продолжал надоедать своими вопросами, проносясь туда-сюда, пока Стивен высвобождал из коляски Джоша и Сетутси и усаживал их на маленькие качельки. Затем Хэйли стал пихать Дэниела, с силой толкать его в спину.
— Ты делаешь мне больно! — сказал Дэниел.
Неожиданно Хэйли соскочил с качелей, так что они дернулись и загремели цепями.
— Я все время тут сижу, а еще вот там мне дают конфеты. — Хэйли указал на главную дорогу. — Ты любишь конфеты или шоколад? — На этот раз он обратился к Мелиссе, но прежде, чем она успела ответить, он завопил дурным голосом и стал перечислять: — Я люблю «Сникерс» и «Старберст» и «Джустерс» и «Минстрелс», а еще ириски, жвачки, тянучки…
Может, Хэйли и казался немного чудаковатым, но с виду с ним вроде все было в порядке. Одним больше, подумал Стивен, теперь так и будет продолжаться, моя многонациональная семья примет в себя всех до единого, как переносной плавильный котел.
Он перестал каждую секунду оглядываться и смотреть, что делают Хэйли и двое других, и сосредоточился на малышах, тиская и щекоча их по очереди — сначала за нос Джоша, потом Сетутси, словно упрочивая таким образом их родство. Посмотрев в сторону дома, он заметил пару чернокожих ребят возраста братьев матери Сетутси, которые заводили автомобиль; один подсоединял электропровода, другой давал полный газ, сидя в стоявшей поблизости машине. Да, подумал Стивен, теперь все будет иначе. Надо встретиться с Полом и Кертисом, сходить с ними в кабак, проставиться, слегка курнуть травы. Он погрузился в это новое видение семейного счастья, представляя себя вместе с ними: вот они — его братья-шурины, руки одного на плечах другого, каждый исполнен взаимного уважения и согласия, несмотря на внутренние различия.
— Эй, прекрати! Не делай этого! — Голос Мелиссы ворвался в его грезы.
Стивен обернулся и глазам своим не поверил. За пару секунд, что он витал в облаках, Дэниел успел так сильно и высоко раскачаться, что сейчас его качели летали и ныряли в районе перекладин, скрежеща цепями. При этом казалось, что Дэниел не может справиться с ними, он продолжал наклоняться и откидываться, чтобы лучше видеть, что творит Хэйли. А толстый мальчик сидел верхом на перекладине, обхватив ее пухлыми ногами. Надо же, куда залез, подумал Стивен, а по нему и не скажешь, что способен к таким упражнениям, но что-то он больно опасно наклонился.
— Дэниел, — крикнул Стивен, направляясь к качелям. — Прекрати качаться сейчас же, ну-ка остановись!
Мелисса слезла со своих качелей и теперь стояла по стойке «смирно». Дэниел начал тормозить «веллингтонами».
Стивен подошел к перекладине.
— Эй, Хэйли, — крикнул он, — это чертовски опасно, спускайся-ка лучше вниз.
— Спокуха, — ответил Хэйли. — Я сто раз сюда лазил, вот, глядите, я эти качели вообще поднять могу! — И, схватившись за цепи, он начал тащить наверх сиденье.
— Не самая лучшая идея, Хэйли, — воззвал к его разуму Стивен. — Ты можешь потерять равновесие.
— Оставьте, мистер, — крикнул в ответ Хэйли, уже успев подтянуть наверх всю длину качельных цепей, и теперь накручивал одну из цепей себе на плечо, а вторую — на шею, точно карикатурное толстенное украшение. — Не твое дело, понял? Не твое собачье дело, пошел в задницу!
Будто от силы собственных слов мальчик качнулся назад, потерял равновесие, перекувырнулся и упал вниз. Петля цепи с грохотом обвилась вокруг его мягкой шеи. Голова разбита. Шея свернута. Ноги в зеленых спортивных штанах вскинулись раз — в направлении лица Стивена, и два — будто собираясь на пятые качели. Стивен, онемев от безумия, почувствовал, как слеза борется с натяжением более сильной поверхности во впадинке века, норовя вот-вот соскочить, обернувшись моментом времени. Вот, наконец-то. Скатилась по щеке, шлепнулась на каучуковое покрытие. И все полетело к чертям. Несудьба заполнила образовавшийся вакуум.
Разговорчики с Ордом
Я был у своего приятеля, Кита, бывшего грабителя банков. Мы никогда не заговаривали о его темном прошлом, равно как никогда не касались того, что, несмотря на давние обещания, он так и не занялся отделкой своей квартиры. Мусорная корзина, стремянка, малярный валик, поднос и покрытые пятнами жестяные банки с эмульсией годами стояли в коридоре — стояли так долго, что, пожалуй, сами стали элементами отделки.
Какая-то мрачная, горькая сермяга крылась в этом бесхозном ремонтном барахле. Квартира Кита была обставлена в стиле, который в тысяча девятьсот семьдесят третьем году считался апогеем модерна. Овальный обеденный стол со стеклянной столешницей и стальными ножками, похожий на перевернутую вешалку, занимал основное место в большой комнате наряду с шестью одинаковыми стульями с высокими спинками, причем выглядели эти стулья так, что, казалось, на них лучше не садиться. Место для отдыха было устроено вокруг кофейного столика; трехместный диван, обтянутый тканью оттенка блевотины и текстуры овсяной каши, образовывал прямой угол с двухместным диванчиком, покрытым ворсистой материей цвета электрик. На заброшенных участках слегка переоборудованной квартиры — в ее витиеватых коридорах и на площадках между лестничными пролетами — громоздились юкки, походившие на беглых триффидов[52], готовых к увечьям, но боящихся бастовать. В пыльных, потрескавшихся шкафчиках ванной притулились старые тюбики с мазями; если открыть дверцу, наружу высовывались серебристые языки с волдырями аспирина. Заходить в спальню я не осмеливался.
По-видимому, покупая эту мебель в начале восьмидесятых, Кит находил ее изумительно футуристической, как бы не от мира сего. И она была не от мира его, поскольку однажды, когда я имел неосторожность сделать несколько необдуманных ремарок по поводу глэм-рока, Кэмдон-Лока или Пол Пота, он тихо и спокойно мне признался, что семидесятые полностью прошли мимо него.
У нас с Китом было определенное взаимопонимание: мы оба — феноменальные мнемонисты. Кит был первым человеком, с которым я мог играть в го[53]-шахматы в уме. «Го-шахматы в уме» — игра моего собственного изобретения; суть заключается в том, что, играя в обычные допотопные шахматы в уме, в любой момент любой из игроков может превратить игру в го. В этом случае оба игрока трансформируют шестидесятичетырехклеточную шахматную доску в площадку на триста шестьдесят одну клетку для го, и каждая из оставшихся шахматных фигур заменяется на соответствующее количество фишек го (ферзь — десять, ладья — восемь и т. д.), которые после этого конгруэнтно выстраиваются. Понятное дело, что если вы закоренелый шахматист, то и в го будете на высоте.
Кит был чертовски виртуозным игроком в го-шахматы в уме, и я не мог не списать это на те годы, что он провел в одиночестве заключения.
— Ты что, систематически упражнялся в абстрактном мышлении и специальным образом тренировал память, пока сидел в одиночке? — спросил я его однажды, когда он обставил меня три раза кряду.
— Нет, — резко ответил он и заковылял по набережной Бэттерси — мы неизменно играли во время прогулок.
Кит был огромным детиной: борода лопатой, волосы до плеч. Подозреваю, он полагал, что с таким хайром выглядит рок-звездой незапамятных десятилетий, но на самом деле скорее напоминал священника девятнадцатого века, помешанного на сексуальных запретах и торжестве монархии.
Когда нам наскучивали го-шахматы в уме, мы сочиняли воображаемые диалоги. Особенно нас с Китом вдохновляли «Разговорчики с Ордом». Орд был генералом лет восьмидесяти, который принимал участие во всех военных кампаниях первой половины двадцать первого века. Яркий, открыто демонстрирующий свою нетрадиционную ориентацию, жестокий, блистательный Орд всегда имел что сказать по любому вопросу. Он изобрел и запатентовал собственную линию средств по уходу за кожей в условиях боевых действий; он объединил все восточные боевые искусства в комплекс упражнений, подходящий для самых жирных и откормленных европейцев, после чего продал миллионы DVD-копий с видеокурсом. Во время наиболее продолжительных и кровопролитных кампаний Орд вешал табличку над входом в свою самораскладывающуюся штабную палатку собственного изобретения, на которой было написано: «У меня умственный коэффициент девяносто девять процентов, а у тебя?» Штабные офицеры, бывшие в его подчинении, могли на практике полностью ощутить смысл этих слов, и, когда они поддавались его агрессивному вниманию, им открывались, помимо прочего, его абсолютный аскетизм и исключительная склонность к ученым занятиям. Орд перевел «Упанишады» на уличный язык чернокожих гетто Лос-Анджелеса. Он видел себя в уходящей вглубь веков череде великих ученых и полководцев, начиная с Уилфреда Тезигера, Лоуренса Аравийского и графа Толстого, и заканчивая Фридрихом Вторым, Акбаром Великим, королем Артуром и даже Марком Аврелием.
Мне нравилось быть Ордом, но Кит в этой роли просто не знал себе равных. Когда он был Ордом, а мне доставалась роль Фламбарда — его тайного биографа и секретаря, — мы могли не выходить из ролей столько, сколько занимает путь до Тэддингтон-Лок вверх по реке или до «Миллениум Доум»[54] вниз.
Не имело значения, как далеко мы забредали — эти прогулки вдоль берега были для нас единственным спасением, возможностью вырваться из удушливых пределов южного Лондона. Не для нас с Китом были тепличные салоны для успешных и креативных, где высокие ампирные потолки венчались международной атмосферой непрестанного умничанья. Равно как не было нам доступа в разбитые на крышах парки для бомонда, где расхаживали богачи, у которых даже тазовые кости из платины, и где, копируя друг друга, верещали разноцветные попугаи.
Нет, мы ограничивались горизонталью. В нашем городе пыльных парков вокруг небольших клочков земли были разбросаны постройки тридцатых, вдоль более длинных лоскутов — строения пятидесятых, а здания шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых громоздились, по сути, на территории самих парков. Дегенеративные парки с ничтожными признаками водоемов и хромыми, недоношенными аркадами. Викторианские парки с их полинявшим имперским великолепием и некогда экзотическими насаждениями, воспроизводящими черты захудалой торговли с былыми доминионами. На территории Воксхолл-парка, который особенно возлюбили уличные алкаши, находился жалкий рядок миниатюрных домишек — биржа, церковь, кинотеатр, — которые были грубо, но прочно отделаны бетоном с ошметками водоэмульсионной краски. Правда, во время нашего второго прогулочного сезона я как-то обнаружил, что эти сооружения подверглись мелкому вандализму: церковный шпиль погнут, крыша биржи проломана, на фасаде кинотеатра — огромное граффити. Само собой, это ничто по сравнению с проделками Орда, в две тысячи тридцать третьем году (а потом еще раз в две тысячи сорок седьмом) наблюдавшего, как илистая пойма Дхалесвари превратилась в лаву, когда его боевые реактивные вертолеты разнесли трущобы в Дакке. Сущие пустяки.
Как и для многих прочих, предлогом для наших прогулок по парку была Дина, безумная далматинка Кита. Никто честно и откровенно не хочет признаться в том, что он просто любит лондонские парки, поэтому тысячи людей традиционно ссылаются на алиби в виде собаки. Некоторые заходят так далеко, что заводят детей, дабы оправдать собственное безделье детским катанием на качелях или кормлением уток. У Орда имелась масса колкостей по поводу собак. Его собственная помесь, генномодифицированный южноафриканский риджбек-пудель, дожил, в пересчете на человеческий возраст, до пятидесяти семи и загрыз примерно столько же народу. Орд носил Робена на руках и, после того как этот волкодав подох, стал особенно циничен по отношению к тварям, считая их не более, чем полезными паразитами.
— Разве не дико, — говорил Кит, будучи Ордом, — что вы, двое с виду умных взрослых мужиков дошли до того, что не всякому собачнику удается! При отсутствии мало-мальских средств к существованию, ощутимой выгоды, да пусть даже полезных связей, вы стали жертвами паразитической свинки! Чтобы освободить вас от этого ошейника, необходим полный коллапс социального устройства!
— Возможно… — признал я и, накинув мантию Фламбарда, продолжал: — Орд, судя по всему, ты побывал во многих горячих точках, где твоим собакам была возвращена природная жесткость и их использовали стаями во время травли и тому подобное?
Но Орда так просто голыми руками не возьмешь.
— Собачка обосралась, Фламбард, — огрызнулся он. — Подбери-ка за ней лучше.
Я надел на руку пакет с надписью «Сэйнсбери»[55] и сделал все необходимое, размазав жидкие какашки по асфальту. Чем Кит ее кормил?
— Пожалуй, вам двоим стоило стать гомиками и зависать в «Эротических качелях», — съехидничал Орд. — Еще больше затягивает!
Орда волновали бандажи всех видов, хотя он открыто признавал свое полное отсутствие вкуса в этой области. Покинув Воксхолл-парк, мы шли мимо «Эротических качелей» — клуба, который располагался в сводчатой заднице побитого железнодорожного виадука. Пару раз мы заходили внутрь пропустить по глотку, под конец брали «Рэд-булл» с водкой, наблюдая все это время садо-мазо-ягодицы, теревшиеся друг о друга. С нами был оперный критик-бисексуал, который в ожидании появления Жана-Поля Готье[56] рассуждал о новеллах Теофиля Готье. Но едва ли имело значение, захаживали мы в «Эротические качели» или нет, — в этом городе и так почти всегда было темно и тесно. Не важно, гуляли мы по Бэтттерси-парку или слонялись возле Электростанции[57] и по пустошам на побережье Темзы, — нам никогда не удавалось избавиться от оков нашей собственной клаустрофобии.
Даже в разгар лета казалось, что в небо кто-то брызнул аэрозоль: еле видимая пыль тяжелых металлов сыпалась на нас сверху. Идти по высохшему горнолыжному склону Лаванда-Хилл было все равно, что втискиваться в чужое белье. Трет и жмет во всех местах. Порой, притормаживая в каком-нибудь афро-карибском фаст-фуде перехватить чебурек с мясом и заодно бросить пару ошметков желтого теста в мокрую от дождя, черную пасть Дины, я сам от себя приходил в отчаяние. С чего вдруг я счел необходимым отгородиться от стольких людей, с которыми некогда был близок, дабы очутиться на самой периферии всякой ответственности и обязательств?
Начать с того, что слететь с внешнего круга — проще простого. Не ответить на пару звонков, продинамить пару встреч, и ростки дружбы зачахнут и сгниют на корню. Были, правда, отношения более прочные, требовавшие более упорного невнимания. Отлынивание от свиданий, молчание при встрече, равнодушие к сплетням, неучастие в вечеринках для прозябателей обочиной жизни — на все это могло уйти порядка девяти месяцев. Но конечном счете срабатывало. Был еще узел совсем близких связей, который требовалось разрубить. Выходило, что я обижал тех, кого прежде прижимал к груди, клеветал на тех, кого раньше боготворил, и решительно отказывался узнавать в лицо бывших возлюбленных, встречая их в кондитерском отделе «Сэйнсбери» в районе Найн-Эльмс. Так все и шло, пока не закончилось полной утечкой всего, а на дне остался осадок в виде английской соли.
Разумеется, это было высокомерие, и высокомерие настолько сильное, что я буквально физически ощущал его присутствие внутри. Это было желание отказать другим в своем обществе — до такой степени я чувствовал собственное превосходство. Скрючившись в углу зыбкой груды старых матрасов, служивших мне постелью, и прижав к себе тощие мослы коленей, в те дни я бормотал, словно ребенок, которому еще предстоит познать уязвимость своей анатомии: «Нехорошо… нехорошо…» Я тянул себя за уши, выворачивая ушные хрящи, пока они не начинали хрустеть. Я вытягивал себе веки, оборачивал мошонку вокруг пениса, пока тот не скрывался в ее мохнатых объятьях. Как-то раз, утром средней паршивости, пока я совершал свой ритуал превосходства, моя домовладелица, миссис Бенсон, крикнула мне снизу: «Вам позвонил Кит! Он интересуется, нет ли у вас желания прогуляться».
У Орда имелась масса нелицеприятных наблюдений касательно обстоятельств моей новой жизни, которые его забавляли. «Когда-то у тебя были хоромы, огромный дом с женой в придачу. А теперь посмотри на себя — стал приживалкой в чужой семье!»
Это был заслуженный удар: когда мой брак развалился, я снял этот угол у Бенсонов — клочок пространства размером с пакет молока, летом слишком душный, зимой слишком холодный; имущество, оставшееся от прошлой жизни, на новом месте действительно выглядело нищенски. Я лежал на шаткой койке, а толстобрюхие лайнеры проплывали в грязных облаках надо мной, время от времени грозя брякнуться в чердачное окно моей комнатушки. И только Кит был для меня спасением.
— Что ты думаешь по поводу этого воздушного шара? — спросил Кит однажды поздним летом, когда мы направлялись к очередной харчевне рядом с военной базой МИ-6. Привязанный на тросе воздушный шар вот уже несколько недель болтался на высоте футов четырехсот над Воксхолл-Кросс. Мы гуляли рядом, но ни разу не приближались к тому месту, где он был привязан. Оттуда, где мы находились, — юго-восточная часть парка Бэттерси, — было видно его полосатое брюхо, которое утыкалось в бездействующие трубы Электростанции. Лондон во всей красе!
— Пффф. Понятия не имею. Полагаю, что это просто воздушный шар. Что, на нем можно подняться вверх?
— Естественно, иначе за каким лешим он болтается над Лондоном на высоте четырехсот футов?
— Да хрен знает. Слежка какая-нибудь, тут же МИ-6 неподалеку.
— У тебя на редкость примитивные понятия о том, что такое секретность! — произнес Кит с аффектацией Орда — слащаво, но с издевкой. — Никаких черных плащей и кинжалов не нужно, когда кругом полным-полно мужчин — и женщин, — которые рассматривают свою причастность, привязанность и даже преданность в качестве всего лишь крошечной возможности повлиять на ход истории. Когда я занимался усмирением анархистски настроенных наркобаронов на Большом Каймане в тридцать третьем, мои отряды ликвидаторов были в курсе всех дел — вся иерархия командной структуры, снизу доверху. Если я избавлялся от какого-нибудь предателя, на его месте тут же оказывался новый, и уже он, в свою очередь, передавал полезные сведения стороне противника. В конце концов я понял, что свинья окопалась тут настолько прочно, что я и сам по логике подпадаю под подозрение.
— И… и к-как ты п-поступил? — подобострастно запинаясь, пролепетал Фламбард.
— Элементарно, я тоже переметнулся на другую сторону. Держа под контролем силы анархистов, я нанес удар по правительству и установил свою власть в стране. Теперь, с такими силами, — Орд сжал пальцы в кулак и ударил вверх, словно целил в воздушный шар, — я имел возможность снова обрушиться на террористов и окончательно их уничтожить. Как обычно, победа!
И все же, что бы там Орд ни говорил, мысль о том, что воздушный шар мог служить наблюдательным пунктом, не казалась мне такой уж абсурдной. Если даже не самая секретная служба заявилась как-то в офисное здание, примыкающее непосредственно к Воксхолл-бридж, скрываясь внутри смехотворного постмодернистского свадебного торта, то почему бы той же службе не забросить в небо своего шпиона, этакий глаз на газовой горелке? Помимо всего прочего, мне нравилось здание МИ-6, его бежевый бетонный фасад и кипарисы на флеронах предполагали более тонкое внутреннее устройство, чем выходило на грубый взгляд Орда, вдобавок рядом имелся крошечный клочок отмели, вдоль которой через распадок и пролегал наш путь. Из скопившегося у берега унылого плавника и всякого мусора мы с Китом сооружали небольшие костры. С наступлением темноты мы садились у огня и поджаривали пастилу, задумчиво глядя через болотного цвета оборчатую гладь реки на другой берег, где располагалась галерея Тейт, а Дина в это время лениво валялась на спрессованном иле.
Порой, когда ночи не оставалось ничего, кроме как наступить, вверх по течению со стороны от Вестминстера, ныряя и покачиваясь, проплывала амфибия «Фрог-турс»[58]. На полкорпуса в воде отлива, едва касаясь мощными, пригодными для бездорожья шинами поверхности дна, она добиралась до подъема, под углом уходившего вниз от нашей отмели. С характерным горловым рокотом дизельного двигателя диковатый автомобиль карабкался вслед за нами, пока наконец, разбрызгивая воду и жадно глотая воздух, не освобождался от лишнего балласта. Кит брал на руки Дину, и мы втроем топали по вертикальным дюнам нашего убежища. Ошарашенные туристы пялились на нас из кабины амфибии, катившей в сторону набережной Альберт. Перепуганная Дина лаяла, пару раз Кит терял терпение и швырял гальку в десантный катер, выставивший свой увешанный рекламой плацдарм. Тогда я брал на себя роль Орда и обуздывал пыл Кита.
Но именно в этот день его вывел из себя вовсе не «Фрог-тур».
— А, — сказал Кит, пока мы шли вокруг узорчатого озера, — шар этот — развлекуха для туристов. Десять фунтов стоит, рискнем? Дину можно оставить у того симпатичного австралийца из «Мэджестик вайн»…
— Но зачем, с какого перепугу нам вдруг приспичило подниматься на этом шаре?
— На город глянуть, идиот! Сориентироваться. Господи, да мы постоянно топчемся только здесь на одном крошечном клочке, почему бы не посмотреть на Лондон с высоты?
— Нет, спасибо, у меня с ориентацией и без этого все в порядке… — Я почувствовал волну ярости и продолжил в духе Орда: — Что же касаемо шара, единственно верным мне видится устроить борьбу за него…
— Борьбу? Ты о чем?
Впервые за несколько недель я одновременно вошел в роль Орда и полностью завладел вниманием Кита. Говорю это, поскольку массивная разностная машина в его голове наконец переключилась на нужные шестеренки, он сам позвал Дину, взял ее на поводок и дошел с ней до самого верха, как слепой, чья собака-поводырь участвует в выставке «Крафтс»[59]. Какие-то одутловатые подростки таращились на нас, пока мы шли к развязке Квинстон-роуд: один здоровый, другой мелкий, в веснушках, — что было у них на уме?
— Итак, генерал, наша борьба за воздушный шар — это будет нечто аналогичное борьбе за парашют? — поинтересовался Фламбард, когда мы проходили под железнодорожным мостом, ведущим к аппендиксу Уэльс-драйв.
Как я обломал Фламбардову издевательскую покорность! Подобно всем биографам тех, кто еще жив, он походил на упыря, стоящего у обочины дороги, по которой должен проехать объект его писанины, и ожидающего неминуемой аварии, чтобы тут же занести это происшествие в анналы.
— Нечто вроде, — отрезал Орд.
— Проигравшие будут… что? Выброшены за борт?
— Я бы предпочел, чтобы они не сочли за одолжение выброситься сами, но в случае необходимости, да, придется им в этом поспособствовать. У меня в памяти живо воспоминание о борьбе за воздушный шар, имевшей место в сорок втором, в ней принимали участие Дикки Хеппеншталь и Махараджа Ролпинди. Дело было во время перелета через оба полюса: в течение нескольких недель нам было почти нечем заняться, покуда нашу кабину в стратосфере болтало от непрерывного ветра. Ввязаться в подобную авантюру — сущее сумасшествие, но сумасшествия всегда были моей слабостью…
Орд сделал паузу, Дина дернула поводок, отвечая хору, тоскливо лаявшему из собачьего приюта. Фламбард усмирил пса, после чего все время, пока мы шли, сохранял почтительное молчание.
— Полет длился так долго, что я успел посвятить обоих спутников в определенного рода практики, что неизбежно повлекло за собой обиды, сцены ревности и вполне могло бы привести к чудовищному падению, пока они боролись за мою благосклонность. Своего рода сражение, судя по всему, становилось все жестче, и в надежде воззвать к интеллектуальному самолюбию обоих я предложил обсудить следующий тезис: «Эта кабина верит, что практик приносит миру больше пользы, чем теоретик». Мы спорили и спорили…
Тем временем мы завернули за угол на Кертлинг-стрит, и нам в глаза бросились серо-коричневые горы песка и щебня, громоздившиеся во дворах «Тайдуэйуоркс», — бесплодные городские Альпы.
— А с земли за ходом нашего состязания наблюдали в то время профессор в области метафизики из Оксфорда и Стиг Обернердль, бывший вундеркиндом моторной лодки в перерывах между войнами. Махараджа, надо отдать ему должное, признав свое поражение, сделался тихим, как ягненок. Мы снизились до уровня пятисот метров, и он стал вылезать из иллюминатора. Сцена, полная драматизма: солнце садится над морем Уэдделла, неистовые скалы отбрасывают долгие тени, и если бы я высунулся и посмотрел вверх, то увидел бы фигуру Махараджи, который карабкается по крутому отвесу воздушного шара точно муха, ползущая по бокалу для вина. А вокруг проносятся вереницы облаков — завораживающее зрелище!
— Но, генерал, поведайте мне о грядущей, не настолько возвышенной борьбе за воздушный шар. Есть ли у вас на примете какой-нибудь тезис для обсуждения?
— Э-эээ… — Черт! Кит сбил меня с толку. Возвращаться из будущего в обличии Орда всегда было непросто, и я почувствовал, что маска сползает с моего лица.
— И как насчет участников? — вкрадчиво добавил Кит.
— Ну, ты, я, очевидным образом, и… и… Шэрон Крауд.
— Ха-ха! Смотрю, мы опять за старое, Шэрон, бляха, Крауд!
— Нет необходимости язвить. — Маска Орда окончательно съехала, и мое лицо осталось совсем беззащитным.
— О нет, только не сейчас, ты и так слишком бросаешься в глаза!
В таком вот духе, просто и без затей, такова была суть нашей дружбы, а возможно, и причина нашей мрачной заурядной изоляции. У Кита был роман с Шэрон Крауд. Он закончился, и после этого по непонятным причинам и при невыясненных обстоятельствах роман с Шэрон Крауд случился у меня. В свою очередь, завершился и он, а Шэрон вернулась к Киту. Отсюда и бляха между Шэрон и Крауд. Это называется «тмезис» — когда одно слово втискивается промеж другого. Несколько месяцев спустя, на какой-то из последних вечеринок, куда меня занесло, ко мне подвалил некий угрюмый медведь и, ткнув меня в спину, пока я шмякал гуакамоле[60] на бумажную тарелочку, громко проревел — что было слышно всем присутствующим: «А чего бы тебе не сунуть своего малого в мою задницу, послав куда подальше эту телку средней паршивости?»
Это был Кит, который к тому моменту снова разошелся с Шэрон Крауд. Я никогда не мог понять, страдал ли он по-настоящему в связи с ее потерей. Предположим, как свойственно настоящим романтикам, его плоть так и корчило от желания, в его животе начинало булькать при мысли о ее животе, а его глаза наполнялись влагой, когда он смотрел в сторону распростершегося впереди будущего, в котором для нее не было места. Не верилось, что Кит был настолько сентиментален — по крайней мере, не по отношению к Шэрон Крауд. Это слабо вязалось с его криминальным прошлым или с внушительной силой его мысли, особенно разыгравшейся, когда она его бросила.
Бакс — стареющий, волосатый, похожий на гнома и в свое время очень успешный новеллист — тоже знал Шэрон Крауд: и в телесном плане, и не только. Бакс говорил о ней так: «Ничего не попишешь — ее манера цепляет. В шестидесятые, представь: за дверями вовсю идет гулянка, а снаружи ты видишь рыдающих девчушек, потому что с ними кто-то плохо обошелся, а еще ты видишь нескольких оставшихся с носом зареванных слизняков — это ее клиенты!»
— Но, Бакс, — возражал я, — не станешь же ты завоевывать женщину только потому, что она жестко всех отшивает.
— И стану, и завоюю. К тому же она не глупа и весьма привлекательна, а это уже что-то.
Тут он придвинулся ближе, дабы занять себя скручиванием очередной сигареты из какого-то дерьма, и тряхнул своей умопомрачительной челкой, которая нависала над его озорным лицом как занавеска. Таким образом Бакс давал понять, что предмет разговора находится в поле зрения.
Но Бакс никогда не был зареванным мальчиком из свиты Шэрон Крауд. Бакс вообще не плакал, за исключением — по его собственному признанию — лишь того случая, когда он дописал один из своих романов; то ли принял близко к сердцу расставание с умным собеседником, то ли загодя испытывал неприязнь к читающей публике — он так и не снизошел до объяснения. Когда-то у Кита тоже была многообещающая карьера — не говоря о последующей — академическая. Но Шэрон Крауд предала огласке деликатную канву некоторых его исследований, и Кит потерял работу. Какая муха ее укусила? На профессиональную ревность не похоже, при том что сама она была простой преподшей. Почему она с таким небрежением относилась к доверительным разговорам? По мне, так причина крылась в десятилетнем браке, который трещал по швам. Три раза я лишался сна из-за Шэрон Крауд, и — к черту иносказания — тогда оно того стоило. Черт, это и сейчас пришлось бы кстати, когда мой рекорд приближается к тридцати двум футам в секунду. Ее поведение в постели было своеобразным сочетанием нежности и атлетики; частенько, ставя мне синяк, она тут же прикасалась к нему тонкими влажными губами.
На рождественской вечеринке, которую закатили друзья, чья ипотека была такой же, как у нас, Шэрон Крауд подсела к Мэйв, моей жене на тот момент. Интервал между третьей рюмкой и вожделенной четвертой уже затягивался гораздо дольше, чем между второй и третьей. Почувствовав удар в живот, я понял, что наступил тайм-аут.
— Пенис твоего мужа меня просто поразил, — поделилась она своим открытием с моей женой. Мейв не нашлась, что ответить, будучи не в состоянии уловить ни малейшей связи между упомянутым органом и этой жилистой, полинявшей блондинкой, лет пятидесяти, и Шэрон Крауд продолжила: — Я имею в виду, что в возбужденном состоянии он сильно выгибается влево, а на конце оттопыривается. Если сравнивать с носом, я бы сказала, он у него «уточкой».
Это сравнение впиталось в лицо Мейв, как убежавшее молоко в кухонное полотенце.
— Ты намекаешь, что трахалась с моим мужем? — Мейв посмотрела правде в глаза сквозь бокал с вином, как сквозь выпуклую линзу.
Разговор о цыплятах, выращенных в естественных условиях, который я вел с хозяином, оборвался. Цыплячий пух еще пару секунд повисел в воздухе, после чего его окончательно унесло ветром.
— Ага. Но это в прошлом. Он не… не… не очень изобретателен, да?
Это меня уязвило. Мне казалось, я имел ее в самых непостижимых позах. Она сверху, я сверху, оба на боку, стоя, сидя, с упором, с переворачиванием… Я считал себя ведущим партнером, а получилось, что все это были ее забавы.
— Согласись, — настаивала она несколько месяцев спустя, когда поток писем из суда иссяк, — если брак чего-то стоил, он бы выдержал мое вторжение, так что ты должен благодарить меня, я оказала тебе услугу. В конце концов, проблемы детей, слава богу, у вас не возникало.
Меня как громом ударило от такой сталинской логики, допускающей «моральные» обороты вроде: «Если бы даже я тебя не убил, ты бы все равно умер». У Кита на этот счет была еще более суровая точка зрения. Он восхищался Мейв, ее энергией и коммуникабельностью. А так как, по его мнению, ребенком в нашем браке был я, все выглядело так, словно мне наконец пришло время покинуть родительский дом, давая мамочке возможность заняться собой. В глазах Кита Шэрон Крауд удивительным образом оставалась чиста, за исключением самой малости в виде крушения его собственной карьеры.
Спустя два дня после того, как Орд предложил борьбу за воздушный шар, у нас с Китом состоялся очередной ланч в компании Шэрон Крауд. Вопреки — а может, наоборот, благодаря — ее предательствам, мы все втроем были по-прежнему близки. Одним из аргументов в пользу этого был ее дом — удобный перевалочный пункт во время наших прогулок. Еще одним аргументом — то, что Шэрон потчевала нас потрясающей едой. Паста с имбирем и помидорами, свежие сардины, плавающие в лимонном соку, артишоки в топленом масле, перцы, фаршированные перченым фаршем, и так далее. Чисто мещанский, женский аскетизм. Она готовила в посуде «Ле Крузет» на своей крохотной кухоньке-галерке, после чего приносила приготовленное туда, где мы сидели, глядя вниз на Уондсворт-стрит, в направлении Найн-Эльмс.
Квартира Шэрон Крауд находилась в здании, соседствующем с местом ее работы, Южным Банковским университетом. Даже когда воздушный шар уже появился в муниципальных высях, трапезная в квартире Шэрон Крауд была тем местом, куда стоило прийти, чтобы насладиться превосходным обзором.
— Ты там уже успела побывать? — осведомился Кит, тыча вилкой с куском брушетты в сторону воздушного шара, который, как казалось отсюда, неподвижно висел в традиционно свинцовом небе над лежащим внизу городом.
— Нет, с какого перепугу? — Шэрон налила мне очередной бокал «Кот-Роти» — хозяйкой она была безупречной.
— У нас с ним намечается борьба за воздушный шар. — Брушетта перенеслась в мою сторону.
— Это что, нечто вроде борьбы за парашют?
— Типа того, только не парашют достается победителю, а проигравший прыгает вниз с воздушного шара.
— И каков же предмет состязания?
На это Кит промолчал. Одно дело — обложить Шэрон Крауд за глаза, во время наших приватных, скорбных променадов, и совсем другое — сказать ей то же самое в лицо. И тут я, почувствовав приступ безумного легкомыслия, безоглядно потеряв все инстинкты самосохранения, выпалил:
— Ты.
— Пардон?! — Фарфор надбровной дуги Шэрон Крауд дал трещину.
— Мы собираемся бороться за то, чтобы ты сопровождала нас — Кита и меня, вот.
— Сопровождала? — Ее скепсис сгустил атмосферу. — Дайте-ка мне разобраться, троглодиты…
— Это не… мням-мням… не шутки, — сказал Кит. Благодаря долгим годам тюрьмы он мог негодовать и поглощать салат из помидоров одновременно.
— Тогда идиоты. Точно, вы два идиота, которые собираются бороться насмерть ради моего общества, так?
— Если верить Баксу… — Ввязавшись в эту баталию, мне ничего не оставалось, кроме как идти до конца, вне зависимости от последствий. Следует принять во внимание еще сотни и тысячи разбитых сердец.
Внезапно наши рты перестали справляться со словами, и мы принялись жевать, хрустеть, чавкать и глотать. С того места, где я сидел, острый профиль Шэрон Крауд резко выделялся на фоне бетонного портика Южного Банковского университета, неумолимо и безжалостно выступавшего вперед. Оба фасада не создавали ощущения контраста; на небольшом подбородке Шэрон Крауд красовалась выразительная ямочка, отчего тот походил на две маленькие ягодицы.
— Ты никогда не имел таких академических перспектив, чтобы можно было бы говорить о них всерьез, Кит. — Тон Шэрон звучал вызывающе. — Твои исследовательские дарования ничтожны, а способность преподавать заметно скомпрометирована тем, что твои студенты родились в то время, о котором у тебя нет четких представлений. Так что ты должен меня благодарить, я оказала тебе…
— Что?! — не сдержавшись, взвизгнул Кит.
— Услугу! Ты сам не знаешь, чего хочешь, тебя опозорили. Публично унизили. Ты был куда в более затруднительном положении, чем когда-либо. — Крауд снова несла чушь. — И уж точно, чем сейчас.
Кит опустил голову, всю в синяках от ухабов прожитых лет. Спорить с Шэрон у него не было никаких сил. Та же самая тактика, какую она пустила в ход в отношении меня; представляя альтернативную картину будущего куда в более черном свете, Шэрон Крауд под корень вырубала силу воли Кита. Как-то он поведал мне, что от случая к случаю она до сих пор заходит к нему «по делам». Неопределенность его тона соответствовала моей неготовности представить, что это за «дела», и я понадеялся, что мой отказ от комментария был воспринят Китом как доказательство ее приходов «по делам» и ко мне тоже.
В настоящее время Шэрон Крауд занимала должность руководителя модуля по бизнес-исследованиям в ЮБУ, давала хорошо оплачиваемые консультации и даже появлялась в актуальных телепрограммах поздними ночами, дискутируя на общественно-важные темы. Ее лоск, некогда умилительно-правильный, теперь стал оцифрованным и телевизионным. Наряды Шэрон всегда отличались строгостью, но сейчас они были совсем уж мужеподобными. Грудь у нее отсутствовала напрочь. Некогда мы вместе с ней лишались сна, и соски ее грудей были просто ошеломительными: нежные, розовые конусы пещеристых тканей вздымались под прямым углом относительно грудной клетки, но теперь — куда все пропало? Определенно, их больше не было; все, что я видел под ее строгим нагрудником — гладкая кожа, лишенная какого бы то ни было рельефа.
— А ты, значит, инициатор этой затеи? — Она посмотрела на меня так, будто я был крошечным, находился далеко-далеко и стремительно куда-то падал.
— Ты тиран, Шэрон, — выговорил я. — А может, просто извращенка.
Ее глаза примерились к уровню вина в моем бокале.
— Не пойму, ты что, напился и с тобой лучше не разговаривать? Но даже если так, ты считаешь, я плохо обошлась с тобой?
— Шэрон, сделаем скидку на прожитые годы, все такое, спустя столько лет — и весь этот джаз… — Я отпил еще вина, главным образом, чтобы завести ее. — Могу заявить с долей авторитета и должного уважения — в конце концов, ты отымела меня по полной, за милую душу. Непосредственно в задницу, вот этим вот самым телеграфным сто…
— Ты пьян и вдобавок агрессивен. Кит, уведи его отсюда.
Позже в тот же день мы опять были на пляже возле МИ-6, и я дразнил камеры безопасности, установленные на столбах и на стенах. Если я останавливался за колонной, то камера, следившая за моими перемещениями, застывала, как параличом разбитая, дергаясь в ту сторону, где я должен был, по ее расчету, оказаться.
— Точно я и Шэрон Крауд, — крикнул я Киту, который плескался вместе с Диной в приливной зоне; все шесть ног барахтались, путаясь в мотках нейлоновой веревки, клоках размокших газет и набухших от воды обломках древесины.
— Что?
— Камера безопасности — ей кажется, что она знает, где я должен быть, — но, разумеется, я не там. В любом случае, я понимаю — в отличие от нее, — что она всего лишь автомат… может, сбить ее к чертовой матери?
Я перелез через забор, спустился по пролету в пять ступенек и прогремел по гальке туда, где находились человек и пес.
— В этом нет необходимости. — Голос Кита звучал афористично; Кит был серьезен, как в те моменты, когда я случайно заводил речь о давно минувших временах.
— Теперь она ни за что не согласится подняться на воздушном шаре, так? — Я почувствовал, как мои щеки покрываются пленкой слез. — Теперь, когда она знает, что мы хотим поставить ее на кон?
— Есть несколько соображений. — Орд поднял с песка карниз для занавесок и его концом стал чиркать на илистой отмели, намечая план боевых действий. — Во-первых, она может решить, что мы это не всерьез. — Его военный ботинок опустился на мозаику оконного стекла в поломанной раме. — Во-вторых, у нее может хватить гордости на то, чтобы бросить нам вызов, и, в-третьих, — что мне кажется наиболее вероятным, — скорее всего, она пойдет на это, потому что Бакс ее заставит.
— Бакс?
— Ты знаешь, мне приходилось иметь дело с такими, как Шэрон Крауд. В две тысячи пятидесятом, когда я занял Дар-Эс-Салам, была там одна весьма горделивая бабенка — жрица культа, — которая по уши втрескалась в моего адъютанта…
Сейчас мне было как-то в напряг играть роль Фламбарда.
— Бакс? — переспросил я.
— Да. — Я не мог понять, кто это говорит: Кит или Орд. — У меня имеются серьезные рычаги давления на него, как ты догадываешься.
Я обернулся и посмотрел в проем между МИ-6 и Тинтаджел-хаус, затем пересек взглядом четыре проезжих части и посмотрел в сторону виадука Воксхолл — туда, где находился воздушный шар. Его пришвартовали на ночь: дородная баба в кричащем сарафане, которую повалило силой тяготения. Было вполне тепло и достаточно светло, но свет шел непонятно откуда, словно кровь при внутреннем кровоизлиянии.
Спустя долгую паузу Кит произнес:
— Ладно, давай сыграем в го-шахматы.
— Я не хочу играть в го-шахматы. — Как он не мог понять моего состояния?
— Тогда давай нашу обычную, я буду Ордом…
— Я не хочу играть Фламбарда!
— Ну, хорошо, хорошо, только не рви на себе волосы, просто предоставь мне Орда, и обещаю — тебе будет весело!
Мы двинулись по Ламбет-Уок, и Орд принялся щедро пичкать меня байками про то, как он камня на камне не оставил от Диких качков из Миннесоты — самой страшной банды байкеров за тридцатые годы второго тысячелетия.
Я встретил Бакса в «Бир-Энджин», такой паб в Стоквелле. Дрянное место, но Бакс бывал там так часто, что его высокая пивная кружка с крышкой хранилась за стойкой бара. Кружка была глиняная, страшноватая, с зеленой глазурью в виде выпучившейся ведьминой морды. Бакс пил из нее как светлое, так и горькое, этакий комитет по собственной охране. Я в тот день вел себя особенно высокомерно. Мое высокомерие было настолько осязаемым, что в животе неприятно урчало от превосходства. Бакс обратил внимание на то, как я сидел, согнувшись, на лавке, обитой кожзаменителем.
— Что стряслось? — заплетающимся языком спросил Бакс сквозь клубы дыма и пузыри пива.
— Заносит.
— Поносит?
— Заносит. Распирает от самомнения.
— В любом случае, и то и другое отпугивает окружающих.
— Я в курсе.
Бакс принялся сооружать очередную защитную завесу из волос своей челки, а я стал изучать браслетки на его руках. Они виднелись из-под обшлагов хлопчатобумажной рубашки и доходили до косточек на запястьях. Казалось, браслетки сделаны или из очень темной кожи, или из какого-то особого каучука. Невозможно было понять, играли они роль модных украшений или ортопедических повязок. Этим они слегка напоминали романы Бакса, на самом деле.
— Ну, и ффчччееемммдело? — Он был весьма суров.
— Я ничего не сказал.
— Зато Шэрон сказала, — он цедил слова вперемежку с нервными струйками табачного дыма, — что она намерена совершить с нами прогулку на воздушном шаре в воскресенье, в это воскресенье.
— Правда? И в состязании примет участие?
— Разумеется, потому она и согласилась. Тезис такой: «Этот воздушный шар уверен, что Шэрон Крауд бессмертна. Я так полагаю, ты бросаешь вызов, а Кит в роли секунданта?»
— Ну, типа того.
— Шэрон снимет свое предложение — это очевидно, — и я на ее стороне. Если вы побеждаете, то сиганет один из нас. Если мы — соответственно, наоборот.
— Понятно… — Неожиданный поворот. Я совсем не был уверен в том, что Кит обрадуется, узнав, что его жизнь висит на одних весах с моей. — А кого вы думаете взять в заложники?
— Ну, тех, кто управляет шаром, думаю, и тех, кто отправится с нами, туристы там всякие…
Я обнаружил Кита на городской ферме в Воксхолле. Дина была привязана снаружи, а ее хозяин находился в противоположной стороне от загонов, за новыми саманными свинарниками, — сидел на корточках на небольшом участке земли. Я бы с радостью сказал, что бородатый, растрепанный Кит имел умиротворенный вид среди всей этой буколической — пусть в миниатюре — обстановки, но это было не так. Даже трое малышей, что резвились вокруг, поднимая тучи пыли, не могли развеять его глубокой задумчивости.
— Бакс говорит, что каждый, кто будет управлять шаром, вместе с теми, кто окажется на борту, должен быть взят в заложники. Что же до Шэрон, то…
— Или ты.
— Или я, или ты, или Бакс.
— Но ведь необязательно Бакс, или ты, или Шэрон, или я, правда? — И с удивительным изяществом он пнул своим здоровенным ботинком лежавший тут же на земле кусок овечьего помета. — Все равно, ты или я, в конечном счете.
Мне на ум пришли толстые галстучные узлы, отвислые бороды, «Рубеттс», «Зима недовольства», смерть Блэра Пича. Для некоторых все это было печальной потерей, и, пока я вспоминал подобные образы, Кит собирался с духом и готовился стартануть.
— Да, да. — Он перекувырнулся через плечо. — Вот так вот.
— Они никогда не действуют слаженно, — крикнул я ему вслед, — эти, на воздушном шаре. Впадают в панику.
— Справлюсь.
— Думаешь?
Я нагнал его у выхода, он как раз отвязывал Дину. Далматинка умудрилась пробраться внутрь и натянула поводок с такой силой, что ошейник потерялся в кожных складках шеи. Мы с Китом явились свидетелями зрелища под названием «порнуха по-собачьи»: стеклянный резервуар, полный хорьков, царапающихся и просачивающихся сквозь отсеки пластиковых трубок.
— Я справлюсь. — Кит повернулся ко мне, и я сразу вспомнил Орда.
— Ты опять вошел в образ?.. В смысле, в образ Орда.
— Нет, разумеется, ты, жопа с ушами.
И он ушел; когти Дины клацали следом, пока он пересекал растрескавшийся косоугольник мостовой за пределами Воксхолл-Таверн. Даже в такой ранний час снаружи ротонды толпились лысые клоны топлес. Они толкались друг за другом, дергали друг друга за бандажи, кусали в шею под звуки техно, волнами катившие на них, а позади ревело уличное движение. Воздушный шар на ночь спускали на землю; оттуда, где я стоял, казалось, что он опускается в гигантскую кирпичной кладки рюмку для яйца. Лондон во всей своей красе, от которой не было никакого спасения. Я почтительно осведомился у Орда, имеет ли он что-либо сказать по данному вопросу, и впервые он промолчал.
За неделю перед битвой за воздушный шар в Найн-Эльмс начался снос холодильного склада. Огромный бетонный сарай, имевший сильное сходство с улеем кубической формы, возвышался над суматошным перекрестком Найн-Эльмс-Лейн и Уондсворт-роуд в течение последних двадцати лет, лучась солидностью и холодом. Видимо, прогресс в области холодильного дела наложил свой отпечаток, энтропия захлестнула. В стене постройки пробили огромную дыру, и рана начала гноиться: асбестовые слои эпидермы раздулись, наружу вылезли железные черви. На место сноса попасть было совсем несложно, что мы втроем и сделали — Кит, Дина и я. Точно так же мы постоянно залезали на Электростанцию в Бэттерси, с любопытством, словно какие-то постапокалиптические исследователи, заглядывая за высоченный алтарь красного кирпича. Ныне обе массивные конструкции были разрушены, как жертвы жутких последствий военного времени. По меньшей мере с холодильным складом разобрались довольно оперативно, однако город решил в качестве примера оставить Электростанцию. Неф здания, открытый влажному небу, был осквернен с особым азартом. Там, где когда-то сгорали эрг за эргом, претворяясь в жизнь, теперь был только голубиный помет да дико орущие банджи-джамперы, которые бросались с крана, торчащего над Темзой, и гадили в штаны, летя вниз.
Орд умел делать глубокие наблюдения насчет Лондона — как насчет его будущего, так и насчет непосредственно устройства города. В течение прошлой недели он дал Фламбарду отставку, тем самым предоставив мне полное право на свои долгосрочные прогнозы.
— Надо сказать, — говорил он, как обычно, безапелляционно и глотая слова, — с точки зрения перспективы две тысячи семьдесят третьего года все твои переживания по поводу сноса какого-то старого здания кажутся детским лепетом. Взять хотя бы это раскинувшееся побережье Темзы. — Что он для наглядности и проделывал: брал переливчатую старицу реки своей мозолистой ладонью в форме чашки. — На месте холодильного склада будут возведены многоквартирные дома с крышами в форме крыльев чаек, затем их тоже снесут, взамен на несколько десятилетий в центре Лондона вознесется могучее колесо Ферриса, но и оно укатится в неизвестном направлении. Кто-то из критиков, возможно, считает, что город — это некое особое образование с холмистой зоной по окраинам и болотами в центре, вроде френологических выпуклостей и впадин, каждая из которых обнаруживает какую-либо черту городской индивидуальности, но, откровенно говоря, это ибадутостьнафсюбошку. — Орд отдал дань слэнгу средне-ближайшего будущего. — Ни о какой индивидуальности Лондона не может идти речи с тех пор, как система метро, словно своего рода мега-курс электросудорожной терапии, связала соседние узловые точки и закоротила их напряжением в сотни тысяч вольт.
— Вот еще пример… — Он остановился у небольшой аптеки, глядя на сомалийцев — головы точно мячи для гольфа, туловища как у игроков в гольф, — стоявших в очереди отправить поручение на выплату денег. — Ты и представить себе не можешь, что из себя будет представлять Центральный шпиль, который построят в две тысячи тридцать пятом году. Больше сотни этажей, по форме напоминает колоссальный термитник, внутри — тысячи офисов и квартир, сотни атриумов и садов, и вся эта махина служит одновременно и домом, и рабочим местом для половины населения города; многочисленные разнообразные энергетические потоки, как воздушные, так и информационные, генерируются с помощью только-только изобретенной биосилы.
— Нет, не могу. — Я постарался придать голосу горечи. — Не могу себе такое вообразить.
Между прогулками я изо всех сил пытался упорядочить свои любовные интриги. Мое завещание было небольшим: груду старых матрасов — миссис Бэнсон, конверт, набитый иностранной валютой — брату, о котором я совсем позабыл, коробки со старыми покетбуками и поношенной одеждой — в приют. Все деньги, что у меня были, я растратил по мелочам. В офисе, трещащем от статического электричества и с изоляцией в виде бумажных записей жизней прочих людей я разбазарил оставшееся.
— Вряд ли стоит тратить время на это завещание, — заявила мне юрисконсульт. — Просто написать — уже денег стоит, потом еще взнос. Откровенно говоря, затраты не оправданы. Ее белая блузка до лифчика была пропитана потом.
— Меня не вдохновляет мысль, что государству хоть что-нибудь достанется.
Скрипнул настольный вентилятор, ероша судьбы мужчин и женщин.
— Понимаю.
Бачок с охлажденной питьевой водой булькнул — может, закипел?
— Я зальюсь вечным воем, если узнаю, что хоть один паршивый детектив или лишний носок в своей материальной облочке попадет во власть государства.
— Понимаю… — Сомнение во взгляде юрисконсульта росло на глазах. — Скажите, есть ли какая-то особая причина, по которой вы хотите составить завещание именно сейчас?
— Нет, никакой особой причины. Но ведь смерть подстерегает нас на каждом углу, не так ли?
Воскресным утром, на которое было назначено сражение за воздушный шар, было ясно, но ветрено для позднего лета. Галька заскрипела под слуховым окном у меня на чердаке. С трудом сохраняя равновесие на своем ложе принцессы на горошине, я высунул голову, посмотрел вниз и увидел Кита и Шэрон Крауд, стоявших на тротуаре.
Кит позвал меня, сложив руки рупором:
— Вылезай давай!
И это мне сразу напомнило, как школьники вот так же заходят за приятелем позвать его с утра поболтаться по улице. Я заспешил вниз, схватив мешок, который собирал всю ночь. Выходя из парадных дверей миссис Бэнсон, перебросил мешок через плечо, — ни Кит, ни Шэрон Крауд, казалось, этого не заметили. Один из детей Бэнсонов закричал нам вслед, но его слова были подхвачены и раздавлены проехавшим мимо ранним грузовиком. Мы пересекли Альберсквер и двинулись дальше, по Клэфэм-роуд в сторону Овала. У начала Фэнтимен-роуд к нам присоединился Бакс, и мы молча продолжили свой путь бок о бок по тротуару, будто участники одной группы в каком-нибудь популярном клипе или городские самураи. Над нами нависла тишина, малодушное, тягостное молчание.
Пока мы шли вдоль поворота Овала и по загаженной линии Харлифорд-роуд к Воксхолл-Кросс, напряжение усиливалось.
— Где ты оставишь Дину? — спросил я у Кита: у меня в голове стоял скрип его зубных протезов.
— С тем австралийцем в «Маджестике», ясное дело.
— А, ну да, да, прости.
— А почему бы не поручить собаку швейцару из «Эротических качелей»? — предложил Бакс. Это были его первые слова за все время, что он шел с нами. — Там еще открыто.
И в самом деле. К воздушному обогревателю над входом был прицеплен сатиновый кусок ткани около метра длиной. Это подобие огня навело меня на соображение об аде, в котором пытки были такими же суррогатами. Кит не соблаговолил ответить Баксу, и мы вчетвером с собачьим упрямством, под стать Дине, поплелись дальше.
На натянутое, покрытое штриховкой небо ветер клал широкими мазками бумажный мусор, упаковочные ленты и палую листву, но нечто неявное оставалось закрашенным своей собственной плотной массой. Как всегда, полная самодостаточность. Не так уж и жаль оставить все это позади — толстый кирпичный виадук, древние пабы, беззвучные салоны, с аляповатыми мотоциклами в витринах, прокаженные резиновые скребки оптовых торговцев и воскресные салоны, набитые игрушечными фигурками в рост человека — салоны, которые попадались по пути в магазин в Кройдоне. Вся эта макаронная мешанина на Воксхолл-Кросс, миллиарды километров транспортной лапши, развешанной по всему городу.
Пока Кит с Диной обнюхивали друг друга под внимательным взглядом работника винного хранилища, Шэрон Крауд, Бакс и я ждали на искусственном возвышении, что тянулось вдоль Годинг-стрит. Это подобие холма было покрыто невнятной травой с колышками, всаженными в плетеные корзины, и душистым дерьмом — в виде гарнира. Воздушный шар находился в отцепленном состоянии на сегодня, его страховочные тросы были отвязаны гастарбайтерами из Новой Зеландии и аспирантами из Канады. Они работали как надо.
— Кажется, немного дует, — обратился я к Баксу. — Может, они не станут подниматься.
— Это будет позор, — ответил он с тревогой, его желтые ногти нервно скребли кожу одного из запястий.
Шэрон Крауд выглядела превосходно. Она выбрала коричневый пиджак с воротником-стойкой и коричневые же брюки в тон. Сочетание, дававшее повод для любых комплиментов, какие только возможны. Волосы были тщательно убраны назад, на губах никакой косметики. Ни она, ни Бакс по-прежнему не обращали внимания на мой мешок.
Когда Кит вернулся, мы спустились с холма и пересекли парк в направлении огороженного пространства, где находился воздушный шар. Вагончик располагался в проеме проволочной ограды. Внутри продавали билеты и сувениры для привлечения туристов. Я даже толком не смог их рассмотреть. Меня охватил мандраж. Каждый из нас сам купил себе билет, после чего мы друг за другом вышли из-под навеса и направились по дощатому настилу к гигантской корзине воздушного шара. Собственно, это была не корзина как таковая, а квадратная площадка, с металлическими столбиками по периметру, соединенными двумя тросами — на уровне плеч и пояса, а ниже пояса были металлические бортики. Аппарат напоминал скорее братьев Райт, чем Монгольфьер, и, глядя на него, я понял, что рассчитывал увидеть корзину с расшитыми шелком стенками, а на борту — пару дрессированных козочек с викуньей в придачу для нашего орбитального эксперимента. Но времени на недовольство не оставалось — один киви проверил мой билет и надорвал его, другой сопроводил меня на борт, а третий скомандовал к отправлению.
Взлет произошел феноменально быстро, как подъем на лифте.
На самой дальней от меня площадке, на расстоянии футов пятнадцати, какой-то ребенок извивался и брыкался на руках у матери: «Мам, я боюуууууусь, я не хочу наверх! Ма-а-а-а-а-ам!»
Чертов вредитель, подумал я про себя. А вслух произнес: «Садист».
Потом я обнаружил, что ни Шэрон Крауд, ни Бакса на борту нет. Я осмотрелся: помимо матери вредителя и самого вредителя, среди прочих пассажиров на борту были двое тинэйджеров в белых анораках, справа от меня — молодая пара из Средней Азии, а рядом с ними стоял Кит. Пилотировавший шар австралиец находился за перегородкой; в руке он держал цепь, прикрепленную к горелке, за которую дергал время от времени, посылая огромные, гудящие столбы пламени под туго натянутый купол воздушного шара. Я глянул вниз: в проеме, огороженном рамкой прохода для пассажиров, быстро перемещался кадр в режиме зум-аут — участок парка Воксхолл-Кросс. Он разрастался, окружал вагончик, холм, «Эротические качели», каких-то субъектов, занятых непонятно чем, затем подставку, увитую горошком, на крыше «Воксхолл-Таверн» и наконец равноуменьшенные фигуры Шэрон Крауд и Бакса, которые под ручку удалялись в сторону метро.
Мой приятель, Кит, бывший грабитель банков, о чем я знал, хотя мы и не обсуждали его темное прошлое, забился в угол площадки, и когда я с ужасом посмотрел в его сторону, то увидел, как за плечом Кита исчезает Брокуэлл-парк, чтобы затем появиться уже у ног. Мы были на высоте двух сотен футов и все еще продолжали подниматься.
— Короче, никакого состязания, — крикнул Кит. — Так и знал, что они не отважатся. Собственно, мы тоже можем просто наслаждаться полетом. — Его суставы побелели, руки обхватили ограждение за спиной, лиловая штормовка развевалась на тугом ветру. Меня поразило, насколько стремительным оказался подъем: площадка раскачивалась на ветру во все стороны, точно воронье гнездо на шаткой опоре.
— Или ты не прочь партийку в го-шахматы, чтоб отвлечься? Лондон с такой высоты прямо как доска для го.
Кит повернулся посмотреть на город, уходящий вниз прямо под нами, я последовал его примеру. Австралиец о чем-то трепался, газовая горелка ревела, среднеазиатская парочка держалась за руки, ребенок хныкал, и все бы ничего, кабы не жуткие бородавки этой действительности. К востоку отсюда я уже мог различить проткнутый пузырь «Миллениум Доум» и зелень Тэддингтон-Лок на западе. Шар поднимался все выше, узлы городских улиц развязывались с пугающей скоростью, распрямлялись, образуя сеть из множества остроконечных квадратов, перекрестков, мест, где я свернул не туда.
— В точности как доска для го! — крикнул я Киту, еле заметному на фоне резкого неба. — Итак, начнем с…
— Го![61] — крикнул в ответ Орд, что я воспринял как приказ — уверен, это подразумевалось. У нас были в ходу такие мнемонические правила — у Орда и у меня.
Я снял с плеч парусиновый мешок. Среднеазиатская пара отступила назад, что-то бормоча. Мужчина старался поймать мой взгляд в попытке подчинить мои действия указаниям своего внутреннего Орда. Я увернулся от его властных лучей, равно как не стал обращать внимания на соответствующий шнобель женщины и ее развевающуюся черную чадру. Затем расстегнул клапаны футляра и достал из мешка простыню парашюта. Австралиец обратился к паре с просьбой придвинуться ближе ко мне — иначе они нарушали равновесие площадки. Орд издал дьявольский смешок. Как это на него похоже! Я поставил ногу на натянутый трос и перевалился через борт наружу Горизонт обрушился на меня гигантской серой волной, и я с криком полетел вниз, за пределы доселе изведанного.
Возвращение на планету людей
А потом он вернулся, неожиданно целый и невредимый. Не то чтобы он осознал, что вернулся, просто очнулся в комнате, полной знакомых чудищ — тестообразных великанов, на которых было отвратительное исподнее и которые, вместо того чтобы, так уж и быть, привести его в нормальное состояние, не приближались, а только ревели издалека. Издаваемые ими звуки были низкими, лихорадочными, призрачными. Никаких понятных ему знаков они не производили, и когда его терпение лопнуло, он бросился на них.
Понятно было только одно: его усыпили. Придя в сознание, он обнаружил, что оказался в психиатрическом отделении больницы, в комнате с мягкими стенами. Поскольку у него не сохранилось отчетливых воспоминаний о том, что находилось по любую из сторон этого мерзкого, пустого места, он ухватился за мысль, что уже бывал в похожем месте, слишком уж оно выглядело знакомым.
Чудища подходили ближе, прижимали свои острые рыла к крошечной панели ударопрочного дверного стекла. Время от времени они осмеливались войти внутрь, чтобы сделать ему укол, в ответ он опрокидывал на вошедших тарелки с едой и выливал на них питье. Однажды, когда он вел себя смирно, они убрали за ним нечистоты. Сказали ему, что у них собрана целая история подобных проявлений его поведения, так что они не собираются обращать внимание на его панические крики или безумные песнопения.
Боясь, что сошел с ума — ведь они были животными, — он вдруг осознал, что способен понимать их, несмотря на то, что длинные, лишенные волосяного покрова пальцы этих существ были слабыми и ничтожными. Одно из них заинтересовалось им, приходило к нему с блокнотом и ручкой, садилось рядом на легко чистящуюся поверхность. Когда он пытался описать то, что с ним было, со всеми необходимыми яркими подробностями, существо опасливо уворачивалось от его трясущихся пальцев. Если он решался дотронуться до него, существо тут же нажимало на кнопку, после чего немедленно являлись другие существа и усмиряли его, втыкая толстую иглу. Но если он держался в стороне от существа в белом халате, оно, боязливо его осматривая, согласно похрюкивало и изображало симпатию.
Он поведал существу, что оно и представители его вида кажутся ему жуткими и чужеродными, что шерсть должна быть по всему телу, а не только на продолговатых головах, как у них. Что их надбровные дуги нелепо лысые, а открытые участки кожи слишком незащищенные. Он рассказал ему, как поначалу толком не мог до конца постичь то, что они пытаются ему сообщить, потому что пальцы их рук были недостаточно подвижны, а пальцы ног скрыты кожаными чехлами. Признался, что поскольку не видит ни их анальных отверстий, ни увеличенных гениталий, то не может быть наверняка уверен, действительно ли они проявляют к нему симпатию. Добавил, что их запах для него невыносим, даже малой концентрации достаточно, чтобы забить его ноздри токсичными химикатами, отчего в носу свербит, и это кончается рвотой.
Когда, в свою очередь, существо спросило, что собой представляют животные, в основном населяющие те места, откуда он прибыл, то он ответил: шимпанзе, мы шимпанзе. Шимпанзе населяют всю землю, ходят по улицам на четвереньках, прыгают внутри государственных учреждений и лазают по деревьям в городских парках. Самыми яркими проявлениями общественной жизни, по его словам, были массовая случка и массовая стачка: целые стаи шимпанзе, шерсть дыбом. Затем он попросил существо дотронуться до него, приласкать, покопаться в его шерсти, как поступил бы любой заботливый шимпанзе, но собеседник по-прежнему демонстрировал полное безразличие.
Вместо груминга существо сказало ему, что он пребывает в заблуждении, что его воображаемое общество шимпанзе — всего лишь фантазия, основанная на книгах с уклоном в социальную сатиру и на фильмах в жанре научной фантастики. Существо сообщило ему, что шимпанзе были просто животными, не более того. Что в дикой природе их осталось около нескольких десятков тысяч и поголовье продолжает стремительно уменьшаться, поскольку на шимпанзе охотятся бедные племена, обитающие в экваториальных джунглях.
«Какие такие пии-лимина?» — спросил он. Непроизвольно последнее слово у него вышло чудно́, по-детски. Племена, объяснило существо, это люди, отсталые, но все равно такие же люди. Как и прочие, они прямоходящие и говорят на разных языках. Люди овладели высокими технологиями и построили грандиозные сооружения. Побывали на Луне и запустили свои аппараты еще дальше в космос. Люди управляли этой планетой, а прочие живые существа находились в подчиненном положении, на более низких ступенях эволюционной лестницы. Слушая этот бред, он без умолку выл, ревел и, скрипя зубами, в ярости метался по камере, пока не появились прочие существа и не вонзили толстую иглу в его костлявую, трясущуюся плоть.
Когда все ушли, он привел себя в вертикальное положение и доковылял до двери. В стеклянной панели он увидел отражение собственной унылой морды. Но странно: подобно лицам тех существ, морщин на ней было немного. Сверху на голове — пучок густых волос, редкие волосы по всей морде лица, но, за исключением более скромного волосяного покрова в районе задницы (которая, впрочем, не попадала в поле его зрения) и вокруг выставленного напоказ члена, его тело под грязной одеждой было совершенно лишено растительности. Он почувствовал слабость, невыносимую слабость, и окружающее пространство заволокло туманом. Периферическое зрение практически сошло на нет, несмотря на долгое время в этой камере его память не могла ухватить расположение немногих доступных ему предметов: шаткий столик, стул, пластмассовый поддон для нечистот. Часто, пятясь, он опрокидывал поддон, и содержимое выплескивалось на его испуганную морду.
Человеческие существа говорили, что подобная слабость — нормальное явление. Уверяли, что его низкое поскуливание — признак выздоровления. Объясняли, что лучше принимать предписанные таблетки, чем дожидаться укола, и из уважения к иерархии, частью которой — как и положено всем приматам — был и он сам, пришлось подчиняться. В качестве награды они разрешали ему выходить из камеры во двор, где были, по их убеждениям, такие же, как он.
Такими же они и были, в каком-то смысле. Они строили рожи и издавали те же звуки, что шимпанзе, и точно так же норовили запустить свои лапы в его шерсть. Они бесились и шумели, как шимпанзе, несколько раз даже пытались взгромоздиться один на другого, хотя их нелепое нижнее белье этому мешало. Тут же приходил кто-то из персонала, как обычно, вразвалку, на негнущихся ногах, и лениво растаскивал их в стороны.
Поначалу он не мог отличить самок от самцов, потому как не видел их половых органов, за исключением периодов течки. Но через некоторое время понял: те, что поменьше, с более длинной и густой шерстью на голове, были самками, и, приближая морду к их промежностям, он мог узнать, когда у них наступит овуляция. Такое поведение, далекое от всеобщего массового одобрения, было встречено гортанными криками со стороны тех, у кого в плену он находился, после чего он уяснил урок и выучился впредь избегать самок.
Через несколько недель прогулок по двору ему разрешили посетить больничную столовую в сопровождении медсестры. Его провели по общественным помещениям внутри здания. Тут он увидел еще больше человеческих существ, в застегнутой на все пуговицы идиотской одежде, не обращающих внимания друг на друга и пристально глядящих прямо вперед своим тупым монокулярным зрением. Толпы народа на лестницах и в коридорах инстинктивно разделялись на два потока, давая дорогу встречному. Движения человеческих особей, которые проносились мимо, были одновременно отрывистыми и усталыми.
Он уселся вместе с медсестрой в столовой самообслуживания и стал есть их отвратительную кашу с углеводами и тухлое мясо. Единственный обнаруженный фрукт был как литой и, похоже, накачан химикатами. На обратном пути они прошли через вращающиеся двери в главный холл. Фрагменты внешнего мира, как будто вырезанные из действительности, проносились мимо него: красный автобус, черный кэб, рыжий молоковоз. Через дорогу виднелся ряд домиков красного кирпича и на одном из них — дорожный знак, который он вспомнил — «Фулхэм-Пэлэс-роуд». Нет, он не заверещал, не заржал, не стал брыкаться, но где-то в глубине его омертвелой сердцевины что-то шевельнулось, и ему пришлось сделать усилие и признать, что все это было правдой, что этот мир был знаком ему прежде, только теперь его населяли омерзительные твари. Это была планета людей.
С того дня так называемое «выздоровление» сильно ускорилось. Двигался он все еще как на ходулях, даже скорее как калека, но они полагали, что это побочное действие лекарств. Мир этих существ его мало заботил, но он перестал опрокидывать на них приносимую ими еду. Они разъяснили ему, что раз он идет на поправку, то должен знать: у него есть некий статус, семья, друзья, карьера. К нему привели двух подростков и сказали, что они его. Он сел у дальнего края укрытого клеенкой стола, с противоположной стороны от двух недозрелых самцов и одной самки, про которую ему сказали, что она некогда была его супругой, но ни к кому из всех троих он не почувствовал ни близости, ни родства. Они выглядели так же, как прочие, с их зверскими рожами, выпученными глазами, судорожными и в то же время медленными жестами. Он ограничился парой жестов, выражающих общий интерес по отношению к ним, и вздохнул с облегчением, когда они ушли. Больше они не приходили.
Аналогично обстояло дело с теми, про кого ему говорили, что это его друзья и коллеги. Он пялился на них, они пялились на него. Ахая и охая, они неистово в чем-то его уверяли, он ахал и охал в ответ, говоря о своем мучительном чувстве полного разлада. Одному или двум он попытался рассказать о том мире, в котором жил прежде, о его головокружительной мощи, жестких, даже жестоких интимных контактах, восхитительных ароматах и чудных, чувственных секреторных запахах, о катарсических битвах и стремительных случках. Однако, казалось, что они испытывают шок, скуку, неприязнь, а то и все это сразу. Он почувствовал облегчение, когда их визиты стали реже, и совсем воспрял духом, когда они полностью прекратились.
Ему сообщили, что пора выписываться из больницы, что он уже в состоянии обходиться собственными силами, живя в каком-то другом месте, они называли его «закрытым поселением». Он думал, что это будет огромная роща деревьев, хитрое переплетение ветвей и листьев, где он смог бы скрыться и соорудить гнездо на высоте, подальше от вселяющей ужас поверхности земли, где бродят легионы двуногих призраков. Но оказалось, что это средней паршивости небольшой одноэтажный корпус со спальными комнатами, расположенный вокруг квадратного участка грязной травы, загаженной собачьим дерьмом и сверкающей битым стеклом. Собаки его пугали: там, откуда он прибыл, собаки не были одомашнены. Мир за пределами этой комнаты также наводил на него страх. Обстановка в точности напоминала тот город, который он помнил, только на треть больше, что вполне соответствовало размерам его нынешних возвышенных обитателей. Когда ему нужно было выйти наружу, он старался не смотреть вверх, огромной высоты здания вызывали у него головокружение. Он медленно шел вдоль по тротуару впритирку к стенам домов, иногда, вопреки своей воле, опираясь костяшками рук о землю и продолжая путь на четвереньках.
Нижнее белье, которое он вынужден был носить, вызывало у него чувство удушья, стесненности. Если он был уверен, что его никто не видит — обычно когда тайком крался по пустырю вблизи корпуса, — то скидывал с себя ненавистную одежду и проветривал свою мошонку на свежем воздухе. К счастью, ему не нужно было покидать комнату слишком часто. Человеческая особь приходила к нему убираться, а также покупала для него пластмассовые фрукты: он их ненавидел, но все равно вожделел. Та же особь помогала ему заполнять бланки, необходимые для получения денег на почте. Это были единственные процедуры, которые он был в состоянии вынести; при длительном контакте с человеческими особями — без разницы, насколько беспомощными и странными все они ему до сих пор казались, — он невольно хватал их за плечи, прижимался к ним своей мордой, одновременно трясущимися пальцами умоляя их пошебуршить ему шерсть на голове, или подразнить его, или ударить, чтобы он почувствовал, что все еще жив, что он все еще шимпанзе.
Каждую неделю приходили врачи делать уколы. Он подчинялся им и принимал остальные лекарства с прежней регулярностью, поскольку полагал, что в противном случае мир превратится в еще более кошмарное место; так его энергетический уровень повышался, восстанавливалась перцепция, пока наконец им не овладел нестерпимый позыв вскарабкаться вверх по фасадам зданий или заставить тех особей, которых он считал ниже себя, целовать его лишенную шерсти задницу.
Одна самка — та самая, что первая из всех этих существ — выслушала его в больнице «Чэринг-Кросс», до сих пор время от времени навещала своего бывшего пациента, и по ее же совету он стал посещать группу арт-терапии в общественном центре, прикрепленном к «закрытому поселению». Она, эта врачиха, сказала ему, что они встречались много лет назад, после его первого срыва. Добавила, что когда-то он был очень известным и продаваемым художником, что его путь если и не к полному выздоровлению, то, по крайней мере, к частичному приятию нынешнего состояния лежит через искусство. Хотя он и считал ее идиоткой, некий смысл во всем этом был: мир, в котором он находился теперь, был настолько размалывающим, что справиться с ним как-то иначе, чем попытаться изобразить его, он просто не мог. Стул был стулом, машина — машиной, дом — домом. Если он хотел возвращения прежнего мира — планеты обезьян, столь милой его сердцу, — ему не оставалось ничего, кроме как рисовать этот мир, являть на свет. Возможно, в процессе он откроет некую формулу, которая позволит ему смириться со своей человеческой сущностью.
Он пришел на сеанс арт-терапии и сел рядом с другими больными существами. Кисти, мелки и карандаши казались чем-то привычным, но собственные пальцы по-прежнему его не слушались, были слишком длинными и костлявыми, слишком слабыми, чтобы осуществлять мышечный контроль, необходимый для выражения его внутренних образов. Он хотел рисовать небольшие картинки, жирными штрихами, на них был бы изображен тот изобильный мир, который он утерял, где мохнатые существа стоят так близко друг к другу, что выглядят будто один большой зверь, покрытый толстой, теплой шкурой. Но когда он пробовал все это нарисовать, штрихи выходили неуклюжие, и его картины оказывались грязной пачкотней.
Человеческий самец, который вел занятия в группе, пытался приободрить его, говорил, что раз от раза получается все лучше, композиция еще, возможно, немного хромает, но, определенно, оставлять стараний не стоит. Как-то раз он привел с собой другое существо, самку, и она сказала, что у нее своя небольшая галерея «потустороннего искусства» и что она хотела бы выставить пару-тройку его работ. «Потустороннее искусство». Это выражение заставило его завыть от хохота. Видать, эта самка была настолько по ту сторону, что вряд ли вообще что-то соображала. По ту сторону времени, пространства, вне всего этого ничтожного мира с его бесполыми, колченогими, гладкокожими, хилорукими обитателями.
Тем не менее он пошел посмотреть на галерею и встретил там несколько человек, имевших к ней непосредственное отношение. Можно себе представить, насколько своеобразным нашли его эти люди, и часто, когда он отворачивался, его острый слух улавливал их слова за спиной:
— Это же Саймон Дейкс, ну, разумеется, вы знаете… — говорил один.
— Тот самый, художник?
— Само собой.
— Это который в свое время был так знаменит, что его картины висели в галерее Тейт?
— Да-да, но у него случился срыв, фактически два срыва, очень тяжелых, как видите… От него осталась одна пустая скорлупа, едва ли в нем сохранилось что-то человеческое.
— Просто не верится, и вот эти грязные миниатюры — его?
— Боюсь, что так; полагаю, она их выставила ради забавы. Даже по сравнению с работами прочих душевнобольных очевидно, что в этой мазне абсолютно ничего нет. Если они и выдерживают какие-либо сравнения, то разве что с картинами шимпанзе, находящимися под опекой зоопсихологов.
Это было время войн и притеснений. Исходя из того, что он узнал, миллионы человеческих существ голодали, страдали, их истребляли представители этого же вида. А посетители выставки рассуждали о «гуманности» и «человеческих правах» — ну разве это не смешно?! Прихлебывая алкогольный виноградный сок пухлыми, влажными губами, они мнили себя венцами творения. Стояли, одетые в обвислые кожаные покровы, никогда друг к другу не прикасались, не обнимались, никогда — насколько он мог судить — не спаривались, их ощущение мира сводилось к вафельному стаканчику с шариком холодной уверенности, который был произведен на свет этими же отвратными харями лишь для того, чтобы они могли уронить его на пол в нескольких футах от своих ног.
Во время одного из таких сборищ к нему подошла самка и проделала некоторые знаки, выражавшие, что она испытывала что-то помимо пренебрежения в его адрес. Естественные запахи, как всегда, были замаскированы одеждой и туалетной водой, но он с однозначной уверенностью уловил: у нее течка. Когда она предложила ему проводить ее домой, а затем позвала в гнездо, мысль о том, что он наконец попал в лапы другой особи — к тому же другого вида, — вызвала у него неодолимое желание.
Но, боже, до чего же отличались нежные ласки и слабые поглаживания, которым она предалась, будучи на нем! Никакой мощи интимной близости или эротической силы во время случки. Когда она гортанными звуками дала понять, что ему пора покрыть ее, он почувствовал, что впадает в более естественное и правильное состояние. Крепко схватив самку за шерсть на загривке, он с силой взял ее, а затем отвесил ей с неподдельной страстью своей лапищей хлесткую затрещину. Она жалобно застонала, выползла из-под него и отступила в угол гнезда с безумным, наполовину сломленным, животным взглядом на мордочке.
— Это я, я виновата… — хныкала она. — Сама виновата…
Он вернулся в «закрытое поселение», ожидая, что за ним явятся врачи, чтобы скрутить его и сделать укол ядовитым копьем. Но они больше ни разу не появились.
Прочие сведения о своем прошлом он собрал благодаря врачихе, которая все еще навещала его. Очевидно, после предыдущего срыва его пользовал очень знаменитый, заслуженный врач. Этот врач — бывший ее коллега — даже включил его в собственную группу ради того, чтобы вылечить.
Он отыскал место, где жил тот врач, и отправился к нему. Окраина на возвышении, окна солидных домов смотрят через куртины вересковой пустоши на серый город внизу. Пересекая пустошь и направляясь к дому врача, он на минуту позволил себе поверить, что вернулся в тот мир, который любил, воссоединился со своим крепким, покрытым шерстью телом. Он запрыгнул на низко свисавшие ветви, раскачался на них, забарабанил передними конечностями в грудь, густую тьму расколол его дикий животный крик; он сорвал с себя нижнее белье и открылся ночной прохладе. Несколько случайно попавшихся ему на пути человеческих особей метнулись в сторону, что-то вопя в самой милой его слуху манере.
Когда он подошел к дому врача, его одежда была изодрана в клочья, тело кое-где кровоточило. Он перепрыгнул через садовую ограду, на четвереньках проковылял к двери и стал дубасить в нее обеими передними лапами. Немного погодя дверь распахнулась, на пороге показался полный самец с редкой белой шерстью на голове. Знаменитый врач посмотрел на него с таким выражением — одновременно пустым и бессмысленно-недоумевающим, — которое, как он уже успел заметить, было типично для всех особей этого вида. Врач не издал ни звука, его пальцы не произвели никаких жестов. Спустя какое-то время дверь захлопнулась.
Он уселся на корточки, его чуткие уши уловили, как в доме набирают номер телефона, потом — тихое бормотание. Не странно ли, — подумал он, — когда у меня было ощущение, что я человек, у них не хватило сил мне помочь, а теперь, когда они сами в этом убеждены, им нет до меня никакого дела.
Затем, подавшись чуть вперед, он приготовился к появлению «скорой»; уже было слышно, как ее сирена продирается сквозь чужеземные джунгли.