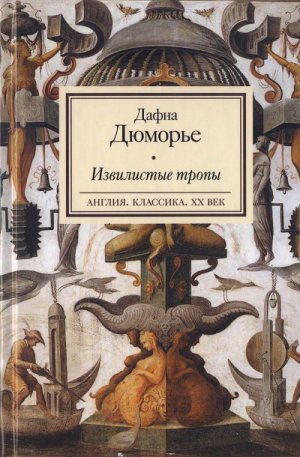
Дафна Дюморье
Дафна Дюморье (1907–1989) родилась в Лондоне, в семье знаменитого актера и режиссера сэра Джеральда Дюморье, чьим отцом был писатель и художник Джордж Дюморье. Страстная любительница чтения, она с детства жила в мире, созданном ее собственной фантазией, и даже придумала для себя alter ego — мужчину. Образование она получила дома, как и ее сестры, потом училась в Париже, а в 1928 году начала писать рассказы и очерки; в 1931 году был опубликован ее первый роман «Дух любви». За ним последовали биография ее отца и еще три романа, однако двери в мир литературы перед ней распахнул роман «Ребекка», который поставил ее имя в ряд самых популярных писателей того времени. В 1932 году Дафна Дюморье вышла замуж за майора Фредерика Браунинга, у них родилось трое детей. Дюморье писала не только романы, она автор рассказов, пьес, жизнеописаний. Многие фильмы, снятые по ее романам-бестселлерам, отмечены кинематографическими премиями, сама же Дафна Дюморье в 1969 году была награждена орденом Британской империи. Большую часть своей жизни она прожила в Корнуолле, где разворачивается действие многих ее книг. Умерла она в 1989 году, и в посвященном ей некрологе Маргарет Форстер написала: «Нет ни одного столь же популярного писателя, кому было бы так же трудно приклеить какой-то определенный ярлык, как ей… Она умела привлечь любителей беллетристики и в то же время удовлетворяла высоким требованиям „настоящей литературы“, что удается очень немногим писателям».
Предисловие
Подняться к вершинам власти можно лишь извилистыми тропами.
Фрэнсис Бэкон. Эссе XI, 1625 г.
Свою первую беллетризованную биографию Дафна Дюморье опубликовала в 1934 году, когда ей было двадцать семь лет. Героем этой книги был недавно скончавшийся отец Дафны, с которым у нее были в детстве и в отрочестве очень близкие, возможно, даже чрезмерно близкие, как определили бы психоаналитики, отношения. Сын Джорджа Дюморье, художника, иллюстрировавшего журнал «Панч» и написавшего роман «Трильби», Джеральд Дюморье прославился не столько глубоким проникновением в роли великого классического репертуара, сколько небрежным изяществом, с которым он играл героев современных пьес. Многих из друзей Джеральда и коллег-актеров книга Дафны шокировала, они сочли неподобающей такую откровенность дочери. Однако хвалебные рецензии и коммерческий успех книги многократно превзошли надежды и ожидания молодого автора и привлекли к ней интерес куда более многочисленной читательской аудитории, чем все три предыдущих романа.
Две последние книги в этом жанре, «Извилистые тропы» и предшествовавшую ей «„Юность с пламенем в очах“[1]: молодые годы Энтони и Фрэнсиса Бэкона и их друзей», Дафна Дюморье написала почти сорок лет спустя уже в совсем других обстоятельствах. Как с горечью замечает Маргарет Форстер в своей замечательной биографии Дафны Дюморье, некогда жизнерадостная, полная сил и энергии, необычайно честолюбивая женщина превратилась в мрачную затворницу.
Но самое печальное — ее богатое воображение, создавшее такие бестселлеры, как «Ребекка», «Французова бухта» и «Моя кузина Рейчел», сейчас отказывалось придумать сюжет, который можно было бы положить в основу увлекательного романа. Отвратила ее от беллетристики неожиданно обескураживающая реакция критики на ее роман «Правь, Британия» — сатиры, где Англия и Соединенные Штаты Америки объединились в одно государство, при том что имя писательницы обеспечило этому роману высокие тиражи и принесло очень неплохой гонорар.
Однако Дюморье была уверена, что, если она больше не способна вдохнуть жизнь в придуманную интригу, ее литературный дар достаточно силен, чтобы оживить сюжеты из реальной жизни. И, как подтверждают обе книги о братьях Бэкон, у нее были все основания для такой уверенности. Мы в каждой из них ощущаем ее прежнюю способность ярко нарисовать характеры, построить захватывающую интригу, воспроизвести обстановку и воскресить дух времени.
Мы можем лишь гадать, что побудило Дафну Дюморье обратиться к Энтони и Фрэнсису Бэкон и их друзьям именно в тот период ее жизни, когда волна, подняв ее на гребень успеха, неожиданно начала спадать. Писатель Роберт Лидделл, уже много лет живущий в Греции, однажды рассказал мне, когда речь зашла о ее поездке в Афины в середине пятидесятых годов, еще задолго до того, как она задумала писать о Бэконах, что он как-то упомянул в разговоре с ней об «Эссе» Фрэнсиса Бэкона, которые он как раз в это время перечитывал. Она откликнулась на это с таким же пылким интересом, какой испытывал он сам, и рассказала ему, что лет в пятнадцать-шестнадцать гувернантка велела ей прочесть «Эссе» Бэкона, взялась она за них с большой неохотой, но сразу же увлеклась. И конечно, как замечает Маргарет Форстер, на нее сильнейшее впечатление произвел монументальный семитомный труд Джеймса Спеддинга «Письма и жизнь Фрэнсиса Бэкона». Как и многие другие биографы Бэкона, Дафна Дюморье в основном черпала сведения из него.
Вполне возможно, что Дафну Дюморье также привлекли к этим персонажам ходившие даже при их жизни слухи, что они, как члены интимного круга друзей Роберта Деверё, графа Эссекса, были вовлечены в гомосексуальные интриги и даже в гомосексуальные связи. Тема гомосексуальности волновала Дюморье всю жизнь. Противоестественно привязанный к ней отец не раз признавался дочери, как он мечтал, чтобы она родилась мальчиком. В детстве и в отрочестве она даже считала, что она и есть мальчик, заключенный в теле девочки, как впоследствии другой писатель, Джеймс (позднее Джен) Моррис, считал себя женщиной, которую заперли в теле мужчины.
В двадцать два года у Дафны Дюморье случился роман с человеком, который любил ее гораздо более страстно, чем она его. Это был внебрачный сын актера и режиссера Герберта Бирбома Три, начинающий актер Кэрол Рид, впоследствии ставший знаменитым кинорежиссером. Роман вызвал у отца Дафны ревность, граничащую с одержимостью. Позднее она стала верной женой генерала «Боя» Браунинга, аристократически безупречного военного деятеля. И все же ее время от времени влекло к женщинам. Самую сильную привязанность такого рода она испытала, когда ей уже было за пятьдесят, к блистательной светской красавице и актрисе Гертруде Лоуренс, которая много лет была подругой Ноэля Кауарда, исполнительницей главных ролей в его пьесах и его музой. Безвременная смерть Гертруды Лоуренс, ушедшей из жизни в возрасте пятидесяти четырех лет, сразила Дафну Дюморье наповал. Можно с уверенностью сказать, что после этой утраты ее интерес и к жизни, и к работе стал гаснуть.
В отличие от многих авторов, писавших биографии известных исторических личностей, Дафна Дюморье была так же неутомима в своих изысканиях, как Антония Фрейзер. Правда, в особенно затруднительных случаях она прибегала к помощи других (например, при расшифровке почерка леди Бэкон, матери Энтони и Фрэнсиса), но, как правило, она без устали сама копалась в архивах и в поисках старинных записей исколесила не только Англию, но и Францию. Когда обе книги вышли, ученые с огромной похвалой отозвались о тщательности и скрупулезности ее исследований. Ведь именно она удивила английских читателей неожиданным открытием, которое она сделала в архивах департамента Тарн-э-Гаронн за год до выхода ее первой книги «Юность с пламенем в очах». Выяснилось, что во время своего пребывания во Франции Энтони Бэкон был обвинен в содомии, что тогда каралось смертной казнью.
Когда А. Л. Роуз прочел «Извилистые тропы», которые подарила ему Дафна Дюморье, бывшая не только его соседкой, но и другом, он с удовольствием рекомендовал рукопись издателю Чарлзу Монтиту, однако заметил: «Одна беда: эти пишущие биографии дамы обязательно влюбляются в своих героев». Если он хотел этим сказать, что Дафна Дюморье не проявила достаточной суровости, описывая не самые привлекательные черты личности Бэкона и сомнительные эпизоды его жизни — его ставшую притчей во языцех расточительность, его двоедушие, неутолимое честолюбие, предательство по отношению к своему бывшему другу и покровителю графу Эссексу, против которого он выступил в роли общественного обвинителя во время суда над ним в Вестминстерском дворце, изощренную пронырливость, с которой он карабкался к вершинам власти, — что ж, в его словах есть доля правды. Но то, что писательница «влюбилась» в своего героя, оказалось великим благом, потому что позволило ей написать о нем с тем же глубоким пониманием, какое она проявляла по отношению к самым незначительным персонажам своих романов. Конечно, у Бэкона было много слабостей, но глубина его образованности и дерзкая всеохватность мысли были поистине уникальны для того времени. И эту уникальность Дафна Дюморье сумела замечательно показать.
Маколей морализаторски говорит о Бэконе, что «это был человек, чьи принципы никак нельзя назвать твердыми, а дух высоким». А вот что пишет Литтон Стрейчи: «Независимость суждений, необъятная гордыня, неутолимое честолюбие, переменчивость, тончайшее чутье, безупречный вкус во всем — все эти качества, сплетаясь, сталкиваясь в яростном конфликте, врастая друг в друга, придавали его загадочному облику „вкрадчивое и неотразимое обаяние ядовитой змеи“. Возможно, Дафна Дюморье не слишком ярко показала, сколько змеиного коварства таилось в этом переменчивом, с такими зыбкими принципами человеке, зато ей удалось прекрасно показать блеск и могущество его гения».
После публикации этих двух биографий бэконианцы стали считать Дафну Дюморье своей сторонницей. Но хотя она приводит множество сведений, которые при желании можно истолковать как подтверждение взгляда, что автором шекспировских пьес был ее герой, она нигде не рискует пойти дальше предположения, что братья Бэкон и другие аристократы, наделенные литературным талантом, могли в разное время написать то, под чем стоит псевдоним «Шекспир». По ее мнению, это могло быть всего лишь несколько подаренных Шекспиру строк, сюжет или эпизод, характер персонажа, а иной раз и сонет.
И тем не менее все, что Дафна Дюморье пишет об этом аристократе, обладавшем исполинской мощью ума, могучим воображением, широчайшей образованностью и редчайшим даром слова, позволяет заключить, что он вполне мог быть единственным автором всех этих великих творений литературы.
Фрэнсис Кинг, 2005 г.
К читателю
«Юность с пламенем в очах» посвящена жизни Энтони Бэкона, его брата Фрэнсиса и их друзей. Когда Энтони умер в мае 1601 года, Фрэнсису было сорок лет. Ему предстояло прожить еще двадцать пять лет, стать генеральным стряпчим, потом генеральным прокурором, членом тайного совета и лордом-канцлером. В начале всего лишь сэр Фрэнсис Бэкон, он стал бароном Веруламом, а под конец виконтом Сент-Олбансом. Женился. Его карьеру описывали многие знаменитые историки и биографы, а его литературные, философские, научные и прочие труды глубочайшим образом изучали и продолжают изучать ученые всего мира.
Когда я завершила «Юность с пламенем в очах», мне стало ясно, что простой читатель (к каковым я отношу и себя) никогда особенно не интересовался Фрэнсисом Бэконом и уж тем более не понимал необычайной сложности его характера и редкой многогранности личности. И мне очень захотелось попытаться рассказать о нем.
Так появились на свет «Извилистые тропы».
Дафна Дюморье, 1975 г.
| Родился вторым сыном у сэра Николаса Бэкона (лорда-хранителя большой государственной печати) и Анны (невестки Уильяма Сесила, лорда Берли) | 22 января 1561 г. |
| Принят в Тринити-колледж Кембриджского университета | 10 июня 1573 г. |
| Принят в школу барристеров «Грейз инн» | 21 ноября 1576 г. |
| Избран членом палаты общин как депутат от Мелкомба | 1584 г. |
| Возведен в рыцарское достоинство королем Яковом I | 23 июля 1603 г. |
| Получил статус адвоката с королевским патентом | 25 августа 1604 г. |
| Генеральный стряпчий | 25 июня 1607 г. |
| Генеральный прокурор | 26 октября 1613 г. |
| Член тайного совета | 9 июня 1616 г. |
| Лорд-хранитель большой государственной печати | 3 марта 1617 г. |
| Лорд-канцлер | 4 января 1618 г. |
| Барон Верулам | июль 1618 г. |
| Виконт Сент-Олбанс | 27 января 1621 г. |
| Осужден палатой лордов | 3 мая 1621 г. |
| Умер | 9 апреля 1626 г. |
Фрэнсис Бэкон. Вершины власти и опала
Когда старший брат Фрэнсиса Бэкона Энтони умер, Фрэнсису было сорок лет. Умер Энтони 17 мая 1601 года и был похоронен в Лондоне, в Сити, на Харт-стрит, в церкви Святого Олава. Присутствовал ли Фрэнсис на похоронах, неизвестно. Среди его корреспонденции нет ни одного письма, где бы он рассказывал о своей утрате, и вообще, судя по всему, это событие не обсуждалось в обществе, единственное упоминание о нем можно найти в письме собирателя новостей и слухов, хроникера того времени Джона Чемберлена к своему приятелю Дадли Карлтону. 27 мая он пишет: «Недавно умер Энтони Бэкон, но он так погряз в долгах, что его брат, как мне кажется, ничего от его смерти не выиграл».
Всего несколько небрежных слов мимоходом о человеке, которого так хорошо знали государственные деятели того времени, дипломаты, придворные и все, кто вращался в высших кругах общества. Ни тени сожаления о том, кто умер в сорок три года, сломленный, потеряв здоровье и утратив волю к жизни после осуждения и казни своего друга и покровителя, которому он служил так преданно и верно, злосчастного Роберта Деверё, графа Эссекса. Возможно, краткость сообщения была вынужденной: не подобало выказывать сочувствие тем, кто был причастен к заговору Эссекса, раскрытому несколько месяцев тому назад. Не считая близких друзей и членов семьи, казненного графа жалел только простой люд, который считал его своим героем.
Что касается Фрэнсиса, причины его молчания имели более глубокие корни. Во время суда над обвиненным в государственной измене графом в Вестминстерском дворце Фрэнсис Бэкон выступил обвинителем по личному повелению ее величества королевы, не подчиниться которому он не смел. И если его слова, произнесенные без злого умысла и с величайшей искренностью — ведь он был убежден, что мятеж и в самом деле имел целью захват власти, — помогли отправить введенного в заблуждение графа на эшафот, то что ж, таков был его тягостный, печальный долг. Граф был его покровителем и другом, оказывал ему немало услуг, Фрэнсис платил ему тем же. Но преданность монарху была превыше дружбы и благодарности. Он усвоил это, еще сидя ребенком на коленях у отца. Сэр Николас Бэкон, лорд-хранитель большой государственной печати, почитал выше королевской власти только власть Бога. У Фрэнсиса были и свои собственные причины продемонстрировать преданность короне. Он знал, что, если проявит весь блеск своего ораторского искусства — а именно за этот талант он, не занимающий сколько-нибудь высокого поста юрист, и был выбран для участия в столь важном процессе, — то в Вестминстерском дворце никто не станет вспоминать, что его брат Энтони был близким другом и наперсником графа и вполне может быть привлечен к суду за причастность к заговору, несмотря на тяжелую болезнь. Возможно, участие Фрэнсиса в процессе и поможет отправить графа Эссекса на плаху, зато он спасет брата Энтони от виселицы.
Однако ее величество потребовала большего. Младший сын ее старого слуги, лорда-хранителя большой государственной печати, не только легко и красиво говорит, он еще и великолепно пишет. И потому она поручила ему написать «Прокламацию о злоумышлениях и предательствах, на которые покушался и которые были совершены Робертом, покойным графом Эссексом, и его сообщниками, против ее величества и ее владений».
Неблагодарная это была задача, тем более что, когда Фрэнсис ее выполнил, королева лично внимательно прочитала «Прокламацию» и вычеркнула все, что могло быть похоже на сочувствие и сострадание. Отредактированный документ был отправлен в печать 14 апреля, через полтора месяца после казни графа в Тауэре. А еще через месяц скончался брат Фрэнсиса, Энтони, сломленный и опустошенный.
Так что старания Фрэнсиса оказались в общем-то напрасными. Фрэнсис спас честь брата и его доброе имя, но, спасая их, ускорил его кончину. Без сомнения, Энтони предпочел бы умереть позорной смертью на виселице через несколько дней после казни своего любимого друга графа Эссекса, а не влачить жалкое существование эти несколько недель.
«До такой степени погряз в долгах, — писал Джон Чемберлен Дадли Карлтону, — что его брат, как мне кажется, ничего от его смерти не выиграл». Кредиторы Энтони не знали, где его найти. Не знали даже, где Энтони был похоронен. Зато могли одолевать его брата Фрэнсиса в его квартире в Грейз инне, а если надо, то и разыскать в Хартфордшире, в его поместье Горэмбери. Там жила, уединившись от мира, его мать, семидесятитрехлетняя леди Бэкон, раздавленная горем после событий последних месяцев, вернее даже, последних лет, начиная с той поры, как граф Эссекс впал в немилость после своего возвращения из Ирландии — куда он, командующий войсками королевы, был послан подавить восстание графа Тайрона и где потерпел позорное поражение, — и заканчивая его собственным восстанием и казнью. Как часто она предупреждала Энтони, что его преданность графу до добра не доведет, но все впустую; и вот теперь ее первенец умер, всеми покинутый, одинокий, может быть, никто даже не прочел над ним в последний час молитвы.
Ее разум начал мутиться, она бродила и бродила по комнатам и длинной галерее Горэмбери, разговаривала сама с собой, искала знакомые лица, звала старых слуг, которые преданно служили ей в былые дни, но кто-то из них уже умер, кто-то оставил их дом. Когда приехал ее младший сын Фрэнсис и стал разговаривать с ней об арендной плате фермеров, о договорах, записях и долгах, она не могла понять, почему он всем этим интересуется, не могла понять, что он теперь наследник своего брата и должен найти деньги, чтобы заплатить кредиторам Энтони. Каким кредиторам? Этой своре прихлебателей, которых она всегда терпеть не могла? Этому пажу-французу? Этому католику-совратителю Лоусону? Она и слышать о них не хочет. Это отребье и близко подпускать к дому нельзя. Она знала, чем все кончится. Теперь ее, старуху, выгонят из дому и она будет скитаться по земле, одна-одинешенька, без слуг, не нужная даже своему единственному оставшемуся в живых сыну.
Разубеждать ее было бесполезно. Фрэнсис не мог успокоить свою истерзанную горем мать. Но долги между тем нужно было уплатить, чтобы оградить Горэмбери от претензий кредиторов и распоряжаться им согласно завещанию. И Фрэнсис вернулся в Лондон, в Грейз инн, посоветоваться со своими близкими друзьями, которых его мать не любила так же сильно, как и друзей его брата. Один из кредиторов был вовсе не прихлебатель, а настоящий друг обоих братьев — Николас Тротт, у которого они много лет занимали деньги. Всего он одолжил им около 2600 фунтов, и хотя часть долга была ими выплачена, проценты все росли и росли, так что Фрэнсис был вынужден заложить свой собственный дом в Туикенем-Парке. Николас Тротт, так долго и терпеливо ждавший, имел право вступить во владение имуществом Бэкона, если долг не будет возвращен к ноябрю текущего, то есть 1601 года. Более того, он планировал жениться, что заставляло его еще более настойчиво добиваться возврата денег.
Какая горькая ирония и какой удар по самолюбию Фрэнсиса, что единственной его надеждой выплатить долг были 1200 фунтов, обещанные королевой за недавнюю услугу короне — выступление на процессе в Вестминстерском дворце плюс, разумеется, написание «Прокламации». Эта сумма должна была составиться из штрафов, наложенных на тех соратников покойного графа, кто купил себе прощение и не был казнен, распоряжалось же этими деньгами казначейство. Фрэнсису еще повезет, если он получит обещанную сумму не позже чем через год; кстати, и для утверждения его в правах наследства покойного Энтони потребуется такой же срок.
Во время долгих парламентских каникул, гуляя по аллеям Горэмбери, пока его мать сидела безвыходно дома со своими служанками, Фрэнсис получил возможность осмыслить положение, в котором он оказался, прожить заново двадцать два года, что прошли со смерти отца, и картина, которая перед ним нарисовалась, никак не радовала. Он не оправдал надежд, которые возлагал на него отец, лорд-хранитель большой государственной печати. Многообещающий восемнадцатилетний юноша, отправившийся во Францию в свите посла ее величества королевы и намеренный поразить своими талантами дипломатические круги обеих стран, добиться известности как на политическом, так и на литературном поприще, спустя несколько месяцев вернулся домой после смерти отца и узнал, что отец даже не упомянул его в своем завещании. Он оказался в полной зависимости от матери и от старшего брата, разве что ему удастся что-то заработать с помощью собственных талантов, а талантами его, видит Бог, судьба не обделила. Вопрос только в том, как и где их применить.
Отец предрекал ему блестящее будущее. Будь лорд-хранитель жив, он со своим влиянием помог бы младшему сыну утвердить себя или в политике, или в юриспруденции. Но его влияние закончилось вместе с ним. А у неродного дяди Фрэнсиса, Уильяма Сесила, лорда Берли, который занимал сейчас пост лорда-казначея ее величества и был ее ближайшим советником, имелся собственный сын, Роберт Сесил, которого надо было продвигать наверх, и совершенно ни к чему были соперники. Литература? Грандиозный план собрать блестящее созвездие поэтов и писателей, которые со временем засверкают так же ярко, как французская «Плеяда», не нашел поддержки ни у дяди Уильяма Сесила, ни у ее величества, под покровительством которых он только и мог бы осуществиться. Наверное, маленький мальчик, которого королева когда-то гладила по головке и называла своим «маленьким лордом-хранителем большой печати», став взрослым, был ей совсем не интересен.
Оставалась юриспруденция. Выборный старейшина «Судебных иннов», имеющий место в парламенте… Но надежды на продвижение увяли, когда после семи лет заседаний в преданной ее величеству королеве палате общин Фрэнсис имел дерзость встать и выступить против бюджетного закона о тройном налогообложении, который был задуман как особая мера в связи с напряженной политической обстановкой. Суть его была в том, чтобы обеспечить выплату налогов подданными ее величества не каждые шесть лет, как было принято до сих пор, а каждые три. Выступление Фрэнсиса до такой степени разгневало королеву, что она запретила ему показываться ей на глаза, и тут уж о каком бы то ни было повышении следовало забыть.
И все же он не сдался. Его покаянное письмо не тронуло королеву — что ж, тогда за него заступится его единомышленник и покровитель граф Эссекс. Но как ни умолял граф королеву простить Фрэнсиса, ее величество оставила без внимания его заступничество.
Судебная карьера Фрэнсису также не давалась. Его соперник Эдвард Коук уже был генеральным прокурором, Сарджент Флеминг — генеральным стряпчим. Что до литературы, то он до сих пор писал всего лишь пьесы-маски и комедии, которые разыгрывались в Грейз инн, и прочие анонимные безделушки, которые занимали часы досуга. Опубликовал он к этому времени всего несколько эссе — десять, если быть точными, — которые посвятил своему брату, потому что Энтони восхищался Монтенем. Чтобы заполнить тоненький томик, он включил в него фрагмент, названный «Цвета добра и зла», а также религиозные размышления на латыни «Meditationes Sacrae». Эти последние хотя бы порадовали его мать, однако постулат, что высокое состояние души требует совершенной истины и свободы от каких бы то ни было заблуждений, был выше ее разумения.
Его личная жизнь складывалась еще менее удачно. Единственная молодая женщина, на которой он когда-либо хотел жениться, Элизабет Хаттон, внучка лорда Берли и вдова друга сэра Филиппа Сидни сэра Уильяма Хаттона, несколько месяцев принимала его галантные ухаживания, а потом в один прекрасный день тайно обвенчалась с его соперником на поприще юриспруденции генеральным прокурором Эдвардом Коуком. Случилось это в ноябре 1598 года. Почему она так поступила, осталось невыясненным. Возможно, уступила давлению семьи, потому что Эдвард Коук был вдовец, ему было под пятьдесят и он мог обеспечить своей жене богатство и высокое положение, а Фрэнсиса несколько месяцев назад арестовал за долги еврей-ювелир, и он чудом избежал заключения в долговую тюрьму Флит, а уж о том, чтобы предложить сколько-нибудь привлекательный статус блестящей молодой красавице, одной из фрейлин королевы, к тому же урожденной Сесил, и говорить не приходилось. Ничего не поделаешь, Элизабет вышла за другого, хотя, если верить слухам, муж и жена непрерывно ссорились все эти годы, с самой своей брачной ночи.
И все равно сейчас, в августе 1601 года, Фрэнсис продолжал страдать от уязвленной гордости, потому что он бродит в одиночестве по своему имению Горэмбери, а генеральный прокурор и Элизабет Хаттон — она продолжала именовать себя леди Хаттон, привычно бросая вызов традициям, — принимают в это время в Стоуке, загородной резиденции Эдварда Коука, ни более ни менее как ее величество королеву Елизавету со всей ее огромной свитой. А ведь все могло быть иначе, Элизабет, супруга Фрэнсиса Бэкона, могла бы принимать ее величество в Горэмбери, как принимали ее тридцать лет назад его отец и мать.
Но что толку сожалеть о прошлом. Свои требования предъявляет настоящее, и самые настоятельные из них — заплатить долги брата и свои собственные. Фрэнсис не удалится от света, как удалился несчастный Энтони, не уединится в пещере, как Тимон Афинский, он употребит все способности своего ума, все таланты, которыми наградил его Господь, чтобы добиться высокого положения в парламенте или на юридическом поприще. Не для того, чтобы потешить свое тщеславие или гордыню, не для того, чтобы вызвать зависть коллег и восхищение друзей, но чтобы осуществить мечту, которая жила в нем с детства, ведь ему так страстно хотелось распространить знание по всему миру и одарить добрыми плодами этого знания все человечество.
«Веря, что я был рожден, дабы служить человечеству, — напишет он несколько лет спустя, — и почитая общественное благо всеобщим достоянием, таким же, как воздух и вода, которые принадлежат всем, я стал размышлять о том, какое именно служение приносит наибольшее благо людям и для какого служения наилучшим образом предназначен природой я». Фрэнсис никогда не рассказывал, когда эта убежденность в своем жизненном предназначении зародилась в сложном лабиринте его ума. Возможно, еще в детстве, когда королева улыбалась одаренному чудо-ребенку. А может быть, в Кембридже, когда его однокашники часами корпели над задачами, которые он решал в мгновение ока. Он не гордился тем, что он умнее их, он просто это знал и принимал как естественное состояние. Это дар Господа, Фрэнсис не имеет права распорядиться им лишь в своих собственных корыстных интересах. Многое из того, чему учила его в детстве мать, глубоко запечатлелось в его душе, хотя, возможно, он этого не осознавал. «У меня была надежда, — пишет он далее, — что, если я займу высокий пост в государстве, я смогу также трудиться, принося благо человеческим душам. Однако когда я увидел, что мое рвение принимают за честолюбие, а жизнь моя начинает клониться к закату, слабеющее здоровье напомнило, что я не могу позволить себе такую медлительность, более того, я осознал, что, не сотворив того добра, которое я один только и могу сотворить, и занявшись тем, что может быть выполнено только с согласия других и при их помощи, я ни в коей мере не отказываюсь от долга, который на меня возложен, — так вот, я отбросил все эти соображения и, преисполнившись прежней своей решимости, полностью посвятил себя этой деятельности».
Листок бумаги с этими словами, написанными на латыни, был куда-то засунут и найден только после смерти Фрэнсиса.
А сейчас, в 1601 году, ему все еще предстояло пробиваться в этой жизни наверх. Когда королева созвала парламент 27 октября, Фрэнсис, как его член, представляющий Ипсвич, твердо решил выступить и на этот раз, говоря правду и не кривя по возможности душой, не оскорбить королеву. Мог ли он предвидеть, что это будет последний созыв парламента за все ее долгое и славное правление — никакого другого правления Фрэнсис за свои сорок лет и не знал, — а если бы предвидел, то, наверное, строки латинской элегии, которую он посвятит ее памяти несколько лет спустя, слетели бы с его уст сейчас. Как бы там ни было, дела, которые надлежало рассмотреть палате общин, большой важности не представляли. Один из законов был направлен против злоупотреблений с обвешиванием и обмериванием, в другом предлагалось отменить излишне стеснительные для торговли ограничения, оба были предложены к рассмотрению высокочтимым членом палаты от Ипсвича мистером Фрэнсисом Бэконом. «Должен довести до вашего сведения, мистер спикер, что порочная практика использования неправильных показаний мер и весов распространилась повсеместно и перешла всякие границы допустимого; даже при строительстве церквей вам придется возводить стены и отливать колокола, пользуясь неправильными гирями из меди и свинца». Этот билль прошел второе чтение и был отвергнут. Что касается второго предложения Фрэнсиса — «Законы все равно что золоченые пилюли, их легко и приятно глотать, никакой горечи после них не чувствуешь, и они не расстраивают пищеварение… Чем больше законов мы принимаем, тем больше ловушек расставляем для самих себя», — то оно не вызвало ни обсуждения, ни даже комментариев; выступления высокочтимого члена парламента от Ипсвича не произвели впечатления ни 4 ноября, ни 6-го.
20-е и 21 ноября прошли в палате общин более оживленно. Был внесен законопроект, отменяющий некоторые монопольные привилегии, в связи с чем была поставлена под сомнение привилегия королевы лично предоставлять эти монополии. Фрэнсис выступил против этого законопроекта, заявив: «Я утверждаю и буду утверждать, что мы не должны ни обсуждать, ни осуждать, ни тем более отменять привилегии ее величества». Возникшие по этому поводу дебаты продолжались несколько дней и завершились тем, что ее величество решила лично встретиться с преданной своей королеве палатой общин. Эта их встреча оказалась последней. Состоялась она в королевском дворце в Уайтхолле. Невозможно вообразить себе монарха более милостивого, более благосклонного и более доброго. В руках у королевы был листок с написанной речью, но она даже не заглядывала в него.
«Нет такого сокровища, будь это самый драгоценный клад в мире, который я ценила бы выше сокровища вашей любви ко мне… И хотя Господь вознес меня высоко, самой большой драгоценностью в моей короне я считаю вашу любовь, с помощью которой я правила». Члены палаты общин опустились перед ней на колени, но она повелела им встать, и если Фрэнсиса Бэкона еще мучили угрызения совести из-за той роли, которую она приказала ему сыграть во время суда над графом Эссексом, то они навсегда улетучились. Она его королева, пусть повелевает им всю жизнь. «Никогда на моем троне не будет восседать королева, которая бы больше радела о своей стране, так пеклась о своих подданных и с такой радостью пожертвовала бы своей жизнью ради вашего блага и вашей безопасности. Ибо я желаю жить и править только для того, чтобы моя жизнь и мое правление приносили вам благо. И хотя на этом троне сидели и, возможно, будут сидеть монархи более могущественные и мудрые, среди них не было и не будет более заботливого и любящего, чем ваша королева».
От внимания сорокалетнего члена палаты общин, которого королева когда-то называла «мой маленький лорд-хранитель большой печати», не укрылось то обстоятельство, что острое политическое чутье подсказало ей два дня назад издать указ о том, что некоторая часть ранее дарованных привилегий, которые вызывали такое сопротивление в палате общин, должна быть отменена, для чего действие всех привилегий должно быть приостановлено до тех пор, пока они не будут пересмотрены, а все допущенные злоупотребления устранены. Но от этого его восхищение государственным умом ее величества лишь возросло.
Парламент был распущен через месяц, в тот самый день, когда сумма, давно обещанная Фрэнсису казначейством от взимания штрафа с Роберта Кейтсби, одного из участников заговора Эссекса, была наконец-то, к счастью, получена и переведена на счет мистера Николаса Тротта. В день, когда Фрэнсису исполнился сорок один год, то есть 21 декабря 1602 года, он мог со спокойной душой удалиться в свой дом в Туикенем-Парке в полной уверенности, что последний из его кредиторов никогда больше не переступит его порог.
23 июня суд наконец-то официально утвердил передачу всех сделок Энтони Бэкона, его имущественных прав и кредитов его брату Фрэнсису, каковой факт, по-видимому, ускользнул от внимания всеведущего Джона Чемберлена, хотя о браке мистера Николаса Тротта с некоей мисс Перинз, «аппетитной толстушкой в два раза его выше», было должным образом сообщено римскому корреспонденту Дадли Карлтону. Осенью 20 ноября леди Бэкон подписала документ, согласно которому она передавала свои пожизненные права на поместья и права на доходы от земель в Горэмбери своему сыну Фрэнсису Бэкону в знак материнской любви и привязанности, которые она испытывает к означенному Фрэнсису Бэкону. Возможно, рассудок ее и ослабел, но греческого она не забыла и написала свое имя, как писала всегда — А. Бэкон χήεα (т. е. вдова).
Фрэнсис, вступивший во владение своим наследством, но нисколько не продвинувшийся на пути к власти и по сути отстраненный от политической жизни после роспуска парламента, размышлял о будущем и понимал, что единственное, что он может надеяться совершить — не в этом году, так в следующем, — это добиться, чтобы людские умы открылись для нового понимания, для новой свободы, для новых знаний о том, почему люди поступают именно так, а не иначе, о том, какими желает видеть их Господь, и о том, что земля, по которой они ходят, вещи, к которым они прикасаются, и воздух, которым они дышат, могут помочь им найти правильный путь.
Но сначала следовало подумать о злобе дня. Длившееся восемь лет восстание в Ирландии было наконец подавлено, и испанские войска, которые поддерживали мятежников, изгнаны. Фрэнсис напишет письмо кузену Роберту Сесилу, первому министру ее величества, и предложит меры, с помощью которых можно управлять истерзанной войной страной в мирное время. Он вдохновенно исписывал страницу за страницей, хоть и знал в глубине души, что кузен небрежно пробежит их взглядом и отбросит в сторону. Что до королевы, она в них и не заглянет. Был конец февраля 1603 года. Он глядел из своего окна в Туикенем-Парке на башни стоявшего на противоположном берегу Ричмондского дворца, где жила сейчас королева со своим двором, и все острее ощущал неотвратимость судьбы, она предупреждала, что мир, в котором он живет, который он и его современники знают с рождения, очень скоро изменится. Ледяной воздух зловеще сгущался. Нескончаемый пронизывающий дождь сменился мокрым снегом. Отец Фрэнсиса простудился, сидя у открытого окна на сквозняке, и умер.
Фрэнсис вздрогнул и встал — в комнату вошел кто-то из слуг и доложил, что ходят слухи, будто ее величество нездорова. Она отказала в аудиенции французскому послу и никого не принимает, ее врачи встревожены.
Фрэнсис понял, что предчувствие не обмануло его. Погребальный покров из его давнего, времен молодости, сна, который окутал дом его отца, Йорк-Хаус, скоро опустится и на дворец Ричмонд.
Когда разнеслась весть, что ее величество проживет не больше недели, Фрэнсис понял, что пришла пора позаботиться о своем ближайшем будущем. Ни у кого не было сомнений, кто займет трон: как только королева испустит дух, шотландский король Яков VI будет провозглашен королем Яковом I Английским. Поэтому все, кто хочет попасть в милость к новому монарху и утвердиться на крутой извилистой тропе, которая ведет к вершинам власти и к месту под солнцем, сейчас непременно должны добиться расположения тех, кто будет пользоваться влиянием при новом дворе и в новом тайном совете.
Самый могущественный человек в Англии был его кузен Роберт Сесил, который в течение многих лет занимал при ее величестве пост первого министра. Кузенов никогда не связывали теплые отношения. Детское соперничество осталось в далеком прошлом, но дружба графа Эссекса с Энтони и Фрэнсисом стала непреодолимым препятствием для сближения, ведь Роберт Сесил был непримиримым врагом графа, и между двоюродными братьями уже давно установились отношения холодной вежливости. Даже volte face[2] во время процесса, когда Фрэнсису было приказано выступить в защиту короны и обвинить своего бывшего покровителя, не растопил лед.
И все равно сейчас надо попытаться залатать брешь и доказать свою лояльность. Фрэнсис не стал писать непосредственно своему кузену, он написал его личному секретарю Майклу Хиксу, который всегда был его добрым другом и союзником и, в частности, оказал Фрэнсису большую помощь, улаживая отношения в связи с выплатой долга Николасу Тротту. Вот как начиналось письмо к нему, написанное 19 марта: «Трепеща перед этим страшным приговором Господа, любой, кто испытывает те же чувства, что и я, не может не обратить свое сердце к близкому и испытанному другу… И хотя нам, простым смертным, остается лишь склонить головы и повиноваться, однако я, помня, что всегда имел счастье пользоваться Вашим любезным посредничеством, дабы донести до сведения господина министра мое искреннее расположение к нему, так и сейчас я опять прошу Вас, когда у Вас найдется время, напомнить ему, что ни к кому из тех, кого я знаю в Англии, я не питаю такой глубокой и искренней любви, как к нему, и это все, что я могу сейчас сделать, все, что могу выразить словами».
Не слишком ли пылко? Не чересчур ли даже для гиперболы? Ничего, Майкл Хикс все поймет как надо. Кто следующий? Граф Нортумберленд, который в прошлом был большим другом брата Энтони и состоял в браке с Дороти, сестрой покойного графа Эссекса. Он, как известно, поддерживал переписку с королем Шотландии, и, как только Якова провозгласят королем Англии, граф наверняка сразу же возвысится. И потому, запечатав письмо Майклу Хиксу и написав его адрес на Стрэнде, Фрэнсис сочинил письмо еще и графу Нортумберленду, но уже совсем в ином тоне. Об ожидаемой кончине ее величества он не упоминал, он признавался, что давно хотел написать его светлости, потому что «уже долгое время в моей душе живет искреннее расположение к Вашей светлости, оно родилось из высокой оценки Ваших достоинств и из благодарности за то уважение и те милости, которые Вы оказывали моему покойному брату и мне; это все возрастающее расположение и побудило меня выразить Вам мою искреннюю признательность». Почему лорд Нортумберленд? А потому, что он так же страстно интересовался наукой, как и Фрэнсис, и если во время правления нового короля кто-то из высокопоставленных особ и станет поощрять исследования во всех областях науки, так это он, на что Фрэнсис от души надеялся. «Буду говорить откровенно с Вашей светлостью… Ваши великие таланты и любовь к исследованиям и познанию предметов более высокого и благородного свойства, чем те, что наполняют нашу обыденность… стали для меня непреодолимым побуждением к тому, чтобы обратить к Вам мое расположение и восхищение. И потому, мой добрый лорд, если я могу быть полезен Вашей светлости своим ли умом, пером, средствами или друзьями, я смиренно прошу Вас принять мои услуги».
Конечно, современного читателя поразит раболепный тон письма, но нам следует вспомнить, что подобная манера обращения человека без титула к титулованной особе была в те дни не только естественной, но и обязательной, ведь даже между близкими друзьями не допускалось в переписке ни малейшего намека на фамильярность.
Следующим был Дэвид Фоулис, бывший шотландский посол, который поддерживал тесные дружеские отношения с братом Энтони, когда жил в Лондоне. Более того, через него проходила значительная часть переписки между графом Эссексом и королем Яковом VI. Написал он и Эдварду Брюсу, настоятелю монастыря Кинлосс. Отправлять эти два письма, пока королева еще жива, было бы преждевременно, но приготовить их можно заранее, а когда наступит срок, то и отослать.
Ее величество королева Елизавета скончалась 24 марта, и вечером того же дня Яков VI Шотландский был провозглашен королем Англии Яковом I. Несколько дней спустя гроб перевезли по Темзе из Ричмонда в Уайтхолл, а потом в Вестминстер, где выставили для торжественного прощания, дожидаясь, когда новый король соблаговолит назвать день похорон.
27 марта письмо Фрэнсиса к Дэвиду Фоулису находилось уже в пути, его вез на север один из членов тайного совета. Три других письма — к настоятелю Кинлосса и друзьям Энтони при шотландском дворе (в том числе доктору Морисону, который сообщал графу Эссексу важные сведения, а его частые визиты в Лондон Энтони оплачивал из собственного кармана) — были доверены сыну епископа Даремского, молодому человеку по имени Тоби Мэтью. После того как Тоби сыграл в 1595 году роль оруженосца в комедии Эссекса в Грейз инне и вызвал всеобщее восхищение своим обаянием и приятной внешностью, он стал одним из любимцев Фрэнсиса Бэкона.
Тоби вез с собой не только эти три письма. Самое важное из всех было адресовано лично королю, в нем Фрэнсис рекомендовал себя монарху как особенно ревностного слугу. Начал он письмо по-латыни — это должно быть приятно его шотландскому величеству, поскольку он слыл человеком ученым, — и после нескольких фраз скромно упомянул, что был весьма приближен к своей «любимой покойной августейшей повелительнице, государыне, счастливой во всех отношениях, особенно же вследствие того, что ей наследует такой преемник». И далее: «Меня немало укрепила в моем намерении не только надежда, что, возможно, до священного слуха Вашего Величества… дошло хотя бы малое знание о доброй памяти, которую оставил после себя мой отец, столь долго занимавший пост первого советника в Вашем нынешнем королевстве, но и в особенности знание о беспредельной преданности, которую питал к Вам мой любимый брат, служа Вашему Величеству и выказывая при этом безграничное усердие сверх меры своих сил и вопреки обстоятельствам; и если Вашему Величеству будет благоугодно явить Вашу ни с чем в мире не сравнимую благосклонность и подарить милость, стократно превосходящую заслуги всего того, что Ваш слуга способен совершить… то, я думаю, у Вашего Величества нет другого подданного, который бы так сильно любил этот остров, в чьей душе нет места двоедушию и коварству и чье сердце пламенно жаждет не только принести искупительную жертву, дабы обрести Вашу благожелательность, но и готово к огненной жертве всесожжения на службе Вашего Величества: нет у Вашего Величества подданного, чье пламя было бы более чистым и жарким, чем мое. Но как долго оно будет гореть, зависит от возможности служить Вашему Величеству».
У нас нет письменных свидетельств того, что король Яков, который выехал из Эдинбурга на юг 5 апреля, получил и прочел это письмо — несомненно, одно из сотен таких же от его верных и жаждущих милостей подданных. Однако о его существовании сплетничал весь Лондон, например, Джон Чемберлен сообщил Дадли Карлтону: «Тоби Мэтью был послан к королю с письмом младшего Бэкона, но я сомневаюсь, чтобы и послание, и посыльный встретили благожелательный прием». Возможно, этот юнец Мэтью, известный своими прокатолическими взглядами, при том что был сыном епископа, оказался не самым искусным посредником между автором письма и новым королем, который был воспитан в лоне шотландской лютеранской церкви, однако Фрэнсис, весьма чувствительный к чарам своего близкого друга и знавший, что новый государь — если только слухи не врут — способен оценить смазливое личико и стройные ноги, решил, что рискнуть стоит.
У него был еще один союзник — поехавший на север встречать короля поэт Джон Дэвис, который позднее станет генеральным стряпчим Ирландии. В письме, которое Фрэнсис адресовал ему, особенно примечателен конец. Попросив Джона Дэвиса как можно более лестно отозваться о его достоинствах перед королем, он завершает: «Надеясь на Ваше доброе отношение к пребывающим в тени поэтам, я неизменно остаюсь Вашим истинно преданным другом. Фр. Бэкон». Стало быть, о том, как он иногда проводит часы досуга, знали не только самые близкие ему люди, как, например, Тоби Мэтью…
Одновременно он пишет более серьезное сочинение — прокламацию, которая должна быть зачитана перед королем по его прибытии в Англию. Конечно, прокламация будет анонимной, но Совет, возможно, рассмотрит ее и впоследствии использует, не упоминая имени автора. Прокламацию Фрэнсис послал графу Нортумберленду, намереваясь посетить его для обсуждения лично, однако, «почувствовав легкое недомогание», он сообщил высокородному графу, что посетит его светлость на следующий день утром. Возможно, «недомогание» было следствием слабительного, которое сам Фрэнсис рекомендовал для очищения печени: «Возьмите две драхмы ревеня и настаивайте его в кларете, прокипяченном со скорлупой мускатного ореха, добавьте одну драхму полыни и продолжайте настаивать, потом сделайте пилюли с сиропом acetos simplex[3]». Впрочем, с визитом и вообще можно было не спешить. Прокламацию так никогда и не прочли.
Король приближался к своей столице неспешно. По пути его принимали почти все знатные дома Англии. Граф Шрусбери приветствовал его в Уорксопе, граф Ратленд в замке Бельвуар, потом он останавливался в Берли, резиденции второго лорда Берли, отца леди Элизабет Хаттон, в Хантингдоне и в Хартфордшире и наконец перед прибытием в Лондон, где он будет жить в ожидании коронации в Тауэре, он провел несколько дней в Теоболдзе, в поместье сэра Роберта Сесила. Его августейшая супруга, королева Анна Датская, не сопровождала его, не сопровождал и никто из августейшей семьи, их прибытие ожидалось позже. Фрэнсис выехал навстречу королю, чтобы приветствовать его, с письмом от графа Нортумберленда, но где произошла встреча, неизвестно. Скорее всего в Теоболдзе, находившемся неподалеку от Горэмбери.
Свое первое впечатление от нового монарха Фрэнсис описал в письме к графу:
«Я очень рад, что совершил это путешествие, хотя и не получил того, за чем ехал, ибо король не соизволил побеседовать лично со мной, как не побеседовал почти ни с кем из англичан. Что до речей, с которыми он обращается к некоторым аристократам, то это скорее проявление милости, чем интерес к делу… После того как Его Величество поздоровался со мной, он обещал мне личную аудиенцию, однако я, не зная, какого рода услугу может оказать мне письмо Вашей светлости, ибо не читал его, и хорошо понимая, как важна первая рекомендация, предпочел отдать его сэру Томасу Эрскину, а не держать попусту у себя в ожидании аудиенции. Ваша светлость увидит в государе полное отсутствие тщеславия, какое можно было бы ожидать, он скорее похож на правителя античных времен, а не нынешних. Говорит он быстро и свободно, однако на языке своей страны; когда речь заходит о делах, то краток; когда начинает рассуждать, то говорит пространно. Он завоевывает симпатии благодаря любезности, ибо слышал, что именно так их следует завоевывать, а не на свой собственный, ему одному присущий лад. Говорят, что, проявляя благосклонность, он никого особенно не выделяет, а его доступность, это великое достоинство, объясняют скорее тем, что он часто выезжает из дворца и о нем постоянно пишут в газетах, а не тем, что он охотно дает аудиенции и обсуждает серьезные предметы. Он торопится объединить оба королевства и их народы и, вероятно, хочет сделать это скорее, чем позволяет разумная политика. Я однажды заметил Вашей светлости, что, по моему мнению, Его Величество больше прислушивается к советам прошлого, а не грядущего. Однако выносить окончательное суждение пока рано».
Осторожная оценка, но она полностью оправдалась уже в ближайшие месяцы, во всяком случае, в отношении Фрэнсиса, который остался по-прежнему в должности ученого советника, которую он занимал при покойной королеве, что, по сути, лишало его возможности заниматься законотворческой деятельностью. Правда, король Яков сменил нескольких должностных лиц, возвысив тех, кто служил его предшественнице и пользовался большим влиянием, но, как и следовало ожидать, сохранил при своем дворе ряд своих прежних друзей-шотландцев.
Останься Энтони Бэкон жив, он, несомненно, был бы одарен большими милостями, чем его брат, благодаря хотя бы тайной переписке, которую он вел с королем в течение многих лет, и первыми актами милосердия со стороны монарха стало освобождение графа Саутгемптона из Тауэра, где тот томился после казни графа Эссекса, а также возвращение ко двору сестры покойного графа, леди Рич, и других членов его семьи. Роберт Деверё-младший, сын графа, ныне и сам граф Эссекс, будет завершать образование вместе со старшим сыном короля принцем Генри. Но вряд ли кто-нибудь из них при сложившихся обстоятельствах замолвит при дворе доброе слово за Фрэнсиса Бэкона. Да и граф Нортумберленд, судя по всему, не слишком старался расположить короля в его пользу.
Единственный знак монаршего благорасположения Фрэнсис получил в день коронации — она состоялась 23 июля под проливным дождем, — когда мистер Фрэнсис Бэкон, в числе еще трех сотен англичан, был возведен в рыцарское достоинство в Уайтхолле, — как можно предположить, за верное служение короне во время царствования предыдущего монарха. Какое впечатление на новоиспеченного лорда произвела сама коронация, он не оставил свидетельства. В городе началась чума, устроить торжественную процессию из лондонского Тауэра в Вестминстерский дворец было невозможно. Король Яков и его супруга королева Анна приплыли по реке к Вестминстерскому дворцу, где толпа не могла их видеть, и пошли пешком к аббатству. В аббатстве король, то ли от волнения, то ли от свойственной ему нелюбви к официальным церемониям, ошеломил собравшихся тем, что позволил приветствовавшему его Филиппу Герберту, впоследствии графу Монтгомери, поцеловать себя в щеку, и вместо того, чтобы сделать выговор молодому придворному, он рассмеялся и шутливо потрепал его по щеке. Да, времена поистине изменились.
После коронации король с королевой удалились в Вудсток, спасаясь от чумы, а сэр Фрэнсис Бэкон, понимая, что предстоят месяцы бездеятельности и в политической сфере, и в юридической, уехал в Горэмбери. Что же теперь? Чем он займется? Будет работать, запишет наконец какие-то из своих идей о будущем человечества. Для этого у него довольно времени, сможет он и высказать свои соображения относительно объединения Англии и Шотландии; составит обращение к королю о преодолении разногласий, грозящих сейчас расколоть церковь; напишет на латыни труд «Temporis Partus Masculus» («Время мужского рода»), из которого он завершил пока только две главы, и работа подтолкнет его к дальнейшим размышлениям. Он писал словно бы от имени человека, умудренного годами, который обращается к юноше, критиковал Платона, Аристотеля, схоластов, философов Возрождения. Не пощадил никого. Об Аристотеле он писал, что тот «превратил безумие в искусство и сделал нас рабами слов»; о Платоне — что тот «собрал обрывки заимствованных знаний, отточил их и соединил воедино»; о греческом враче Галене — что он «отнял надежду у больных, а у врачей работу». «Возьмите восточных лекарей с их шарлатанскими зельями, эти мошенники навязывают их людям, пользуясь их доверчивостью». Возникает вопрос, не считал ли он, что и его брат Энтони умер от неправильного лечения? «Но слышу, ты спрашиваешь, — продолжал он, — неужели все, чему учат эти люди, лишь ложь и надувательство? Сын мой, в этом повинно не невежество, а неудача. Мы все рано или поздно наталкиваемся на какую-то истину… Свинья может написать своим пятачком букву А в грязи, но на этом основании мы ведь не ждем, что она пойдет и сочинит трагедию… Мы не можем написать на восковой табличке ничего нового, пока не сотрем старую запись. С нашим умом все обстоит иначе: мы можем стереть старую запись лишь после того, как сделали новую».
Раздумывая о своей жизни в Горэмбери, где еще очень многое надо было устроить и где его мать уже почти не выходила из своих покоев и не могла заниматься домом и хозяйством, Фрэнсис напоминал себе, что в будущем году ему стукнет сорок три, а он все еще не женат. Элизабет Хаттон, жена генерального прокурора, была сейчас одной из приближенных придворных дам королевы Анны. Никогда в жизни ни одна женщина не привлекала его так сильно, как она. О том, чтобы искать невесту среди незамужних дочерей придворных аристократов, он не мог и мечтать. Скромное состояние, все еще не выплаченные долги, и хотя поместье Горэмбери теперь принадлежало ему, не было никакой надежды на продвижение на юридическом поприще — он был незавидный жених. И к тому же его требовательный взгляд не видел никого, кто отвечал бы его изысканному вкусу.
Нет, если уж он должен жениться — а это был бы разумный дальновидный шаг, ведь тогда за его столом в Горэмбери будет сидеть гостеприимная хозяйка, она будет также появляться с ним в Лондоне, — ему следует выбрать девушку, которая не только принесет ему хорошее приданое, но и будет достаточно юной, чтобы он смог вылепить из нее то, что ему захочется. Она должна быть хороша собой, хорошо воспитана, умна и способна приноравливаться ко всему, что он ей предложит. Она должна быть приветлива с его молодыми друзьями, такими как Тоби Мэтью, а также с некоторыми из его помощников и преданных учеников, которые толпятся вокруг него в Грейз инне и в Горэмбери, пишут под его диктовку, должна безусловно принимать его образ жизни как нечто совершенно естественное. Он вступил в средний возраст и не намерен меняться ради девушки — какой бы она ни была, — которую он решил почтить титулом леди Бэкон. Он будет щедр по отношению к ней, добр и внимателен. Он всегда любил молодых людей и предпочитал их своим сверстникам; словом, у его воображения вырастали крылья при мысли о такой перемене в жизни: в доме появится не знающее жизни юное существо, жаждущее познаний. Возможно, его преданные помощники поначалу станут немножко ревновать, но он сумеет сгладить шероховатости, все это только усилит обаяние новизны, и со временем отношения обретут новую глубину, новую гармонию.
Несколько месяцев назад Фрэнсис, обедая в своей прежней резиденции Йорк-Хаусе с Томасом Эджертоном, лордом Элсмиром, который вот уже семь лет занимал пост лорда-хранителя большой государственной печати, возобновил знакомство с вдовой олдермена Бенедикта Барнема, который был членом парламента от Ярмута и умер в 1597 году. Не прошло и года, как его вдова Дороти вышла замуж за сэра Джона Пэкингтона, которому принадлежало поместье Хэмптон-Ловетт в Вустершире и который слыл большим проказником при дворе покойной государыни, за что получил прозвище «распутник Пэкингтон». Его проделки забавляли королеву, и она произвела его в рыцари ордена Бани. Женившись, «распутник Пэкингтон» обнаружил, что кроме жены на его попечении оказались еще и четыре малолетние падчерицы. Кроме поместья в Суффолке, которое принадлежало его жене, и имения в Вустершире, у сэра Джона был еще дом на Стрэнде, что и объясняет, почему они с женой оказались в тот вечер на обеде в Йорк-Хаусе.
Пэкингтоны и Фрэнсис Бэкон обменялись визитами. Фрэнсиса познакомили с четырьмя падчерицами «распутника» — веселой стайкой девчушек, и сообщили, что покойный олдермен Барнем назначил каждой в приданое по 6000 фунтов и по 300 фунтов в год от аренды земель, каковые суммы получат их супруги после того, как девицы выйдут замуж. Самой очаровательной из всех сестер была вторая дочь Дороти Элис, ее бойкость предполагала живой ум, который с годами разовьется. После нескольких встреч Фрэнсис был так ею очарован, что незадолго до коронации, в июле, сообщил кузену Роберту, ныне лорду Сесилу, о своем намерении жениться «после получения достаточно серьезного повышения». Далее он писал о перспективе возведения в рыцарское достоинство, что доставило бы ему большое удовлетворение, и в завершение признавался кузену: «Я нашел красивую юную особу, дочь олдермена, которая отвечает моему вкусу». Что лорд Сесил подумал о предстоящем браке Фрэнсиса, в письменных свидетельствах не отражено. Поглощенный государственными делами и приготовлениями к коронации, он, несомненно, почувствовал облегчение, что кузен Бэкон спустился с небес на землю и не посягает на наследниц знатных родов. Пусть женится на дочери олдермена, если ему так хочется, совет им да любовь. Фрэнсис забыл только упомянуть лорду Сесилу, что в июле 1603 года Элис было всего одиннадцать лет.
Фрэнсису повезло, что летом и осенью 1603 года его услуги в качестве ученого советника не потребовались, иначе ему снова пришлось бы выступать от имени короны обвинителем таких лиц, как лорд Кобем, сэр Уолтер Рэли и всех, кого арестовали по обвинению в намерениях свергнуть правительство и даже низложить короля, а на трон посадить двоюродную сестру Якова леди Арабеллу Стюарт. Трудно судить, сколько было правды в обвинениях. Были повешены несколько католических священников и иезуитов, однако Рэли, несмотря на яростные обличения генерального прокурора Эдварда Коука, избег высшей меры наказания. Как и лорд Кобем — их обоих заключили в Тауэр. Жители Лондона никогда особенно не любили Рэли, но сейчас он стал народным героем, как совсем недавно был злосчастный граф Эссекс. Странное свойство английского характера: стоит властям кого-то посадить в тюрьму, как в стране поднимается волна сочувствия осужденному, при этом не важно, какое преступление он совершил, а его гонителей, наоборот, осуждают и даже ненавидят. Фрэнсис почувствовал на себе мощь этой ненависти в 1601 году, когда Эссекса приговорили к смерти. Сейчас он мог испытывать горькое удовлетворение от того, что вся тяжесть людского негодования обрушилась на Эдварда Коука, хоть его жертва и избежала плахи.
Напрашивалось сравнение с процессом 1601 года, и настал подходящий момент закончить «Апологию», посвященную покойному графу Эссексу, которую он начал еще прошлым летом в надежде восстановить отношения с семьей графа и его близкими друзьями. Письмо к графу Нортумберленду после его освобождения из Тауэра не принесло никаких плодов, поэтому Фрэнсис решил, что единственный путь к примирению — это полный, подробный рассказ о том, что происходило между ним и Эссексом, а также между ним и королевой Елизаветой (исключая некоторые подробности, которые касались его брата Энтони). Завершив «Апологию», он посвятил ее лорду Маунтджою, давнему любовнику сестры Эссекса Пенелопы Рич, который после коронации стал герцогом Девонширским. Когда покойный граф Эссекс попал в опалу, над головой Маунтджоя нависла угроза казни, но успехи в усмирении ирландских бунтовщиков отвели от него подозрения в соучастии в заговоре.
Напечатанная в 1604 году «Апология», насколько можно судить, получила широкое распространение. К сожалению, не сохранилось письменных свидетельств о том, как приняли ее современники Фрэнсиса, и тем более — что думали о ней члены семьи Эссекса, хотя столь высоко почитаемая Энтони Бэконом Пенелопа Рич, которая через год выйдет замуж за герцога Девонширского, без сомнения, ее прочла.
Придворные дамы с головой ушли в новогодние увеселения в Хэмптон-Корте, и, конечно же, у них не было времени для чтения политических памфлетов, ведь королева Анна была страстной любительницей масок и феерий. Написанная Сэмюелом Дэниелом маска называлась «Видение двенадцати богинь». Ее величество предстала в облике Афины Паллады, темноглазая и золотоволосая леди Рич в облике Венеры. Леди Бедфорд, в свите которой сколько-то времени находился француз-паж Энтони Бэкона Жак Пти, играла роль Весты. Еще одной из блистательных богинь была Элизабет Хаттон, без нее не обходилось ни одно представление. Если Фрэнсис был в числе зрителей, а это вполне вероятно, он, должно быть, думал об одиннадцатилетней Элис Барнем, глядя, как танцуют и кружатся богини и с ними веселится любимец всех дам десятилетний принц Генри, как они, кружась, передают его друг другу и аплодируют.
Однако придворных постарше все это не веселило. Вокруг его величества было слишком много шотландцев, они скверно говорили по-английски, слишком громко смеялись, скабрезно шутили, а король не находил в этом ничего предосудительного. Король Яков, без сомнения, был рад небольшой передышке перед началом важных дел, потому что через неделю, 14 января, лорды члены тайного совета и епископы получили предписание явиться к нему в Хэмптон-Корт, чтобы обсудить будущее церкви Англии и церкви Ирландии, а также молитвенник, в попытке примирить разные религиозные течения. Обсуждение продолжалось три дня, и перед его началом король произнес речь, которая, по отзывам, вызвала всеобщее восхищение; один из церковных иерархов, доктор Монтегю, потом писал, что «король вел диспут с епископами один на один, да так мудро, остроумно, с таким глубоким знанием предмета и с таким терпением, что, я думаю, никто из живущих на земле ничего подобного не слышал». Более чем вероятно, что сочинение Фрэнсиса «Умиротворение и укрепление англиканской церкви», посвященное его блистательнейшему величеству, было не просто прочтено королем, но и углубленно изучено. Однако всем угодить невозможно, и кончилась конференция тем, что король поддержал епископов Высокой англиканской церкви и не удовлетворил требования духовенства Низкой пуританской церкви, что ставило под угрозу примирение в ближайшем будущем.
Недовольство исходом конференции проявилось на заседаниях первого парламента, который был созван при новом правлении, король Яков открыл его 19 марта. Назрела необходимость обсудить много вопросов первостепенной важности, среди которых были расходы на содержание королевского двора, а также привилегии и прерогативы монарха. Те члены парламента, кто поддерживал взгляды Низкой церкви, то есть взгляды пуритан, особенно горячо выступали за реформы. Король почитал себя носителем высшей власти, дарованной ему Богом. Возможно, его предшественница Елизавета тоже была в этом убеждена, но более чем сорокалетний опыт отношений с английским парламентом научил ее, когда следует проявлять твердость, а когда уступать; и какие бы чувства лично она ни испытывала, она знала: монарх должен создавать видимость того, будто соглашается на требования верной своей королеве палаты общин. У короля Якова такого опыта не было, и он вследствие этого оказался в довольно трудном положении, невольно поддерживая палату лордов и не прислушиваясь к голосу здравого смысла, который советовал ему относиться к нижней палате с большим уважением.
Несколько комитетов палаты общин избрали Фрэнсиса своим представителем, поручив ему выступать от их имени, причем одним из самых важных вопросов этой сессии парламента было объединение Англии и Шотландии: как такой союз должен именоваться, следует ли отказаться от древнего названия «Англия» и отныне называть два объединившихся королевства «Великобританией». Последнее предложение было встречено в штыки и англичанами, и шотландцами, и Фрэнсису понадобился и весь его такт, и вся дипломатическая гибкость, чтобы не дать страстям разгореться. Споры продолжались весь апрель и май, доклады посылались из палаты общин в палату лордов и потом обратно из палаты лордов в палату общин. Наконец 2 июня был принят билль о создании комиссии для всестороннего рассмотрения вопроса о предполагаемом союзе, которая доложит о результатах своих изысканий в конце октября.
Сессия оказалась изнурительной, особенно для Фрэнсиса, и когда 7 июля в работе парламента был объявлен перерыв, он получил возможность вернуться к своим трудам и, в частности, завершить чрезвычайно труднопостигаемый опус под названием «Валериус Терминус об истолковании природы». Завершить его Фрэнсису так и не удалось, и в печати он появился только через сто тридцать лет. «Валериус Терминус» был написан по-английски и начат Фрэнсисом еще прошлым летом, его предваряло предисловие на латыни, начальные строки которого мы уже цитировали: «Страстно веря, что я рожден, дабы служить человечеству…» Опус представляет собой собрание фрагментов, написанных рукой одного из многочисленных секретарей Фрэнсиса, с примечаниями и поправками самого Бэкона.
Любопытный факт, на который обращает внимание крупнейший ученый и биограф Фрэнсиса Бэкона, Джеймс Спеддинг, что в этот период жизни почерк Фрэнсиса удивительным образом изменился: «Торопливое размашистое саксонское письмо с неразборчивыми, сливающимися друг с дружкой буквами, свойственное ему во времена Елизаветы, сменилось мелким, четким, изящным и убористым почерком, каким писали итальянцы, что начало входить тогда в моду». Это дает основания предположить, что не только ум и интеллектуальные способности Фрэнсиса постоянно изменялись, развивались и преобразовывались, но также и его личность, его характер. В самом деле, в век, когда науки еще не разделились, как сейчас, и потому считалось, что все образованные люди должны разбираться во всех областях знаний, Фрэнсис, с его всеохватным гением, намного превосходил всех своих современников: он и политический деятель, и глубокий знаток древних языков, и философ, ученый, юрист, автор эссе, сочинитель масок и шутейных комедий, — человек столь многогранно одаренный наверняка приводил своих современников в замешательство, они признавали в нем лишь один какой-то дар и не желали видеть остального. Этим, вероятно, и объясняется та неприязнь, даже страх, который он вызывал у своих современников, не способных его оценить, и скептическое отношение к нему последующих поколений. А ведь и страху, и недоверию мы можем противопоставить восхищение, даже обожание его близких друзей, которое откликнулось в наше время еще более восторженным отношением к его гению.
Любопытно пофантазировать, что извлек бы психоаналитик середины двадцатого века из лежащего в его кабинете на кушетке Фрэнсиса. Детские мечты о славе, которые зародились в его душе, когда он стоял в тени своего отца, лорда-хранителя большой государственной печати, почтительно склоняющегося перед королевой? Бунт, который в нем вспыхивал, когда появлялась мать? Неосознанную, тлевшую много лет зависть к старшему брату, которого он тем не менее искренне любил, — и потому что Энтони был дружен с Монтенем, и потому что входил в интимный кружок Эссекса — Саутгемптона? Фрэнсис Бэкон был загадкой при жизни, загадкой остался и сейчас, быть может, еще большей, потому что написал слова, которыми начинается его «Валериус Терминус»: «Страстно веря, что я рожден, дабы служить человечеству…»
Этот его труд был обнаружен в восемнадцатом веке среди бумаг графа Оксфорда и сейчас хранится в Британском музее. В более поздних трудах Фрэнсис разовьет и углубит идеи, высказанные в этих отрывках, но главная его мысль осталась неизменной и заключается в том, что Господь наградил человека даром мыслить и способностью проникать во всякое знание, важно только, чтобы он использовал этот дар для блага и процветания государства и человечества; ибо в противном случае знание всякого рода обращается во зло и искушение и, неся с собой яд коварства и злобы, наполняет ум человека надменностью, в точности как сказано в Писании: «Знание надмевает, а любовь назидает»[4]. Далее в той же начальной главе он пишет: «И потому знание, которое ищет лишь удовольствия, подобно бесплодной куртизанке, которая жаждет наслаждений и никогда не родит детей. А знание, которое ставит своей целью выгоду, карьеру и славу, подобно золотым яблокам, которые Меланион бросал под ноги Аталанте, она отбегала за ними в сторону и наклонялась, чтобы поднять, и потому проиграла состязание».
В середине августа король Яков счел, что настало время заключить договор с Испанией, и устроил для испанских посланников прием в Уайтхолле. Война между двумя странами, длившаяся с перерывами столько лет, наконец-то кончилась. Провозглашались тосты, стороны обменивались подарками, и больше всех радовалась исходу переговоров королева Анна, давно желавшая мира. Она даже сама помогала обставлять покои в ее собственной резиденции в Сомерсет-Хаусе для Хуана де Веласко, губернатора Кастилии, который возглавлял депутацию Испании.
Снова начались увеселения и танцы, маленький принц Генри по-прежнему всех восхищал. Зрители шептались, что готовится договор о брачном союзе между принцем и дочерью испанского короля Филиппа III инфантой Анной. К счастью для склонных к апоплексии придворных-пуритан, эти слухи не имели под собой никакого основания. Забавы продолжались, травили медведя борзыми, мастифы терзали быка. Это зрелище устроили явно для того, чтобы доставить удовольствие испанским гостям, и все были от него в восторге, кроме принца Генри, который очень любил животных; рассказывали, что в прошлый раз во время такой же забавы в Тауэре, когда в клетку ко льву впустили трех собак и только одну лев растерзал не до смерти, принц велел привезти собаку в Сент-Джеймсский дворец и сам помогал ее выхаживать. Такое сострадание к больным и беспомощным было одной из самых прекрасных черт этого доброго мальчика. Он, без сомнения, пришел бы в ужас, если бы ему рассказали о торжествах в Осло по случаю свадьбы его отца-шотландца и матери-датчанки, когда король Яков приказал четырем негритятам плясать обнаженными на снегу перед королевской каретой на потеху публики. Негритята умерли от воспаления легких.
Возможно, когда Фрэнсис Бэкон трудился над «Временем мужского рода», обращенным к юному ученику, и над своим «Валериусом Терминусом», он думал о том, как сформулировать столь важные для него идеи и внушить их будущему принцу Уэльскому, наследнику двух королевств.
И как раз во время визита испанских дипломатов в августе 1604 года королю Якову было благоугодно наконец-то официально утвердить сэра Фрэнсиса в должности ученого советника, которую он до сих пор занимал лишь согласно устному распоряжению. Одновременно он назначил ему содержание размером 60 фунтов в год. Небольшая сумма, по сравнению с расходами на содержание Горэмбери не более чем капля в море, но все равно это была королевская милость, стимул написать следующее сочинение, на сей раз пространное исследование — «Некоторые положения или соображения касательно объединения королевств Англии и Шотландии». Комиссия, которая была назначена в июле перед роспуском парламента для изучения этого вопроса, состояла из сорока одного англичанина и тридцати одного шотландца. Собралась комиссия в конце октября, и хотя обсуждения продолжались до начала декабря, ее члены пришли к единодушному согласию по всем пунктам, и это безусловно заслуга Фрэнсиса Бэкона. Не было ни ссор, ни стычек, все доводы принимались с большим тактом и уважением друг к другу, был решен вопрос титулования или величания короля, по поводу чего все это время кипели самые яростные страсти: отныне монарх именовался королем Великобритании, Франции и Ирландии.
На этом деятельность комиссии временно завершилась. Доклад должен был пройти обсуждение в парламенте, но слушания были отложены до следующего года. Возникла угроза новой вспышки чумы, и 24 декабря парламент распустили на десять месяцев, так что его член от Ипсвича, завершив работу по объединению королевств, мог забыть на время о делах политических.
При дворе снова начались празднества. Брат королевы Анны Ульрик епископ Шверинский и Шлезвигский приехал погостить в Англию, и его надлежало развлекать, к тому же Филипп Герберт — тот самый молодой человек, которого король так игриво потрепал по щеке во время коронации, — женился на леди Сьюзен Вир, внучке первого лорда Берли. Король сам выступил в роли посаженого отца невесты, венчались они в часовне Уайтхолла, после чего грянуло, как и положено, свадебное веселье. Одна из масок продолжалась три часа, веселились так бурно и самозабвенно, что некоторые из дам не только порастеряли драгоценности, но им вдобавок еще и юбки разорвали. Более привлекательное зрелище можно было наблюдать в последний день крещенских святок, когда маленького принца Чарлза, которому едва исполнилось пять лет, произвели в кавалеры ордена Бани, но поскольку он плохо ходил — у него была болезнь суставов, — его во время церемонии держал на руках лорд-адмирал, а клятву за него произнес кто-то из знатных сановников.
Фрэнсис знал, что палата общин не призовет его до октября, что о его матери хорошо заботятся в Горэмбери, а Элис Барнем, которой еще не исполнилось тринадцати лет, играет со своими сестрами под присмотром матери и «распутника» Пэкингтона в Суффолке или в Вустершире, и потому мог спокойно отвлечься от насущных дел и, уединившись в своей уютной квартире в Грейз инне среди книг, стопок бумаги и верных помощников, снова взяться за сочинение. На сей раз это будет большой труд, и Фрэнсис доведет этот труд до конца — «Усовершенствование наук».
«Я сделал своей вотчиной все ветви науки», — написал Фрэнсис в возрасте тридцати одного года своему дяде лорду-казначею; и вот теперь, двенадцать лет спустя, он пожелал хотя бы отчасти доказать это не только людям ученым и образованным, но и своему государю. Труд будет состоять из двух частей или книг, и на каждой будет значиться посвящение королю.
Во Фрэнсисе жило глубочайшее убеждение, что наука — удел не одних только ученых затворников, напротив, она доступна всем; и он стремился показать, какое богатство интересов откроется перед читателем, чей ум не закоснел в приверженности схоластическим традициям прошлого, но готов исследовать весь новый мир мысли с той же страстью, какая побуждала его современников плыть на край света через океан и открывать там новые земли. «Какой позор для человечества, если оно откроет гигантские пространства материального мира, материки, моря, звезды и распространит знание о них среди всех людей, и на фоне этих великих достижений ограничит свой интеллектуальный мир тем, что люди знали еще в древности».
Ему, в частности, хотелось доказать, что с самого начала истории человечества всех великих героев, полководцев, государственных мужей, правителей вдохновляло истинное знание. Вначале Бог сотворил свет, и этот свет, как представлял себе Фрэнсис, был не только светом солнца над землей, но светом знания и понимания, которые превратили дикого зверя в существо, способное мыслить и осознавать, что в том саду, где он живет, т. е. в окружающем его мире, есть все, что ему необходимо. Благодаря божественной искре, одухотворившей человека, все, что он видит, все, к чему прикасается — волны, накатывающиеся на берег, растения и деревья, которые приносят плоды, — все чему-то его учит. «Ничто не скрыто от пытливого, изобретательного ума», был убежден Фрэнсис, и в первом томе, несомненно, начатом и, возможно, законченном в конце 1604 года, он перечисляет множество библейских персонажей и исторических личностей, которые не только вели суровую и в высшей степени деятельную жизнь, но и с помощью света, который даровал им Господь, способствовали развитию познания: «первый секретарь Господа» Моисей, принесший людям десять заповедей; царь Соломон, Ксенофонт Афинский, Юлий Цезарь, Александр Великий. Воины и ораторы — Фрэнсис обращается к их примеру снова и снова, причем особенно часто цитирует Юлия Цезаря. В первом томе, рассуждая о досуге и о том, как надлежит его проводить, он приводит ответ греческого оратора Демосфена на выпад его противника Эсхина: «Этот человек, превыше всего на свете ценивший удовольствия, заявил ему, что от его речей издали разит чадом ночного светильника. Верно, согласился Демосфен, мы с тобой по-разному проводим ночи». Это был, несомненно, замаскированный выпад самого Фрэнсиса против некоторых своих друзей.
Он строго разграничивал исторические факты и укоренившиеся представления, которые слишком часто оказываются ложными; в первом томе он показал, как возникают подобные искажения — в них по большей части повинны те ученые, которые «давно перестали наблюдать природу и осмысливать опыт и самодовольно погрязли в своих собственных измышлениях». Человек, искренне ищущий истину, должен обладать всеохватной жаждой познания и без страха заглядывать в глубины самого себя, осознавать свои пороки и искоренять их, чтобы добрые качества, которыми он обладает, могли полностью развиться. «Слишком долго было бы перечислять разнообразные средства, с помощью которых знание исцеляет все недуги сознания», — замечает Фрэнсис, и в памяти простого читателя что-то отзывается, фраза кажется знакомой. «Придумай, как исцелить недужное сознанье, как выполоть из памяти печаль, как письмена тоски стереть в мозгу…»[5] Да, «Макбета», как говорят, играли во дворце только в следующем году, а напечатан он был, как и «Юлий Цезарь», лишь через семь лет после смерти Шекспира. «Слишком долго было бы перечислять разнообразные средства, с помощью которых знание исцеляет все недуги сознания; иные освобождают наш организм от дурных жидкостей, иные отворяют запоры, способствуют пищеварению, улучшают аппетит, заживляют раны».
Эти строки — великолепный образец его остроумия и его стиля. Перед глазами сама собой возникает картина: Бэкон сидит в своем кабинете в Грейз инне; вокруг него избранный круг студентов-правоведов и двое-трое самых близких друзей; и, уж конечно, один из них Тоби Мэтью. Ученый советник его величества читает вслух страницу рукописи, которую держит в руках, и время от времени бросает на внимающих ему добродушно-насмешливый взгляд своих живых светло-карих глаз.
«Я ни в коем случае не хочу, да это и невозможно, сколько бы я ни старался, изменить решение эзоповского петуха, который предпочел ячменное зерно драгоценной жемчужине; или решение Мидаса, который признал победителем музыкального состязания не покровителя муз Аполлона, а бога стад Пана; или решение Париса, который выбрал красоту и любовь, а не мудрость и власть; или решение Агриппины, которая захотела получить империю ценой чудовищного преступления (и пусть ее сын убьет мать, чтобы стать императором); или решение Одиссея, который предпочел бессмертию состарившуюся жену. Все они выбирали не яркое и прекрасное, а обыденное, заурядное; да сколько мы знаем примеров, когда побеждает привычное. Так было раньше, так остается и сейчас. Однако есть люди, которые всегда принимали и будут принимать решения, основываясь на знании, которое не предаст: „Justificata est sapientia a filiis“ — „Правоту мудрости подтверждают ее дети“».
Потом Фрэнсис с улыбкой закрывает рукопись, и начинается обсуждение, потому что он, как рассказывает его первый биограф священник доктор Рэли, который впоследствии поступил к нему на службу, «был не из тех, кто полностью завладевает разговором и не дает никому рта раскрыть, напротив, он любил, чтобы все его собеседники непременно высказывались в свой черед. И потому предлагал кому-нибудь из них рассказать о предмете, в знании которого он особенно искушен и будет рад о нем поговорить. Что до него самого, он не опровергал ничьих суждений, но зажигал свой факел от каждой свечи».
Мы не знаем, обедал ли Фрэнсис в этот период своей жизни в просторном холле Грейз инна или в своей собственной квартире в обществе избранных друзей, но он, как и его покойный брат Энтони, был большой гурман.
«В молодости он любил легкие и нежные сорта мяса, — пишет доктор Рэли, — домашнюю птицу, дичь; но постепенно вкусы его сделались более основательными, и он стал отдавать предпочтение свинине и говядине, то есть мясу, что поступает с бойни, потому что оно способствует образованию более насыщенных и стойких жизненных соков в нашем теле; в соответствии с этим он и выбирал блюда, хотя на его столе бывали не только свинина и говядина».
«Свинина с бойни» вызывает в воображении подвешенную на крюк и истекающую кровью огромную свиную тушу, которую разделывают мясники, и потом повар будет жарить мясо для стола ученого советника. Неудивительно, что «раз в неделю он принимал за полчаса до еды (не важно, был ли это обед или ужин) настойку ревеня, смешанную с белым вином и пивом, которая не позволяет организму обезвоживаться, но выводит из него грубые жидкости, ни в малой степени не отнимая ни сил, ни бодрости духа, как отнимает потение». Вероятно, злосчастное действие ревеня как раз и помешало Фрэнсису посетить герцога Нортумберленда два года назад, но со своей привычкой он не расстался. Что касается моционов, то, как сообщает нам доктор Рэли, он «любил давать небольшой отдых голове, чередуя занятия с пешими прогулками, иногда выезжал на свежий воздух в карете или верхом, иногда играл в шары», хотя эти наблюдения Рэли относятся к более поздним годам жизни его патрона, так что, возможно, в 1605 году он предавался отдыху несколько другого рода. Мы ни в коем случае не должны забывать, что Эли-плейс, он же Хаттон-Холл, где жила Элизабет Хаттон, находился совсем недалеко от Грейз инна, а эта пылкая особа и ее бывший поклонник никогда открыто не порывали отношений.
Итак, пообедав «нежными, легкими сортами мяса» в обществе своих друзей и секретарей и совершив приятную прогулку, Фрэнсис возвращался к своим трудам и продолжал писать второй том «Усовершенствования наук», который выйдет в три раза объемней первого, и даже посвящение королю станет более развернутым. Современному читателю будет особенно интересно узнать, что Фрэнсис предложил повысить жалованье профессорам и преподавателям университетов, а также учителям всех учебных заведений. Ректоры и заведующие такого рода учреждений должны, по его мнению, постоянно совещаться друг с другом, а «венценосцы и высокопоставленные особы» как можно чаще их посещать. И в посвящении, и в самом тексте второго тома Фрэнсис использует свой любимый образ: ум нужно взращивать с такой же любовью и тщательностью, с какими мы ухаживаем за садом, — свидетельство его огромной любви к садоводству, которая с годами только возрастала. Он говорит, обращаясь к королю: «Ведь если мы захотим, чтобы фруктовое дерево принесло больше плодов, чем обычно, мы не станем ухаживать за ветками, мы взрыхлим землю вокруг ствола и удобрим ее, — и поясняет: — А поскольку основателей колледжей и лекторов можно уподобить садовникам, которые сажают и поливают растения, уместно поговорить о трудностях, с которыми сталкиваются преподаватели, а заключаются они в том, что почти во всех университетах и школах их жалованье, или, если угодно, вознаграждение за труд, слишком мало, даже скудно, вне зависимости от того, что они преподают — гуманитарные ли науки или естественные». Он также выразил мнение, что «между университетами Европы должны развиваться научные связи».
Второй том посвящен всем отраслям познания: естественной истории, истории человечества, богословию, философии, натурфилософии, физике и метафизике, медицине и пр. Несмотря на колоссальный круг тем, о которых Фрэнсис рассуждает, книга читается довольно легко, и, возможно, одна из причин, почему она сейчас отошла в тень, заключается в том, что идеи, считавшиеся революционными в начале семнадцатого века, давным-давно всеми признаны и стали чем-то само собой разумеющимся. Но самое интересное и важное в «Усовершенствовании наук» — это впервые предложенное разграничение этапов научного исследования и утверждение, что истину следует искать не через откровения, а с помощью разума, и это, по сути, можно считать рождением научной философии.
Читатель, который хочет увидеть за высказанными Фрэнсисом мыслями Фрэнсиса-человека, найдет верный ключ к пониманию его характера в отдельных фразах и даже пассажах, разбросанных по всему тому; например, в одном месте он пишет, что некоторые ученые мужи «почитают зазорным для науки снисходить до изучения предметов механических», и приводит притчу о философе, «который глядел на звезды и упал в лужу: ведь если бы он смотрел вниз, он увидел бы отражение звезд в воде, но на небе среди звезд он отражения воды не увидел».
Особенно большое внимание Фрэнсис уделяет искусству врачевания. «О юристе судят по тому, как он ведет дело, а не по тому, насколько правое или неправое дело он защищает. Кормчего ценят за то, что он правильно определяет курс судна, а не за то, сколько ценных товаров его судно привезло из плавания. Но у врача, как, вероятно, и у политического деятеля, нет возможности наглядно продемонстрировать свои таланты, их по большей части оценивают по исходу дела, а тут никто никому не указ: ведь разве можно с уверенностью сказать, действительно ли больной выздоровел благодаря искусству врача, а страну спасло искусство дипломата или и то и другое чистая случайность? И потому мы повсеместно видим, как шарлатанов прославляют, а людей истинно знающих подвергают гонениям. Людская глупость и людское легковерие безграничны, и потому люди часто обращаются за помощью не к образованному врачу, а к знахарю-шарлатану или колдуну». Явный выпад в адрес лекарей-проходимцев, каких в те времена водилось великое множество, а уж о нынешнем времени и говорить не приходится.
Через несколько страниц он поднимает тему, которая часто обсуждается в медицинских кругах сегодня. «А еще я хочу сказать, что долг врача не только восстанавливать здоровье, но также облегчать боль и душевные страдания; и не только в тех случаях, когда облегчение боли способствует выздоровлению, но и когда оно поможет человеку быстро и без мучений умереть. Рассказывают, что когда болезнь Эпикура сочли неизлечимой, он принял яд и залил свой желудок вином до полного отупения и бесчувствия, по каковому поводу была сочинена эпиграмма, что он был так пьян, что не смог почувствовать, как горьки воды Стикса. Лекари же, напротив того, почитают своей священной обязанностью продолжать лечить больного, когда уже ясно, что он обречен; я же полагаю, что они должны призвать на помощь все свои знания и применить их, дабы утишить боль и сократить агонию умирающего». Неудивительно, что Фрэнсис назвал этот отрывок «Об эвтаназии в конце жизни». Кто знает, не думал ли он снова о своем брате Энтони?
Но постараемся удержаться от соблазна приводить выдержки из этой удивительнейшей книги… однако во втором томе мы неожиданно видим, что он вновь возвращается к болезням телесным и замечает: «Итак, при лечении недугов разума, которые есть не что иное, как смятение чувств и кипение страстей… — И продолжает через две страницы: — Разве не стоит прислушаться к суждению Аристотеля, который говорит, что юноши глухи к моральной философии, потому что в них еще кипят и пылают страсти, которые время и опыт не успели остудить». И пытливый читатель не может не спросить: «Да, конечно, но кто сказал то же самое в стихах?» Гектор в «Троиле и Крессиде», напечатанной четыре года спустя:
В «Усовершенствовании наук» у Фрэнсиса есть глава «О поэзии», и любопытно — она одна из самых коротких. Он пишет: «В этой третьей области познания, которой является поэзия, я не вижу никаких изъянов. Ибо она подобна растению, которое рождено не семенем, а животворящей силой земли, оно поднялось выше всех остальных и разрослось повсюду». Заканчивается эта глава словами: «Однако слишком долго оставаться в театре вредно». Что эти слова означают? Вредно кому? Писателю, который не должен позволять своему воображению увлекать себя, потому что ему надлежит трудиться над чем-то более важным? Вот так резко обрывается эта глава, далее автор переходит к «дворцу разума». И наконец, завершая книгу, пишет: «С меня довольно того, что я настроил инструменты Муз, пусть теперь на них играют другие, более искусные руки».
«Усовершенствование наук» было подготовлено к печати осенью 1605 года, в октябре, его издал Генри Томз и продавал в своей лавке у Грейз-Инн-Гейт в Холборне. Фрэнсис послал несколько сигнальных экземпляров графу Нортгемптону (бывшему ранее лордом Гарри Говардом, другу графа Эссекса и его, Фрэнсиса, старшего брата Энтони) с просьбой поднести книгу его величеству. Послал он их также лорду-канцлеру Элсмиру, который в свое время представил его сэру Джону и леди Пэкингтон; лорду-казначею Бакхерсту; кузену Роберту Сесилу, который носил ныне титул графа Солсбери и был назначен канцлером[7] Кембриджа; и, конечно же, Тоби Мэтью, который в это время находился в Италии, — он уехал за границу еще в апреле и путешествовал по Европе. Письма Фрэнсиса, адресованные высшим по званию и статусу лицам, были выдержаны в соответствующем официальном тоне, а вот с молоденьким Тоби можно было позволить себе непринужденность: «Я наконец-то научил уверенно ходить дитя, которое при Вас делало первые робкие шаги. Я разделил свое сочинение „Достоинства и усовершенствование наук“ на две части, из коих первая, та, которую Вы читали, является лишь вступлением ко второй. Я только что опубликовал их обе и счел возможным немного развлечь вас и отправить экземпляр Вам, ибо Вы имеете на это больше прав, чем кто-либо другой, не считая епископа Эндрюса, который был моим советчиком и критиком». (Доктор Ланселот Эндрюс был старинный друг Фрэнсиса, настоятель Вестминстера, которому вскоре предстояло стать епископом Чичестерским, Бэкон не раз посылал ему свои рукописи, желая знать его мнение.)
Фрэнсису казалось, что он удачно рассчитал время публикации — как раз перед началом сессии парламента, но, к несчастью, вмешалась судьба, которая испокон веков преследует писателей, подгоняя важные политические события к моменту выхода книги. Был раскрыт заговор, имевший целью взорвать парламент в день его открытия пятого ноября, когда и палата общин, и палата лордов соберутся приветствовать его величество. Тут уж обществу стало не до «Усовершенствования наук» — двухтомного труда Фрэнсиса Бэкона, без сомнения, достойного лучшей участи. Увы, единственное упоминание о них мы находим в письме Джона Чемберлена, вскользь сообщившего своему корреспонденту, что «сэр Фрэнсис Бэкон написал еще одну книгу». «Великое пороховое предательство», вошедшее в историю как Пороховой заговор или Пороховой бунт, не только заставило обе палаты парламента забыть обо всех остальных делах, но и вытеснило из умов и сердец верноподданных граждан королевства все прочие мысли и заботы.
Фрэнсис благодарил судьбу, что его величество остался жив, равно как и он сам, и все члены палаты общин и палаты лордов, и не слишком сокрушался по поводу того, что труд, которому он посвятил больше десяти месяцев, не был замечен. Надо перевести оба тома на латынь, на латыни общались все ученые того времени, и распространить по всей континентальной Европе, где его книгу скорее поймут и оценят. В ближайшем будущем он найдет время, когда представится возможность, и разовьет все идеи, изложенные в «Усовершенствовании наук», в еще более основательной работе, которую напишет полностью на латыни.
Все участники великого Порохового заговора были арестованы, заключены в тюрьму, подвергнуты суду, приговорены к смерти и казнены; казни происходили в последние два дня января 1606 года. Заговорщики не могли надеяться на скорую милосердную смерть, их приговорили повесить, проволочить по улицам и четвертовать. Среди казненных были сэр Эдвард Дигби, который во время своего выступления на суде высказал симпатии к католической церкви; Гай Фокс, он же Джонсон, он же Гвидо Фокс, который заявил, когда его поймали в подвале под зданием парламента возле тридцати бочек с порохом, что отчаянное положение в стране требует отчаянных мер, и признался, что желал взорвать короля, чтобы все шотландцы убрались восвояси, в Шотландию. Такое признание на суде в присутствии короля Якова, чей собственный отец лорд Дарнли был точно таким же способом убит в Кирк-о-Филде в 1567 году, когда Якову был всего один год, вряд ли позволяло ожидать снисхождения от монарха, который всю свою жизнь жил в страхе, что его убьют.
5 ноября было объявлено отныне национальным праздником в благодарность за избавление его величества от смерти, и по всей стране стала разгораться ненависть к папистам. Аресты продолжались, обыскивали дома тех, кто был известен своими прокатолическими взглядами, двадцать первого января на рассмотрение парламента был внесен законопроект о преследовании диссидентов — так называли тех, кто отказывался присутствовать на богослужениях в англиканской церкви.
Фрэнсис не принимал участия в процессе над заговорщиками, однако палата общин избрала его членом комиссии по рассмотрению правовых оснований для наказания диссидентов, и весь февраль, весь март и апрель он был занят, присутствуя на заседаниях различных комиссий.
Снова всплыл щекотливый вопрос о субсидиях королю, и, вероятно, для короля Якова оказалось большой удачей, что 22 марта во время обсуждения субсидий пронесся зловещий слух, будто его величество закололи в постели! Слух был ни на чем не основан, его тут же опровергли в прокламации, но он возымел должное воздействие и смягчил тех членов парламента, кто ранее не был склонен предоставить королю право дополнительных сборов. Откуда возник этот слух, неизвестно, но Роберт Сесил, граф Солсбери был тонкий дипломат, искушенный в политических интригах, и, возможно, это он рассудил, что верной своему королю палате общин стоит именно сейчас напомнить о событиях четырехмесячной давности. Некоторые современные историки даже утверждают, что Пороховой заговор был не более чем выдумкой графа Солсбери, который хотел нагнать страх на короля, но подобное мнение не имеет документальных подтверждений, и к тому же было бы несправедливо обвинять государственного деятеля, чья верность и преданность монарху никогда не подвергались сомнению. Как бы там ни было, все быстро оправились от испуга, в церквах зазвонили колокола, люди выбегали на улицу и радовались, что король Яков жив, а Фрэнсис Бэкон обратился к своим коллегам в палате общин с призывом утвердить законопроект о субсидиях и возблагодарить Господа, что его величество цел и невредим и в добром здравии.
Пока Фрэнсис писал «Усовершенствование наук» и сейчас, во время текущей сессии парламента, он все больше и больше сближался с сэром «распутником» Пэкингтоном и леди Пэкингтон. Делал он это с очевидной целью — добиться их согласия на его брак с дочерью леди Пэкингтон Элис, хотя трудно представить, что у него могло быть что-то общее с ее родителями, людьми столь несхожими с ним и характером, и интересами. Возможно, их сближала любовь к строительству и к садоводству. «Распутник» построил себе дом, Уэствуд-парк, в Хэмптон-Ловетте, и вырыл перед ним огромный пруд, что вызвало недовольство соседей, которые сочли, что он находится в опасной близости к королевской дороге. Кто даст Пэкингтону лучший совет относительно этого самого пруда и его, Пэкингтона, прав, чем ученый советник Фрэнсис Бэкон, друг лорда-хранителя печати и лорда-канцлера Элсмира? И вдобавок кто лучше разберется в другом его споре, теперь уже с лордом Зушем, который заявляет, что все графство Вустершир подведомственно ему, хотя он, «распутник», является шерифом города Вустера?
Эта усадьба и злосчастный пруд, без сомнения, были поводом для сближения вспыльчивого «распутника» Пэкингтона и Фрэнсиса, который постоянно обдумывал всякие нововведения и в своем поместье Горэмбери. Представим идиллическую картину: два джентльмена прогуливаются по парку, «распутник» кипятится, что его хотят ущемить в правах, Фрэнсис согласно кивает, предлагая разные дипломатические ходы, и про себя отмечает, что падчерица его хозяина Элис еще больше похорошела. Хэмптон-Ловетт находился в 25 милях от Стратфорда-на-Эйвоне, который Фрэнсис проезжал, направляясь в Лондон и возвращаясь обратно, и в котором Уильям Шакспер купил в 1605 году за 440 фунтов у короны право взимать в течение тридцати одного года церковную десятину с жителей Стратфорда и окрестных деревень.
Осенью 1605 года или, возможно, в начале 1606-го Фрэнсис Бэкон пришел к соглашению с сэром Джоном и леди Пэкингтон относительно будущего мисс Элис Барнем, которой по завещанию отходило наследство в 6000 фунтов, а также 300 фунтов в год из доходов от земель. Брачный контракт, датированный 10 мая 1606 года, передавал Элис в пожизненное пользование поместья Горэмбери, Уэствик и Прей, включая права на доходы от местечек Сент-Майкл и Редберн, причем оценочная стоимость этих прав составляла 300 фунтов в год. Если Фрэнсис умрет первым, ей доставались «сделки и ценности стоимостью 1000 фунтов, с одеждой, бельем и украшениями, и такие драгоценности, которыми она будет владеть во время замужества, за исключением драгоценностей стоимостью свыше 100 фунтов каждая. Если же он ее переживет, поместья отойдут ему и их детям, если же детей не будет, то поместья отойдут его семье в распоряжение управляющих».
Отец Элис Бенедикт Барнем составил завещание незадолго до своей смерти. Элис на тот час было пять лет, десять месяцев и тринадцать дней. Когда она вышла замуж за Фрэнсиса Бэкона — которому было сорок пять, — ей, согласно выкладкам его преподобия К. Мура, сообщившего о них в 1937 году в «Родословной книге», «до четырнадцати лет не хватало двенадцати дней». Возможно, здесь он слегка ошибся, и десятое мая было как раз днем ее четырнадцатилетия. Никого не смущала чрезвычайная молодость невесты — ни досужих любителей толков и пересудов, ни более поздних биографов Фрэнсиса Бэкона, включая Джеймса Спеддинга и У. Хепуорта Диксона. Единственным из современников, кто оставил письменное свидетельство о бракосочетании, был Дадли Карлтон, который написал на следующий день, т. е. 11 мая, Джону Чемберлену: «Вчера сэр Фрэнсис Бэкон обвенчался со своей юной невестой в Марилебонской церкви Девы Марии. Он был с головы до ног в пурпурном, на нем и на его жене были поистине роскошные одеяния из золотой и серебряной парчи, на них пошла изрядная часть ее приданого. Ужин был устроен в доме его тестя сэра Джона Пэкингтона на Стрэнде, что находится напротив больницы „Савой“[8]; самыми почетными гостями были три рыцаря — Хоуп, Хикс и Бистон (сэр Майкл Хикс, сэр Уолтер Хоуп и сэр Хью Бистон, все трое члены парламента); по каковому поводу он в своем тщеславии заявил, что поскольку милорд Солсбери не может посетить его лично, он принимает у себя его полномочных представителей».
То, что Фрэнсис выбрал пурпурный цвет для свадебного наряда, не может не интриговать. Пурпур носили римские императоры и персидские цари. Возможно, в своем воображении он видел себя Юлием Цезарем или Дарием. Нет никаких письменных свидетельств относительно того, кто еще был приглашен на свадьбу и где молодые супруги проводили медовый месяц, — если он у них вообще был. Туикенем-Лодж представляется более подходящим жилищем, чем Горэмбери, ввиду того, что 13 мая Фрэнсису предстояло зачитывать перед его величеством «Жалобу на злоупотребления» — не свою собственную, а жалобу преданной своему монарху палаты общин. К тому же башни дворца Ричмонд на противоположном берегу Темзы, которые так хорошо были видны из Туикенем-Лоджа, наверняка показались более привлекательным зрелищем молодой жене всего-то четырнадцати лет от роду, чем торжественные покои и галерея Горэмбери, особенно если учесть, что поездка в Хартфордшир сулила ей встречу со свекровью, вдовствующей леди Бэкон, которая жила затворницей на своей половине и наверняка была бы обескуражена появлением «юной новобрачной» в серебряной и золотой парче.
Итак, брачная ночь наступила и прошла, оказалась ли она счастливой или неудачной — нам никогда не узнать. Было бы цинично предполагать, что суждения Фрэнсиса в написанном позднее эссе «О браке и холостой жизни» относятся к Элис: «Для человека молодого жена — любовница, для мужчины зрелых лет — подруга, для старика — сиделка. Мужчина женится, чтобы иметь возможность ссориться, когда появится желание; и все же не зря сочли мудрецом человека, который на вопрос, когда мужчине следует жениться, ответил: „Юноше слишком рано, старику вовсе не следует жениться“».
Однако в сочинении на латыни, которое он напишет через год после свадьбы — «Cogitata et Visa de Interpretation Naturae» («Размышления и умозаключения касательно истолкования природы»), — есть любопытный пассаж, где он вспоминает Сциллу из греческого мифа: «У нее женское лицо и туловище, но чресла опоясаны лающими псами. Точно так же эти доктрины сначала являют нам прекрасное лицо, но безрассудного влюбленного, который устремится к соитию с ними в надежде зачать ребенка, прогонят воплями и визгом». У Фрэнсиса Бэкона и Элис Барнем не было детей…
Двадцать седьмого мая в работе парламента был объявлен перерыв до шестнадцатого ноября, так что в распоряжении молодого мужа оказалось целых полгода, чтобы оказывать знаки внимания своей юной супруге и добиваться если не пылкой любви с ее стороны, то хотя бы доброго расположения. Возможно, визит ко двору поможет делу. В начале июля в Лондон приехал погостить брат королевы Анны король Дании Христиан. Он сошел на берег с флагманского корабля в Грейвзенде, где его встретили его зять король Яков и племянник принц Генри и потом отвезли его на своей королевской барке в Гринвич. Бедняжка королева Анна с трудом оправилась после родов и смерти дочери, которая прожила всего несколько часов, и все надеялись, что приезд короля Дании поможет ей пережить утрату. Король проехал в торжественной процессии по улицам Лондона, после чего августейшему гостю были устроены самые разнообразные развлечения и увеселения — ему показывали собор Святого Павла, Вестминстерское аббатство, Тауэр с обязательным зрелищем травли медведя мастифами, потом была соколиная охота, охота на вепрей и оленей…
Граф Солсбери устроил в Теоболдзе великолепный прием в честь сразу двух королей — Якова и Кристиана с их свитами, хотя королева Анна не приехала. Вполне возможно, что Фрэнсис и его жена тоже были приглашены, ведь они были родственники графа, и если они в самом деле присутствовали на торжественном приеме, Фрэнсис, вероятно, счел своим долгом спустя короткое время увести оттуда свою юную супругу. Обед прошел благополучно, но за ним последовала маска, в которой должно было изображаться, как царица Савская приехала к царю Соломону. К несчастью, придворная дама, игравшая роль царицы Савской, проявила слишком большую неумеренность за трапезой и, когда стала подносить дары королю Дании, споткнулась на ступеньках и вылила ему на колени и вино, и сливки, и желе.
Король Дании, который тоже «отдал дань винам», обтерся и пригласил даму на танец, однако растянулся на полу и был унесен в дальние покои отдохнуть. Маска продолжалась, ее участники пьянели все больше, они уже не стояли на ногах, падали и засыпали, кому-то удавалось добрести до холла, где их начинало отчаянно рвать. Последняя лицедейка, долженствующая изображать Мир, впала в такое буйство, что пожелала драться со всеми, кто стоял у нее на пути, и колотила их по голове оливковой ветвью. Истории неведомо, что думал обо всем этом незадачливый хозяин, но его отец, великий государственный муж лорд-казначей Берли наверняка перевернулся в гробу.
Что до Фрэнсиса, то он надеялся получить повышение в нынешнем июле, потому что пост генерального стряпчего должен был, как ожидалось, освободиться. Его давний соперник Эдвард Коук получил должность главного судьи по гражданским искам, а новым генеральным прокурором стал сэр Генри Хобарт. Однако место генерального стряпчего все еще продолжал занимать Сарджент Додридж, так что ученого советника Фрэнсиса Бэкона, как и всегда, постигло разочарование. Тем не менее он был осведомлен, что в не слишком отдаленном будущем возможны перемены, и написал письма его величеству, лорду Солсбери и лорду-канцлеру с изъяснением своих надежд.
В его письме к лорду-канцлеру Элсмиру, который в свое время познакомил его с семейством Пэкингтонов, мы находим первое упоминание о его женитьбе среди всей его переписки того времени. «И потому, мой добрый лорд, я смиренно молю Вашу светлость взять в рассмотрение, как драгоценно для меня сейчас стало время, ведь в тот день, когда мужчина вступает в брак, он в своих помыслах становится старше на десять лет. И может ли не лишать меня душевного покоя моя неустроенность?» В конце письма он снова упоминает о своей жене: «Скажу в заключение, что, как благородная миледи, Ваша супруга способствовала тому, что я дал другое имя некоей молодой особе, так и Вы, если Вам будет благоугодно помочь мне, что Вы и обещали, сможете изменить мой статус, я же буду бесконечно, до конца моих дней признателен Вам; и если Ваша светлость не встретит у его величества благожелательного отклика, а у милорда Солсбери доброй поддержки, я буду несказанно огорчен».
Не сохранилось никаких письменных свидетельств о том, какой ответ получил Фрэнсис, но доподлинно известно одно: никаких изменений в положении Фрэнсиса в то время не произошло.
Второе упоминание о том, что он женат, встречается в письме к его кузену Томасу Хоуби от 4 августа 1606 года, в котором он пишет о смерти их общего друга. После выражения печали Фрэнсис говорит: «Благодарю Вас за сердечные поздравления по поводу моего избавления от одиночества, как Вы это назвали. Кто, как не Вы, способны оценить радости семейной жизни с доброй женой, в чем я не смею сравнивать себя с Вами. Но я благодарю Господа, что не попал из огня да в полымя. В каком-то отношении моя жизнь стала лучше, поэтому я не нахожу поводов жаловаться. Но об этом мы поговорим пространнее при встрече, и эта встреча будет особенно радостной, если миледи осчастливит нас своим музицированием; молю Вас передать ей мои самые добрые чувства».
Томас Постъюмес Хоуби, младший сын тетки Фрэнсиса Элизабет Расселл, женился на богатой вдове с имениями на севере Англии и потому был вполне доволен своей судьбой. У него тоже не было детей; его северные соседи любили посмеиваться над ним и называли Джек Длинный Нос за то, что он вечно лез не в свои дела. Будем надеяться, что кузены свиделись за обедом, представили друг дружке своих жен и что жены усладили их слух музицированием; возможно, Элис играла на клавесине.
Где жили Фрэнсис и Элис, когда парламент созывался на сессию, остается для нас тайной. Фрэнсис, без сомнения, продолжал пользоваться своей квартирой в Грейз инне, но супругу он вряд ли брал с собой туда, тем более что в феврале 1607 года, когда палата общин собралась после рождественских каникул, ему предстояло очень много трудиться. Туикенем-Лодж ему больше не принадлежал, в 1606 году он перешел в собственность графини Люси Бедфорд. Возможно, «распутник» Пэкингтон, который отчаянно ссорился со своей супругой, матерью Элис, как раз в это время расстался с ней — по слухам, после самого безобразного скандала — и предоставил свой дом на Стрэнде в распоряжение падчерицы и зятя. Сельский житель и по склонностям характера, и по натуре, он предпочитал свое поместье в Хэмптон-Ловетте шуму и суете Стрэнда, а леди Пэкингтон, дама со столь же неуживчивым характером, как у него, да еще и с целым выводком маленьких Пэкингтонов (плоды ее союза с «распутником»), которых надо было поднимать, плюс ее собственные дочери от Барнема, скорее всего удалилась в принадлежащее лично ей имение в Суффолке. Теперь Фрэнсис на собственном опыте ощутил, в какой ад превращают нашу жизнь родственники, при том что времени у него было в обрез, ведь в палате общин предстояли жаркие дебаты относительно объединения подданства жителей двух королевств.
Страсти по этому поводу полыхали. Естественно, что после восшествия на престол его величества с севера через границу хлынул поток шотландцев, и представители самых разных сословий видели, что они занимают земли, получают должности и привилегии, которые по праву принадлежат англичанам. Гвидо Фокс был не единственный, кто желал выдворить из Англии всех шотландцев до единого.
Забавно, но положение в стране напоминало нынешнее время, ведь согласно закону подданные Британского содружества имеют право получить английское гражданство и жить в Англии, но это вызывает такой же бурный протест, какой вызывало почти четыреста лет назад. Члены парламента, не желавшие объединения Шотландии и Англии, были и против предоставления подданства даже тем шотландцам обоих королевств, которые родились при жизни королевы Елизаветы и пользовались равными с англичанами правами. Фрэнсис, который был горячим сторонником и объединения королевств, и объединения подданств, произнес одну из самых долгих речей за всю свою политическую карьеру в ответ на выступление депутата от Бакингемшира, который весь день, от начала заседания и до его конца, поносил все шотландское. Кому, вопрошал он, удастся объединить два разных роя пчел? Зачем же в таком случае пытаться объединять два враждующих народа? А если бы королева Мария родила сына от короля Испании Филиппа, парламент что же, предоставил бы подданство жителям Сицилии и Испании?
Фрэнсис взял слово 17 февраля во вторник и, судя по числу страниц его написанной речи, говорил он несколько часов и, видимо, не прерываясь. Начал он с того, что отмел все опасения, что якобы шотландцы, переселившиеся в Англию после восшествия на престол Якова I, грозят вытеснить англичан из их собственной страны. «Мне бы хотелось узнать, сколько именно шотландцев переселилось за эти четыре года в города, городки и совсем маленькие городишки нашего королевства, — говорил он. — Я более чем убежден, что если кто-то захотел бы сделать подобную перепись, естественно, не включая в нее высокопоставленных лиц, окружающих особу его величества здесь, при дворе, и живущих в Лондоне, а также людей более низкого звания, которые им служат, то список оказался бы чрезвычайно коротким».
Он сообщил спикеру палаты, что «территория английского королевства заселена далеко не полностью… но даже если бы королевство было полностью заселено, все равно было бы невозможно уступить и отдать права рыбной ловли фламандцам, что мы, как хорошо известно, делаем». (Это был выпад в адрес рыбаков континентальной Европы, которые истощали рыбные запасы Ла-Манша в ущерб улову наших собственных рыболовецких судов. А ведь это и по сей день яблоко раздора между нами!)
Единственным серьезным препятствием для объединения гражданств было то, что законы в двух королевствах были разные. «Что касается лично моего мнения, господин спикер, то я желаю, чтобы народ Шотландии подчинялся нашим законам, — заявил Фрэнсис, — ибо я считаю наши законы, пусть с некоторыми поправками, достойными того, чтобы им подчинялся и весь остальной мир. Но сейчас я утверждаю… что по подлинному смыслу правил престолонаследия сначала должно произойти объединение подданств жителей и уже потом унификация законов… Ибо такое объединение подданств снимает с человека клеймо иностранца, а союз законов сделает их совершенно такими, как мы».
Возможно, один из самых убедительных и наиболее красноречиво изложенных доводов в пользу единого гражданства был продиктован опасением, что, если оба королевства объединятся без этой дополнительной гарантии, то в случае распада союза, а такое не раз случалось в истории, народы разделятся или начнут бунтовать. Фрэнсис привел в качестве примера Древний Рим, Спарту, из более поздних времен — Арагон в Испании, Флоренцию и Пизу, Османскую империю. «Не хотелось бы мне оказаться пророком, — продолжал он, — но я убежден, что если мы не проведем объединение подданств, пусть даже не во время правления его величества, которому так дороги оба народа, а при монархах, которые взойдут на трон после него, то над нашими королевствами будет висеть постоянная угроза раздела и вражды».
Еще более насущной задачей он считал гарантии безопасности страны. «Что касается безопасности, уместно вспомнить замечательно точные слова Тита Квинтия по поводу Пелопоннеса, когда он сравнил государство с черепахой, которая неуязвима, если полностью спрячется в своем панцире. Но стоит ей выпустить наружу хотя бы кончик лапы, и она погибла».
В заключение Фрэнсис произнес: «Я выполнил свой долг. Решение будете принимать вы. Да направит вас Господь на благой путь».
Возможно, именно об этой речи, а также о других, произнесенных Фрэнсисом позднее, думал его друг и современник драматург Бен Джонсон, когда писал о Бэконе впоследствии: «Я не знаю другого человека, который умел бы говорить столь же ясно, горячо и убедительно, никогда в его речах никто бы не нашел ни одного ненужного, пустого слова. Каждая фраза была продумана и отточена до совершенства. Его слушали затаив дыхание, не в силах оторвать от него взгляд; упустить хоть одно слово было бы потерей. Он повелевал теми, перед кем выступал, в его воле было вызвать в нас гнев или радость. Никто другой не обладал такой властью над чувствами людей. Все, кто когда-либо его слушал, боялись лишь одного — что он умолкнет».
Обсуждения продолжались весь февраль и март, дело направлялось то судьям верхней палаты, то возвращалось от них обратно в нижнюю, и проблема объединения подданств увязла, выражаясь современным языком, в спорах о том, как увязать ее с существующими законами, и о том, должны ли шотландцы, рожденные после коронации Якова, быть уравнены в правах с англичанами или следует делать различие между теми, кто родился после коронации, и теми, кто родился до нее.
Перед пасхальными каникулами его величество лично обратился к парламенту, выразив вполне естественную надежду, что преданная своему королю палата общин примет закон об объединении подданств и что в положенный срок союз двух королевств будет заключен. Его ожидало разочарование. Оба вопроса были отложены на неопределенное время. Единственный согласованный обеими палатами билль, касающийся объединения подданств, который гарантировал дальнейшие слушания, был связан с отменой законов двух королевств, которые противоречили друг другу, да и тот был принят лишь 30 июня. Что же до закона об объединении двух королевств, то дожить до его принятия не было суждено ни его величеству королю Якову I, ни его ученому советнику Фрэнсису Бэкону, который так красноречиво доказывал его необходимость. Как и преданным своему королю членам палаты общин. Пройдет больше ста лет, прежде чем Англия и Шотландия станут официально единым королевством.
Возможно, Фрэнсис не достиг своей цели, но его рвение наконец-то произвело впечатление на государя. Двадцать пятого июня, перед самым закрытием сессии, он стал генеральным стряпчим, получив место, которого дожидался тринадцать лет. Наконец-то его повысили — и должность эта, кроме повышения, давала тысячу фунтов в год. Фрэнсис вступил на извилистую тропу, которая ведет к вершинам власти.
Повышение статуса не принесло Фрэнсису ожидаемого удовлетворения. Об этом свидетельствует запись, сделанная в июле следующего года в его дневнике, не предназначенном для чужих глаз — этот дневник был обнаружен лишь в 1848 году, — где он коротко рассказывает о своем настроении после получения поста генерального стряпчего: «Теперь, когда фортуна повернулась ко мне лицом, я стал еще более склонен к меланхолии и хандре, особенно во время долгих каникул, когда не с кем разделить общество и нет общих дел, ибо, получив место генерального стряпчего, я стал ощущать, что самочувствие мое ухудшается и усиливается тревога…»
Он перечисляет симптомы, которые «наблюдал у себя много лет назад, словно проснулся с похмелья: отвращение к мясу, разбитость, головокружение и пр.». Склонность к ипохондрии, от которой страдал брат Энтони, начала овладевать и им, и в дневнике часто встречаются рецепты от несварения, расстройств желудка и «дурных туморов» — словом, чуть ли не от всех болезней, которые влияют на состояние нашего внутреннего «я».
Одной из привычек, которую он никак не мог побороть, был послеполуденный сон или же сон сразу после обеда, который «вызывает вялость, тошноту, озноб». Он просыпался от болей в боку или в животе ниже пупка, избавиться от них можно было или приняв касторового масла, или переменив положение. Присутствие молодой жены в такие минуты явно не улучшало его состояние, а лишь еще больше раздражало. К счастью, к тому времени сестра Элис Дороти, которая была моложе ее на год, тоже нашла себе мужа, некоего Джона Констебла, молодого адвоката из Грейз инна, которого хорошо знал Фрэнсис. Они поженились в 1607 году, и его величество, явно по просьбе своего нового генерального стряпчего, в октябре возвел молодого мужа в рыцарское достоинство. За какие заслуги Джону Констеблу была оказана такая честь, мы не знаем, однако поскольку сестры и зятья были дружны, Фрэнсиса больше не мучили угрызения совести в отношении его собственной жены. Когда Элис хотелось развлекаться, а он был не в духе, Констеблы брали ее с собой.
К его заботам и тревогам прибавилась еще одна: его молодой друг Тоби Мэтью, принявший в Италии католичество, что до сих пор сохранялось в глубокой тайне, в августе 1607 года вернулся в Англию. Поскольку он был сыном нынешнего архиепископа Йоркского, эту тайну вряд ли удалось бы долго сохранить; и как ни мучительно это было генеральному стряпчему, его долгом было сообщить архиепископу Кентерберийскому доктору Банкрофту, что молодой человек не только находится сейчас в Лондоне, но и твердо намерен оставаться в католическом вероисповедании. Тоби, красивый, остроумный, до нынешнего возвращения не слишком глубоких познаний, уехал против воли родителей в Европу путешествовать, жил во Флоренции, в Сиене, в Риме и теперь прекрасно говорил по-итальянски. Во время своих странствий и, возможно, под влиянием иезуитов Тоби повзрослел, и хотя Фрэнсис не мог простить ему его католического отступничества, это был именно тот интеллект, в котором он так нуждался, чтобы помочь ему выйти из очередного приступа меланхолии и начать обсуждать «Cogitata et Visade Interpretatione Naturae» («Мысли и заключения относительно истолкования природы», латинского трактата, над которым Фрэнсис сейчас трудился), а также поддержать его замысел другого большого сочинения, которое он замыслил и которое пока предпочитал называть «Instauratio Magna» («Великое восстановление наук»).
К сожалению, все попытки ученых богословов, включая и архиепископа Кентерберийского, убедить Тоби отречься от нового вероисповедания оказались тщетными, и Тоби заключили в тюрьму Флит. Однако Фрэнсис, как обнаружили досужие хроникеры-любители, продолжал с ним видеться. «Тоби позволено посещать сэра Фрэнсиса Бэкона в сопровождении своего тюремщика в любое время, когда бы он того ни пожелал, так что у него есть надежда на дальнейшие послабления». Так писал Дадли Карлтон своему корреспонденту Джону Чемберлену. 3 октября 1607 года Тоби исполнилось тридцать лет, а поскольку через месяц, 5 ноября, наступала вторая годовщина Порохового заговора, Фрэнсис хорошо понимал, что близость этих дат может навредить его молодому другу в глазах властей. В письме к Тоби, написанном, вероятно, в это время, но без указания даты, Фрэнсис говорит: «Не думайте, что я забыл Вас или что мое отношение к Вам изменилось. Но для того, чтобы помочь Вам, я должен обладать большим влиянием, чем я имею сейчас. То, о чем мне рассказывают, глубоко меня огорчает: по слухам, Вы становитесь все более резким и нетерпимым, что вызывает у меня величайший страх за исход дела, которое вообще не должно было возникать. Лично у меня нет сомнений, что Вы оказались злосчастной жертвой людей, которые ввели Вас в искушение; но то, что вызывает у меня сострадание, другие склонны сурово осудить… И я всем сердцем прошу Вас: задумывайтесь иногда о том, какую страшную роль в пресловутом Пороховом заговоре сыграла ересь; ведь если до конца это осознать, то иначе как адом на земле задуманное заговорщиками злодейство не назовешь; и потому мы справедливо осуждаем язычников, ибо ересь хуже, чем безбожие; не иметь Бога вообще гораздо меньшее зло, чем не почитать его божественное величие и благо. Дорогой мистер Мэтью, сойдите с пути, ведущего к гибели».
«Путем, ведущим к гибели» Фрэнсис называл отказ Тоби принести клятву верности королю — поистине опасный шаг, который мог стоить ему жизни.
Приближался Новый год, а Тоби все еще находился в тюрьме; стояли сильнейшие холода, Темза замерзла, и архиепископу Кентерберийскому пришлось ехать в королевскую резиденцию из Ламбетского дворца по льду, что никак не улучшило его настроения. Во дворце проходили обычные увеселения, 10 января разыгрывали написанную Беном Джонсоном маску «Триумф красоты», участвовали, по обыкновению, королева Анна и ее фрейлины, среди них была и Элизабет Хаттон. Все сошло гладко, на сей раз никто не нарушал приличий, не валился на пол. Можно надеяться, что Фрэнсис позволил своей супруге присутствовать на представлении в обществе ее сестры, леди Констебл, потому что ему опять пришлось заниматься делами семьи. На сей раз неприятности им всем доставила леди Пэкингтон. Она возражала против каких-то пунктов брачного контракта Дороти Констебл, и Фрэнсис, который, судя по всему, был назначен попечителем, сильно рассердился.
«Мадам, я с готовностью предоставлю Вам все сведения, касающиеся Ваших дочерей, если Вами движут любовь и желание мира и согласия, в противном случае Вы станете для нас чужим и посторонним человеком, ибо я не могу позволить себе проявить недомыслия и допустить, чтобы Вы внесли раздор в отношения между Вашими дочерьми и их мужьями, тем более что Вы сами испытали достаточно страданий от подобных раздоров. И уж конечно, Вы можете не сомневаться, что я откажусь от Вашего гостеприимного предложения принять под свой кров мою супругу, если ее выгонят из дома. Гораздо более вероятно, что нам с ней придется оказывать гостеприимство Вам, когда Вас выгонят из дому, как уже случалось, если Вы изволите помнить. Но довольно тратить время на весь этот вздор. Простите мне одну-единственную ошибку, которую я совершил, написав Вам это письмо. Ибо впредь я не стану этого делать, пока Вы не научитесь относиться ко мне с должным почтением и уважением».
И да не допустит Господь, мог бы он добавить, чтобы она поймала его на слове и не вздумала переехать жить к ним, будь то Горэмбери или любая другая их резиденция. Из записей в его дневнике явствует, что в 1608 году Бэконы какое-то время жили в доме, называвшемся Фулвудз, который находился явно не в городе, но в июле они переехали в Бат-Хаус близ Стрэнда. Возможно, они делили свое лондонское жилище с Констеблами, что позволяло Фрэнсису при всякой возможности ускользнуть в Грейз инн. Это было бы особенно удобно в начале февраля, поскольку из-за вспышки чумы Тоби Мэтью досрочно выпустили из тюрьмы. Седьмого февраля его вызвали на заседание тайного совета, и граф Солсбери сообщил ему, что его освобождают, но он должен в течение полутора месяцев находиться под наблюдением «друга, пользующегося доброй репутацией», после чего ему «надлежит покинуть королевство». Наблюдать за собой Тоби выбрал некоего мистера Джонса, который, вполне возможно, был тот самый мистер Эдвард Джонс, которого хорошо знал Фрэнсис Бэкон, — одно время он был секретарем покойного графа Эссекса, приятелем Фрэнсиса и Энтони, а также «великим переводчиком книг». Конечно, генеральный стряпчий сэр Фрэнсис и его протеже Тоби Мэтью наверняка встречались в Грейз инне теперь уже без всяких помех и препятствий. Точная дата отъезда Тоби нам неизвестна, но, судя по всему, уехал он не позднее чем через два месяца. Ему предстояло прожить за границей десять лет, и все это время два друга постоянно обменивались письмами.
Для Фрэнсиса 1608 год был наполнен напряженной литературной деятельностью. Хоть он и занимал пост генерального стряпчего, работы в этой должности у него было мало, да и парламент не созывался целый год, в январе предлогом для его роспуска послужил страх «болезни», то есть чумы. Король Яков теперь мог сколько его душе угодно предаваться любимому занятию — охоте. Он уговорил своего первого министра лорда Солсбери отдать ему поместье Теоболдз, где можно было охотиться, в обмен на свой собственный дворец Хэтфилд-Хаус.
У Роберта Сесила, графа Солсбери, была общая страсть с кузеном Фрэнсисом Бэконом — оба любили строить. Старый дворец, в котором принцесса Елизавета узнала в 1558 году о том, что ей предстоит взойти на престол, не нравился Сесилу, и он пожелал его перестроить. Пригласил лучших архитекторов и декораторов, и на строительство его новой резиденции, которое продолжалось пять с лишним лет, было истрачено, как говорили, больше 38 000 фунтов стерлингов. Как сорок лет назад их отцы дружески соревновались, строя Теоболдз и Горэмбери, так теперь Фрэнсис Бэкон и Роберт Сесил с живейшей заинтересованностью обсуждали собственные нововведения в унаследованных поместьях, за последние месяцы их прежняя недоброжелательность растаяла.
«Дать указания о том, как превратить озеро и берега вокруг него в место приятного препровождения времени, и рассказать о них милорду Солсбери», — пишет Фрэнсис в своем дневнике. И далее набрасывает план благоустройства территории в Горэмбери, «вокруг которой поставить кирпичную ограду и вдоль нее посадить фруктовые деревья», но потом ему приходит в голову уж и вовсе грандиозная идея — «сделать несколько ступенчатых террас и внизу огромное озеро, окруженное узорчатой оградой с золочеными фигурами и ковром цветов. Это будут главным образом фиалки и земляника. Посреди озера, там, где сейчас стоит дом, сделать остров диаметром в 100 ярдов; в центре острова павильон для отдохновения на свежем воздухе, с открытой галереей наверху, с верандой вокруг, внизу столовая, спальня, кабинет, музыкальный салон, вокруг сад и в саду терраса, обсаженная деревьями; галереи с северной стороны; в саду только самые редкие растения».
Некоторые из этих планов были осуществлены в ближайшие годы, и, вполне вероятно, начало преобразованиям было положено уже летом 1608 года — их обсуждение не позволяло скучать Элис и супругам Констебл, — но у Фрэнсиса в это время было столько идей, которые он коротко записывал в своем дневнике, что просто диву даешься, как ему удавалось справляться хотя бы с половиной из них. Его «Усовершенствование наук» не произвело большого впечатления в 1605 году, и он стал думать, что, возможно, его доводы в пользу распространения знаний покажутся более убедительными, если он станет главой какой-нибудь школы или колледжа. В записи от 26 июля мы читаем: «Хотелось бы получить такую должность, чтобы в моей власти оказались и умы, и перья. Школа Вестминстер, Итон, Уинчестер, Тринити-колледж, Кембридж, Сент-Джонс-колледж в Кембридже, колледж Святой Магдалины в Оксфорде». Далее он говорит о том, что хорошо бы основать колледж для изобретателей, с библиотеками и лабораториями, и платить студентам стипендии, чтобы они могли ставить опыты.
Его интерес к наукам непрерывно возрастал, и он составил список людей, которые могли быть ему полезны: «милорд Нортумберленд» (он находился в Тауэре — без достаточных на то оснований — как участник Порохового заговора); «Уолтер Рэли и, следовательно, Гарриот» (последний был выдающийся математик, близкий друг Рэли, которого он обучал математике); «возлагаю большие надежды на Расселла, который зависит от сэра Дэвида Мюррея» (Томас Расселл проводил опыты по извлечению серебра из свинцовой руды, а сэр Дэвид Мюррей ведал ассигнованиями на содержание монарха), «и потому можно будет заручиться поддержкой сэра Дэв. и через его посредство и посредство сэра Т. Чал. со временем поддержкой принца». Сэр Томас Чаллонер, давний друг брата Энтони, был сейчас гофмаршалом двора принца Генри, которого через два года должны были официально провозгласить принцем Уэльским, и именно от принца Уэльского Фрэнсис ожидал настоящей поддержки в деле распространения знаний. Его величество вполне благосклонен к Фрэнсису, но к научным опытам относится с подозрением, особенно после Порохового заговора, а сейчас он все часы досуга проводит не за чтением, а на охоте в обществе своего нового фаворита-шотландца Роберта Карра, который занял место его прежнего любимца графа Монтгомери.
Будущий принц Уэльский чтит традиции и с уважением относится к опытам, он будет одним из тех, кто прочтет следующее сочинение на латыни, над которым Фрэнсис трудился летом 1608 года, — «In felicem memoriam Elizabethae», апологию прежней государыни. «Cogitata et Visa» был временно отложен в сторону ради «Redargutio Philosophiarum» («Опровержение философий»), оба эти сочинения он хотел, но так и не успел обсудить со своим другом Тоби Мэтью до его отъезда за границу. В «Cogitata et Visa» Фрэнсис как раз и пересказал легенду о Сцилле, «деве, чьи чресла опоясаны лающими псами» (да не усмотрит в этом образе читатель непочтительного намека на его молодую супругу). Этот опус, написанный от третьего лица — «Фрэнсис Бэкон считает… Фрэнсис Бэкон полагает…», — является дальнейшим развитием его идей и аргументов.
Вот что он пишет, например, во вступлении: «Возможности сделанных человечеством открытий, плодами которых мы сейчас пользуемся, исследованы лишь в самой малой степени. При нынешнем состоянии наук мы можем ожидать новых открытий только по прошествии нескольких столетий. Открытия же, совершенные до сего дня, никак нельзя считать заслугой философии».
И делает очередной выпад в сторону школ и университетов: «Едва ли не все преподаватели озабочены в первую очередь чтением лекций и, во-вторых, обеспечением себе средств к существованию; а лекции и другие виды занятий проводятся так, что ожидать от них можно чего угодно, только не оригинальной мысли. Любой, кто позволит себе свободу исследований или независимость суждений, окажется в одиночестве. В искусствах и в науках, так же как и в разрабатывании рудников, должна непременно вестись энергичная деятельность и происходить постоянное движение вперед».
(Как горячо поддержали бы Фрэнсиса студенты университетов три с половиной века спустя!)
В «Мужском роде времени» он опять вступил в полемику со своими давними оппонентами — древнегреческими философами. «Воззрения и теории греков схожи с замыслом большинства театральных пьес: их цель создать иллюзию реальности с большим или меньшим изяществом, легкостью и бесстрастностью. Они обладают качеством, которое уместно на сцене: стройной законченностью, не имеющей никакого отношения к истинным фактам».
В главе 14 мы можем между строк увидеть какие-то черты его личности: «Собственно говоря, человеческий ум подобен кривому зеркалу, которое отражает падающие на него лучи своими выпуклостями и впадинами. Это вовсе не гладкая и ровная поверхность. Более того, каждому индивидууму свойственно заблуждаться в согласии с полученным им образованием, с его интересами и конституцией, у каждого есть свой собственный, никогда не оставляющий его демон, который глумится над его умом и тревожит пустыми призраками». Не этот ли «собственный, никогда не оставляющий его демон» вызывал у Фрэнсиса «меланхолию и отвращение к жизни», а также «тревогу, разбитость, головокружение и пр.», о которых он рассказывает в своем дневнике? Далее в той же главе мы делаем еще одно открытие: «Бэкон (он неизменно пишет о себе в третьем лице) находится в конфликте и с античным миром, и с современниками. Пьяница и трезвенник никогда не поймут друг друга, как говорится в известной пословице; что касается воздействия на умственные способности, Бэкон предпочитает напиток, приготовленный из самых разнообразных сортов винограда, созревших и собранных в должное время с самых лучших лоз, отжатых в давильне, очищенных и отфильтрованных в бочке; более того, этот напиток не должен обладать высокой крепостью, ибо Бэкон не желает предаваться пустым фантазиям, вызванным опьяняющими парами». Эта мысль несомненно перекликается с тем, что он пишет во второй книге «Усовершенствования наук», где короткая глава о поэзии завершается словами: «Однако оставаться слишком долго в театре вредно».
Остальные главы «Cogitata et Visa» посвящены облегчению участи людей и благу, которое принесут всему человечеству научные открытия и изобретения.
«Величие открытий составляет истинную славу человечества», — написал он и привел в пример три изобретения, неведомые древнему миру: «Книгопечатание, порох и компас. Они изменили и картину, и состояние мира, в котором живет человек… В нашей власти способствовать развитию человеческого ума и направлять его. На этом пути нет непреодолимых препятствий, просто он ведет туда, где еще не ступала нога человека. Этот путь немного пугает нас, ибо на нем нам одиноко, но он не таит угрозы. Новый мир зовет нас. И мы должны решиться. Не сделать попытки страшнее, чем потерпеть неудачу».
Воодушевляющий призыв для всех творческих людей и его времени, и всех последующих веков, будь то ученые, изобретатели, путешественники или писатели.
Фрэнсис показал «Cogitata et Visa» не только Тоби Мэтью, но и нескольким друзьям, среди которых был сэр Томас Бодли из Оксфордского университета, который, как он надеялся, по достоинству оценит сочинение, но великий ученый отнесся к нему сдержанно, вероятно, сочтя высказанные Фрэнсисом мысли слишком передовыми для академической науки.
И труд остался неопубликованным, как и написанный вслед за ним «Redargutio Philosophiarum», оба они вышли в свет лишь после смерти автора. В этой последней работе Фрэнсис, как и можно было ожидать, повторил и развил многое из того, что он уже высказал в «Мужском роде времени» и в «Cogitata et Visa». Однако на сей раз он писал от лица философа, обращающегося к собранию ученых мужей зрелого возраста, в воображении он уже видел себя канцлером университета, выступающим перед членами ученого совета.
Начинает он сразу же с главного.
«Мы договорились, дети мои, что вы — люди. Это означает, как я себе представляю, что вы не животные, которые ходят на задних конечностях, а смертные боги. Бог, сотворивший вселенную и вас, вложил в вас душу, способную постигать мир и не довольствоваться постигнутым. Веру вашу он оставил себе, а мир доверил вашим чувствам… Но он дал нам надежные чувства, чувства, которым мы можем доверять не для того, чтобы мы ограничились изучением трудов лишь нескольких ученых… Нет, с того самого времени, как вы научились говорить, вы обречены на каждом шагу впитывать и усваивать множество самых разнообразных заблуждений. Заблуждений, возведенных в ранг истины академиями, университетами, обществом и даже самим государством… Я не прошу вас отречься от них в одночасье. Я не хочу, чтобы вы вдруг оказались в одиночестве. Следуйте собственной философии и украшайте вашу беседу ее перлами. Пользуйтесь ею, когда это вам удобно. Будьте одним человеком, когда имеете дело с природой, и другим, когда имеете дело с людьми. Любой, кто обладает высшим пониманием, при общении с низшими надевает маску…»
Вот откровенное признание, сделанное Фрэнсисом Бэконом летом 1608 года в возрасте сорока семи лет, когда в его волнистых каштановых волосах начала пробиваться седина, равно как и в усах и в бороде, морщины на лице стали глубже, сам он солиднее, полнее, хотя светло-карие глаза оставались такими же острыми и живыми, как прежде, а в улыбке — когда он улыбался — было и сострадание к тем, кто его слушал, и презрение. «Любой, кто обладает высшим пониманием, при общении с низшими надевает маску». Наконец-то нам открылась сущность человека, того, кто в юности был убежден, что он, как мог бы сказать его брат Энтони, capable de tout[9]. Он мог создать английскую «Плеяду», воспитать успешного наследника трона, к его советам внимательно прислушивались два венценосца, он помогал формулировать новые законы и создавать союз двух королевств, был автором и легковеснейших безделиц, и глубочайших творений; сейчас, уже в весьма зрелом возрасте, он был женат на женщине, которой едва исполнилось шестнадцать и которая была ему скорее дочь, а не супруга; он вызывал интерес у очень немногих, не считая близких друзей; но даже при общении с ними, как и с теми, кто был выше его по чину и положению, равно как и с собственными слугами, он надевал маску.
Скрытность, точно «червь в бутоне»[10], только в несколько ином смысле, проявлялась во всех чертах его многогранной личности и, возможно, особенно сейчас, когда король и государство не слишком загружали его заботами о себе и он мог свободно располагать своим временем. А оно было ему необходимо, чтобы понять, что именно помогает людям — в том числе и ему самому — одержать победу, а от чего они впадают в отчаяние, и, тщательно проанализировав причины этого, он стал бы лучше понимать людей, в том числе и самого себя.
«Мое время истекает, дети мои, и потому, любя вас и желая выполнить свою задачу, я перескакиваю с предмета на предмет. Я мечтаю о некоем тайном посвящении, которое, словно весеннее солнышко в апреле, могло бы растопить лед, сковавший ваши умы, и освободить их… Сбросьте цепи, которыми вас сковали, и станьте властелинами самих себя… Я даю вам этот совет, чтобы вы не ожидали от моих открытий большего, чем ожидаете от своих собственных. Я же предвижу для себя судьбу, сходную с судьбой Александра, — нет, не обвиняйте меня в тщеславии, сначала выслушайте до конца. Пока память о нем была свежа, его подвиги считались величайшими в истории человечества. Но когда восхищение остыло и люди внимательно их изучили, римский историк вынес трезвое суждение, вдумаемся в него: „Александр осмелился бросить вызов мнимым истинам, это его единственная заслуга“. Что-то подобное будущие поколения скажут и обо мне».
Никому из современников Фрэнсиса Бэкона не приходило в голову сравнивать его с этим великим героем прошлого, однако он продолжал дарить свой опус на латыни своим друзьям как в Англии, так и на континенте. Его апология королеве Елизавете не встретила большого одобрения у любопытствующих всезнаек, которые лишь пролистали ее. Джон Чемберлен упомянул о ней в письме к своему другу Дадли Карлтону в свойственном ему злопыхательском тоне.
«Я только что прочел, — писал он 16 декабря 1608 года, — небольшое сочинение о жизни королевы Елизаветы, написанное сэром Фрэнсисом Бэконом на латыни. Если оно не попадалось Вам на глаза и Вы не слышали о нем, любопытно было бы полистать; однако мне кажется, что он к концу languescere[11] и становится разочаровывающе скучным; что до его латыни, смею заметить, что она далеко не безупречна».
Сам Фрэнсис, как и многие писатели, которым больше нравятся те из собственных творений, которые не слишком понравились публике, всю жизнь любил свой небольшой опус о покойной государыне; он даже надеялся, что именно благодаря ему и еще двум-трем сочинениям потомки и будут его помнить. Королева Елизавета не благожелательствовала ему и никак его не продвигала, только в детстве назвала своим маленьким лордом-хранителем большой печати, и все равно он не мог забыть ни ее, ни того, что она была одним из величайших монархов во всей истории английского королевства. Будущие поколения признают эту истину.
Мы можем лишь гадать, читал или нет этот опус король Яков, равно как и будущий принц Уэльский. Экземпляр его получили сэр Джордж Кэри, английский посол во Франции, и Тоби Мэтью, который, как написал в сопровождавшем опус письме Фрэнсис, «уж скорее предпочел бы услышать похвальное слово Юлию Цезарю, чем королеве Елизавете».
Наступил новый, 1609 год, шли дожди, было беспросветно пасмурно, Темза не замерзла, как год назад, не происходило ничего интересного, о чем могли бы сообщать друг другу светские хроникеры-любители, разве что сессию парламента опять отодвинули — на сей раз до ноября, да сэру Уолтеру Рэли, который все еще находился в заключении в Тауэре, было предписано королевским указом передать все свои поместья фавориту его величества сэру Роберту Карру, который, что вовсе не удивительно, был королевским постельничим. Рэли с жаром умолял короля не отнимать наследство у его сына, а его жена и дети бросились перед государем на колени в последней попытке смягчить августейшее сердце. Но все было напрасно. Известно, что король сказал: «Мне нужны эти земли, они мне нужны для Робби», и фаворит, который уже имел ренту в 600 фунтов в год и золотую пластину, усеянную бриллиантами — знак королевского благоволения, — стал еще богаче. Фрэнсис Бэкон, всегда далекий от толков и пересудов, ни словом не упомянул о все возрастающем состоянии фаворита-шотландца в своем письме к Тоби Мэтью, которому будет в наступившем году писать часто, ведь парламент был распущен на неопределенно долгие каникулы, а управление страной находилось в надежных руках Совета, возглавляемого его кузеном графом Солсбери, который сейчас был не только первым министром, но и занимал пост лорда-казначея, так что никакого исполнения служебных обязанностей от генерального стряпчего не требовалось.
Как досадовали и досадуют последующие поколения, что Фрэнсис, обсуждая с Тоби свои литературные труды, называл их так завуалированно. В одном из писем, относящихся к этому времени, он говорит: «Я послал Вам несколько экземпляров „Усовершенствования“, о которых Вы просили, и небольшой плод моего отдохновения, о котором Вы не просили. Мое Instauration я храню до нашей встречи; она бодрствует». Он также упоминает «алфавитные сочинения… по моему мнению, в Париже они Вам будут более полезны, чем там, где Вы сейчас». Наверняка эти последние зашифрованы его собственным кодом, по поводу которого в последующие столетия кипело и кипит столько споров. «Плод отдохновения» не был апологией королевы Елизаветы, ее Тоби получил раньше, не был он и латинским трактатом «De Sapientia Veterum» («Мудрость древних»), этот опус, возможно, был начат весной 1609 года и завершен только к его концу.
И снова, как и в 1608 году, в распоряжении Фрэнсиса оказался чуть не целый год, который он мог посвятить литературным трудам, и хотя он все это время рассказывал Тоби о том, как продвигается работа над «Instauratio Magna» («Великое возрождение наук»), и даже посылал ему отрывки, этот огромный высокоученый труд на латыни был столь сложен, что назвать его «плодом отдохновения» никому бы не пришло в голову. К тому же плод этой титанической работы увидел свет лишь одиннадцать лет спустя.
Нам остается лишь гадать, как Фрэнсис распорядился предоставившимся ему временем, а гадание может завести куда угодно. Дневники Фрэнсиса не дают подсказки. Единственная сохранившаяся его рукопись того периода — несомненно, были и другие, но они либо уничтожены, либо утеряны — относится к лету предшествующего 1608 года и, как считает его биограф Дж. Спеддинг, была создана за семь дней, с 25 июля по 31-е. Конечно, на рукописи есть пометки, сделанные его рукой, и сводящая всех с ума запись о том, что у него есть книга, которая «вмещает все воспоминания, касающиеся моей частной жизни, она состоит из двух частей, Diariu и Scheduloe. В одной записи всего того, что происходит; в другой просто даты и перечисление этих событий, чтобы легче было вспомнить и вынести суждение, а также выбрать то, что мне сейчас более всего нужно». Далее он упоминает еще несколько книг с разными названиями. О том, что он начал дополнять свой сборник эссе, посвященный брату Энтони и содержавший изначально десять эссе, явствует из записи в памятных листках «Scripta in Politicis et Moralibus»[12]; рукопись с таким названием хранится в Британском музее. Вряд ли Фрэнсис посылал какие-то из новых эссе Тоби Мэтью, он бы дал их названия.
Единственные записи в памятных листках, относящиеся к его частной жизни в июле 1608 года, касаются оценки его собственности, недвижимости, получения выплат от арендаторов в Горэмбери и так далее. Есть все основания считать, что он в это время арендовал Бат-Хаус, потому что мебель в доме оценивается в 60 фунтов стерлингов, а мебель в его квартире в Грейз инне, «включая книги и прочую утварь», — в 100 фунтов стерлингов. Там же мы находим умилительную запись, обозначенную как «Драгоценности моей супруги»:
Вряд ли появление Элис Бэкон в этих украшениях при дворе было способно ослепить собравшееся там общество и приковать к себе восхищенные взоры. Нетрудно представить, что сказала бы по их поводу леди Хаттон, подари их ей ее бывший поклонник Фрэнсис… И наконец, после этих и других записей он приводит список долгов, «полностью выплаченных», имена бывших кредиторов, уже знакомых читателю, как, например, Николас Тротт и Олдермен Спенсер, который был лордом-мэром Лондона, когда брат Фрэнсиса Энтони жил в Бишопсгейте. Олдермен Спенсер устраивал роскошные приемы в Кросби-Холле, а его дочь однажды ночью спустилась тайком из окна в корзине для белья и убежала с лордом Комптоном.
Однако к 1609 году Фрэнсис перестает вести записи в дневниках, и, если не считать писем к Тоби Мэтью, у нас нет никакого другого источника сведений о Фрэнсисе Бэконе, даже любители-хроникеры Чемберлен и Карлтон молчат. Да и вообще их переписка того года малоинтересна современному читателю, а единственная книга, вышедшая в свет 20 мая, книга, которой суждено было вызвать у грядущих поколений вулканическое кипение страстей, прошла мимо современников совершенно незамеченной.
Это был томик ин-кварто «Shake-Speares Sonnets. Never before Imprinted. George Stevens at London. By B. Eld. for T.T. and are to be solde by John Wright, Dwelling at Christ Church gate 1609»[14]. Интригует написание фамилии автора и то, что имя Уильям опущено. Было только одно издание, в следующий раз сонеты увидели свет в печати лишь в 1640 году. Ученые и историки уже более полутора веков ведут споры о том, кому они посвящены.
Что означает begetter — «обладатель», то есть человек, который продал сонеты Т.Т. (издателю Томасу Торпу), или же «вдохновитель», тот самый «прекрасный юноша», к кому сонеты обращены? Если это «обладатель», как утверждает Э. Л. Раус, тогда главным претендентом на роль «Mr. W.H.» оказывается Уильям Гарви, третий муж вдовствующей графини Саутгемптон и отчим молодого графа Саутгемптона, Генри Райотсли (Henry Wriothesly), которого большая часть исследователей считает «прекрасным юношей». Однако многие убеждены, что «begetter» следует понимать как «вдохновитель», и тогда у них выстраивается длинная цепочка претендентов, оспаривающих право на эту роль, причем главным соперником Генри Райотсли (Henry Wriothesly) оказывается, если переставить инициалы, Уильям Герберт (William Herbert), третий граф Пембрук. Ему наступает на пятки Уильям Хэтклиф (William Hatcliff) Лесли Хотсона, студент Грейз инна, которого во время рождественских празднеств 1588–1589 годов избрали принцем Перпулом. Эта хитроумная гипотеза кажется весьма привлекательной тем, кто, подобно пишущему эти строки, способен представить себе молодого барристера Грейз инна автором значительного числа сонетов; однако этот молодой барристер вращался вместе со своим братом Энтони в более высоких кругах, где тон задавали граф Эссекс и граф Саутгемптон, и потому мог найти в этом блистательном кругу друзей объект куда более вдохновляющий, чем в тесном мирке судейских.
И Эссекс, и Саутгемптон писали стихи, равно как и Роберт Сидни, брат знаменитого Филиппа Сидни, и Фулк Гревилл, близкий друг Фрэнсиса Бэкона. Ученые всего мира спорят, написаны ли все сонеты, — иные из них стали любимейшими английскими стихами, к иным обращаются не слишком часто — одним автором, и пытаются проникнуть в смысл загадочных строк: идет ли здесь речь о каком-то реальном событии того времени или, может быть, автор рассказывает о своей внутренней душевной борьбе? Даже точное время написания сонетов так и не удалось установить, хотя все единодушно называют период между 1592 и 1594 годом. Написать один-два сонета, которые впоследствии были включены в изданный Томасом Торпом сборник, могли многие в том созвездии талантов, которые собрались вокруг графа Эссекса и графа Саутгемптона.
В 1609 году, когда сонеты были опубликованы, их автор — или авторы — уже не были молоды. Кто-то, возможно, уже умер вопреки посвящению, где говорится о «нашем бессмертном поэте». Вероятно, издатель Т.Т. также не знал, кто автор этих сонетов, как не знаем и мы.
Не следует забывать, что Энтони Бэкон, брат Фрэнсиса, еще в середине восьмидесятых годов посылал из Франции в Англию сонеты; и если авторов было несколько, то Энтони ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, ведь он был близкий друг всех, кто входил в кружок Эссекса и был предан Роберту Деверё. В часто цитируемых сонетах 37, 66 и 89, где поэт говорит о своей хромоте — хотя и в переносном смысле, как убежден Э. Л. Раус, — возможно, нет никакой загадки: тот, кто их написал, в самом деле хромал. Возможно, Уильям Шакспер тоже прихрамывал.
Смуглых леди просто не счесть. Фаворитка среди претенденток Молль Фиттон, которую считали оригиналом те, кто расшифровывал «Мг. W. Н.» как «Уильям Герберт, граф Пембрук», в 1609 году овдовела и уехала жить в деревню. Последняя из присоединившихся к списку, Эмилия Ланьер, канула в безвестность; хотя не исключено, что официант Бассано, поступивший несколько лет спустя в услужение к Фрэнсису Бэкону — единственный итальянец среди его семидесяти слуг, — доводился ей родственником.
Никто не забыл и Элизабет Хаттон, супругу главного судьи Коука. В марте 1610 года она дала ужин, на котором, как рассказывали друг другу досужие любители светских новостей, гости рассорились, рассаживаясь за столом, — граф Эрли и граф Пембрук заспорили о том, кто должен занять более почетное место. Красивейшая из придворных дам и приближенная королевы Анны, исполнительница главных ролей в масках, которые устраивались при дворе, леди Элизабет Хаттон через семь лет станет любимой героиней сплетен. Но когда сонеты писались — возможно, это было в 90-е годы XVI века, — она была вдовой Уильяма Хаттона (один из кандидатов на роль мистера W. Н.?), который сражался рядом с Филиппом Сидни в Нидерландах и был сводным братом Уильяма Андерхилла, владельца Нью-Плейс в Стратфорде-на-Эйвоне. В 1597 году, когда Уильям Андерхилл продал Нью-Плейс Уильяму Шаксперу, Фрэнсис Бэкон ухаживал за Элизабет Хаттон, а Фулк Гревилл был — по слухам — одним из его соперников. Была она смуглая или белокожая? Увы, ее портретов не сохранилось. Тайна остается. Смуглые леди, прекрасные юноши и бессмертные поэты продолжают будоражить наше воображение и поныне, хотя ученые и историки убеждены, что все загадки разгаданы.
В феврале 1610 года парламент наконец-то собрался. Среди вопросов первостепенной важности, которые надлежало обсудить, были финансы его величества. Предмет деликатный, и Фрэнсису была поручена незавидная задача составить список доходов и расходов.
Король Яков был на троне уже семь лет, и расходы короны возросли неисчислимо. Повинен в этом был не только монарх с его расточительностью и неслыханным размахом придворных празднеств. Вина лежала и на тех, кто ему служил, — на членах тайного совета и в особенности на графе Солсбери. Что бы они ни затевали, все их поддерживали, надеясь получить свою долю в благодарность. Меньше чем за четыре года строительное ведомство потратило на возведение новых зданий около 75 000 фунтов, а королевские долги превысили сумму в 400 000 фунтов. Как их выплачивать — сократить ли расходы или плюс к сокращению расходов добиться еще и согласия парламента на увеличение королевских ассигнований, — было главной задачей нынешней сессии парламента, которая продолжалась до конца июля с небольшими каникулами на Пасху. Фрэнсис как генеральный стряпчий трудился не покладая рук, поскольку должен был защищать интересы короля и сделать все, чтобы его величество не был ущемлен и в то же время чтобы преданная своему королю палата общин не почувствовала, что на ее права покушаются, и потому Фрэнсис советовался с ней по всем аспектам обсуждаемой проблемы.
Во время дебатов снова всплыл щекотливый вопрос королевских прерогатив и привилегий, например, имеет ли право монарх облагать налогом ввозные пошлины без санкции парламента, или же парламент должен контролировать короля, отказывая ему в предоставлении субсидий. Король Яков, убежденный в своем божественном праве управлять страной, оказался вовлеченным в конфликт, который затрагивал самую основу отношений между верховной властью короля и свободой его подданных.
В 1606 году, когда вопрос субсидий тоже обсуждался, палата общин смягчилась в связи с неожиданно распространившимся ложным слухом об убийстве короля. 14 мая 1610 года во Франции и в самом деле был убит король. Генриха IV заколол кинжалом какой-то маньяк, вскочивший на подножку его кареты. Он умер мгновенно. Весть об этом сообщил обеим палатам парламента граф Солсбери. Нам неведомо, оказала ли трагическая смерть этого поистине великого короля умиротворяющее воздействие на преданную своему монарху палату общин или нет, но несомненно одно — сторонам удалось каким-то образом прийти к согласию, по каким-то пунктам уступил король, по каким-то палата общин. Обсуждения продолжались весь июнь и июль, и к началу летних каникул был составлен договор, в соответствии с которым монарх соглашался отказаться от некоторых своих прав и привилегий в обмен на выделяемые ему ежегодно 200 000 фунтов.
К несчастью, во время каникул и у короля, и у палаты общин появилось искушение изменить свою позицию, и когда они снова встретились в октябре, настроены обе стороны были куда более жестко. Теперь король требовал уже субсидию в 500 000 фунтов, а если парламент не согласится, он будет считать себя свободным от зафиксированных в договоре уступок. (Как тут не вспомнить договоры или контракты, заключенные уже в наше время правительством и профсоюзами!) Палата общин, как и следовало ожидать, не согласилась, и переговоры прервались.
Любопытная подробность: одним из членов нижней палаты, кто с большим жаром выступал против предоставления королю субсидии, если он не выполнит условия договора, был Натаниэль Бэкон, единокровный брат Фрэнсиса, которого король тоже возвел в рыцарское достоинство по восшествии на престол. Богатый землевладелец лет шестидесяти пяти, живущий в Норфолке и женатый на богатой вдове, он, естественно, возражал против растущих посягательств на свои средства. Сам Фрэнсис занимал более умеренную позицию и высказывался за предоставление королю субсидии, выбирая слова и выражения с обычной для него осторожностью.
Соглашение так и не было достигнуто, договор остался пустой бумажкой. У короля были колоссальные долги, а о том, что казна пуста, знала не только палата общин, но и вся Англия. Не платили послам; те, кто жил на пенсию, вынуждены были занимать. Палата собралась 24 ноября и была распущена в феврале 1611 года. Ни одного важного вопроса на сессии не решили.
А двор словно и не испытывал финансовых затруднений. Были устроены обычные увеселения. Принц Уэльский Генри, официально утвержденный в этом звании в июне, написал свою первую новогоднюю маску. Она называлась «Оберон, принц эльфов». Он хотел, чтобы герои представления выступали на конях, потому что сам обожал скакать верхом, но король не согласился, сейчас-де это будет неуместно, и без того все только и говорят что о расточительности двора. Королева Анна, по обыкновению, также не ограничивала себя ни в чем — ни себя, ни своих придворных дам. Бен Джонсон и Иниго Джонс устроили для них роскошное представление — «Любовь, освободившаяся от невежества и безумств», в котором ее величество выступила в роли царицы Востока.
Нам не дано знать, аплодировали ли им в качестве зрителей Фрэнсис Бэкон и его супруга. Более вероятно, что после роспуска парламента он стал проводить больше времени в Горэмбери, которое он наконец-то, по прошествии стольких лет, мог считать полностью своим. Элис, которой сейчас было восемнадцать лет, была полновластной хозяйкой дома, потому что леди Бэкон умерла в августе 1610 года. Единственный источник сведений об этом мы находим в письме, которое Фрэнсис написал своему старому другу сэру Майклу Хиксу.
«Я высказываю всего лишь мое желание и ни в малейшей мере не хотел бы Вас затруднить. Просто я всей душой хочу, чтобы Вы были рядом со мной во время похорон моей матери, которые состоятся во вторник днем. Осмеливаюсь обещать Вам хорошую проповедь, которую прочитает священник Грейз инна мистер Фентон, ибо никаких иных он не читает. Поминального застолья я устраивать не буду. Но если бы Вы смогли провести в моем доме два или три дня, мне было бы легче пережить в Вашем обществе это печальное событие. Если бы Ваш сын по-прежнему учился в колледже Святого Юлиана, это притянуло бы Вас сюда как магнитом, а теперь, если Вы приедете, я смогу сказать, что Вы приехали только ради меня».
У нас нет текста проповеди, но, без сомнения, она воздала должное величайшей набожности покойной и ее учености. Не были забыты и проповеди, которые она когда-то давно перевела с итальянского и с латыни, как, вероятно, и то, что реформатор Теодор Беза посвятил ей свои размышления. Вероятно, вспомнили и ее ученых сестер: жену лорда-казначея лорда Берли Милдред, которая умерла еще в 1589 году, и Элизабет, леди Расселл, которая умерла всего год назад, в 1609 году.
Энн Бэкон умерла в возрасте восьмидесяти двух лет, но о ее последних годах в Горэмбери мы знаем только то, что она «совсем выжила из ума», как писал епископ Гудмен. Похоронили ее в церкви Святого Михаила в Сент-Олбансе. Если о ком поистине и можно было сказать: «наконец-то отмучилась», так это о ней. Она страдала всеми старческими немощами — была прикована к постели, не могла есть без посторонней помощи, ходила под себя, и можно только надеяться, что вдовы или дочери ее бывших верных слуг, «добряка» Финча, Тома Готерема и других, заботились о ней до конца. Что до ее невестки Элис, о которой, увы, мы знаем так мало, хотелось бы думать, что она проявляла доброту и сострадание к старой свекрови, которая так страстно мечтала о внуках от своих сыновей Энтони и Фрэнсиса, но так их и не дождалась.
По крайней мере письмо Фрэнсиса к сэру Майклу Хиксу свидетельствует о его добром отношении к матери, а то обстоятельство, что он в своем завещании пожелал быть похороненным в церкви Святого Михаила, «ибо там покоится прах моей матери», показывает, что, несмотря на хлопоты и беспокойства, которые она всем причиняла, впав в старческое слабоумие, он надеялся упокоиться с ней рядом, когда придет его срок.
Что касается литературных успехов Фрэнсиса за прошедший год, то после трактата на латыни «De Sapientia Veterum», вышедшего в свет в 1609 году и привлекшего к себе довольно большое внимание, он не напечатал ничего. Это была та самая книга, которую он послал Тоби Мэтью в феврале 1610 года и о которой писал: «Посылаю Вам небольшую вещь, которая начала завоевывать мир. Говорят, моя латынь стала чистой, как серебро, и ее считают образцом. Если бы Вы были здесь до выхода книги, я представил бы ее на Ваш строгий и взыскательный суд».
В «De Sapientia Veterum» Фрэнсис пересказывает сюжеты тридцати одного мифа Древней Греции, давая им свое собственное толкование; рассуждает о том, как они возникли, как влияли на мысли и поступки людей на протяжении столетий. Неудивительно, что книга пользовалась таким успехом у его современников, да и в наше время те, кто любит античные мифы и легенды, читают ее с огромным интересом. Любопытно, что Фрэнсис, такой непримиримый противник греческих философов, с великим уважением относился к мифам и легендам, считая их иносказаниями, которые с древнейших времен помогали человеку понять самого себя. Он всегда глубоко вдумывался в сочинения античных писателей и часто цитировал их и в своих политических выступлениях, и в философских трудах; но сейчас его ум, казалось, пытается проникнуть в доисторические времена и ответить на вопрос, не населяли ли тогда землю существа, которые обладали более высоким разумом, и не они ли оставили это богатство мифов и аллегорий в назидание тем, кто придет на землю после них. Читая пересказ и толкование Бэконом тридцати одного древнегреческого мифа, понимаешь, что эта книга писалась им в период творческого взлета, когда он был временно свободен от участия в политической деятельности и мог направить свое воображение на разработку идей, которые его занимали.
Судя по всему, особенно его волновал миф об Орфее, певце и музыканте, наделенном волшебной силой искусства, которому покорялись даже дикие звери и которого растерзали насланные разгневанным Вакхом менады; Фрэнсис проводит сравнение между судьбой Орфея и судьбой, которая ожидает нашу собственную страну, если ее начнут опустошать мятежи и войны. «И если эти бедствия будут продолжаться, они скоро погубят и литературу, и философию, растерзают их в клочья и надо будет собирать останки, как собирают выброшенные на берег обломки погибшего корабля; наступит эпоха варварства, воды источника Гиппокрена уйдут под землю и лишь долгое время спустя, после предначертанных судьбой превратностей истории, вырвутся наружу, скорее всего в другом месте, на другой земле, где живут другие народы».
Фрэнсис с горечью говорит о коварной, губительной власти Вакха над человеком, он вселяет в него страсть, которая торжествует над рассудком. «В этой аллегории особенно поражает то, что Вакх щедро одаривает своей любовью тех, от кого другие отвернулись. Ведь всем известно, что страсть жаждет того, что отвергает опыт. И пусть все, кто, потворствуя своим желаниям, готов в пылу погони отдать все ради удовлетворения своей страсти, знают: что бы ни было предметом вашего вожделения — почет ли, богатство, или любовь, слава, знания, да что угодно, — вы гонитесь за пустым призраком, за тем, чего люди испокон веков домогались, но, добившись, с отвращением отбрасывали».
Неожиданно горькие слова, они наводят на мысль, что Фрэнсис, когда писал их, переживал очередной приступ меланхолии, которая время от времени охватывала его, но от меланхолии не остается и следа, когда он берется за миф о Прометее, который похитил у богов на Олимпе огонь, чтобы отдать его людям, и был приговорен Зевсом к вечной казни, однако Геракл его освободил. Фрэнсис заключил свое толкование этого мифа, сравнив его с таинствами христианского вероучения. «Геракл, плывущий в утлой золотой ладье, чтобы спасти от мук Прометея, с несомненностью напоминает нам образ Бога-Слова, спешащего в хрупкой оболочке своей плоти искупить грехи людей», — пишет он.
De Sapientia Veterum Фрэнсис посвятил «вскормившей его матери» — Кембриджскому университету, а также своему кузену графу Солсбери, лорду государственному казначею Англии и канцлеру университета.
Наступил 1611 год, но перспектива занятости в государственных делах так и не открылась. Парламент не был созван, а предложение написать историю нынешнего правления, с которым он обратился к королю, не встретило поощрения. Его величество не заинтересовался этой идеей: все его внимание было целиком сосредоточено на его собственном Эндимионе — Роберте Карре, которого он готовился сделать кавалером ордена Подвязки и виконтом Рочестерским. Что ж, нет так нет. Фрэнсис оставил эту мысль. Его изобретательный ум обратится к другим замыслам, к другим планам. Он будет строить, разбивать парки, завершит свои эссе; а поскольку король сейчас только и делал, что охотился и развлекался со своим постельничим, больше у него ни на что времени не оставалось, то Фрэнсис на сей раз посвятит свои эссе тому, кто с Божьего соизволения станет преемником Якова I, — принцу Уэльскому.
Вероятно, Фрэнсис Бэкон завершил работу над эссе месяца за два — трудно представить себе, чтобы он посвятил им весь 1611 год. Его биограф Джеймс Спеддинг высказывает предположение, что он в это время просматривал и редактировал свои выступления — не слишком-то интересное занятие для самого выдающегося ума своего времени.
Его современник актер и драматург мистер Уильям Шакспер, житель Лондона и уроженец Стратфорда, имел возможность увидеть на сцене три свои пьесы, написанные в нынешнем году. «Цимбелин» и «Зимняя сказка» были поставлены в театре «Глобус» на Бэнксайде в мае, из «Календаря придворных празднеств и увеселений» мы узнаем, что 31 октября, в День всех святых, в Уайтхолле перед королем была сыграна «Буря». Ученые умозаключают, что автор стал более умиротворенным, смуглые леди остались в прошлом, героини всех трех пьес — молодые простодушные женщины Утрата, Имогена, Миранда — вдохновлены, как полагают некоторые, образами дочерей актера-драматурга Сьюзен и Джудит. Сьюзен в 1611 году было двадцать восемь лет, а Джудит двадцать шесть. Сьюзен была уже замужем, у нее был ребенок трех лет. А может быть, автора вдохновляла совсем другая женщина, женщина, которой только что исполнилось девятнадцать?
В 1611 году двор безудержно увлекался масками, обожавшая их королева была в восторге, а появление в четвертом акте «Бури» Юноны и Цереры в окружении нимф перекликается с «De Sapientia Veterum». Разбитый бурей «корабль стоит на якоре в той бухте, куда меня призвал ты как-то в полночь сбирать росу Бермудских островов»[16], как докладывает Ариэль Просперо, — отсылка к реальному событию — гибели судна «Адмирал», принадлежавшего компании «Торговля с Виргинией». Возможно, Уильям Шакспер имел акции этой компании, так же как Фрэнсис Бэкон и его патрон граф Саутгемптон. Как бы там ни было, тема кораблекрушения была модной. Гонсало, «старый честный советник короля Неаполитанского» из «Бури», произносит во втором акте монолог, в котором, как утверждают исследователи, Шекспир высказывает мысли, почерпнутые из эссе Монтеня в английском переводе; томик эссе с его подписью хранится в Британском музее.
Уильям Шакспер, как и Фрэнсис Бэкон, был несомненно ботаник, его пьесы полны благоухания полевых цветов, это хорошо известно внимательному читателю. Мы не можем сказать, в какой мере можно было сравнивать сад его дома Нью-Плейс в Стратфорде, который он купил в 1597 году у Уильяма Андерхилла (единоутробного брата первого мужа леди Хаттон), с садами Горэмбери, потому что, к несчастью, в 1759 году дом в имении был снесен; но Нью-Плейс находился в центре городка и вряд ли давал возможность разгуляться воображению. Возможно, это был всего лишь скромный цветник, радующий глаз весной, так что его хозяин мог с полным основанием распевать, как Автолик в «Зимней сказке»:
Визит в Горэмбери принес бы Уильяму Шаксперу немалую пользу, когда он в 1611 году писал свою третью пьесу «Цимбелин, король Британии», ведь здесь, в Хартфордшире, жил прототип его героя, Кунобелинус, король Катувеллонии, племени которого принадлежали все эти земли. Судя по всему, пьеса имела успех, и в ней, как и в «Буре», была маска, в которой Юпитер «средь грома и сверканий спускается на орле и бросает на землю молнию. Духи падают на колени».
Однако «все это лишь безделушки», как напишет в конце жизни Фрэнсис в своем эссе «О масках и триумфах», опубликованном в 1625 году, «они не заслуживают серьезного отношения». Неразумно тратить на них слишком много времени, равно как и «слишком долго оставаться в театре».
Общественная жизнь снова потребовала участия Фрэнсиса. Осенью 1611 года его кузен граф Солсбери серьезно заболел, одновременно с ним заболел и генеральный прокурор сэр Генри Хобарт. Фрэнсис воспользовался этим обстоятельством и написал его величеству письмо, напомнив со всей возможной деликатностью об обещании, которое тот дал ему несколько месяцев назад: «К величайшей моей радости я узнал от моих добрых друзей, что Ваше Величество помнит о своем августейшем обещании, которое я считаю своим anchora spei[17], относительно места генерального прокурора. Я надеюсь, что господин генеральный прокурор поправится. Благодарение Господу, я никому не желаю смерти; а собственную жизнь я ценю лишь в той мере, в какой могу быть полезен Вашему Величеству». Генеральный прокурор выздоровел, но намек, возможно, при случае вспомнится. Поздравляя графа Солсбери с Новым годом, Фрэнсис ни словом не обмолвился о здоровье своего кузена, но заметил, что «хотя возраст и болезни сказываются на мне, я все же чувствую в себе довольно сил, чтобы служить Вам».
Граф Солсбери был и в самом деле серьезно болен, в феврале 1612 года у него обнаружили опухоль в животе. Он собрался с силами и поехал в Бат в надежде, что тамошние воды помогут ему выздороветь, но поездка окончательно подорвала его здоровье, и на обратном пути он умер; случилось это 24 мая в Мальборо. Смерть графа Солсбери была почти столь же большой потерей для страны, как и смерть его отца, скончавшегося четырнадцать лет назад; и хотя при жизни у графа было много врагов, народ его никогда не любил, и, уж конечно, он был далеко не безупречен в отношении государственной казны, однако он твердой рукой вел корабль государства при двух венценосцах, таких разных по своим личным качествам, и при этом никто из них ни на миг не усомнился в его преданности.
Похоронили его в начале июня в его имении в Хэтфилде, скромно, как он сам того пожелал, и его кузен Фрэнсис Бэкон был одним из членов семьи, которая его оплакивала. Двоюродные братья никогда особенно не дружили. Они всю жизнь, возможно, сами того не осознавая, завидовали друг другу тайной завистью, которая возникла еще в детстве, хотя в последние годы это чувство стало не таким явным. Какую роль в разжигании этой зависти сыграли их матери, Милдред и Энн, любящие друг друга сестры и все же соперницы, вечно спорящие о том, кто из них более учен, чей муж занимает более высокое положение, пусть решают психоаналитики.
Роберт Сесил был очень маленького роста, и, как говорили, одно плечо у него было выше другого. Когда его кузен Фрэнсис написал свое эссе «Об уродстве» — одно из тех, что будут опубликованы к концу 1612 года, светский хроникер Джон Чемберлен сообщил Дадли Карлтону: «Свет заметил, что он написал точный портрет своего маленького кузена». Что ж, возможно. Эссе не злое, оно скорее мудрое и проницательное. «Если у человека есть какая-то особенность, которая вызывает насмешки окружающих, эта же самая особенность постоянно подстегивает его, побуждая избавиться от насмешек; вот почему все калеки люди чрезвычайно смелые; сначала они просто защищаются, не желая быть объектом глумления, но потом это становится чертой характера. К тому же вследствие уродства в них развивается трудолюбие и наблюдательность, они отлично видят слабости других… Но самое главное заключается в том, что эти люди стремятся, если их дух силен, прекратить глумление над собой, а этого можно добиться либо проявлением добрых качеств, либо злых; поэтому не стоит удивляться, если иные из них оказываются необыкновенными людьми…»
Фрэнсис написал письмо королю 31 мая, как только до него дошла весть о смерти кузена, хотя нам неведомо, отправил он письмо или нет, а если отправил, то получил ли на него ответ или опять же нет. «Ваше Величество потеряли достойнейшего подданного и преданнейшего слугу. Но если бы мне надлежало воздать ему должное, я сказал бы, что это был человек, который умел не допустить, чтобы положение дел ухудшилось, но не умел добиться, чтобы оно улучшилось». (Это же самое можно сказать и о высокопоставленных чиновниках всех последующих столетий.) «Ибо он слишком любил, — продолжал Фрэнсис, — чтобы взоры всего королевства были устремлены на него, а все дела находились в его руках и он бы мог, подобно кузнецу или горшечнику, выковать или вылепить то, что он задумал…»
В этом письме Фрэнсис не просил короля отдать ему пост первого министра, который освободился со смертью его кузена; скорее ему хотелось высказать лично королю свои мысли и дать ему совет, как следует вести себя по отношению к палате общин. «Я предлагаю радение и строгое соблюдение законов, — пишет он в заключение, — а если вспомнить, что моя няня называла меня в детстве своей неугасимой лампадой, потому что ей нравилось говорить, что я всегда горю, и она позволяла мне сгорать чуть не дотла, — то я был бы счастлив обратить эту свою способность на службу Вашему Величеству, чьим попеченьем мое состояние упрочилось и возросло».
В письме, написанном чуть позже, Фрэнсис изъясняется более определенно. Он, как можно понять, выражает желание стать членом тайного совета: «Если Ваше Величество сочтет меня пригодным к служению на поприще государственных дел, или, напротив, если Вы сочтете недостаточно пригодным к подобному служению кого-то другого, может быть, Вы захотите допустить меня до участия в решении государственных дел… Я, точно шахматная фигура в августейших руках Вашего королевского Величества, буду счастлив быть там, куда Вы меня соблаговолите поставить».
Однако назначение нового первого министра и нового лорда-казначея затягивалось. Не созывался и парламент. Граф Нортгемптон, ранее лорд Гарри Говард и друг графа Эссекса и Энтони Бэкона, временно возглавил Совет, возможно, потому, что имел влияние на королевского фаворита сэра Роберта Карра, которому недавно был пожалован титул графа Рочестера. Однако и сам Фрэнсис не был забыт его величеством, который охотно выслушивал его советы, хотя далеко не всегда им следовал.
Естественно, вокруг назначения нового первого министра кипели страсти, чаще всего произносились два имени — сэра Генри Уоттона и сэра Ральфа Уинвуда, а также имя сэра Генри Невилла; однако в августе Джон Чемберлен писал Карлтону по поводу поста лорда-казначея: «Point encore, parce qu’il n’y a point de tresor»[18].
Сам Фрэнсис был все лето занят судебными делами, но одной из важнейших обязанностей генерального стряпчего было взыскание долгов — согласно давней традиции — для проведения праздничных торжеств по поводу бракосочетания принцессы Элизабет, которой исполнилось шестнадцать лет, с графом-палатином Рейнским и Пфальцским Фридрихом. Брачный контракт был подписан в мае, и курфюрста ожидали в Англии осенью. К счастью, принцессу в стране любили, как и ее брата принца Уэльского, а поскольку жених был протестант, то все с нетерпением ожидали свадьбы и свадебных увеселений.
Взысканные долги принесли в казну около 22 000 фунтов, но поскольку расходы на свадьбу превысили эту сумму, национальный долг ничуть не уменьшился — «point de tresor»[19]. Фрэнсис воспользовался этим обстоятельством и написал лично королю письмо «касательно увеличения средств Вашего Величества… Одного только экстракта, каким бы изысканным он ни был, или одного только крепкого напитка недостаточно, необходимо искусно соединить разнообразные ингредиенты… как долги Вашего Величества росли с течением времени, точно так же потребуется время, чтобы Ваше Величество смогли изыскать средства и расплатиться по ним».
Была назначена комиссия, в которую вошли также Фрэнсис, канцлер казначейства сэр Джулиус Сизер и генеральный прокурор сэр Генри Хобарт и которая должна была разобраться в запутаннейшем состоянии королевских финансов, и доклад с окончательными выводами, как можно заключить, составил Фрэнсис. Доклад был представлен в середине октября, граф-палатин в это время уже был в Англии, Фридрих приплыл на встречу со своей невестой, высадился в Грейвзенде и был поселен в резиденции Эссекс-Хаус с сопровождающей его свитой в составе более ста семидесяти человек — «очень достойных джентльменов с прекрасными манерами», как решили хроникеры-дилетанты. Будущий жених тотчас же начал самым почтительным образом оказывать внимание принцессе и всем понравился. Казалось, обстоятельства складываются как нельзя более благоприятно для счастливого завершения помолвки, как вдруг в королевской семье произошла трагедия, ставшая трагедией для всей страны.
Принц Уэльский, который со всем пылом развлекал гостей из Рейнского палатината, плавал по ночам в Темзе, скакал без устали на лошади, неожиданно заболел перемежающейся лихорадкой, как определили королевские лекари, хотя на самом деле это был, судя по симптомам, тиф. Ему пришлось отказаться от посещения ратуши, где лорд-мэр устроил представление, и пфальцграф поехал без него. Наступил ноябрь, но никто пока не осознавал, как серьезна болезнь принца Уэльского, хотя он день ото дня слабел, а регулярные кровопускания и обритие головы, где как раз и гнездилась боль, не оказывали никакого действия. Когда в столице стало известно, что их величества не посетили службу 5 ноября, в годовщину Порохового заговора и День благодарения, и что епископ Илийский вознес особые молитвы о здоровье наследника трона, люди начали догадываться, что надежды на выздоровление принца почти нет.
Королева и ее дочь мало верили в королевских лекарей, принцесса, как и ее брат, давно дружившая с сэром Уолтером Рэли, обратилась с просьбой к узнику прислать лекарство, которое он когда-то рекомендовал ей и которое ее вылечило. Сэр Рэли изготовил лекарство — у него в Тауэре была своя собственная лаборатория, — но, увы, лекарство не помогло. Вечером в среду 4 ноября принц Уэльский впал в беспамятство. Он прошептал: «Где моя дорогая… любимая… сестра?» — и это были его последние слова, он затих и замолчал уже навсегда, в пятницу вечером в половине девятого он умер.
Когда умирает старший сын короля, все обязательно кидаются гадать, не пошла ли бы история по другому пути, останься он жив. Ближайшей аналогией принцу Генри, старшему сыну короля Якова I, был принц Артур, старший сын короля Генриха VII. Оба были юноши безупречной репутации, обоих в стране любили. Пусть историки спорят, осталась ли бы Англия католической страной или нет при короле Артуре, женившемся на Екатерине Арагонской. Предоставим им также гадать, стал ли бы прислушиваться король Генрих IX к мнению своей верной палаты общин и смог ли бы уберечь Англию от гражданской войны. Как бы там ни было, смерть принца Уэльского Генри оказалась поистине великой утратой и для династии, и для двух королевств.
Новый сборник эссе Фрэнсиса Бэкона с посвящением принцу был зарегистрирован в Стейшнерз-Холле 12 октября и, как можно судить, не сразу поступил в продажу. Эссе вышли в свет в декабре, и первоначальное посвящение было изменено на посвящение свояку Фрэнсиса Джону Констеблу. Должно быть, тогда же он написал апологию принцу Уэльскому на латыни, которая была найдена только в 1753 году и, как можно предположить, была предназначена для узкого круга. Отрывки из нее дают нам возможность увидеть образ этого юноши так, как он представлялся Фрэнсису.
«…Он умер, к великому горю и сожалению всего королевства, ибо этот юноша никого никогда не обидел и никого незаслуженно не возвысил. Доброта его натуры пробудила множество надежд во всех слоях общества, но он прожил слишком недолго и не успел никого разочаровать. Более того, все без исключения считали его человеком твердым в вопросах веры; и потому наиболее мудрые питали глубокое убеждение, что он был для своего отца опорой и защитой против интриг заговорщиков, — зло, против которого наш век не нашел противоядия…»
«Он был сильный, крепкий, немного склонен к полноте, среднего роста, с красивыми руками и ногами, с царственной походкой, лицо овальное и немного худое, выражение лица спокойное, взгляд скорее внимательный, чем властный, суровый лоб, рот слегка надменный. Но если вы преодолели эти внешние преграды и умиротворили принца подобающим вниманием и уместной речью, вам открывалось, что он любезен и дружелюбен; в беседе он оказывался совсем другим, чем можно было ожидать, судя по его виду; и вообще это был человек, о котором легко было составить превратное мнение, судя по его манерам…
Он любил античность и искусство; высоко ценил ученость, хотя выражалось это не столько в занятиях науками, сколько в их почитании. Что касается качеств его характера, то самой высокой похвалы заслуживают умение и уверенность, с какими он выполнял все, за что бы ни взялся. Он был на редкость почтительный сын королю, очень внимателен к королеве, ласков со своим братом, но особенно любил свою сестру, на которую был очень похож внешне — насколько мужчина может быть похож на очень красивую девушку…
Его детские учителя и наставники продолжали оставаться его добрыми друзьями, что случается чрезвычайно редко… Он не был человеком безудержных страстей, натура у него была скорее уравновешенная, чем пылкая. Что до его любовных увлечений, о них говорили на удивление мало, особенно если взять во внимание его годы; он пережил трудный возраст возмужания, обладая столь огромным богатством и превосходным здоровьем, и не был особенно замечен в связях такого рода…
В понимании он был скор, никто не мог бы упрекнуть его в недостатке любознательности и умственных способностей. Но речь его была довольно медленной, он словно бы преодолевал смущение; однако если вы внимательно вслушивались в его слова, задавал ли он вопросы или высказывал свое мнение, вам становилось ясно, что говорит он с глубоким пониманием сути дела, проявляя незаурядный ум; так что неспешность его нечастых высказываний объяснялась не вялостью и неповоротливостью мысли, а напряженным интересом и вниманием. И притом он умел удивительно внимательно слушать… Он редко позволял своим мыслям витать, а уму отдыхать от состояния сосредоточенного внимания — дар, который обещал развиться в истинную мудрость, останься принц жив. Конечно, проявились далеко не все качества его характера, и нет смысла пытаться их угадать, мы поняли бы их со временем, а времени ему как раз и не было дано. Однако те его свойства, что мы видели, превосходны; их довольно, чтобы его прославить…»
Если бы принц Уэльский был жив, в феврале будущего года ему бы исполнилось девятнадцать лет. 7 декабря его с почестями похоронили, но ни король, ни королева на похоронах не присутствовали. Говорили, что король был не в состоянии выдержать столь печальную церемонию, королева была сама больна, а принцесса Элизабет была вне себя от горя. Единственными скорбящими родственниками оказались принц Чарлз, герцог Йоркский, и граф-палатин Фридрих. Похоронили принца Уэльского Генри в Вестминстерском аббатстве в часовне короля Генриха VII, рядом с его бабкой шотландской королевой Марией Стюарт.
Срок траура и при дворе, и по всей стране пришлось сократить не только потому, что королевская казна находилась в плачевном состоянии, а свадьбу принцессы были вынуждены отложить, но также, вероятно, и для того, чтобы пресечь неизбежно возникающие в таких обстоятельствах слухи, будто всеми любимого принца отравили. Державшиеся в тени иезуиты на сей раз избегли привычных обвинений, зато поползли зловещие слухи, будто король, завидовавший собственному наследнику трона и желавший угодить своему фавориту Рочестеру, приказал дать больному яд. К счастью, этим слухам мало кто верил.
Начали готовиться к свадьбе, которая должна была состояться в феврале 1613 года, в День святого Валентина, в королевской часовне в Уайтхолле, и великолепие торжеств помогло отвлечься от горестного события прошлой осени. Джон Чемберлен так описывал церемонию: «И жених, и невеста были в нарядах из серебряной парчи… невеста венчалась без парика, ее длинные волосы были распущены, на голове чрезвычайно богатая корона, на следующий день король сказал, что она стоит миллион крон». И заметил: «А мы все от этих чрезмерных трат только нищаем».
Юристы из Миддл-Темпла Линкольнз инна разыграли маску, на следующий вечер маску играли юристы из Иннер-Темпл и Грейз инна, причем, как пишет Джон Чемберлен, «сочинил ее и поставил Фрэнсис Бэкон… Участники приплыли из Уинчестер-Плейс, от Саутуорка, что как нельзя более соответствовало сюжету маски, а сюжетом был союз двух рек — Темзы и Рейна; представление на воде было очень красивое, из бесчисленного множества огней составлялись искуснейшие узоры, лодок и барок была целая флотилия, и на всех горело множество факелов и фонарей… эта феерия на воде обошлась больше чем в триста фунтов». К несчастью, когда участники маски высадились на королевской пристани, действо могли видеть только те зрители, которые стояли рядом, придворные же дамы не увидели ровным счетом ничего. Что до его величества, то он заснул! По настоятельнейшей просьбе сэра Фрэнсиса Бэкона все представление от начала до конца повторили в субботу. Все в восхищении аплодировали, а участников маски король пригласил на следующий день к ужину в зал, где устроили свадебный пир.
Празднества и увеселения продолжались весь месяц, к началу марта было истрачено около 50 000 фунтов. Его величество упал духом и приказал отправить часть свиты своего зятя домой, в Рейнское княжество. Отплытие молодых супругов было назначено на март, но его пришлось отложить, потому что для королевских судов не могли найти матросов. Наконец 14 апреля, спустя два месяца после свадьбы, пфальцграф Рейнский и его супруга принцесса Елизавета отплыли из Рочестера.
Теперь генеральный стряпчий его величества получил возможность снова уделить внимание судебным делам, королевским финансам и, что еще более важно, необходимости созвать парламент, чтобы достичь согласия в вопросе денежных средств. Но сначала стоит вспомнить о его сборнике эссе, который появился в печати в декабре минувшего года с посвящением свояку. Вот оно:
«Мои предыдущие эссе я посвятил моему дорогому старшему брату Энтони Бэкону, которого взял к себе Господь. Просматривая во время нынешних каникул свои записи, я нашел в них еще несколько заметок подобного рода; и поскольку я не хочу, чтобы они пропали, то, возможно, и мир этого не захочет и будет их переиздавать. Мне очень недостает моего брата, но я нашел Вас; нас тесно связывают родственные отношения, искренняя дружба и в особенности общие занятия наукой. И за это я почитаю своим долгом выразить Вам свою признательность. Как среди своих занятий я нахожу отдохновение, предаваясь размышлениям, точно так же мои размышления находят отдохновение в Ваших советах и суждениях, продиктованных любовью.
С пожеланием Вам всех благ
Ваш любящий брат и друг Ф. Бэкон».
Из первоначальных десяти эссе, число которых сейчас увеличилось до тридцати восьми, одно не было включено в этот новый сборник — «О почестях и славе». Многие эссе свидетельствуют о глубоком уме и проницательности Фрэнсиса, но в них еще нет той всеобъемлющей мудрости и понимания, какие мы находим в последнем издании, вышедшем в свет в 1625 году, где число эссе увеличилось до пятидесяти восьми, причем строки из них цитируются уже больше трех веков, включая и наше время. Мы уже обращались к «Браку и безбрачию», в котором, возможно, отразился его собственный жизненный опыт, самое начало этого эссе: «Тот, у кого есть жена и дети, имеет близких и родных людей, но эти близкие и родные люди суть препятствие для больших замыслов, как благих, так и пагубных. Несомненно, самые достойные творения, наиболее высоко оцененные обществом, созданы людьми неженатыми или не имеющими детей», — наводит на мысль, что отсутствие сыновей и дочерей не слишком огорчало Фрэнсиса. Более того, эссе «О родителях и детях» дает основание предположить, что он никогда и не желал стать отцом, а если и желал, то после женитьбы на Элис Барнем выкинул подобные мысли из головы. «Родительские радости скрыты от посторонних глаз, равно как их горести и тревоги; о радостях рассказывать не принято, о горестях и тревогах не хочется. Дети облегчают наш труд, но несчастья с ними переживаются еще труднее. Потомство плодят и животные, но память, благородство и честный труд свойственны лишь человеку».
Возможно, несколько самых острых наблюдений мы найдем в эссе «О себялюбивой мудрости»: «Себялюбивая мудрость во многих ее проявлениях вещь порочная: это мудрость крысы, которая непременно убежит из дома перед тем, как ему рухнуть; это мудрость лисы, которая выгонит из норы барсука, который вырыл ее для себя; это мудрость крокодила, который проливает слезы, пожирая живую добычу… Они всегда все приносят себе в жертву, но в конце концов сами становятся жертвами непостоянной фортуны, чьи крылья, как им кажется, они связали своей доморощенной мудростью».
Была середина июля, и члены комиссии, созданной больше года назад, чтобы рассмотреть состояние королевских финансов, представили свои изыскания канцлеру казначейства сэру Джулиусу Сизеру, который и составил на их основании полный отчет. Долги короны приближались к 500 000 фунтов, причем годовой дефицит бюджета чуть ли не превышал 160 000 фунтов. Нужно было каким-то способом найти средства, а его величество не проявлял никакого намерения созвать парламент. До сих пор в стране не было первого министра, который руководил бы делами государства, не было и лорда-казначея; тайный совет справлялся, как умел.
Фрэнсис, который никогда особенно не поддерживал великий договор между королем и парламентом, так бурно обсуждавшийся во время последней сессии, в это время писал пространные заметки о том, почему, по его мнению, должен быть созван парламент; он считал, что нельзя ни в коем случае допустить, чтобы палата общин, когда она наконец-то соберется, начала обсуждать все то, что уже обсуждалось, ибо это может расколоть ее членов на фракции — сторонников короля и противников. А это, как ему представлялось, не сулит добра ни монархии, ни парламенту. Объединяться в партии в палате общин опасно, «нужно предоставить людей их совести, и пусть они свободно выражают свое мнение голосованием».
Завершив заметки, Фрэнсис написал письмо лично его величеству, в котором высказал мнение, что большая часть старых конфликтов, вынесенных на рассмотрение последней сессии парламента, давно изжила себя, и не случилось ничего такого, ради чего стоило бы извлекать их на свет божий и снова ломать копья или разжигать новые споры; он считал, что «позиции Вашего Величества значительно укрепились». Противодействие королю ослабло, и Фрэнсис посоветовал ему держаться в будущем совсем другой линии поведения с членами палаты общин: «Во время следующей сессии парламента Вашему Величеству следует отказаться от ипостаси торговца и подрядчика и быть только королем… Пока Ваше Величество не настроит свои музыкальные инструменты, Вы не услышите гармоничного звучания. Лично я считаю, что для безопасности Вашего Величества и в видах наипреданнейшего Вам служения будет неоценимым благом, если Вы наконец распустите Ваш парламент в любви и уважении друг к другу…»
Фрэнсис предлагал слегка изменить функции парламента «по образцу прежних времен, то есть объявить, что парламент существует не только для того, чтобы обсуждать финансовые проблемы, но чтобы решать и другие дела государства… что у людей могут быть и другие заботы, помимо доходов и расходов короля… И потому я считал бы правильным сообщить, что Ваше Величество располагает средствами для облегчения своего положения, что, я полагаю, отчасти соответствует истине».
Однако и на сей раз решение вопроса королевских финансов и созыва парламента было отложено, и мы не знаем, ответил его величество на письмо своего генерального стряпчего или нет. Король Яков был слишком озабочен устройством судьбы своего фаворита Роберта Карра, графа Рочестерского, который влюбился в молоденькую графиню Эссекс. Король, желая ублажить Рочестера, который теперь был членом тайного совета и имел больше влияния на своего августейшего повелителя, чем кто бы то ни было другой, требовал, чтобы графиню и ее мужа, графа Эссекса, как можно скорее развели, дабы она могла выйти замуж за фаворита.
Когда Роберт, третий граф Эссекс, женился на дочери графа Суффолка, тринадцатилетней Фрэнсис Говард, ему было четырнадцать лет, и произошло это в январе 1606 года, тогда же, когда Фрэнсис женился на Элис Барнем. От брака с самого начала не следовало ждать ничего хорошего. Граф уехал за границу завершать образование и воротился только через три года, а супруга его все это время развлекалась при дворе, который при нынешнем короле никак не славился строгостью нравов. Расчетливой молодой особе, которую к тому же поощряла могущественная родня Говардов, удалось привлечь к себе внимание королевского любимца. Она обосновывала свое желание расторгнуть брак тем, что он не был консуммирован по причине несостоятельности ее супруга. Самым влиятельным из сторонников графини был ее двоюродный дед лорд Гарри Говард, граф Нортгемптон, который понимал, что когда развод будет получен и его внучатая племянница выйдет замуж за Рочестера, то и он, и вся семья приобретут огромный вес. Противником развода выступал близкий друг и советчик фаворита сэр Томас Оувербери, он боялся, что, если свадьба состоится, страной фактически будут управлять Говарды, которые станут самой могущественной силой в государстве, ибо сам Рочестер ничего в государственных делах не смыслит. Кончилось тем, что Оувербери впал у фаворита в немилость, был заключен в Тауэр в апреле 1613 года, летом заболел какой-то загадочной болезнью и 14 сентября умер.
Несколько недель спустя брак графа Эссекса и графини Эссекс был расторгнут, и епископ Винчестерский признал его недействительным. Все препятствия, казалось, были устранены, теперь графиня могла обвенчаться с Рочестером. Последствия, как мы увидим, оказались катастрофическими.
Фрэнсис Бэкон, к счастью для себя, оставался в стороне от всех дел, связанных с разводом. Его занимали дела, непосредственно касающиеся его собственного будущего. В августе умер главный судья суда королевской скамьи сэр Томас Флеминг, что означало перемещение судей с поста на пост и возможность того, что генеральный прокурор сэр Генри Хобарт, оправившийся после прошлогодней болезни, получит более высокое назначение и, стало быть, его пост освободится.
На сей раз письмо к королю принесло желанные плоды. «Я служу Вашему Величеству как Ваш стряпчий уже восьмой год, дольше срока пребывания в учениках, и эта должность, как мне представляется, одна из самых незавидных в Вашем королевстве, особенно если взять во внимание то, чем мне приходится заниматься; Господь позволил мне довести счет годов моей жизни до пятидесяти двух, и я не знаю ни одного другого генерального стряпчего, который дослужился бы до такого возраста и не был повышен…»
И далее Фрэнсис предложил сделать своего старого соперника сэра Эдварда Коука верховным судьей Англии, а сэру Генри Хобарту отдать нынешнюю должность Коука — главного судьи по гражданским делам.
Коук, надо полагать, пришел в ярость, когда подобное перемещение свершилось.
«Это все ваши происки, — обвинил он Фрэнсиса, став верховным судьей Англии, — вы затеяли эту кутерьму». — «Все последнее время ваша светлость разрастались в ширину, — ответил Фрэнсис, — пора вам немножко прибавить в росте, иначе превратитесь в урода».
Насмешка вряд ли способствовала смягчению их давней вражды.
Новые назначения в должности были сделаны 27 октября, и Фрэнсис Бэкон в тот же день стал генеральным прокурором. Стал им в пятьдесят два года, как он писал его величеству, ровно через девятнадцать лет после того, как этот столь желаемый им пост был отдан на его глазах Эдварду Коуку, которого сделали сейчас верховным судьей Англии. Разве не ирония судьбы, если вспомнить, что ведь это он предложил повысить своего соперника, но все равно приятно; Фрэнсис одолел еще один подъем на извилистой тропе к вершинам власти. «Сердце подобно перу, переполненному словами, — писал он государю, — ему трудно найти достойное выражение. Я лелею надежду, что Господь, наполнивший Ваше сердце милостью ко мне, запечатлит Ваше благодеяние в моем сердце».
Но, как и в 1607 году, когда Фрэнсис стал генеральным стряпчим и написал в своем дневнике, что его положение улучшилось, но охватила меланхолия, тоска, он чувствует себя разбитым, так и сейчас, в начале ноября 1613 года, заняв высокий пост генерального прокурора, он почувствовал, что начинается разлитие желчи, и этот приступ продлился полмесяца. Не слишком доброе начало его карьеры в новой должности, но такова уж особенность характера Фрэнсиса, который сейчас, в зрелом возрасте, стал походить на своего брата Энтони, чего не было заметно в молодости; та же склонность волноваться и чуть ли не впадать в панику при столкновении лицом к лицу с действительностью и со своим собственным будущим. Однако в палате общин он этого своего свойства никогда не проявлял.
Возможно, «разлитие желчи» объяснялось другими причинами, потому что случилось то, о чем Джон Чемберлен писал 25 ноября своему приятелю Карлтону: «На прошлой неделе один красивый молодой человек, который служит у сэра Фрэнсиса Бэкона, предстал перед судом королевской скамьи по обвинению в убийстве шотландца (на дуэли); его признали виновным в непредумышленном убийстве и выжгли на руке клеймо. Дело это тщательно расследовано и назначено к разбирательству в Англии, а не там, где преступление было совершено, из опасения, что местные судьи проявят чрезмерную снисходительность, и был сформирован очень квалифицированный и необычный состав присяжных. Однако многие не удовлетворены, выяснилось много разных обстоятельств, например, то, что на молодого человека напали двое, один спереди, другой со спины, и он получил не меньше четырех серьезных ран». Не называю ни одного имени, но можно не сомневаться, что это происшествие как минимум поставило нового генерального прокурора в щекотливое положение, так что разлитие желчи, возможно, было болезнью дипломатической. Соответственно Фрэнсис в своем новом качестве написал «Положение о запрещении поединков, или дуэлей», которое было полностью одобрено королем.
Тем временем приближалось Рождество, и свадьба фаворита Рочестера, которому по случаю предстоящего события был пожалован титул графа Сомерсета, была назначена на 26 декабря. По иронии судьбы церемония проходила в той же часовне Уайтхолла, где в 1606 году невеста стала графиней Эссекс, и венчал молодых тот же самый священник — епископ Батский и Уэльский. Поражало отсутствие такта, невеста была с вызывающе распущенными волосами, что издавна считалось символом невинности. Прошлое венчание отличалось от нынешнего только тем, что сейчас невесту вел под венец не его величество — который тем не менее оплатил церемонию, — а ее отец граф Суффолк.
После венчания вечером была поставлена маска, и начались увеселения, которые продолжались до наступления Нового года. Вот что писал 23 декабря наш старинный приятель, разносчик новостей Джон Чемберлен: «В честь свадьбы сэр Фрэнсис Бэкон готовит маску, которая обойдется ему более чем в 2000 фунтов. И хотя палата общин предложила ему помощь, в особенности мистер стряпчий, сэр Генри Йелвертон (новый генеральный стряпчий), который хотел послать ему 500 фунтов, он ничего не принял, но рассыпался в самых цветистых благодарностях. Вы только подумайте, он так обязан и его величеству, и лорду-канцлеру, и всему семейству Говард, что отклоняет любое вспомоществование от других лиц. Он лишился своей резиденции в Горэмбери, одни говорят, что теперь ее хозяин граф Сомерсет, другие — что граф Суффолк».
Фрэнсис был обязан королю за назначение на пост генерального прокурора, это верно, но почему его обязательства должны были распространяться на фаворита и семейство Говардов, совершенно непонятно. Что касается резиденции в Горэмбери, которой теперь якобы владел кто-то другой, это были пустые слухи, какие любили распускать в те времена досужие бездельники.
«Однако тратит он, все так же не считая денег, — продолжал Чемберлен, — на Рождество он устраивает пир для всего Кембриджского университета и дал разрешение всем своим друзьям и знакомым, и дальним и близким, охотиться на королевскую дичь и снабжать олениной колледжи. Он не приведи Бог как чванится своей челядью, своими нарядами и всем, чем только можно, живет на широкую ногу и при этом делает вид, что не берет гонораров и не участвует в роли посредника в сделках, а посвящает себя исключительно делам его величества».
Маска «Цветы», в которой принимали участие студенты Грейз инна, была сыграна в последний день святок, то есть в Двенадцатую ночь, и позднее напечатана с посвящением сэру Фрэнсису Бэкону, «не только главному, но и единственному вдохновителю, который побуждал господ участников выразить свои самые добрые чувства по отношению к столь благородному союзу, заключенному среди столь великолепных торжеств».
Разлитие желчи было забыто, и можно надеяться, что обилие оленины не повредило пищеварению и не потребовало приема настойки ревеня. Конечно, у Чемберлена был злой язык, и он без зазрения совести преувеличивал, но когда он писал, что «Фрэнсис чванится своей челядью, своими нарядами и всем, чем только можно», он скорее всего говорил правду, потому что штат слуг Фрэнсиса, его секретарей, личных помощников, камердинеров, называйте их как угодно, быстро увеличивался, причем ему предстояло увеличиваться и впредь.
Надо полагать, не вся свита Фрэнсиса жила в Горэмбери, потому что в новой должности генерального прокурора ему придется проводить в Лондоне гораздо больше времени, а квартира в Грейз инне всех тоже не могла вместить. Без сомнения, штаб-квартирой генерального прокурора в этот период был загадочный Бат-Хаус, который оказался резиденцией на Стрэнде и именовался Арундельским дворцом. Двадцатисемилетний граф Арундел, ученый и большой знаток искусства, часто уезжал в Италию; он был главой семейства Говардов и приходился кузеном новоиспеченной графине Сомерсет и племянником ее отцу графу Суффолку. Пока граф жил за границей, за имением по его поручению присматривали родственники; Фрэнсис Бэкон снимал Бат-Хаус, он же дворец Арундел, и теперь понятно, почему Джон Чемберлен писал, что Фрэнсис обязан всему семейству Говард. Дворец, по мнению Стоу, «был одной из самых прекрасных и удобных резиденций в Лондоне, одноэтажный, с множеством просторных апартаментов; но на напечатанных впоследствии гравюрах мы видим низкие и отнюдь не роскошные постройки, хоть они и занимают очень большую площадь; из огромного парка, что раскинулся вверх и вниз по Темзе, открывались необычайно красивые виды».
Возможно, Фрэнсис Бэкон, его супруга и какая-то часть слуг жили в резиденции, которая, судя по гравюре Холларда, сделанной в 1604 году, и в самом деле состояла из нескольких зданий, которые можно было бы назвать и низкими, и далеко не роскошными, хотя, на наш современный взгляд, они очень живописны.
Все знаменитые дома находились на Стрэнде, на высоком берегу, спускавшемся к реке, и все, кто здесь жил, владея ли домом или арендуя его, считали долгом содержать владения в образцовом порядке, чтобы не ударить в грязь лицом перед соседями. Сам Фрэнсис родился в Йорк-Хаусе, неподалеку от Уайтхолла, и разве мог он когда-нибудь забыть роскошь, окружавшую его в детстве, когда его отец был лордом-хранителем большой государственной печати? Жить на широкую ногу для него было естественным состоянием, особенно после тех долгих лет, когда ему, молодому адвокату из Грейз инна, приходилось занимать деньги у брата и у друзей. Один из этих добрых друзей, сэр Майкл Хикс, уже не мог прийти к нему на помощь с мудрым советом, он умер от горячки летом 1612 года, четыре месяца спустя после смерти графа Солсбери.
Наконец-то завершились празднества и увеселения по поводу Рождества, Нового года, а также рождения первого внука их величеств и первого ребенка графа-палатина и его супруги, и теперь генеральный прокурор Фрэнсис Бэкон мог сесть за стол и написать письмо государю, дабы напомнить его августейшему величеству, что «время не стоит на месте». Король должен был в скором времени созвать парламент, и Фрэнсис опять смиренно умолял его величество «не покупать и не продавать парламент, но выступить в роли короля, а не торговца и подрядчика… Ведь Ваше Величество слышали ликующий звон колоколов и видели огни фейерверков в честь рождения Вашего внука, и сами можете сказать, что у Вас нет оснований сомневаться в любви к Вам народа Англии in punis naturabilis[20]. Да хранит Господь Ваше Величество».
К тому же он должен выступить со своей второй речью в качестве генерального прокурора перед Звездной палатой на заключительном заседании январской судебной сессии; первую речь, касающуюся запрещения дуэлей, он произнес пять дней назад. Сегодня, 31 января, он будет говорить не просто о лицах, обвиняемых в том, что они дрались на дуэли. Перед судом предстал некий Уильям Толбот, член ирландского парламента, католик, отказавшийся принести клятву верности тому, кого он считал «королем-еретиком». За это он был заключен в Тауэр, где просидел несколько месяцев, и теперь ему предстояло услышать официально вынесенный приговор. «На прошлом заседании нынешней сессии я представил на ваше рассмотрение вопрос о дуэлях, — говорил генеральный прокурор, обращаясь к их светлостям, — но нынче, на нашем последнем заседании, я представлю вам дело о самом жестоком поединке, который происходит в христианском мире, — это поединок между законной властью суверенных монархов, помазанников Божьих, призванных заботиться о благе общества, и все возрастающей гордыней и посягательствами папского престола, и этот поединок грозит безвластием и смутой».
Фрэнсис обрушил гневное обличение не на подсудимого Толбота, которого он вовсе не обвинял в личном предательстве, а на власть папы, которая способна внести смятение в души католических подданных его величества и лишить их ясного представления о том, кому они истинно должны повиноваться. «Приверженность граждан папе зиждется на его постановлениях. Нет никаких сомнений, что пришла пора искоренить убеждение, будто власть папы необходимо признавать in temporalibus[21], иначе это убеждение ослабит и погубит власть короля. Что касается вопроса веры… неужели и здесь все решает папа? Если бы кто-то спросил мистера Толбота, осуждает ли он убийство, прелюбодеяние, насилие, мусульманство… неужели он бы ответил, что будет относиться ко всему этому так, как повелит ему церковь?»
В заключение Фрэнсис обратился со словами милосердия к обвиняемому: «Уверен, что лорды высокочтимые судьи исходя из обычного благорасположения позволят вам не только оправдаться по всем пунктам предъявленного обвинения, но и привести такие дополнительные доказательства и смягчающие обстоятельства, какие Господь благорасположит вас представить».
Заседание кончилось тем, что Уильяма Толбота освободили и позволили уехать в Ирландию, причем даже без уплаты штрафа в 10 000 фунтов, который был на него наложен.
Наконец-то король принял решение о созыве парламента 5 апреля, и, как писал 3 марта Джон Чемберлен Карлтону: «За места в парламенте идет чуть ли не драка», — на сей раз это не было преувеличением, потому что когда избранные члены парламента собрались, выяснилось, что две трети из них никогда раньше в заседаниях не участвовали. Это не сулило ничего хорошего для самого парламента, в котором Фрэнсис надеялся возродить старые добрые традиции. Сам он был избран от трех округов — Сент-Олбанса, Ипсвича и Кембриджского университета: подношения королю не остались неоцененными, но он едва не лишился возможности эти округа представлять, потому что парламентарии подняли вопрос, а имеет ли право генеральный прокурор заседать в палате общин, — беспрецедентный случай в истории парламента. Была создана комиссия, проблему обсуждали и наконец пришли к заключению, что генеральному прокурору все же следует позволить участвовать в заседаниях. Он занял свое место как представитель университета, но начало сессии оказалось неудачным, в палате было слишком много новых лиц, от прежнего духа торжественной благопристойности не осталось и следа. Еще одна беда, как это понимал Фрэнсис и некоторые из членов палаты: его величество наконец-то нашел нового первого министра, который должен заменить покойного графа Солсбери, им оказался сэр Ральф Уинвуд, он хоть и ездил в качестве дипломатического посланника и во Францию, и в Голландию, но не был знаком ни с деятельностью парламента, ни с деятельностью правительства и вдобавок не обладал талантом привлекать к себе людей.
Однако не вина нового первого министра, что нынешняя сессия, получившая впоследствии название «тухлого парламента», оказалась с самого начала и до самого конца настоящей катастрофой. Члены парламента нескончаемо спорили и не могли договориться ни по одному вопросу. Предложение обсудить ассигнования на расходы короны — его внес генеральный прокурор в блестящем коротком выступлении, высказав мысль, что этот вопрос следует передать комиссии, состоящей из членов обеих палат, — было отклонено; фракцию сэра Генри Невилла, прозванную «гробовщиками», обвинили в желании подорвать авторитет парламента за попытки снискать милость государя; верхняя палата отказывалась совещаться о чем бы то ни было с нижней; спикер заболел, да и как тут было не заболеть; наконец его величество, до сей поры проявлявший незаурядное терпение, заявил, что распустит парламент, если тот незамедлительно не приступит к обсуждению ассигнований.
Это и ошеломило, и огорчило преданную своему королю палату общин, и все равно договориться она не сумела, так что 7 июня парламент был распущен. Генеральный прокурор, который год назад просил короля в частном письме «проститься со своим парламентом перед каникулами с любовью и уважением друг к другу», понял, что худшие его опасения сбылись. Трудно представить себе, чтобы между королем и парламентом сложились такие враждебные отношения.
Положение бросился спасать архиепископ Кентерберийский, отдадим ему должное; он предложил, чтобы все епископы в стране «послали королю все лучшие дары, что у них имеются»; без сомнения, примеру епископов последуют более низкие чины церковной иерархии, равно как и судьи, олдермены и все, кто занимает заметное положение в стране. И действительно, некоторые отозвались на призыв архиепископа, хотя и далеко не в таком широком масштабе, как хотелось бы, и щедроты этих отдельных лиц не слишком помогли казне. Деньги были внесены в сокровищницу британской короны в Тауэре, а уж попали они в королевский кошелек или нет, нам неведомо; однако граф Нортгемптон, выполнявший после смерти графа Солсбери обязанности министра финансов, вдруг сам неожиданно умер от опухоли на бедре, которая оказалась «злокачественной», и король незамедлительно назначил на его пост графа Суффолка. Зять графа Суффолка Сомерсет стал лордом-гофмейстером, а позднее среди министров произошли еще два перемещения: сэр Фулк Гревилл, поэт и друг Фрэнсиса Бэкона, был назначен канцлером казначейства вместо сэра Джулиуса Сизера, который стал начальником судебных архивов.
Парламент был распущен, и генерального прокурора не обременяли его непосредственные обязанности, однако небольшой отрывок из речи, которую он готовил о браконьерстве в Гиллингемском лесу, дает нам ясное представление о том, как в 1614 году человек с его статусом относился к подобным нарушениям: «Исключительные права на леса, парки, охотничьи угодья суть высшие привилегии, составляющие королевскую прерогативу; это украшение власти короля, важнейшие знаки его первенства и благородства, гордость процветающего королевства… Охота — занятие людей знатных и высокородных, она проводит границу между высшим и низшим сословиями, и потому я считаю, что это нарушение (браконьерство) не относится к разряду незначительных. Эти леса — великолепная защита от наплыва людей и возникновения поселений, которые так безобразят землю. Эти зеленые просторы короля суть великолепное украшение прекраснейшего из королевств».
Мы можем с полным основанием утверждать, что уж в Горэмбери, где Фрэнсис Бэкон мог отдыхать в обществе своей супруги и близких людей, хотя Тоби Мэтью все еще жил в Италии, никто бы не нашел ничего безобразного. Как и не встретил бы людей низкого сословия среди гостей в резиденции сэра Энтони Майлдмея в Эйпторпе, где тот в августе принимал его величество и где представил ему Джорджа Вильерса, очаровательного молодого человека двадцати двух лет, младшего сына сэра Джорджа Вильерса из Бруксби. Он не скакал верхом, но хорошо фехтовал и танцевал, был скромен и очень мил. Его величество был им очарован.
Солнце Роберта Карра, графа Сомерсета, начало клониться к закату.
Пока в последний день рождественских святок при дворе разыгрывались традиционные маски, а красавчик Джордж Вильерс порхал по дворцу в надежде привлечь внимание короля — который вскоре уехал охотиться в Ройстон, — Фрэнсис Бэкон готовил два дела по обвинению в государственной измене, одно против священника Эдмунда Пичема, чей приход Хинтон Сент-Джордж находился в графстве Сомерсет, другое дело против Оливера Сент-Джона, дворянина из Мальборо. Эдмунд Пичем не только чернил епископа Батского и Уэльского, но и написал памфлет, который намеревался напечатать и в котором бросал резкие обвинения своему покровителю, человеку, пожаловавшему ему приход, — внуку сэра Эмиаса Паулета, бывшего посла, с чьей свитой помощников Фрэнсис в молодости уехал за границу, и вдобавок осуждал короля и августейшую семью. Его бумаги были к тому времени изъяты, а сам он заключен в Тауэр.
Проступок Оливера Сент-Джона был не менее серьезен. То, что верноподданные граждане короля послали ему осенью дары для поправления монарших финансов, вызвало у Сент-Джона негодование, и он написал открытое письмо мэру Мальборо, в котором обличал этих верноподданных граждан и обвинял его величество в нарушении клятвы, которую он дал народу. Вследствие чего Сент-Джон тоже оказался в Тауэре.
В глазах его величества подстрекательство было равнозначно государственной измене. Его генеральный прокурор это знал и полностью разделял августейшее мнение. Его особенно огорчало, что в дело Пичема оказались вовлечены его старинные друзья, семейство Полетт. 21 января генеральный прокурор вместе с первым министром, начальником судебных архивов и другими членами совета поехали в Тауэр допрашивать Пичема, и в соответствии с обычаем тех дней несчастный священник прихода Хинтон Сент-Джордж «был подвергнут пыткам». Он все обвинения отрицал, и Фрэнсис написал королю: «Меня безмерно печалит, что Ваше Величество так обеспокоены делом Пичема, которого дьявол сначала надоумил кричать во весь голос, а теперь принуждает молчать. И хотя мы вынуждены добиваться у него признания, я от души надеюсь, что все завершится благополучно».
Однако до завершения было еще далеко, дело оказалось запутанным. Совет, как выяснилось, не имел права подвергать заключенного допросу, не согласовав этой процедуры с судьями, а судьи не считали, что заключенному следует предъявлять обвинение в государственной измене. Фрэнсис как генеральный прокурор был обязан консультироваться лично с лордом верховным судьей сэром Эдвардом Коуком и докладывать о результатах обсуждения королю.
Взаимная неприязнь и недоверие друг к другу с неизбежностью проявлялись во всех их беседах. От подобных переговоров успеха ждать не приходилось. Генеральный прокурор настаивал, что Пичема должно судить за измену, тогда как лорд верховный судья все время что-то записывал и не высказывал своего мнения, он заявил, что представит его в письменном виде. Когда он наконец это свое мнение представил, то оно свелось к тому, что «поношение и клевета, имеющие целью доказать, что король недостоин управлять страной, являются не государственной изменой, а оскорблением Его Величества».
Через несколько недель проволочки Пичема снова привели на допрос, это было 10 марта. На этот раз он набрался дерзости и стал вообще отрицать, что подстрекательский памфлет написал он, даже заявил, что его автор совсем другой человек, носящий такое же имя, он-де приезжал к нему несколько лет назад и, видимо, оставил где-то в доме свои бумаги! Фрэнсис писал в своем отчете королю: «Этот жалкий негодяй от всего отпирается, твердит, что даже почерк не его… но ни один суд в мире не сочтет смягчающим обстоятельством это отрицание своего почерка, ведь почерк невозможно подделать, а Адамс (свидетель) под присягой подтвердил, что это его рука, да и сам он неоднократно в этом признавался; своей наглой ложью он лишь усугубит тяжесть своего омерзительного преступления». Слушание дела было отложено до выездной сессии в графстве Сомерсет, которая должна была состояться в августе и в которой генеральный прокурор не принимал участия. Преступление Пичема квалифицировали как государственную измену, однако его не повесили, и он несколько месяцев спустя умер в тюрьме Тонтон.
Второе дело о государственной измене, в которой обвинялся мистер Сент-Джон из Мальборо, протестовавший против сбора средств для пополнения казны короля, рассматривалось в Звездной палате в конце апреля. Генеральный прокурор произнес гневную речь, в которой обвинил подсудимого в распространении клеветнических слухов, «в гнусной, подстрекательской клевете или, говоря языком Писания, в хуле самого короля; он представил его величество отступником, поправшим великую священную клятву, которую он принес при вступлении на престол, клятву, на которой зиждется монаршая власть; отступником, покусившимся на свободы, законы и традиции королевства; а это проступки, на которые были бы способны разве что еще один Генрих Четвертый или Ричард Второй…»
Звездная палата приговорила Сент-Джона к пожизненному тюремному заключению и к штрафу 5000 фунтов. Два месяца спустя Оливер Сент-Джон полностью признал свою вину, и через некоторое время его выпустили из Тауэра.
А вот третье дело о государственной измене слушалось в суде королевской скамьи 17 мая, обвинялся некто Джон Оуэн, католик, отказывающийся присутствовать на англиканском богослужении и признавать верховную власть короля, и во время суда над ним генеральный прокурор также произнес гневную обличительную речь, ведь дело Оуэна было сходно с делом Уильяма Толбота, осужденного за те же преступления еще в январе. Уильяма признали виновным, однако не повесили, как не повесили и других, а через три года освободили при условии, что он покинет страну.
Сессия закончилась, и Фрэнсис Бэкон мог теперь снова удалиться в Горэмбери, без сомнения, довольный, что процессы по обвинению в государственной измене удалось провести без особых затруднений и что у его величества было не слишком много поводов досадовать и гневаться. Могли он предвидеть, что осенью ему придется вести дело куда более серьезное, чем все предыдущие, дело, которое поставит короля в высшей степени в щекотливое положение и привлечет внимание всей страны.
Все началось со слухов, которые поползли летом по Лондону и наконец достигли ушей первого министра сэра Ральфа Уинвуда. Шептались о том, что сэр Томас Оувербери, бывший некогда близким другом графа Сомерсета и заключенный два года назад в Тауэр, где неожиданно умер 15 сентября 1613 года, оказывается, умер не своей смертью, как считали раньше, а был отравлен кем-то из охраны Тауэра.
Сэр Ральф Уинвуд тотчас же допросил коменданта Тауэра сэра Джервейса Элуиза. Тот сначала увиливал, уверял, будто узника пытался отравить помощник надзирателя Ричард Уэстон, но он, Джервейс Элуиз, об этом узнал и предотвратил покушение. Ему приказали написать подробный отчет обо всем произошедшем, и он признался, что слышал, будто узника Оувербери в самом деле отравили, поставив ему клизму с мышьяком, который принес посыльный аптекаря, а он, Элуиз, не разглашал этих сведений из страха подвергнуть опасности некоторых «высокопоставленных особ». Этими высокопоставленными особами были, как можно догадаться, граф и графиня Сомерсет.
Слухи уже перестали быть просто слухами, их было не пресечь. Первый министр уведомил его величество, его величество приказал провести полное дознание, и дело было поручено самому главному судье в стране сэру Эдварду Коуку.
В высшей степени сомнительно, что король приказал бы провести подобное расследование в 1613 году, когда Оувербери умер. Граф Сомерсет был тогда в большом фаворе и готовился жениться на графине Эссекс. После их свадьбы отношения между королем и фаворитом изменились. Сомерсет сделался властным и капризным, и теперь король — и не только король, но и королева Анна, которая всегда терпеть не могла Сомерсета, — души не чаяли в очаровательном Джордже Вильерсе, которому была пожалована должность королевского постельничего. И раскрытие правды об отравлении, которое могло обернуться для короля Якова катастрофой в 1613 году, сейчас, в 1615 году, стало просто серьезной неприятностью. Он лишь надеялся, что верховный судья Коук будет действовать благоразумно, что все второстепенные персонажи будут арестованы, приговорены и наказаны, и тем эта злосчастная история и кончится.
Но надеждам короля не суждено было сбыться. Созданная Коуком следственная комиссия обнаружила, что еще до роковой клизмы с мышьяком предпринималось несколько попыток отравить сэра Томаса Оувербери, причем отравить его пытались едой из кухни Тауэра, а еду готовила некая миссис Тернер, с которой была лично знакома графиня Сомерсет.
Миссис Тернер арестовали. Арестовали также Ричарда Уэстона и коменданта Тауэра сэра Джервейса Элуиза. Граф Сомерсет струсил и выдал себя, послав констебля в дом миссис Тернер забрать у нее письма, дабы их уничтожить. Узнав об этом вызывающем презрении к закону, следственная комиссия приказала взять графа под стражу.
Теперь уже не осталось надежды, что дело удастся как-то замять, лорд верховный судья Коук был намерен поставить на место зарвавшегося графа и его графиню (которая, кстати сказать, была беременна), а не только покарать мелкую сошку, которая была осуждена за соучастие в убийстве.
С мелкой сошкой разделались в первую очередь. Все исполнители дали признательные показания: помощник надзирателя сознался в том, что дал яд; миссис Тернер в том, что этот яд прислала; аптекарь в том, что продал его миссис Тернер; комендант Тауэра сэр Джервейс Элуиз в том, что потворствовал отравлению. В начале ноября всех их повесили.
До этого момента генеральный прокурор его величества сэр Фрэнсис Бэкон не принимал участия в разбирательстве, дело вел лорд верховный судья Коук. Фрэнсис вмешался после казни надзирателя Уэстона, когда двое друзей графа Сомерсета были арестованы за незаконный допрос несчастного на эшафоте в попытке добиться от него окончательной правды. Это было беспрецедентное преступление, и двое пособников Сомерсета, сэр Джон Уэнтуорт и сэр Джон Холлис, предстали перед Звездной палатой и были обвинены генеральным прокурором в чинении препятствий правосудию. «Что до проступков этих двух джентльменов, да позволят мне лорды высокочтимые судьи сказать, что это преступление гораздо более тяжкое и опасное, чем можно себе представить. Мне превосходно известно, что у нас нет испанской инквизиции, нет тайного суда, и мы не затыкаем людям рты перед смертью, в свой последний час они могут свободно высказать все, что хотят. Но их высказывания должны быть продиктованы их собственной доброй волей, а не вымогаться в ходе допроса. Задаваемые вопросы должны способствовать более полному выявлению собственной или чужой вины, но недопустимо устраивать противозаконный допрос и добиваться изменения показаний в res judicata (деле, уже решенном)».
Уэнтуорт и Холлис были осуждены Звездной палатой, однако впоследствии им было даровано помилование; Фрэнсис же высказал его величеству свое собственное непредвзятое мнение относительно улик, свидетельствующих о причастности графа Сомерсета к отравлению, уже после празднования Нового года, 16 января. Графа тем временем лишили всех постов и привилегий и заключили в Тауэр, а графиня 9 декабря разрешилась девочкой.
«Я говорил Вашему Величеству, — писал Фрэнсис 22 декабря, — и повторяю снова, что доказательства, на которых основано обвинение, предъявляемое милорду Сомерсету — причем это обвинение в отравлении, тягчайшем из преступлений, — выстроены четко и стройно, доказательственная база не содержит внутренних противоречий. Вашему Величеству известно, какая огромная разница между расследованием, которое ведет какой-нибудь суд в Миддлсексе или в Лондоне, и расследованием, за которое взялись пэры в Звездной палате; их, возможно, будет волновать не столько данное преступление, которое они считают таким же омерзительным, как и простые люди, сколько то, что может за ним последовать…»
«…Я со всем смирением осмелюсь напомнить Вам о двух вещах. Первое, я не сомневаюсь, что Ваше Величество мудро назначит такого судью, который будет в состоянии правильно оценить доказательства и не даст увести себя в сторону, ибо в моей власти заявить об этом, но не в моей власти пресечь. Второе, это что особое внимание должно быть уделено упорядочению и выявлению истинного значения доказательств и их взаимосвязи, а не только их выстраиванию с определенным уклоном. Если Вашему Величеству будет благоугодно самому отдать соответствующие распоряжения, то ничего лучшего нельзя и желать; если же нет, я смиренно молю Вас попросить милорда канцлера, чтобы он вместе с милордом верховным судьей совещался со мной и с моими помощниками, которым я поручу работу, по упорядочению и логическому выстраиванию доказательств, нам очень важно его мнение, равно как и мнение верховного судьи, чьи постоянные разъезды, которые я всячески одобряю, а также его plerophoria, иначе говоря, излишняя самоуверенность, постоянно подвергают риску исход дела, предоставляя его воле случая».
Фрэнсис хорошо знал, что plerophoria лорда верховного судьи Коука не раз приводила в прошлом во время процессов над знатными лицами к жарким спорам и препирательствам из-за предметов, не имеющих никакого отношения к делу, — например, его личная ненависть к сэру Уолтеру Рэли, которая проявилась в 1603 году во время суда над ним в Уинчестере, и злобные выпады против второго графа Эссекса, когда он еще занимал пост генерального прокурора, возмутили не только тех, кто присутствовал в Вестминстерском дворце, но и простой народ. Если граф Сомерсет и в самом деле причастен к отравлению сэра Томаса Оувербери, значит, его преступление должно быть доказано во время суда над ним; генеральный прокурор должным образом выполнит свой долг обвинителя, но ни в коем случае не станет чернить ни самого подсудимого, ни тех, с кем он связан, что могло бы бросить тень на его величество и даже на всю королевскую власть.
Слушание дела, назначенное на конец января или начало февраля, было неожиданно отложено лордом верховным судьей Коуком, который объявил, что получил свежие доказательства в конфиденциальном письме из Испании и что сначала необходимо эти доказательства рассмотреть и допросить некоторых лиц. При этом он дал понять, что новые доказательства могут повлечь за собой обвинение графа Сомерсета в еще более тяжком преступлении — в государственной измене.
Государственную измену вряд ли можно было трактовать как «уведение в сторону». Вызвали из Испании сэра Джона Дигби, английского посла, который прислал донесение, и он примчался в Лондон со скоростью почтового курьера, чтобы рассказать обо всем в подробностях. В обязанности генерального прокурора входило допросить двух лиц, которых посол назвал в своем письме как замешанных в деле: сэра Роберта Коттона, который выполнял поручения графа Сомерсета при испанском дворе, и сэра Уильяма Монсона, состоявшего на службе у испанской короны.
Фрэнсис подробнейшим образом сообщал королю о ходе допросов и вообще обо всем, что имело отношение к предстоящему процессу, но отметим важное обстоятельство: прежде чем известить о чем бы то ни было его величество, он теперь обращался письменно или лично к новому фавориту сэру Джорджу Вильерсу, который в прошлом году был возведен в рыцарское достоинство.
Фрэнсис никогда не был в близких отношениях с Робертом Карром, графом Сомерсетом. И никогда ему не писал, он обращался непосредственно к его величеству. Сейчас все изменилось. Джордж Вильерс был гораздо более доступен, чем Сомерсет, а Фрэнсис знал по собственному долгому опыту, что бывший фаворит, признают ли его виновным в приписываемом ему преступлении или оправдают, никогда больше не будет иметь прежнего влияния на короля. Восходила звезда сэра Джорджа Вильерса — вернее, уже взошла; к нему не только прислушивался король, но и всячески поддерживала королева, которая нежно называла его своим «сторожевым песиком» и писала ему записочки, начинавшиеся словами «Мой милый песик» и наполненные пожеланиями счастья. Такой приятный молодой человек, умеющий нравиться всем независимо от положения в обществе, может в ближайшем будущем оказаться полезным союзником.
В феврале, когда лорд-канцлер заболел и какое-то время опасались, что он не поправится, Фрэнсис счел это обстоятельство уместным поводом поблагодарить Джорджа Вильерса за высказанное его величеству мнение, что, если произойдет худшее, освободившийся пост мог бы занять генеральный прокурор.
«Сэр, письмо, которое принес мне от Вас мистер Шют, родило во мне великую веру и спокойствие, и отныне я буду связывать все свои надежды только с Вашей прекрасной, щедро одаренной достоинствами особой. Когда об этом предмете со мной заводят речь знатные и облеченные властью персоны, предлагают мне свои услуги и поддержку, я могу лишь любезно поблагодарить их. Но все это не более чем безделки. Моя жизнь принадлежит Вам, тому, чья жизнь для меня дороже, чем моя собственная. Я, как тот самый камень бирюзы из перстня, буду счастлив разбиться на множество осколков, лишь бы отвести от Вас легчайшую тень. Да хранит Вас Господь вечно.
Ваш преданный слуга Фрэнсис Бэкон.Милорду канцлеру гораздо лучше. Я провел у него вчера почти полчаса. Он проявил по отношению ко мне необыкновенную доброту. Мы оба плакали, а со мной это случается редко».
«Но все это не более чем безделки…» Любимое выражение генерального прокурора. Так начиналось еще не опубликованное эссе «О масках и триумфах», которое, вполне возможно, было написано как раз в это время и отложено в сторону, ведь авторы любят цитировать свои собственные сочинения, на рукописи которых еще не высохли чернила.
К апрелю Фрэнсис уже постоянно переписывался с Джорджем Вильерсом, рассказывая о допросах тех, кто содержался под стражей, включая и самого графа Сомерсета, которого допрашивали 18 апреля.
«Он от всего отпирается, а про порочащие его связи с Испанией твердит одно: он-де был так осыпан щедротами его величества, что ему бы и в голову не пришло желать большего и вступать в сговор с Испанией, ведь он не солдат… Что до последних строк Вашего письма, в которых Вы выражаете заботу о моей особе, я могу лишь ответить словами псалма: „Quid retribuam?“[22] Господь, помогший мне заслужить милость Его Величества, укрепит мои силы для служения Его Величеству.
Ваш верный и преданный слуга.
В ответ на Ваш постскриптум, где Вы извиняетесь за небрежный почерк, я молю Вас простить, что пишу не на бумаге с золотым обрезом, я сейчас нахожусь в Вестминстерском дворце, а у нас здесь царит простота».
Некая легкость, может быть, даже шутливость начала окрашивать тон переписки между генеральным прокурором, которому уже исполнилось пятьдесят пять, и двадцатичетырехлетним сэром Джорджем Вильерсом, которого в День святого Георгия, 23 апреля, возвели в кавалеры ордена Подвязки. В честь этого великого события его величество прибыл в Лондон из дворца Теоболдз, чтобы участвовать в праздничном ужине, а вот присутствовал ли на нем генеральный прокурор и пил ли за здоровье новоиспеченного кавалера, нам неведомо. Конечно, переносчики новостей горячо обсуждали это событие, как и другие животрепещущие темы дня, однако никто не счел достойным внимания то обстоятельство, что в День святого Георгия в Стратфорде-на-Эйвоне умер актер, драматург и владелец недвижимости мистер Уильям Шакспер, который жил здесь, удалившись отдел, с 1612 года, — то ли потому, что не слышали о его смерти, то ли потому, что событие это не заслуживало интереса.
28 апреля генеральный прокурор написал королю пространное письмо, в котором обосновал свои соображения по поводу того, что «Сомерсету следует сделать полное и откровенное признание в своем преступлении до суда… ведь признание и раскаяние суть опоры милосердия… а великое падение столь высокопоставленной особы само по себе есть суровое наказание, своего рода гражданская смерть, хотя лишать жизни за такого рода проступки не следует. Нужно сделать все, чего требуют честь и достоинство, и сохранить жизнь». Это не означает, что Фрэнсис надеялся на оправдательный приговор Сомерсету, — отнюдь нет; но, как он говорил его величеству, его задача «добиться такой формулировки обвинения, чтобы преступление не казалось слишком гнусным и не исключало возможности милосердия». (И нужно заметить, что за все время его пребывания на посту генерального прокурора ни один из подследственных, против кого он выступал обвинителем, не был приговорен к смерти. У Фрэнсиса Бэкона было много недостатков, но отсутствие сострадания к падшим среди них не числилось.)
Графиню Сомерсет судили прежде ее супруга, 24 мая, в пятницу. Она во всем созналась еще во время следствия и теперь, признав свою вину, ожидала приговора. «Она вызвала у всех жалость, — писал хроникер-любитель Джон Чемберлен, — потому что держалась спокойно и уверенно, что показалось мне чрезвычайно странным для дамы в столь прискорбных обстоятельствах». Узница признала себя виновной, и теперь генеральному прокурору осталось только просить лордов достопочтенных судей вынести ей приговор. В начальных словах его обращения к ним прозвучала надежда на милосердие. «Когда преступник признается в своей вине, это свидетельствует, как я считаю, о его благородстве; люди с низкой душой, кому уже был вынесен приговор, не признались, а она призналась. Я знаю, милорды достопочтенные судьи, что вы не можете смотреть на нее без сострадания. Вас может многое растрогать: ее молодость, ее красота, то, что она женщина, ее высокородная семья; да, и страсти, которые ее терзали, и соблазны, против которых она не устояла; но более всего ее раскаяние и ее признание. Мы сегодня должны совершить правосудие; Престол Господень находится во внутренней части храма, трон стоит у всех на виду. Эта дама своим признанием предварила и мое расследование, и ваш вердикт и облегчила нам нашу нынешнюю работу; и теперь, согласно установленной процедуре, мне остается только просить вас, чтобы ее признание было учтено при вынесении приговора».
Лорды достопочтенные судьи приговорили ее к смерти через повешение, но мало кто из присутствующих верил, что ее и в самом деле повесят, такое сильное впечатление на всех произвела речь господина прокурора, и графиню отправили обратно в Тауэр.
Назавтра перед высшим королевским судом в Вестминстерском дворце предстал граф Сомерсет, обвиняемый в отравлении сэра Томаса Оувербери, обвинение в государственной измене ему не предъявили, поскольку допрос свидетелей никаких доказательств не выявил. Он не признавал своей вины, и потому вся тяжесть доказательства вины пала на генерального прокурора. «Мы очень далеки от того, чтобы полагаться в суде только на остроумие, или искусство, или на случайный выигрыш или пытаться сурово выносить одни лишь обвинительные приговоры, чтобы наши имена напоминали только о крови осужденных, напротив того, мы всякое дело стараемся судить по справедливости. Мы будем высоко нести свет правосудия, основываясь на доказательствах, и не допускать, чтобы эти доказательства были запутаны недомолвками или увертками защиты, но были ясно выстроены перед нами, вот в чем заключается наша работа, и при этом мы будем оценивать доказательства сдержанно, но непредвзято, без преувеличений и приукрашиваний, соответственно их роли в установлении истины».
Слушание длилось почти восемь часов, присутствующие жаждали узнать мельчайшие подробности той страшной последней ночи сэра Томаса Оувербери, когда он умирал в невыносимых мучениях, при этом некоторые надеялись, что сейчас, возможно, оживут ходившие в 1612 году слухи о том, что всеми любимый принц Уэльский был тоже отравлен и что на его жизнь покусился тот самый граф, которого сегодня приговорят к смертной казни. А может быть, случится и еще более захватывающая драма: вдруг граф, защищаясь, назовет своим сообщником короля и выболтает тайну тех близких отношений, что связывали их все эти долгие годы?
Те, кто предвкушал скандал, были разочарованы. Джон Чемберлен писал своему приятелю Карлтону: «В прошлом письме я остановился на том, что граф Сомерсет заявил о своей невиновности, но привел так мало доказательств, что все лорды признали его виновным, но это его ничуть не испугало, и когда его попросили объяснить, почему он считает, что ему нельзя вынести обвинительный приговор, он упрямо повторил, что он просто невиновен, и все тут, и теперь, стало быть, он не имеет права обращаться к королю с просьбой о помиловании». Еще один любитель сообщать новости, Эдвард Шербурн (он в скором времени присоединится к штату секретарей Фрэнсиса Бэкона), сообщал своему корреспонденту: «Ответы его светлости были настолько неубедительны и беспомощны, что лорды высокочтимые судьи лишь качали головами и краснели от стыда, слыша жалкие оправдания из уст человека, от которого ожидали совсем другого. Единственное, что достойно похвалы, — это его стойкость и бесстрашие во все время процесса, оно ему ни разу не изменило, он не дрогнул, не поколебался».
И ни единого раза граф Сомерсет, защищаясь, не произнес ни слова, которое могло бы бросить тень на короля. Его приговорили к смертной казни, как и графиню, и тоже вернули в Тауэр, но, к разочарованию лондонской толпы, которая жаждала увидеть, как на Тауэр-Хилле начнут строить виселицу — графа в народе никогда не любили, — его величество заменил смертную казнь на пожизненное заключение, а в июле графиню и вовсе помиловал.
«Для себя у них одни законы, а для нас совсем другие», — должно быть, возмущалась толпа, узнав, в какой роскоши живут в Тауэре заключенные: алая бархатная мебель, обитые атласом стулья. Лишившимся зрелища казни лондонцам теперь придется ждать, когда в Смитфилде будут заживо жечь женщину из их сословия, которая убила своего мужа плотника, всадив ему стамеску в живот, — чуть менее зверский способ убийства, чем клизма с мышьяком.
А что же генеральный прокурор? Его величество был доволен ролью, которую Фрэнсис сыграл во время процесса, и предложил ему выбор: либо его прямо сейчас введут в состав тайного совета, либо король дает обещание назначить его лордом-канцлером, как только этот пост освободится. Фрэнсис Бэкон выбрал первое и написал третьего июня сэру Джорджу Вильерсу: «Король предлагает мне достойный выбор, а Вы человек, в ком мое сердце ни разу не ошиблось».
Двадцать лет назад, в октябре 1596 года, Фрэнсис Бэкон написал наставительное письмо тогдашнему фавориту Роберту Деверё, графу Эссексу, который был полной противоположностью Джорджу Вильерсу. Умный, блестяще образованный, импульсивный, склонный к резким перепадам настроения, двадцатидевятилетний Роберт Деверё был одной из самых ярких личностей в последние годы правления коварнейшего из монархов — королевы Елизаветы. Фрэнсис Бэкон был всего на семь лет старше его — адвокат, имевший место в парламенте, но без поста в правительстве, он руководствовался лишь собственным богатым опытом проницательного наблюдения, когда давал графу советы относительно того, как следует вести политические дела, в первую очередь сообразовываясь с тем, что именно замыслила ее величество.
Джорджа Вильерса, так недолго живущего при дворе, среди нескончаемо плетущихся интриг и вечной зависти, сейчас, на этом этапе его карьеры, политика не привлекала. Он хотел всем нравиться, ни с кем не враждовать, а теперь, когда Сомерсет попал в немилость и, уж конечно, никогда больше не появится на сцене, Вильерс оказался вдруг в совершенно неожиданном положении: все без исключения при дворе перед ним заискивали, ведь он — признанный фаворит государя, совсем не похожего на свою предшественницу, которая хлестала Роберта Деверё по щекам, если ей что-то было не по нраву.
Джордж Вильерс был, в сущности, совершенно беззащитен, ведь любой мог воспользоваться его неопытностью, а желающих было хоть отбавляй. Фрэнсис Бэкон знал, что королева Елизавета держала все дела государства в своих руках, к тому же к ее услугам были опытнейшие и талантливейшие государственные деятели. С королем Яковом все обстояло совсем не так. Да, он был монарх и ни на миг не забывал об этом, но его не интересовала деятельность правительства, не интересовала сложная структура английского парламента, возможно, потому, что он толком не разобрался в системе правления. Именно по этой причине он предоставил такую огромную свободу распоряжаться делами государства графу Сомерсету и клану Говардов; гораздо проще пустить все на самотек, а самому охотиться в лесных угодьях, надеясь, что все как-то уладится, проблемы — в том числе и финансовые — решатся сами собой. Фрэнсис Бэкон знал, что характер у Джорджа Вильерса гораздо более покладистый и уступчивый, чем у Сомерсета, и если его величество, наскучив каким-нибудь государственным делом или впав в досаду, скажет ему, как говаривал Сомерсету: «Займитесь этим вы, поступайте, как считаете нужным», — то неопытный молодой человек окажется жертвой опасных и к тому же соперничающих друг с другом интриганов, чьи противоречивые советы в конце концов поставят под угрозу безопасность королевства.
Мечты Фрэнсиса, родившиеся в первые годы правления нового монарха, когда у него не было должности, достойной его гения, и он хотел стать ректором какого-нибудь университета или колледжа, где можно было бы формировать мировоззрение юношей и учить их понимать все отрасли знания, чтобы они с наибольшей пользой служили своей стране, не были пустыми фантазиями. В Джордже Вильерсе он видел такого студента, который хочет, нет, жаждет знаний, его вознес так высоко случай, чудо; перед Фрэнсисом был ученик, которого он мог воспитывать, наставлять, и двадцать два года разницы в возрасте вовсе не были помехой, скорее помогали. Джордж Вильерс будет внимать ему, как внимала своему наставнику аудитория в Redargutio Phisosophiarum. Как внимали студенты в Грейз инне, как внимал Тоби Мэтью, который все еще находился в изгнании в Италии. Кстати, Тоби познакомился и подружился с Джорджем Вильерсом, когда фаворит путешествовал по Европе. Роберт Деверё не нуждался в советах по поводу политических дел и международных отношений, он во всем этом разбирался не хуже Фрэнсиса Бэкона. Его нужно было только предостерегать, чтобы он держался от всего этого как можно дальше и был всего лишь придворным и приближенным королевы, а самое главное — не добивался бы расположения народа и не искал воинской славы. Что касается Джорджа Вильерса, то более чем вероятно, что потворствующий своим слабостям король просто вынудит его заниматься политикой, и в таком случае ему следует научиться этому ремеслу.
В августе 1616 года Джордж Вильерс стал виконтом Вильерсом, и генеральный прокурор послал ему из Горэмбери поздравительное письмо. Воспользовавшись случаем, он также написал в это же время молодому человеку длинное письмо с наставлениями, касающимися его будущего. Как отнесся к этим поучениям Вильерс, нам неведомо. После смерти Фрэнсиса Бэкона среди его бумаг были найдены и опубликованы два варианта этого письма, разительно отличающиеся друг от друга. Первым был, по всей видимости, более короткий вариант, возможно, Фрэнсис сочинял его, сидя в своей библиотеке в Горэмбери или в уголке длинной галереи, и при этом ему представлялось, что он — глава Тринити-колледжа в Кембридже, где учился он сам, или колледжа Магдалины в Оксфорде, и обращается он пусть не к наследнику трона, но к почти столь же высокой персоне — царствующему фавориту.
«Помните же, каково Ваше истинное положение. Сам король выше своего народа, но не выше его критики; а Вы его тень, и если он допустит промах и не пожелает этого признать, а обвинит в нем своих министров, среди которых Вы будете особенно на виду, или если ошибку совершите Вы или она произойдет с Вашего попустительства и Вам придется за нее расплачиваться, то вполне возможно, что Вас принесут в жертву, дабы умиротворить толпу…»
«…Это правда, что взоры всего королевства устремлены к Вам, как к новой восходящей звезде, все убеждены, что смогут добиться чего-то при дворе, только если Вы будете их добрым ангелом-хранителем или хотя бы не превратитесь в их злого гения. Вы с этим ничего не можете поделать, разве что решитесь на что-то крайне рискованное и упадете в пропасть еще быстрее, чем вознеслись столь высоко. В таких делах ось, на которой все вертится, — общественное мнение».
Потом Фрэнсис предложил фавориту несколько правил, которые стоит соблюдать, когда его начнут одолевать докучливые просители: «во-первых, просители должны обращаться к нему письменно и ожидать, когда Вильерсу будет благоугодно им ответить; во-вторых, Вильерс должен посвящать часа полтора-два рассмотрению просьб и не принимать решения по собственному усмотрению или по совету друзей, но обсудить все со сведущими людьми, умудренными в своей профессии и способными вынести здравое суждение; и потом, вникнув в их суждения, сформулировать свой собственный ответ в течение недели и принять просителя в строго отведенные для этого часы».
Далее Фрэнсис рассматривает особо выделенные им темы, которые могут вызвать необходимость обсуждения и с которыми Вильерсу следует основательно ознакомиться, дабы чувствовать себя более уверенно во время дискуссий. Религия, переговоры с королями других государств, войны на море и на суше, плантации, колонии — он ничего не забыл.
«Касательно войны: лучший способ поддерживать прочный мир — это быть готовым к войне. Ощущение безопасности для королевства плохой советчик. Но в нашем королевстве, где моря суть наши крепостные стены, а суда — бастионы, где царят спокойствие и благоденствие и ведется оживленная внешняя торговля, было бы преступным упущением и позором пренебречь храбрецами, которые готовы вести за собой других на море и на суше, наше время по-прежнему нуждается в отважных духом; нам также необходимо создать запасы самого разнообразного оружия и боеприпасов, как если бы мы готовились к войне, и держать в боевой готовности все порты и форты, как если бы мы в любой миг ожидали сигнала боевой тревоги; подобная предусмотрительность и есть наилучшая защита. Но самая страшная из всех войн — это война внутри нашего собственного королевства; и король, и народ должны молиться, чтобы такая буря не разразилась: король с его мудростью, справедливостью и трезвым взглядом должен предвидеть и предотвращать надвигающуюся бурю, и если она все же разразится, он должен ее остановить, а народ проявить покорность и отказаться от участия в ней. Что до войны с другими государствами, на чью территорию вторгаются войска, желая расширить владения нашей империи, я не имею на этот счет суждения… Я знаю, что подданные нашего королевства считают беззаконием, когда их вынуждают плыть за море, не спрашивая их согласия… Однако если нужно дать отпор вторгшемуся врагу или подавить мятежников, граждане должны оставить свои дела и подчиняться приказу. Все королевство есть единый организм… Dum singuli pugnamus, omnes vincimur (сражаясь в одиночку, мы гибнем)».
Современный читатель особенно оценит суждения Фрэнсиса Бэкона относительно торговли с колониями и с иностранными государствами.
«Нужно заложить основы выгодной торговли, чтобы вывоз товаров из королевства по стоимости превышал ввоз товаров иностранных, дабы мы были уверены, что общее богатство королевства год от года растет, потому как в противном случае дефицит баланса торговли должен покрываться оттоком из страны денег или золота и серебра в монетах или слитках… Будем же развивать производство товаров в нашем собственном государстве и при найме на работу отдавать предпочтение нашим гражданам, а не иностранцам, пусть шерсть, которую дают наши овцы, превратится в пряжу и ткани, а выращиваемые на наших полях лен и конопля — в полотно и пеньку, это даст работу многим тысячам рук… Из всего, что может способствовать общественному благосостоянию, я бы в первую очередь рекомендовал Вашему вниманию поощрение животноводства и расширение пахотных земель… И наконец последнее: я молю Вас взять в серьезнейшее рассмотрение те сравнимые с сокровищами Индии богатства, которыми изобилует наш остров и омывающие его моря, таящие несметное изобилие рыбы и возможности рыболовства… Я мог бы с полным основанием сказать англичанам: „Бездельники, убирайтесь к таким же ничтожествам, как и вы“. Нет необходимости давать здесь всему подробное обоснование, достаточно краткого, на полдня, обзора, чтобы понять и что случилось, и кто виноват».
Далее Фрэнсис наставляет своего ученика, как следует вести себя при дворе: не вмешиваться в дела, которыми надлежит заниматься чиновникам, гофмаршалам и гофмейстерам, однако зорко следить за тем, чтобы король не стал жертвой злоупотреблений. «Но ни в шутку, ни всерьез не склоняйте Ваш слух к речам льстецов и подхалимов, которыми кишат все королевские дворы. Они подобны мухам, которые не только жужжат возле уха, но и заражают и губят все вокруг».
Заключает он письмо Джорджу Вильерсу предостережением:
«Вы служите милосердному и доброму государю, однако не должны пренебрегать благородным и наделенным множеством талантов принцем; любите его, как восходящее солнце, но не в такой мере, чтобы вызвать ревность у его отца, который так возвысил Вас; и точно так же не вызывайте зависти у сына, выказывая слишком большую уверенность в привязанности к Вам его отца; держитесь с обоими на подобающем расстоянии, которое позволит Вам служить и одному, и другому… И тогда Вы сможете долго приносить благо Вашему королю и Вашей стране; Вы не пронесетесь мимо, как метеор, не вспыхнете на миг, как падающая звезда, вы будете сиять, как Stella fixa, счастливый в этой жизни и еще более счастливый в иной».
Казалось бы, это наставительное письмо вполне могло занять все часы досуга генерального прокурора, проводившего лето 1616 года в Горэмбери; но нет, его ум не знал отдыха, и он, надо думать, не под давался «губительной привычке спать после обеда или в четыре часа дня». Почему бы не пересмотреть всю систему права Англии, что не только принесет пользу стране, но и — если король согласится с предлагаемыми поправками — в очередной раз разозлит лорда верховного судью Коука, который был с июня временно отстранен от должности за то, что придерживался некоторых сомнительных доктрин в юриспруденции, которые не одобряли ни его величество, ни тайный совет. Такова была официальная версия его отстранения. К тому же лорд верховный судья вмешался в дело Сомерсета, предъявив графу необоснованные обвинения в изменнических действиях.
Перо Фрэнсиса — или его секретарей — трудилось без устали: то он писал наставления Джорджу Вильерсу, то поправки к законам, то эссе, то редактировал большой трактат, над которым сейчас работал — «Novum Organum», — то, возможно, просматривал какой-то из своих латинских опусов, к примеру «Описание умственного мира» или «Теория неба». Возможно, послеполуденное рассеяние вызывалось движением планет, а не задержавшимся в желудке легким обедом, который требовал моциона, и Фрэнсис отправлялся на прогулку в парк или сад; его молодые помощники уставали гораздо скорее, чем он, а его ничто так не освежало, как прогулки по любимому саду. «Сад должен радовать нас круглый год… В июле расцветают левкои самых разнообразных расцветок, мускусные розы, липа, из фруктов поспевают ранние груши и сливы… В августе сливы всех сортов, персики, горох, барбарис, лесные орехи, мускусные дыни, распускаются разноцветные акониты…» Теперь он уже не так увлекался декоративными водоемами, как несколько лет назад. «Фонтаны прекрасны, и они освежают, а от водоемов один вред, сад становится нездоровым, всюду разводятся мухи и лягушки…» Мы мысленно видим, как он разгоняет своей высокой шляпой жужжащих насекомых или отмахивается от них носовым платком. «Главное, нужно устроить так, чтобы вода не застаивалась, а всегда текла… стоячая вода зеленеет, краснеет, буреет, зарастает тиной, гниет. Кроме того, фонтаны нужно каждый день чистить вручную; хорошо, чтобы перед чашей фонтана были ступеньки, а земля вокруг красиво вымощена. Что до другой разновидности фонтанов, которые можно назвать бассейнами, то они могут быть очень причудливы и красивы, но мы сейчас на них отвлекаться не будем».
Плесканье молодых джентльменов в водоемах Горэмбери явно не поощрялось. Подобное времяпрепровождение граничило с распущенностью…
В общем и целом каникулы оказались долгими и приятными, да и год прошел неплохо. Процесс над графом Сомерсетом, в ходе которого могли возникнуть нежелательные осложнения для его величества, был проведен вполне честно и достойно; Сомерсет был удален со сцены, но жизнь ему сохранили, равно как и его супруге. С новым фаворитом виконтом Вильерсом Фрэнсис связывал большие надежды, и если королевский любимец будет прислушиваться к советам, которые ему дают, это не принесет монарху вреда, скорее наоборот, и он может оказаться бесценным помощником. Детская враждебность принца Чарлза скоро пройдет, недавно он облил фаворита водой в Гринвиче, но это всего лишь мальчишеская проказа, хотя король влепил сыну за это пощечину. В ноябре принца официально провозгласят принцем Уэльским, и это торжественное событие поможет ему повзрослеть.
Во время новой сессии предстояло заниматься множеством мелких незначительных дел, но было и одно важное — разобраться в деле лорда верховного судьи и решить его будущее. Лорд Коук опубликовал отчеты по нескольким сотням дел, разрешенных в судах, и в этих решениях он усмотрел проявления правовых подходов, несовместимых с правами короны, церкви и самих судов. Ему приказали исправить или удалить из текста все утверждения, которые могли быть оценены как ложные или вызывающие сомнения, и временно отстранили от должности. Второго октября лорд-канцлер Элсмир и генеральный прокурор по повелению короля запросили его о том, были ли исправлены эти ошибки. Коука трижды официально вызывали в тайный совет для дачи показаний по его отчету, и после этого пункты, по которым остались разногласия, были доложены его величеству.
Генеральный прокурор, который мог бы, как ожидалось, обрушиться на своего давнего противника со всей суровостью, «проявил по отношению к нему гораздо больше уважения, чем все остальные», сообщил Чемберлен в своем письме от 26 октября. «Что до речей, которые он произносит в его поддержку, то это речи человека редкой учености и необыкновенных талантов, такого не каждый день встретишь, да и не так часто они вообще на свет рождаются».
На предварительных слушаниях в июне, когда лорда верховного судью отстранили от должности, Фрэнсис был не столь мягок; но то, что он относился с уважением к своему бывшему сопернику, явствует из пассажа, который он написал во время долгих каникул в «Предложениях по усовершенствованию законов Англии»: «Если бы не отчеты сэра Эдварда Коука, — которые, возможно, содержат ошибки и некоторые выводы в них слишком категоричны и юридически не обоснованы, тем не менее есть и правильные решения и постановления по судебным делам, — то наше нынешнее законодательство уподобилось бы судну без балласта».
Возможно, была и еще одна причина снисходительности, которую Фрэнсис проявил в октябре, на него произвело сильное впечатление поведение супруги Коука, леди Хаттон, которая, как писал Чемберлен, решительно встала на сторону супруга и «горячо доказывала его правоту перед членами тайного совета, чем стяжала себе добрую славу». Леди Хаттон, которая ссорилась с лордом верховным судьей все девятнадцать лет их совместной жизни, теперь, когда он попал в беду, проявила себя по отношению к нему преданной супругой.
Но все оказалось напрасно. Король, по только ему ведомым причинам — возможно, потому, что лорд верховный судья вмешался в процесс над Сомерсетом, или потому, что, как всем стало известно, он подверг сомнению королевские прерогативы, — решил сместить Коука, и на третьей неделе ноября Коук был отставлен. Это известие «ввергло его в горе и слезы», как докладывал своему приятелю Джон Чемберлен. На место Коука генеральный прокурор рекомендовал сэра Генри Монтегю, который и стал его преемником. Что касается леди Хаттон, ее преданность мужу исчерпала себя, и она покинула его резиденцию в Стоуке, забрав все свои вещи, а оставленный супруг удалился в свое поместье в Норфолке.
Теперь, когда сцена освободилась, генеральный прокурор получил возможность заняться другими насущными делами, но сначала надо было написать письмо виконту Вильерсу, который в день отставки верховного судьи Коука слег с простудой.
«Мой добрый господин, я очень встревожен вестью, что Вы не совсем здоровы, ибо Ваше недомогание лишает меня радости, а без Вас я и вовсе не желаю жить на свете… Мой добрый господин, еще раз умоляю Вас: берегите себя; и да будет Вам известно, что от простуды умирает больше людей, чем погибает на войне, как утверждает Карданус[23]. Да хранит Вас Господь вечно.
Преданный и верный слуга Вашей светлости».
Возможно, вместе с письмом были посланы фрукты из Горэмбери — например, мушмула или цветы алтея и «поздние розы».
После чего Фрэнсис сразу же окунулся в дела. Произнес речь в Звездной палате против дуэлей: поссорились пэр Англии и мелкопоместный дворянин. Пэр утверждал, что его оклеветали и что виноват в этом дворянин. Генеральный прокурор быстро с ними обоими разобрался. «Непомерно раздувающуюся человеческую гордыню следует осаживать с помощью правосудия, иначе неизбежна гибель… Неужели вы будете приводить на заклание людей, а не тельцов и баранов?» Острый язык генерального прокурора не пощадил дуэлянтов, мелкопоместному дворянину пришлось заплатить небольшой штраф, пэру было сделано внушение. «Да не допустит Господь, чтобы в привилегии пэров включалась привилегия причинять кому бы то ни было зло; однако и здесь следует соблюдать различия, ибо зло, причиненное пэром, наибольшее».
Затем Фрэнсис направил свои усилия на то, чтобы добиться монаршего помилования для последнего из обвиненных по делу Сомерсета и содержащихся в Тауэре, сэра Томаса Монсона. Обсудив все с лордом-канцлером, генеральный прокурор вместе с генеральным стряпчим (сэром Генри Йелвертоном) написали королю, что «в этом деле как раз было бы уместным королевское помилование осужденного, так как доказательства вины сомнительны, сэр Томас Монсон виновным себя не признал по соображениям, которые посчитал оправдывающими его, и таким помилованием дело могло бы быть правильно и справедливо завершено». (Помилование было официально утверждено Судом королевской скамьи в начале февраля следующего года.)
Перед Рождеством по городу распространилось анонимное письмо с наставлениями смещенному лорду верховному судье сэру Эдварду Коуку, вызвавшее всеобщий интерес и разноречивые толки о том, кто же автор. Некоторые были склонны считать, что его написал генеральный прокурор, и кое-кто из историков до сих пор придерживается этого мнения. Однако согласно биографу Бэкона Джеймсу Спеддингу генеральный прокурор никак не мог быть автором письма, в котором проявляются сильные пропуританские симпатии и высказываются взгляды на государственные дела и политические отношения, прямо противоположные взглядам Фрэнсиса Бэкона. Язык, стиль, общая позиция, все было другим, предположение об авторстве Фрэнсиса возникло, вероятно, потому, что экземпляр этого письма — а их было напечатано и ходило по городу множество — был обнаружен среди бумаг Фрэнсиса Бэкона в 1648 году и включен в том, названный «Посмертные труды высокочтимого Фрэнсиса, лорда Верулама». Вот что писал вскоре после появления анонимного письма Чемберлен, который, как можно предположить, был первым, кто приписал авторство Фрэнсису Бэкону: «В моем последнем послании я забыл сообщить то, что узнал касательно автора наставлений лорду Коуку. Некоторые утверждают, что это господин прокурор, другие, что Джошуа Холл, третьи, что доктор Хейуорд, кто-то называет имена, которые назвали и Вы; но мы, конечно, достоверно ничего не знаем».
Фрэнсис в это время действительно распространял одно свое сочинение, но это был трактат «Правдивое представление злодейского убийства» с гравюрами, на которых изображалось убийство, совершенное в Линкольнз инне, а также самоубийство злодея (он повесился в тюрьме до суда). Возможно, Фрэнсис диктовал текст, а записывал его адвокат и друг Фрэнсиса Николас Тротт. «Я сочинил небольшой памфлет касательно этого дела и отправил в типографию, его прелестно записал некий мистер Тротт», — сообщил генеральный прокурор виконту Вильерсу; но, конечно же, «все это не более чем безделки», потому что приближались рождественские празднества и фаворита ожидали новые почести. 5 января 1617 года он стал графом Бекингемом.
Был последний день святок, Двенадцатая ночь, во дворце представляли маску. Новоиспеченный граф танцевал с королевой. Как танцевал когда-то один из прежних фаворитов, граф Монтгомери, который не поднялся до таких высот. Маску повторили в конце месяца в присутствии испанского посла, и тут же все заговорили о королевской помолвке, об обручении новопровозглашенного принца Уэльского с испанской инфантой. Такой союз, если бы ему и суждено было состояться, вряд ли встретил бы одобрение в народе и в палате общин, потому что инфанта была католичка. Король не скрывал, что желает этого брака, тайный совет относился к нему сдержанно. Как бы там ни было, обсуждение союза между двумя королевскими домами потребует немало времени, а его величество сейчас занимали его собственные непосредственные планы, к осуществлению которых уже начали готовиться, — он собирался в свою первую поездку в Шотландию с тех пор, как был возведен на престол Англии в 1603 году.
Отъезд был назначен на вторую неделю марта, во время его отсутствия делами короны и королевства будет заниматься тайный совет. Лорд Элсмир — лорд-хранитель большой государственной печати и лорд-канцлер — заболел в начале года и сейчас был прикован к постели. Он сообщил королю, что слишком слаб, не может выполнять свои обязанности, и просил освободить его от них. Его величество лично посетил больного в Йорк-Хаусе 7 марта, после чего передал большую государственную печать и должность лорда-хранителя генеральному прокурору сэру Фрэнсису Бэкону. Вечером того же дня граф Бекингем получил письмо.
«Мой драгоценный господин, слова благодарности за небольшие услуги и доброту легко слетают с языка, но великая благодарность за великое благодеяние остается немой и лишь переполняет сердце. И посему я скажу сегодня Вашей светлости совсем немного, к тому же и временем я не располагаю, но должен заверить Вас, что, если Вы хотите увидеть самого верного, преданного и великодушного друга, какого когда-либо можно было встретить при дворе, Вам достаточно посмотреть в зеркало, об этом свидетельствуют события нынешнего дня. И я буду считать потерянным всякий день, если он лишит меня возможности восхищаться Вашими благодеяниями в душе, произносить с благодарностью Ваше благородное имя и служить Вам делами. Мой добрый господин, остаюсь Вашим самым верным и преданным слугой из всех, кого можно найти на земле.
Фр. Бэкон. С. S.[24]».
«Маленький лорд-хранитель большой печати» королевы Елизаветы возвысился до должности своего отца.
Через три дня после того, как Фрэнсис Бэкон стал лордом-хранителем большой государственной печати, он навестил своего старинного друга лорда Элсмира, чей пост он занял, и рассказал об обещании короля пожаловать ему в связи с выходом в отставку графский титул и выплачивать до конца его дней пенсию в размере 3000 фунтов в год. Почести опоздали. Старый государственный деятель, совмещавший обязанности лорда-хранителя печати и лорда-канцлера, лишь смог прошептать в ответ слова благодарности и попросить, чтобы и титул, и пенсию передали его сыну.
Сидевший у его постели Фрэнсис заверил больного, что его величество выполнит его последнюю просьбу. Но даже он не ожидал, что конец наступит так скоро, — через полчаса лорд Элсмир скончался.
Он занимал свой пост больше двадцати лет, его любили и уважали все, кто его знал. Он был добрым и верным другом и Фрэнсиса, и его брата Энтони, и если Фрэнсис плакал, навестив его во время болезни около года назад — как он признался тогда в постскриптуме письма к Джорджу Вильерсу, — то, без сомнения, еще более горькие слезы лил он сейчас.
Лорд Элсмир умер в Йорк-Хаусе, может быть, в той самой комнате, где умер отец Фрэнсиса и Энтони — сэр Николас Бэкон; и когда Фрэнсис сидел у постели умирающего, в его душе наверняка теснились воспоминания о прошлом, о детстве, он мысленно видел отца в парадном одеянии лорда-хранителя и с символом своей должности — большой государственной печатью. Увы, никаких дневниковых записей за 1617 год не существует. Если Фрэнсис и вел тогда записи, то они либо были уничтожены, либо пропали. Но одно несомненно: Фрэнсис Бэкон, ныне лорд-хранитель большой государственной печати, в этот день решил, что он будет нести свои обязанности так же честно и достойно, как их нес его непосредственный предшественник, а до него лорд-хранитель Пакеринг, но в особенности как человек, вступивший в эту должность в 1558 году по восшествии на престол королевы Елизаветы, — его родной отец.
Йорк-Хаус был в те времена их домом, первым домом, который Фрэнсис знал. Здесь он появился на свет пятьдесят семь лет назад. Он помнил, как его мать распоряжалась огромным штатом прислуги, а кузен отца Кемп заведовал всем хозяйством. Швейцары, официанты, лакеи, горничные, повара, прислуживающие более высокого ранга, священник, секретари — все были всегда чем-то заняты… Сейчас, из настоящего, эта жизнь казалась Фрэнсису яркой, праздничной. Вот они с Энтони стоят у спуска к реке и наблюдают, как вода в Темзе отступает при отливе, обнажая дно, уходит за дворец Уайтхолл, а при приливе и крепком ветре хлещет в каменную стену ограждения, и та едва выдерживает напор.
Фрэнсис вернется: он снова будет жить дома. Йорк-Хаус принадлежит отцу Тоби Мэтью, архиепископу Йоркскому — когда-то он и был резиденцией архиепископа Йоркского, — но теперь его сдают в аренду хранителям печати. Да, он вернется домой, но сначала пусть пройдет сколько-то времени и осиротевшая семья покойного лорда-хранителя переживет утрату. Он помнил, с какой непристойной поспешностью тридцать восемь лет назад его мать заставили собрать вещи и выехать из дома, чтобы освободить резиденцию для преемника ее мужа. На сей раз к горю семьи будет проявлено уважение, а обещание добиться передачи графского титула для сына лорда Элсмира поможет ему смириться с потерей.
А пока Фрэнсис должен подыскать жилище для себя и своей супруги. Его свита помощников и слуг неизбежно увеличится, как того требует его новый статус. То, чем довольствовался генеральный прокурор, не может удовлетворить лорда-хранителя большой государственной печати, который в отсутствие короля, совершающего свой вояж по Шотландии, будет председательствовать на заседаниях тайного совета как первое должностное лицо королевства; более того, поскольку король будет в отъезде несколько месяцев, все дела, связанные с управлением государством, будут возложены на него. Он будет каждый день ездить во дворец Уайтхолл и во всех смыслах этого слова заменять монарха. Ходили слухи, будто королева, не сопровождавшая его величество в поездке по Шотландии, была недовольна, что ее не сделали регентшей и она не сможет вести дела государства сама. Возможно, слухи не врут. Что ж, ей будут оказывать всяческий почет и уважение, однако лорд-хранитель вздохнул с облегчением, когда она и принц Уэльский решили переселиться в свою новую резиденцию в Гринвиче на все то время, что король проведет на севере; ее придворные и другие члены совета могут последовать за ней туда.
Итак, где же Фрэнсису пока жить?
Часть Солсбери-Хауса, где прежде жил его кузен, была свободна, но там Фрэнсису будет слишком тесно. Эссекс-Хаус? С ним связано слишком много воспоминаний. Ему предложили поселиться без всякой платы в Дорсет-Хаусе, принадлежащем графу Дорсету, пока не освободится Йорк-Хаус. Это должно на какое-то время удовлетворить его супругу и ее все увеличивавшийся штат челяди. Но сначала — и, несомненно, по собственной просьбе Элис, которую подсказала ей ее мать, постоянно вмешивающаяся в их жизнь, — сначала гарантия за подписью его величества о том, что «леди Бэкон займет по протоколу место по старшинству на любых приемах, как королевских, так и частных, рядом с леди и супругами баронов королевства». Теперь Элис, удостоившейся таких почестей, не пристало скандалить и жаловаться, что на приемах во дворце ее не замечают и даже выказывают ей пренебрежение.
Государственные дела требовали много внимания: нужно было строить торговые города в Ирландии, чтобы вывозить из страны шерсть; принимать меры для предотвращения беспорядков в Лондоне, где они в последнее время то и дело вспыхивали, увеличить число хорошо обученных отрядов, которые поддерживают в городе порядок, принять меры против морских пиратов, от которых терпят великий ущерб и капитаны, и купцы, теряя суда и груз, для этого нужно по возможности заручиться поддержкой и помощью короля Испании, чье желание сотрудничать, возможно, будет зависеть от переговоров о заключении брака его дочери с принцем Уэльским…
Шесть дней пасхальных каникул в Горэмбери возродили Фрэнсиса. Одним из его новых секретарей теперь был Эдвард Шербурн, он в последний год часто переписывался с Дадли Карлтоном и Джоном Чемберленом, сообщая им все подробности процесса над графом Сомерсетом. Такие молодые люди, располагавшие разными источниками сведений, были полезны новому лорду-хранителю.
Седьмого мая 1617 года сэр Фрэнсис Бэкон, назначенный лорд-хранитель большой государственной печати и исполняющий обязанности лорда-канцлера до утверждения преемника покойному лорду Элсмиру, а также представляющий монарха, сел на положенное ему место в канцлерском суде и произнес свою первую речь в новой должности. Любители новостей и сплетен язвили и злопыхали по поводу этого события, как только могли. «Наш лорд-хранитель перещеголял всех своих предшественников великолепием и многочисленностью своей свиты, — писал один из них. — Это приводит в изумление всех, кто помнит его более чем скромное прошлое подле не слишком милостивого к нему монарха». (Автор письма, видимо, не знал, что Фрэнсис Бэкон занял должность, которую когда-то занимал его отец.) «В первый день сессии он приехал в Уайтхолл с величайшей пышностью, кроме собственной свиты, его сопровождали все лорды — члены тайного совета его величества и другие лорды, все рыцари и мелкопоместные дворяне, кто только мог раздобыть себе лошадь и попону». Джон Чемберлен сообщал: «И люди были одеты более роскошно, и всадников прибыло больше, чем можно было ожидать в отсутствие короля; однако и королева, и принц прислали всех своих придворных, да и его друзья тоже всеми способами выказывали ему уважение. Он произнес речь в канцлерском суде; ее смысл заключался в том, что судебная система нуждается в некоторых реформах, о чем говорил и его предшественник, начинания которого, как он всех заверил, он намерен продолжать, исключив лишь некоторые из его планов, однако ничего из уже сделанного им отменять не будет. Потом он стал на все лады расхваливать правоведение и заявил, что сыновья великих юристов должны по праву занимать место своих отцов… Большая часть его свиты обедала в тот день с ним, а обед обошелся ему, как все говорят, в 700 фунтов».
В речи, которая была целиком посвящена юридическим тонкостям в деятельности канцлерского суда, Фрэнсис произнес и такие слова:
«Правосудие священно, оно есть цель, ради которой я был призван занять эту должность, и потому оно мой путь на небеса, и разве не благо, если этот путь станет немного короче, и потому я, с соизволения Господа, если Господь даст мне силы, буду все дни и даже вечера после окончания недельной сессии уделять скорейшему рассмотрению и решению дел канцлерского суда. Только во время долгих каникул я смогу посвятить сколько-то времени заботам о своем имении, занятиям, искусству, наукам, к чему я по своей природе наиболее всего склонен».
Любопытное наблюдение в первом письме, где автор язвит по поводу огромной свиты, с которой лорд-хранитель въехал во двор Уайтхолла: сам лорд-хранитель был одет, как и в день своей свадьбы в 1606 году, в наряд из пурпурного атласа. Неужто Фрэнсис в пятьдесят шесть лет все еще не расстался со своей детской фантазией — царственный пурпур как всплеск им самим не осознаваемой мечты? Если так, это находилось в полном противоречии с его другим «я», потому что на следующий день он написал графу Бекингему, который сопровождал короля в его поездке: «Вчера я занял свое место в канцлерском суде, которое получил благодаря благоволению и милости короля, а также Вашей неизменной дружбе. Церемония сопровождалась великой суетой, собралось множество народу. Но этот блеск и пышность, которых иные жаждут как райского блаженства, для меня равнозначны адским мукам, ну в крайнем случае пребыванию в чистилище». Стало быть, за внешней роскошью и великолепием скрывалось его внутреннее «я», или, как он выразил другими словами в своем трактате «Redargutio Philosophiarum»: «Человек высокого понимания всегда надевает маску при общении с низшими».
Неудивительно, что на следующей неделе он не появился ни в канцлерском суде, ни в Звездной палате из-за разыгравшейся подагры — во всяком случае, такое объяснение представил он сам. Помните его недомогание после получения должности генерального стряпчего? Недомогание после получения должности генерального прокурора? «Непонятная тяжесть, тоска, тревога…» Его отсутствие вызвало разноречивые толки среди любопытствующих. «Но общее мнение склоняется к тому, что и физическое его здоровье, и душевная конституция слишком хрупки, — писал Джон Чемберлен, — так что он вряд ли выдержит бремя огромного числа обязанностей, которые должен нести человек, занимающий его пост; и если он не взбодрится и не пересилит свою природную предрасположенность, пострадают и частные лица, и все королевство в целом».
Но Чемберлен напрасно тревожился. Подагра ли разыгралась у лорда-канцлера или он ощущал мучительную тяжесть в голове, однако ни то ни другое не помешало ему составить речь по случаю назначения нового лорда верховного судьи Ирландии сэра Уильяма Джонса, к которому он обратился с такими словами: «Ирландия — последнее из ex filiis Europae[25], чьи земли были отвоеваны у разорения и пустыни и в значительной мере заселены и обработаны; чье население отвращено от варварства и дикости и приобщено к цивилизации и гуманности… И теперь это королевство, о союзе с которым умудренные политики и не помышляли еще какие-нибудь двадцать лет назад, превращается в цветущий сад, становится младшей сестрой Великобритании… И вот мое последнее напутствие, хотя по важности оно стоит на первом месте: предпринимайте все возможные усилия, дабы продвигаться вперед решительно и неуклонно, однако проявляйте терпимость и уважение в вопросах религии, иначе цивилизованная Ирландия может стать для нас более опасным врагом, чем Ирландия дикая».
Печально, что и Англия, и Ирландия так мало ценили в последующие годы напутствие лорда-хранителя. Оно родилось в уме человека, отнюдь не затуманенном мрачными мыслями.
Когда Фрэнсис наконец снова появился в канцлерском суде на третьей неделе мая, он, возможно, пожалел, что не продлил свой приступ подагры. Оказалось, что между его давней любовью леди Хаттон и ее супругом сэром Эдвардом Коуком кипит яростная ссора. Леди Хаттон явилась в совет в сопровождении своего брата лорда Берли и нескольких друзей и бросила на стол жалобу, в которой обвиняла Коука в том, что он хочет отнять принадлежащее ей лично имение, которое она унаследовала от своего первого мужа, сэра Уильяма Хаттона. Члены совета, которые при этом присутствовали, потом говорили, что сам Бербедж не сыграл бы лучше, с таким негодованием она поносила Коука. Адвокат сэра Эдварда выдвинул встречное обвинение против леди Хаттон, что она вывезла из трех его домов мебель и все занавеси, посуду, хозяйственную утварь, а также оскорбляла его, называя и в лицо, и в письмах лживым предателем и негодяем. Возможно, лорду-хранителю вспомнилось, как он описывал Сциллу в «Cogitata et Visa» — «ее чресла опоясаны лающими псами». Впрочем, если и вспомнилось, у нас, увы, нет его личных записей, свидетельствующих об этом, нет и ни единого письма леди Хаттон, где бы она сообщала своему бывшему поклоннику, что устроила скандал и теперь ожидает от него поддержки. Он отказался вмешиваться в скандал и предложил совету передать дело на рассмотрение лорда Кэрью и канцлера казначейства.
Ссора была временно улажена, но Фрэнсис Бэкон слишком хорошо знал, что разногласия между мужем и женой могут в любую минуту вспыхнуть снова, и тогда ему придется проявлять чрезвычайную осмотрительность, иначе он нанесет обиду своему юному другу графу Бекингему. Дело в том, что старший брат Бекингема, сэр Джон Вильерс, вел переговоры о своем браке с Фрэнсис, младшей из двух дочерей сэра Эдварда Коука и леди Хаттон. Коук одобрял этот брак, потому что благодаря союзу с братом фаворита он, без сомнения, снова обретет милость его величества. Его супруга, леди Хаттон, была против, у нее относительно будущего дочери были свои собственные планы.
К великой досаде современных детективов, не сохранилось ни одного письма Фрэнсиса Бэкона к Элизабет Хаттон и леди Хаттон к нему; их наверняка должно было быть несколько, начиная с 1597 года, когда Фрэнсис стал проявлять к ней внимание — но дама отвергла молодого адвоката из Грейз инна и вышла замуж за его соперника, — и до нынешнего, 1617 года, когда ее собственную пятнадцатилетнюю дочь, которую она по удивительному совпадению назвала Фрэнсис, хочет взять в жены человек, которого она не желает видеть своим зятем. Фрэнсис Бэкон уже не был нищим стряпчим. Он был лордом-хранителем большой государственной печати и мог оказаться бесценным союзником в этом деле. Может быть, у нее была какая-то тайная власть над ним? Нам этого никогда не узнать.
Если кто-то и имел в то время доступ к этим письмам, при условии, что они вообще существовали, так это новый секретарь Фрэнсиса Эдвард Шербурн, о котором Джон Чемберлен писал в начале июня своему приятелю Дадли Карлтону: «Я не видел господина Шербурна три недели. Он сделался так необходим своему покровителю, что проводит с ним все свое время в его кабинете, а когда тот болеет, ухаживает за ним как сиделка, что, я надеюсь, обернется ему на пользу».
Возможно, именно Шербурн сообщил Чемберлену в середине июня о неприятностях в собственной семье лорда-хранителя. Мать Элис леди Пэкингтон снова подала в суд на своего мужа сэра Джона, и, по свидетельству собирателей новостей и сплетен, «лорд-хранитель ведет себя в этом деле очень благородно, и хотя он не может выступать в роли посредника и добиваться компромисса, он проявляет величайшую беспристрастность и просит ее отозвать иск и при этом говорит ей ясно и открыто, что она не должна ждать от него моральной поддержки, пока поступает таким образом».
Чего Фрэнсис Бэкон не выносил, так это ссор и распрей между супругами. Отсюда его сдержанность и молчание обо всем, что касалось его собственной супруги. Если бы за одиннадцать лет совместной жизни между ними случились нелады, Джон Чемберлен непременно бы об этом проведал. Именно от него и других светских хроникеров мы узнали о следующем этапе войны между сэром Эдвардом Коуком и леди Хаттон, и на этот раз ни подагра, ни мучительная тяжесть в голове не спасли лорда-хранителя от необходимости вмешаться. Точной даты открытия военных действий мы не знаем, но ближе к концу июня сэр Эдвард уведомил свою супругу — она с их дочерью Фрэнсис снова вернулась к нему, — что он окончательно уладил вопрос о браке Фрэнсис и сэра Джона Вильерса; их дочь получит 10 000 фунтов в приданое и 1000 фунтов дохода в год. Сэр Джон этим доволен, его мать леди Комптон удовлетворена. Можно начинать приготовления к свадьбе.
Разразилась буря, все фурии ада набросились на сэра Эдварда Коука. Никогда, бушевала леди Хаттон, никогда не даст она своего согласия на этот брак. Дочь Фрэнсис рыдала. Она не хочет выходить замуж за это ничтожество, за этого глупца сэра Джона Вильерса. Если она вообще и выйдет замуж, то только по любви. Сколько дней бушевала буря, мы не знаем, но изобретательная леди Хаттон (она все еще была в расцвете лет, ей не исполнилось и сорока) решила повернуть все по-своему. Однажды ночью, когда сэр Эдвард спал, они с дочерью сели в карету и уехали из Стоука в Оутлендс к ее двоюродному брату сэру Эдмонду Уидиполу. Подъехали они к его дому на рассвете, хозяин и хозяйка их радушно приняли, хоть и были в растерянности, и обещали обо всем молчать.
И тут леди Хаттон совершила глупость. Она решила, что у ее дочери должен быть еще один претендент на ее руку, столь же высокопоставленный, как сэр Джон Вильерс, а может, и того выше. Выбор остановился на Генри де Вире, графе Оксфорде, — первая жена его отца была ее кузина. Сам граф сейчас находился в Италии, письмо к нему будет идти слишком долго, но это не беда: она пообещает ему два дома и четыре, а может быть, и шесть тысяч фунтов годового дохода. И она принялась уговаривать дочь согласиться на этот брак, но, видя, что новый претендент дочь не заинтересовал и замуж за него она не хочет, леди Хаттон сочинила письмо якобы от графа Оксфорда, в котором тот просил ее оказать ему честь и отдать руку Фрэнсис. Такие уловки в ту пору были в большом ходу (возможно, леди Хаттон вспомнила, как в свое время ее бывший почитатель Фрэнсис Бэкон послал попавшему в немилость графу Эссексу письмо, якобы написанное его братом Энтони, надеясь таким способом смягчить королеву). Дочь не осталась равнодушной к искательству, и тогда леди Хаттон сочинила еще один документ, который наивная Фрэнсис и подписала: в нем говорилось, что Фрэнсис дает обещание стать женой Генри де Вира, графа Оксфорда, а если она нарушит слово, то будет молить Господа о том, чтобы земля перед ней разверзлась и поглотила ее.
Конечно, у леди Хаттон было богатое воображение. Участие в нескончаемых масках при дворе разожгло в ней страсть к эффектным сценам. Однако она в своих расчетах не учла сэра Эдварда Коука. Муж, взбешенный в не меньшей степени, чем жена, обратился в тайный совет с просьбой дать распоряжение о возвращении его дочери из Оутлендса. И здесь опять мы не можем назвать точных дат. Судя по всему, это случилось в первой неделе июля, в тот день, когда сэр Эдвард Коук подал свое прошение, а лорд-хранитель печати и первый министр его величества сэр Ральф Уинвуд присутствовали на заседании тайного совета. Лорд-хранитель отказался подписать распоряжение. Сэр Ральф, как друг сэра Эдварда Коука, выразил протест. Между ними существовала взаимная неприязнь, но обсуждали ли они в тот день вопрос о предполагаемом браке сэра Джона Вильерса и дочери Коука и возникли между ними конфликт относительно права леди Хаттон держать свою дочь в Оутлендсе, мы не знаем.
Конфликт возник, но по другому поводу, и о нем уже рассказывали не только светские разносчики новостей и слухов, но и епископ Гудмен. «Ссора разгорелась по совершенно пустячному поводу, — рассказывает прелат. — Уинвуд грубо сошвырнул со стула свою собаку, а Бэкон, увидев это, сказал, что люди благородного звания собак любят». И в самом деле, совершенно пустячный повод, однако перед нашими глазами мгновенно возникает картина: обозленный первый министр сошвыривает со своего стула несчастное животное, а лорд-хранитель холодно смотрит на него своими светло-карими глазами и презрительно бросает: «Люди благородного звания собак любят», сделав чуть заметный акцент на слове «благородный», чтобы больнее уязвить гордость сэра Ральфа Уинвуда. На этом воображение не останавливается, и мы видим, как множество собак, которые наверняка жили в Горэмбери, радостно бегут навстречу своему хозяину.
Епископ Гудмен продолжает: «На этом все как будто и кончилось; но немного погодя, когда оба занимались рассмотрением какого-то одного дела, министр Уинвуд сел слишком близко к милорду хранителю; милорд хранитель предложил ему отодвинуться на благопочтительное расстояние, а если он не знает, какое это должно быть расстояние, то пусть выяснит по протоколу. После чего встал из-за стола».
И естественно, первый министр подписал испрашиваемое сэром Эдвардом Коуком распоряжение о возвращении ему дочери либо в тот же день, либо чуть позже. Возможно, он не имел права подписи. Но если и так, сэр Коук этим пренебрег. Взяв с собой сыновей от первого брака и нескольких слуг, он прискакал в Оутлендс к сэру Эдмонду Уидиполу. Однако птички уже упорхнули. Должно быть, кто-то предупредил леди Хаттон и ее дочь, что он к ним едет. Но кто мог предупредить? Нам неведомо. Они помчались в Хэмптон-Корт к графу Аргайлу, у которого там был дом. Возможно, кто-то из оутлендских слуг выдал их местопребывание, и сэр Эдвард кинулся к их новому убежищу, высадил двери, нашел жену и дочь, которые забились в чулан, вырвал плачущую дочь из объятий матери и повез в свое собственное поместье — Стоук-Поджес.
«Супруга гналась за ним по пятам, — сообщал Чемберлен, — и если бы ее карета не устала от погони, наверняка разыгралась бы страшная трагедия». Карета леди Хаттон то ли опрокинулась, то ли у нее слетело колесо, но это дало возможность леди Хаттон одуматься. Она, конечно, поняла, что ехать за мужем и его спутниками в Стоук бесполезно; в дом ее не впустят, а одна она ничего не сможет сделать. Карету наконец починили, и она решила ехать прямо в Лондон к единственному человеку, который мог ей помочь, — к другу и в прошлом поклоннику, к лорду-хранителю печати. Была суббота, 12 июля. Об этой ее стратагеме светские хроникеры не написали ни слова, а уж они бы не упустили возможности позлопыхать, если бы хоть что-то прознали. Источник сведений — миссис Садлер, одна из дочерей сэра Эдварда Коука от первого брака.
«Наконец они приехали к милорду хранителю, но их не сразу к нему впустили, его люди сказали, что он не совсем здоров и отдыхает. Тогда миледи Хаттон изъявила желание посидеть в комнате рядом со спальней милорда, чтобы поговорить с ним первой, когда он проснется. Дворецкий выполнил ее желание, подал ей кресло, чтобы она могла отдохнуть, и оставил ее одну; но она вскоре встала с кресла, подбежала к двери, за которой отдыхал милорд хранитель, и стала барабанить в нее, милорд испугался и начал звать слуг на помощь; слуги отперли дверь, а она оттолкнула их, ворвалась к его светлости и умоляла его простить ей ее дерзость; она была совсем как корова, которая потеряла теленка».
Эта роковая привычка спать днем… «Я знаю, ничто не вызывает такой вялости и тяжести в голове, такой расслабленности, тошноты и лихорадочного возбуждения, как дневной сон, не важно, заснули ли вы сразу после обеда или в четыре часа. И все же я никак не могу найти в себе решимости и силы, чтобы искоренить эту привычку».
Миссис Садлер ни слова не говорит о том, переселился ли уже лорд-хранитель в Йорк-Хаус или все еще жил в Дорсет-Хаусе. Как бы там ни было, будь леди Бэкон дома, слуги, как следует предположить, доложили бы ей о неожиданном вторжении и дамы столкнулись бы лицом к лицу. Любопытная была бы встреча! Но скорее всего леди Бэкон не было в городе, она уехала к матери, поскольку у ее собственных родителей тоже кипела ссора.
Сцена, которая разыгралась между Фрэнсисом Бэконом и Элизабет Хаттон, уж конечно, дала бы богатый материал покойному мистеру Шекспиру, останься он в живых и пожелай отредактировать и дополнить опубликованное шесть лет спустя собрание, известное как «Первое Фолио». Фрэнсис спит и грезит во сне о молодой женщине, за которой когда-то ухаживал, а проснувшись, видит не ее тень, не призрак, даже не изваяние, а зрелых лет даму, которая стоит у него на пороге. «Но все ж таких морщин у Гермионы я… что-то не припомню. Она здесь много старше»[26].
Подобная реплика еще пуще разожгла бы гнев ворвавшейся к нему леди Хаттон, однако она, вспомнив, зачем приехала, попросила прощения за свою дерзость. «Когда-то вы ее руки просили, Теперь супруга вашей ждет руки»[27].
Фрэнсис пришел в себя, отпустил слуг и стал слушать рассказ своей незваной гостьи, но, увы, конец сцены нам известен только со слов миссис Садлер: «Она убедила милорда, что правда на ее стороне, заставила его забыть свой гнев и получила распоряжение за его подписью, а также за подписями милорда казначея и всех членов совета забрать свою дочь у отца и предстать вместе с супругом перед советом».
Нет никаких сведений о том, когда леди Хаттон покинула резиденцию Фрэнсиса, но в тот же самый день, 12 июля, лорд-хранитель написал письмо графу Бекингему.
«Мой добрый господин, я хочу рассказать Вашей светлости о деле, которое, как может счесть Ваша светлость, касается только меня; однако я убежден, что оно касается Вашей светлости в большей мере, чем меня. Мой ум не настолько слаб, чтобы я не понимал, что действую в ущерб себе, но моя любовь к Вам слишком велика, я всегда предпочту Ваше благо и благо Ваших близких своему.
Министр Уинвуд услужливо пытается устроить брак между Вашим братом и дочерью Эдварда Коука; и делает это, как мы слышали, не из великой любви к Вашей светлости, а из желания посеять распрю. Правда, он получил согласие сэра Эдварда Коука на благоприятных, как мы слышали, условиях для Вашего брата, хотя, без сомнения, не столь благоприятных, как можно было бы ожидать, договариваясь с родителями других невест. Однако мать не дает своего согласия, как не соглашается и сама молодая особа, которой мать обещала большое приданое, но без согласия матери она его вряд ли получит. Этот брак, насколько я могу судить исходя из моей беспредельной и бескорыстной преданности Вашей светлости, чрезвычайно нежелателен и для Вас, и для Вашего брата.
Во-первых, ему придется породниться с семьей, которая покрыла себя позором, что никак не может считаться желательным с точки зрения государственных интересов.
Во-вторых, ему придется породниться с семьей, где муж и жена постоянно ссорятся, чего не одобряют христианская религия и мораль.
В-третьих, Ваша светлость может потерять всех Ваших друзей, которые являются противниками сэра Эдварда Коука, за исключением, конечно, одного меня, кто останется верен Вам всегда из одной только чистой любви и благодарности.
И наконец, последнее и самое важное: я боюсь, что этот брак неблагоприятным образом повлияет на отношение под данных к королю и подорвет желание служить ему; и хотя я убежден, что благодаря величайшей мудрости и глубочайшей прозорливости Его Величества не произойдет всего того, что можно себе представить, однако изменившееся отношение способно привести к пагубным последствиям и вновь воздвигнуть перед королем препятствия, которые к нынешнему времени успешно преодолены.
Поэтому я советую, чтобы Ваша светлость сообщили миледи Вашей матушке о Вашем желании не спешить с заключением брака и не предпринимать никаких действий для его осуществления без согласия обоих родителей; от этого брака либо вообще следует отказаться, либо отложить всякие переговоры по этому поводу до возвращения Вашей светлости, и это было бы предпочтительно, ибо мало того, что сама затея неудачная, но и министр Уинвуд действовал в высшей степени грубо и необдуманно; мать же молодой особы, не сомневаясь, что отец заберет их дочь против ее воли, для начала сама тайно ее увезла; словом, все поступили чрезвычайно предосудительно. Итак, надеюсь, что Ваша светлость не только примет мой совет, но и поверит в искренность того, кто благодаря своему огромному жизненному опыту должен видеть дальше, чем видит Ваша светлость.
Навеки верный и преданный друг и слуга Вашей светлости
Фр. Бэкон. C.S.».
Граф, совершающий вместе с его величеством поездку по западным областям Шотландии, мог получить это письмо только через несколько дней, даже если бы посланный с ним гонец отправился в путь немедленно.
На следующий день, в субботу 13 июля, леди Хаттон явилась в тайный совет и поведала его членам «в страстных и трагических выражениях… что у нее силой отобрали ее дитя; она также сообщила нам, что ввиду слабого здоровья своей дочери отправила ее ненадолго пожить у сэра Эдмонда Уидипола, но сделала это открыто, ни от кого не таясь. После чего сэр Эдвард Коук… заявивший, что у него якобы имеется распоряжение совета, приехал с сыном и дюжиной вооруженных слуг к сэру Эдмонду Уидиполу, где находилась их дочь, питая самые злобные намерения, вышиб с помощью то ли бревна, то ли скамейки дверь и потащил дочь к своей карете; она сообщила также множество других подробностей, пересказом которых не стоит докучать его величеству».
Совет назначил дальнейшее рассмотрение дела на вторник с тем, чтобы выслушать и жалобы самого сэра Эдварда Коука. Но леди Хаттон не желала ждать. Она снова явилась в совет и попросила дать распоряжение о том, чтобы ее дочь вернулась в Лондон из Стоук-Поджеса нынче же вечером, потому что она очень слаба здоровьем и пережила слишком большой испуг. «Что совет счел вполне убедительным доводом, основываясь на человеколюбии, и, дабы избежать дальнейших неприятностей, написал сэру Эдварду Коуку письмо, ознакомив его с жалобами и пожеланиями его супруги и известив, что он должен передать свою дочь мистеру Эдмонду, секретарю тайного совета, а тот отвезет ее в Лондон, и вплоть до рассмотрения дела она будет жить в его доме».
Пришлось немало потрудиться, чтобы устроить все это в воскресенье, но мы тут видим руку лорда-хранителя. Уж в тот день ни о каком послеобеденном сне не могло быть и речи. Вечером секретарь тайного совета приехал в Стоук, но сэр Эдвард заявил ему, что его дочь находится вовсе не в столь критическом состоянии, и дал слово, что привезет ее в дом к мистеру Эдмонду завтра утром.
Наступил понедельник. Дочь не появилась, и совет послал еще одно распоряжение, на этот раз с указанием, что «при необходимости юную особу могут доставить силой». Леди Хаттон взяла с собой нескольких вооруженных друзей и поехала по дороге к Стоуку, надеясь, что с мужем придется сражаться; однако хитрый Коук, видимо, почуя недоброе, выбрал другой путь и привез измученную Фрэнсис прямо к секретарю совета. Вероятно, она провела в его доме остаток дня и ночь. «Во избежание непредвиденных осложнений» совет «распорядился держать ее местопребывание в тайне до слушания дела, которое было назначено на завтра, и допускать до общения с ней только двух дам по выбору сэра Эдварда Коука и его супруги, что и было соответственно выполнено, сэр Эдвард Коук назвал имя леди Комптон, а его супруга леди Берли».
Хочется надеяться, что Фрэнсис хотя бы ненадолго уснула, а вот ее тетка леди Берли наверняка провела очень неприятный вечер, потому что леди Комптон, мать сэра Джона Вильерса и графа Бекингема (она побывала замужем три раза, третий за сэром Томасом Комптоном), была одной из самых вздорных и злобных мегер своего времени, переспорить ее могла разве что сама миледи Хаттон.
Во вторник пятнадцатого июля сэр Эдвард Коук предстал перед членами тайного совета. Он сразу же выдвинул контробвинение против своей супруги, заявив, что она намеревалась увезти их дочь во Францию, желая расстроить ее брак с сэром Джоном Вильерсом. Совет отказался обсуждать этот брак и потребовал, чтобы бывший лорд верховный судья дал объяснения по поводу выдвинутых против него обвинений, а обвиняли его «в нарушении общественного порядка и в применении силы». Сэр Эдвард Коук ответил, что вернул себе дочь в соответствии с законным правом. После чего совет постановил, что он через какое-то время будет вызван в суд Звездной палаты, а пока его дочь должна находиться под попечением генерального прокурора сэра Генри Йелвертона.
И вот 18 или 19 июля сэр Ральф Уинвуд выложил перед членами совета козырного туза. Он показал им письмо его величества, в котором тот одобрял все, что он, Уинвуд, сделал для заключения брачного союза между сэром Джоном Вильерсом и Фрэнсис Коук. Тайные советники оцепенели от ужаса. Что ж, если его величество поддерживает сэра Ральфа Уинвуда и сэра Эдварда Коука, его советники тоже будут их поддерживать. Судебный процесс в Звездной палате должен быть приостановлен. Генеральный прокурор взял на себя неблагодарный труд попытаться хоть как-то примирить сэра Эдварда Коука и его супругу. Насколько он в этом преуспел, мы можем узнать из постскриптума к письму его величеству, которое совет сразу же ему и отправил:
«Но сейчас можно считать, что дело подходит к благоприятному завершению; ибо мы видим, что брачный контракт окончательно согласован, более того, обе стороны — сэр Эдвард Коук и его супруга — примирились, а дочь, с обоюдного согласия ее отца и матери, отправлена в дом сэра Эдварда Коука, где и будет жить. Такому благополучному окончанию во многом способствовали бескорыстные усилия генерального прокурора Вашего Величества. Рассмотрение жалоб и дальнейшее судебное разбирательство приостановлены и предоставлены целиком на благоусмотрение Вашего Величества».
Вот что пишет Джон Чемберлен своему приятелю сэру Дадли Карлтону, давая подробнейший отчет об этом деле: «Ее (Фрэнсис Коук) отправили в Хаттон-Хаус с условием, что леди Комптон и ее сын будут посещать ее, — дабы не мытьем, так катаньем добиться ее согласия». Нам неизвестно, долго ли супруги прожили под одной крышей, но уж никак не больше полумесяца. Как бы там ни было, Хаттон-Хаус принадлежал леди Хаттон, а не сэру Эдварду, что, несомненно, было еще одной из причин для раздора. В начале августа Коук перевез дочь в Кингстон к своему сыну от первого брака сэру Роберту Коуку, и леди Хаттон тотчас же переселилась в этот город, чтобы видеться с дочерью каждый день и давать отпор леди Комптон и метящему в женихи Джону Вильерсу всякий раз, как они явятся ее обхаживать.
А что же хранитель печати, Фрэнсис Бэкон? Опустошенный, измученный, он уехал из Лондона в Горэмбери, как только дела в совете завершились. Будем надеяться, печась о его благе, что все это время его супруга гостила у своей матери, потому что в Горэмбери Фрэнсиса ожидало общество того, кто мог с радостью разделить его досуг, вдохнуть в него силы, читать в рукописи его magnum opus, смеяться вместе с ним, сочувствовать, беседовать обо всем на свете, кроме брака, — словом, друг, которого он не видел десять лет, католик, отказавшийся присутствовать на англиканских богослужениях, изгнанник, который скитался все эти годы по Европе и которому наконец позволили вернуться под личное наблюдение Фрэнсиса при условии его безупречного поведения, — Тоби Мэтью.
Тоби должно было исполниться в октябре сорок. Его другу и наставнику было пятьдесят семь. Интересно, сильно ли их поразили изменения во внешности друг друга и, может быть, в манере, которые произошли с обоими за десять лет разлуки? Фрэнсис, несомненно, постарел: проседь в волосах, складки у носа и у губ, легкая отечность под глазами, все это говорило о том, что он приближается к шестидесяти. Сказались долгие часы работы и днем, и по ночам. Но в уголках глаз по-прежнему таился юмор, легкая насмешка.
Единственное описание внешности Тоби, которое до нас дошло, мы находим в постскриптуме к письму Чарлза принца Уэльского к своему отцу королю, написанному в 1623 году, где он упоминает о «маленьком смазливом Тоби Мэтью». Красивое лицо и невысокий рост. И все же это был человек, умудренный жизненным опытом, изъездивший за десять лет своего изгнания всю Европу и особенно полюбивший Италию и Испанию, имеющий широкий круг друзей в Мадриде, — возможно, благодаря тому, что он был католик. Его отец архиепископ Йоркский до сих пор не простил своему старшему сыну религиозное отступничество и, надеясь, что он все же вернется в лоно англиканской церкви, ускорил его возвращение на родину. Убедил его величество смягчиться не кто иной, как граф Бекингем, и теперь подразумевалось, что Тоби признает власть государственной церкви и в положенный срок принесет присягу королю.
Все эти вопросы, естественно, обсуждались в Горэмбери, и Тоби надеялся, что пользующийся таким влиянием лорд-хранитель ему поможет. Когда Тоби покидал Англию в 1607 году, Фрэнсис еще не получил и должности генерального стряпчего, теперь же он стал одним из самых могущественных сановников в королевстве. Штат его слуг и помощников удвоился, даже утроился; дом в Горэмбери уже всех не вмещал, велись разговоры о строительстве нового дома на территории имения лично для его хозяина; само же имение, сад, парк, аллеи, лес изменились до неузнаваемости. Через несколько недель, когда лорд-хранитель вернется в Лондон, его будет готов принять Йорк-Хаус, заново отделанный, обставленный новой мебелью и с новым штатом прислуги.
На Тоби Мэтью все это произвело сильное впечатление. Его любимый друг поднялся высоко, особенно если сравнить с теми далекими временами, когда юнец Тоби изучал юриспруденцию в Грейз инне, а Фрэнсис был скромным адвокатом и вел совсем немного дел. И надо же так неудачно сложиться, что Тоби наконец-то вернулся из-за границы, а лорд-хранитель втянут в свару между сэром Эдвардом Коуком и его женой леди Хаттон из-за брака их дочери и по этой причине поссорился с первым министром сэром Ральфом Уинвудом. Эта ссора могла пагубно повлиять на его добрые отношения не только с графом Бекингемом, но и с самим его величеством.
Когда первая радость встречи двух воссоединившихся друзей схлынула, когда они всласть повспоминали былое, когда Тоби рассказал Фрэнсису все, что ему хотелось рассказать о своей жизни в Европе, разговор сам собой вернулся к драматическим событиям, которые только что разыгрались за столом тайного совета; слухи о разногласиях в совете и о скандале встретили Тоби сразу по приезде в Лондон, город только об этом и судачил. И Тоби понял по озабоченному выражению лорда-хранителя, что он серьезно встревожен, хоть и подшучивает над всем. Дело в том, что прошло уже две недели, как Фрэнсис послал графу Бекингему письмо с доводами против женитьбы сэра Джона Вильерса на Фрэнсис Коук, а ответа он до сих пор не получил. Он и не ожидал, что получит его раньше чем через дней пять-шесть, но две недели это уж слишком. Нужно написать ему снова и одновременно сочинить послание его величеству, изложив те же доводы, что он приводил графу, дабы избежать каких бы то ни было недоразумений. Как такое возможно — первый министр знал, что король одобряет этот брак, будь он трижды проклят, а ему, лорду-хранителю, об этом не сообщили? Где-то он что-то упустил.
И Фрэнсис написал 25 июля пространное письмо королю, в котором просил его величество известить его, что именно он, король, думает по поводу этого брака, чтобы ему, лорду-хранителю, не приходилось узнавать о его отношении от третьих лиц. И добавил: «Хоть я не слишком высоко ценю женский ум, но мне скорее бы удалось повлиять на мать, чем кому бы то ни было другому», и это означало, что если король действительно настроен в пользу брака, то лорд-хранитель немедленно готов отправиться к леди Хаттон и будет убеждать ее, что она должна отказаться от своих возражений. В тот же день Фрэнсис написал и графу Бекингему: «Мне давно хочется узнать, что Ваша светлость думает по поводу моего письма, в котором я изложил свое мнение относительно брака Вашего брата». Он уговаривал себя, что ответ задержался из-за того, что король направился из Шотландии на юг, а граф ведь его сопровождает; сейчас они уже наверняка в Карлайле.
Долгожданное письмо от графа Бекингема пришло в начале августа, и написано оно было совсем не в том тоне, к какому привык Фрэнсис.
«Лорду-хранителю Бэкону
Милорд, если бы Ваш посыльный привез письмо только мне, я постарался бы послать с ним ответ без промедления; меня извиняет то, что Вы нашли себе другого корреспондента, и поскольку я наскучил Вам своими услугами, то и у меня пропало желание их Вам оказывать. Что касается дела моего брата, которым Вы себя так безмерно утруждаете, то, судя по отзывам некоторых моих лондонских друзей, Вы проявляете по отношению ко мне и к моим друзьям оскорбительное пренебрежение, и если это окажется правдой, я буду винить в этом не Вас, а самого себя, неизменно остававшегося верным другом Вашей светлости.
Дж. Бекингем».
Холодный укор, никак иначе это истолковать нельзя. Фаворит был глубоко оскорблен, и оскорблен по двум причинам: во-первых, лорд-хранитель обратился непосредственно к королю, и во-вторых — а это, конечно, были всего лишь злобные сплетни и домыслы, — он отзывался пренебрежительно о самой особе графа.
Удар, который почувствовал Фрэнсис, прочитав это письмо, был очень болезненным. Тоби Мэтью утешал его, как мог. Но худшее было впереди. Пришло письмо от самого короля, в котором он обвинял лорда-хранителя за неподобающее вмешательство. К сожалению, судьба этого письма неизвестна, но Фрэнсис ответил на него, судя по всему, 12 августа, и по тону этого письма можно понять, что его величество не только выражал неудовольствие по поводу того, что Фрэнсис поступил противно его воле, чиня препятствия заключению брака, но и обвинил в том, что он критиковал графа Бекингема. Было очевидно, что сэр Ральф Уинвуд представил его величеству свою собственную версию того, что происходило в тайном совете в июле, а поскольку Уинвуд был в дружбе с сэром Эдвардом Коуком и матерью сэра Джона Вильерса леди Комптон, то легко понять, как разгневались на Фрэнсиса и король, и Бекингем.
Современного читателя, безусловно, удивит, что у Фрэнсиса Бэкона, располагавшего целой армией помощников, не было надежной агентурной сети. Окажись в подобных обстоятельствах его брат Энтони, он непременно отправил бы со свитой короля своего шпиона, который каждый день доносил бы ему о происходящем. Может сложиться впечатление, что Фрэнсис был слишком в себе уверен, а ведь его огромный жизненный опыт должен был бы подсказать ему, что во время своего путешествия и его величество, и Бекингем могут попасть под влияние кого-то другого и что фаворит, такой дружелюбный прежде, теперь в полной мере почувствовал свое могущество и не желает прислушиваться ни к чьим советам. Конечно, нам хотелось бы также узнать, кто был тот «Ваш посыльный», который доставлял письма лорда-хранителя на север. Не Эдвард Шербурн, потому что Чемберлен пишет, что видел Шербурна в это самое время в Лондоне, и было известно, что он живет в Горэмбери. У нас есть полный список всех слуг и помощников Фрэнсиса — числом семьдесят пять, — которые служили у него год спустя, в 1618 году, но он не помогает нам установить, кому и что мог поручить Фрэнсис в июле-августе 1617 года.
Кто бы ни был посыльным Фрэнсиса, он явно не сумел выполнить порученную ему миссию с той деликатностью, которая здесь требовалась. Его отправитель вынужден был написать королю еще одно длинное письмо, в котором он выражал глубокое раскаяние по поводу того, что занял неправильную позицию. «И теперь, когда Ваше Величество соблаговолили высказать мне Ваше мнение, я буду поспешествовать заключению брака всем, что от меня может потребоваться, и всем, что в моих силах». (Как он, должно быть, мысленно проклинал себя за то, что вмешался в это дело!) «Я смиреннейше повинуюсь и полагаюсь во всем на суждение Вашего Величества… Сочувствие, которое я испытываю к матери, без сомнения, возросло вследствие того, что на мое суждение повлияло отчаяние, которое толкало ее на столь безумные поступки».
А чуть раньше он говорит: «Что до характера моей привязанности к милорду Бекингему, ради которого я готов отдать свою жизнь… то я должен признаться со всем смирением, что она немного похожа на чувство отца к сыну, но проявляется это лишь в том, что его светлость удостаивал меня до сих пор милости прислушиваться иногда к моим советам, однако клянусь Вашему Величеству, что в этих советах не проявлялось ни тени неуважения к мнениям его светлости. Ибо я знаю, что он от природы наделен мудростью, у него здравый и глубокий ум, и, кроме того, я знаю, что у него лучший из всех наставников, каких только можно найти в Европе. Однако я опасался, что высота, на которую вознесла его фортуна, может внушить ему чувство слишком большой уверенности, а ведь недаром говорится, что со стороны виднее».
Следующее письмо Фрэнсис пошлет сэру Генри Йелвертону, генеральному прокурору, с сообщением, что он, Фрэнсис, решил способствовать заключению брака, и еще одно письмо — того же содержания — он напишет леди Хаттон. В каких выражениях это последнее было написано и сколь глубокие сожаления оно содержало, нам знать, увы, не дано. И наконец, письмо с изъявлениями своего раскаяния к графу Бекингему.
«Мне известно, что миледи Ваша матушка и Ваш брат сэр Джон гневаются на меня и отзываются обо мне чрезвычайно нелестно. Я должен с этим смириться, поскольку она дама, а он влюблен, и также ради Вашей светлости… Но я надеюсь, что хоть я и преданный слуга Вашей светлости, Вы не заставите меня быть рабом их несдержанности, особенно если вспомнить, что на них оказывают влияние сэр Эдвард Коук и министр Уинвуд, причем влияние последнего я считаю особенно вредоносным, ибо сэр Эдвард Коук ведет себя, на мой взгляд, более скромно и сдержанно… Избави нас Бог от долгих путешествий и отсутствий, ибо они порождают недоразумения и позволяют торжествовать лжи; и да хранит Господь Вашу светлость в счастии и благополучии».
Не надо было Фрэнсису называть никаких имен. Министр Уинвуд вряд ли его простит, когда слова Фрэнсиса о вредоносном влиянии дойдут до его ушей. И еще один просчет, хотя, вполне возможно, сначала этот ход показался Фрэнсису на редкость удачным. Продвигаясь на юг, король должен был остановиться в резиденции сэра Томаса Уилбрема в Таунсенде, что близ Нантвича. Он туда и прибыл 25 августа. Среди гостей оказался также и мистер Тоби Мэтью, явно примчавшийся сломя голову из Горэмбери. Это совпадение, вероятно, ускользнуло от внимания биографа Фрэнсиса Бэкона Джеймса Спеддинга, который изучил его жизнь день за днем с величайшей скрупулезностью и тщательностью, но возможно и другое — Спеддинг о приезде Тоби Мэтью знал, но не придал этому большого значения.
Если Тоби Мэтью не был представлен его величеству в Нантвиче, он, без сомнения, добился аудиенции у графа Бекингема, чье покровительство помогло ему, изгнаннику, вернуться в Англию, и скорее всего ради этой встречи его и пригласили — или он сам постарался получить приглашение — в резиденцию сэра Томаса Уилбрема. Опыт жизни на континенте должен был бы научить Тоби осмотрительности, однако напрашивается предположение, что дружба лорда-хранителя и его недавнее пребывание в Горэмбери позволили ему слегка увлечься в беседе с фаворитом. Неосторожное слово здесь, там, рассказ о том, как он со своим другом лордом-хранителем просидел полночи, обсуждая события в мире, как они постоянно переписывались все эти годы, как ему даже позволяется читать рукописи лорда-хранителя… Этого было довольно, чтобы задеть самолюбие молодого фаворита, который до сих пор думал, что он единственный, кому Фрэнсис Бэкон пишет свои billets doux[28]. Может быть, его кольнула ревность? Нам этого не узнать.
Небезынтересно, что в ту ночь, которую его величество провел в Нантвиче, он нашел время продиктовать перед отходом ко сну еще одно пространное письмо к лорду-хранителю в ответ на его послание от 12 августа, в котором сделал ему выговор за «отцовские чувства» и другие подобные выражения, — как тут не заподозрить, что и сам его величество был не чужд ревности, когда дело касалось отношений между лордом-хранителем и его, короля, фаворитом, а этого чувства более чем достаточно, чтобы разжечь подозрения, особенно если тлеющие угли раздувают пущенные придворными злые сплетни. Письмо вполне можно было продиктовать и позднее в этой королевской поездке на юг, почему его величество непременно пожелал это сделать в ту самую ночь в Нантвиче, когда одним из гостей оказался Тоби Мэтью?
Остальная часть письма была посвящена все тому же браку, король сурово отчитывал лорда-хранителя за то, что тот не подписал распоряжение, позволяющее сэру Эдварду Коуку забрать свое дитя, но обсуждение всех подробностей оставлял для более подходящего времени. И в конце: «Поручаем Вас воле Господа. Удостоверено нашей королевской печатью в Нантвиче, в пятнадцатый год нашего правления в королевстве Великобритания».
Итак, письмо Фрэнсиса его величеству с выражением раскаяния принесло мало пользы, скорее навредило. А Тоби Мэтью добился еще меньшего. Чтобы встретиться с королем во время его путешествия и потом рассказать обо всем лорду-хранителю, нужен был человек, который пользовался действительно большим влиянием и которому он мог бы полностью доверять. Такой человек был сэр Генри Йелвертон, генеральный прокурор, и он поехал на север, в Ковентри. На беду, сэру Эдварду Коуку пришла в голову такая же мысль, и он прибыл на место действия первым, о чем генеральный прокурор сообщил Фрэнсису в своем подробнейшем отчете. «Я не смею даже помыслить, что моя поездка оказалась напрасной, ибо мне выпало счастье лицезреть моего повелителя, короля, хотя лик его был более хмурым, когда обращался в мою сторону, чем мне хотелось бы. Сэр Эдвард Коук всеми возможными средствами старается восстановить его величество против Вашей чести и против меня, и самое мощное его оружие — это граф Бекингем, который близок к нему, как его собственная рубашка, граф даже изъясняется его языком и настроен воинственно».
Генеральный прокурор нашел, что «графа ввели в заблуждение лживыми сведениями, которым он поверил». Йелвертон отстаивал свою позицию твердо и решительно и убеждал графа не верить клевете. Потом он обратился к его величеству, который «милостиво протянул мне руку для поцелуя», однако был слишком занят другими делами и слушать его объяснений не стал. Не то чтобы окончательный отказ, но близко к этому, и тогда генеральный прокурор стал внимательно прислушиваться к сплетням придворных, которые и пересказал Фрэнсису:
«Все придворные знают, что граф открыто обвиняет Вас в неблагодарности, дескать, Вы забыли его доброту, Ваша любовь к нему лицемерна, это доказывают Ваши поступки… во всеуслышание заявляет (как говорили мне досужие языки и как слышал также Ваш человек, которого Вы посылали сюда), что Вы-де предали его, как предали раньше графа Эссекса и графа Сомерсета. При дворе только и разговору, что Вы потеряете свое влияние и все теперь будут насмехаться над Вами, как раньше насмехались над ними Вы.
Желая как можно больнее уязвить Вас в Вашем бедственном положении, многие обратились к его величеству с жалобами на Вас. Сэр Эдвард Коук чувствует себя на коне и не скрывает своего торжества, он часто беседует с его величеством приватно… Мой благородный лорд… я выражаю свое скромное мнение, что Вам должно приехать к его величеству в Вудсток; Ваше появление нагонит на кое-кого страх. Но только не выступайте против остальных лордов (Йелвертон имеет в виду членов тайного совета) и одобрите все их действия, как если бы это были согласные решения всего совета; и я не сомневаюсь, что Вы выйдете победителем. Что Вы дадите отпор всем шумным кривотолкам, вызванным делом сэра Эдварда Коука, который ведет себя вопиюще нагло. Что Вы не выкажете своего смятения, но явите всем свою смелость и уверенность, в которых никто не может сравниться с Вами, и тогда, я знаю, Вы вызовете восхищение у одних и устрашите прочих.
Я уже достаточно долго злоупотребляю терпением Вашей светлости, но я бесконечно обязан Вашей светлости, точно так же и моя привязанность к Вам не имеет конца; но я желаю, чтобы в этих чувствах к Вашей светлости меня превзошли.
Преданный слуга Вашей светлости Генри Йелвертон.
Дейвентри, 3 сентября.
Прошу Вашу светлость сжечь это письмо».
Поистине верный друг, хоть мы об этом не узнали бы, выполни Фрэнсис его просьбу. Он все же не поехал в Вудсток, но генеральный прокурор, без сомнения, сумел повлиять на графа Бекингема и даже, судя по всему, на самого короля, потому что два дня спустя граф написал лорду-хранителю письмо из Уорика уже в гораздо более благорасположенном тоне и выразил надежду, что в скором времени встретится с ним, и тогда они «смогут лучше понять все то, что произошло, чем посылая друг другу письма».
Король вернулся в Лондон 15 сентября, и в какой-то из дней между пятнадцатым и двадцать первым сентября состоялась встреча Фрэнсиса и графа — под предлогом того, что якобы готовится покушение на жизнь короля. Встреча оказалась успешной, обаяние лорда-хранителя и сила его убеждения произвели должное впечатление на фаворита, потому что на следующий день он написал Фрэнсису искреннее, откровенное письмо:
«Ваше раскаяние передо мной… заставило меня забыть обиду, которой было полно мое сердце за Ваше поведение по отношению ко мне во время моего отсутствия, и, почувствовав, что угли моей прежней привязанности к Вам еще тлеют, я пошел к его величеству узнать, как он намеревается поступить по отношению к Вам… Я увидел, как велико его негодование, и мой гнев утих, я в мгновение превратился из его единомышленника в миротворца; и потому я бросился на колени перед его величеством и стал его молить, чтобы он не предавал Вас публичному позору. Смею признаться, что его величество никого не стал бы слушать по поводу этого происшествия с таким терпением, как слушал меня, и вот чего мне удалось добиться, хотя и не без труда. Он не лишит Вас чести и впредь служить ему и не покарает Вас своей немилостью. Однако… даже перестав гневаться, он не сможет не сделать на первом заседании тайного совета отеческого внушения за недостойное поведение многим его членам, которые присутствовали при разборе этого дела и вели себя как простые статисты…
Поверьте, для меня все это время было немалым горем слышать из столь многих уст нескончаемое злобное поношение Вашей особы в связи с этим делом, злопыхателям казалось, будто для моих ушей нет более сладкой музыки, чем брань в Ваш адрес; по каковому случаю у меня не могли не возникнуть горькие сожаления касательно злобности человеческой натуры, люди, подобно псам, набрасываются на того, кого уже кто-то укусил. И в заключение, милорд, у Вас есть достойная возможность возместить урон, нанесенный Вашей репутации, Вашим бескорыстным служением его величеству, а также проявлением Вашей неизменной щедрой доброты по отношению к Вашим друзьям, дабы я, давний друг Вашей светлости, мог радоваться благополучию и почестям, которые придут к Вам.
Преданный друг и слуга Вашей светлости
Дж. Б.».
Вот так-то… Несравненно более теплый тон и дружеское отношение, но Фрэнсис понимал, что чуть не потерял своей должности, и это надо все время помнить. Во время отсутствия короля он привык на своем высоком посту к ощущению власти — такие огромные полномочия опасны, ими так легко злоупотребить, это он прекрасно знал по опыту других. Все произошло из-за его привязанности к Элизабет Хаттон — общие воспоминания, нежная дружба в былые времена, — и, невозможно это отрицать, из-за возрастающего раздражения против первого министра, который вел себя на заседаниях совета чересчур самонадеянно.
Сейчас его величество как будто бы умиротворен, дружба с графом Бекингемом восстановлена, но прежняя доверительность уже никогда не вернется; остались в прошлом отношения отца-наставника и ученика, любые попытки возобновить их встретят отпор. Подобная близость вызывала недовольство короля, да и ученик ее явно перерос. Фрэнсис должен быть впредь более осторожен и помнить, что по этой извилистой тропе к вершине нельзя шагать слишком размашисто и уверенно, легко споткнуться и упасть в пропасть.
Отступать было очень неприятно. Фрэнсис должен наладить отношения с леди Комптон и с сэром Джоном Вильерсом. Здесь ему мог помочь его способный молодой секретарь Эдвард Шербурн, он выступит в роли посредника, а Фрэнсис в знак благодарности станет крестным отцом его новорожденного сына. Нужно также пригласить сэра Эдварда Коука в тайный совет, членом которого он оставался, но самое трудное — это удовлетворить просьбу сэра Эдварда о содержании его супруги леди Хаттон в превентивном заключении до слушания дела по установлению подлинности или подделки документов, якобы составленных графом Оксфордом. Ей было позволено жить сначала в доме некоего Олдермена Беннета, а потом в доме сэра Уильяма Крейвена, но как только ее разлучили с дочерью, она перестала оказывать на нее влияние, и Коуку наконец-то удалось настоять на своем, он потребовал, чтобы свадьба состоялась как можно скорее.
Мы не знаем, смирил ли Фрэнсис Бэкон гордость под давлением обстоятельств и явился ли на бракосочетание, но как бы там ни было 29 сентября, в Михайлов день, сэр Джон Вильерс, старший брат графа Бекингема, сочетался браком с Фрэнсис Коук, дочерью сэра Эдварда Коука и леди Фрэнсис Хаттон. Венчание состоялось в Хэмптон-Корте, посаженым отцом невесты был его величество. Королева и принц Уэльский также присутствовали на церемонии, которая прошла в придворной церкви. Леди Хаттон получила приглашение, но сказалась больной и попросила ее извинить.
Вот что рассказывал о свадьбе один из свидетелей события в письме к Дадли Карлтону: «Милорд Коук подвел дочь к королю со словами благодарности. Король передал ее сэру Джону Вильерсу. Государь сидел рядом с ней за роскошным обедом и за ужином, на который были приглашены множество лордов и дам, милорд архиепископ Кентерберийский, милорд казначей, милорд гофмейстер и другие. Король и за обедом, и за ужином пил за здоровье новобрачной; молодой муж не отходил от нее ни на шаг и когда обедали, и когда ужинали. На следующий день молодые не вставали до полудня, потому что король велел им сказать, что придет навестить их в спальне, так что пусть остаются в постели. Вид у милорда Коука был очень довольный, он весело улыбался и за обедом, и за ужином, а вот миледи Хаттон на свадьбе не была, она все еще живет узницей у олдермена Беннета. Король пригласил ее на свадьбу, но она просила ее извинить, дескать, она нездорова. Милорд Бекингем, его матушка, братья и сестры провели весь день во дворце, также и сыновья милорда Коука и их собственные сыновья, однако я не видел никого из Сесилов».
Хоть дело и кончилось свадьбой, о которой нельзя было сказать, что все хорошо, что хорошо кончается, потому что брак оказался на редкость несчастливым, все же для лорда-хранителя обстоятельства пока складывались вполне неплохо. Эта кость в горле, первый министр сэр Ральф Уинвуд, неожиданно заболел на третьей неделе октября и, несмотря на кровопускания и все обычно применяемые средства, 27-го числа скончался. «После вскрытия его тела стало ясно, — писал Джон Чемберлен, который был его близким другом, — что он долго бы и не протянул, потому что сердце его съежилось в комочек, селезенка целиком поражена, осталась только одна почка, да и та разрушена, печень покрыта черными пятнами, легкие тоже поражены болезнью, а также обнаружены другие патологические изменения». Что ж, теперь сэра Ральфа можно извинить за разжигание конфликта в тайном совете и за жестокое обращение со своим псом; у него были на то уважительные причины.
Король не сразу назначил преемника на его пост и временно передал печати первого министра графу Бекингему, который — возможно, следуя благоразумному совету лорда-хранителя и к тому же надеясь восстановить добрые отношения с семьей своей новой невестки, — согласился освободить леди Хаттон в день избрания нового лорда-мэра лондонского Сити и препроводить ее к отцу (которому в 1605 году был пожалован титул графа Эксетера) в Сесил-Хаус на Стрэнде.
Все были прощены. Леди Хаттон поехала во дворец и восстановила добрые отношения с его величеством и с королевой, которая всегда души в ней не чаяла. Присутствовала при этом и леди Комптон. В тот вечер в Сесил-Хаусе устроили грандиозный пир, а неделю спустя леди Хаттон принимала в Хаттон-Хаусе королевскую чету. «Не было только милорда Коука, которого все гости ожидали увидеть. Никогда еще его величество не выглядел таким веселым и довольным, он чуть не каждые десять минут пил за здоровье миледи Элизабет Хаттон, первыми произнесли тост в ее честь милорд хранитель и милорд маркиз Гамильтон, его подхватили все лорды и леди, проявлявшие по отношению к ней величайшую почтительность и уважение, а потом и все придворные в соседнем покое».
Все радовались и веселились, за исключением, может быть, сэра Эдварда Коука, который обедал один в своей квартире в Темпле. Что касается лорда-хранителя, у него, как и у короля, были все основания радоваться. Ему, как и его бывшей возлюбленной леди Хаттон, вернули высочайшее благоволение. Он почти каждый день обменивался письмами с графом Бекингемом. Его противник за столом заседаний тайного совета сэр Ральф Уинвуд — упокой Господь его душу — вернулся к Создателю, а старый соперник, экс-лорд верховный судья Коук, хоть и стал членом тайного совета, но оказался в дураках. Лучшего секретаря, чем Эдвард Шербурн, трудно было найти, Тоби Мэтью был его постоянным гостем («он начал одеваться очень ярко, даже кричаще, — отмечал Чемберлен, — и замечено, что в определенные дни он посещает по вечерам испанского посла»), но самое главное — лорд-хранитель наконец-то жил там, где ему больше всего хотелось жить, в доме своего детства, в Йорк-Хаусе.
В первый день нового, 1618 года его величеству было угодно пожаловать Джорджу Вильерсу титул маркиза Бекингема, что вызвало некоторое удивление в придворных кругах, где такой чести для фаворита не ожидали. Джон Чемберлен сообщал, что «никаких разговоров об этом раньше не было», однако король заявил, что сделал это «из расположения к графу, какого не вызывал у него никто другой, а также за его любовь к себе, за преданность и скромность». В первую субботу января тот же автор сообщил, что «лорд-хранитель печати стал также лорд ом-канцлером, и это пожизненно дает ему прибавку 600 фунтов дохода в год. Поговаривают также, что его пожалуют баронским титулом и что ему дали дополнительную должность, чтобы с доходов от нее он мог рассчитаться с долгами, а он готов уступить эту должность старшему брату (единокровный брат Фрэнсиса сэр Николас Бэкон из Редгрейва, которому сейчас было семьдесят восемь лет) за сумму на 1000 фунтов меньше, чем было бы уместно получить от кого-нибудь еще, но тот отказался, вероятно, руководствуясь девизом своего отца: mediocria firma[29]. Его светлость в последнее время в большой милости у короля и у лорда маркиза, и его преуспеяние ударило ему в голову, потому что он вдруг разом уволил шестнадцать своих подчиненных».
Джон Чемберлен, который, как мы знаем, был близким другом сэра Ральфа Уинвуда, не упускал случая лягнуть Фрэнсиса Бэкона.
В тот же вечер новоиспеченный маркиз дал грандиозный обед, на котором присутствовали его величество и принц Уэльский, а также, вне всякого сомнения, лорд-канцлер — конечно же, со своей супругой, которая согласно протоколу заняла место по старшинству рядом с женами баронов, — и на котором, как нам известно, гостям было подано семнадцать дюжин фазанов и двенадцать дюжин куропаток.
В качестве новогоднего подарка лорд-канцлер преподнес маркизу «скромный букет эссе», сопроводив дар шутливым каламбуром, что желал бы быть садовником его светлости и радовать его более изысканными цветами. Принц Уэльский получил от него «пару маленьких золотых подсвечников как символ неугасимого света, которым Ваше высочество и Ваши потомки всегда будете озарять нашу церковь и наше королевство». О том, что он преподнес его величеству королю, нет никаких сведений, но, помня, что когда-то он прислал королеве Елизавете в качестве новогоднего подарка нижние юбки, можно предположить, что король Яков стал обладателем туалета, в который он облекал свою особу в королевской спальне. В последний день святок принц Уэльский разыграл маску, написанную Беном Джонсоном, — «Союз удовольствия и добродетели», но на сей раз маска не доставила никому удовольствия, хотя два маркиза, Бекингем и Гамильтон, а также граф Монтгомери и придворные дамы скакали и резвились, как умели. Леди Хаттон во дворце не было, не присутствовала на представлении и королева, которая уже несколько дней недомогала. Она, как и король, страдала расширением вен, но в те времена любую боль в ногах объясняли подагрой. Рассказывали, что во время охоты короля приходилось привязывать к лошади, но онемение конечностей проходило лишь после того, как он подержит ноги в животе свежевыпотрошенного оленя. Его лорд-канцлер не рекомендовал бы ему столь сомнительного лечения. Его собственное средство, которое «почти всегда приносило облегчение и утишало боль за двадцать четыре часа», состояло в том, что «сначала накладывалась припарка из хлеба, сваренного в молоке, порошка из высушенных красных роз и десяти гранов шафрана». Потом, когда поры в коже откроются, следовало «наложить припарку из листьев шалфея… корней болиголова, настоянных на воде, из которой удалено железо». И наконец «наложить растворенный в розовом масле алебастр на кусок полотна и привязать к ноге». Несомненно, более приятный рецепт, чем кровавая ванна, но что поделаешь, вкусы у его величества были во многих отношениях куда менее изысканными, чем у его лорда-канцлера.
Тоби Мэтью снова оказался объектом пересудов, причем вместе с его именем произносилось имя графини Эксетер, которая была на тридцать восемь лет моложе своего семидесятишестилетнего супруга графа Эксетера. Он женился на ней вторым браком в 1612 году, и она стала мачехой для множества сыновей и дочерей графа, которые были намного старше, чем она; одной из ее падчериц оказалась леди Хаттон. Говорили, что Тоби Мэтью «совращает» графиню в католическую ересь, но у графини и без того хватало неприятностей: ее обвиняли в попытке отравить жену внука своего мужа, леди Руз.
Это щекотливое дело передали на рассмотрение лорду-канцлеру. Как же осмотрительно он должен был действовать, ведь он хорошо знал обе семьи, одной из сторон был сэр Томас Лейк, член тайного совета и отец леди Руз, другой — разгневанный лорд Эксетер, который считал, что его жену оклеветали, и решил передать дело в Звездную палату. Необходимо было во что бы то ни стало отсрочить рассмотрение на несколько месяцев, чтобы лорд-канцлер мог сосредоточиться на более неотложных делах канцлерского суда и к тому же успевать выкраивать время для исков маркиза Бекингема, который каждую неделю писал то из Ньюмаркета, то из Теоболдза — в зависимости от того, где находился король, — прося его споспешествовать то одному джентльмену, то другому, то третьему в их тяжбах, каковые услуги «я буду считать оказанными лично мне». Чаще всего эти тяжбы вели члены семьи самого Бекингема, и лорду-канцлеру приходилось проявлять величайшую осторожность и непредвзятость, чтобы в случае каких-либо противоречий разрешить дело наиболее беспристрастно.
Король, надеющийся, что брак между принцем Уэльским и испанской инфантой состоится, по-прежнему настаивал на политике преследования католиков, которые отказывались присутствовать на англиканских богослужениях, тогда как его лорд-канцлер придерживался более умеренного курса. Возможно, не прошли бесследно его частые беседы с Тоби Мэтью, ведь Тоби, конечно же, рассказывал ему о надеждах своих многочисленных испанских друзей при испанском дворе. Однако Фрэнсис был обязан подчиняться приказам его величества, и потому 13 февраля, перед началом выездных судебных сессий, он произнес в Звездной палате речь, в которой говорил о необходимости более решительно выискивать вероотступников, которых в королевстве великое множество, «в каком бы дальнем и глухом углу они ни свили свое гнездо и где бы ни расплодились… Не может быть мировым судьей тот, у кого жена вероотступница», говорил он, а ведь это очень суровый приговор для во всех иных отношениях законопослушного католика.
Лорд-канцлер также потребовал, чтобы мировые судьи применяли более жесткие меры по отношению к ворам, он решительно против нынешней практики позволять преступникам отделываться штрафом. «Никогда раньше в стране не было такого воровства, как сейчас, и тому две причины; одна заключается в том, что нарушителей не слишком-то стараются и поймать, а другая — что им позволяют ускользнуть от наказания; на жалобы и гнев власти не обращают внимания, разошлют по округе указ, и на том успокоятся, а вора надо ловить и пешему, и конному, преследовать его, как хищника».
В деле, которое до некоторой степени касалось лично Фрэнсиса, был замешан лорд Клифтон, который был осужден за какую-то провинность еще до того, как Фрэнсис стал лордом-канцлером, заключен в долговую тюрьму Флит и приговорен к штрафу 1000 фунтов. В ярости благородный дворянин стал грозить, что убьет лорда-хранителя, и его перевели в Тауэр. Великодушный, как всегда, Фрэнсис стал ходатайствовать за лорда Клифтона и его освобождение из тюрьмы, но у злосчастного лорда, судя по всему, была неустойчивая психика, потому что несколько месяцев спустя он зарезался в своем доме в Холборне.
Всю зиму и начало весны Фрэнсис продолжал рассматривать тяжбы в канцлерском суде, причем заседал каждый день и записывал все, не упуская мельчайшей детали, из-за стола он вставал, только когда все дела были завершены; что до сведений более личного характера, то за ними нам придется обратиться к Джону Чемберлену, который время от времени упоминал о Фрэнсисе и о его друзьях в своих письмах к Дадли Карлтону в Венецию.
Мы узнаем в начале февраля, что Тоби Мэтью «собирается смотреть какую-то пьесу в театре „Блэк-фрайерз“, хотя, по моему разумению, человеку столь глубоких религиозных убеждений больше пристало молиться и поститься по пятницам, нежели ходить в театр». Чемберлен явно недолюбливал Тоби; видимо, его до сих пор раздражали его «вызывающе яркие туалеты» и вечерние визиты к испанскому послу.
Между лордом-канцлером и архиепископом Кентерберийским не было согласия по поводу назначения нового ректора Колледжа Ориэл в Оксфорде. Архиепископ желал, чтобы колледж возглавил человек «зрелых лет, с большим весом в обществе», ибо «юнцам нельзя поручать руководство учебными заведениями». Фрэнсис отдавал предпочтение более молодому кандидату и говорил, что ценит не столько зрелость возраста, сколько зрелость ума. Его протеже было всего двадцать шесть лет, и в конечном итоге ректором был назначен он.
В апреле лорд-канцлер слушал в Мерсерз-Чейпл[30] проповедь архиепископа Сплитского[31].
Явился он в церковь «во всем великолепии своего парадного официального костюма, что и неудивительно, потому что меньше месяца назад я видел, как он в таком же виде… торговал шелка и бархат».
Джон Чемберлен мог сколько его душе угодно насмехаться над лордом-канцлером за то, что тот торгуется, покупая себе ткани для туалетов, но как бы зачесались у него руки полистать роспись личных доходов и расходов Фрэнсиса с июня по август 1618 года, знай он, что таковая существует среди его личных бумаг. Как и дневники 1608 года, эти записи расходов, сделанные десять лет спустя, предназначались только для глаз самого Фрэнсиса Бэкона и его личных секретарей, однако они сохранились и в конце концов заняли свое место среди официальных документов.
Биографы Фрэнсиса Спеддинг и Диксон опубликовали их полностью, но мы выберем лишь несколько записей, чтобы узнать хоть немного о частной жизни Фрэнсиса Бэкона, лорда-хранителя большой государственной печати и лорда-канцлера в 1618 году. В разделе «Расписки в получении денег» за четыре месяца мы, например, находим:
| Фунты | Шиллинги | Пенсы | ||
| 27 июня | Вашей светлости от мистера Тоби Мэтью по распоряжению Вашей светл. | 400 | 0 | 0 |
| 23 июля | От мистера Эдни (камердинера, одного из старейших слуг Фрэнсиса Бэкона) | 209 | 0 | 0 |
| От мистера Янга, секретаря Вашей светл. | 300 | 10 | 0 | |
| От мистера Хэтчера (следящего за состоянием печатей) из канцелярии Уайтхолла | 680 | 0 | 0 |
А вот из раздела «Подарки и вознаграждения»:
| Фунты | Шиллинги | Пенсы | ||
| 26 июня | Человеку, который принес Вашей светлости вишни и другие фрукты из Горэмбери, по распоряжению Вашей светл. | 0 | 6 | 0 |
| 29 июня | Итальянцу, по распоряжению Вашей светлости | 5 | 10 | 0 |
| 30 июня | М-ру Батлеру в подарок, по распоряжению Вашей светл. | 22 | 0 | 0 |
| 1 июля | Человеку миледи Хаттон, который принес цветочные семена, по распоряжению Вашей светл. | 0 | 11 | 0 |
Стало быть, дружеская связь не порвалась, в саду Хаттон-Хауса цвели лилии, розмарин, гвоздики, поспевала земляника, и все это, несомненно, доставлялось в Йорк-Хаус или в Горэмбери.
| 5 июля | Человеку м-ра Мэтью, который принес Вашей светл. цукаты | 0 | 5 | 0 |
| Человеку м-ра Рекордера, который принес Вашей светл. лосося | 0 | 10 | 0 | |
| 6 июля | М-ру Троушоу, бедняку и недавнему узнику Комптера, по распоряжению Вашей светл. | 3 | 6 | 0 |
| Прачке, которая послала спасать журавля, упавшего в Темзу (Ну как не восхититься! Наверно, Фрэнсис видел из окна Йорк-Хауса, как прачка, знавшая, что он любит птиц, кликнула ближайшего лодочника) | 0 | 5 | 0 |
| 8 июля | Лакею миледи, который доставил Вашей светл. вишни из Горэмбери (Видимо, Элис была в имении, и Фрэнсис мог угощать своих друзей лососем и вишнями без нее) | 0 | 5 | 0 |
| 30 июля | Человеку сэра Сэмюела Пейтона, который доставил Вашей светл. 12 дюжин куропаток | 1 | 2 | 0 |
| Посыльному м-ра Джонса, аптекаря (Надо полагать, куропатки вызвали несварение) | 0 | 5 | 0 | |
| 31 июля | Человеку сэра Эдварда Кэрью, который доставил Вашей светл. коробки с цветами апельсинового дерева, по указанию Вашей светл. | 9 | 10 | 0 |
| 1 августа | Бедняку паломнику, по указанию Вашей светл. | 2 | 4 | 0 |
| 2 августа | Бедняку из Сент-Олбанса, по указанию Вашей светл. | 0 | 2 | 6 |
| 2 августа | Служанке м-ра Гибсона из Сент-Олбанса, которая привезла Вашей светл. шесть индеек | 0 | 5 | 6 |
Начались каникулы, и лорд-канцлер обосновался в Горэмбери. Оленина, индюшатина, лососина на обед — щедрые дары друзей, и потом сразу же обращение к аптекарю Сент-Олбанса, которому платили один фунт, два шиллинга, ноль пенсов. Вообще-то за аптекарем посылали на другой день после доброго обеда; получил он свое вознаграждение в один фунт, два шиллинга, ноль пенсов и после того, как Фрэнсису были презентованы утки.
В середине августа лорд-канцлер ездил в Лондон, и за эти дни нескольким людям было выплачено вознаграждение, помеченное девятнадцатым августа. Среди них значатся:
| Фунты | Шиллинги | Пенсы | |
| Нескольким слугам из дома Вашей светл. в Горэмбери по приезде Вашей светл. оттуда, по указанию Вашей светл. | 15 | 14 | 0 |
| Извозчикам, которые привезли в Лондон багаж | 0 | 10 | 0 |
| Посыльному, который принес стеклянные банки и пузырьки | 0 | 3 | 0 |
| Человеку, который привел лошадей-тяжеловозов | 0 | 2 | 6 |
| Прачке, которая стирала и крахмалила белье Вашей светл. в Горэмбери | 0 | 6 | 0 |
| Трубачам принца, по указанию Вашей светл. | 2 | 4 | 0 |
| Старому м-ру Хиллиарду, по распоряжению Вашей светл. | 11 | 0 | 0 |
Последняя выплата представляет собой особый интерес. «Старый м-р Хиллиард» — это Николас Хиллиард, знаменитый художник-портретист и миниатюрист, который написал миниатюру восемнадцатилетнего Фрэнсиса Бэкона, а сейчас уже сколько-то времени сильно нуждался. Ему был семьдесят один год, и жить ему оставалось около года.
Последняя дата списка скромных вознаграждений за оказанные услуги — конец сентября, в нем по большей части помечены суммы в несколько шиллингов слугам, привозившим лорду-канцлеру птицу и фрукты в дар от своего хозяина.
Список «Выплаты и издержки» содержит суммы куда менее скромные, хотя по современным меркам они не кажутся чрезмерными.
| Фунты | Шиллинги | Пенсы | |||
| 25 июня | Торговцу полотном и белошвейке за покупку полотна и кружев и пошив брыжей, манжет и сорочек для Вашей светл. | 29 | 8 | 10 | |
| 4 июля | За зеркало для дорожного несессера Вашей светл. | 0 | 18 | 0 | |
| М-ру Янгу, секретарю Вашей светл., по распоряжению Вашей светл. | 66 | 0 | 0 | |
| Мажордому, по распоряжению Вашей светл. | 200 | 0 | 0 | |
| М-ру Ниву, обойщику, в счет уплаты долга | 200 | 0 | 0 | |
| Мажордому, по распоряжению Вашей светл. | 400 | 0 | 0 | |
| 23 июля | Мажордому, по распоряжению Вашей светл. | 200 | 0 | 0 |
| 24 июля | Мажордому, по распоряжению Вашей светл. | 200 | 0 | 0 |
Из этого последнего списка явствует, что мажордом расплачивался по многим хозяйственным счетам, платил за продукты, выплачивал жалованье слугам и проч. В то время мажордомом у Фрэнсиса был некий мистер Шарпи[32], и он, судя по всему, не зря носил такую фамилию. Некоторые из поставщиков присылали отдельные счета, например:
| Фунты | Шиллинги | Пенсы | ||
| 15 августа | Мяснику Вашей светл. в Горэмбери в счет уплаты части долга | 100 | 0 | 0 |
| 17 августа | Кладовщику Горэмбери, по распоряжению Вашей светл. | 50 | 0 | 0 |
| 11 сентября | Мистеру Миллеру, обойщику, по распоряжению Вашей светл., в счет уплаты части прежнего долга | 100 | 0 | 0 |
И наконец, 200 фунтов мистеру Шарли, мажордому.
В то время в штате помощников, камердинеров, лакеев, пажей, швейцаров и прочей челяди у Фрэнсиса насчитывалось 73 человека. Что и говорить, огромное число, но, возможно, личным помощникам Фрэнсиса жалованье выплачивал не мажордом.
Начиная с июля приемы в Йорк-Хаусе и в Горэмбери, без сомнения, стали устраивать еще чаще, потому что 12 июля лорд-хранитель большой государственной печати и лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон стал бароном Веруламом Веруламским и с тех пор подписывался как «Фр. Верулам, канц.». Имя это он взял, потому что чуть более чем в полумиле от Горэмбери находился построенный еще римлянами городок Веруланиум, а Фрэнсис примерно в это время начал строить себе новую резиденцию в северо-восточной части Горэмберийского парка. Задумана она была как место уединенного отдохновения, но поскольку неподалеку находилась застава на оживленной дороге, такой тишины, как в старом доме, там было не найти даже в те далекие времена. Верулам-Хаус был задуман небольшим, но вместительным, с высокими потолками, величественной лестницей и плоской, крытой свинцом крышей, с которой его светлость мог бы любоваться террасами, парком и водоемами. Кухню поместили в полуподвале, что по тем временам было новшеством, вода подавалась в дом по трубам из ближайших прудов.
Судя по выплатам, строительство этим летом уже шло полным ходом.
| Фунты | Шиллинги | Пенсы | ||
| 17 августа | М-ру Добсону, по распоряжению Вашей светл. для выплаты рабочим, которых нанимали еще в Уиттиде | 100 | 0 | 0 |
| 17 сентября | Мажордому, по распоряжению Вашей светл., для м-ра Стайла, каменщика на строительстве Верулам-Хауса | 50 | 0 | 0 |
Фрэнсис проектировал дом сам с помощью мистера Добсона из Сент-Олбанса, и строительство должно было обойтись в 10 000 фунтов. Это в три раза больше, чем его отец, лорд-хранитель сэр Николас Бэкон истратил на Горэмбери. Развалины старого дома сохранились и по сей день, но, к великому огорчению ученых, от Верулам-Хауса не осталось ни единого камня, его снесли через сорок лет после смерти Фрэнсиса. Джон Обри видел дом в 1656 году, за десять лет до того, как его разрушили, и рассказал об увиденном в своих «Кратких жизнеописаниях», где назвал Верулам-Хаус «самым оригинальным жилищем из всех, что мне довелось видеть… замечательные каминные трубы, очень высокие потолки, все обшито прекрасными деревянными панелями. Две ванные комнаты, или парные, куда его светлость удалялся перед вечером, если находил в том надобность… все дымоходы сведены к середине дома, вокруг них сделаны сиденья…
В середине дома удивительной красоты деревянная лестница с замечательной резьбой; на каждой площадке на перилах какая-нибудь забавная резная фигурка: то это важный богослов в очках и с книгой, то нищий монах и пр. — причем ни одна фигурка не повторяется. На верхнем этаже двери с внешней стороны покрашены в темно-коричневый цвет, и на них изображены, больше чем в человеческий рост, рельефы античных богов: Аполлон… Юпитер с молниями, все они выполнены великолепным мастером, он подчеркнул контуры золотом, и когда на рельефы падает солнце, они поистине ошеломляют.
В верхнюю часть двери на самом верху с восточной стороны вделано большое зеркало, которое преподносит посетителю очаровательный сюрприз, потому что когда вы, вдоволь налюбовавшись водоемами, террасами, пейзажем сельской местности, вид на которые открывается из этой двери, поворачиваете потом голову, вы готовы поклясться, что с противоположной стороны дома перед вами открылся еще один в точности такой же пейзаж, ибо когда вы выходите на балкон, показывающий вам дом консьерж закрывает дверь, чтобы позабавить этим фокусом с зеркалом».
«Парные», о которых рассказывает Джон Обри, — это жарко отапливаемые помещения, одним словом, разновидность турецких бань. Возможно, противоядие против роковой привычки спать днем.
Посетив Верулам-Хаус, Обри пошел пешком в Горэмбери, что находился на расстоянии мили, и увидел сад, парк и лес, но, как явствует из его описания, все это уже пришло в запустение: «Восточная часть парка, где его светлость любил размышлять, а рядом неизменно находился его слуга мистер Бушелл с пером и чернильницей наготове, во времена его светлости была поистине раем, а сейчас это большое вспаханное поле». Здесь были пруды с рыбой площадью около четырех акров, «их дно выложено разноцветными камешками с рисунками рыб и пр., во времена его светлости они были хорошо видны в прозрачной воде, но сейчас все заросло камышом и кувшинками».
Прошло так мало времени, а сад и парк в Горэмбери, которые с такой любовью разбивал Фрэнсис и за которыми так ухаживал, одичали; сейчас такое случается сплошь и рядом, но то, что это произошло в семнадцатом веке, удивляет.
Мистер Бушелл, с его неизменными пером и чернильницей, значится в списке помощников и слуг за 1618 год как лакей. Он поступил в услужение к Фрэнсису в 1608 году пятнадцатилетним пареньком и прослужил у него до самой его смерти, а потом стал работать мастером на рудниках в Сомерсете и Кардигане, потому что получил знания о минералах и рудах от своего хозяина.
Два главных секретаря в списке — это мистер Янг и мистер Томас Мьютиз. Томас Мьютиз позднее стал личным секретарем и близким другом Фрэнсиса и женился на внучке сэра Николаса Бэкона, единокровного брата Фрэнсиса Бэкона.
Эдвард Шербурн значится как камердинер, и есть еще двадцать пять личных слуг — интересно бы знать, в чем именно заключались их обязанности. Включено в список и имя мистера Перси, того самого «Перси, будь он проклят», которого так ненавидела первая леди Бэкон. Теперь ему уже было немало лет, как и его хозяину. Есть еще и некий мистер Николас Бэкон, вполне возможно, что это сын единокровного брата Эдварда Бэкона, и — наверное, самая интригующая личность из всех слуг — двадцатишестилетний мистер Джон Андерхилл из Локсли в Уорикшире, что в нескольких милях от Стратфорда-на-Эйвоне, родственник Уильяма Андерхилла, который продал Нью-Плейс мистеру Уильяму Шаксперу.
Этот лакей вскоре дослужился до должности мажордома новоиспеченной баронессы Веруламской, и у них установились поистине близкие отношения. Они были одних лет, и у нас не может не возникнуть вопрос, а не леди ли Хаттон, чей первый муж был единокровным братом мистера Уильяма Андерхилла из Уорикшира, первоначального владельца Нью-Плейс, рекомендовала молодого Андерхилла в штат прислуги Горэмбери. Приличный молодой человек сопровождал леди Верулам на прогулке у прудов с рыбой, а сама она тем временем беседовала с его светлостью о посадках кустов розмарина в память о прошлом.
Обедала ли она с ним в один из понедельников в начале августа, нам неведомо, но если и обедала, то за столом ей пришлось сидеть вместе со свекровью ее дочери, леди Комптон, которая только что получила титул графини Бекингем, что привело к некоторым затруднениям с геральдической палатой, потому что супруг графини сэр Томас Комптон остался всего лишь рыцарем, и теперь герольдмейстеры не знали, должны ли ее дочери получить по протоколу старшинство над другими дамами или нет. Возможно, именно этот вопрос обсуждался за столом, потому что новоявленная графиня приехала к обеду именно для того, чтобы его окончательно решить. В начале августа в Горэмбери как раз были доставлены поросята, лососина, оленья туша, дюжина откормленных кастрированных баранов; посыльный от аптекаря появлялся дважды…
Леди Верулам свыклась с ролью хозяйки за столом своего супруга лорда-канцлера, и если вспомнить, что он выбрал Элис за ее красоту и живой ум — не будем забывать и о приданом, — она безусловно не стушевалась бы перед грозной графиней Бекингем. Дочь олдермена Элис сейчас гордилась тем, что все три ее сестры вышли замуж за рыцарей, а две родные сестрицы Пэкингтон с рыцарями помолвлены. Что касается ее матери, эта неугомонная дама после смерти своего второго мужа, сэра Джона Пэкингтона, стала виконтессой Килмори.
Нетрудно вообразить, как Фрэнсис Бэкон, едва лишь уедут многочисленные родственники его жены и приехавшие по делу гости, которым он оказал радушный прием, найдет повод удалиться в столь любимый им парк в сопровождении Бушелла или кого-то еще из секретарей, с их неизменными атрибутами — перьями и чернильницей. «Сначала всемогущий Господь насадил сад, и поистине сад это чистейшая из радостей, дарованных человеку; величайшее отдохновение для человеческого духа; без него все здания, что возводит человек, все дворцы лишь грубые поделки». Он смотрел вокруг, и в голову приходили самые разные мысли, он сравнивал нынешнее время с прошлым, вспоминал годы, когда здесь жила его мать… «Говорят, изменения в погоде повторяются каждые тридцать пять лет: сильные морозы, сильные дожди, засуха, теплая зима, прохладное лето и так далее, и мне интересно это отметить, потому что и сам я нахожу совпадения, сопоставляя погоду прошлых лет».
Потом он возвращался домой трудиться над «Новым органоном», который занимал все его мысли. «И еще, вот человек пришел из мастерской в библиотеку, и его охватило восхищение перед огромным числом самых разных книг, которые он там увидел; но пусть он внимательно их прочтет и задумается над их смыслом и содержанием, и его восхищение несомненно исчезнет; он увидит в них бесконечные повторения, люди постоянно говорят и делают то, что уже говорили и делали, и на смену восхищению придет недоумение по поводу того, как мало предметов занимают человеческий ум и как они ничтожны».
Но обязанности службы снова требовали его внимания. Пришлось оставить Горэмбери и любимые занятия и возвращаться в Лондон. В Англию вернулся сэр Уолтер Рэли, он год назад отправился в Новый Свет искать золото, никакого золота там не нашел, да еще разграбил испанское поселение, и за все за это впал в немилость. Исходя из интересов нынешней дружбы между Великобританией и Испанией он совершил серьезное преступление. Его арестовали и во второй раз заключили в Тауэр. Лорд-канцлер был одним из членов тайного совета, кого назначили вести дознание.
Экспедицию сэра Уолтера Рэли снаряжали со всей возможной основательностью, ее одобрил сам король. Сэра Рэли освободили из Тауэра, где он провел в заключении пятнадцать лет, специально для того, чтобы он отправился «в южную часть Америки… дабы найти в тамошних краях продукты и товары, которые могут оказаться полезными и даже необходимыми для подданных королевств и доминионов его величества, а туземцы используют их мало или вовсе не используют и не знают им цены».
Рэли говорил, что ему известно одно богатое месторождение золота близ берегов реки Ориноко, и оно-то и стало истинной целью его экспедиции. Под его командование было отдано несколько судов, и в июне 1617 года он отплыл из Плимута с добрыми напутствиями короля, тайного совета и народа. Когда Фрэнсис Бэкон был еще лордом-хранителем, он как-то раз обсуждал с сэром Рэли этот план в Грейз инне и при своем огромном интересе к разработке полезных ископаемых и к колониям — он одним из первых вложил деньги в компанию «Торговля с Виргинией и прибрежными островами», — конечно же, горячо его поддержал; Рэли был так же сведущ в науках и в минералогии, как и сам Фрэнсис.
Однако Фрэнсису следовало предупредить Рэли, что он ни в коем случае не должен пиратствовать и причинять ущерб подданным испанского короля, которые могут оказаться поблизости. Этот запрет с несомненностью подразумевался и в указаниях, данных сэру Рэли тайным советом, но то ли сэр Рэли этого не понял, то ли находящийся под его командованием капитан Кимис не подчинился приказу, так до конца выяснить и не удалось; кончилось все тем, что на берегах Ориноко англичане встретили испанцев, стали с ними сражаться, сожгли их поселения, никакого месторождения золота там не нашли, и в июне 1618 года экспедиция вернулась в Плимут, ничего не достигнув, но поставив под угрозу дипломатические отношения между Англией и Испанией.
Испанский посол граф де Гондомар (тот самый, кого Тоби Мэтью посещал под покровом ночи) высказывался против экспедиции еще до того, как ее начали снаряжать, и теперь, убедившись, что он оказался прав, принялся в негодовании обвинять Рэли и его спутников, называя их во всеуслышание пиратами и разбойниками. К несчастью для посла, как раз в это время кто-то из его свиты имел неосторожность сбить своим конем ребенка на улице, и это привело в такой гнев жителей Чансери-лейн, где произошел несчастный случай, что дом графа осадили, собралось около пяти тысяч человек, живших по соседству, и чуть было не начались беспорядки. Арест сэра Уолтера Рэли и заключение его в Тауэр, совпавшие с арестом зачинщиков беспорядков, превратили его в глазах простых людей в народного героя, все испанское в стране сразу возненавидели, и дипломатические отношения с Испанией буквально повисли на волоске.
В совет шести, которому было поручено допрашивать сэра Рэли, входил также и сэр Эдвард Коук, который с такой злобой обличал его шестнадцать лет назад и приговорил к смерти за государственную измену, но тогда его величество вмешался и отменил смертный приговор. Расследование продолжалось весь сентябрь и половину октября, совет наконец решил, что дело сэра Уолтера должен рассматривать тайный совет в полном составе, а также судьи, представители знати и мелкопоместного дворянства. Король не согласился: он не желал, чтобы на слушании присутствовал еще кто-то, кроме первоначально назначенного жюри, пусть обвинения Рэли и его сообщникам предъявят генеральный стряпчий и генеральный прокурор. А потом приговор, так долго отсрочиваемый, будет приведен в исполнение.
Король слишком хорошо знал, что если сэру Уолтеру Рэли, который стал поистине народным героем, позволят защищаться публично, то он завоюет еще больше симпатий и у простого люда, и у знати, и у мелкопоместного дворянства. А если его простят и второй раз, если приговорят не к высшей мере наказания, а к пожизненному заключению, это нанесет серьезный удар по отношениям с Испанией и положит конец переговорам о браке с испанской инфантой.
Королева, слегшая с водянкой в Хэмптон-Корте, делала все возможное, чтобы сэру Рэли сохранили жизнь. Она не могла забыть дружбы, которая связывала его и ее старшего сына Генри, принца Уэльского. Она была уверена, что маркиз Бекингем вступится за Рэли, и написала ему, как встарь, письмо, начинавшееся словами: «Мой добрый песик, если Вы по-прежнему повинуетесь мне, я молю Вас всем сердцем: позвольте мне сейчас подвергнуть испытанию Ваши чувства ко мне, убедите короля со всем пылом и искренностью, какие Вам свойственны, что сэру Уолтеру Рэли следует сохранить жизнь…» Но маркиз, как и его величество, не желал портить отношения с испанским послом и с королем Испании; он, как и принц Уэльский Чарлз, считал, что брак следует заключить любой ценой.
Суд прошел закрыто, как и требовал король. Рэли отрицал все обвинения, кроме одного: что он пытался убежать из Тауэра, когда его туда первый раз заключили. 28 октября он предстал перед Судом королевской скамьи и был приговорен к смертной казни. Ночью его перевезли из Тауэра в тюрьму над воротами Вестминстерского дворца, а утром обезглавили во дворе старого дворца.
Сэр Уолтер Рэли говорил на эшафоте полчаса и вызвал уважение у всех, кто его слушал. Даже циник Джон Чемберлен был взволнован. «Он говорил и держался без тени страха, ни капли не красуясь, и тем заслужил огромное сочувствие, все, кто его видел, скажут, не кривя душой, что его конец был omnibus numeris absolutus[33], он умер с безупречным достоинством, какое только может проявить человек». Сэру Рэли было шестьдесят шесть лет. Солдат, мореплаватель, придворный с изысканными манерами, независимый, всегда уверенный в себе, имевший много друзей и много врагов, он был последней звездой из плеяды блестящих молодых людей, к которым так благоволила и которых так отличала королева Елизавета.
Страна негодовала. Отравитель граф Сомерсет живет себе припеваючи в Тауэре — в покоях, где раньше жил Рэли, что сейчас вызывало особенное возмущение, — а отважного первооткрывателя, который верой и правдой служил королю и державе, совершил в прошлом столько экспедиций, плавал по всему миру, привозил с собой огромные богатства для страны, обвинили в предательстве и приговорили к позорной казни лишь для того, чтобы угодить кровожадным испанцам, но он умер гордо, как подобает герою.
Надо было как-то успокоить народ. Поскольку открытого суда не было, никто и не знал, в чем именно он виноват. А Рэли и его солдаты принимали ошибочные решения, нарушали приказы и совершили множество других проступков, о которых следует рассказать людям. Сейчас его величество осознал, что требование закрытого суда было ошибкой. Нужно выстроить все до единого факты и довести их до всеобщего сведения.
До сих пор Фрэнсис Бэкон не играл в процессе сколько-нибудь заметной роли, разве что был всего лишь одним из шести членов тайного совета, кому было поручено допрашивать сэра Уолтера Рэли в Тауэре. Сейчас король пожелал, чтобы он вместе с другими членами совета написал официальную декларацию об «Истинных причинах, побудивших его величество добиваться правосудия в деле сэра Уолтера Рэли, что и было выполнено».
Джон Чемберлен и многие другие приписали авторство пространного документа, который был напечатан в Лондоне в типографии его величества и выпущен в свет 28 ноября, «лорду-канцлеру, генеральному прокурору и первому министру Нонтону». (Незадолго до этого сэр Роберт Нонтон сменил на этом посту покойного сэра Ральфа Уинвуда.) Если всех трех членов тайного совета обвинили в том, что они очернили любимого народом героя, чтобы успокоить совесть короля, то Фрэнсису Бэкону было к таким обвинениям не привыкать. Что ж, ему приказали сделать то же самое семнадцать лет назад после казни графа Эссекса. Нелегко служить монарху, получившему власть от Бога. Выполнение августейшего повеления превыше преданности бывшим друзьям.
Усилия, которые потребовались от лорда-канцлера для участия в составлении декларации, обычным образом сказались на его здоровье; всю неделю, предшествующую опубликованию декларации, суд Звездной палаты не мог собраться на заседание из-за «недомогания» лорда-канцлера, равно как и всю первую неделю декабря, под предлогом того, что «холод ему сейчас опасен». Холода и в самом деле стояли сильные, Темза замерзла и стала несудоходной, да еще в Лондоне как раз в это время вспыхнула эпидемия оспы. Вряд ли природные катаклизмы заставили Фрэнсиса отказаться от своих привычных занятий, а мы — мы не можем не подумать, что он наверняка считал казнь сэра Рэли жестокой ошибкой, которая будет иметь роковые последствия и для монархии, и для самого короля, никогда не пользовавшегося любовью простых людей.
«Недомогание» длилось всю зиму, то отступая, то снова возвращаясь, и, наверное, впервые за все годы брака Фрэнсиса имя леди Верулам появляется в одном из писем Джона Чемберлена, написанном в декабре: она шла в большой похоронной процессии за гробом какой-то знатной особы, умершей от оспы, «среди множества других дам». Возможно, она представляла своего мужа и радовалась своему новому статусу.
Что несомненно печалило Фрэнсиса, так это нежелание Тоби Мэтью принести присягу, вследствие чего король в начале года снова приказал ему покинуть Англию. «Какой проступок он совершил и кому нанес обиду, я не знаю, — писал Джон Чемберлен, — но, несмотря на влияние высокопоставленных друзей, его высылают». Переписка между двумя друзьями будет продолжаться, Тоби будет писать Фрэнсису из Брюсселя, но это совсем не то, что постоянно видеться друг с другом в Йорк-Хаусе и в Горэмбери, а среди окружавших Фрэнсиса людей, даже среди секретарей и помощников, не было никого, кому он мог бы открыть свою душу и с кем поделился бы своими мыслями, как делился с Тоби Мэтью. Не слишком доброе начало нового, 1619 года.
К тому же 12 января в Уайтхолле случился огромный пожар. Банкетный зал сгорел полностью, огонь уничтожил значительную часть документов тайного совета, которые хранились в помещении под галереей. К счастью, никто не погиб, но исчезновение такого числа бумаг и документов оказалось невосполнимой потерей для тех, кто занимал высокий пост в государстве, — например, для лорда-канцлера и других членов тайного совета.
Тревожили и донесения из-за рубежа. В начале февраля Тоби Мэтью сообщил лорду-канцлеру из Брюсселя, что в Испании «идут необыкновенные приготовления, снаряжается новая Армада». Куда должна была отправиться эта армада, никто не знал.
Примерно в это же время, в конце зимы и в начале весны, Фрэнсис составил документ, называвшийся «Краткий обзор отношений между Великобританией и Испанией», с очевидной целью показать этот документ королю для оценки соотношения сил этих двух держав. Документ нашли после его смерти, и у нас нет возможности установить, показывал он его королю или нет. Стоит привести несколько выдержек из него ради тех нелицеприятных суждений, которые он наверняка высказывал за столом заседаний тайного совета.
«Его величество король Англии обладает сейчас большей властью, чем кто бы то ни было из его предшественников… Ирландия приведена в состояние совершенной покорности и никогда раньше не приносила столько доходов государству… Объединение с Шотландией отдало в наше владение весь остров, который является надежнейшим оплотом и обеспечивает все преимущества силы, которую искусство может соединить с природой; что и позволяет нам в одно и то же время предпринимать любые действия за рубежом и отражать нападения на нашу страну, не подвергаясь большой опасности и не неся слишком больших расходов…
Что же касается Его Величества короля Испании, то хоть он и считается самым могущественным монархом христианского мира, но корни его могущества слишком слабы для такой кроны… Испания пролила больше крови, чем любая другая страна христианского мира, такую уж она проводит политику. Возьмите ее соглашения с другими странами, переговоры, которые ее министры ведут за рубежом. Вы увидите, что там каждое слово ложь, каждый пункт грозит кровопролитием… И при этом Его Испанское Величество посягает на роль владыки всего христианского мира… Разве кто-нибудь еще когда-нибудь так жаждал нашей крови, как Испания? И разве кто-нибудь еще так много ее пролил? Кто еще был так долго нашим врагом? Кто еще совратил католической ересью так много наших граждан?»
Современного читателя особенно поразит то, что Фрэнсис Бэкон выступил здесь в оперении «ястреба», если выражаться языком сегодняшнего дня. Ведь в своем памфлете он предлагал не более и не менее, как завоевание для Великобритании обеих Индий, даже рискуя вступить в войну с Испанией, — если, конечно, у испанского короля найдется довольно средств для подобного противостояния на море.
Король Великобритании, напротив, был «голубем». Он вообще не желал воевать. Роль миротворца была ему больше по душе. Поэтому он пока не стал вникать в планы лорда-канцлера, рожденные, как естественно предположить, горькими сожалениями по поводу казни Рэли; впрочем, скоро происходящие в стране события целиком поглотили внимание и короля, и всех верноподданных англичан.
Утром 21 марта умерла в Хэмптон-Корте королева, болевшая уже несколько месяцев. Принц Уэльский был с ней у ее постели. Король в это время находился в Ньюмаркете, у него случился приступ «каменной болезни», да такой сильный, что доктора опасались за его жизнь и не позволили ему ехать в Хэмптон-Корт.
По случайному совпадению лорд-канцлер слег с приступом той же самой болезни, причем приступ оказался гораздо более серьезным, чем показалось сначала. Позднее он писал об этом Тоби Мэтью: «Когда сначала моего господина, а потом и меня поразил тяжкий недуг, которым нельзя было пренебречь, я получил от него такие уверения и доказательства его любви и благоволения ко мне, каких не получал никогда раньше». Какая досада, что эти послания страждущего монарха к его в равной степени страждущему подданному не сохранились.
Тело королевы перевезли в Денмарк-Хаус на Стрэнде для торжественного прощания, и там она пролежала больше двух месяцев: по слухам, в казне не было денег на похороны. Лондонская толпа, ожидавшая привычного пышного зрелища, начала волноваться. Развлечения были запрещены, все театры закрыты, и это по странной случайности совпало со смертью самого знаменитого и всеми горячо любимого лондонского актера и владельца театра Ричарда Бербеджа.
Наконец 13 мая траурная процессия с гробом королевы, который везла шестерка лошадей, двинулась к Вестминстерскому аббатству. Впереди шел принц Уэльский, представляя своего отца, который находился в Теоболдзе. Джону Чемберлену похороны не понравились: «Похороны были утомительные, бестолковые, если чем и отличались, так это многолюдством… хотя лордов и леди было очень много, они являли собой унылое зрелище, может быть, потому, что все были одинаково одеты или устали от долгого пути и веса тяжелых платьев, на платье леди идет двенадцать ярдов ткани, а на платье графини шестнадцать». Конечно, среди дам была и леди Верулам, равно как и леди Хаттон.
Жизнь королевы Анны была печальной и одинокой, особенно после смерти любимого сына принца Генри, хоть ее и окружало множество придворных дам; уже много лет она очень редко виделась со своим мужем королем, который жил с ней врозь, предавался своим любимым занятиям и был окружен фаворитами. Самое счастливое время своей жизни она пережила, когда только что приехала в Англию, ее приветствовали восторженные толпы, дети еще не выросли, ей было двадцать девять лет, и она с упоением окунулась в нескончаемые увеселения, играла в столь любимых ею масках. Покоится она в Вестминстерском аббатстве возле часовни Генриха VII, но на ее могиле так и не поставили памятника.
Лорд-канцлер отдал дань уважения памяти королевы Анны в своем письме к ее брату, королю Дании Кристиану, причем сначала упомянул, что он «только что оправился от весьма серьезной болезни… однако нескончаемые дела так безотлагательно требуют моего участия и внимания, что я не успеваю перевести дух и не знаю, на каком я свете. Ко всем бедам прибавилось новое горе, великое и неутешное, смерть моей светлейшей госпожи королевы Анны, чье неизменное благоволение позволяло мне чувствовать себя сильным и счастливым… Отныне я буду до конца моих дней благоговейно лелеять ее благороднейшую память».
Слухи о том, что казна пуста и нет средств оплатить королевские похороны, явно оказались безосновательными, потому что 21 мая лорд-канцлер смог доложить его величеству, что поступления в его казну и расходы сейчас сбалансированы в части покрытия обычных расходов, чрезвычайные же расходы составляют 120 000 в год, но он, лорд-канцлер, молит Господа, чтобы при более точных подсчетах эта сумма оказалась меньше.
Его собственные финансовые дела также поправились, потому что он недавно получил субсидию 1200 фунтов в год от отчуждения имущества. Безотлагательные дела, по поводу которых он сетовал датскому королю, были, по всей видимости, связаны со Звездной палатой. Ссора между графиней Эксетер и ее внучкой леди Руз была улажена в феврале в пользу леди Эксетер. Родителей леди Руз, сэра Томаса и леди Лейк, заключили в Тауэр, а их злосчастную служанку Сару публично высекли и выжгли на лице буквы F и А (лжесвидетельница — false accuser). Условием освобождения супругов Лейк из Тауэра было признание своей вины и принесение извинений леди Эксетер. В июне сэр Томас заболел и не мог предстать перед Звездной палатой, он написал признательное письмо его величеству.
Еще одним из дел, подлежащих рассмотрению высшего королевского суда, было дело лорда-казначея графа Суффолка, которого обвиняли в злоупотреблении служебным положением. Его отстранили от должности и приказали предстать перед судом Звездной палаты, но дату слушания пока не назначили.
Не слишком приятно видеть, как твои коллеги тайные советники лишаются своего высокого поста; и после всех пережитых неприятностей, своей собственной недавней болезни и смерти королевы Анны Фрэнсис был рад, что расследование можно отложить до осени, король, как всегда летом, отправится в поездку, а сам он сможет удалиться в Горэмбери.
«Я надеюсь дать его величеству достойный отчет о том, на что я трачу время нынешних каникул», — писал он 19 июля маркизу Бекингему, уверяя тем не менее его светлость, что он, Фрэнсис, принадлежит ему, и только ему, и полон желания усовершенствовать себя, дабы быть как можно более полезным такому господину, как его светлость.
Отношения между ними восстановились почти на прежнем уровне доверительности; и Фрэнсис, отдохнув несколько недель в Горэмбери, где он будет долгие часы диктовать своим преданным секретарям — среди них, к его радости, был и священник Уильям Рэли, в высшей степени заслуживающий доверия молодой богослов из Корпус-Кристи-колледжа, которого он знал уже несколько лет, — и сможет завершить работу над «Новым органоном».
В конце августа король прибыл в Виндзор, куда к нему приехал Фрэнсис, и они, по всей видимости, обсуждали болезненный вопрос, касающийся напряженного положения в Богемии. Король Богемии Фердинанд Габсбург, столь сильно не любимый своими подданными, был низложен, и его трон предложили зятю Якова, графу-палатину Фридриху. Граф-палатин опрометчиво принял предложение и выехал в Прагу со своей супругой Елизаветой. Экс-король Фердинанд, двоюродный брат и назначенный преемник императора Германии, незамедлительно объявил войну Фридриху. Новый король Богемии, вполне естественно, надеялся на помощь Великобритании. Его положение было не из легких. Он почти не знал своего нового королевства, а может быть, и совсем не знал, и никогда не командовал войсками на поле боя; но его вера в торжество протестантской религии была так велика, что он готов был выступить против объединенной армии императора и короля Испании.
Нам известно, что думал лорд-канцлер по поводу Испании. К сожалению, не было обнаружено никаких письменных свидетельств, касающихся беседы Фрэнсиса и его величества в Виндзоре, так что мы не знаем, посоветовал ли он королю поддержать своего зятя или остаться в своей прежней роли посредника. Возможно, эти несколько недель в Горэмбери смягчили его воинственную позицию «ястреба». Завоевать Ост-Индию еще куда ни шло, но перессорить всю Европу и восстановить против себя императора Германии… И все же Фрэнсис посоветовал королю либо первое, либо второе, это мы узнали из письма, которое он получил от Бекингема в сентябре, где тот упоминает о «беседе в Виндзоре», при которой «сам я не присутствовал, однако слышал, с каким одобрением его величество отзывался о Вашей мудрости и кровной заинтересованности в его делах».
Вскоре в Уонстеде, где тогда жил король, собрался тайный совет, чтобы обсудить богемский вопрос. Советники склонялись к тому, чтобы оказать помощь Фридриху, однако было ли это единодушное мнение совета или только большинства его членов, нам неизвестно. Его величество со своими советниками не согласился. Он видел себя в роли миротворца христианских стран и не хотел разжигать раздор между венценосцами Европы, не хотел, чтобы его считали пособником одного из них только потому, что он оказался его зятем.
И как всегда в трудных обстоятельствах, его величество занял выжидательную позицию, он заявил, что нельзя принимать никакого решения, пока не будет доказана законность прав Фридриха на престол Богемии. Для этого потребуется несколько недель, и потому дело отложили, к большому облегчению всех, кроме Фридриха и его супруги королевы Елизаветы, которая покидала Англию после своей свадьбы в 1613 году, всем сердцем надеясь, что никаких войн не будет.
К рассмотрению дела графа Суффолка Звездная палата приступила в октябре, и лорд-канцлер каждый день посылал отчет о слушании маркизу Бекингему, который находился с королем в Ройстоне. Злоупотребления графа оказались гораздо более серьезными, чем представлялось вначале. Экс-лорда-казначея, имевшего доступ к деньгам короны, обвиняли в растрате сумм, которые сочли весьма значительными. Сэр Эдвард Коук, как и следовало от него ожидать, потребовал наложить на графа Суффолка штраф в размере 100 000 фунтов и заключить его с супругой в Тауэр. Лорд верховный судья Хабард и лорд-канцлер согласились с заключением в тюрьму, но штраф предложили снизить до 30 000 фунтов.
На том и порешили. В ноябре граф Суффолк с графиней были препровождены в Тауэр и присоединились к обществу избранных, которые уже наслаждались свежим речным воздухом в крепости его величества, среди них также были граф Сомерсет и сэр Томас Лейк.
В начале декабря лорд-канцлер тоже почувствовал потребность подышать свежим речным воздухом, но не в лондонском Тауэре и даже не в своей собственной резиденции Йорк-Хаусе, а гораздо выше по течению Темзы, ибо 12-го числа он написал маркизу Бекингему: «В пятницу я покинул Лондон с намерением уединиться в Кью; после двух с половиной месяцев такого напряжения тетива моего лука вот-вот лопнет». Он пригласил с собой сэра Джайлса Момпессона, чтобы обсудить с ним финансы его величества. Возможно, в Кью они с сэром Джайлсом поселились в доме, который назывался Датч-Хаус и принадлежал голландскому купцу сэру Хью Портмену, — кстати, последнее дело, которым занималась в декабре Звездная палата, было принятие мер против тех торговцев, которые вывозили золото в Голландию.
Приближалось очередное Рождество, и теперь, когда лук Фрэнсиса не был так туго натянут, можно надеяться, что ему удалось встретить Новый год в Горэмбери, может быть, даже в Верулам-Хаусе, «где всю зиму зеленеют остролист, плющ, лавр, можжевельник, кипарисы, тис, ананасы, ели… И миртовые кусты, если их пересадили в теплицу, и так сладко пахнущий майоран, он тоже любит тепло». Фрэнсису скоро стукнет шестьдесят, а бремя государственных дел так редко дает ему возможность перевести дух; он помнил, как рано состарился под бременем государственных дел его отец, как мучила его подагра, как сильно он располнел… Надо бы Фрэнсису поменьше есть.
Одно он знал твердо: когда он вернется в Лондон, он не примет ни одного приглашения в Хаттон-Хаус. Такой темп жизни не для него. Еще до Рождества ее светлость объявила, что каждый четверг будет устраивать ужины с танцами и развлечениями вплоть до начала Великого поста — его бывшая возлюбленная была неутомима, — и уж если она захотела танцевать, в кавалеры она выберет себе молодых людей, например своего зятя Джона Вильерса, который теперь стал виконтом Пербеком, и своего пасынка Роберта Рича, графа Уорика.
«Не забывай о надвигающихся летах и не думай делать по-прежнему то, что делал раньше, ибо с возрастом не спорят»[34].
Наступила весна 1620 года, а король не выказывал ни малейшего намерения ни созвать парламент, ни назначить нового лорда-казначея, пост которого оставался вакантным с тех пор, как графа Суффолка постигла опала. Не принял он также решения относительно притязаний своего зятя Фридриха, пфальцграфа Рейнских и Пфальцских княжеств, на трон Богемии — поддержать их или нет.
Управление страной велось из рук вон плохо, разве можно было представить себе что-то хоть отдаленно подобное при королеве Елизавете; это очень тревожило лорда-канцлера, потому что он любил свою страну и был безоговорочно предан правящему монарху. Он считал, что повседневную работу правительства можно сделать значительно более эффективной, если создать несколько комиссий и каждой поручить какую-то одну сферу деятельности, например вывоз и ввоз зерна; вовлечение населения в мануфактурное производство; развитие животноводства и принятие мер против уменьшения населения в сельских местностях; осушение затопленных земель; более интенсивное использование ресурсов Ирландии; обеспечение королевства всеми средствами защиты от вооруженного нападения, как-то: пушки, порох, снаряжение, доспехи. Он составил список всего необходимого с величайшей тщательностью и подал его величеству, но ответа не воспоследовало; Фрэнсис Бэкон уж слишком опередил свое время.
Тогда он стал настаивать на назначении нового лорда-казначея. Национальный долг уменьшился, но недостаточно, и Фрэнсис предложил меры для решения этой проблемы чрезвычайной важности. Одной комиссией здесь не обойтись; нужен «государственный муж, обладающий знаниями и пользующийся уважением, с целым штатом полномочных помощников», ибо «на полях Вашего величества случился неурожай, которому я не вижу иного объяснения, кроме дурной погоды… управление средствами Вашего Величества требует в видах пополнения казны не только рачительности и здравого смысла, но также нововведений, изобретательности, усердия, целеустремленности, причем все эти качества должны укреплять друг друга; на такое способна лишь комиссия, где ответственность возложена на какого-то одного ее члена или на двух…»
«Ваша деятельность в сфере управления направлена то на одно, то на другое, а не на все единовременно, и так получается, что вместо того, чтобы принять серьезные основательные меры, мы время от времени лишь латаем прорехи; как тут не вспомнить всем известную притчу про хозяйку, которая жарила курицу, зажигая хворостину за хворостиной, — хворост сгорел, а курица так и не поджарилась. На этом пути Ваше величество ожидают нужда и лишения… Вашему величеству было бы полезно, нет, необходимо, чтобы за Ваше дело взялись сразу с нескольких концов, тогда будет возможно навсегда избавить Вас от тисков финансовых затруднений, а не ослаблять лишь слегка их давление, когда оно становится невыносимым».
Что касается исков, этих нескончаемых требований решить дело в свою пользу, которые поступали каждый день, то Фрэнсис признавался: «Удовлетворить все просьбы значило бы разорить корону и народ. Отказать во всех просьбах значило бы огорчить всех и никогда более не видеть ни одного довольного лица… А тщательно и всесторонне все взвесить и сделать так, чтобы никому не было обидно, и при этом еще способствовать тому, чтобы Ваши помощники могли урегулировать вопросы, не доводя их до обращения в суд… И при этом назначить хорошего лорда-казначея, задачей которого является следить за состоянием дел, не доводить до разбирательств в суде, отменять пенсии, проверять привилегии, сомневаться в заслугах просителей… словом, быть для Вашего Величества помощником, каким много лет был лорд Берли, который просеивал для Вас и просьбы, и просителей».
У Фрэнсиса имелся на примете кандидат на пост лорда-казначея — лорд главный судья суда королевской скамьи сэр Генри Монтегю, но его назначили только в конце ноября. Что до конфликта по поводу трона Богемии, то с одной стороны на короля Якова давил испанский посол, а с другой — изводил постоянными требованиями поддержки его зять Фридрих, и потому Фрэнсис отстранился; а его величество лишь твердил, что Господь все устроит к общему благу, он на Него уповает. Похвальная позиция для верующего, но не слишком пригодная для ведения внешней политики страны. Неудивительно, что при таком состоянии дел, когда ни один из вопросов не решался, Фрэнсис писал маркизу Бекингему: «Если я сейчас умру и меня вскроют, то в моем сердце увидят дела короля, как в сердце королевы Марии должны были, по ее словам, увидеть Кале». (Кстати, в конце мая Бекингем женился на леди Кэтрин Мэннерз, дочери графа Ратленда. Ни в этом письме, ни в последующих лорд-канцлер ни единым словом не обмолвился об этом браке.)
Второго сентября стало известно, что испанская армия, поддерживаемая императором Германии, вторглась на территорию Рейнских и Пфальцских княжеств, и пфальцграф Фредерик — или король Богемии, как он любил себя называть, — оказался в очень трудном положении, поэтому его величество был вынужден принять решение. Хоть он и считал, что его зять узурпировал трон Богемии, ему все же следует оказать помощь, и потому необходимо созвать парламент. Фрэнсис Бэкон, обрадовавшись, что наконец-то кончился период бездействия, начал писать обращение к новому парламенту:
«Мы постановили, следуя решению нашего тайного совета, созвать парламент в нашем Вестминстерском дворце и желаем, чтобы нижняя палата состояла из самых здравомыслящих, самых талантливых и достойных людей, каких только можно найти в стране, ибо сейчас это важно, как никогда еще не было раньше… опытные парламентарии… мудрые и осмотрительные государственные деятели, искушенные в тонкостях политики… солидные граждане, представляющие города с самоуправлением и университеты… глубоко религиозные, однако не склонные ни к слепому фанатизму и предрассудкам, с одной стороны, ни к ереси и к бунтарству с другой».
Было условлено, что парламент соберется в январе 1621 года; до этой даты оставалось три месяца, а пока лорду-канцлеру предстояло рассмотреть еще одно неприятное дело. Ему вместе с его коллегами, членами совета, надлежало судить своего друга и единомышленника сэра Генри Йелвертона, генерального прокурора, которого несколько месяцев назад временно отстранили от должности. Обвинялся он в том, что, не имея на то полномочий, внес в новую хартию, дарованную лондонскому Сити, несколько положений, которые вызвали возражения. Это сочли серьезным проступком и предписали ему предстать перед высшим королевским судом. Лорд-канцлер набросал конспект своего выступления. «Как человек, я скорблю, ибо мы вместе учились в школе барристеров в Грейз инне; вместе трудились, когда я стал поверенным; вместе служили на государственной службе; он всегда отзывался обо мне более лестно, чем я того заслуживаю; к тому же он человек самых прекрасных и высоких достоинств, мы стали друзьями с самой нашей первой встречи, и я тем более ценю эту дружбу, что она продолжалась всю жизнь. Но как судья я считаю его проступок очень серьезным и требующим принятия срочных мер… иначе если высокоученый советник будет и далее использовать свое искусство, дабы множить выдаваемые судами предписания, то королевство будет весьма скоро разрушено. Большая и малая государственные печати, королевский перстень с печатью — знаки высшей власти, они следуют воле короля. И при этом предлагаемые высокоученым советником проекты законов и пояснительных записок могут также влиять на волю короля».
Генеральный прокурор смиренно предстал перед судом, признал свою ошибку, но корыстные мотивы отрицал. Приговор ему был вынесен 10 ноября, сэр Эдвард Коук предложил наложить на него штраф 6000 фунтов, лорд-канцлер и остальные члены совета — 4000 фунтов, что и было утверждено. Сэра Генри Йелвертона сместили с поста и приговорили к заключению в Тауэре на тот срок, какой пожелает назвать его величество.
Еще одного коллегу Фрэнсиса постигла немилость — то ли он ошибся в расчетах, то ли в суждении, то ли просто совершил оплошность; печальное событие, никак из мыслей не выходит. Что и говорить, год выдался тяжелый: конфликт и угроза войны за рубежом, нерешительность короля, и хотя, благодарение Богу, в стране не произошло тяжелых потрясений, подобных Пороховому заговору 1605 года, Фрэнсису тот год вспомнился именно потому, что он решил тогда издать свой большой труд «Усовершенствование наук», который прошел почти не замеченным. Сейчас ему точно так же не повезло с публикацией еще не законченного «Нового органона» («Novum Organum»), являвшегося вступлением к «Instauratio Magna», над которым он трудился много лет и который представлял собой собрание афоризмов об «истолковании природы и царства людей». Если «Усовершенствование наук» читается легко и с удовольствием благодаря доступности изложения, то «Новый органон», в особенности его вторую книгу, даже в переводе трудно одолеть простому читателю, пусть и очень упорному, потому что в нем воплотилась колоссальная эрудиция Фрэнсиса, он близок и понятен только тем, кто глубоко изучал логику, философию и другие науки.
Труд был посвящен его величеству; в письме, приложенном к рукописи, которую Бэкон послал королю, он говорил:
«Мой опус всего лишь ком глины, в которую Ваше Величество может вдохнуть жизнь своим благосклонным отношением и своей поддержкой… Я убежден, мое сочинение со временем найдет путь к умам людей, но Ваше благорасположение может сократить время этого пути; и я был бы несказанно этому рад, ибо писал его не ради похвалы и не ради славы, а для практического применения и во благо людей. Но признаюсь, я питаю одну честолюбивую надежду: этот мой труд лишь начало, и когда запущенное колесо хорошо раскрутится, перья христианских писателей откроют нам больше истин, чем мы узнали от язычников. И говорю я сейчас с упованием, ибо, как мне известно, мою предыдущую книгу „Усовершенствование наук“ хорошо приняли в университетах у нас в стране и в английских колледжах в Европе; и это еще более убедительный довод».
Его величество в своем ответе обещал, что прочитает книгу от начала до конца «со вниманием и интересом, хотя мне придется красть для этого часы у сна; ведь у меня так же мало времени, чтобы читать Вашу книгу, как у Вас было его мало, чтобы ее написать». Не слишком окрыляющий ответ, и, будем надеяться, что Фрэнсис не узнал, как отозвался позднее о его сочинении король: «Его последняя книга все равно что мир Божий, который превыше всякого понимания»[35].
Королю Якову, «самому умному дураку во всем христианском мире», ни в малейшей мере не блещущему ученостью, стоило пожертвовать несколькими часами сна и прочесть хотя бы «Вступление», «План» и «Первую книгу дефиниций или афоризмов», это не потребовало бы слишком большого напряжения умственных способностей, ведь о многом из написанного там Фрэнсис уже говорил и в «Усовершенствовании наук», и в «Cogitata et Visa», хотя, нужно признать, в тех двух опусах он изъяснялся более ясно. Приверженность к мнимым истинам, а также философские системы, которые сбивали с толку ученых с незапамятных времен, всегда особенно занимали Фрэнсиса. «Из двадцати пяти веков накопления знаний, которые хранит наша память, мы едва ли найдем шесть, когда обстановка благоприятствовала развитию наук и они приносили плоды… Только три революции или эпохи развития знаний можно считать поистине важными; одна произошла у древних греков, вторая у римлян и последняя у нас, то есть у народов Западной Европы; и каждая из них едва ли заняла два века…
Есть еще одна важная и глубокая причина, почему науки развиваются так медленно, и вот в чем она заключается. Невозможно двигаться вперед, если не поставлена ясная цель. Сейчас первостепенная цель науки состоит не в чем ином, как в необходимости сделать новые открытия, чтобы помочь людям стать сильнее… Прогрессу наук мешало преклонение перед античными знаниями, авторитет людей, которых почитали великими философами, а также всеобщее согласие… Но еще более серьезным препятствием развитию наук, равно как и постановке и выполнению новых задач в разных сферах, является вот что — люди отчаиваются и считают все это недостижимым… И потому я полагаю полезным опубликовать эти мои соображения, ибо они дают разумную надежду; так же поступил и Колумб, когда перед своим достойным восхищения путешествием через Атлантику привел резоны, почему он убежден, что можно открыть иные страны и континенты помимо тех, что уже известны… Есть серьезные основания надеяться, что природа хранит много тайн, которые могут быть использованы с отличным успехом, их нельзя сравнить ни с чем, что нам до сих пор известно, воображение даже не способно представить ничего подобного, потому-то эти тайны до сих пор и не разгаданы».
Вот так-то. Те, кто читал «Valerius Terminus», «Усовершенствование наук» и «Cogitata et Visa», смогут проследить развитие бэконовской мысли в «Новом органоне» и поразиться всеохватности его взгляда, проницающего преграды, которые поставило перед ним время, и вечно устремленного в будущее, где он искал то, что может принести благо человечеству. В какое восхищение привела бы его телекоммуникация, высадка человека на Луну, изучение космоса: если бы все это предсказали в 1620 году, он не стал бы качать головой и шептать «колдовство», как наверняка прошептал бы его величество, он улыбнулся бы и сказал: «Что ж, такое возможно».
Вторую книгу «Афоризмов» лучше оставим ученым. Виды тепла и холода, природа белизны, скорость света… здесь без научной подготовки наше терпение скоро истощится, как истощилось и у короля Якова; и все же, листая страницы наугад, наш современник может изумиться догадке, которая озарила Фрэнсиса однажды вечером — возможно, это случилось в Горэмбери, — а мы в двадцатом веке знаем, что это доказанный факт.
«Странное сомнение посетило меня: когда мы смотрим ночью на ясное звездное небо, видим ли мы его таким, каково оно есть в эту минуту, или немного позже, и не существует ли, когда мы рассматриваем небесные тела, реального времени и времени относительного, как существует реальное место и относительное место, которое учитывают астрономы при исчислении смещения параллаксов? Мне кажется невероятным, чтобы лучи небесных тел достигали наших глаз мгновенно, пройдя такое громадное расстояние, скорее им все-таки требуется какое-то время, чтобы его преодолеть».
Сегодня мы знаем чуть ли не с детства, что яркость звезды определяется расстоянием ее от нас в сколько-то световых лет; Фрэнсис Бэкон догадался об этом в 1620 году.
Экземпляр «Нового органона» Фрэнсис послал в Кембриджский университет. «Как Ваш сын и ученик, — писал Фрэнсис в сопроводительном письме, — я хочу положить Вам на грудь мое новорожденное дитя. Иначе оно останется сиротой. Пусть Вас не тревожит, что я иду непроторенным путем; в круговороте времени такие явления неизбежны. Тем не менее почитание античных мыслителей сохраняется — то есть почитание их мудрости и их познаний; ибо вера зиждется только на слове Божием и на опыте. Сейчас не дозволяется вновь соединить науку с опытом; однако взрастить науки из опыта заново хоть и трудно, но возможно. Да благословит Господь Вас и Ваши ученые занятия. Ваш любящий сын Фр. Верулам, Canc».
В конце ноября страну ошеломило известие, что Фредерик Богемский, граф-палатин, он же пфальцграф, потерпел поражение в Праге и бежал, а Рейнские и Пфальцские княжества захватили войска короля Испании и Баварского герцога. Король уже был готов послать своему зятю помощь при условии, что тот откажется от притязаний на Богемию. Это позволит Англии сохранить дружественные отношения с Испанией и не помешает переговорам о заключении брака. Беда была в том, что для снаряжения войска требовались деньги, а финансы Англии опять находились в поистине плачевном состоянии. Потребуется больше миллиона фунтов, и хотя англичане были согласны воевать — речь ведь шла о защите протестантской веры, — однако оплачивать войну из своего кармана никто не хотел — так было всегда, из века в век.
«Нет никаких сомнений, — писал Джон Чемберлен, — что с тех пор, как я родился на свет, Англия никогда не была так бедна, как сейчас; все жалуются, что не могут собрать арендную плату. Однако в стране есть все, кроме денег, а денег так мало, что сельские жители предлагают вместо денег зерно, скот и прочее, что у них есть… Боюсь, что, когда кредиторы потребуют от некоторых купцов, которые долгое время кичились своим богатством, срочного возврата долгов и дело дойдет до суда, то купцы объявят себя банкротами. Но самое непонятное это то, как всего за два, самое большее за три года мог возникнуть такой огромный дефицит, который даже и осмыслить-то невозможно. Все пытаются найти объяснение: кто считает, что деньги ушли на север, кто считает, что на восток, а я могу только руками развести».
Собрался парламент 30 января 1621 года — в первый раз за семь лет. Его величество произнес длинную речь, которая была встречена одобрительно, и попросил утвердить ассигнования, чтобы корона могла заплатить долги, которые была вынуждена сделать, и снарядить армию в помощь графу-палатину.
Вопрос об армии для поддержки графа-палатина был передан в комиссию нижней палаты, и позднее был принят законопроект, получивший королевское одобрение. Однако в ходе дебатов, касающихся нехватки денег, которые начались в первую неделю февраля, всплыли вопросы, не решенные предыдущим парламентом: патенты, монополии, привилегии. Снова разгорелись жаркие споры, и созданная для их разрешения комиссия по рассмотрению жалоб работала не только весь февраль, но и часть марта.
Фрэнсис Бэкон слышал все эти споры еще в 1610 году, в должности генерального стряпчего, когда палата общин обсуждала Великое соглашение с королем и субсидии. И какая причудливая особенность характера: лорд-канцлер, с его острейшим политическим чутьем и колоссальным опытом юриста, сейчас совершенно не догадывался, какое направление могут принять эти обсуждения и как они могут повлиять на его собственную судьбу.
Двадцать первого января он отпраздновал свое шестидесятилетие, устроив по этому поводу банкет в Йорк-Хаусе. Его величество пожаловал ему титул виконта Сент-Олбанского, а неделю спустя Фрэнсис поехал в Теоболдз получать пэрскую корону и мантию. На церемонии присутствовали король, принц Уэльский, маркиз Бекингем и многие пэры Англии, все приветствовали его аплодисментами. Его друг Бен Джонсон, поэт, драматург и сочинитель масок, написал ему оду «На день рождения лорда Бэкона».
Фрэнсис Бэкон, лорд Верулам, виконт Сент-Олбанс, хранитель большой государственной печати, лорд-канцлер… никогда еще его так высоко не ценили король и покровитель Фрэнсиса маркиз Бекингем. Он поднялся по крутой, извилистой тропе на самую вершину и достиг пика своей карьеры.
«Ваше Величество возвысили меня в восьмой раз, — сказал он королю Якову, — подняли на восьмую ступень… восемь — хорошее число, октава, заключительный аккорд. И теперь я знаю несомненно: меня похоронят в мантии виконта Сент-Олбанского».
Его не насторожили первые признаки надвигающейся беды, когда комиссия по рассмотрению жалоб обнаружила злоупотребления при выдаче патентов, — все это, конечно, произошло по вине канцлерского суда. Он сказал сэру Эдварду Сэквиллу, возглавлявшему комиссию по делам мировых судов, что любой человек волен говорить о нашем канцлерском суде все, что ему заблагорассудится. Когда Тоби Мэтью написал Фрэнсису из Брюсселя, что его друзья тревожатся за него, потому что ему грозит опасность со стороны обеих палат, которые готовят против него обвинение, он ответил: «Я не могу допустить, чтобы мои друзья слишком опасались за меня или из-за меня, хоть я и знаю, что эти опасения рождены любовью; я благодарю Господа за то, что хожу прямыми и честными путями, и надеюсь, что Господь благословит меня на этих путях». Не смутило его спокойствия даже предъявленное его другу сэру Джайлсу Момпессону обвинение в нарушениях, допущенных при выдаче патентов, хотя ему довелось в свое время рассматривать это дело. Нет, все хорошо, есть только одна действительно серьезная забота — принять билль о субсидиях и уладить дела его величества.
И как раз в это время, в начале марта, Фрэнсис Бэкон узнал, что два бывших участника судебных процессов обвиняют его в том, что несколько лет назад он получил от них деньги за благоприятный исход дел, и теперь обвинения во взяточничестве и коррупции должны быть официально выдвинуты против него и в палате общин, и в палате лордов.
Удар был сокрушительный. Ошеломленный Фрэнсис Бэкон отказывался верить. Это невозможно, немыслимо. На него никто никогда не оказывал давления, желая добиться благоприятного или неблагоприятного исхода дела. О чем идет речь? О подарках? Да, подарки он принимал — в Новый год, в день рождения, много разных подарков от благодарных клиентов, но взятки? Взяток он не брал никогда и никогда не принимал подарков, которые бы повлияли на его решение.
Ему назвали имена двух жалобщиков. Кристофер Обри, кто бы это мог быть? Потом он вспомнил, да, канцлерский суд рассматривал его иск, а Фрэнсис ускорил прохождение дела. Этим занимался один из его помощников сэр Джордж Гастингс. Сто фунтов в виде вознаграждения за труды? Полнейшая ложь. Может быть, сэр Джордж знает истинную подоплеку.
Эдвард Эджертон? Да, его иск тоже застрял. Эджертон подавал в канцлерский суд много исков, и, возможно, Фрэнсис ускорил судопроизводство по нескольким из них. Таз и кувшин для умывания стоимостью пятьдесят гиней? Вполне возможно. Он как раз готовился переехать в Йорк-Хаус, и многие дарили ему в это время подарки. В законах королевства нет положения, которое бы запрещало лорду-канцлеру принимать подарки. Он может привести доказательства в подтверждение своей правоты… а, кстати, может ли? Всплывали все новые имена, появлялись все новые обвинители, была создана комиссия для принятия показаний у этих обвинителей под присягой, и наконец-то лорд-канцлер начал прозревать: он попал в беду, в большую беду. Теперь уж не «тяжесть в голове и спутанность мыслей», не «меланхолия и разбитость» уложили его в постель — от поразившего его удара он серьезно заболел.
Лорд-канцлер слег в Йорк-Хаусе, к нему призвали докторов, и несколько дней ему казалось, что он умирает. Случилось это на Страстной неделе, и обе палаты решили, что уйдут на пасхальные каникулы 27 марта, однако будут во время каникул продолжать расследование. Это давало заболевшему лорду-канцлеру три недели для подготовки своей защиты, что не так уж много, если учесть, что он не знает, где и как он нарушил закон и кто его многочисленные обвинители. Имена, подробности обстоятельств, суммы, о которых идет речь, — его секретари должны все проверить, чтобы он потом внимательно все изучил. Двадцать четвертого марта, в годовщину восшествия короля Якова на престол, Фрэнсис оправился настолько, что смог сесть в постели и написать его величеству письмо.
«Было время, когда я приносил Вашему Величеству gemitum columbae[36] других. Сейчас я сам устремляюсь к Вашему Величеству на голубиных крыльях, которые, как мне казалось всю эту неделю, унесут меня еще выше. Я никогда ни у кого ничего не вымогал. Никогда не проявлял ни в речи, ни в поведении своем высокомерия по отношению к людям, равно как нетерпимости и злобы. Неспособность к злобе я унаследовал от моего отца, я родился с любовью к своей стране…
В палате общин я заложил фундамент своего доброго имени, теперь она его похоронит… Верхняя палата все эти годы вплоть до печальных событий последних дней, как мне кажется, любила и почитала меня, видя во мне прямодушие, которое лорды считали истинным проявлением благородства, чуждого лукавству и корысти.
Меня обвиняют в том, что я брал взятки и подношения, но когда откроют книгу сердец, то, я надеюсь, в моей груди не найдут грязного источника пороков, которые побуждали бы меня к преступному обыкновению брать вознаграждения за злоумышленное использование законов во вред противной стороне; притом что я тоже способен поддаваться слабости и греховным веяниям времени. И потому я решил, что когда я буду призван к ответу, я не поставлю под сомнение свою невиновность придирками к вопросам или отрицаниями, я буду говорить с ними (с лордами) тем языком, каким говорит со мной мое сердце, объясняя, находя смягчающие обстоятельства и искренне признаваясь; и моля Господа, чтобы он в своей милости позволил мне увидеть дно моего падения, а моему сердцу не ожесточиться и не считать, что моя совесть более чиста, чем это есть на самом деле».
На Пасху Фрэнсис уехал в Горэмбери, он был еще очень слаб, но не столько от болезни, сколько от сильнейшего нервного истощения, потому что после столь неожиданной перемены судьбы он, как и все люди с тонкой душевной организацией, стал думать о близкой смерти; она представлялась ему настолько близкой, что 10 апреля он второпях составил завещание, в котором поручал свою душу «Господу Всевышнему, Спасителю, принесшему себя в жертву во имя искупления наших грехов. Мое тело похоронить скромно. Мое имя завещаю грядущим векам и иным странам.
Поручаю моему слуге Харрису передать мои неопубликованные сочинения, а также отрывки из них моему брату Констеблу, чтобы он, если рассудит, что они достойны опубликования, так с ними соответственно и поступил. Особенно я желаю, чтобы была опубликована элегия, которую я написал „In felicem memoriam Reginae Elizabethae“. Моему брату Констеблу я завещаю все мои книги; а моему слуге Харрису за его службу и попечение 50 золотых монет в кошельке».
Все свои земли, договоры об аренде, все личное движимое имущество он поручал своим душеприказчикам для уплаты своих долгов, а после смерти жены — которой он оставлял шкатулку с перстнями, — он желал, чтобы Горэмбери и Верулам-Хаус были в первую очередь предложены принцу.
И отложил документ в сторону. Настроение у него было такое, что хотелось освободиться от всего земного, забыть обо всем, что он когда-либо создал, о чем думал, что делал. В своем отчаянии он чувствовал, что единственный, к кому он может сейчас обратиться, — это Бог, Создатель, Искупитель и Утешитель, как испокон веков казалось и будет казаться многим религиозным людям; и молитва, которую он в те дни написал, ясно показывает, каким он представлялся самому себе — грешник, конечно, но не ведающий злого умысла, жестокости и коварства. Полный смирения, да, но гордящийся талантами, которыми Бог его одарил: «Вспомни, о Господи, как твой раб ходил перед тобой, вспомни, чего всегда искал я и что было превыше всего в моих помышлениях…» (Он взывает к Всевышнему с просьбой напрячь свою память так, будто хочет напомнить судье какие-то обстоятельства рассматриваемого дела.)
«Не было для меня ничего важнее, чем положение и хлеб насущный бедных и униженных; я всегда ненавидел жестокость и черствость сердца; творил благо для человечества, хоть и в презираемом обличье. (О чем он говорит — о мантии адвоката или о маске писателя?) Если у меня были враги, я не думал о них; никогда не зашло солнце во гневе моем; я был незлобив, как голубь, и чужд недобрых умышлений… Тысяча — число грехов моих, и десять тысяч — число моих прегрешений, но Твое священное присутствие всегда со мной, и сердце мое Твоей милостью горит неугасимым огнем на Твоем алтаре…
Признаюсь Тебе, что я Твой должник за щедрые дары талантов и достоинств, которые я не завернул в платок, как третий раб[37], но и не преумножил, как было бы должно, а расточил на вещи, к которым был менее всего способен; и потому я истинно могу сказать, что душа моя неведомая пришелица на путях странствий моих».
Он не склонял головы, не бил себя в грудь, не сгибал коленей, его молитва звучит почти как вызов. Может быть, Фрэнсис представлял себя Прометеем, который вылепил людей из глины и украл для них с неба огонь, а его приковали к скале, и орел будет терзать его печень, покуда Геракл его не освободит?..
А теперь ему необходимо просмотреть другие дела по обвинению во мздоимстве и продажности и понять, похожи ли они хоть сколько-нибудь на то, в чем его готовятся обвинить, а после этого попросить, обратившись к его величеству, полный и подробнейший список предъявляемых ему обвинений, ведь если их так много, он, возможно, мог что-то и забыть, тем более что некоторые из обвинений выдвинуты, как говорят, в отношении дел многолетней давности. Его величество дал Фрэнсису аудиенцию, и хотя беседовал с ним любезно, посоветовал лорду-канцлеру обратиться в палату лордов. Его делом занимаются они, он не имеет права вмешиваться.
Суд продолжал выслушивать показания свидетелей, и 19 апреля Фрэнсис узнал, что против него будет выдвинуто двадцать семь обвинений, причем все касаются денежных подношений, а также подарков в виде разнообразных предметов, которые он получал сначала как лорд-хранитель большой государственной печати, а потом и как лорд-канцлер; исков, которые он рассматривал в судах и которые были поданы людьми, давно им забытыми, истцами, которым он помогал прийти к соглашению с ответчиками; исков, которые он отклонил, и все эти люди клялись на Библии, что он брал мзду за свои труды.
Хоуди против Ходи — да, он получил в подарок дюжину пуговиц… Сто фунтов от сэра Джона Тревора? Но он думал, что это подарок к Новому году… Ссора между Кеннеди и Ван Лором? Верно, ему подарили прекрасный застекленный шкафчик, сэр Джон умолял его чуть не на коленях принять подарок — он сейчас стоит в Йорк-Хаусе… Портьеры от сэра Эдварда Шюта, тоже в то время, когда он переезжал в Йорк-Хаус, но они не имели никакого отношения к делу, которое Фрэнсис рассматривал… Перстень с бриллиантами от сэра Джона Ренелла и мебель для дома, но ведь все это тоже подарки к Новому году… и так далее, и так далее, и так далее. Список был нескончаемый, он подавлял. И Фрэнсис понял, что о защите и думать нечего, лучше смириться и признать все обвинения. Палата лордов уже все решила, они вознамерились наказать его в назидание другим — его коллеги советники и пэры, которых он считал своими друзьями, среди них был и граф Суффолк, восстановленный в должности после опалы и жаждущий мести, а за всеми за ними вставала фигура председателя комиссии по рассмотрению жалоб сэра Эдварда Коука, он довольно потирал руки.
Двадцать первого апреля Фрэнсис написал его величеству письмо с выражением согласия передать дело на рассмотрение суда и предложил вернуть свою печать, а на следующий день, двадцать второго апреля, еще одно письмо в палату лордов, в котором говорил: «Я без утайки признаю и подтверждаю, что, уяснив детали обвинения… считаю все раскрытым достаточно полно и в такой степени, чтобы я более не выдвигал ничего в свою защиту и чтобы высокочтимые лорды осудили меня и вынесли приговор».
Изумляет то, с какой легкостью лорд-канцлер согласился передать дело на рассмотрение суда, не сделав ни малейшей попытки защитить себя и тем самым лишив себя права опровергать обвинения и вызывать свидетелей, которые бы доказывали его невиновность. Многие из обвинений можно было бы опровергнуть и вообще доказать, что все это не более чем грязная интрига, затеянная против Фрэнсиса Бэкона. Казалось, стыд от того, что его так опозорили, обвинив во мздоимстве и продажности, сломил его боевой дух; и у него, в состоянии глубочайшего нервного срыва, не осталось воли сопротивляться.
Двадцать четвертого апреля принц Уэльский взял слово в верхней палате и передал ей письмо Фрэнсиса о согласии передать дело на рассмотрение суда, которое и было зачитано собравшимся пэрам. Выбрали комиссию, которой поручили разобраться с письмом. И принц Уэльский, и маркиз Бекингем надеялись, что объяснения будут приняты и дело урегулировано без формального вынесения приговора. Другие были настроены не столь снисходительно, к ним относился и граф Суффолк. Начались дебаты относительно того, следует ли послать лорду-канцлеру список обвинений или вызвать его в палату, чтобы он отвечал на них лично. Мнения пэров разделились, большинство высказывалось за то, чтобы послать обвинения, и, несомненно, наиболее великодушные заботились о здоровье обвиняемого. Итак, список правонарушений был отправлен в Йорк-Хаус, хотя лорды не сделали попытки просеять показания, рассмотреть юридический аспект обвинений и учесть смягчающие обстоятельства. Ни одно из обвинений не было доказано в открытом суде, и свидетелей, и жалобщиков выслушивали приватно.
Лорд-канцлер вернул список обвинений 30 апреля с такими словами: «Внимательнейшим образом рассмотрев обвинения, обсудив все со своей собственной совестью и вызвав из памяти все, что я смог вспомнить, я честно и открыто признаю, что я виновен в продажности, и отказываюсь оправдываться, но предаю себя милосердию и великодушию ваших светлостей». Далее следовало двадцать семь пунктов обвинения, и по каждому он признавал себя виновным, можно было поклясться, что он находил какое-то болезненное удовольствие, унижая себя. Если человеку суждено утонуть, что ж, пусть пучина его поглотит. Когда делегация от палаты лордов официально задала ему вопрос, собственноручная ли его подпись стоит под признанием, он ответил: «Милорды, это мое решение, моя рука и мое сердце. Молю вас, милорды, будьте милосердны к сломленному лорду».
Верхняя палата приняла его признание вины. Следующим шагом в процедуре было вынесение приговора. Если бы здоровье позволило лорду-канцлеру предстать перед судом, ему приказали бы явиться и выслушать приговор, но он все еще был прикован к постели, и многие считали, что жить ему осталось недолго. К 3 мая палата лордов согласовала приговор и сообщила его палате общин. Лорды облачились в свои мантии. Спикер подошел к кафедре и с низким поклоном попросил от имени нижней палаты, чтобы лорд верховный судья огласил приговор. Вот что суд постановил:
1. На лорда виконта Сент-Олбанса, лорда-канцлера Англии налагается денежный штраф размером 40 000 фунтов.
2. Он будет заключен в Тауэр на срок, который назначит по своему усмотрению король.
3. Он будет на вечные времена лишен права занимать какую-либо официальную должность на государственной службе в пределах королевства.
4. Он навсегда лишается права заседать в парламенте и переступать порог канцлерского суда.
Как Фрэнсис Бэкон принял приговор, мы не знаем. Должно быть, кто-то из его близких друзей — а у него было много друзей и в верхней, и в нижней палатах — принес его Фрэнсису домой и, уж конечно, рассказал, что мнения членов палаты лордов разделились: лорды Шеффилд, Ричмонд и Арундел настаивали на решении, которое бы не унизило Бэкона, а маркиз Бекингем выступал вообще против каких бы то ни было наказаний. Не настолько Фрэнсис был болен, чтобы эти имена не произвели на него впечатления. Но он никогда больше не будет служить, он на вечные времена лишен права занимать какую бы то ни было официальную должность в пределах королевства — осознал ли он в полной мере смысл и значение этих слов? Кто был у его постели? Священник доктор Рэли? Всегда готовый помочь друг и секретарь Томас Мэтью? Старинный друг и слуга Генри Перси? Жена? Мы не знаем.
12 мая граф Саутгемптон, хорошо помнивший свое двухлетнее пребывание в Тауэре во времена королевы Елизаветы после восстания графа Эссекса, спросил членов палаты лордов, почему лорд-канцлер до сих пор не в Тауэре. Маркиз Бекингем, ныне лорд-адмирал, сообщил ему, что «король отсрочил его заключение по причине тяжелой болезни». Ответ не удовлетворил тех пэров, кто не только радовался падению виконта Сент-Олбанса, но и был недоволен все возрастающим влиянием самого Бекингема на дела государства, и был послан приказ о препровождении бывшего лорда-канцлера в Тауэр. Точная дата его заключения неизвестна, но мы знаем, что 31 мая он был там, потому что этим днем помечено его письмо к Бекингему, написанное в Тауэре:
«Мой добрый господин!
Прошу Вас, добейтесь приказа о моем освобождении сегодня же. Благодарение Господу, смерть мне так же желанна, как и все эти два месяца, я ее неустанно призываю, насколько это позволено нам учением христианской церкви. Но умереть, не услышав милосердного слова его величества, в этом позорном месте, — худшее, что может постигнуть смертного; когда я умру, уйдет из этого мира человек, который всегда пребывал неизменным; был истинным и преданнейшим слугой своего господина; никогда не предложил ему ни одного непродуманного, бесполезного и уж тем более дурного совета; человек, которому никакие прельщения и соблазны не помешали быть честным, преданным и безмерно любящим другом Вашей светлости; человек, который, хоть и признает приговор справедливым и понимает, что он должен послужить к исправлению, был самым справедливым из всех пяти лордов-канцлеров, занимавших этот пост со времен сэра Николаса Бэкона. Что бы ни случилось со мной, Господь да благословит Вашу светлость и да пребудете Вы в благоденствии.
Истинный друг Вашей светлости и в жизни и после смерти
Фр. Сент-Олбанс».
Заключение пробудило его боевой дух. Как тут не задать вопрос: если бы Фрэнсис Бэкон достаточно владел собой в конце апреля и явился в палату лордов, чтобы предстать перед своими обвинителями и защитить себя, неужели не убедил бы он судей и неужели не вынесли бы они совсем другой приговор? Искусный оратор, великолепно владевший словом, он несомненно произнес бы непревзойденную по красноречию речь, которая не оставила бы от обвинения камня на камне. То, что он предпочел молчание, еще одно подтверждение необычайной сложности человека, чья душа была поистине неведомой пришелицей на пути странствия его, как он сам писал о себе. Неведомой не только миру, но и ему самому.
Его обращение к Бекингему, а стало быть, и к королю, не осталось без ответа. 4 июня его освободили из Тауэра, и он поселился в доме сэра Джона Вона в Фулеме. Сэр Джон был гофмейстером принца Уэльского, и то, что его дом был тотчас же предоставлен в распоряжение Бэкона, доказывает, что не только Бекингем и король, но и сам принц сочувствовал бывшему хранителю большой государственной печати и лорду-канцлеру.
В день своего освобождения Фрэнсис написал благодарственные письма его величеству и фавориту. Королю: «Да будет мне позволено жить, дабы служить Вам, иначе жизнь будет всего лишь тенью смерти», фавориту: «Сейчас тело мое на свободе, но дух будет по-прежнему томиться в узилище, пока я не смогу предстать перед его величеством и Вашей светлостью как Ваш верный и преданный слуга». Седьмого июня он написал гораздо более пространное письмо принцу Уэльскому, в котором превозносил его поистине королевские качества и добродетели, а также религиозные, нравственные и физические совершенства. «Свежий воздух» Фулема «уже заметно оживил» угасавший дух Фрэнсиса, и он стал рваться снова работать — заниматься делами короля, государственными делами, но, конечно, на это был наложен запрет. Лишенный возможности предстать перед его величеством, он должен был заниматься своими собственными делами. Кредиторы и без того требовали денег, а после падения Фрэнсиса они и вовсе обступили его со всех сторон, и он вспоминал, как после опалы Эссекса его брат Энтони запер дверь его дома перед торговцами. Что будет с Йорк-Хаусом, со всеми его слугами, многих из которых он мог бы, если бы захотел, обвинить в своем нынешнем унижении? Кого-то придется рассчитать, кто-то уже сам от него ушел. Он больше не мог платить им жалованье, не было денег. Беднягу Неда Шербурна уже арестовали за долги, его ли собственные или его господина, ни сам он, ни Фрэнсис не смогли бы ответить.
В середине июня Фрэнсис обратился к королю с просьбой позволить ему остаться в Лондоне до конца июля, чтобы привести в порядок свои дела, но получил отказ. Без сомнения, король понимал, что в своей снисходительности к Фрэнсису он зашел слишком далеко и что пэры и парламент могут заявить протест. И потому 23 июня Фрэнсис Бэкон был уже у себя дома, в Горэмбери.
«Как я слышал, он сегодня переехал в свой дом в Горэмбери, — писал Джон Чемберлен сэру Дадли Карлтону, — и хотя казалось бы, что опала должна его смирить, так нет, он остался таким же — барственный и высокомерный, как в свои лучшие времена, а о штрафе 40 000 фунтов в королевскую казну он и думать не думает, наоборот, штраф служит ему защитой от собственных кредиторов». Века идут, а сплетни об утративших власть распускают все также. Выражения, возможно, и меняются, но желание поглумиться остается.
Ни барственности, ни высокомерия никто бы у Фрэнсиса Бэкона в последующие месяцы не заметил. Человек, в чьих услугах больше не нуждается ни монарх, ни парламент, над чьей головой дамокловым мечом навис штраф, а за горло хватают кредиторы, должен найти себе другую работу, иначе разорится вконец. А экс-лорд-канцлер был писатель — прежде всего и превыше всего. Сейчас он понимал, что если сразу же возьмется за следующую часть «Instauratio Magna», это не принесет ему ни гроша — публикация «Novum Organum» была тому доказательством; скорее уж деньги принесет более доступная вещь, написанная по-английски. Он уже давно подумывал написать историю Генриха VII, короля, к которому всегда питал большое уважение и который, помимо всего прочего, был прапрапрадедом нынешнего монарха. Это, безусловно, понравится публике. Он возьмется за работу, не откладывая в долгий ящик. Однако это оказалось почти невозможным, ведь он находился в полной изоляции в Горэмбери и не имел доступа к бумагам, документам и всему, что было необходимо для написания такого опуса, и в начале сентября он снова умолял и его величество, и маркиза Бекингема позволить ему вернуться в Лондон и выделить ему хоть какую-то денежную помощь, чтобы он не умер с голода. Экс-лорд-канцлер, который в недавнем прошлом давал монарху мудрые советы относительно его финансов, теперь пребывал в полной растерянности относительно своих собственных. Верулам-Хаус был не достроен, счета не оплачены.
«Что касается моих долгов, — писал он Бекингему, — Ваша светлость могли видеть, откуда они, когда я показывал Вам маленький домик и галерею на опушке рощи или небольшого леса, которого Вы не заметили». Он слишком хорошо знал, какие о нем ходили сплетни, что он-де запускал руку в государственную казну и швырял присвоенные деньги направо и налево. «Я никогда не присвоил себе ни единого пенни из доходов священников или церковных приходов, никогда не взял ни единого пенни, чтобы позволить себе то, на что сам наложил запрет, никогда не взял ни единого пенни за выполнение каких бы то ни было комиссий или просьб, никогда не делился со слугами побочным или неправедным доходом. Все мои прегрешения я записал сам и потом искал в них, как истинно раскаявшийся грешник, не оправдание себе, а свою вину».
Он обращался к истории и вспоминал, как почти сто лет назад впал в немилость другой государственный деятель, тоже лорд-канцлер и к тому же кардинал. Как часто слышал он в детстве рассказы о том, как его собственный прадед сэр Уильям Фицуильям принимал в своем доме в Милтоне опального прелата Вулзи. Фрэнсис не мог не думать об этом, когда писал письмо его величеству пятого сентября: «Несчастье, которое обрушилось на меня, лишило меня средств к существованию… Я был хранителем печати Вашего величества, а теперь я нищий в Вашем королевстве». И добавил в постскриптуме: «Кардинал Вулзи сказал, что если бы он служил небесам с таким же усердием, с каким служил королю, то не погиб бы. Моя совесть не произносит таких слов, ибо я знаю, что, служа Вам, я служил Богу. Но возможно, для меня было бы лучше, если бы я служил людям с таким же усердьем, с каким служил Вам».
Знакомые слова, верно? Читатель в них вдумывается и открывает шекспировского «Короля Генриха VIII», действие третье, сцена вторая, последний монолог кардинала Вулзи:
А ведь «Король Генрих VIII», хоть его и играли на сцене, был напечатан только в 1623 году в «Первом Фолио». Любопытно…
Письмо Фрэнсиса настолько растрогало короля, что 16 сентября он издал указ, позволяющий ему приехать в Лондон и провести в доме сэра Джона Вона полтора месяца, а 20 сентября его величеству было благоугодно передать права на получение установленного парламентом штрафа четырем доверенным лицам, выбор которых был предоставлен усмотрению самого Фрэнсиса, и он назвал сэра Ричарда Хаттона, судью выездной сессии суда присяжных; сэра Томаса Чемберлена, судью суда королевской скамьи; сэра Томаса Кру, барристера, и сэра Фрэнсиса Барнема, двоюродного брата леди Сент-Олбанс.
Смысл указа заключался в том, что ответственность за долг королевской казне в размере 40 000 фунтов перекладывалась на доверенных лиц, а это по сути означало, что он никогда не будет взыскан. Более того, доверенным лицам были даны полномочия держать других кредиторов Бэкона на расстоянии, так что сплетники, предсказывавшие такой поворот событий, оказались правы.
У Фрэнсиса Бэкона оставалась последняя надежда — что его полностью помилуют, и хоть он никогда больше не сможет служить королю и быть избранным в парламент, по крайней мере ему будет позволено приезжать из Горэмбери в Лондон, когда он пожелает, и жить там, сколько он пожелает, клеймо опалы будет смыто, и он перестанет быть изгоем для мира и для своих друзей.
Казалось, фортуна вот-вот снова улыбнется ему, потому что 12 октября его величество пожелал, чтобы генеральный прокурор сэр Томас Ковентри составил текст указа о помиловании и представил его новому лорду-хранителю большой государственной печати епископу Линкольнскому. Лорд-хранитель стал выдвигать возражения. Парламент может обидеться, он должен обсудить все с тайным советом, что неизбежно затянет дело. Фрэнсис, который все это время работал в привычном для него темпе и закончил «История короля Генриха VII» за несколько недель, послал экземпляр «Истории» королю и одновременно обратился с настоятельной просьбой к маркизу Бекингему, чтобы он поговорил с лордом-хранителем о помиловании.
Но тут все неожиданно застопорилось. Маркиз, который так сочувственно относился к нему с самого начала процесса и его опалы, вдруг сделался холоден. Между ним и Фрэнсисом возникла размолвка. А причина ее была вот в чем: решив, что смещенный со своего поста виконт Сент-Олбанс будет теперь спокойно жить у себя в Горэмбери, а во время наездов в Лондон будет довольствоваться каким-нибудь скромным жилищем, Бекингем пожелал заполучить в свое владение Йорк-Хаус. Фрэнсис, любивший свое родовое гнездо еще сильнее, чем Горэмбери, не согласился.
Полтора месяца, которые ему было позволено провести в Лондоне и большую часть которых он прожил в Йорк-Хаусе, подошли к концу, и он снова вернулся в Хартфордшир. Маркиз на его письма не отвечал. Королевский указ о помиловании не был официально утвержден. «Во время моего пребывания в Лондоне Ваша светлость два раза соблаговолили отказать мне в аудиенции, — писал Фрэнсис фавориту. — Причиной тому служат перемены, которые произошли либо во мне, либо в Вашей светлости. Я должен сначала заглянуть в себя и понять, что я сделал не так, и, Бог свидетель, я не нахожу никаких перемен, я остался таким же верным другом Вашей светлости, каким был всегда — и в благоденствии, и среди превратностей судьбы, пройдя с Вами огонь и воду. Если Ваша светлость изволите испытывать неудовольствие относительно Йорк-Хауса, умоляю Вас понять меня… Такое решение было бы для меня равнозначно еще одному приговору, даже более тяжкому, чем первый, каким я его тогда ощутил и до сих пор ощущаю».
Он говорил, как мы догадываемся, об изгнании из своей лондонской резиденции; а когда в конце ноября королевское помилование было официально утверждено, оказалось, что помилован он не полностью, потому что жить ему в Лондоне было по-прежнему запрещено, и письма маркиза Бекингема оставались все такими же холодными.
Может быть, ему поможет петиция в палату лордов? И Фрэнсис стал набрасывать текст обращения, и по его тону чувствовалось, как он уязвлен и опустошен. Представим себе холодный зимний день в середине декабря, Фрэнсис смотрит из окна Верулам-Хауса на ненастное небо, пищеварение у него вконец расстроено, вот-вот разыграется подагра, и где-то в соседних комнатах громко выражает недовольство ее светлость.
«Я стар и немощен, в нужде, кто, как не я, достоин жалости. Единственное, о чем я прошу, обращаясь к Вашим высокочтимым светлостям, — это проявить по отношению ко мне великодушие и милосердие и освободить меня из заточения, ибо, клянусь Вам, неволя, любая неволя, и в особенности для меня, хуже Тауэра. В Лондоне я смогу видеться с людьми, приглашать докторов, обсуждать с моими кредиторами и друзьями мои долги, дела и нужды моего имения, получать поддержку в моих занятиях и сочинениях. Здесь я живу словно на острие ножа, мне грозит наказание, если я посмею уехать; если я останусь, то погибну от тоски, одинокий и безутешный, лишенный возможности обратиться к кому бы то ни было за помощью, облегчить мое бедственное положение; и самое мое тяжкое горе это то, что моя супруга не причастна к моим проступкам, однако вынуждена делить горестную участь моего изгнания».
Вот в этом-то, наверное, и была загвоздка. Он никуда не мог деться от нее, а она от него. Прошение так и не было отправлено. Парламент ушел на каникулы 19 декабря. Значит, Рождество Фрэнсис проведет в Верулам-Хаусе, значит, надо забыть о веселье, об улыбках за столом, слуги и помощники будут стараться угодить ему, но их забота покажется ему лишь докучной, супруга будет нервно постукивать ножкой и тяжело вздыхать. Целая пропасть отделяет их от того, что было год назад, когда в доме царила атмосфера радостного ожидания и он, и она, и все их друзья готовились праздновать его шестидесятилетие в Йорк-Хаусе, а его величество решил пожаловать ему титул виконта Сент-Олбанса.
Ее светлость, обменявшись взглядами со своим управляющим Джоном Андерхиллом, объявила, что сразу же после Нового года поедет в Лондон и сама обратится к маркизу Бекингему, надеясь при личной встрече добиться того, что не удалось ее супругу в своих письмах. Что ж, путь едет. Пусть попытается. А он будет бродить по галереям Верулам-Хауса, где водоемы под окнами покрылись толстым слоем льда, такого же крепкого и прозрачного, как зеркало, что вернуло ему его отражение на верхнем этаже.
«Я Ваш давний должник за Ваше письмо, — признавался он Тоби Мэтью, — и какое письмо! В нем каждое слово, написанное Вашей рукой, для меня чистейшее золото. Невозможно выразить чувство более искренне и красноречиво… Ваше общество всегда было для меня утешением, а Ваше отсутствие горем, сейчас же это горе стократ. Молю Вас, поспешите же сюда, где Вас ожидает такой сердечный прием, какого Вы только можете пожелать».
Тоби Мэтью сошел на берег в Дувре 29 декабря.
Изгнание Тоби Мэтью кончилось. Ему позволили вернуться на родину навсегда благодаря личному вмешательству испанского посла графа де Гондомара и лорда Дигби, которые хлопотали за него перед королем. Лорд Дигби — ему вскоре предстояло стать лордом Бристоллом после того, как он прослужил двенадцать лет английским послом в Мадриде, — горячо поддерживал брак испанской инфанты и принца Уэльского, он имел возможность хорошо узнать Тоби и при испанском дворе, и в Брюсселе. Тоби вовсе не бунтующий нонконформист, убеждал лорд Дигби короля, это человек больших талантов, из него получится прекрасный дипломат, незаменимый на службе его величества и в Англии, и за рубежом. Если его величество позволит Мэтью вернуться, лорд Дигби безусловно ручается за его добропорядочное поведение. Позднее его можно будет использовать в переговорах о браке, а когда придет время, отправить в Испанию.
Когда Тоби, которому исполнилось сорок четыре года, нанес по прибытии в Англию первый визит в Горэмбери своему давнему другу и учителю виконту Сент-Олбансу, оказалось, что они поменялись ролями. Теперь он был дипломат с влиятельными друзьями при дворе и с перспективой блестящей карьеры, а его старший друг утратил свой высокий статус и жил изгнанником в Хартфордшире. Но все это не имело значения, их отношения ничуть не изменились. Ни утрата власти одним, ни благосклонность фортуны к другому не могли повлиять на истинную привязанность, которую они питали друг к другу, и на их дружбу; и хотя, конечно же, печальную повесть отстранения от власти и того, что за этим отстранением последовало, надо было рассказать в подробностях, потому что ведь в письмах этого не сделаешь, мы можем быть уверены: сразу же вслед за этим они стали обсуждать то, что Фрэнсис сейчас писал, — был ли его нынешний опус научным трудом, философским или литературным.
Во время своего предыдущего пребывания в Англии Тоби перевел на итальянский язык эссе Фрэнсиса Бэкона, которые были переизданы дважды, а также его «De Sapientia Veterum». Он посвятил этот сборник великому герцогу Тосканскому и написал предисловие, в котором рассказал об авторе, восхищаясь его умом, его достоинствами и его желанием сделать лучше время, в котором он живет, и принести благо всему человечеству. «Я хочу со всей искренностью признать… что никогда не видел у него ни малейшего желания отомстить, какое бы зло ему ни причинили; никогда не слышал, чтобы он дурно отозвался о человеке лишь потому, что испытывает к нему личную неприязнь; если он и осуждает кого-то, что случается очень редко, то это суждение составлено по зрелом размышлении. Я восхищаюсь не столько его величием, сколько его достоинствами: мое сердце наполнили любовью к нему не его милости ко мне, хоть они и неисчислимы, но вся его жизнь и его личность; а они таковы, что, будь он человеком низкого звания, я почитал бы его столь же высоко; и будь он моим врагом, я любил бы его столь же сильно и столь же искренне желал ему служить».
Тоби перевел на английский язык «Исповедь Святого Августина» и тем самым доказал, что он не только дипломат, но и литератор.
А пока, вернувшись в Лондон, он постарается воспользоваться тем влиянием, которое оказывают на короля лорд Дигби и другие близкие к нему особы, и добиться, чтобы навязанное его другу затворничество кончилось и чтобы виконт Сент-Олбанс снова мог ездить из Хартфордшира в столицу и возвращаться обратно, когда он пожелает. Но это оказалось не так легко. Супруга Фрэнсиса уже была в Лондоне. Она уехала из Горэмбери в первую неделю января и добилась аудиенции у самого маркиза Бекингема. Она прождала его полдня, наконец он явился и изволил с ней побеседовать. Записи их разговора, увы, нет, но друг и секретарь Фрэнсиса Томас Мьютиз, ожидавший в соседней комнате, сообщил своему патрону, что «она говорила долго и настойчиво», из чего можно сделать вывод, что королевский фаворит вовсе не внушал ей благоговейного трепета. Далее Мьютиз пишет: «И хотя милорд говорил так громко, что их разговор не остался тайной ни для меня, ни для всех остальных, кто только мог их слышать… миледи сказала мне, что намеревается пересказать Вам в письме все слово в слово». А поскольку Фрэнсис либо не хранил писем своей жены, либо распорядился уничтожить их после своей смерти, читателю лишь остается представить себе эту сцену самому.
После аудиенции ее светлость вернулась в Йорк-Хаус, где ее дожидался Тоби Мэтью, желавший засвидетельствовать свое почтение, прежде чем он отправится в Горэмбери, куда собирался дня через два-три. Нам ничего не известно об этой их короткой встрече, но можно быть уверенным, что будущий дипломат был сама любезность и галантность, а его хитрая собеседница, ни на минуту не забывавшая, что перед ней один из самых близких друзей ее мужа, обронила намек, что, если маркиз Бекингем не выполнит ее просьбу, она сумеет добиться аудиенции у самого принца Уэльского. Томас Мьютиз сообщил об этом своему патрону. Виконтесса Сент-Олбанс была преисполнена такой же решимости жить в Лондоне, как и ее супруг, в Йорк-Хаусе или где-то еще — не важно, лишь бы в городе, однако в конце января на сцене появился еще один претендент на Йорк-Хаус. Герцог Леннокс писал Фрэнсису: «Обращаюсь к Вашей светлости с просьбой уступить мне Йорк-Хаус; условия, которые я предлагаю, таковы, что Вы не понесете ни малейшего убытка. Поскольку желание Вашей супруги иметь резиденцию поставило Вашу светлость в затруднительное положение и Вам тяжело с ней расстаться, я хочу предложить Вашей светлости и Вашей супруге занять резиденцию покойного графа Хартфорда на Ченнон-роу; это очень просторный и удобный дом, и он находится в моем полном распоряжении, моем и моей супруги; и Ваша светлость может переехать туда, когда Вам будет благоугодно покинуть Йорк-Хаус». И добавил в постскриптуме, что не стал бы и помышлять о Йорк-Хаусе, если бы у маркиза Бекингема уже не появилась достойная резиденция.
Фрэнсис не чувствовал ни малейшего желания жить на Ченнон-роу. Он был человек устоявшихся привычек. Одно дело открывать неведомое в мире научной мысли и исследовать природу, и совсем другое — навсегда переселиться в чужое жилище. Он должен жить там, где его корни.
«Мой добрый и благородный лорд, мне очень горько отказывать Вашей светлости в чем бы то ни было, — писал он герцогу, — но сейчас, я уверен, Вы меня простите. Йорк-Хаус — это дом, где умер мой отец, где появился на свет я и где я хочу испустить свой последний вздох, если на то будет Божья воля и милость короля, хотя к моему нынешнему положению лучше всего подходит пословица: „Велика воля, да тюрьма крепка“. Как бы там ни было, я с Йорк-Хаусом ни за какие деньги и ни за какие блага не расстанусь. К тому же я окончательно не отказывал милорду маркизу, хотя, когда я признавался ему, как дорог мне этот дом, мое признание можно было принять за отказ, а ведь моя величайшая любовь к его светлости и уважение превосходят чувства, которые я испытываю по отношению ко всем моим другим друзьям, среди которых Ваша светлость занимает в моем сердце место рядом с милордом маркизом».
Герцог Леннокс больше не появится в нашей истории, а вот Бекингем, хоть он недавно и приобрел себе новую резиденцию близ Уайтхолла, решил поселить в Йорк-Хаусе кого-то из своих приближенных. Его выбор пал на сэра Лайонела Крэнфилда, который был недавно назначен лордом-казначеем. И Фрэнсис скоро понял, что свободу приезжать в Лондон, когда ему захочется, он может получить только ценой отказа от своего родового гнезда, дома, где он появился на свет. Отказаться от Йорк-Хауса, иначе вечная ссылка в Хартфордшире. Какие только тонкие дипломатические ходы не предпринимали Тоби Мэтью, лорд Дигби и сэр Эдвард Сэквилл, чтобы повлиять на фаворита, но все впустую. Бекингем стоял на своем как скала. Его власть и влияние на его величество и принца Уэльского были сейчас так велики, что воспротивиться его желаниям значило навлечь на себя погибель. В конце концов Фрэнсис согласился отдать Бекингему Горэмбери и все свои владения в Хартфордшире, лишь бы только сохранить Йорк-Хаус. Но фавориту не нужен был Горэмбери. Ему был нужен Йорк-Хаус для лорда-казначея…
Дело тянулось, прошел февраль, наступил март; сэр Эдвард Сэквилл выступал в роли главного посредника, убеждая Фрэнсиса Бэкона смириться и расстаться с Йорк-Хаусом в обмен на обретение свободы. Другого пути вернуться из ссылки не было. Лорд Фолкленд предложил Фрэнсису свой собственный дом в Хайгейте, и сэр Эдвард Сэквилл счел это хорошей альтернативой.
«Милорд Фолкленд уже показал Вам Лондон из Хайгейта, — писал он Фрэнсису, — и если Вы откажетесь от Йорк-Хауса, то город Ваш, самые тяжкие Ваши оковы спадут и Вы сможете наслаждаться живительным воздухом столицы…» Но Фрэнсису так же мало хотелось жить в Хайгейте, как Бекингему в Горэмбери. И все же в середине марта он смирился с неизбежным. Лорд-казначей получит Йорк-Хаус, если он «освободит мое бедное имение от уплаты долгов… я смиренно прошу Вашу светлость решить этот вопрос без промедления, ибо в моем возрасте, при моем здоровье и учитывая превратности моей судьбы, время для меня бесценно… Что до выплаты моих долгов, что теперь стало моей главной заботой, то я более не буду докучать Вашей светлости, хотя и не обращаюсь за помощью к королю; однако я предполагаю приехать на этой неделе в Чизик, где у меня теперь дом, и надеюсь повидаться с Вашей светлостью, соберу в Вашем саду фиалки и поднесу их Вам, мне это доставит большое удовольствие».
Возможно, выплачивать долги Фрэнсису помогала продажа «Истории короля Генриха VII», которая была напечатана в конце марта и которую продавали по шесть шиллингов за экземпляр; однако для освобождения от уплаты долгов ему придется ждать, пока лорд-казначей переедет в Йорк-Хаус. Что касается дома в Чизике, то Томас Мьютиз писал: «Миледи посмотрела дом в Чизике и сказала, что постарается полюбить его». Это было очень великодушно с ее стороны, вот только: «Она переедет в него, когда Ваша светлость уже будете там жить, а не прежде Вас, и потому Вашей светлости хорошо бы поторопиться, ибо высокопоставленным господам не терпится получить Йорк-Хаус».
Его светлость виконт Сент-Олбанс решил не выезжать из Горэмбери, пока указ об отмене его ссылки и о предоставлении ему полной свободы передвижения не будет подписан и официально утвержден и он не станет снова свободным человеком. Двадцать седьмого марта он сказал Тоби Мэтью: «Я предполагаю быть в Чизике в субботу, если на то будет Божья воля, или в понедельник, потому что эта погода невыносима для человека, который почти не выходит из дому… Если по Вашем возвращении ко двору, чему я несказанно рад, у Вас с маркизом зайдет речь обо мне, прошу Вас, постарайтесь расположить его ко мне, как Вы прекрасно умеете, и объясните ему, как верна и горяча моя любовь к нему. Что до Йорк-Хауса, я всегда желал, чтобы резиденция перешла к его светлости прямым ли путем, или окольным, уж как это будет благоугодно его светлости».
Итак, он переехал в Чизик, но сначала разослал экземпляры «Истории короля Генриха VII» всем своим друзьям, а также высокопоставленным лицам, среди которых была и дочь короля, бывшая королева Богемии, которой он написал: «Когда-то у меня было доброе имя и не было досуга; сейчас я потерял доброе имя, но досуга у меня довольно… Однако я не желаю растратить ни одной минуты этого досуга впустую и дать времени утечь сквозь пальцы, я сделаю мою частную жизнь плодотворной… Если бы король Генрих Седьмой вдруг воскрес сейчас, я от души надеюсь, он не разгневался бы на меня за то, что я ему не льстил, напротив, он был бы доволен, что я описал его красками, которые не поблекнут и которым будут верить».
Королева прислала в ответ теплое письмо: «Милорд, я очень благодарна Вам за Ваше послание и за книгу, она самая лучшая из всех, что я читала в этом жанре… и мне очень грустно, что я не могу высказать Вам свою признательность за этот подарок и за многие другие, что я получала от Вас, иначе как письмом; и хотя Ваше положение изменилось, о чем я глубоко скорблю, поверьте, что я никогда не изменюсь по отношению к Вам и навсегда останусь Вашим истинно любящим другом».
Да, принцесса Елизавета не забыла, что за человек Фрэнсис Бэкон, как не забыл бы и ее любимый покойный брат Генри, принц Уэльский; и хотя «История короля Генриха VII» была посвящена нынешнему принцу Уэльскому, Фрэнсис несомненно желал, чтобы его старший брат был бы жив и носил этот титул.
Что касается самого жизнеописания, то биограф Фрэнсиса Бэкона Дж. Спеддинг считает, что «он единственный из всех английских историков поднялся почти до уровня Фукидида», хотя более поздние историки могли бы с ним и не согласиться, и, уж конечно, простой читатель с увлечением прочтет двести пятнадцать страниц этого сочинения и не найдет в них ни преувеличений, ни предвзятости. Напротив, и сам Генрих VII, и время, в которое он жил, предстанут перед ним такими же живыми и яркими, какими их видел сам Фрэнсис Бэкон, хоть их и разделяли полтора века, к тому же мы изумимся, что человек, упавший с самых вершин власти, смог найти в себе силы и собрать волю для такого труда и написать его так быстро — всего за несколько месяцев.
Даже у Джона Чемберлена наконец-то нашлись добрые слова для Фрэнсиса Бэкона: «Бывший лорд-канцлер написал историю жизни и царствования Генриха VII. Жаль, что он не занимается только сочинительством. Я пока прочел не так много, но если бы вся остальная наша история соответствовала тому, что он описывает, нам не пришлось бы завидовать ни одной стране в мире».
А Фрэнсис уже подумывал о других жизнеописаниях. Царствование Генриха VIII; полная история Англии; диалог о священной войне, в котором он хотел рассмотреть объединение христианских стран перед лицом турецкой угрозы; полный систематический свод законов Англии; и словно всего этого было мало, он одновременно обдумывал еще один опус на латыни, который будет печататься ежемесячно по частям, чуть позже в этом году. Назывался этот труд «Historia Ventorum» («История ветров») и «Historia Vitae et Mortis» («История жизни и смерти»), к тому же Фрэнсис добавлял главы к своему «Усовершенствованию наук».
Было пока неясно, сможет ли он все это завершить в Чизике, — надо надеяться, покои ее светлости располагались достаточно далеко от библиотеки ее супруга. Ему были необходимы справочная литература и расторопные секретари и помощники, которые были бы наделены талантом к исследовательской работе, могли бы ездить туда и обратно и которых следовало достойно вознаграждать за их труд. Без такой помощи Фрэнсис Бэкон просто не смог бы собрать материал по всем в высшей степени специализированным предметам, о которых ему хотелось написать, и систематизировать его. И хотя Томас Мьютиз, его помощник священник Уильям Рэли и, несомненно, Эдвард Шербурн и Томас Бушелл, который потом стал горным инженером, готовы были самоотверженно помогать ему, им приходилось заниматься также и текущими делами Фрэнсиса — корреспонденцией, домашней бухгалтерией и прочим. Обидно, что Рэли, опубликовавший так много трудов Фрэнсиса Бэкона после его смерти, которая так рано унесла его столь горячо любимого и почитаемого патрона, ничего не рассказал нам о том, как он работал.
«История ветров», задуманная как третья часть «Instauratio Magna», по объему сведений бесспорно приближается к энциклопедии. В ней приводятся выдержки из всех мыслимых источников, нам легко представить себе, как Фрэнсис, сидя за своим письменным столом или стоя за конторкой, указывает на ближайшую стопу книг: «Третий том слева, Плиний», «Четвертый справа, Акоста, „Histoire des Indes“», «Верхняя полка, Геродот», — когда множество деталей расклассифицированы, зерна отделены от плевел, он решает, что стоит включить в свой труд и чем пренебречь. Интересно, что происходило в тот день, когда он диктовал своему верному секретарю, священнику Рэли: «При южном ветре дыхание у людей имеет неприятный запах, животные теряют аппетит, распространяются заразные болезни, люди болеют простудой, чувствуют тяжесть, угнетенность; тогда как при северном ветре все чувствуют себя бодрее, здоровее, улучшается аппетит»? Наверняка в тот день в Чизике дул южный ветер, и патрон переставил свой стул…
«В водяном термометре расширяющийся воздух давит на воду, точно порыв урагана; тогда как в стеклянном сосуде, наполненном одним только воздухом и затянутом пленкой, расширяющийся воздух натягивает пленку постепенно, точно ровно дующий ветер.
Я провел опыт с такого рода ветром в круглой башне, которая была надежно защищена со всех сторон. В середине комнаты я поместил лоток с хорошо разгоревшимися и уже переставшими дымить углями. По одну сторону от лотка, чуть поодаль, я подвесил на нити крестообразно связанные перья, чтобы они легче ловили движение воздуха. И вот довольно скоро, когда стало теплее и воздух расширился, крестообразно связанные перья на нити начали раскачиваться то в одну сторону, то в другую. А потом, когда окно в башне чуть приоткрыли, то теплый воздух стал выходить наружу, но не непрерывным потоком, а прерывистыми, волнообразными импульсами».
Читателя интересует не столько самый опыт, сколько где и когда он был проведен. В одной из трех башен Горэмбери? Был ли тогда Фрэнсис молод и его вдруг охватило непреодолимое желание изучить любопытный феномен? Или он уже вступил в зрелый возраст, был женат, и пока ставил свой опыт, его супруга в соседней комнате нетерпеливо постукивала ножкой в ожидании обеда? Свои знания о плавании под парусами он мог приобрести, только внимательно наблюдая за плывущими по морю судами, — а ведь он переплыл Ла-Манш всего дважды, когда совсем еще молодым человеком отправился в Европу в свите посла сэра Эймиаса Полетта и потом очень скоро вернулся обратно, — или подолгу беседуя с бывалыми моряками. Он в мельчайших подробностях описывает не только такелаж, рангоут и парусное вооружение кораблей своего времени, но и то, как следует ставить паруса, чтобы они могли ловить постоянно меняющийся ветер, и даже то, как, изменив форму паруса, можно улучшить ходовые и маневренные качества судна, — то есть все то, что стало обычной практикой лишь два столетия спустя.
Поставьте перед этим интеллектом любую задачу в любой области, и он найдет для нее решение, и почти всегда правильное; только вот не обладал он даром предвидения, который помог бы ему избежать немилости и постоянно увеличивающейся нехватки денег. Прошло полтора года с тех пор, как Фрэнсис последний раз беседовал с его величеством, и хотя он уступил лорду-казначею Йорк-Хаус и подарил собранный в его саду букетик фиалок, лорд Крэнфилд, первый граф Миддлсекс, ничего для Фрэнсиса не сделал. Его пенсию 800 фунтов постоянно задерживали, доходы от отчуждения не оплаченных таможенной пошлиной товаров были конфискованы.
Друг и защитник Фрэнсиса лорд Дигби, ныне лорд Бристол, был в Испании. В минуту отчаяния Фрэнсис написал летом 1622 года письмо к королю, но так его и не отправил.
«Из-за своей собственной недальновидности я почти лишился средств к существованию, мое положение сейчас едва ли лучше, чем после смерти моего отца. Назначенные мне Вашим величеством вспомоществования либо оспариваются, либо задерживаются… Жалкие остатки моего прежнего благополучия в виде столового серебра и драгоценностей я роздал бедным людям, перед которыми у меня были обязательства, едва оставив себе на хлеб… Помогите мне, мой дорогой государь и повелитель, сжальтесь над тем, кто имел раньше полный кошелек, а теперь на старости лет готов пойти с сумой; кто желает жить, чтобы заниматься науками, а не заниматься науками ради куска хлеба насущного…»
Говорили, что в это время у его величества разыгралась подагра, болели руки и ноги, и когда он жил в своей резиденции в Теоболдзе, его носили на носилках, чтобы он мог посмотреть на своих оленей. Что ж, самое подходящее время написать для «Historia Vitae et Mortis» главу о продолжительности жизни, и Фрэнсис снова садится за письменный стол, записывает наблюдения, сделанные его необычайно проницательным умом.
«Волосатость верхней части тела признак короткой жизни; мужчины, у которых грудь покрыта волосами, точно гривой, умирают рано; тогда как волосатость нижней части туловища, то есть ног и бедер, свидетельствует о том, что человек будет жить долго… Довольно большие глаза с зеленоватой радужной оболочкой, не слишком острые чувства, медленный пульс в юности, но убыстряющийся с возрастом, способность без труда надолго задерживать дыхание, склонность к запорам в молодости и избавление от них с годами — все это также признаки долгожительства…
Я помню одного необычайно умного молодого француза… так вот, он был убежден, что дефекты нашего характера имеют соответствие с дефектами тела. С сухостью кожи он связывал наглость; с вялым кишечником жестокосердие; с тусклыми глазами зависть и способность к сглазу; с впалыми глазами и сутулостью атеизм; со сжиманием и переплетением пальцев алчность и корыстолюбие; с нетвердой походкой робость; с морщинами бесчестность и коварство».
Подобные высказывания могли бы побудить его величество внимательнее приглядеться к своим придворным, да и себя, возможно, получше рассмотреть в зеркале. Но подождите, что это? Фрэнсис приводит отрывок из итальянского гуманиста Фичино: «Старики, желая обрести спокойствие духа, должны как можно чаще обращаться к воспоминаниям детства и юности и вдумываться в них». Истинно так! Потому-то он столь сильно и любил Йорк-Хаус, который у него отняли. И разве не те же чувства испытывал Веспасиан, когда не пожелал перестраивать дом своего отца и, приезжая туда отдыхать, пил из отделанной серебром деревянной чаши, которая принадлежала его бабушке?
Фрэнсис тосковал по привычным пейзажам и звукам. Чизик был слишком далекой окраиной Лондона. Может быть, его супруга и радовалась южному ветру, но для него он был губителен. К тому же супруга непрерывно изводила его вопросами, когда же наконец ему отдадут деньги за Йорк-Хаус, потому что половина этих денег принадлежала ей. Может быть, все как-то удастся уладить, если он переедет со своими помощниками в Бедфорд-Хаус на Стрэнде.
Читатель в долгу перед Джоном Чемберленом за сведения, которые он сообщал своему постоянному корреспонденту Дадли Карлтону: «Недавно я встретил Вашего давнего приятеля Тоби Мэтью и имел с ним долгую беседу. Он по-прежнему живет в Бедфорд-Хаусе у бывшего лорда-канцлера». Письмо датировано 22 июня 1622 года.
Неделю спустя он сообщает: «Лорд Сент-Олбанс обратился в канцлерский суд с жалобой на маркиза Бекингема, и сделал это, как все убеждены, с его согласия. В жалобе говорится, что он заключил договор об аренде Йорк-Хауса за сумму в 1300 фунтов, из которых 500 должна получить леди Сент-Олбанс, но время выплаты денег давно просрочено, и его бедная супруга опасается, что супруг ее обманет, и потому он просит лорда маркиза объяснить, почему он не выполняет условия договора, которые были согласованы».
Лорд Чемберлен делает важную оговорку. Конечно, Фрэнсис никогда бы не обратился в канцлерский суд без согласия на то Бекингема, но нам неизвестно, как и когда жалоба была удовлетворена, да и была ли удовлетворена вообще. Хотя фаворит и экс-лорд-канцлер не были близкими друзьями, как когда-то, открытого разрыва между ними не произошло, и, конечно же, к осени Бекингем убедил его величество подписать указ о выплате Фрэнсису задержанной пенсии, о чем сообщил ему в письме от 13 ноября: «Я также просил его позволить Вам поцеловать его руку, и он соблаговолил согласиться, чтобы Вы приехали в Уайтхолл, когда он туда вернется».
Сигнальные ли экземпляры «Истории ветров» и «Истории жизни и смерти» помогли сократить путь — мы не знаем, но 20 января маркиз Бекингем привел Фрэнсиса Бэкона виконта Сент-Олбанса к его величеству для целования монаршей руки.
Будем надеяться, в интересах всех действующих лиц, что ветер в тот день дул северный.
Ему возвратили милость, появились надежды на будущее, которых не было уже много месяцев. Он не должен ожидать, что сможет теперь постоянно видеть монарха, но, во всяком случае, ему дали первую аудиенцию, а при добром расположении Бекингема, которое он вернул, он со временем добьется большего. Восемь книг «Da Augmentis Scientiarum» — латинское дополнение к «Усовершенствованию наук» — находились в типографии, а свои часы досуга он, помимо занятий другими трудами, мог посвящать теперь жизнеописанию Генриха VIII, достойному продолжению «Истории Генриха VII».
Однако жизнь в Бедфорд-Хаусе требовала больших расходов, а отбиваться от ее светлости было непросто. Денег по-прежнему катастрофически не хватало, выход, как ему казалось, был только один, если он хочет, помимо всего прочего, отстоять свою приватность. Он вернется в свою прежнюю квартиру в Грейз инне. Там у него будут под рукой все нужные ему книги, будут постоянно толпиться студенты, друзья станут заглядывать, когда им вздумается, на пороге старости он снова заживет той жизнью, которую так любил в молодости. Здесь ему знаком каждый уголок: вход через помещение суда, его комнаты наверху, мебель, которая до него принадлежала его отцу и его единокровным братьям, — всего этого у него не отберет ни один кредитор.
В Грейз инне его знали, любили и почитали, само его имя здесь стало легендой; а если ему захочется поставить на стол букет или вдохнуть аромат только что срезанных цветов, за ними не придется посылать в Горэмбери, ведь сад леди Хаттон совсем недалеко. Дом она продала герцогу Ленноксу, получив 2000 фунтов при заключении сделки с условием выплаты ей пожизненно по 1500 фунтов в год, но при этом мудро сохранила за собой комнаты над воротами и выход на балкон. Его сиятельство никогда не осмелится отказать ей в прогулках по саду. И стало быть, когда у Фрэнсиса появится желание, они смогут поболтать о былых временах, не вспоминая его соперника, ее супруга сэра Эдварда Коука, который вот уже год как сам был в немилости и даже отсидел сколько-то времени в Тауэре, но теперь его выпустили.
Их соперничество давно осталось в прошлом, можно было о нем забыть. Борьба за власть окончилась и для экс-лорда-канцлера, и для экс-лорда главного судьи. Их выступления в тайном совете — почти всегда с противоположных позиций — обратились в воспоминания. Сэр Эдвард, тоже ставший изгоем, жил сейчас у одной из своих замужних дочерей и, как и Фрэнсис, был обременен и своими собственными долгами, и долгами своей семьи. Ни один из них теперь не мог причинить другому зла.
Фрэнсис хотя бы мог следить за коллизиями политической игры благодаря своему осведомителю Тоби Мэтью, который приобретал все больший вес в дипломатических кругах и находился в тесном общении с испанским послом графом де Гондомаром и потому одним из первых рассказал Фрэнсису о том, что принц Уэльский и маркиз Бекингем задумали отправиться в Испанию инкогнито. Добравшись туда, они надеются заручиться поддержкой короля Филиппа для возвращения Рейнских и Пфальцских княжеств и в награду за поддержку заключить соглашение о браке между инфантой и принцем Уэльским. Словом, скрепить союз католической Испании и протестантской Англии.
Причиной секретности было соображение, что англичане подобного союза не желают. Парламент, распущенный год назад и продливший бюджет прошлого года, не предоставляя субсидию, так и не созвали, не сообщили ничего об этом внезапно возникшем плане и тайному совету. Принца Уэльского и его спутника Бекингема, в фальшивых бородах, переправили из Эссекса в Грейвзенд, а из Грейвзенда в Дувр, и 21 февраля 1623 года они отплыли; но тайна раскрылась. Согласно Джону Чемберлену, уже на следующее утро все только об этом и говорили, выражая сомнение в успехе подобного предприятия, которое скорее всего окажется слишком дорогостоящим и опасным.
Фрэнсис мог обсуждать, насколько удачна или неудачна эта затея, в личной беседе с Тоби Мэтью, но Бекингему он писал: «Хотя с отъездом Вашей светлости для меня настали печальные времена, я всей душой надеюсь, что Ваша благородная миссия принесет Вашей светлости величайший почет и в Европе, и в Англии и главное — преумножит несметные сокровища любви и доверия, которые питает к Вам наш превосходнейший принц; признаюсь Вашей светлости, я так несказанно этому рад, что не мог свою радость сдержать и не потревожить Вашу светлость этими короткими и торопливыми строками. Молю Вашу светлость великодушно снизойти к моей просьбе выразить его высочеству мое всепреданнейшее почтение, а также надежду, что он в скором времени позволит мне отложить в сторону короля Генриха Восьмого и приступить к описанию героических деяний его высочества». В записке к приближенным помощникам принца и Бекингема он писал: «Я, желая тишины и покоя, уединился в Грейз инне, ибо когда мои лучшие друзья так далеко, мне подобает отгородиться от мира. Да пошлет Господь всем нам Вашего доброго возвращения».
А что же ее светлость? Ни единого слова о ней с июля, когда она требовала причитающуюся ей половину суммы от продажи прав долгосрочной аренды Йорк-Хауса, а ведь сейчас уже февраль подходил к концу. Вряд ли можно винить ее за то, что общество ее собственного управляющего Джона Андерхилла было ей гораздо приятнее, чем обосновавшийся в Грейз инне супруг мог предположить и одобрить. Она получила свободу. А он возможность работать.
Вопрос в том, над чем именно работал Фрэнсис Бэкон зимой, весной и летом 1623 года и был ли посвящен в тайну Тоби Мэтью? В апреле Тоби отправился в Испанию вслед за принцем Уэльским и Бекингемом, взяв с собой письма своего друга и наставника к маркизу, к графу Бристолу (королевскому эмиссару) и к графу де Гондомару. Биограф Бэкона Спеддинг приводит в своем жизнеописании все три письма, но опускает — видимо, сочтя не заслуживающим интереса — письмо Тоби к Фрэнсису, которое было опубликовано в 1762 году в собрании Берча.
А в письме было написано вот что:
«Лорду виконту Сент-Олбансу
Мой благородный лорд!
Я получил великий драгоценный знак Вашего расположения ко мне 9 апреля и могу лишь смиреннейше выразить благодарность Вашей светлости, соблаговолившей посетить ничтожнейшего и недостойнейшего из Ваших слуг. Сердце мое ликует, ибо хотя меня нет в том месте, которое я почитаю своим домом (он, несомненно, говорит о своем пребывании под кровом Бедфорд-Хауса или Грейз инна), мне выпало счастье пользоваться благорасположением Вашей светлости, и я не боюсь спугнуть это счастье, ибо знаю, что Ваше благорасположение неизменно. Молюсь всем сердцем, чтобы мне снова было дозволено служить Вам в благодарность за него; но кто знает, если fortis imaginatio generat causam[40], то, может быть, такое же доступно и великим желаниям? Вы знаете, мое желание быть всегда полезным Вашей светлости; и, желая Вам столько счастья, сколько должно быть даровано человеку таких несравненных достоинств, я смиренно преклоняю голову перед Вашей светлостью.
Смиреннейший и благодарнейший слуга
Вашей светлости Тоби Мэтью.
Postscript. Величайший гений, которого родила не только моя страна, но и Европа, это Вы, Ваша светлость, но этого гения будут знать под другим именем».
Тут есть над чем задуматься. Какие записи личного характера, какие бумаги и рукописи Фрэнсис показывал Тоби Мэтью в Грейз инне? Может быть, Фрэнсис работал над чем-то, что собирался издать под чужим именем? Загадочный постскриптум не дает никаких ключей к разгадке. «De Augmentis Scientiarum» на латыни уже несколько месяцев как находился в наборе и будет напечатан в октябре с именем его автора, его экземпляры, как всегда, будут поднесены его величеству и принцу Уэльскому. История царствования Генриха VIII была лишь в набросках, всего несколько страниц. Фрэнсис так ее и не закончил; к тому же, когда священник Рэли опубликовал ее вместе с другими работами, на ней, как и на всех остальных, стояло имя автора — Фрэнсис Бэкон.
«Величайший гений… это Вы, Ваша светлость, но этого гения будут знать под другим именем».
«Комедии, исторические хроники и трагедии» мистера Уильяма Шекспира в одном томе были опубликованы в ноябре 1623 года, через месяц после выхода в свет «De Augmentis Scientiarum», и тоже находились в типографии больше полутора лет. Набирать их начали в январе 1622 года, но летом работа остановилась и потом продолжалась с осени целый год. В этой книге, которая стала известна как «Первое Фолио», было 934 страницы, всего напечатали около 1000 экземпляров, все до единого в типографии Уильяма и Айзека Джаггардов. Редакторами были коллеги-актеры покойного драматурга Джон Хеминг и Генри Конделл, причем Хеминг был также управляющим труппы и вложил большие деньги в театры «Блэкфрайерз» и «Глобус». Принято считать, что окончательное редактирование текста было поручено бухгалтеру «Труппы его величества» Эдварду Найту, но доказательств этому не существует. Из тридцати шести пьес, включенных в том, восемнадцать никогда раньше не издавались. Да, юс играли, но опять же нет никаких документальных подтверждений тому, что публика видела все эти восемнадцать пьес, и точно так же ни один шекспировед не утверждает, что актеры произносили текст слово в слово, играли сцену за сценой, как это напечатано в «Первом Фолио» в 1623 году. (Список этих восемнадцати пьес содержится в Приложении II.)
В том также были включены стихи Бена Джонсона и других авторов, посвященные покойному драматургу, обращение «К самым разным читателям» Джона Хеминга и Генри Конделла, а также перечень известных актеров, которые играли главных героев. Между прочим, Генри Конделл к этому времени уже давно оставил сцену и поселился в своем поместье в Фулеме по соседству с сэром Джоном Воном, в чьем доме опальный Фрэнсис Бэкон жил в 1621 году.
Можно было предположить, что «Первый Фолио» будет посвящен графу Саутгемптону, который, как известно, покровительствовал молодому Шекспиру, но его имя ни разу не упоминается. Том посвящен Уильяму Герберту, третьему графу Пембруку, и его брату Филиппу Герберту, графу Монтгомери. Уильям был в то время лордом-гофмейстером, через три года Филипп сменил его на этом посту.
Уильям Герберт был одним из членов палаты лордов, кто во время импичмента был настроен гораздо более доброжелательно по отношению к виконту Сент-Олбансу, чем остальные, и сохранилась памятная записка с выражением благодарности к нему за его «добрую память», написанная рукой секретаря Фрэнсиса, Томаса Мьютиза, и продиктованная его патроном: «Я счастлив выразить, как высоко я ценю миротворческое и благожелательное участие Вашей светлости в моем деле, и желаю, чтобы Ваша светлость, какие бы превратности ни уготовила Вам судьба, продолжали, к моей радости, благоденствовать и оставаться опорой в моей частной жизни и способствовать моему благополучию». Что касается его старшего брата, графа Монтгомери, то именно он устроил для леди Сент-Олбанс аудиенцию у маркиза Бекингема, и в бумагах Сент-Олбанса сохранилась запись, сделанная в том же году, но чуть позже, где говорится: «При дворе нет более честного человека, чем Монтгомери». Все трое, Фрэнсис Бэкон, Пембрук и Монтгомери, основали в 1609 году компании «Торговля с Виргинией» и «Торговля с Ньюфаундлендом» и вложили в них деньги; они знали друг друга много лет.
Любопытно, что решение издать сборник пьес — «Первый Фолио» — было принято в начале 1622 года, когда лорд-канцлер впал в немилость и его финансовое положение было на грани бедственного. Почему никто не сделал никаких попыток собрать и опубликовать все тридцать шесть пьес сразу после смерти Шекспира в апреле 1616 года? Почему надо было ждать семь лет? Хеминг и Конделл упоминают в своем обращении к читателям о «ходящих по рукам списках со множеством искажений, пропусков и добавлений, сделанных наглыми безграмотными мошенниками, которые переписывали пьесы»; стало быть, время от времени списки пьес распространялись, но вот теперь, в 1623 году, наконец-то появилось в продаже заслуживающее доверия подлинное издание пьес Шекспира.
Мы не будем здесь вступать в длинную и утомительную дискуссию относительно того, был Уильям Шекспир или не был автором всех тридцати шести пьес, опубликованных под его именем в «Первом Фолио». Ни первоначальных рукописей, ни набросков, ни суфлерских экземпляров найдено не было. Однако высказывались предположения, что какие-то из тем, сюжетов, сцен и монологов могли быть предложены другими лицами и потом облечены в необходимую для представления на сцене форму актером-драматургом.
В 1594 году Энтони Бэкон жил в Бишопсгейте, неподалеку от Булл инна, где шли театральные представления; Уильям Шакспер жил в том же церковном приходе и играл на сцене вместе с Ричардом Бербеджем и актерами «Труппы лорда-гофмейстера». Двадцать восьмого декабря того же 1594 года в Грейз инне играли «Комедию ошибок». Существует и еще одно предположение, что начиная с этого времени Энтони и Фрэнсис, а может быть, и не только они, сотрудничали с актером-драматургом в работе над некоторыми из ранних пьес, которые были изданы in quarto, и потом, после казни Эссекса, смерти Энтони и восшествия на престол нового монарха, Фрэнсис Бэкон это сотрудничество продолжил. Анонимность устраивала обоих: Уильяму Шаксперу доставались деньги и успех у публики, а ученый советник и политический деятель предпочитал, чтобы его знали как философа и писателя.
Любопытно, что хотя пьесы Уильяма Шакспера часто играли при дворе, сам он никогда не был официально представлен их величествам королю Якову и королеве Анне, в отличие от своего современника Бена Джонсона, и что после 1612 года, когда он удалился на покой в свой родной Стратфорд-на-Эйвоне незадолго до того, как Фрэнсису Бэкону стать генеральным прокурором, из-под его пера не вышло ни одной новой пьесы.
Четыре года спустя Уильям Шакспер умер, оставив длинное и подробное завещание, касающееся исключительно его имущества и того, что именно каждый из членов семьи должен унаследовать, там не было ни единого слова о том, что ему полагаются какие-либо отчисления от пьес, издаваемых под его именем. Причина заключалась в том, что все авторские права принадлежали «Труппе его величества» и издателям пьес, вышедших в свет в томе in quarto. Коллегам-актерам Джону Хемингу, Ричарду Бербеджу и Генри Конделлу он завещал по двадцать пять фунтов, чтобы они «купили себе перстни».
Эти пьесы, изумляющие разнообразием жанров и необычайной психологической глубиной, получили признание во всем мире только в последующие столетия, в особенности же за последние сто пятьдесят лет и тем более в наше время, когда мы можем смотреть их не только на сцене, но и на экране телевизора у себя дома. Считается, что сейчас существует 238 экземпляров «Первого Фолио». В 1623 году книгу продавали за один фунт, в 1923 году один книготорговец купил экземпляр «Первого Фолио» за 25 000 фунтов. В 1975 году этот том наверняка будет стоить четверть миллиона. Джон Чемберлен, хотя бы попытавшийся читать философские труды Фрэнсиса Бэкона на латыни и высоко оценивший его «Историю короля Генриха VII», вряд ли отозвался бы с похвалой о пьесах Уильяма Шекспира. В его письмах нет ни одного слова о выходе в свет «Первого Фолио». «Величайший гений, которого родила моя страна…»
Находящийся в Мадриде Тоби Мэтью «чрезвычайно похудел и стал почти прозрачным», — писал 29 мая из Испании маркиз — теперь уже герцог Бекингем — Фрэнсису, благодаря его за «сердечные поздравления в связи с высокой честью и великой милостью, которые его величество оказал мне». Переговоры по поводу королевского брака проходили, судя по всему, успешно, и летом 1623 года Тоби Мэтью и его наставник виконт Сент-Олбанс постоянно обменивались письмами, но тема «величайшего гения» в них не развивалась, и даже если Фрэнсис как-то отозвался на постскриптум к письму Тоби, осторожный дипломат этот отзыв уничтожил.
В конце июня Фрэнсис, все еще живший в Грейз инне, сообщил своему другу в Мадрид, что оттачивает эссе, они «хорошо переведены на латынь искусными перьями, которые по-прежнему преданы мне. Ведь все эти современные языки рано или поздно компрометируют книги, а поскольку я потерял много времени в своей земной жизни, я буду счастлив, если Господь позволит мне обрести потерянное в потомках.
Теперь что касается эссе о дружбе; я счел Ваши слова о нем простой любезностью и дал обещание написать его в знак благодарности за любезность. Но поскольку Вы спрашиваете о нем, я непременно выполню свое обещание».
Бэконовское эссе «О дружбе», переработанное и расширенное на основе первоначальной версии, стало одним из самых известных, оно тем более интересно, что вдохновил Фрэнсиса написать его Тоби Мэтью.
«Вы можете принять корень сарсапариллы, чтобы освободить печень; железо, чтобы освободить селезенку; серный цвет для легких; бобровую струю для мозга, однако ни одно средство так не облегчает сердца, как истинный друг, с которым можно поделиться горем, радостью, опасениями, надеждами, подозрениями, намерениями и всем, что лежит на сердце и угнетает его, своего рода гражданской исповедью или признанием… Но совершенно очевидно, что если у кого-то ум занят множеством мыслей, то его разум и понимание поистине проясняются и раскрываются в беседах и рассуждениях с другим человеком; он легче разбирает свои мысли, он располагает их в более стройном порядке, он видит, как они выглядят, когда облекаются в слова; наконец, он становится мудрее самого себя и за один час рассуждения вслух достигает большего, чем за целый день размышлений… Я предлагаю следующее правило на тот случай, когда человек не может подобающим образом сыграть свою собственную роль: если у него нет друга, он может сразу покинуть сцену».
Может ли человек желать лучшей награды, чем эта?
Возможно, летом 1623 года Фрэнсис и в самом деле принимал корень сарсапариллы, леча печень, и серный цвет, леча легкие, потому что 29 августа он писал герцогу Бекингему, прося прощения за то, что промедлил с письмом: «Признаюсь Вашей светлости, я был болен… и при этом одновременно отбивался от двух напастей — от своей собственной болезни и от своих собственных докторов с их чудачествами. Из письма мистера Мэтью я понял, что Ваше сиятельство помнит обо мне, чему я несказанно счастлив, и что я буду первым, кого Вы пожелаете видеть по возвращении в Англию, за что я смиренно целую Ваши руки».
Письмо написано из Грейз инна, из чего мы можем заключить, что он оставался там во все время своей болезни и в Горэмбери не ездил ни разу. Возвратившихся в октябре из Испании принца Уэльского и герцога Бекингема ожидали экземпляры «De Augmentis Scientiarum» — в переводе на латынь — и дополнения к «Усовершенствованию наук»; Фрэнсис, оправившийся к этому времени от своей болезни, надеялся, что Бекингем выхлопочет для него должность ректора Итон-колледжа. Должность эта была вакантна с апреля, со смерти бывшего его ректора, и хотя Фрэнсис сразу же предложил свою кандидатуру, первый министр сэр Эдвард Конуэй не смог дать ему твердого обещания. Если герцог замолвит за него словечко перед королем, дело, бесспорно, решится в его пользу. Фрэнсиса никогда не покидало желание формировать умы будущих поколений, обучать молодых людей, которые однажды, по праву рождения и воспитания, займут высокие посты в парламенте и в правительстве; к тому же Итон находился недалеко от Виндзорского замка, что может оказаться полезным. К сожалению, герцог уже обещал этот пост другому — его в конце концов получил сэр Генри Уоттон, — и Итон-колледж лишился ректора, которого считали «величайшим гением, которого родила Европа».
Каких же успехов за все это время добились герцог Бекингем и принц Уэльский в Испании? Не слишком больших, если судить по сведениям, которые сообщал Джон Чемберлен Дадли Карлтону. Сначала Англия ликовала. На улицы выкатили огромные бочки и вынесли бурдюки с вином, повсюду жгли костры; когда принц и маркиз прибыли в Ройстон, его величество заключил их в объятия и все зарыдали. Но вот празднества кончились, и «наши придворные, а также особы, которые ездили в Испанию, начали с возмущением рассказывать, как негостеприимно их встретили в Испании, — сообщал Чемберлен в середине октября Дадли Карлтону, — они не видели ничего, кроме грубости, невежества, скупости, чванливой нищеты и прочих проявлений неуважения… и хотя все считали, что испанцы и мы должны жить в мире и все больше сближаться, однако на самом деле никогда еще между нами не было так мало общего и так много взаимного недружелюбия…»
Джона Чемберлена чрезвычайно раздосадовало, что в Ройстоне Тоби Мэтью возвели в рыцарское достоинство — «одному Богу известно, за какие заслуги». За поддержание мира между высшими сановниками испанского двора и их английскими гостями, как можно догадаться, потому что очень скоро стало известно, что герцог Бекингем поссорился с испанским послом графом де Гондомаром и вернулся из Испании противником союзного договора с ней. Фрэнсис, конечно, узнал об этом лично от Тоби Мэтью, как и о возможном созыве парламента. Он больше не был ни членом тайного совета, ни членом палаты лордов, но ему так хотелось высказать свое мнение, ведь нынешнее настроение в высоких кругах способствовало усилению оппозиционных фракций, и даже сама власть герцога могла пошатнуться. Он должен написать его сиятельству письмо с наставлениями, но сначала следует набросать вкратце то, о чем он хочет ему сказать.
«В нашей стране есть три основные разновидности людей. Это партия папистов, которая Вас ненавидит; партия протестантов, включающая тех, кто называет себя пуританами, их любовь к Вам еще не окрепла; и особая партия высокопоставленных особ, которая, по сути, состоит из заключивших перемирие врагов и готовых поссориться друзей… Нужно сохранять беспристрастность… держаться от всех на достойном расстоянии и вести свою собственную игру, показывая, что у Вас, как у пчелы, есть не только мед, но и жало… Вы выступаете отважно, но, мне кажется, Вы не собрали свои войска… Если случится война, необходимо сразу же объединиться с Францией… И самое главное, обеспечить безопасность Ирландии… потому что болезнь всегда поражает самый слабый орган… Вы хорошо играете в шары, только не надо замахиваться со слишком высокой позиции. Вы знаете, что хороший игрок пригибает колени чуть ли не к земле, посылая шар. Я не сомневаюсь, король поймает Испанию на крючок и заложит фундамент величия для своих детей здесь, на Западе. Мое же призвание — науки… Мне не дано с легкостью преодолевать трудности».
Он писал и не мог остановиться, и, читая эти советы, мы восхищаемся Фрэнсисом Бэконом, экс-лордом-канцлером, чей ум устремлялся в будущее, к союзу с Францией, а не к договору с Испанией, и каждую минуту помнил, что католическая Ирландия может стать добычей испанских захватчиков. После того, как он привел свои мысли в порядок, можно было выработать ясную установку. Только от одного пункта он отказался: «Предложить свои услуги для поездки во Францию». Он перенес болезнь и еще не совсем оправился, ему скоро исполнится шестьдесят три года, но если он все еще может послужить королю и своей стране, он готов, несмотря на унижения и стыд, которые он пережил, попав в опалу.
Созыв парламента был назначен на февраль нового, 1624 года, обеим палатам будет сообщено о последних событиях, касающихся переговоров с Испанией о заключении мира и о брачном контракте. Согласно вынесенному Фрэнсису приговору он не имел права заседать в палате лордов; однако почему бы ему не набросать тезисы речи, которую он бы произнес, если бы присутствовал на открытии сессии, и более того — составить пространный документ под названием «Соображения касательно войны с Испанией», который он адресовал лично принцу Уэльскому и который начинался словами: «Ваше высочество носит имя великих императоров. Карл превратил Францию в империю, Карл же сделал империей Испанию; не пора ли и Великобритании стать империей?»
Этот документ был расширенной и детально проработанной версией трактата на ту же тему, который Бэкон написал в 1619 году, когда еще был высоко во власти, и здесь мы опять видим, что Фрэнсис, почти всю свою жизнь проявлявший миролюбивые взгляды, на склоне лет выступает в роли «ястреба», ясно понимая, что объединенные силы Великобритании, Франции и Нидерландов способны разбить и победить армию и флот Испании. Он сравнил соотношение сил Англии и Испании в 1588 году, когда была построена и уничтожена «Непобедимая Армада», с 1623 годом и удивительно точно определил, насколько оно изменилось в пользу Англии и ее ближайших соседей: любой военачальник, командующий ли флотом или армией, который прочел тогда этот документ — если кто-то из них его прочел, — без сомнения, должен был почувствовать уважение (как почувствовал бы и его нынешний полководец) к человеку, который выразил такие чувства:
«О доблести я не говорю; примем ее доказательства как нечто само собой разумеющееся, но вспомним пословицу, что доблесть испанца в глазах смотрящего на него, а доблесть англичанина в сердце солдата». И далее он делает блестящий выпад в сторону «голубей», которые протестовали против каких бы то ни было выступлений, называя их «схоластами, вообще-то очень достойными людьми, но более способными держать в руках гусиные перья, чем мечи».
Он предложил, чтобы палата общин назначила специальную комиссию, предоставив ей право запрашивать сведения и советы от любых военных и гражданских лиц, не входящих в состав палаты общин, но стоит ли упоминать, что к его рекомендации никто не прислушался. Мы ведь на самом деле не знаем, видел ли тогда этот документ принц Уэльский или еще кто-то из высших сановников. Как бы там ни было, переговоры о брачном союзе были прерваны — вероятно, по желанию обеих сторон, и когда парламент собрался в феврале 1624 года, было отмечено, что принц Уэльский присутствовал на его заседаниях каждый день. Возможно, он все-таки прочел документ виконта Сент-Олбанса. Когда парламент проголосовал за прекращение переговоров о брачном союзе и за сбор средств для поддержки графа-палатина, Англия ликовала, на улицах снова жгли костры. Фрэнсис Бэкон, как говорили, внес в фонд уличного веселья четыре дюжины вязанок хвороста и двенадцать галлонов вина. Может быть, силу и влияние он утратил, но во всеобщей радости участвовать готов, и пусть кредиторы идут ко всем чертям.
«Мы отплыли из Перу, где пробыли целый год, взяв с собой провизии на двенадцать месяцев; путь наш лежал в сторону Китая и Японии через Южно-Китайское море; дул попутный восточный ветер, хотя и очень слабый, и так продолжалось больше пяти месяцев. Но потом ветер переменился на западный, и несколько дней мы почти не продвигались вперед, порой нам даже хотелось повернуть обратно. Но потом поднялся сильный южный ветер, вернее юго-юго-восточный… мы оказались среди разъяренной водной стихии, без еды, и поняли, что погибли, и приготовились к смерти».
Что это? Девятнадцатый век, Роберт Льюис Стивенсон, начало одного из его морских романов? Ничуть не бывало. Это первые строки «Новой Атлантиды», фантастической утопии, которую Фрэнсис начал писать в 1624 году и так и не закончил. Но читаем дальше:
«И так случилось, что на следующий день ближе к вечеру мы увидели… словно бы плотные кучевые облака, это внушило нам некоторую надежду, что поблизости земля; мы знали, что эта часть Южного моря совершенно не исследована и что здесь могут находиться острова и континенты, еще не открытые европейцами… Через полтора часа мы вошли в просторную гавань, которая была портом прекрасного города… но мы сразу же увидели группы людей с дубинками в руках, казалось, они не желают позволить нам сойти на берег, однако никаких угроз не слышалось… К нам направилась небольшая лодка, в ней сидело человек семь или восемь; у одного из них в руках был желтый деревянный жезл с синими наконечниками, человек этот без малейших признаков опасения поднялся на борт нашего судна… Достал небольшой пергаментный свиток… на этом свитке были написаны на древнееврейском языке, на древнегреческом, на прекрасной классической латыни и на испанском языке следующие слова: „Ни один из вас не сойдет на землю; и не далее чем через шестнадцать дней вы должны отплыть от этого берега, если только вам не будет позволено остаться дольше. А пока, если вам нужна пресная вода, еда, помощь больным и если ваш корабль нуждается в починке, напишите все, что вам необходимо, и вы получите все, на что способно милосердие“. Внизу была печать в виде крыльев херувима, но не раскрытых в полете, а сложенных, и рядом с ними крест… Часа через три после того, как мы послали наш ответ, появился человек — судя по всему, местный житель. На нем было одеяние, похожее на плащ с широкими рукавами из непромокаемого камлота[41] дивного голубого цвета, гораздо более красивое и нарядное, чем наша одежда; зеленый камзол и зеленый головной убор, похожий на тюрбан, аккуратно свернутый и не такой большой, как у турок; из-под него выбивались пряди волос».
После того как вся команда корабля поклялась, что они не пираты, что за последние сорок дней не пролили ни капли крови и что все без исключения христиане, людям разрешили сойти на берег на следующий день и взять с собой больных. Они все исполнили, и на суше их отвели в просторный дом, построенный из синеватого кирпича, дом назывался «Приют чужестранцев». Здесь им позволили отдыхать в течение трех дней, принесли еду и питье, такие освежающие и укрепляющие, каких никто из них не пробовал в Европе, а также пилюли, чтобы ускорить выздоровление больных. По прошествии трех дней к ним пришел управляющий «Приютом чужестранцев» и рассказал, что он христианский священник, а поскольку его гости тоже христиане, он ответит на их вопросы, потому что правительство дало им разрешение провести шесть недель на острове, который называется Бенсалем.
И вот, разговаривая с ним каждый день, офицеры судовой команды, которых было шестеро, узнали удивительную историю острова. Узнали, что три тысячи лет назад Бенсалем хоть и был островом, но представлял собой часть огромного континента, именуемого Атлантидой и имел множество судов, которые плавали по всему миру. Вот почему они знают древнееврейский, древнегреческий и латынь. Но произошла катастрофа. Гигантская волна нахлынула на континент и погребла под собой все города и почти всех жителей, те немногие, кому удалось спастись, за несколько столетий одичали чуть ли не до первобытного состояния, и то, что осталось от некогда гордого и могучего континента, сейчас называется Америкой.
Остров же Бенсалем остался невредим во время катастрофы благодаря защите Всевышнего и святого апостола Варфоломея, и это позволило жителям острова и их потомкам сохранять все эти долгие века свои знания и мудрость, исповедуя христианскую веру и следуя обычаям; их король и правитель, которого они называли Соломона, установил порядок в обществе, получивший название «Храм Соломона», и посвятил себя изучению деяний Господа и его созданий.
Изолированные от всего остального мира, островитяне таким образом избежали пагубного влияния со стороны, но некоторым братьям «Храма Соломона» было позволено путешествовать по миру, не раскрывая своего имени, общаться с людьми разных стран и, возвращаясь, рассказывать об открытиях в науках, искусствах, в производствах, о новых изобретениях, чтобы вводить все эти новшества на своем собственном острове; но благодаря своей отрезанности от остального мира в этих неизведанных водах Тихого океана и образу жизни, который они вели, им удалось уберечь свои собственные открытия от алчности людей, желающих все прибрать к своим рукам.
Гостям Бенсалема позволили гулять по городу и его окрестностям и осматривать все, что захочется. «Теперь мы чувствовали себя свободными людьми, — повествует рассказчик „Новой Атлантиды“, — и жизнь наша была наполнена радостью… мы знакомились со многими жителями города, которые приняли нас с таким открытым сердцем, оказали нам столько доброты и предоставили столько свободы, что мы готовы были забыть обо всем, чем дорожили у себя на родине; и к тому же мы постоянно встречались с вещами, достойными внимания и описания, и если бы в мире существовало зеркало, чтобы показать людям достойную страну, то это оказалась бы здешняя страна».
Когда рассказчику позволяют встретиться с одним из Отцов Храма Соломона и тот посвящает его в тайны ведущихся на острове работ, мы словно переносимся из приключенческого романа девятнадцатого века в научно-фантастический роман двадцатого.
«Пещеры… глубиной шестьсот саженей… Эти пещеры мы называем Нижним уровнем. И мы их используем для коагуляции, отвердевания, замораживания и консервации тел… а также для производства новых искусственных металлов… иногда мы к тому же используем их для лечения некоторых болезней и для увеличения продолжительности жизни… У нас также много разнообразных удобрений, которые мы вносим в почву, чтобы сделать ее более плодородной.
У нас есть высокие башни… и их мы называем Верхним уровнем… С этих башен мы ведем наблюдения за атмосферными явлениями: за ветром, дождем, снегом, градом; а также за метеорами…
У нас также есть немало искусственных колодцев… камеры здоровья… сады, где мы прививаем растения всеми известными нам способами… парки и вольеры для разнообразных животных и птиц… на них мы испытываем яды и различные лекарства… оживляем тех, кто, как нам кажется, умер…
Мы умеем создать высокую температуру, сравнимую с температурой Солнца и других небесных тел… Приборы, которые генерируют тепло всего лишь с помощью движения… приборы, которые позволяют видеть близкие предметы словно бы удаленными на большое расстояние… и далекие предметы, словно они находятся рядом… У нас также есть хранилища звуков… и мы умеем передавать звуки по каналам из труб разных размеров на далекие расстояния… Лаборатории, где механизмы вырабатывают такую скорость, которая вам неизвестна… и обладают такой разрушительной силой, которая во много раз превосходит ваши самые совершенные пушки и мортиры… Мы также научились имитировать полет птиц и умеем летать по воздуху; у нас есть суда, которые могут опускаться под воду и плавать на глубине…
У нас есть лаборатории, где можно обманывать чувства с помощью искуснейших трюков, создавая разные призраки, привидения и вообще видимость вещей, которые на самом деле не существуют. Вот, сын мой, некоторые из богатств, которыми обладает Храм Соломона».
Простого читателя, не ученого и не историка, который тем не менее прочел «Усовершенствование наук» и другие переведенные с латыни труды Фрэнсиса не только без напряжения, но даже и с удовольствием, «Новая Атлантида» в очередной раз и поразит, и взволнует, потому что до сих пор Фрэнсис Бэкон не писал ничего подобного. Мы уже вспоминали приключенческие романы девятнадцатого века Роберта Льюиса Стивенсона, добавим еще имена Жюля Верна и Герберта Уэллса; но все эти писатели близки к нам по времени, а автора «Новой Атлантиды» отделяет от них два с половиной столетия.
Какие источники его питали, у кого он черпал вдохновение? Без сомнения, стиль и описание начала путешествия приводят на память «Судовождение, судоходство, морские путешествия и открытия Великобритании» Ричарда Хэклута, впервые опубликованные в 1589 году и потом переиздававшиеся в 1598, в 1599 и 1600 годах. Жадно поглощавший все интересное, Фрэнсис, конечно же, прочел сочинение Хэклута еще молодым барристером в Грейз инне и, конечно же, сделал из него выписки. Более того, Ричард Хэклут, как и Фрэнсис, владел акциями компании «Торговля с Виргинией»; и, несомненно, они знали друг друга лично.
Еще одной знаменитостью при дворе Елизаветы того времени был доктор Джон Ди — астролог, математик и алхимик, он был страстно увлечен идеей открытия водного пути на Дальний Восток через Арктику, но позднее, уже в Богемии, он стал членом мистического общества Розенкрейцеров, которое распространило свое учение по всей Германии — «братство жаждущих познания и просвещения», его тайные члены именовали себя «братьями Розы и Креста». Их манифесты — «Fama» (на немецком) и «Confessio» (на латыни) — были опубликованы в 1615 году, и Фрэнсис Бэкон, без сомнения, читал последний и знал о братстве розенкрейцеров. Поражает сходство между «Храмом Соломона» в «Новой Атлантиде» и учением «Розенкрейцеров»; Фрэнсис Йейтс, автор «Розенкрейцерского просвещения», считал, что Фрэнсис Бэкон положил в основу своей утопии манифест братства, но сам не был его членом. Нет никаких доказательств и тому, что он входил в какое бы то ни было другое тайное или мистическое общество.
В «Новой Атлантиде» Бэкон развил в жанре утопии мечту об идеальном устройстве общества будущего, которая преследовала его всю его жизнь. Много лет тому назад, еще в 1595 году, когда он, молодой барристер, участвовал в написании сценариев для праздничных представлений в Грейз инне, пьеса «Gesta Grayorum» была посвящена той же теме: орден «Рыцарей шлема» живет в соответствии с правилами, очень похожими на те, что установили для себя братья «Храма Соломона». Однако он был уверен, что мир, о котором он мечтал, возможно построить не благодаря новому устройству общества, а благодаря новому пониманию роли естественных наук, и мы видим, как неуклонно он развивает эту мысль в последующие годы в «Cogitata et Visa» и в «Усовершенствовании наук». Потому-то он и хотел стать вице-канцлером университета — но так никогда и не стал, — а если не вице-канцлером университета, то хотя бы деканом колледжа, ну на крайний случай ректором Итона, но и в этом ему было отказано. Студентами, учеными нужно руководить в их исследованиях. Нужно изучить все, что есть на небе, на земле и под землей. Но никто его не слышал. Никого это не интересовало.
Что ж, нет так нет. Он напишет утопию, напишет по-английски: об острове в Тихом океане, с пещерами и башнями, где оборудованы лаборатории, а мудрый Отец «Храма Соломона» — это он сам, Фрэнсис, тот, кем он мог бы стать, не маг Просперо из «Бури» с волшебной палочкой и сонмом повинующихся ему духов, а глава научного учреждения, где рядом с ним трудятся влюбленные в науку люди.
Сказка всего в тридцать страниц, он не дописал ее, отложил в сторону. Опубликовал ее уже священник Рэли через год после смерти Фрэнсиса, с предисловием, в котором он обращался к читателю с такими словами: «Милорд сочинил эту сказку, желая показать на примере „Храма Соломона“ или колледжа Шести Дней Творения модель или, если угодно, идеальный образец научного учреждения, в котором ученые исследуют природу и делают великие и замечательные открытия для блага человечества. Так случилось, что его светлость завершил только одну часть. Разумеется, его замысел так грандиозен, что полностью воплотить его в жизнь невозможно, однако многое из того, что в нем заключено, доступно силам человека. Его светлость хотел также в этой сказке предложить свод законов, которые бы обеспечили стране наибольшее благосостояние и благополучие; однако он понимал, что это будет долгая работа, а желание составить „Естественную историю“ отвлекло его, потому что это сочинение интересовало его гораздо больше…».
Возможно, сказалось и разочарование. В апреле стало известно, что новым ректором Итона скорее всего назначат сэра Генри Уоттона, и в середине лета назначение было утверждено; итак, Фрэнсису не суждено встречать во дворе колледжа «школьника с книжной сумкой, с лицом румяным, нехотя, улиткой ползущего в школу»[42] и формировать из него ученого мужа. Придется ему довольствоваться студентами-правоведами Грейз инна и множеством помощников-секретарей, которые так его любили.
Как раз в это время, в середине лета 1624 года, Фрэнсис опять заболел, как и год назад, и его помощники, сидя у его постели, записали под его диктовку 280 апофегм, или кратких поучительных историй, анекдотов, которые он собрал за свою жизнь. Больного это занятие не утомляло, потому что он прекрасно помнил все эти истории, а вот для помощников оно, возможно, оказалось немалым испытанием. Как и следовало ожидать от «величайшего гения Европы», многие из этих анекдотов проникнуты острым чувством юмора. Фрэнсис собрал апофегмы из самых разных источников: из античной литературы, из истории, из современной ему жизни, какие-то принадлежат самой королеве Елизавете, две-три его отцу. Вот что может прийтись по вкусу нынешнему читателю:
«Одному высокому сановнику во Франции грозило смещение с поста, но жена похлопотала за него, и все уладилось, после чего один шутник заметил: „Ну да, он был на волосок от гибели, но спасся, отрастив рога“».
«В Риме жил молодой человек, очень похожий на императора Августа. Август об этом узнал, велел привести к себе молодого человека и спросил: „Ваша матушка никогда не бывала в Риме?“ Тот ответил: „Нет, цезарь. А вот батюшка бывал“».
«Александр любил повторять: „Две вещи убеждают нас в том, что мы смертны, — сон и страсть“».
«Когда к сэру Эдварду Коуку приходила к обеду какая-нибудь высокопоставленная особа, не известив его заранее, он имел обыкновение говорить ей: „Что ж, поскольку вы не сообщили мне, что придете, вы будете обедать со мной; но если бы я узнал об этом заранее, то это я обедал бы с вами“».
«Один джентльмен однажды приехал на турнир с головы до ног в оранжевом и выступил очень неудачно. На следующий день он приехал в зеленом и выступил еще хуже. Один из зрителей спросил своего соседа: „Интересно, зачем этот джентльмен выступает в одежде разных цветов?“ На что другой ему ответил: „Как зачем? Чтобы все говорили, что джентльмен в зеленом выступил хуже, чем джентльмен в оранжевом“».
«Тайный совет убеждал королеву Елизавету, что против ее жизни постоянно плетутся заговоры, в особенности их пугал последний… по каковому поводу они советовали ей отказаться от прогулок на свежем воздухе без надежной охраны, что она имеет обыкновение делать. На это королева ответила, что лучше умереть, чем жить в заточении».
Джеймс Спеддинг считал, что Фрэнсис опубликовал свои апофегмы, потому что был в долгу и у издателя, и у типографии, и это вполне могло соответствовать действительности, ведь его долги росли и росли, как всегда. Мы не знаем, кто из «досужих помощников» усмехавшегося больного записал эти анекдоты, но вряд ли это был священник Рэли, тот явно предпочел бы другой тоненький сборник, который вышел в это же время — «Стихотворные переводы некоторых псалмов на английский язык», — посвященный Бэконом поэту Джорджу Герберту, «хилый плод моей болезни».
Интересно, а как отнесся бы ко всему этому Тоби Мэтью? В обоих книжицах не ощущается присутствия не только «величайшего гения», но хотя бы даже таланта. Может быть, Фрэнсис разбирал пожелтевшие страницы с душевными излияниями своей матери, покойной леди Бэкон, и, кое-где подправив их, решил напечатать вместе с апофегмами?
Каковы бы ни были причины, побудившие Фрэнсиса Бэкона напечатать апофегмы и псалмы, несомненно одно: он тяжело болел все лето и осень, как и многие другие тогда, и взрослые и дети. Джон Чемберлен писал в сентябре из Лондона: «У нас эпидемия, хотя никто этого не признает. За последнюю неделю умерло 407 человек, из них 150 дети, и почти все от сыпного тифа, который свирепствует не только в Лондоне, но и по всей стране». Он называет несколько имен умерших и заболевших, среди последних упомянут и лорд Сент-Олбанс.
В письме, посланном Дадли Карлтону за границу три месяца спустя, перед самым Рождеством, он сообщает о публикации апофегм Фрэнсиса: «…только что вышли на этой неделе, но успеха никакого, все говорят, что его ум и талант иссякли; он также перевел в стихах несколько псалмов, видно, на старости лет сделался святошей; Вы получите и апофегмы, и псалмы, если я найду, с кем их послать».
В своих немногочисленных письмах, которые Фрэнсис писал осенью, он ни разу не упомянул про сыпной тиф, но герцогу Бекингему жаловался на «болотную лихорадку», которая не менее мучительна и опасна. Он все еще не получил официального помилования, которого так добивался, и нет никаких подтверждений, что ему выплатили пенсию. Летом Фрэнсис узнал, испытав при этом смешанные чувства и ощутив иронию происходящего, что лорда-казначея Крэнфилда, первого графа Миддлсекса, который стал владельцем Йорк-Хауса, обвинили в злоупотреблениях и заключили в Тауэр, сместив со всех должностей и наложив на него огромный штраф, и потом сослали в его имение, как три года назад сослали его, Фрэнсиса. В те времена мало кому из государственных деятелей удавалось не сорваться с извилистой тропы, которая ведет к вершинам власти.
И все равно, хотя виконт Сент-Олбанс больше не принимал участия в управлении государством, его совет относительно союза с Францией не пропал даром, и, без сомнения, он в очередной раз иронически усмехнулся, когда узнал в ноябре 1624 года, что переговоры о браке принца Уэльского и принцессы Генриетты Марии, дочери короля Людовика XII, близятся к успешному завершению. Планировалось, что в начале января нового, 1625 года герцог Бекингем переплывет Ла-Манш со свитой пэров и привезет принцессу в Англию.
А вот к совету Бэкона посоветоваться с высшими военными властями прежде, чем посылать британские войска для возвращения Рейнских и Пфальцских княжеств, к сожалению, никто не прислушался. В Голландию были отправлены 12 000 солдат из шотландских и британских полков для участия в совместных действиях с графом Мансфельдом, но ясных и четких приказов они не получили, а командиры оказались на редкость бездарны. Английские солдаты до такой степени разложились, что на своем пути грабили и разоряли все вокруг, как будто «это была вражеская территория», вынужден был сообщить Джон Чемберлен. «Мы слышали, что они уже устроили бунт, так что граф Мансфельд не решается к ним выйти». Позднее половина солдат поумирала от болезней и голода. Очевидно, что никто не позаботился о снабжении войска продовольствием и боеприпасами, и операция кончилась позорным поражением.
Год начался неудачно, и в феврале Джон Чемберлен выразил мнение всех своих соотечественников, обращаясь к своему постоянному корреспонденту Дадли Карлтону: «Было время, когда такое войско, как мы послали в те края, за шесть — восемь месяцев одержало бы немало побед и заставило заговорить о себе весь мир, и я не понимаю, как случилось, что наша страна, почитавшаяся самой сильной военной державой, опустилась ниже слабейшей, так что теперь самые презренные трусы смеют глумиться над нами и попирать нас».
Двадцать пятого мая король Яков слег после охоты в Теоболдзе. Он уже давно страдал от обострения подагры и, возможно, артрита, и его врачи не сразу поняли, что положение серьезное. Ему становилось все хуже и хуже, он не мог говорить — возможно, это были последствия инсульта, — и через три недели, 27 марта 1625 года, он умер в возрасте пятидесяти восьми лет. Его тело перевезли в Лондон и выставили для торжественного прощания в Денмарк-Хаусе, а 7 мая состоялись «поистине самые пышные из всех похорон, какие устраивала своим королям Англия», и король Яков I Английский, он же Яков VI Шотландский, упокоился в Вестминстерском аббатстве, в часовне короля Генриха VII.
Его сын, вступивший после него на престол как король Карл I, сочетался по доверенности браком с принцессой Генриеттой Марией 1 мая, но ему пришлось ждать встречи с невестой полтора месяца, она состоялась лишь 13 июня в Кентербери.
«Говорят, королева привезла с собой свиту таких невзрачных придворных дам, что, кроме нее и герцогини де Шеврёз, глаз остановить не на ком, да и то герцогиня хоть хороша собой, но неумеренно красится», — писал Джон Чемберлен. Герцог Бекингем устроил в честь новобрачных роскошный прием в Йорк-Хаусе, но ни его величество, ни ее величество не смогли прибыть по причине недомогания. Мы не знаем, достаточно ли хорошо чувствовал себя Фрэнсис Бэкон, чтобы присутствовать на приеме и вкусить от обильных яств, которыми потчевали гостей в его бывшем доме. За ужином подавали шестифутового осетра, который был выловлен нынче же утром.
Новый король созвал свой первый парламент 18 июня. Его речь была краткой. Он сказал членам парламента, что они «втянули его в войну и потому должны изыскать средства, чтобы ее продолжать». Средств не изыскали. Его отец, «самый умный дурак во всем христианском мире», так и не сумевший завоевать сердца своих подданных, возможно, нашел бы более дипломатичный способ решить эту проблему и заслужить всеобщее одобрение. Король Карл не обладал таким счастливым талантом. Так началось царствование этого злосчастного монарха, которому было суждено умереть на плахе в 1649 году. На престол он взошел двадцати четырех лет от роду.
Все лето 1625 года в Лондоне свирепствовала чума. Все, кто только мог, уехали из города. Нам неизвестно, покинул ли Фрэнсис Бэкон свою квартиру в Грейз инне весной или в начале лета и переселился ли в Верулам-Хаус в Горэмбери, потому что его корреспонденция за шесть месяцев, с декабря 1624 года по июнь 1625-го, не сохранилась. Трудно предположить, чтобы он не откликнулся на смерть короля Якова в марте и на брак короля Карла и его восшествие на трон; разве что сам он в это время был тяжело болен. Как бы там ни было, ни его писем, ни писем к нему до нас не дошло.
В июне, как раз перед тем, как новой королеве Англии Генриетте Марии отправиться из Франции к своему супругу, Тоби Мэтью находился, судя по всему, в Булони, потому что он в письме к герцогу Бекингему с восхищением описывал ее красоту, хотя год назад точно так же восхищался красотой инфанты. Он, без сомнения, так же часто писал своему близкому другу в Горэмбери, хотя с началом нового правления у него появились новые покровительницы в лице графини Люси Карлайл и герцогини де Шеврёз, чье неумеренное пристрастие к косметике так сурово осудил Джон Чемберлен. Этот бесценный источник сведений молчал весь 1625 год по причине пошатнувшегося здоровья, и все толки, слухи и пересуды, вызывающие такой жгучий интерес у читателей последующих столетий, остались без хроникера.
Шло лето, чума распространялась все шире, люди бежали из Лондона, разнося заразу по стране. Король и королева затворились в Хэмптон-Корте, потом перебрались в Виндзор, потом в Вудсток близ Оксфорда, где были развешаны предупреждения, запрещающие жителям из чумных районов сюда приближаться. Лавки и постоялые дворы были закрыты, на кладбищах не хватало места, и в довершение бед дни и ночи напролет лил дождь, грозя погубить урожай. Говорили, что в это время письма из города в сельскую местность не доставлялись, и это самая вероятная причина, почему не сохранилось писем Фрэнсиса Бэкона. Единственные дошедшие до нас письма датированы июнем, они написаны вскоре после прибытия королевы в Англию, и в одном из них он выражает французскому послу маркизу д’Эффиа радость по поводу его приезда в Англию; другие же, как и можно было ожидать от человека, кому до сих пор не выплатили пенсию, были адресованы новому лорду-казначею, лорду Ли, и содержали просьбу о денежном вспомоществовании, а также сэру Хамфри Мею, канцлеру герцогства Ланкастерского, которого Фрэнсис умолял «поторопить» лорда-казначея, «чтобы король мог рассчитаться со мной. Старые дрова отлично горят в камине сами по себе, а вот о старых людях надо заботиться».
И потом молчание до октября, когда Фрэнсис написал большое письмо на латыни падре Фульдженцо, богослову из Венецианской республики, в котором он рассказывает об «очень тяжелой болезни, от которой я еще не совсем оправился». В октябре же он пишет из Горэмбери некоему мистеру Роджеру Палмеру и признается: «Благодарение Господу, свежий сельский воздух помог мне до какой-то степени восстановить здоровье… Пишу Вам, желая выразить мои самые добрые чувства, и буду рад в своем уединении в наше смутное время получить от Вас весточку о том, что происходит в мире…» Печально думать, что столь выдающийся человек на склоне жизни ждет новостей от никому не известного корреспондента.
А в мире, увы, ничего утешительного не происходило, по крайней мере в тех сферах, которые особенно волновали Фрэнсиса. Король Карл подписал договор с Голландией против Испании и в сентябре послал в Кадис военную экспедицию под командованием Эдварда Сесила, брата леди Хаттон, и это оказалось еще большей катастрофой, чем прошлогодняя кампания в Голландии.
Что касается самой леди Хаттон, то в высшей степени вероятно, что Фрэнсис, живя на лоне природы и дыша свежим сельским воздухом, оказался избавлен от драматических сцен, которые разыгрывала бы перед ним в Грейз инне Элизабет Хаттон, ведь она жила совсем близко, в Холборне, и в последние три года на ее семью обрушивались удар за ударом. Ее старшая дочь Элизабет, вышедшая замуж за сэра Мориса Беркли, умерла в ноябре 1623 года, а жизнь младшей, Фрэнсис, из-за которой она устроила такой скандал в 1617 году, не желая выдавать ее замуж за брата Бекингема сэра Джона Вильерса, превратилась в нескончаемую череду несчастий. У ее мужа, получившего титул лорда Пербека, помутился рассудок, и его перестали выпускать из дома, а леди Пербек вернулась к матери. Здесь она имела глупость влюбиться в своего кузена сэра Роберта Говарда. Леди Хаттон благоразумно увезла дочь в Голландию навестить изгнанную курфюрстину, экс-королеву Богемии, но бедняжка не могла забыть своего возлюбленного и в 1624 году родила сына, которого семья супруга объявила бастардом, хотя Фрэнсис утверждала, что несколько раз встречалась со своим безумным мужем в предшествующие месяцы.
Сэра Роберта Говарда препроводили в тюрьму Флит, а леди Пербек посадили под домашний арест. Конфликт полыхал почти год, герцог Бекингем яростно обличал невестку и требовал развода, хотя его брат, лорд Пербек, в минуты просветления и утверждал, что мальчик, которого родила его супруга, и в самом деле его сын.
С наступлением нового царствования к любовникам проявили некоторое милосердие. Сэра Роберта Говарда выпустили из тюрьмы Флит, а леди Пербек освободили из заключения в доме олдермена. Однако два года спустя ее обвинили в супружеской неверности и приговорили к штрафу 500 фунтов, к тому же в знак покаяния ей надлежало пройти босиком от кафедры «Крест», что у старого собора Святого Павла, до часовни больницы «Савой» и встать у входа, чтобы все на нее смотрели. Она избежала этого позорного наказания, переодевшись в костюм пажа и тайно бежав со своим любовником и сыном в Шропшир. Ее мать стойко перенесла и этот удар и вернулась к прежней жизни, полной неиссякаемой деятельности.
Стоит ли удивляться, что все долгое лето 1624 года и не менее долгое 1625 года Фрэнсис Бэкон сказывался больным и писал очень мало писем или не писал их вовсе, ведь все хорошо знали о его дружбе с леди Хаттон. Представим себе: стук в дверь, один из его многочисленных помощников шепотом докладывает, что у порога леди Хаттон… больной сердито охает и машет рукой: «Нет, нет… я нездоров, я не могу принять ее светлость, мне вообще не до гостей», и потом вздыхает с облегчением после доклада, что посетительница отбыла. Ему непременно нужно найти что-то подходящее среди своих травяных снадобий. «Настой цветов апельсинового дерева, его следует нюхать или вдыхать в себя через нос», «применять один раз во время ужина с вином, в котором остужали золото…» А еще лучше — только это годится для Горэмбери, а в Грейз инне невозможно — «через два часа после восхода солнца подняться на высокое и открытое место и дышать воздухом, смешанным с ароматом мускусных роз и свежих фиалок; взболтать в вине с мятой немного земли».
У него были лекарства против болей в желудке, против подагры, против разлития желчи — видимо, он страдал всеми этими недугами, — а также четыре правила здоровой жизни, которых он придерживался неукоснительно: «Ломать привычки. Бороться с дурным настроением. Размышлять о юности. Не противодействовать человеческой природе». И еще одно поистине важное правило: «Тело ни в коем случае не должно оставаться в одном и том же положении более получаса». Возможно, рекомендованные им вяжущие средства, «которые заботятся об отдельных органах и помогают им сохранить здоровую силу», обратили на себя внимание именно своей необычностью и, надо полагать, производили ошеломляющее впечатление не на одного только священника Рэли. «Корсаж из ярко-красной ткани. Щенки или здоровые младенцы, которых следует держать на животе. Терпкие вина со специями».
Мало кто из современников Фрэнсиса Бэкона отметил его острый юмор, но были и такие, от кого он не ускользнул. Через три года после смерти Бэкона ученый Томас Фарнаби опубликовал сборник греческих эпиграмм и одновременно с ним «упражнения в стихах на английском языке, написанные лордом Бэконом, на одну из тем сборника». Даже Спеддинг, не слишком чувствительный к сатире, не сомневался в их авторстве. Фарнаби не называет времени переложения эпиграмм на английский, не рассказывает и о том, как к нему попала рукопись, однако нетрудно догадаться, что стихи были написаны в период глубочайшего разочарования в жизни, когда ничто в ней не радовало, когда известия, приходящие из-за границы, вызывали такую же тревогу, как события в Англии, а виконтесса Сент-Олбанс была особенно раздражена. Это могло быть написано летом 1625 года:
Единственной книгой Фрэнсиса Бэкона, достоверно напечатанной в 1625 году, была окончательная редакция его эссе; томик, вышедший в 1612 году, он дополнил двадцатью вновь написанными эссе. Книга вышла с посвящением герцогу Бекингему.
«Мой превосходный лорд!
Царь Соломон говорит: „Доброе имя лучше дорогой масти“; и я верю, что именно таким пребудет имя Вашего сиятельства среди потомков. Ибо и жребий Ваш, и заслуги поистине выдающиеся. И Вы посеяли семена, которые будут долго приносить добрые плоды.
Сейчас я печатаю мои „Эссе“, из всех моих сочинений они наиболее близки духу времени, ибо помогут человеку и в трудах его, и утешат его сердце. Я увеличил их число и расширил содержание; так что теперь это поистине новое сочинение. И потому я счел подобающим, питая к Вашему сиятельству столь великую любовь и благодарность, поставить в начале и английского, и латинского тома Ваше имя. Я полагаю, что том на латыни, которая является универсальным языком, может жить настолько долго, насколько это отпущено книгам. Мою „Installation“ я посвятил королю, мою „Историю короля Генриха VII“, которую я сейчас тоже перевел на латынь, а также мои „Главы из естественной истории“ — принцу; эти же тома я посвящаю Вашему сиятельству, они лучшее, что с помощью Господа, благословившего мое перо и мои труды, я мог создать. Да ведет Господь Ваше сиятельство путями своими.
Вернейший и благодарнейший слуга Вашего сиятельства Фр. Сент-Олбанс».
Судя по тому, что Фрэнсис все еще говорит о посвящениях королю и принцу, мы можем заключить, что эссе набирались в типографии раньше весны 1625 года, когда король Яков умер, а когда их опубликовали, что, возможно, произошло несколько месяцев спустя, менять посвящения уже было поздно.
Многие из первоначальных эссе были также переработаны и дополнены, интересно сравнить разные издания — 1597, 1612 и 1625 годов. Издание 1625 года начинается с эссе «Об истине» знаменитым вопросом: «„Что есть истина?“ — спросил в насмешку Пилат и не пожелал услышать ответа». Вообще при написании эссе Бэкон постоянно пользовался этим приемом — заинтриговать читателя эффектно заявленной в первой фразе темой и перейти к ее развитию. Например, четвертое эссе в сборнике — «О мести», начинается так: «Месть — это дикарское правосудие; и чем более к нему склонна человеческая природа, тем суровее ее должен искоренять закон». Или «О подозрении»: «Подозрения среди мыслей подобны летучим мышам среди птиц: и те и другие просыпаются в сумерки».
В эссе о строительстве он, несомненно, рассказывает о том, что он считал особенно важным, когда строил Верулам-Хаус: «Дома строят для того, чтобы в них жить, а не любоваться ими… Тот, кто строит красивый дом в нездоровом месте, обрекает себя на жизнь в тюрьме. Нездоровым местом я считаю такое место, где не только воздух нездоровый, но и окружение тоже… Не только нездоровый воздух делает место нездоровым, но и дурные нравы в округе, грязные рынки, плохие соседи, отсутствие воды, лесов, тени, защиты… слишком близко к морю или слишком далеко… слишком далеко от большого города, что может помешать делам; или слишком близко к нему, и тогда продукты не такие свежие и все слишком дорого». Совет так же актуален для наших современников, желающих приобрести собственный дом, как и во времена Фрэнсиса Бэкона в 1625 году.
Наверное, самое известное его эссе — это эссе о садах, которое начинается словами: «Господь Всевышний сначала насадил сад. И поистине для человека сад — это чистейшее из всех наслаждений». Мы не знаем, в каких обстоятельствах он его сочинил — прогуливаясь ли среди кустарников и цветов, которые он сам посадил, сидя ли в беседке или в башне замка, который стоял за старым домом в Горэмбери и с которого открывался «прекрасный вид на округу», или под конец в коляске, когда ему стало трудно совершать прогулки длиной в милю к Верулам-Хаусу. Но нет сомнений, что вдохновлял Фрэнсиса его собственный сад, точнее, сады в поместье Горэмбери, сады, которые он насадил после смерти матери и так любовно за ними ухаживал, а после его собственной смерти они пришли в такое печальное запустение.
Мы уже говорили о том, что Фрэнсис Бэкон составил завещание в апреле 1621 года во время своего импичмента. Завещание было короткое и написано поспешно, потому что он считал, что умирает. В мае 1625 года, когда он снова заболел, а в Лондоне после погребения короля Якова в Вестминстерском аббатстве вспыхнула чума, Фрэнсис решил, что настало время составить другое, более подробное завещание. Это завещание, точнее, значительная его часть, было датировано 23 мая, согласно определению канцлере кого суда, однако окончательная версия была составлена 19 декабря, то есть семь месяцев спустя. Очень возможно, что когда после смерти Бэкона все его бумаги попали в Ламбетский дворец к архиепископу Кентерберийскому Тенисону, тот нашел раннюю версию от 23 мая, вернее, черновик этой версии, потому что он привел положение, касающееся «сочинений лорда Бэкона», которое отличается от декабрьской версии. Мы приводим обе версии.
Версия первая.
«В отношении той части моего наследия, которая сохранит меня в памяти потомков, то есть моих сочинений, я поручаю моему слуге Генри Перси передать моему брату Констеблу все рукописи моих трудов, а также отрывки незаконченных сочинений с тем, чтобы он напечатал все, что сочтет достойным опубликования. Прошу его посоветоваться с мистером Селденом и с мистером Гербертом из Иннер-Темпл и опубликовать то, что они сочтут достойным».
Вторая версия.
«Касательно той части моего наследия, которая сохранит меня в памяти потомков, то есть моих сочинений, я поручаю моим душеприказчикам, и в особенности сэру Джону Констеблу, а также моему доброму и дорогому другу мистеру Босуэллу взять на себя заботу обо всех моих сочинениях как на английском языке, так и на латыни, а книги в красивых переплетах передать в королевскую библиотеку, в библиотеку Тринити-колледжа, где я получил образование, в библиотеку Беннет-колледжа, где учился мой отец, в библиотеку Оксфорда, а также в библиотеку милорда Кентербери и в библиотеку Итон-колледжа».
Мы видим, что декабрьская версия очень тщательно разработана и точно сформулирована, тогда как майский вариант близок к завещанию времен импичмента, только вместо «мой слуга Харрис» в нем написано «мой слуга Генри Перси». Казалось бы, мелочь, не стоящая внимания, если бы не то обстоятельство, что Генри Перси назван как человек, который должен передать Джону Констеблу «все рукописи моих трудов, а также отрывки незаконченных сочинений». В последнем завещании от 19 декабря 1625 года рукописи вообще не упоминаются, Фрэнсиса заботит только судьба его книг «как на английском языке, так и на латыни», причем книги в «красивых переплетах» должны быть переданы в разные библиотеки.
Мистер Харрис значится в списке слуг, составленном в 1618 году, когда Фрэнсис стал не только лордом Веруламом, но и лордом-канцлером. Он упоминается вместе с неким мистером Джонсом с пометкой «Не забыть отблагодарить». Однако в последнем варианте завещания его имени в списке бенефициаров нет. Генри Перси, «окаянному Перси», которого так ненавидела старая леди Бэкон, этому «собутыльнику и любовнику» ее сына, было завещано сто фунтов. Еще любопытно то, что предпоследнее письмо, которое хозяин Перси написал своей собственной рукой, было адресовано первому министру сэру Эдварду Конуэю и касалось Перси.
«Высокочтимый господин министр!
Этот джентльмен, г-н Перси, мой добрый друг и бывший слуга, просил вспомоществования у его величества за оказанные его величеству услуги, за то, что его друг был возведен в титул баронета. Нижайшей просьбой передаю это его пожелание благоусмотрению его величества. Буду признателен как за благодеяние оказанное лично мне.
Ваш искренний друг, всегда готовый к услугам
Ф. Сент-Олбанс Грейз инн, сего января 26-го дня 1626 г.».
Стало быть, Генри Перси в конце концов оставил свое место, прослужив Фрэнсису Бэкону больше тридцати трех лет, но что случилось с ним потом, удовлетворили ли его прошение или нет, нам неизвестно. Он знал столько тайн своего хозяина, имел доступ к его бумагам. Поскольку с течением времени интерес Фрэнсиса все больше и больше сосредоточивался на его философских трудах и сочинениях на латыни, то вполне возможно, что какие-то рукописи более личного свойства так никогда и не попали ни в руки сэра Джона Констебла, ни в руки других душеприказчиков, и скорее всего так распорядился сам Фрэнсис. Генри Перси, человек, носивший столь громкое имя[44], до сих пор остается загадочной фигурой в жизни своего хозяина.
Странно, что Тоби Мэтью, названный в завещании 1625 года «моим старинным близким другом», получил согласно условиям этого же завещания всего лишь «перстень, который должен быть куплен ему за тридцать фунтов»; впрочем, Тоби, ставший к тому времени сэром Тоби, вполне преуспел в жизни и не нуждался в покровительстве. Несколько слуг, упомянутых в завещании 1618 года, названы и в последнем завещании как бенефициарии, например, еще одному бывшему слуге, Фрэнсису Эдни, ненавидимому леди Бэкон столь же люто, как и Генри Перси, было отказано «200 фунтов и мое парадное платье». Может быть, то самое пурпурное, в котором он торжественно въехал на лошади в Уайтхолл уже в должности лорда-канцлера. «Старому Томасу Готераму, с которым мы вместе росли, — 30 фунтов». Это был сын Томаса Готерама, который писал Энтони Бэкону во Францию в 1581 году, сообщая новости о доме. Бедняки разных приходов, родственники, крестники, друзья, многие из тех, кто служил в поместье Горэмбери, — Фрэнсис не забыл никого. Священнику Рэли было оставлено 100 фунтов, «секретарю Томасу Мэтьюзу купить драгоценность стоимостью 50 фунтов и отдать моего коня с попоной». Основная часть состояния Фрэнсиса — земли, имущество, личные и иные вещи была им «передана, подарена или предоставлена в распоряжение моей любящей жены», и список всего этого прилагался для «установления наследства, достойного виконтессы».
Этот подробнейший список не дает никаких оснований заподозрить, что мир и лад в доме был нарушен, и мы вполне можем предположить, что эта часть завещания была написана в мае 1625 года. Однако в декабрьском завещании от 19 декабря конец совсем другой.
«Все, что я передал, подарил, подтвердил по договору или назначил в виде содержания и распоряжения доходами моей жене в последней части моего завещания, я настоящим, по справедливым и весомым причинам, полностью отменяю, и это считается недействительным, при этом ей остаются только принадлежавшие ей до брака имущество и права».
По справедливым и весомым причинам… Стало быть, в последнее лето, что Фрэнсис провел в Горэмбери, после того, как он переехал туда из своей квартиры в Грейз инне, когда в Лондоне свирепствовала чума и сам он сильно недомогал, он наконец-то признал то, на что до сих пор, по-видимому, закрывал глаза: у его жены Элис связь с ее управляющим Джоном Андерхиллом. Свой завещательный отказ леди Констебл он не изменил. «Завещаю моему брату Констеблу все мои книги, а также 100 фунтов, которые должны быть выданы ему золотом; завещаю моей сестре Констебл драгоценности, которые должны быть куплены ей на сумму 50 фунтов». Видимо, он не счел родственников супруги ни в коей мере ответственными за ее неверность.
Душеприказчикам, и в первую очередь сэру Джону Констеблу и мистеру Босуэллу, было также поручено «забрать все мои бумаги без исключения, которые находятся в шкафах, на полках, в сундуках, и опечатать их, чтобы потом на досуге разобрать». Заметьте — бумаги, не рукописи.
Душеприказчиками он назначил сэра Хамфри Мея, канцлера герцогства Ланкастерского, мистера Джастина Хаттона, сэра Томаса Кру, сэра Фрэнсиса Барна, сэра Джона Констебла и сэра Юболла Телуолла. О юридических трудностях, возникших после смерти завещателя, можно будет прочесть в эпилоге.
К началу нового, 1626 года Фрэнсис Бэкон настолько оправился, что снова переехал в Лондон, в свою квартиру в Грейз инне, и даже написал сэру Хамфри Мею письмо с просьбой употребить все свое влияние на герцога Бекингема, чтобы тот добился для него у короля Карла полного помилования и отмены всех пунктов приговора. Это позволило бы ему занять свое место в верхней палате, когда парламент соберется 6 февраля.
«Правда, я не смогу присутствовать на заседаниях по причине своего здоровья, — писал он, — однако я мог бы поручить это своему доверенному лицу. Время обратило зависть в сожаление; я отслужил долгий срок искупления и очищения — пять лет, даже больше. Сэр Джон Беннет получил помилование, милорд Сомерсет тоже получил и, как я слышал, будет заседать в парламенте. Милорд Суффолк заседает в парламенте, хоть и не вернулся в тайный совет. Надеюсь, я не заслужил участи единственного изгоя».
Он предвидел, что во время следующей сессии парламента могут произойти кардинальные перемены; в палате общин сформировалась сильная оппозиция во главе с сэром Джоном Элиотом и не менее сильная в палате лордов, они объединились против политики герцога Бекингема, которому предстояло быть заколотым два года спустя ножом убийцы. Нам не суждено узнать, голосовал ли бы через своего доверителя Фрэнсис Бэкон против своего бывшего покровителя, но его преданность королю была так велика, что если он и опасался гибельных последствий политики своего монарха, высказываться против нее он бы скорее всего не стал.
Что ж, раз участвовать в работе палаты лордов с помощью доверенного лица ему не разрешили, он по крайней мере может продолжать свои научные занятия в Грейз инне и проводить естественнонаучные опыты. Конец марта выдался особенно холодным, но это его не останавливало. Возможно, окончательный разрыв с женой оказался хорошим стимулом. В начале апреля, первого или второго числа, он поехал в карете подышать свежим воздухом вместе со своим врачом-шотландцем, доктором Уитерборном, направились они в сторону Хайгейта. Здесь, на возвышенности, лежал выпавший снег, Фрэнсис увидел его из окна кареты и подумал, что нельзя упустить такую замечательную возможность, надо поставить опыт. Он велел кучеру остановиться у подножия холма, вышел вместе со своим спутником и, постучав в дверь сельского коттеджа, спросил, не продадут ли хозяева ему курицу. Конечно, продадут, любезная хозяйка тут же зарезала птицу и с помощью его светлости выпотрошила. Они набили ее снегом, который лежал во дворе, а Фрэнсис и его врач объяснили ей, что снег, как им представляется, может сохранять мясо свежим не хуже, чем соль, и им интересно проверить свое предположение.
Потрошение курицы и набивание ее снегом заняли довольно много времени, к тому же в окрестностях Хэмпстеда и Хайгейта к вечеру, как и следовало ожидать, сильно похолодало, подул пронизывающий ветер. За их спиной садилось солнце. Фрэнсис вдруг почувствовал, что сильно замерз. Злоупотребить гостеприимством хозяйки этого более чем скромного жилища он не мог себе позволить, хотя выпить чего-нибудь горячего и согреться в теплом помещении было бы для него спасением. Он вспомнил, что в Хайгейте у его приятеля графа Арундела есть дом, в котором он не раз бывал; и хотя сам граф сейчас отбывал временное заключение в Тауэре за то, что позволил своему сыну лорду Малтраверзу жениться на дочери герцогини Леннокс, которую король Карл желал выдать за другого, Фрэнсис был уверен, что домоправитель графа Арундела с радостью его примет.
Он и его спутник снова уселись в карету и поехали в Хайгейт. Когда они туда прибыли, уже стемнело, Фрэнсис, в намокшей одежде, в мокрых башмаках, в которые набился снег, в мокрых чулках, дрожал с головы до ног. Доктор Уитерборн смотрел на него с тревогой. Управляющий заключенного в Тауэр графа Арундела сначала перепугался, но, узнав Фрэнсиса, сделался чрезвычайно гостеприимен и любезен. Его сиятельство должен как можно скорее войти в дом. Ему ни в коем случае нельзя возвращаться в Лондон. Его хозяин никогда не простит ему, если он позволит виконту Сент-Олбансу уехать в таком состоянии.
Приготовили спальню. Быстро согрели простыни грелкой и постелили на кровать, на которой никто не спал уже больше года. Гость удалился в приготовленную для него комнату. Его по-прежнему бил озноб, и он не мог согреться. Врач тревожился все больше, Фрэнсис его успокаивал. К утру ему станет лучше, а сейчас он должен попросить прощения у своего отсутствующего хозяина, который, уж конечно, испытывает гораздо большие неудобства в Тауэре. И, лежа на влажных простынях в Хайгейте, он продиктовал последнее в своей жизни письмо.
«Графу Арунделу и Суррею
Мой дорогой и высокочтимый лорд, меня чуть было не постигла участь Гая Плиния Старшего, который погиб, проводя опыт близ извергающегося Везувия. Мне тоже хотелось поставить несколько опытов по консервированию и сохранению тел. Что касается опыта, то он оказался удивительно удачным, но во время поездки из Лондона в Хайгейт у меня случилась такая рвота, что я не мог понять — печень ли это, или отравление, или простуда, или все вместе взятое. Когда я доехал до дома Вашего сиятельства, у меня уже не было сил возвращаться в Лондон, и потому я был вынужден остаться у Вас. Ваш управляющий проявляет по отношению ко мне величайшую заботу и внимание, а я убеждаю себя, что Ваше сиятельство не только простите его за это, но и одобрите. Я поистине счастлив в доме Вашего сиятельства и целую Ваши благородные руки за гостеприимство, которое, я уверен, лично Вы мне оказываете…
Я понимаю, как недостойно писать Вашему сиятельству чьей-то чужой рукой, а не своей собственной; но должен Вам признаться, мне так свело пальцы от холода, что я не в силах держать перо…»
Вот все, что смог написать Фрэнсис в своем последнем письме. Через несколько дней в Хайгейт вызвали священника Рэли, и он увидел, что больной не только не поправляется, но, напротив, ему стало гораздо хуже, его «лихорадило, время от времени начинался сильнейший кашель, в груди клокотала мокрота, и он умер, захлебнувшись ею…»
Фрэнсис Бэкон, барон Верулам, виконт Сент-Олбанс, некогда лорд-хранитель большой государственной печати, некогда лорд-канцлер умер ранним утром в пасхальное воскресенье 19 апреля 1626 года в возрасте шестидесяти пяти лет.
«Предаю душу мою и тело мое в руки Господа, открывшего мне путь ко спасению своей благословенной жертвой; душа отойдет ко Господу в миг кончины моей, тело же мое в миг воскресения. Что до моего погребения, то я желаю упокоиться в церкви Святого Михаила близ Сент-Олбанса; там похоронена моя мать, и это церковь прихода, к которому относится моя резиденция в Горэмбери, а также единственная христианская церковь внутри стен древнего Веруланума. Я желаю, чтобы расходы, связанные с моими похоронами, не превышали трехсот фунтов.
Что касается моего имени и памяти обо мне, оставляю их людской снисходительности, другим странам и грядущим векам…»
Эссе «О СМЕРТИ»
Люди страшатся смерти, как малые дети потемок; и, как у детей, этот врожденный страх усиливается сказками, так же точно и страх смерти. Конечно, мысль о смерти как каре за грехи и переходе в иной мир благочестива. Но боязнь ее как неизбежной дани природе есть слабость. Да и в благочестивые о ней размышления примешивается порой доля суетности и суеверия. В иных монашеских сочинениях о смертных муках нам напоминают, какова боль, ощущаемая человеком, если терзать хотя бы кончик пальца его, и каковы, следовательно, должны быть муки смерти, когда разрушается все тело. А между тем смерть зачастую менее мучительна, чем повреждение одного члена, ибо самые важные для жизни органы не есть самые чувствительные. «Pompa Mortis Magis terret quam Mors Ipsa» («Атрибуты смерти устрашают сильнее самой смерти») — слова эти заключают в себе и философскую, и житейскую истину. Стоны, судороги, мертвенный лик, слезы друзей, траур, погребение и прочее — вот от чего смерть предстает ужасной. Заметьте, что нет в душе человека такой даже самой слабой страсти, которая не побеждала бы страха смерти, а значит, смерть не может быть столь уж страшным врагом, раз есть у человека целая рать, способная ее одолеть.
Месть торжествует над смертью; любовь ее презирает; честь призывает ее; горе ищет в ней прибежище; страх предвосхищает ее. А когда убил себя император Оттон, жалость — это слабейшее из чувств — многих побудила искать смерти из сочувствия императору и в знак верности. Сюда же Сенека прибавляет еще прихотливость и пресыщение; ведь человек бывает готов умереть, не будучи ни храбрецом, ни несчастливцем, от того только, что ему наскучит однообразие. Заметьте и то, как мало действует приближение смерти на сильных духом, ибо каждый из них до конца остается самим собой. Император Август умер с любезностью на устах; Тиберий продолжал лукавить; Веспасиан — с шуткой, сидя на стульчаке; Гальба — с изречением, подставляя шею убийце: «Рази, если так нужно Риму»; Септимий Север — впопыхах: «Скорее же, если я должен еще что-то делать». И так далее. Стоики, несомненно, уделяли смерти чрезмерно много внимания и пышными к ней приготовлениями делали ее еще более устрашающей. Мне же более по душе тот, кто сказал, что почитает за дар природы предел своей жизни.
Умереть столь же естественно, как и родиться; а для младенца второе, быть может, не менее болезненно, чем первое. Тот, кто умирает за важным делом, подобен раненному в жарком бою, поначалу едва ощущающему боль. Поэтому, кто поглощен благими помыслами, тот поистине избавлен от мук смерти. Но всего слаще, поверьте, звучит гимн «Nunc Dimittis»[45], когда человек достиг достойной цели и оправдал ожидания. У смерти есть еще то, что она открывает врата доброй славе и унимает завистников.
Extinctus amabitur idem[46].
Тот, кому завидовали при жизни, будет любим после смерти.
Эпилог
Элис Бэкон, леди Верулам, виконтесса Сент-Олбанс, оставалась вдовой одиннадцать дней. Надо полагать, ждала, когда ее супруга похоронят в церкви Святого Михаила. А потом вышла замуж за Джона Андерхилла. Венчание состоялось 20 апреля в церкви Святого Мартина-в-Полях, где 65 лет назад крестили Фрэнсиса Бэкона. 12 июля Джон Андерхилл был возведен в рыцарское достоинство в Оутлендском дворце, хотя за какие заслуги перед королем и страной, нам неведомо. Кстати, в этот же день ровно восемь лет назад Фрэнсису Бэкону был пожалован титул барона Веруламского. Extinctus amabitur idem…
Чета Андерхилл продолжала жить в Горэмбери, но почти сразу началась тяжба, и продолжалась она несколько лет. Душеприказчики отказывались утвердить завещание, зная состояние финансов завещателя. Сумма его долгов составляла 19 658 фунтов 4 шиллинга 4 пенса. Завещание оставалось неисполненным до 15 июля 1627 года, когда права душеприказчиков были переданы сэру Томасу Мьютизу, преданному другу и секретарю виконта Сент-Олбанса, а также сэру Томасу Ричу, которые представляли кредиторов. Эти джентльмены сразу же подали иск в канцлерский суд против сэра Джона и леди Андерхилл, а также доверительных собственников различных поместий и земель. В иске упоминались незаконные акты передачи и договоры дарения по поводу драгоценностей, перстней, платья, огромного количества столового серебра, картин, занавесей и драпировок, которые, как утверждали кредиторы, должны были пойти в уплату долгов его покойной светлости.
Леди Андерхилл в качестве ответчицы подала встречный иск. Большую часть земель она-де купила на свои собственные деньги, чтобы увеличить вдовью часть наследства, и поскольку она не соглашалась, чтобы супруг продавал землю, он ее оставил. Она не верит, что «долги настолько велики, как об этом заявлено, их уплаты в основном требуют его слуги, которые обманывали его и причинили ему большой ущерб».
После чего управляющие землями и поместьями по наследству подали в суд прошение об освобождении их от обязанностей. Наконец 12 июня 1632 года судья, которому до сих пор никак не удавалось найти покупателя для земель и поместий, продал их лорду Дансмору за 6000 фунтов с условием, что он будет выплачивать леди Андерхилл 530 фунтов в год пожизненно и что она и ее супруг уедут из Горэмбери к Михайлову дню того же 1632 года. В имении должны остаться «каменные столы, старинная картина, которая висит в холле наверху, кухонные принадлежности, деревянные и каменные скульптуры в саду» и пр. 17 февраля 1633 года сэр Томас Мьютиз получил особняк и поместье от лорда Дансмора и его содоверителей, которые заявили, что с самого начала действовали в его интересах.
Сэр Джон и леди Андерхилл расстались через тринадцать лет. Видимо, опоясывающие ее чресла псы продолжали лаять. 21 февраля 1639 года было подписано соглашение об их раздельном проживании. Леди Андерхилл осталась бездетной и большую часть времени жила у матери в Айуорте, в Бедфордшире. Ее мать после развода с «распутником» Пэкингтоном побывала замужем еще два раза. Третьим ее мужем стал виконт Килмори, четвертым — граф Келли.
Леди Андерхилл умерла 29 июня 1650 года. Ей было пятьдесят восемь лет. В приходской метрической книге за 1650 год записано, что «Элис, виконтесса Сент-Олбанс, вдова Фрэнсиса виконта Сент-Олбанса, похоронена июля 9-го дня 1650 года в алтаре Айуортской церкви на его южной стороне», и на полу в алтарной части сделана надпись: «Здесь покоится прах леди Элис, баронессы Верулам, виконтессы Сент-Олбанс, одной из дочерей Бенедикта Барнема, олдермена Лондона. Покинула сей мир 29 июня 1650 года от Рождества Христова». Ее сестра Дороти Констебл, умершая годом раньше, похоронена под алтарем рядом с ней. Даже в смерти Элис хотела утвердить свое старшинство над другими дамами по титулу и по знатности.
Сэр Джон Андерхилл дожил до восьмидесяти шести или даже восьмидесяти семи лет, пережил Гражданскую войну и Реставрацию, однако «страдал слабостью зрения и расстройством памяти». Жил он в Лондоне, в населенном беднотой и пользующемся дурной славой приходе церкви Святого Джайлса-в-Полях, там же и умер в апреле 1679 года, назначив своим душеприказчиком «моего дорогого кузена Томаса Андерхилла из Оксхилла», который в юности был пациентом доктора Холла, зятя мистера Уильяма Шакспера.
Фрэнсис Бэкон был бы рад узнать, что владельцем Горэмбери после него стал сэр Томас Мьютиз. В 1641 году сэр Томас женился на Анне Бэкон, дочери сэра Натаниэля Бэкона из Кэлфорда, племянника Фрэнсиса и известного в те времена художника-портретиста. Мьютиз оформил на ее имя Верулам-Хаус и дом в Редбурне. Он также поставил прекрасный памятник своему покойному другу и патрону в церкви Святого Михаила в Сент-Олбансе. На памятнике высечена надпись на латыни, которую можно перевести так:
К сожалению, сэр Томас недолго был владельцем любимого им Горэмбери. Он умер в октябре 1649 года и был похоронен в церкви Святого Михаила рядом со своим покровителем. Его владения перешли к его брату Генри Мьютизу, а вдова его позднее вышла замуж за сэра Хартботтла Гримстона, который стал начальником судебных архивов и спикером палаты общин и выкупил поместье у Генри Мьютиза.
Энн Бэкон, леди Гримстон, умерла в 1680 году. После смерти сэра Хартботтла поместье перешло к его единственному оставшемуся в живых сыну от первого брака Сэмюелу Гримстону, третьему баронету, и, передаваясь по наследству из поколения в поколение, оказалось в руках у ныне здравствующего потомка рода Гримстонов, графа Верулама.
Судя по всему, сэр Хартботтл Гримстон не жил в Верулам-Хаусе, он продал его в 1665 или 1666 году двум плотникам, которые купили его за 400 фунтов как строительный материал. Старый дом в Горэмбери тоже постепенно пришел в запустение. Между 1777 и 1784 годом неподалеку от него был построен новый дом для третьего виконта Гримстона, в нем и по сей день сохраняются некоторые вещи, принадлежавшие Фрэнсису Бэкону и перенесенные из старого дома: портреты его отца и матери — сэра Николаса и леди Бэкон, три бюста, которые когда-то стояли в большой галерее, портреты, написанные его племянником сэром Натаниэлем Бэконом. Есть также книги из библиотеки Фрэнсиса, и, наверное, самые интересные среди них — переплетенные в один том и сейчас временно переданные в Бодлианскую библиотеку Оксфордского университета «Ричард II» ин-кварто, 1614 г.; «Король Ричард III» ин-кварто, 1602 г.; «Король Генрих IV» ин-кварто, 1613 г.; «Король Лир» ин-кварто, 1608 г.; «Гамлет» ин-кварто, 1605 г.; «Тит Андроник» ин-кварто, 1611 г.; «Ромео и Джульетта», 1599 г.; «Трагедия Цезаря и Помпея» (без даты выхода); «Трагедия Клавдия Тиберия» (без даты); первая и вторая части «Короля Иоанна», 1611 г.; «Король Эдуард IV» Хейвуда; «Чудо-женщины» Марстона, 1606 г.; «Сегарис» Бена Джонсона, 1605 г.; «Мятежник» Марстона, 1604 г.; «Осада Трои» Лидгейта; «Вольпоне» Бена Джонсона, 1607 г.
Поскольку душеприказчики Фрэнсиса Бэкона отказались после его смерти заниматься его завещанием, весьма сомнительно, что оставшиеся после него книги, бумаги и незаконченные труды вообще попали в руки сэра Джона Констебла, как того желал Фрэнсис. Правда, какая-то их часть все-таки была передана мистеру Босуэллу, которого сэр Джон назначил тогда душеприказчиком, но произошло это, вероятно, в 1627 году, после того, как сэр Томас Мьютиз получил полномочия распоряжаться имуществом. Это оказались в основном сочинения на латыни, и мистер Босуэлл — или сэр Уильям Босуэлл, как его стали именовать, когда он был назначен представителем Объединенных провинций в Гааге, — опубликовал их в Амстердаме в 1653 году.
Еще какая-то часть трудов виконта Сент-Олбанса была поручена заботам священника Уильяма Рэли, и более ревностного и внимательного редактора Фрэнсис не мог бы себе пожелать. Через год после смерти своего патрона, в 1627 году, Рэли издал «Новую Атлантиду» вместе с «Sylva Sylvarum» («Естественной историей» — описанием серии научных экспериментов). В 1629 году появилось «Собрание некоторых сочинений», а в 1638 году — знаменитые эссе с посвящением королю Карлу, переведенные на латынь Уильямом Рэли. В 1657 году он издал «Resusatatio, или Возвращение вниманию публики нескольких отрывков из сочинений его светлости, дремавших до сей поры», а еще через год — перевод всех этих сочинений на латынь.
Уильям Рэли, священник прихода Ланбич, умер в 1667 году. Оставшиеся у него письма и бумаги Бэкона перешли во владение Томаса Тенисона, позднее ставшего архиепископом Кентерберийским, близкого друга сына Уильяма Рэли, который умер во время чумы 1666 года. Епископ Тенисон опубликовал «Бэконию, или Некоторые подлинные отрывки сочинений лорда Бэкона» в 1679 году. Прошло почти сто лет, прежде чем появилось следующее издание его сочинений и писем в 1765 году.
Сэр Эдвард Коук, пожизненный соперник Фрэнсиса Бэкона на юридическом и политическом поприще — а какое-то время и в делах сердечных, — пережил его чуть больше чем на восемь лет. В 1628 году, когда король Карл созвал свой третий парламент, сэр Коук был еще полон энергии и сил и внес на рассмотрение знаменитую Петицию о праве, которая значительно ограничивала власть короля и которую его величество был вынужден поддержать. Четыре года спустя сэр Эдвард упал с лошади, объезжая свое поместье в Стоук-Поджесе. Ему был восемьдесят один год, и после падения он уже не оправился. Умер он 3 сентября 1634 года.
Его вдова, неугомонная леди Хаттон, тут же заявила о своих правах на Стоук-Парк, где ее и застала Гражданская война. Удивительно, но эта остроумная красавица, почти всю свою жизнь блиставшая при дворе, сделалась пламенной сторонницей парламента и принимала у себя вождей «круглоголовых». В 1643 году, когда Лондон, по сути, превратился в крепость, парламент отдал Хаттон-Хаус в ее полную безраздельную собственность.
В июне 1645 года, за десять дней до того, как королевские войска были разбиты в битве при Несби, в Оксфорде умерла ее несчастная дочь Фрэнсис. Леди Хаттон хоть и постоянно ссорилась с дочерью, на которую напасти так и сыпались одна за другой, однако нежно ее любила, и смерть Фрэнсис оказалась для нее большим ударом. Ее силы разом иссякли, она прожила несколько месяцев в тоскливом затворничестве в Хаттон-Хаусе и в декабре, в возрасте шестидесяти семи лет, составила завещание, в котором писала: «Мое существование было для меня тяжким бременем, пока творец всех благ в своем неизреченном милосердии не возвысил мой дух до высшего понимания и не открыл… что я могу найти утешение в его объятиях…» Она умерла 3 января 1646 года, похоронили ее в церкви Сент-Эндрю в Холборне через полтора месяца, все это время тело ее пролежало дома, куда люди приходили с ней прощаться. Говорили, что ее привидение долго бродило по аллеям Хаттон-Хауса, пока торговец бриллиантами не вырубил сад под корень.
Тоби Мэтью пережил своего патрона и друга виконта Сент-Олбанса на двадцать девять лет. В 1640 году поползли слухи, что он папский шпион, и он уехал в Гент, где умер 13 октября 1655 года. Через пять лет было опубликовано его собрание писем, среди которых было много писем Фрэнсиса Бэкона. Тоби Мэтью предварил их публикацию обращением к читателю, в котором писал: «Уместно задать вопрос, родила ли какая-нибудь другая страна Европы в одно и то же столетие четырех выдающихся во всех отношениях людей, которые превзошли бы тех, чьи имена можем назвать мы: кардинал Вулси, сэр Томас Мор, сэр Филипп Сидни и сэр Фрэнсис Бэкон? Последний был человеком могучего, ни с кем не сравнимого ума; острого и всеохватного понимания; необъятной, точной памяти; неиссякаемой оригинальной изобретательности; глубокого и мудрого суждения обо всем, что требует осмысления. С тех пор, как создан мир, он вряд ли видел человека столь выдающихся познаний в столь многих сферах знания, соединенных со счастливым даром говорить о них столь свободно, изящно и красноречиво, столь убедительно и вдохновенно, притом таким отточенным и выразительным языком, с такими необычными метафорами и сравнениями. Быть может, я слишком увлекся и позволил себе немало преувеличений, в таком случае устыдить меня вы можете только одним способом: покажите мне другого гения, который мог бы сравниться с Фрэнсисом Бэконом».
Приложение I
«Эссе» Фрэнсиса Бэкона
Первое издание, вышедшее в свет в 1597 году, содержало десять эссе:
«О занятиях науками»; «О беседе»; «О манерах и приличиях»; «О приближенных и друзьях»; «О просителях»; «О расходах»; «О поддержании здоровья»; «О почестях и славе»; «О партиях»; «О переговорах».
Второе издание, вышедшее в свет в 1612 году, содержало тридцать восемь эссе: первоначальные десять (за исключением «О почестях и славе»), отредактированные и переработанные, плюс двадцать девять новых: «О религии»; «О смерти»; «О доброте и добродушии»; «О хитрости»; «О браке и безбрачии»; «О родителях и детях»; «О знати»; «О высокой должности»; «О колониях»; «О совете»; «О распорядительности»; «О любви»; «О дружбе»; «О безбожии»; «О суеверии»; «О себялюбивой мудрости»; «О поддержании здоровья»; «О расходах»; «О беседе»; «О мнимой мудрости»; «О богатстве»; «О честолюбии»; «О юности и старости»; «О красоте»; «Об уродстве»; «О человеческой природе»; «О привычке и воспитании»; «О счастье»; «О занятиях науками»; «О манерах и приличиях»; «О просителях»; «О приближенных»; «О переговорах»; «О партиях»; «О похвале»; «О правосудии»; «О тщеславии»; «О величии королевств».
Третье и последнее издание вышло в свет в 1625 году, за год до смерти Бэкона. В него вошли пятьдесят восемь эссе — двадцать шесть новых и все прежние, расширенные или отредактированные:
«Об истине»; «О смерти»; «О единой религии»; «О мести»; «О бедствиях»; «О притворстве и лицемерии»; «О родителях и детях»; «О браке и безбрачии»; «О зависти»; «О любви»; «О высокой должности»; «О бойкости»; «О доброте и добродушии»; «О знати»; «О смутах и мятежах»; «О безбожии»; «О суеверии»; «О путешествиях»; «Об искусстве властвовать»; «О совете»; «О промедлении»; «О хитрости»; «О себялюбивой мудрости»; «О новшествах»; «О распорядительности»; «О мнимой мудрости»; «О дружбе»; «О расходах»; «Об истинном величии королевств и республик»; «О поддержании здоровья»; «О подозрении»; «О беседе»; «О колониях»; «О богатстве»; «О пророчествах»; «О честолюбии»; «О масках и триумфах»; «О человеческой природе»; «О привычке и воспитании»; «О счастье»; «О ростовщичестве»; «О юности и старости»; «О красоте»; «Об уродстве»; «О строениях»; «О садах»; «О переговорах»; «О приближенных и друзьях»; «О просителях»; «О занятиях науками»; «О партиях»; «О манерах и приличиях»; «О похвале»; «О тщеславии»; «О почестях и славе»; «О правосудии»; «О гневе»; «О превратностях вещей»; «О славе» (набросок).
Приложение II
Восемнадцать пьес Уильяма Шекспира, впервые напечатанные в 1623 году:
Король Иоанн
Король Генрих VI, часть I
Король Генрих VIII
Буря
Мера за меру
Комедия ошибок
Как вам это понравится
Укрощение строптивой
Все хорошо, что хорошо кончается
Двенадцатая ночь
Зимняя сказка
Два веронца
Кориолан
Тимон Афинский
Юлий Цезарь
Макбет
Антоний и Клеопатра
Цимбелин