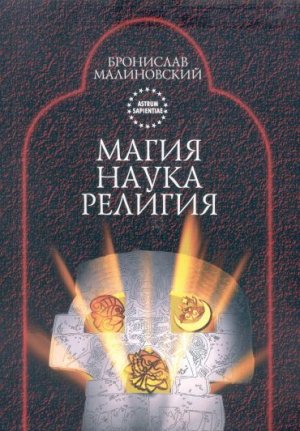
Составление С.Л. Удовик
Научный редактор кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН О.Ю. Артемова
Перевод А.П. Хомик под редакцией О.Ю. Артемовой
Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI — Budapest) и Института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF — Moscow)
Перепечатка отдельных глав и произведения в целом без письменного разрешения издательства «Рефл-бук» запрещена и преследуется по закону.
От издательства
В данный сборник вошли избранные работы Бронислава Малиновского:
«Magic, Science and Religion» в Science, Religion and Reality, изданной James Needham, Macmillan Company, 1925.
«Myth in Primitive Psychology», W.W.Norton and Co., Inc., 1926.
«Baloma, the Spirits of the Dead in the Trobriand Islands», The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol.46, 1916.
«Obscenity and Myth» в Sex and Repression in Savathe Society, London, Routledge and Kegan Paul, 1927, pp. 104-34.
«Myth as a Dramatic Development of Dogma» в Sex, Culture and Myth, New York: Harcourt, Brace & World, 1962, pp.245-65.
От редактора
Бронислав Малиновский (1884–1942) — виднейший представитель британской социальной антропологии (этнологии), родившийся и выросший в Польше. Вряд ли кто другой, за исключением разве что Дж. Фрэзера, Ф.Боаса и А. Рэдклиффа- Брауна, оказал столь значительное влияние на развитие теории и практики мировой этнологии и вряд ли кто столь глубоко чтится современным международным этнологическим сообществом. Между тем, на русском языке его блестящие труды ранее почти не публиковались (преимущественно по соображениям идеологического характера), и наш читатель практически незнаком с достижениями его исследовательского метода, получившего название функционального и давшего начало мощнейшему научному направлению — функционализму. Предлагаемая книга стремится хотя бы отчасти восполнить этот печальный пробел.
В ней читатель найдет яркие и живые описания обычаев, обрядов, верований, рациональных знаний и навыков, эмоциональной жизни и интеллектуального творчества населения далекого и экзотического уголка Океании — Тробрианского архипелага, коралловых атоллов Южных морей. Автор жил бок о бок с этими «людьми каменного века» — его походная палатка ставилась рядом с их живописными хижинами. Он делил их горести и радости, изучил из язык и свободно обсуждал с ними сокровенные и интимные стороны человеческого бытия. Самые сложные философские идеи и самые тонкие теоретические обобщения вплетены в этой книге в контекст колоритнейших этнографических реалий и воспринимаются с не меньшим увлечением, чем впечатляющие картины традиционной жизни меланезийцев.
Предисловие Р.Редфилда и аналитические статьи И.Стренски и К.Леви-Строса раскрывают перед нами значение неоценимого научного вклада Б.Малиновского.
О. Ю. Артемова
Роберт Редфилд
Магия слова Бронислава Малиновского[1*]
Никто из авторов нашего времени не сделал больше Бронислава Малиновского для сведения воедино теплой реальности человеческой жизни и холодных абстракций науки. Его работы стали почти незаменимым связующим звеном между нашими представлениями о далеких, экзотических народах, какими мы считаем наших соседей и братьев, и концептуальным и теоретическим знанием о человечестве. Талантливый новеллист обычно ярко рисует образы конкретных мужчин и женщин, но при этом не облекает свое спонтанное и глубокое понимание людей в форму научных обобщений. Исследователь же жизни социальной, напротив, по большей части предлагает общие определения, но не знакомит с реальными людьми — нет эффекта присутствия рядом с ними, когда они, скажем, выполняют свою работу или произносят свои заклинания — что может сделать абстрактные обобщения поистине выразительными и убедительными. Талант Малиновского двоякий — это и дар, которым обычно наделены художники, и способность ученого увидеть и выразить общее в частном. Читатели работ Малиновского знакомятся с рядом теоретических подходов к религии, магии, науке, обрядам и мифам, получая и вместе с тем живые впечатления о тробрианцах, чью жизнь Малиновский так очаровательно изобразил.
«Я хочу пригласить моих читателей, — пишет Малиновский, — выйти из душного кабинета теоретика на открытый воздух антропологического поля…» «Антропологическое поле» здесь, — это, как правило, Тробрианские острова. Вслед за Малиновским идя на веслах по лагуне, наблюдая за туземцами, работающими на полях под палящим солнцем, следуя за ними в джунглях и вдоль извилистого берега моря или среди рифов, мы быстро познаем их жизнь.
Эта жизнь, которую мы познаем, — одновременно и жизнь тробрианская, и жизнь обычная человеческая. Нередко адресуемые Малиновскому критические замечания о том, что он делал обобщения на основе единственного частного случая, во многом теряют свою силу, если допустить, что существует некая общечеловеческая природа и некая универсальная модель развития культуры. И ни один автор, пожалуй, не подтверждал убедительней правомерность такого допущения. Когда необычная проницательность сочетается с терпеливым и настойчивым изучением всего, что прочие ученые мужи когда-либо писали о других обществах, можно многое узнать обо всех культурах, рассмотрев лишь одну, обо всех людях, постигнув немногих.
Малиновский наблюдает людей, затем снова обращается к книгам и снова наблюдает людей. Он наблюдает людей отнюдь не за тем, чтобы увидеть то, что, по утверждениям книг, он должен увидеть, как это нередко делают другие (если, конечно, они вообще наблюдают людей). Эклектизм теории Малиновского искупается тем, что человеческая реальность, к которой он вновь и вновь возвращается, не может в полной мере быть постигнута единым теоретическим усилием. Посмотрите, как в блестящем очерке «Магия, наука и религия» излагаются различные взгляды на религию, высказывавшиеся Тайлором, Фрэзером, Мареттом, Дюркгеймом, и как, вместе с тем, на этих страницах религия предстает куда более многомерной, чем в любом отдельно взятом из описаний этих антропологов. Религия — это не только то, как люди объясняют свои сны и видения и проецируют их в реальность; это не только вид духовной силы — некая мана; нельзя ее рассматривать и исключительно в контексте социальных связей; нет, религия и магия — это пути, по которым человек, будучи человеком, должен следовать, чтобы сделать мир приемлемым для себя, управляемым и справедливым. И мы обнаруживаем истинность такого многостороннего взгляда в хитросплетениях обряда к мифа, работы и культа этого, теперь хорошо известного, островного мира Новой Гвинеи.
Возможно, метод Малиновского не удовлетворяет требованиям формальных стандартов научного подхода, потому что он всегда остается верен реальности одного обстоятельно обсуждаемого и близко известного ему примера. Если и есть у него сопоставление аборигенов Тробрианских островов с другими человеческими сообществами, то, главным образом, косвенное. Материалы о Тробрианских островах, хотя и обильные и богатые, нигде не представлены так, чтобы из них можно было бы извлечь исчерпывающую информацию или сделать тематическую сводку. Эти записки не позволяют также подбирать примеры в соответствии с собственными запросами. Нет в них и научной аргументации в строгом смысле.
Клайд Клакхон[2] охарактеризовал этот метод как «подробно изложенный анекдотический случай, который удачно вставлен в широкий антропологический [этнологический] контекст». Хорошо сказано. Ниже мы увидим, как часто удачное социологическое обобщение или глубокое постижение сути человеческого поведения оказываются результатом яркого впечатления автора о каком-либо простом событии, которое ему довелось наблюдать на этих островах. Так, научный очерк о языке строится на описании ловли туземцами рыбы в лагуне; эпизод о любопытных тробрианцах, которые один за другим пробираются к посадкам ямса, заслышав о появившемся там привидении и ничуть не испугавшись его, и несколько других подобных рассказов кладутся в основу научного анализа представлений о духах мертвых в самых разных ракурсах. Нас убеждает не формальное обоснование, а следование за Малиновским, когда он демонстрирует значение и роль верований и обрядов в обществе, которое, будучи чуждым для нас, тем не менее воспринимается нами как иная форма нашего собственного.
По сути, он убеждает нас, что антропологическая наука — это еще и искусство. Это искусство проницательного видения человека и социальной ситуации. Это искусство живого интереса к конкретному и вместе с тем способность видеть в нем общее.
Но Малиновский убеждает нас также в том, что искусство этнографического понимания, чтобы в полной мере служить своей цели, должно стать наукой. На последних страницах статьи «Балома: духи мертвых» он отвергает как ложный «культ чистого факта». «Есть такая форма интерпретации фактов, без которой невозможно проводить никакое научное наблюдение — я имею в виду интерпретацию, которая в бесконечном разнообразии фактов выявляет общие законы;… которая классифицирует и располагает в определенном порядке явления и ставит их в общую взаимосвязь».
Более поздние и более тщательно продуманные попытки Малиновского организовать накопленные факты в теоретическую систему, особенно две книги, опубликованные после его смерти, стали предметом критики, ввиду слабости этой системы. Но в статьях, собранных в этом томе, теория проста: она главным образом проясняет определения ряда основных, повторяющихся и универсальных типов социального поведения человека и стимулирует изучение тех средств, с помощью которых каждый из них удовлетворяет потребностям человека и поддерживает социальную систему.
По крайней мере, относительно двух, близко связанных тем — религии и мифа — можно сказать, что в представленных здесь работах содержатся самые ясные и тщательно продуманные формулировки Малиновского. Ни в одной из его более объемных книг тема религии не является центральной (лекция «Основы веры и морали» была опубликована в 1936 году в виде брошюры). Три работы настоящей книги так или иначе имеют отношение к этой теме. В первой статье обсуждается сходство и различия «религии, магии и науки», пожалуй, с более прозрачными пояснениями, чем в какой-либо иной из работ Малиновского и может быть даже чем в какой-либо иной работе вообще. Его талантливое перо делает понятным то, что зачастую остается неясным у других авторов. Он пишет: «Наука основывается на убеждении, что опыт, усилия и логика действенны, а магия — на вере в то, что надежда не может не сбыться, а желание — не может обмануть». Столь же выразительны сравнение и противопоставление магии и религии.
Небольшой очерк «Миф в примитивной психологии», долгое время недоступный, теперь будет с энтузиазмом принят теми, кто знает его и кто нашел и нем первую и до сих пор не имеющую себе равных работу, прокладывающую дорогу через непроходимый лес сложностей, расставляемых на пути к пониманию миф>а, легенды и народной сказки большинством из тех, кто пишет о них, исходя только из книжного знакомства с ними. Очерк Малиновского вплетает миф и сказку в контекст жизни, в само течение жизни людей, рассказывающих их.
Очерк «Балома: духи мертвых на Тробрианских островах» — одна из тех работ Малиновского, что предназначены для читателей с более специальными интересами. В ней представлено большее количество туземных текстов и другого первичного материала, чем в других статьях, включенных в этот сборник. Этот очерк также демонстрирует нам, как конкретная тема — в данном случае духи мертвых — подводит автора ко множеству иных, кроме магии и религии, аспектов местной жизни. Читателю, интересующемуся представлениями об отцовстве у примитивных[3*] народов, будет любопытно сравнить то, что Малиновский пишет на эту тему здесь, с его более поздними, значительно отличающимися утверждениями, которые он высказывает в своей работе «Сексуальная жизнь дикарей». И наконец, помещенные в конце этого очерка заметки о методах полевых исследований также будут полезны каждому антропологу.
Иван Стренски
Почему мы по-прежнему читаем работы Малиновского о мифах?[4*]
Прошло почти восемь десятков лет с тех пор, как Малиновский написал свою первую работу о мифе. Может ли он и сегодня научить нас чему-то важному? Со времени Малиновского столько потрудились над разработкой теории мифа Клод Леви-Строс, Мирча Элиаде, Карл Юнг, Джозеф Кэмпбелл и многие другие! Сказал ли Малиновский что-то такое, чего эти теоретики не смогли выразить лучше? Зачем вообще нам читать Малиновского?
Главная причина, по которой мы продолжаем читать Малиновского о мифах, состоит в том, что многие из его прозрений по-прежнему сохраняют свою значимость. Эти прозрения принадлежат к четырем сферам: функция и практика, контекст и значение, антропология и психоанализ, а также концептуальное определение мифа.
Во-первых, Малиновский сумел, как никто другой до него, четко сформулировать программу видения мифа как части культуры в ее функциональном, прагматическом измерении реализуемого, — т. е. видение мифа как составляющей деятельности, которая на практике решает определенные задачи конкретного человеческого сообщества. Во-вторых, он сформировал сознание и чувство решающего значения контекста для интерпретации мифологических смыслов. Мифы лишены какого-либо скрытого смысла, их смысл задан контекстом ситуации, в которой они возникают и бытуют. Мифы, таким образом, представляют собой отнюдь не первичные тексты или самостоятельные литературные формы. Это тексты, вплетенные в контекст. В-третьих, Малиновский был пионером в применении уроков психоанализа к изучению культуры. В то же время, он предпринял плодотворную попытку пересмотра психоаналитических обобщений с помощью этнологического кросс-культурного анализа. И наконец, в-четвертых, он продемонстрировал образец концептуального осознания эпистемологического статуса категории «миф». Он понимал, что, назвав нечто «мифом», мы должны обозначить его специфику, отграничить его от явлений, которым приписывается иная природа. Это влечет за собой ответственность в применении категориального аппарата, ибо тщетно тешить себя иллюзией, что для оправдания любых наших теоретических изысков достаточно одной лишь ссылки на некую объективную природу мифа как на данность.
И наконец, мы еще и потому читаем работы Малиновского о мифах, что это просто очень увлекательно и приятно. Малиновский был мыслителем удивительной широты, его интересы охватывали множество сфер знания, и не меньшее их число обогатили его идеи. Сначала он получил образование в области физики и математики (с изрядным креном в философию) в Краковском университете. Здесь же в 1906 году он получил докторские степени (с особой квалификацией — rigorosuin) и по физике, и по философии. Зятем последовал год совместных исследований совместно с экспериментальным психологом (а также выдающимся философом) Вильгельмом Вундтом и известным экономистом Карлом Бюхером в Лейпцигском университете, где в свое время учился и отец Малиновского. Эта тяга к фундаментальным наукам, очевидно, отчасти и обусловила его растущее увлечение так называемыми примитивными культурами, возможно вдохновленное также трудом Вундта «Психология народов» (W.Wundt, «Volkerpsychologie»). В 1910 году Малиновский переезжает в Лондон для выполнения обстоятельной программы изучения антропологии в Лондонской Школе Экономики под руководством Чарльза Зелигмана и Эдварда Вестермарка. Незадолго до начала Первой мировой войны он перебирается в Австралию и оттуда уже отправляется в Новую Гвинею, чтобы приступить к принесшим ему мировое признание полевым исследованиям (1914–1918). Эти годы полевой работы заложили основу для интенсивных исследовании по проблемам мифологии.
Работы, которые он написал по результатам своих полевых наблюдений, выявили в Малиновском фигуру гораздо более крупную, чем просто собиратель этнографических фактов. Он был интеллектуальным гением. Помимо разработки собственно этнологических проблем, его исследования, посвященные мифу, вступают в дискуссионные области фольклористики, литературной критики, лингвистики, философии, психологии, психоанализа, религиеведения и теории сексуальности. Малиновский нашел свое место в интеллектуальной жизни междувоенного Лондона, вращаясь в элитарном кругу, завсегдатаями которого были мыслители самого широкого спектра — от Бертрана Рассела до Хейвлока Эллиса. Он трудился в Лондонской Школе Экономики на протяжении почти двадцати лет и только примерно за год до смерти оставил Лондон, приняв приглашение Йельского университета. Малиновского, который прошел через опыт двух мировых войн и стремительной трансформации всего западного мира, ознаменовавшей начало двадцатого века, вполне закономерно занимали задачи приложения уроков антропологии к решению современных социальных проблем — войны и агрессии, сексуальных нравов, преступления и наказания. Малиновский был мыслителем, обладавшим замечательной способностью будоражить умы, стремившимся соединить в своих трудах научный стиль мышления и великие таинства жизни и смерти, наши так называемые экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Все это дает нам самые веские основания вновь и вновь обращаться к посвященным мифу трудам Малиновского.
Клод Леви-Строс
Бронислав Малиновский[5*]
Малиновский, бесспорно, был великим этнологом и великим социологом. Его творчество, удивительное по своему разнообразию и богатству, хотя он основывался исключительно на изучении ограниченного региона в Меланезии, не может не производить неизгладимое впечатление на всякого, кто исповедует свободу научного поиска. В социальных науках он совершил величайшей важности шаг вперед. В известном смысле не будет преувеличением сказать, что с появлением трудов Малиновского этнология вступила на путь свободы. Он был первым антропологом, который после пророческих, несмотря на все последующие разочарования, открытий Фрейда и его последователей сумел связать воедино две самые революционные области современной науки — этнологию и психоанализ. Что касается фактов и их интерпретации, Малиновский, вне сомнения, сумел отрешиться от безосновательных установок ортодоксального фрейдизма. Сами фрейдисты в один прекрасный день должны осознать, что подчиняя психологическую биографию индивида стереотипам культуры, которая его формировала, вместо того, чтобы выводить его воображаемую эволюцию из какого-то универсального психического начала, одному Богу ведомого, Малиновский придал новый импульс психоанализу — в той сфере, где сами психоаналитики оказались совершенно некомпетентны — причем импульс, аутентичный для этого научного направления как такового. Он также был первым, кто выработал особый, сугубо индивидуальный, подход к примитивному обществу — подход, в основу которого положены не отвлеченные чисто научные интересы, но прежде всего — подлинные человеческие симпатия и понимание. Он безоговорочно принял туземцев, чьим гостем он был, возложив на алтарь понимания запреты и табу своего собственного общества, эмиссаром которого он не пожелал служить. После Малиновского этнология уже не может быть только ремеслом или профессией, но должна быть истинным призванием. Чтобы стать этнологом, отныне требуются изрядная независимость мысли и великая любовь. Нельзя отрицать, что в своей позиции он не был чужд известной аффектации и желания шокировать академическую публику (что, кстати, вовсе не требует больших усилий). Но несмотря на это, его влияние было столь глубоко и столь плодотворно, что в будущем труды этнологов можно будет, пожалуй, относить к разным направлениям — «премалиновскому» и «постмалиновскому» — в зависимости от степени личностной вовлеченности и самоотдачи автора.
Собственно теоретические сюжеты в работах Малиновского дают повод для серьезной критики. Этот замечательный в своей конкретности ум отличался неустранимым и почти абсолютным пренебрежением и к исторической перспективе и к артефактам материальной культуры. Его отказ видеть в культуре нечто большее, чем только актуальные и виртуальные психологические состояния, привел к построению своеобразной системы интерпретации — функционализма[6*] — позволяющей с опасной легкостью оправдать любой существующий режим.
Зачарованный высоким полетом его мысли, ее утонченными ходами и силой жизненной убедительности, испытываешь искушение не замечать очевидные иной раз несогласованности и даже противоречия. Но и будучи явно не прав, Малиновский всегда с удивительным мастерством пробуждает научную рефлексию ученого-социолога. Его наследие, безусловно, не избежит периодов критического неприятия и даже забвения. Однако для тех, кто будет открывать его заново после провалов небытия, от коих не застрахован ни один из когда-либо живших мыслителей, его творения будут всегда нести новизну и трепетную свежесть.
Магия, наука и религия
I. Человек примитивного[7*] общества и его религия
Нет обществ, какими бы примитивными они ни были, без религии и магии. Но тут же следует добавить, что нет и диких племен, люди которых были бы начисто лишены научного мышления и элементов науки, хотя часто именно так о них судят. В каждом примитивном обществе, изучавшемся заслуживающими доверия и компетентными наблюдателями, всегда обнаруживаются две четко различимые сферы, Сакральное и Мирское (Профанное), другими словами, сфера Магии и Религии и сфера Науки.
С одной стороны, имеются передаваемые из поколения в поколение обряды и обычаи, к которым туземцы относятся как к священным, выполняя их с благоговением и окружая запретами и особыми правилами поведения. Такие обряды и обычаи всегда связаны с верой в сверхъестественные силы, особенно — в магию, или с представлениями о духах, привидениях, умерших предках, богах и сверхъестественных созданиях. С другой стороны, достаточно на секунду задуматься, чтобы понять, что никакое искусство и ремесло, какими бы примитивными они ни были, не могли бы развиться или практиковаться, никакая форма организованной охоты, рыбной ловли, возделывания земли или поиска пищи не была бы возможна без внимательного наблюдения за природными процессами и без твердого убеждения в их регулярности, без способности к логическому суждению и без уверенности в силе разума, то есть без зачатков науки.
Заслуга основания антропологического подхода в изучении религии принадлежит Эдуарду Б.Тайлору. В своей известной теории он утверждает, что сущностью примитивной религии является анимизм, вера в души и духов; он показывает, как эта вера зарождалась из ошибочной, но последовательной интерпретации сновидений, видений и тому подобных явлений. Размышляя о них, примитивный философ или теолог приходил к заключению о различии между человеческой душой и телом. Душа, очевидно, продолжает свое существование после смерти, так как она предстает в сновидениях, является оставшимся в живых в воспоминаниях и видениях и явно влияет на человеческие судьбы. Так зародилась вера в привидения и души умерших, в бессмертие и потусторонний мир. Но человек вообще, и каждый человек в частности, склонен представлять внешний мир по своему образу и подобию. А значит, раз животные действуют, так или иначе ведут себя, помогают человеку или мешают ему; растения изменяются, а предметы могут быть перемещены — все они также должны быть наделены душой или духом. Таким образом, анимизм, философия и религия примитивного человека, был построен на наблюдениях и умозаключениях, ошибочных, но понятных для незрелого и наивного ума.
Взгляды Тайлора на примитивную религию, хотя и сыграли немаловажную роль, основывались на слишком узком круге фактов и представляли первобытного человека слишком умозрительным и рациональным. Недавние полевые исследования, проведенные специалистами, показывают нам, что дикаря скорее занимают его улов, урожай плодов, события и празднества его племени, чем размышления над сновидениями и видениями или же объяснение «двойников» и каталептических трансов; нам также раскрылось множество аспектов ранней религии, которым просто невозможно найти место в Тайлоровой схеме анимизма.
Более широкий и глубокий взгляд современной антропологии нашел самое адекватное выражение во вдохновенных научных трудах сэра Джеймса Фрэзера. В них он выделяет три основные проблемы примитивной религии, которые волнуют современную антропологию: магия и ее соотношение с религией и наукой; тотемизм и социальные аспекты ранних верований; культ плодородия и размножения. Лучше всего рассмотреть эти темы поочередно.
«Золотая ветвь» Фрэзера, великий катехизис примитивной магии, ясно показывает, что анимизм не является ни единственным, ни даже господствующим религиозным представлением в примитивных культурах. Человек на ранней стадии своей истории прежде всего стремится обрести контроль над течением естественных процессов, исходя из своих практических целей, и делает он это непосредственно через ритуал и заклинание, пытаясь заставить ветер и погодные условия, животных и урожай подчиняться его воле. Лишь много позднее, обнаружив ограниченность своего магического могущества, он в страхе или в надежде, с мольбой или вызовом обращается к высшим созданиям, то есть к демонам, духам предков или богам. Именно в различии между стремлением к непосредственному контролю, с одной стороны, и умилостивлением высших сил — с другой, Джеймс Фрэзер видит грань между магией и религией. Магия, основанная на уверенности человека в том, что он обретет прямое господство над природой, если только будет знать управляющие ею магические законы, в этом аспекте сродни науке. Религия, признание пределов человеческих возможностей, поднимает человека над уровнем магии и позднее сохраняет свою независимость, существуя бок о бок с наукой, перед которой магии приходится отступить.
Эта теория магии и религии явилась исходным пунктом множества современных исследований этих двух тем-близнецов. Проф). Пронес в Германии, д-р Маретт в Англии и г-н Убер и г-н Мосс во Франции независимо друг от друга сформулировали определенные положения, отчасти идущие вразрез со взглядами Фрэзера, отчасти развивающиеся в одном ключе с направлением его научных изысканий. Эти авторы указывают на то, что, несмотря на все свое сходство, наука и магия все же радикально отличаются друг от друга. Наука рождается из опыта, а магия создается традицией. Наука руководствуется разумом и корректируется наблюдением, магия же, не воспринимая ни того, ни другого, существует в атмосфере мистицизма. Наука открыта для всех, она — общее благо всего общества, магия же оккультна, ей обучают посредством таинственных инициации, она передается по наследственной линии или же, по крайней мере, очень избирательно. В то время как наука основана на концепции естественных сил, магия зарождается из идеи некой мистической безличной силы, в которую верит большинство примитивных народов. Представление об этой силе, называемой v меланезийцев мана, у некоторых австралийских племен арангквилтха, у различных групп американских индейцев маниту, варан, аренда и безымянной у других народов, тем не менее является почти универсальной идеей, встречающейся везде, где процветает магия. Согласно только что упомянутым авторам, для большинства примитивных народов и в целом для низших стадий дикости характерна вера в сверхъестественную безличную силу, движущую всеми теми силами, которые имеют какое-либо значение для дикаря, и являющуюся причиной всех действительно важных событий в сфере сакрального. Таким образом, мана, а не анимизм определяет «минимум религии». Это «до-анимистическая религия», и мана ее сущность как сущность магии, которая поэтому радикально отличается от науки.
Однако остается вопрос, что же такое мана, эта безличная сила магии, которая предположительно господствует во всех формах ранних верований? Является ли она фундаментальным представлением, категорией, обусловленной природой примитивного разума, или же ее можно объяснить еще более простыми и более фундаментальными элементами человеческой психологии и той действительности, в которой существует примитивный человек? Наиболее оригинальный и важный вклад в изучение этих проблем сделал проф. Дюркгейм, и это касается еще одной темы, открытой Джеймсом Фрэзером, — тотемизма и социальных аспектов религии.
Согласно классическому определению Фрэзера, тотемизм означает «предполагаемую близкую связь между группой кровных родственников, с одной стороны, и каким-то видом природных или искусственных объектов, с другой стороны, каковые объекты называются тотемами данной группы людей». Таким образом, тотемизм имеет два аспекта: это способ социального группирования и религиозная система верований и обычаев. Как религия он выражает интересы примитивного человека в его среде обитания, желание заявить о своем родстве с наиболее важными объектами и стремление иметь власть над ними: прежде всего это виды животных или растений, реже — полезные неодушевленные предметы и совсем редко — вещи, созданные руками человека. Как правило, животные и растения, могущие служить основным предметом питания или, по крайней мере, животные, мясо которых употребляется в пищу, животные, которые как-то иначе используются в хозяйстве или просто содержаться для удовольствия, пользуются особой формой «тотемического почитания» и являются табу для членов клана, ассоциирующих себя с этими видами и нередко практикующих обряды и ритуалы, направленные на приумножение этих видов. Социальный аспект тотемизма состоит в подразделении племени на меньшие группы, называемые в антропологии кланами, генсами, сибами или фратриями.
Следовательно, в тотемизме мы видим не результат размышлений раннего человека о таинственных явлениях, а сочетание сугубо утилитарного беспокойства по поводу самых необходимых объектов своего окружения и некоторой одержимости теми из них, что поражают его воображение и привлекают его внимание, вроде красивых птиц, рептилий и представляющих опасность животных. С нашим знанием того, что можно назвать тотемической установкой, примитивная религия представляется нам как стоящая куда ближе к действительности и непосредственным практическим жизненным интересам дикаря, чем предполагает ее «анимистический» аспект, выделяемый Тайлором и другими ранними антропологами.
Своей, казалось бы, странной связью со сложной формой социальной организации, — я имею в виду систему кланов — тотемизм преподал антропологии еще один урок: он раскрыл значение социального аспекта во всех ранних формах культа. Дикарь зависит от группы, с которой находится в непосредственном контакте, как в силу практического сотрудничества, так и благодаря общности склада ума и вообще душевного склада, менталитета, причем зависит значительно сильнее, чем человек цивилизованный. Так как ранний культ и ритуал — что можно видеть в тотемизме, магии и многих других обычаях — близко связаны и с практическими заботами, и с духовными запросами, то между социальной организацией и религиозной верой должна существовать столь же близкая связь. Это понимал еще пионер религиозной антропологии Робертсон-Смит, полагавший, что примитивная религия «по своей сущности была скорее делом общины, чем индивидов»; этот принцип и стал лейтмотивом современных исследований. Согласно Дюркгейму, который наиболее убедительно выразил эту точку зрения, «религиозное» тождественно «социальному». Ибо «в целом… общество имеет все необходимое, для того чтобы вызвать в наших умах одной лишь своей властью, которую оно имеет над нами, чувство Божественного; ибо для его членов оно является тем, чем Бог является для его почитателей»[8]. Проф. Дюркгейм приходит к этому заключению, изучая тотемизм, который, по его мнению, является самой примитивной формой религии. По его мысли, «тотемический принцип», который тождественен мане или «Богу клана… не может быть не чем иным, как самим кланом»[9].
Позднее мы критически рассмотрим эти несколько странные и туманные заключения и увидим зерно истины, которое они, несомненно, содержат, и то, каким плодотворным оно может быть. В действительности оно уже дало всходы, оказав свое влияние на некоторые самые важные работы, написанные на стыке классического гуманитарного знания и антропологии; достаточно вспомнить работы мисс Джейн Харрисон и Корнфорда.
Третьей большой темой, привнесенной в науку о религии сэром Джеймсом Фрэзером, является тема культов размножения и плодородия. В «Золотой ветви», начиная со страшного и таинственного ритуала в честь лесных богов у неми, перед нами раскрывается поразительное разнообразие магических и религиозных культов, придуманных человеком для того, чтобы контролировать и активизировать влияния неба и земли, солнца и дождя, способствующие плодородию; такое впечатление, что ранняя религия преисполнена неукротимыми силами жизни, в ее юной красоте и первозданности, безудержности и такой неистовой мощи, что это иной раз приводит к актам самоубийственного жертвоприношения. Изучение «Золотой ветви» показывает нам, что для примитивного человека смерть означает главным образом шаг к воскресению, разложение — стадию возрождения, осеняя зрелость и зимнее увядание — прелюдию к весеннему пробуждению. Под впечатлением фрэзеровской «Золотой ветви» ряд авторов зачастую с еще большей точностью и более полным анализом, чем у самого Фрэзера, разработали то, что я бы назвал виталистическим взглядом на религию. Так, г-н Кроули в работе «Древо жизни», г-н ван Геннеп в «Обрядах перехода» и мисс Джейн Харрисон в нескольких своих работах приводят аргументы в пользу того, что вера и культ порождены кризисами жизненного цикла, «религия главным образом сосредоточена вокруг основных событий жизни, рождения, вступления в пору юности, бракосочетания, смерти»[10]. Обострение инстинктивных стремлений, сильные эмоциональные переживания приводят тем или иным образом к культу и вере. «Как искусство, так и религия зарождаются от неудовлетворенного желания»[11]. Насколько истинны эти, не вполне однозначные утверждения и насколько грешат преувеличением, мы сможем оценить позднее.
Существует еще два исследования, внесших весомые вклады в теорию примитивной религии, о которых я хочу упомянуть здесь лишь потому, что их идеи остались несколько в стороне от основного русла интересов антропологии. Они касаются примитивных представлений о едином боге и места морали в примитивной религии. Удивительно, что ими с самого начала и до сих пор продолжают пренебрегать. Разве не должны быть эти вопросы самыми насущными для любого, кто изучает религию, в какой бы грубой и зачаточной не была ее форма? Возможно, это объясняется предвзятой идеей, что «начала» должны быть очень грубыми и простыми — в отличие от «развитых форм»; или же представлением, что «дикий», или «примитивный» человек является диким и примитивным в буквальном смысле!
В свое время Эндрю Лэнг писал о существовании у некоторых австралийских туземцев веры в племенного Всеотца, а преп. отец Вильгельм Шмидт привел немало свидетельств, доказывающих, что эта вера является универсальной для всех народов простейших культур и что ее нельзя отбросить как ничего не значащий фрагмент мифологии и еще в меньшей степени — как отголосок миссионерских проповедей. Согласно Шмидту, эти верования скорее указывают на существование простых и чистых форм раннего монотеизма.
Проблема морали как функции религии на ранних стадиях ее развития также оставалась в стороне до тех пор, пока не была всесторонне рассмотрена не только в работах Шмидта, но также особенно обстоятельно в имеющих выдающее значение работах проф. Вестермарка «Происхождение и развитие моральных идей» и проф. Хобхауса «Мораль в ее эволюции».
Вывести общую тенденцию антропологических исследований по нашей теме не так легко. В целом развиваются все более гибкие и разносторонние подходы к религии. Тайлору приходилось опровергать заблуждение, что существуют примитивные народы без религии. Сегодня же мы несколько озадачены открытием того, что для дикаря все сущее оказывается религией, что он постоянно живет в мире мистики и ритуала. Если религия охватывает как «жизнь», так и «смерть», если она является результатом всех «коллективных» действий и всех «жизненных кризисов», если она вмещает в себя всю «теорию» дикаря и все его «практические заботы», то мы не без известной осторожности вынуждены спросить: что же остается вне ее, что образует сферу «мирского» (профанного) в жизни примитивного общества? В этом состоит первая проблема, в изучение которой современная антропология, с ее подчас противоречивыми теориями, внесла некоторую путаницу, что видно даже из краткого обзора, представленного выше. В следующем разделе мы попытаемся вложить свою лепту в её обсуждение.
Примитивная религия, как она предстает в современной антропологии, охватывает множество самых разнородных вещей. Будучи в начале сведена анимизмом к представлениям о сакральных образах духов предков, душ и духов мертвых (исключением были лишь немногочисленные фетиши), она постепенно принимает в свое лоно тонкую, подвижную, вездесущую ману. Далее, вбирая в себя тотемизм, она подобно Ноеву ковчегу, наполняется животными, но не парами, а целыми родами и видами, к которым присоединяются растения, неодушевленные природные объекты и даже созданные руками человека вещи; затем приходит черед человеческой деятельности и забот, появляется гигантский призрак Коллективной Души, Обожествленного Общества. Можно ли как-то упорядочить или систематизировать это смешение внешне не связанных друг с другом объектов поклонения и принципов веры? Этим вопросом мы займемся в третьем разделе.
Но одно достижение современной антропологии мы не будем подвергать сомнению: осознание того, что и магия и религия — это не просто доктрины или философии, не просто системы умственных воззрений, а особые типы поведения, прагматические установки, построенные в равной мере на здравом смысле, чувстве и воле. Это и образ действия, и системы верований, и социальные феномены, и личные переживания. Но при этом точное соотношение социального и индивидуального вкладов в религию остается неясным, о чем свидетельствуют примеры переоценки антропологами и того и другого. Неясно и каково соотношение эмоций и разума. Все эти вопросы предстоит решать антропологии будущего, а в этой короткой работе мы можем лишь попытаться предположительно ответить на них и наметить направления анализа.
II. Рациональное овладение окружающим миром
Проблема развития знания в примитивной культуре до сих пор по преимуществу игнорировалась антропологами. Изучение психологии дикаря ограничивалось почти исключительно ранней религией, магией и мифологией. Лишь последние публикации ряда английских, немецких и французских авторов, в частности блестящие и бесстрашные спекуляции проф. Леви-Брюля, пробудили у ученых интерес к тому, что делают дикари, пребывая в более трезвом состоянии духа. Результаты оказались действительно поразительными: Леви-Брюль, если говорить в двух словах, утверждает, что трезвое состояние духа вообще не было свойственно дикарю, что он был полностью и безнадежно погружен в мистические настроения. Неспособный к бесстрастному и последовательному наблюдению, не обладающий силой абстракции, скованный «решительным отвращением к рационализированию» он не мог воспользоваться плодами своего опыта и сформулировать или понять даже самые элементарные законы природы. «Для ума, ориентированного таким образом, не существует чисто физического факта». Недоступно ему и ясное представление о сущности и признаках, причине и следствии, тождестве и противоречии. Мировоззрение дикарей — это путаница предрассудков и суеверий, «дологическая» смесь мистических «сопричастностей» («партиципаций») и «несопричастностей». Я обобщил здесь точку зрения, самым решительным и компетентным выразителем которой, безусловно, является выдающийся французский социолог, но ее разделяет еще целый ряд известных антропологов и философов.
Однако звучали и диссонирующие голоса. Когда антрополог — ученый такого масштаба, как проф. Дж. Л. Майрес, — помещает в «Notes and Queries»[12*] статью под заглавием «Естествознание», и там мы читаем, что знания дикаря, «основанные на наблюдениях, отчетливы и точны», нам, конечно, следует задуматься, прежде чем принимать представление об иррациональности человека примитивной культуры как догму. Другой высококомпетентный автор, д-р А.А. Гольденвейзер, говоря об «открытиях, изобретениях и усовершенствованиях» примитивного мира (которые едва ли можно отнести на счет доэмпирического и дологического мышления), утверждает, что «было бы немудро отводить механику примитивного общества сугубо пассивную роль в создании изобретений. Немало счастливых мыслей, должно быть, мелькало в его голове, не был ему чужд и трепет восторга, возникающий, когда идея оказывается эффективной на практике». Здесь мы видим дикаря, по складу своего ума вполне сопоставимого с современным человеком науки!
Для того, чтобы перекинуть мост через пропасть, лежащую между столь крайними, но распространенными мнениями о разуме человека примитивной культуры, лучше всего разделить проблему надвое.
Первое: обладал ли дикарь каким-либо рациональным мировоззрением, какой-либо рациональной властью над окружающей средой, или же он был совершенным «мистиком», как утверждают Леви-Брюль и его школа? Ответом определенно будет: каждое примитивное общество владеет значительным запасом знаний, основанных на опыте и систематизированных разумом.
Далее встает второй вопрос: можно ли эти примитивные знания рассматривать как зачаточную форму науки, или же они, напротив, радикально отличаются от нее и являются простой совокупностью практических и технических навыков, основанных на опыте и мастерстве, и не имеют никакой теоретической ценности? Этого второго вопроса, скорее эпистемологического, чем антропологического, мы лишь слегка коснемся в конце раздела и дадим на него лишь предположительный ответ.
Рассматривая первый вопрос, мы должны проанализировать так называемую «профанную» (светскую) сторону жизни, искусства, ремесел и хозяйственных занятий и попытаться выделить в них тип поведения, определенно свободный от магии и религии, основанный на эмпирических знаниях и способности руководствоваться логикой. Мы попытаемся выяснить, не обусловлен ли характер такого поведения передаваемыми из поколения в поколение правилами, которые должны быть известны каждому, доступны для обсуждения и проверяемы. Нам следует выяснить отличаются ли социальные контексты рационального и эмпирического поведения от контекстов ритуального и культового поведения. И прежде всего мы должны будем найти ответ на вопрос: разделяют ли сами туземцы две эти сферы, воспринимают ли их как самостоятельные, или же знания у них неизменно тонут в болоте суеверий, ритуалов, магии и религии?
Так как достоверных наблюдений, отвечающих нашим задачам, крайне мало, мне придется в основном использовать собственные, в большинстве своем не опубликованные материалы, собранные в течение двухлетних полевых работ среди меланезийских и папуамеланезийских племен восточной части Новой Гвинеи и близлежащих архипелагов. И так как меланезийцы известны своей одержимостью магией, они послужат хорошей пробой на существование эмпирических и рациональных знаний у дикарей, живущих в веке шлифованного камня.
Эти туземцы, главным образом меланезийцы, населяющие коралловые атоллы к северо-востоку от главного острова — Тробрианский архипелаг и прилегающие группы островов, — являются опытными рыболовами, искусными ремесленниками и торговцами, но обеспечивают себе пропитание в основном примитивным земледелием. С помощью самых элементарных инструментов — заостренной палки для копания земли и небольшого топорика — они умудряются выращивать урожаи, достаточные для поддержания многочисленного населения и даже дающие излишек, который прежде никак не использовался и просто сгнивал, а сейчас вывозится для питания работающих на плантациях. Успехи их земледелия определяются (помимо великолепных природных условий, которыми они благословлены) обширными знаниями о типах почвы, об особенностях культивируемых растений, о совместимости этих двух факторов и — последнее, но не менее важное — пониманием значения кропотливого и тяжелого труда. Им приходится выбирать почву и высаживаемые корнеплоды, определять время для расчистки участка и выжигания леса, для посадок и прополки, опробования всходов и т. п. Во всем этом они руководствуются прекрасными знаниями о колебаниях погоды и о смене времен года, о растениях и вредителях, почве и зарытых в нее клубнях и корневищах, а также убеждением, что эти знания верны и надежны, что на них можно положиться и что им необходимо тщательно следовать.
Впрочем, вся эта деятельность перемежается магией, целый ряд обрядов выполняется на огородах каждый год в строгих последовательности и порядке. Поскольку руководство земледельческими работами находится в руках знахаря, а ритуальная и практическая деятельность тесно связаны, постольку при поверхностном наблюдении может показаться, что мистическое и рациональное поведение так переплетены, что их результаты не дифференцируются туземцами, поэтому их невозможно разграничить и при научном анализе. Так ли это на самом деле?
Несомненно, туземцы считают, что магия абсолютно необходима для плодородия их огородов. Что бы произошло без нее, никто не может точно сказать, ибо ни один огород никогда не закладывался без ритуала, несмотря на почти тридцатилетнее европейское правление, миссионерскую деятельность и более чем столетний контакт с белыми торговцами. Не освященный, заложенный без магии огород, вне всякого сомнения, будет подвержен разного рода напастям, нашествиям паразитов, проливным не по сезону дождям, набегам диких кабанов, налетам саранчи и т. п. Однако означает ли это, что все свои успехи туземцы приписывают исключительно магии? Конечно же нет. Если бы вы предложили туземцу ухаживать за огородом при помощи одной только магии, оставив работу, то он просто улыбнулся бы в ответ на вашу наивность. Ему так же хорошо, как и вам, известно о существовании естественных предпосылок и причин, и по своим наблюдениям он знает, что приложив умственные и физические усилия, он может управлять этими природными силами. Его познания, несомненно, ограниченны, но в определенных пределах они тверды и противостоят мистицизму. Если поломается ограда, если испортятся, высохнут или будут смыты дождями посадки, он прибегнет не к магии, а к работе, руководствуясь своими знаниями и умом. Однако, вместе с тем, его опыт также говорит ему, что, несмотря на всю его предусмотрительность и вне зависимости от всех его усилий, существуют факторы и силы, которые в один год даруют необычайное, не объяснимое вложенным трудом плодородие, и тогда все идет замечательно, дождь льет и солнце светит в нужное время, вредители не донимают и урожай изобилен сверх меры; а на другой год те же самые силы приносят одни несчастья и преследуют его неотвязно, сводя на нет весь напряженный труд и самые проверенные знания. И для контроля над этими, и только этими, влияниями он обращается к магии.
Таким образом, существует четкое разделение: с одной стороны, имеется набор хорошо известных условий, естественный процесс роста урожая, а также обычные вредители и опасности, с которыми необходимо бороться, строя ограждения и занимаясь прополкой. С другой стороны, имеется сфера действия необъяснимых и непредсказуемых неблагоприятных влияний, равно как и великих и ничем не заслуженных благотворных обстоятельств, которые порой непонятно почему счастливо стекаются вместе. И если с проблемами первого порядка пытаются справиться при помощи знаний и труда, то с проблемами второго — посредством магии.
Эту линию разделения можно обнаружить и в социальном контексте труда и ритуала. Хотя, как правило, знахарь, владеющий земледельческой магией, руководит также и практической деятельностью земледельцев, эти две функции строго разделяются. Каждый магический ритуал имеет свое название, свое время и место, соответствующие плану работ, и четко выделяется на фоне повседневной деятельности. Некоторые из ритуалов очень торжественны; на них должна присутствовать вся община, и любой такой ритуал проводится публично, т. е. всегда известно, когда он состоится, и любой человек может присутствовать на нем. Обряды устраиваются на особых площадках в пределах обрабатываемого участка, в специальном углу такой площадки. По такому случаю на земледельческие работы всегда налагается запрет, иногда — только на время проведения ритуала, иногда — надень или на два. В своей мирской роли лидер, он же знахарь, руководит работами, определяет время их начала, подгоняет и напутствует ленивых или небрежных работников. Но эти две роли никогда не накладываются друг на друга и не смешиваются: они всегда четко различаются, и любой туземец без колебания может сказать вам, выступает ли человек в данный момент в роли знахаря или в роли руководителя земледельческих работ.
То, что было сказано относительно обработки земли, соответствует любому другому из множества видов деятельности, в которых работа и магия идут рука об руку и никогда не смешиваются. Так, при изготовлении каноэ эмпирические знания о материале, технологии и определенных принципах устойчивости и гидродинамики используются наряду и в тесной связи с магией, но все же одно не путают с другим.
Например, меланезийцы прекрасно понимают, что чем дальше от долбленки расположен аутригер (балансир), тем выше ее устойчивость, но тем меньше прочность конструкции. Они могут четко объяснить, почему это расстояние должно быть определенной традиционной величины, измеряемой в долях длины долбленки. Они также могут объяснить с помощью элементарных, но несомненно технических терминов, как им необходимо поступить при внезапном сильном ветре, почему балансир всегда должен находиться с наветренной стороны, почему один тип каноэ может лавировать против ветра, а другой — нет. В сущности, они имеют целую систему принципов мореплавания, выражающуюся в сложной и богатой терминологии и передаваемую из поколения в поколение; они следуют ей так же разумно и неуклонно, как наши моряки придерживаются современной науки. Разве иначе они могли бы плавать на своих утлых суденышках в чрезвычайно опасных условиях?
Но даже со всеми их методично используемыми систематическими знаниями они все же остаются во власти мощных приливов и непредсказуемых течений, внезапных штормов в сезон муссонов и неведомых рифов. И здесь вступает в силу магия, к которой прибегают во время построения каноэ, отправляясь в плавание, находясь в открытом море и, конечно же, в моменты реальной опасности. Если современный моряк, вооруженный наукой и разумом, обеспеченный всевозможными средствами безопасности, плавающий на пароходах со стальным корпусом, — если даже он необычайно склонен к суеверию, что отнюдь не умаляет его знаний и разума и совсем не делает его мышление дологическим, — разве можем мы удивляться тому, что его дикий коллега в куда более рискованных условиях цепляется за безопасность и поддержку, которые сулит ему магия?
Очень интересным и имеющим решающее значение примером является рыбная ловля на Тробрианских островах и присущая ей магия. В то время как в деревнях, расположенных по берегам внутренней лагуны, рыбная ловля осуществляется легким и абсолютно безопасным способом — глушением рыбы ядом, обеспечивающим богатый улов без всякого риска и неожиданностей, — на морском побережье практикуются более опасные методы рыбной ловли, в том числе такие, результат которых в значительной степени зависит от того, появятся ли в местах ловли рыбные косяки или нет. В высшей степени примечательно, что для рыбной ловли в лагуне, где человек может полностью полагаться на свои знания и умения, магии не существует, в то время как для рыбной ловли в открытом море, рискованной и непредсказуемой, существуют подробно разработанные магические ритуалы, призванные обезопасить ловцов и обеспечить хороший улов.
Точно так же туземцы знают, что в боевых действиях решающую роль играют сила, отвага и ловкость. Однако здесь они тоже практикуют магию, чтобы совладать с элементами случайности и злого рока.
Нигде дуализм естественных и сверхъестественных причин не разделен столь тонкой и запутанной и тем не менее, если ее тщательно проследить, столь отчетливой, определяющей и путеводной линией, как в поистине роковых силах человеческой судьбы: здоровья и смерти. Здоровье для меланезийцев означает естественный порядок вещей, и человеческое тело должно оставаться в прекрасном состоянии, если с ним не обращаться легкомысленно. Туземцам хорошо известно, что существуют естественные факторы, которые могут воздействовать на здоровье и приносить вред телу. Хорошо известно, что естественной причиной увечий и даже смерти может быть отравление, рана, ожог, падение. Пути в потусторонний мир для тех, кто умер от колдовства, и для тех, кто встретил естественную смерть, неодинаковы. И это отнюдь не вопрос личного мнения того или иного индивида, а представление, лежащее в основе передаваемых из поколения в поколение знаний и верований. Опять же общепризнанно, что холод, жара, перенапряжение, слишком долгое пребывание на солнце, переедание могут повести к недомоганиям, которые лечатся естественными средствами вроде массажа, парного эффекта, прогревания у костра и определенных снадобий. Известно, что старение приводит к физическому угасанию, и туземцы объясняют это так: старые люди постепенно теряют силы, пищевод у них закрывается, и поэтому они умирают.
Но кроме этих естественных причин существует еще огромная сфера колдовства, и куда больше недугов и смертельных случаев приписывается именно ему. Линия разграничения между колдовством и другими причинами и в теории, и, чаще всего, на практике довольно отчетлива, но следует учесть, что это вопрос, в котором определенную роль всегда играет личная перспектива человека. Чем ближе данный конкретный случай касается человека, который дает ему оценку, тем менее «естественным» и более «магическим» он оказывается. Так, очень старый человек, чья приближающаяся смерть другими членами общины воспринимается как нечто естественное, сам станет всячески опасаться колдовства, стараясь не думать о своей естественной участи. Больной человек может усматривать причину своей болезни в колдовстве, тогда как все вокруг будут говорить о чрезмерном количестве орехов бетеля[13*], обжорстве или каких-либо иных излишествах.
Но кто же из нас готов признать, что его собственные физические недуги и неизбежная смерть — сугубо естественные явления, всего лишь мизерные звенья в бесконечной цепи событий? Для самых рациональных из цивилизованных людей здоровье и болезнь, неотвратимость смерти, — все это окутано эмоциональным туманом, который только сгущается по мере приближения роковых событий. Просто поразительно, что «дикари» могут придерживаться столь трезвого и бесстрастного взгляда на эти вещи, каким они в действительности обладают.
Таким образом, в своем отношении к судьбе и природе, стремится ли он подчинить их себе или противостоять им, человек примитивной культуры признает существование как естественных, так и сверхъестественных сил и факторов и пытается использовать и те и другие в своих интересах. И даже когда он на опыте убеждается, что усилия, направляемые знанием, приносят пользу, он все же не станет, конечно же, ни тратить усилия понапрасну, ни игнорировать магию. Он знает, что растение не может расти только лишь благодаря магии, что каноэ не поплывет, не будучи надлежащим образом сконструировано и должным образом управляемо, и что победа в поединке невозможна без мастерства и отваги. Он никогда не полагается на одну лишь магию, напротив, иногда он совершенно расстается с ней, как, скажем, при разжигании огня и в ряде других занятий и ремесел. Но там, где человек видит недостаточность своих знаний и своего рационального подхода, он обращается к магии.
Я указал причины, почему в этом вопросе я вынужден полагаться главным образом на материал, собранный в классической стране магии, в Меланезии. Но обсуждаемые факты настолько фундаментальны, а заключения имеют такой общий характер, что не составит труда проверить их с помощью любого современного, тщательно проведенного этнографического исследования. Сравнивая земледельческие работы и магию, постройку каноэ и искусство исцеления с помощью магии и естественных средств, представления о причинах смерти в различных районах и т. п., можно было бы легко доказать универсальную значимость сделанных здесь утверждений. Только по той причине, что никаких методичных наблюдений, специально направленных на изучение примитивных знаний, не проводилось, в работах других авторов необходимые данные пришлось бы выискивать по крупинками, а доказательства могли бы быть лишь косвенными.
Я предпочитаю подходить к проблеме рациональных знаний человека примитивного мира прямо: наблюдая за ним во время его основных занятий, видя, как он от работы переходит к магии и от магии к работе, вникая в его настроения и прислушиваясь к его высказываниям. К решению этой проблемы в целом можно было бы подступиться со стороны языка, но это завело бы нас слишком далеко в сферу логики, семасиологии, теории примитивных языков. Слова, которые служат для выражения общих понятий, таких как «существование», «сущность» и «свойство», «причина» и «следствие», «главное» и «второстепенное»; слова и словосочетания, употребляемые в ходе таких сложных занятий, как мореплавание, строительство, измерение и выверка; цифры и количественные определения; точные и подробные классификации природных явлений, растений и животных — все это привело бы нас к тем же выводам: человек примитивной культуры может наблюдать и размышлять, он обладает воплощенной в его языке системой согласованных, хотя и рудиментарных, знаний.
К подобным же заключениям приводит и изучение тех ментальных схем и физических изобретений, которые могут быть представлены в виде диаграмм или формул. Способы определения сторон света, объединение звезд в созвездия, соотнесение их расположения на небосводе с временами года, разделение года на поименованные месяцы и выделение лунных фаз — все эти достижения человеческого разума известны самым простейшим из дикарей. Они также могут рисовать на песке или земле диаграммы-карты своей местности, обозначать взаимное расположение природных объектов при помощи небольших камешков, раковин или палочек, размещая их на земле, и планировать по таким элементарным схемам свои экспедиции или военные походы. Согласовывая время и место, они могут организовывать многолюдные племенные собрания и координировать перемещения больших количеств людей на обширных территориях. Хорошо известно и представляется почти универсальным использование листьев, засечек на деревяшках и других вспомогательных средств для запоминания. Такие «диаграммы» позволяют сложную и необъятную часть реальности свести к простой и удобной модели, дают человеку сравнительно простые средства мысленного контроля над этой реальностью. Разве они в этом качестве не подобны — хотя, несомненно, и в очень рудиментарной форме — научным формулам и «моделям», которые также представляют собой простые и доступные «парафразы» сложной или абстрактной реальности, дающие цивилизованному физику мысленный контроль над ней?
Это подводит нас ко второму вопросу: можем ли мы рассматривать примитивные знания, которые, как мы обнаружили, являются и эмпирическими, и рациональными, в качестве зачаточной стадии науки, или они вообще не имеют отношения к ней? Если под наукой понимать систему понятий и законов, которые основаны на опыте и выведены из него путем логических умозаключений, которые находят воплощение в материальных достижениях, существуют в фиксированном традицией оформлении и поддерживаются определенного рода социальной организацией — тогда нет никакого сомнения, что даже сообщества дикарей, стоящие на низшей стадии развития, имеют начала науки, хотя и рудиментарные.
Эпистемологи, конечно же, не будут удовлетворены таким «минимальным определением» науки, ибо его можно применить и к правилам какого-либо искусства или ремесла. Они будут утверждать, что научные истины должны быть четко сформулированы, открыты для проверки экспериментом и для критического анализа. Это должны быть не просто правила, дающие руководство к действию, но теоретические законы познания. Однако даже если принять такой более строгий подход, можно не сомневаться, что многие из принципов познания дикарей являются научными именно в этом смысле. Туземный плотник не только на практике знает о плавучести, действии рычага и равновесии, он не только должен следовать этим законам на воде, он не только учитывает эти принципы при построении каноэ. Он еще и обучает им своих помощников. Он передает им традиционные правила, и грубым, простейшим способом — используя свои руки, куски дерева и ограниченный технический словарный запас — объясняет некоторые общие законы гидродинамики и равновесия. Наука здесь не отделена от ремесла, что безусловно верно, она лишь служит средством достижения конкретных целей, она рудиментарна, примитивна и слабо выражена, но вместе с тем она является матрицей, из которой могут развиться более высокие достижения.
Если мы все же применим еще один критерий подлинной науки — не обусловленный утилитарными нуждами поиск знаний и понимания причин и следствий — то и тогда ответ не будет совершенно отрицательным. В обществе дикарей, конечно же, не культивируется жажда знаний. Различные новшества, вроде предметов европейской культуры, вызывают у них откровенную скуку, и их интересы определяются главным образом традиционным миром их культуры. Но в этом мире мы находим и страстного любителя старины, интересующегося мифами, легендами, деталями обычаев, родословными и событиями древности, и терпеливого и усердного в своих наблюдениях натуралиста, способного делать обобщения и объединять в длинные цепи события из жизни животных, обитателей моря и джунглей. Чтобы оценить этот бескорыстный интерес к природе, Достаточно вспомнить, сколь многому европейские натуралисты научились у своих коллег-дикарей. И наконец, как хорошо известно каждому полевому работнику, в примитивной общине всегда есть свой социолог, идеальный информатор, способный с удивительной точностью и проницательностью охарактеризовать raison d'etre[14*], функции и организацию многих институтов племенной жизни.
Конечно же, ни в каком доцивилизованном обществе наука не может быть движущей силой — критикующей, обновляющей, созидающей. Науку здесь никогда не делают сознательно. Но если исходить из такого критерия, то придется признать, что у дикарей также нет ни закона, ни религии, ни управления.
Однако вопрос, следует ли называть это «наукой» или же только «эмпирическими и рациональными знаниями», в данном контексте не имеет первостепенного значения. Мы попытались точно выяснить, существует ли в сознании дикаря одна сфера действительности или две, и обнаружили, что помимо сакрального мира культа и веры он знает и светский мир практической деятельности и рационального мировоззрения. Нам удалось очертить границы этих двух миров и дать более подробное описание одного из них, теперь нам необходимо перейти ко второму.
III. Жизнь, смерть и судьба в ранней вере и культе
Теперь мы переходим к сфере Сакрального, к религиозным и магическим верованиям и обрядам. Наш исторический обзор теорий оставил нас несколько обескураженными сумятицей идей и неразберихой явлений. Хотя трудно было не включить в сферу религии одно за другим духов и призраков, тотемы и социальные явления, смерть и жизнь, все же религия при этом превращалась в нечто все более и более непонятное, во все и в ничто одновременно. Ее содержание, конечно же, нельзя определять слишком узко через объекты почитания как «поклонение духам» или «культ предков» или как «культ природы», она включает в себя и анимизм, и аниматизм, и тотемизм, и фетишизм, но не сводится к чему-то одному исключительно; необходимо отказаться от определения религии в ее истоках с помощью всевозможных — измов, так как религия не привязана к какому-нибудь одному объекту или классу объектов, она может касаться всего и освящать все. Не идентифицируется она, как мы видели, и с Обществом или Социальностью, не могут нас удовлетворить и неопределенные ссылки на то, что она сопряжена лишь с жизнью, ибо не жизнь, а смерть открывает, пожалуй, самые безбрежные горизонты потустороннего мира. Характеризуемая как «обращение к высшим силам», религия может быть лишь отграничена от магии, но не определена как таковая. И даже этот критерий разграничения магии и религии следовало бы модифицировать и дополнить.
Одним словом, перед нами стоит задача попытаться как-то упорядочить факты. Это позволит нам более точно установить характер сферы Сакрального и отделить ее от сферы Мирского. Это также поможет нам определить соотношение магии и религии.
Самое лучшее будет первым делом обратиться к фактам, и чтобы не сужать сферу обзора, возьмем в качестве путеводной нити самое нечеткое и общее определение — «Жизнь». Фактически даже поверхностного знакомства с этнологической литературой оказывается достаточно, чтобы убедиться в том, что физиологические стадии человеческой жизни и прежде всего ее переломные моменты, такие как зачатие, беременность, роды, наступление половой зрелости, бракосочетание и смерть, составляют ядро бесчисленных верований и обрядов. Так, представления о зачатии как о реинкарнации предка, внедрении в женщину духа-ребенка, магическом оплодотворении в той или иной форме существуют почти у всех племен и, как правило, связаны с выполнением различных обрядов и религиозных предписаний. Во время беременности будущая мать должна придерживаться определенных табу и совершать определенные ритуалы, причем иногда эти обязанности разделяет с ней и ее муж. При родах, перед ними и после них, отправляются различные магические обряды, которые должны отвратить опасности и снять возможные влияния колдовства; проводятся ритуалы очищения, общинные празднества и церемониальные представления новорожденного высшим силам или общине. Позднее в своей жизни мальчикам и, намного реже, девочкам надлежит пройти череду обрядов инициации, часто длительных, окутанных тайной и отягощенных жестокими и, казалось бы, непристойными испытаниями.
Даже остановившись на этом, мы можем видеть, что уже само начало человеческой жизни окружено невероятно запутанным смешением верований и обрядов. Кажется, что их стягивает к себе некая притягательная сила всякого значительного жизненного события, они словно кристаллизуются вокруг него, покрывают его броней формальностей и обрядности — но с какой целью? И если мы не можем дать определение культов и верований по их объектам, то может быть нам удастся понять их функции?
Более близкое рассмотрение фактов позволяет нам провести их предварительную классификацию на две основные группы. Сравните обряд, проводящийся для предотвращения смерти при родах, с другим типичным обычаем, ритуалом празднования рождения. Первый обряд выполняется как средство для достижения определенной цели, которая известна всем, практикующим его; ее вам укажет любой из туземных информаторов. После же родов ритуал представления новорожденного или пир в честь этого события не служат средством достижения какой-либо цели: такие церемонии являются самоцелью. Они выражают чувства матери, отца, родственников, всей общины, но эти церемонии не предполагают какого-то будущего события, которому они должны способствовать или которое они предназначены предотвратить. Эта разница будет служить нам в качестве prima facie[15*] различия между магией и религией. В то время как в магическом акте лежащие в его основе идея и цель всегда ясны, прямо заданы и определенны, в религиозном обряде нет нацеленности на последующее событие. Лишь социолог может установить функцию, социальную raison d'etre действа. Туземец всегда может точно назвать цель магического ритуала, но относительно религиозного обряда он скажет, что этот обряд проводится потому, что таков обычай, или потому, что так предписано, либо приведет поясняющий миф.
Для того чтобы лучше понять природу примитивных религиозных обрядов, давайте проанализируем ритуалы инициации. Будучи широко распространены, они везде обнаруживают явное и поразительное сходство. Так, посвящаемые должны пережить более или менее длительный период изоляции и подготовки. Затем наступает собственно инициация, во время которой юноша, пройдя через ряд испытаний, в конце концов подвергается акту нанесения телесного увечья: от самого легкого — неглубокого надреза на теле или выбивания зуба — до более серьезного — обрезания, а то и поистине жестокого и опасного, такого как подрезание[16*], практикуемое в некоторых австралийских племенах. Испытание обычно связано с идеей смерти и возрождения инициируемого, что иногда представляется в форме драматической инсценировки. Но кроме испытания имеется второй существенный аспект инициации, менее впечатляющий и драматичный, но в действительности более важный; это — систематическое ознакомление юноши с мифами и священным преданиями, постепенное приобщение к племенным мистериям и демонстрация сакральных объектов.
Обычно считается, что испытание и посвящение в племенные таинства были введены одним или несколькими легендарными предками, культурными героями или же Высшим Существом сверхчеловеческой природы. Иногда говорится, что оно заглатывает или убивает юношей, а затем возвращает их к жизни как полностью инициированных мужчин. Его голос имитируют звуком вращаемой гуделки[17*], что должно вселять ужас в непосвященных женщин и детей. Эти идеи инициации призваны приблизить посвящаемого к высшим силам и существам, таким как Духи-Хранители и Божества-Патроны инициации у североамериканских индейцев, племенной Всеотец некоторых групп австралийских аборигенов, Мифические Герои Меланезии и др. Это третий фундаментальный элемент (наряду с испытаниями и приобщением к священным традициям) обрядов, знаменующих наступление мужской зрелости.
Какова же социальная функция этих обычаев, какую роль они играют в поддержании и развитии цивилизации? Как мы уже видели, эти обряды приобщают юношу к священным традициям в очень впечатляющих условиях изоляции и испытаний, затем, согласно воле сверхъестественных существ и по знамению свыше, страхи развеиваются, лишения и физическая боль отступают, и свет племенных откровений озаряет посвященного.
Следует признать, что в примитивных обществах традиция представляет собой наивысшую ценность для общины, и ничто не имеет такого значения, как конформизм и консерватизм ее членов. Цивилизационный порядок требует строгого соблюдения обычаев и следования знаниям, полученным от предшествующих поколений. Любая небрежность в этом ослабляет сплоченность группы и подвергает опасности ее культурный багаж — вплоть до угрозы самому ее существованию. На этой стадии развития человек еще не овладел исключительно сложным аппаратом современной науки, позволяющим сегодня фиксировать результаты опыта надежными способами, проверять и перепроверять их, постепенно искать более адекватные средства их отражения, непрерывно обогащая новым содержанием. Та порция знаний, которой обладает человек примитивной культуры, те социальные институты, которые организуют его жизнь, и те обычаи и верования, которым он следует, все это — бесценное наследие тяжелого опыта его предков, добытого непомерными жертвами. И все это должно сохраняться любой ценой. Таким образом, из всех его качеств верность традициям является важнейшим, и общество, сделавшее свои традиции священными, достигло тем самым неизмеримого успеха в деле укрепления своего могущества и своей стабильности. Поэтому те верования и обычаи, которые окружают традиции ореолом священности и ставят на них печать сверхъестественного, представляют собой «залог выживания» для цивилизации, их породившей.
Таким образом, мы можем определить основную функцию обрядов инициации: они являются драматическим ритуальным выражением высшей власти и ценности традиции в примитивных обществах; они также призваны запечатлеть эту власть и ценность в умах каждого поколения и в то же время служат исключительно эффективным средством передачи новым поколениям духовного наследия племени, обеспечения непрерывности традиций и поддержания племенного единства и племенной солидарности.
Но у нас все еще остается вопрос: какова связь между чисто физиологическим фактом полового созревания, которое этими церемониями знаменуется, и их социальным и религиозным аспектами? Мы сразу же обнаруживаем, что здесь религия несет с собой нечто большее, и неизмеримо большее, чем просто «сакрализацию жизненного кризиса». Естественное событие она превращает в социальную трансформацию; к физиологическому факту наступления телесной зрелости она добавляет глобальную идею вступления в пору мужской социальной зрелости с ее ответственностью, обязанностями, привилегиями и, что важнее всего, знанием традиций и причастностью к миру священных предметов и священных существ. Обряды религиозного свойства несут в себе, таким образом, креативное начало, являются своего рода актами творения. Такие акты творят не только социально значимую перемену в жизни индивида, но также и духовную метаморфозу, связанную с биологическим событием, но превосходящую его по своим значению и важности.
Инициация — это типично религиозное действо, и здесь мы можем отчетливо видеть, как ритуал и его цель сливаются воедино, как цель достигается самим свершением акта. В то же время мы можем видеть функцию таких актов в обществе, состоящую в том, что они формируют склад ума и социальные устои, имеющие неоценимое значение для данной группы и ее цивилизации.
Другой тип религиозного действа, обряд вступления в брак, также несет цель в самом себе, так как он создает санкционированные свыше узы, превращая событие, в основе своей биологическое, в явление более глубокого содержания: союз мужчины и женщины для пожизненного партнерства в любви, ведения хозяйства, рождения и воспитания детей. Такой союз — моногамный брак — всегда существовал в человеческих обществах; так утверждает современная антропология вопреки старой фантастической гипотезе о «промискуитете» и «групповом браке». Скрепляя моногамный брак печатью значимости и святости, религия вносит в человеческую культуру еще один бесценный вклад. И это подводит нас к рассмотрению двух важнейших человеческих потребностей — воспроизводства и пропитания.
Воспроизводство и пропитание выделяются как первостепенные из всех жизненно важных забот человека. Их связь с религиозными верованиями и обычаями часто акцентировалась и даже переоценивалась исследователями. Особенно часто переоценивалось значение секса, именно в нем многие исследователи — от некоторых старых авторов до представителей психоаналитической школы — искали основной источник религии. Однако в действительности секс играет на удивление незначительную роль в религии, принимая во внимание его реальное влияние на человеческую жизнь в целом. Кроме любовной магии и использования секса в некоторых других магических актах — феноменах, не относящихся к сфере религии — остается упомянуть здесь только свободу совокупления во время праздников урожая и некоторых других публичных церемоний, храмовую проституцию и поклонение фаллическим божественным символам на стадиях варварства и низших цивилизаций. Вопреки ожиданиям, у дикарей сексуальные культы играют лишь незначительную роль. Следует также помнить, что свобода ритуальных совокуплений представляет собой не просто временное снятие половых запретов, но выражает преклонение перед силами воспроизводства и плодородия в человеке и в природе, силами, от которых зависит само существование общества и культуры. Религия — постоянный проводник морального контроля; меняя сферы своего влияния, она остается неизменно бдительной и потому вынуждена обратить свое внимание на эти силы, поначалу просто включая их в область своих интересов, затем сдерживая их и в конце концов устанавливая идеал целомудрия и освящая аскетизм.
Первое, что следует отметить, переходя к проблеме пропитания у человека примитивной культуры, это то, что для него принятие пищи является действием, связанным с особыми правилами, специфическими предписаниями и запретами, а также с эмоциональным напряжением такого накала, какой нам и не снился. Помимо того, что пища является непосредственным объектом магических ритуалов, направленных на обеспечение людей ею надолго или навсегда (не говоря уж о бесчисленных видах магии, связанных с добыванием пропитания), она играет также заметную роль в ритуалах явно религиозного характера. Ритуальные пожертвования первых плодов, праздники урожая, большие сезонные пиры, когда весь собранный урожай выставляется на общее обозрение и тем или иным образом освящается, занимают видное место в жизни земледельческих народов. Охотники и рыболовы также отмечают хорошую добычу или открытие нового промыслового сезона пирами и празднествами, на которых совершаются ритуальные действия с пищей. Проводят они и обряды умилостивления и почитания животных, выступающих объектом охоты. Все такие акты выражают жизненную заинтересованность общины в изобилии пищи, осознание огромной ее ценности; таким образом религия освящает преклонение человека перед своим хлебом насущным. Для человека примитивного общества, никогда, даже в самых благоприятных обстоятельствах, не перестающего ощущать опасность голода, достаток пищи является первым условием нормальной жизни. Он означает возможность отвлечься от повседневных забот и уделить большее внимание не столь насущным духовным аспектам цивилизации. Таким образом, если мы примем во внимание, что пища является основным связующим звеном между человеком и его окружением, что, добывая ее, он ощущает себя во власти судьбы и провидения, то сможем понять культурный, более того, биологический смысл сакрализации пищи в примитивной религии. Мы обнаружим здесь также зачатки того, что в высших формах религии разовьется в чувство зависимости от провидения, благоговения перед ним, упования на него.
Теперь, имея для сравнения ранние формы религиозного благоговения перед ниспосланным свыше изобилием хлеба насущного, можно увидеть в новом свете две универсальные формы ритуального использования пищи — жертвоприношение и причастие. То, что в жертвоприношении огромную роль играет идея дара, осознание важности обмена подарками на каждой стадии любого социального контакта, в свете новых знаний о примитивной хозяйственной психологии представляется (несмотря на непопулярность этой теории сегодня) не подлежащим сомнению. Как всякое свое общественное сношение туземцы обычно сопровождают преподнесением даров, так и духам, посещающим деревню, демонам, обитающим в каком-нибудь святом месте, и божествам, к которым обращаются за помощью, они отдают должное: доля общего достатка приносится им в жертву, точно так же, как получили бы свое любой гость и любой человек, которого навещают. Но в основе этого обычая лежит еще более глубокий религиозный смысл. Поскольку еда для дикаря является знаком милости, благосклонности судьбы, поскольку изобилие дает ему первые догадки и самое элементарное представление о Провидении — постольку, делясь в жертвоприношении своей пищей с духами и божествами, дикарь делится с ними и благосклонностью к нему Провидения, уже ощущаемого им, но еще не понятого. Таким образом, корни жертвенных подношений примитивных обществ лежат в психологии дарообмена, основанной на восприятии изобилия как благосклонного дара, приносимого общине в целом.
Принятие пищи как причащение к сакральному — еще одно проявление того же мировоззрения; самое естественное проявление — посредством действия, благодаря которому поддерживается и возобновляется жизнь. Впрочем, этот ритуал исключительно редок на низших стадиях дикости; таинство причастия, получая широкое распространенное на том уровне культуры, которому уже не присуща примитивная психология еды, приобретает совершенно иной символический и мистический смысл. Наверное, единственным достоверно засвидетельствованным и известным в деталях примером причащения через принятие пищи является так называемое тотемическое причастие центрально-австралийских племен, и оно, пожалуй, требует несколько иной, специфической интерпретации.
Итак мы подошли к проблеме тотемизма, коротко обозначенной в первом разделе. Как можно было видеть, для понимания этой проблемы следует ответить на следующие вопросы. Во-первых, почему примитивное племя выбирает в качестве тотемов ограниченный круг объектов, главным образом, животных и растения, и по какому принципу делается этот выбор? Во-вторых, почему такое избирательное отношение выражается в вере в родство с этими объектами, в культах размножения и, главное, в негативных предписаниях — табу на поедание тотема — а также в позитивных предписаниях: ритуальное поедание тотема, подобное австралийскому «тотемическому причастию»? И, наконец, в-третьих, почему параллельно с выделением в природе ограниченного числа избранных видов происходит разделение племени на кланы, соотнесенные с этими видами?
Выше охарактеризованная психология примитивного восприятия пищи, ее достатка, а также наш принцип поиска практических и прагматических оснований в человеческом мировоззрении подводят нас к искомым ответам. Мы видели, что пища является первейшим связующим звеном между дикарем и Провидением. А потребность в ней и стремление к ее обилию побуждают человека к хозяйственным занятиям, собирательству, охоте, рыболовству, и он привносит в эти занятия сильные и разнообразные эмоции. Главными объектами интересов членов племени являются определенные виды животных и растений — те, что составляют основу их питания. Для человека примитивной культуры природа является живой кладовой, к которой (особенно на низших стадиях социального развития) ему приходится непосредственно обращаться, чтобы добыть, приготовить и съесть пищу, когда он голоден. Дорога от девственной природы через желудок дикаря к его сердцу очень коротка, весь мир для него остается лишь общим фоном, на котором выделяются полезные, главным образом съедобные, виды животных и растений. Тот, кому довелось жить с дикарями в джунглях, кто принимал участие в их собирательстве или охотничьих рейдах, тот, кто плавал под их парусами в лагунах или проводил лунные ночи на песчаных отмелях в ожидании рыбного косяка или черепашьего выводка, — тот знает, насколько обострено и избирательно внимание дикаря, как оно концентрируется лишь на признаках присутствия желанной добычи, ее следах, повадках и других особенностях, оставаясь при этом совершенно нечувствительным к любым иным раздражителям. Каждый природный вид, являющийся обычным объектом добывания, становится как бы ядром, вокруг которого «кристаллизуются» все интересы, стремления и эмоции племени. Каждый такой вид обрастает чувствами социального характера, чувствами, которые, естественно, находят отражение в фольклоре, вере и ритуале.
Необходимо также помнить, что тот же естественный импульс, который вселяет в детей восхищение птицами, живой интерес к животным и отвращение к рептилиям, — тот же импульс выдвигает животных на передний план природного мира и в восприятии человека примитивной культуры. Благодаря своему фундаментальному сходству с человеком — подобно ему они движутся, издают звуки, способны чувствовать, имеют тела и «лица» — а также благодаря своим превосходящим человеческие способностям — птицы летают в небе, рыбы плавают под водой, рептилии, сменяя кожу, обновляют тело и к тому же могут уползать под землю — благодаря всему этому животное, промежуточное звено между природой и человеком, часто более сильное, подвижное и ловкое, чем человек, и в то же время обычно служащее ему добычей, занимает исключительное место в мировоззрении дикаря.
Человек примитивного общества испытывает глубокий интерес к внешнему облику и повадкам зверей; он мечтает овладеть ими, обладать контролем над ними — как над полезными и съедобными вещами; иногда он восхищается ими, иногда боится их. Все это суммируется и усиливает одно другое, неизменно приводя к тому, что в основном внимание человека поглощено ограниченным числом природных видов, в первую очередь — животных, а затем — растений, в то время как неодушевленные или созданные человеком вещи образуют бесспорно лишь второй план, который выстраивается по аналогии из предметов, не имеющих ничего общего с сущностью тотемизма.
Природа человеческого интереса к тотемическим видам также четко указывает на тип веры и культа, которых следует ожидать при этом. Поскольку этот интерес обусловлен желанием контролировать эти виды, опасные, полезные и съедобные, постольку такое желание должно вести к вере в особую власть над этими видами, в родство с ними, в единство сущности человека и зверя или растения. Такая вера, с одной стороны, подразумевает определенные ограничения и особое почитание (самое очевидное — запрет убивать и употреблять в пищу); с другой стороны, она наделяет человека сверхъестественной способностью посредством ритуала оказывать воздействие на плодородие этих видов, рост их численности и увеличение жизнеспособности.
Этот ритуал ведет к актам магического свойства, призванным обеспечить достаток. Как мы сейчас увидим, во всех своих проявлениях магия обычно постепенно становится специализированной, исключительной функцией, ограниченной определенным кругом посвященных и передаваемой по наследству в рамках семьи или клана. В тотемизме задача магического приумножения каждого вида превращается в обязанность и привилегию специалиста, которому помогает его семья. С течением времени семьи становятся кланами, каждый из которых имеет своего главу — первейшего мага, обладающего властью над тотемом клана. Тотемизм в его самой элементарной форме, как свидетельствует пример племен Центральной Австралии, является системой магической кооперации, набором культовых практик, которые, основываясь на отдельных социальных базах, преследуют одну общую цель: обеспечение достатка для племени.
Таким образом, тотемизм в его социальном аспекте можно объяснить, исходя из принципов социологии примитивной магии в целом. Существование тотемических кланов и их взаимосвязь с культом и верой являются лишь одним из примеров специализированной магии и тенденции наследования магических функций в рамках одной семьи. Это объяснение, правда, несколько сжатое, призвано показать, что и по своей социальной природе, и как вера и культ тотемизм не есть причудливое порождение или случайный результат какого-то особенного обстоятельства или их стечения, а есть естественное следствие естественных условий.
Итак, мы получаем ответ на наши вопросы: избирательный интерес человека к ограниченному набору животных и растений, а также ритуальное отражение и социальное оформление этого интереса — естественный результат примитивного бытия, порождение стихийного восприятия дикарем природных объектов, а также — производное преобладающих функций человеческой жизнедеятельности. Сточки зрения выживания решительно необходимо, чтобы интерес человека к практически незаменимым видам никогда не ослабевал, чтобы вера в способность контролировать их придавала ему силу и выносливость в его трудах и поощряла к наблюдениям и познанию повадок животных и свойств растений. Следовательно, тотемизм оказывается освященным религией благословением усилий примитивного человека в его взаимодействии с полезным окружением, в его «борьбе за существование». В то же время тотемизм формирует в человеке почтительное отношение к тем видам растений и животных, от которых он зависит и к которым он чувствует какую-то благодарность, хотя их уничтожение и является неизбежным. И все это вытекает из веры в родство человека с силами природы, особенно мощно на него влияющими. Таким образом, мы находим моральную ценность и биологический смысл в тотемизме, в системе верований, обычаев и социальных установлений, которые на первый взгляд кажутся лишь плодом детской, бессмысленной и вырождающейся фантазии дикаря.
Среди источников религии высший и последний жизненный кризис — смерть — является самым важным. Смерть — это врата в иной мир в более чем буквальном смысле. Согласно большинству концепций ранней религии, религиозное состояние духа, чаще всего, если не всегда, имеет своим исходным импульсом смерть — и в этом ортодоксальные взгляды в целом верны. Человеку приходится жить в тени смерти, и он, который так цепляется за жизнь и так наслаждается ее полнотой, должен страшиться неотвратимости ее конца. Перед лицом смерти он обращается к надежде на вечную жизнь. Смерть и ее отрицание — бессмертие — всегда, как и сегодня, были самой мучительной темой раздумий человека. Исключительная сложность эмоциональных реакций человека на жизнь неизбежно находит свое соответствие в его отношении к смерти. Только то, что в жизни разворачивалось длинной вереницей следующих друг за другом событий и переживаний, здесь, где она обрывается, сконцентрировано в одном критическом моменте, который вызывает сильнейший и сложный взрыв религиозных проявлений.
Даже у самых примитивных народов отношение к смерти бесконечно более сложно и, я могу добавить, более сходно с нашим, чем обычно считается. Антропологи часто утверждают, что живые испытывают два главных чувства по отношению к умершим — ужас пред трупом и страх перед духом. Этот психологический дуализм рассматривался в качестве ядра всех религиозных верований и обычаев авторитетом столь крупным, как Вильгельм Вундт. Однако это лишь полуправда, а значит и вовсе неправда. Эмоции исключительно сложны и даже противоречивы; доминирующие элементы — любовь к умершему и отвращение к трупу, страстная привязанность к личности, о которой все еще напоминает тело, и сокрушительный страх перед той страшной вещью, что от нее осталась — эти два элемента смешиваются и оказывают воздействие друг на друга. Это отражается и в спонтанном поведении, и в организованном ритуале по случаю смерти. Во время подготовки тела к захоронению, при самом погребении, во время поминальных церемоний ближайшие родственники — мать, оплакивающая своего сына, вдова — своего мужа, ребенок — родителя — всегда проявляют некоторый ужас и страх, смешанные с благоговением и любовью; однако никогда не бывает, чтобы проявлялись одни лишь отрицательные эмоции, не бывает даже, чтобы они преобладали.
Обычаи, связанные со смертью, обнаруживают поразительное сходство по всему миру. С приближением смерти близкие родственники, а иногда и вся община, собираются подле умирающего; смерть, самое индивидуальное, самое частное из таинств частной жизни человека, превращается в публичное, общеплеменное событие. Как правило, сразу же происходит определенное разделение; одни из родственников остаются у тела умирающего, другие занимаются приготовлениями к его приближающейся кончине и предполагаемым последующим действиям ближних, третьи исполняют некие, можно сказать религиозные, действия в священном месте. Так, в некоторых частях Меланезии кровные родственники должны держаться на расстоянии от тела и только родственники по браку занимаются погребальными церемониями, в то время как в некоторых племенах Австралии можно наблюдать совершенно обратное.
Сразу же после наступления смерти тело обмывается, умащается и украшается; иногда отверстия в теле должны быть чем-то заполнены, а руки и ноги связываются вместе. Затем тело помещается на виду у всех, и начинается самая важная стадия — собственно оплакивание. Тот, кому довелось, наблюдая за дикарями, быть свидетелем смерти среди их соплеменников и последующих за ней событий и кто мог сравнить их поведение с нравами других нецивилизованных народов, должно быть, поражался фундаментальному сходству всего происходящего. Всегда наблюдается более или менее условный и драматизированный взрыв горя и скорбных рыданий, при этом дикари нередко начинают раздирать свое тело ногтями и рвать на себе волосы. Это всегда делается публично и сопровождается внешними знаками траура, такими как черные или белые мазки краски на теле, сбриваемые или распущенные волосы, необычная или разорванная одежда.
Собственно оплакивание проводится у тела умершего. При этом само тело обычно является центром благоговейного внимания, его отнюдь не боятся и не избегают. Часто встречаются ритуальные формы выражения ласки и засвидетельствования почтения. Иногда тело помещают на колени сидящих людей, поглаживают его и обнимают. В то же время эти действия обычно считаются опасным и отталкивающим долгом, который их исполнители делают за определенное вознаграждение. Спустя какое-то время тело должно быть погребено. Его хоронят в открытой или закрытой могиле; помещают в пещеру или на платформу; оставляют в дупле дерева или прямо на земле в пустынном месте; сжигают или спускают на воду в каноэ — таковы обычные формы погребения.
Это подводит нас, пожалуй, к самому важному моменту, двойственному и противоречивому: с одной стороны, стремление сохранить тело, оставить его форму нетронутой или сохранить некоторые его части; и, с другой, — стремление избавиться от него, убрать его из виду, полностью уничтожить его. Мумификация и кремация являются двумя крайними выражениями этого двойственного отношения. Никак нельзя рассматривать мумификацию и кремацию, или же какие-либо промежуточные формы погребения как порождения чисто случайных верований или как историческую особенность той или иной культуры, как форму, которая приобрела универсальность только благодаря культурным контактам и заимствованиям. Ибо в этих обычаях ясно выражается фундаментальная установка тех, кто остался в живых — родственников, друзей или любящих — их желание сохранить останки умершего и вместе с тем отвращение и страх перед ужасным превращением, вызванным смертью.
Крайней и заслуживающей особого внимания формой, в которой эта двойственность мотивов выражается весьма непривлекательным образом, является сакроканнибализм, обычай поедания плоти умершего в знак почитания его. Это делается с явным отвращением и ужасом и обычно сопровождается приступом сильной рвоты. И в то же время это считается актом наивысшего почитания и настолько священным долгом, что у меланезийцев Новой Гвинеи, где я был свидетелем этого явления и изучал его, данный обряд втайне практикуется до сих пор, несмотря на строгий запрет и угрозу наказания со стороны белого правительства. Смазывание тел жиром умершего, распространенное у австралийцев и папуасов, вероятно, является лишь разновидностью этого обычая.
Во всех подобных обрядах присутствует желание сохранить связь и параллельно с этим стремление порвать узы. Так, погребальные обряды считаются нечистыми, прикосновение к трупу оскверняющим и опасным, и все исполнители этих обрядов должны обмыть и очистить свои тела, устранить все следы контакта и провести ритуальное очищение. И все же похоронный ритуал вынуждает человека преодолеть отвращение, побороть свои страхи, сделать так, чтобы почтение и привязанность восторжествовали, а с ними и вера в иную жизнь, в бессмертие души.
И здесь мы касаемся одной из самых важных функций религиозного культа. В приведенном выше анализе я сделал упор непосредственно на эмоциональные силы, пробуждаемые столкновением со смертью и контактом с телом умершего, ибо они в первую очередь и самым существенным образом определяют поведение продолжающих жить. Но именно с этими эмоциями связана и берет от них начало идея души, вера в новую жизнь, которую начинает усопший. И здесь мы возвращаемся к проблеме анимизма, открывшей наш обзор примитивных религиозных феноменов. В чем сущность понятия души и каково психологическое происхождение этого верования?
Дикарь очень сильно боится смерти, вероятно, вследствие каких-то врожденных инстинктов, общих для человека и животных. Он не хочет признавать ее как неизбежный конец, он не может смириться с идеей полного прекращения существования, полного уничтожения. И тут он обращается к идее души и духовного существования, навеянной такими впечатлениями, которые были открыты и описаны Тайлором. Цепляясь за эту идею, человек обретает успокоительную веру в непрерывность духовного существования и в жизнь после смерти. И все же эта пера не остается непоколебимой в сложной и противоречивой игре надежды и страха, которая всегда драматически разворачивается перед лицом смерти. Утешительному голосу надежды, жажде бессмертия, неприятию самой возможности столкнуться лицом к лицу со своим собственным полным небытием всегда противостоят сильные и ужасные предчувствия. Свидетельства органов чувств: отвратительное разложение трупа, очевидное исчезновение личности — все, что внушает нам инстинктивные, по всей видимости, страх и ужас — все это, похоже, пугало человека на любой стадии развития культуры самой идеей уничтожения, всегда таило в себе страх и предчувствие. И в эту игру эмоциональных сил, в эту высочайшую дилемму жизни и неотвратимости смерти вступает религия с ее позитивными и утешительными представлениями, культурно значимой верой в бессмертие, в независимость души от тела и в продолжение жизни после смерти. С помощью различных церемоний, связанных со смертью — поминовения и причастия, поклонения духам предков и божествам — религия наделяет «кровью и плотью» спасительные для человека верования.
Таким образом, вера в бессмертие является скорее результатом глубокого эмоционального откровения, закрепленного религией, нежели выражением примитивной философской доктрины. Убеждение человека в непрерывности жизни является одним из высочайших даров религии, которая дает свою оценку альтернативам, предлагаемым инстинктом самосохранения — надежде на продолжение жизни и страху перед прекращением существования — и выбирает лучшую из них. Вера в душу является результатом веры в бессмертие. Субстанцией, из которой образуется дух и душа, является полнокровная страсть и желание жить, а отнюдь не туманные картины, рисующиеся человеку в его снах и видениях. Религия спасает человека от капитуляции перед смертью и уничтожением, и, делая это, она лишь использует материал сновидений, видений и миражей. Реальные корни анимизма — в глубочайшем эмоциональном факте человеческого существования, в желании жить.
Таким образом, траурные обряды, ритуальное поведение непосредственно после смерти можно рассматривать как пример религиозного акта, в то время как веру в бессмертие, в непрерывность жизни и в потусторонний мир можно рассматривать как прототип акта веры. Здесь, так же как и в описанных ранее религиозных церемониях, мы имеем самодостаточные акты, цель которых достигается самим их исполнением. Ритуальное отчаяние, погребение, акты скорби выражают эмоции людей, потерявших близкого человека, и утрату всей группы. Они подтверждают и дублируют естественные чувства оставшихся в живых; они превращают природный факт в социальное событие. Вместе с тем, хотя траурные акты, условная скорбь оплакивания, приемы обхождения с телом умершего и его погребение не преследуют никакой дальнейшей цели, эти действия сами по себе выполняют важную функцию и имеют огромное значение для примитивной культуры.
Какова же эта функция? Как мы обнаружили, церемонии инициации выполняют функцию сакрализации традиции; культ еды, причастие и жертвоприношение приобщают человека к Провидению, к благосклонным силам изобилия; тотемизм упорядочивает прагматические установки избирательного интереса человека к своему окружению. Если предлагаемый здесь взгляд относительно биологической (направленной на поддержание жизни) функции религии верен, то некую подобную роль должен играть и весь погребальный ритуальный комплекс.
Смерть мужчины и женщины в примитивной группе, состоящей из ограниченного числа членов, является событием, важность которого трудно переоценить. Ближайшие родственники и друзья взволнованы до самых глубин их эмоциональной жизни. Небольшая община, лишившаяся своего члена, особенно если он был для нее значим, оказывается как бы изуродованной. Это событие нарушает нормальный ход жизни и сотрясает моральные устои сообщества. Сильные побуждения, которые мы подчеркивали выше, — уступить страху и ужасу, бросить труп, убежать из деревни, уничтожить все принадлежавшее умершему, — все эти побуждения имеют место, и уступка им была бы исключительно опасна своими последствиями — разобщением группы, разрушением материальных основ примитивной культуры. Поэтому смерть в примитивном обществе — это много больше, чем потеря одного из членов. Приводя в действие негативную составляющую глубинных сил инстинкта самосохранения, она угрожает сплоченности и солидарности группы, тому, от чего зависят организация общества — его традициям и в конечном итоге культуре в целом. Ибо если бы примитивный человек всегда поддавался разобщающим побуждениям, идущим от его реакции на смерть, непрерывность традиции и существование какой бы то ни было цивилизации оказались бы невозможными.
Мы уже видели, как религия, закрепляя и сакрализуя иной комплекс побуждений, преподнесла человеку дар душевной целостности. Точно такую же функцию она выполняет и по отношению к группе в целом. В помощью церемониала, привязывающего оставшихся в живых к телу умершего и приковывающего их к месту смерти, с помощью веры в существование души, в ее благосклонность (или недоброжелательные намерения), в необходимость обрядов поминовения и жертвоприношения — с помощью всего этого религия противодействует центробежным силам страха, отчаяния и деморализации. Это сильнодействующее средство восстановления подорванное сплоченности и морали группы.
Короче говоря, здесь религия обеспечивает победу традиции и культуры над чисто негативной реакцией противостоящего ей инстинкта.
Обрядностью, окружающей смерть, мы заканчиваем обзор основных типов религиозных актов. Мы рассмотрели религиозные действия, приуроченные к переломным моментам человеческой жизни, что и послужило путеводной нитью нашего повествования, но по ходу дела мы касались также и побочных вопросов, таких как: тотемизм, культ еды и плодородия, жертвоприношение и причастие, поминовение предков и поклонение духам. К одному из уже упомянутых типов религиозных действ — я имею в виду сезонные празднества и церемонии общинного или племенного характера — нам следует вернуться; к их анализу мы сейчас и приступим.
IV. Публичный характер примитивных культов
Праздничный и публичный характер культов является заметной особенностью религии в целом. Большинство священных действ проводится коллективно; в самом деле, торжественный конклав верующих, объединившихся для жертвоприношения, просительного или благодарственного моления, является подлинным прототипом религиозной церемонии. Религии необходима община как целое, чтобы ее члены могли разделить друг с другом поклонение ее святыням и божествам, а обществу необходима религия для поддержания морального закона и порядка.
В примитивных обществах публичный характер поклонения, взаимоподдержка религиозной веры и социальной организации по крайней мере настолько же выражены, как и в более высоко развитых культурах. Достаточно лишь вкратце напомнить описанные выше религиозные феномены, чтобы убедиться в том, что они — ритуалы, связанные с рождением человека, обряды инициации, дань почестей умершему во время оплакивания, похорон и поминовения, обряды жертвоприношения и тотемические ритуалы — все до единого предполагают публичность и коллективность, зачастую объединяя все племя в целом и требуя на определенное время мобилизации всей его энергии. Этот публичный характер, единение большого числа людей особенно выражены в ежегодных или периодических празднествах, проводимых в ознаменование благоденствия, во время сбора урожая или в разгар охотничьего или рыболовного сезона. Такие празднества позволяют людям дать выход веселью, порадоваться обилию урожая и добычи, встретиться со своими друзьями и родственниками, собрать общество в полном составе — и все это в атмосфере счастья и гармонии. Иногда предполагается, что во время таких празднеств являются те, кто ушли в мир иной: духи предков и умерших родственников возвращаются, чтобы принять подношения и жертвенные воздаяния, слиться с живыми в культовых действиях и разделить с ними радость праздника. А если прихода духов умерших не ждут, то их поминают в форме культа предков. И опять же, эти празднества, проводимые с большой частотой, включают обряды плодородия и культы растительности. Но каковы бы ни были прочие аспекты таких празднеств, одно несомненно — религия требует осуществления сезонных, периодических церемоний с большим количеством участников, с весельем и праздничными нарядами, с обилием пищи и с послаблением нормативных ограничений и запретов. Соплеменники собираются вместе, и рамки дозволенного смещаются, особенно часто снимаются привычные барьеры, привносящие сдержанность в социальное общение и половые отношения. Желаниям дается удовлетворение, их даже стимулируют, и все участвуют в наслаждениях, всем и каждому показывают, как это хорошо, каждый делит радость жизни с остальными в атмосфере всеобщего благодушия. К потребности в обилии материальном здесь добавляется потребность в обилии людей, в единении с соплеменниками.
В один ряд с такими периодическими праздничными собраниями следует поставить и некоторые другие определенно социальные явления: племенной характер почти всех религиозных обрядов, универсализм социально обусловленных моральных норм, реальная угроза распада социума при распространении греха, необходимость соблюдения установлений и традиций в примитивной религии и морали и возвышающееся над всем этим слияние племени как социального единства с его религией: т. е. отсутствие какого-либо религиозного сектантства, раскольничества или неортодоксальности в примитивных религиозных верованиях.
Все эти факты, особенно последний, говорят о том, что религия есть дело племенное, и напоминают нам известное изречение Робертсона-Смита о том, что примитивная религия — скорее забота общества, нежели забота индивида. Эта экстравагантная фраза содержит изрядную долю истины; впрочем, в науке понять, где скрывается истина, и полностью раскрыть ее — отнюдь не одно и то же. Фактически Робертсон-Смит только сформулировал проблему: почему примитивный человек проводит свои церемонии публично? Какова связь между обществом и истиной, откровением и поклонением которой и является религия?
На эти вопросы некоторые современные антропологи, как мы знаем, дают четкий, вроде бы убедительный и чрезвычайно простой ответ. Проф. Дюркгейм и его последователи утверждают, что религия социальна, ибо все ее Истины, ее Бог или Боги, сам Материал, из которого она создается — все это не что иное, как обожествленное общество.
Кажется, что эта теория очень хорошо объясняет и публичный характер культа, и вдохновение и утешение, которые человек — социальное животное — находит в религиозном братстве, и отсутствие толерантности у религии, особенно в ее ранних формах, и непреложность ее моральных принципов, и прочие подобные факты. Эта теория также отвечает нашей современной склонности к демократизму, которая в социальной науке проявляется как тенденция объяснить все скорее «коллективными», чем «индивидуальными» факторами. Vox pоpuli, vox Dei[18*] — это выглядит как трезвая научная истина и конечно же не может не импонировать современному читателю.
Однако если поразмыслить, возникает ряд возражений, причем довольно серьезных. Каждый, кто глубоко и искренне уходил в религию, знает, что самые сильные религиозные чувства переживаются в уединении, в отрешенности от мира, в сосредоточенности мыслей и духовной изоляции, а не в сумятице толпы. Неужели примитивной религии абсолютно неведомо одиночество? Всякий, кто либо непосредственно общался с дикарями, либо знает их благодаря тщательному изучению литературы, вряд ли усомнится в обратном; такие факты, как изоляция посвящаемых во время инициации, их индивидуальное, личное самоутверждение в ходе испытаний, их приобщение к миру духов, божеств и сверхъестественных сил в уединенных местах — все это указывает на то, что примитивному человеку часто приходится оставаться один на один с религией. И как мы уже видели ранее, веру в бессмертие нельзя объяснить, не обращаясь к предпосылкам религиозности в душевном складе индивида, с его страхом и отчаянием перед лицом неминуемой смерти. Нельзя сказать, что примитивная религия совсем лишена своих пророков, провидцев, прорицателей и толкователей веры. Все эти факты, хотя, конечно же, и не доказывают, что религия обусловлена сугубо индивидуальными переживаниями, все же вряд ли позволяют рассматривать ее как просто и чисто Социальное явление.
И кроме того, сущность морали, в противоположность закону и обычному праву, заключается в том, что соблюдение ее норм основано на совести. Дикарь соблюдает свои табу не из-за страха перед общественным наказанием и порицанием. Он воздерживается от их нарушения отчасти потому, что боится дурных последствий, непосредственно проистекающих из божественной воли или действия священных сил, но главным образом потому, что его личная ответственность и совесть не позволяют ему делать это. Табуированное тотемическое животное, кровосмесительная или недозволенная половая связь, запретные действия или пища ему в самом деле отвратительны. Я видел и чувствовал, как дикари избегают недозволенных поступков с тем же ужасом и омерзением, с каким религиозный христианин избегает совершать то, что считает грехом. Такие духовные установки, несомненно, отчасти обусловлены влиянием общества, постольку, поскольку традиция клеймит определенные поступки как ужасные и отвратительные. Но эти установки вырабатываются самим индивидом и задействуют силы индивидуальной психики. Следовательно, они не являются ни исключительно социальными, ни исключительно индивидуальными, а являются соединением того и другого.
Проф. Дюркгейм пытается обосновать свою поразительную теорию о том, что Общество является сырым материалом Божественной сущности, с помощью анализа примитивных племенных празднеств. В частности, с этой целью он исследует сезонные торжества аборигенов Центральной Австралии и приходит к выводу, что «величайший коллективный подъем в периоды, когда они собираются вместе», обусловливает все феномены их религии, и что «религиозная идея зарождается из этого подъема». Таким образом, проф. Дюркгейм делает упор на эмоциональном возбуждении, экзальтации, на том приливе сил, который ощущает каждый индивид, становясь участником такого собрания. Однако не требуется большого умственного напряжения, чтобы заметить, что даже в примитивных обществах моменты эмоционального подъема, когда индивид «возносится над самим собой», отнюдь не приурочены исключительно к подобным собраниям и не связаны только с феноменом толпы. Любящий рядом со своей любимой, отважный путешественник, преодолевающий страх перед реальной опасностью, охотник в схватке с диким зверем, искусный мастер, создающий шедевр, будь то дикарь или цивилизованный человек, в таких ситуациях всегда ощущает внутреннее преображение, приподнятое состояние духа, вдохновение, ниспосланное свыше. И вне всяких сомнений, эти переживания в уединении, когда человек «слышит дыхание смерти», мучим тревогой или вкушает восторг и блаженство, рождают немалую часть религиозных настроений. Хотя большинство церемоний проводится публично, религиозные откровения чаще всего переживаются в одиночестве.
С другой стороны, в примитивных обществах порой совершаются коллективные действия, отмеченные не меньшими накалом страстей и возбуждением, чем те, что могут испытываться во время религиозных церемоний, но не имеющие ни малейшей религиозной окраски. Коллективная работа на огородах, которую мне доводилось наблюдать в Меланезии, когда мужчины охвачены страстью соревнования и трудовым азартом, поют ритмичные песни, издают радостные крики и призывают друг друга к состязанию, также исполнена духом коллективного подъема, но совершенно лишена религиозного подтекста. И общество, которое «раскрывает себя в этом», как и в любом другом публичном действе, не приобретает при этом ни божественного величия, ни богоподобного облика. Сражение, гонки на каноэ, большое общеплеменное собрание с целью торговли, австралийское развлекательное корробори, деревенская ссора — все это по своей социальной и психологической сути примеры коллективного возбуждения, феномена толпы. Однако ни одно из этих действ не порождает какой бы то ни было религии. Таким образом, «коллективное» и «религиозное», хотя и тесно связаны друг с другом, ни в коем случае не совпадают; в вере и религиозном вдохновении многое восходит к индивидуальным переживаниям человека, и существует немело ситуаций скопления народа и коллективного возбуждения, которые не имеют никакого религиозного смысла и не стимулируют религиозности.
А если мы расширим определение «общества» и будем рассматривать его как некий континуум, непрерывный в силу преемственности традиций и культуры, континуум, в котором каждое новое поколение взращивается и моделируется прежним по своему образу и подобию посредством точной трансформации социального наследия цивилизации? Сможем ли тогда мы по-прежнему утверждать, что Общество не является прототипом всего Божественного? Даже и в этом случае останутся факты в жизни человека примитивной культуры, явно противоречащие такой гипотезе. Ибо традиции включают всю сумму социальных норм и обычаев, знаний и навыков, предписаний, наставлений, легенд и мифов, и лишь часть всего этого принадлежит к сфере религии, в то время как остальное в сущности явления светские, мирские. Как мы уже убедились во втором разделе этой статьи, у человека примитивного общества эмпирические и рациональные знания, составляющие основу его искусств и ремесел, его хозяйственных занятий и строительных способностей, формируют самостоятельную область традиций. Общество, являющееся хранителем светских традиций, мирского, не может быть воплощенной религиозностью, или Божеством, ибо место последнего исключительно в сфере сакрального. Кроме того, мы выяснили, что одной из основных функций примитивной религии — особенно это касается обрядов инициации и племенных мистерий — является сакрализация религиозной части традиций. Ясно поэтому, что религия не может черпать свою святость из источника, который ею же и освящается.
В сущности лишь хитроумная игра слов и изощренные софизмы противоречивых утверждений позволяют отождествлять «общество» с Божественным и Священным. В самом деле, если мы приравняем социальное к моральному, а понятие морали расширим так, чтобы оно охватывало все убеждения, все правила поведения, все веления совести; если, далее, мы персонифицируем Силу Морали и будем именовать ее Коллективной Душой, то, пожалуй, для отождествления Общества с Богом не потребуется большого диалектического искусства. Но поскольку правила морали составляют лишь часть передаваемого из поколения в поколение культурного наследия, поскольку Мораль не идентична Силам Бытия, от которых, как считается, она исходит, и, наконец, поскольку метафизическая концепция «Коллективной Души» бессодержательна с точки зрения антропологии, постольку нам остается только отвергнуть социологическую теорию религии.
Резюмируя, можно сказать, что взгляды Дюркгейма и его школы для нас неприемлемы. В первую очередь потому, что в примитивных обществах религия в значительной мере исходит из сугубо индивидуальных источников. Во-вторых, общество, порождающее феномен толпы, отнюдь не всегда тем самым порождает и религиозные верования или хотя бы религиозные состояния духа, коллективный эмоциональный подъем часто носит совершенно нерелигиозный характер. В-третьих, традиции — вся сумма обязательных правил и культурных достижений — включают в примитивных обществах как Мирское, так и Сакральное. И наконец, персонификация общества и концепция «Коллективной Души» не имеют под собой никаких оснований и противоречат строгим методам социальной науки.
Вместе с тем, чтобы воздать должное Робертсону-Смиту, Дюркгейму и их школе, мы должны признать, что они выявили целый ряд существенных для нас черт примитивной религии. Прежде всего, самим преувеличением социальных аспектов примитивной веры они поставили некоторые в высшей степени важные вопросы. Почему большинство религиозных актов в примитивных обществах проводится коллективно и публично? Какова роль общества в становлении моральных правил поведения? Почему не только мораль, но также и вера, мифология и вся священная традиция обязательны для всех членов примитивного племени? Другими словами, почему в каждом племени существует одна единая система религиозных представлений и почему не допускается никаких различий в религиозных убеждениях?
Для того, чтобы дать ответ на эти вопросы, нам необходимо вернуться к нашему обзору религиозных явлений, вспомнить некоторые из выводов, к которым мы пришли, и особенно сосредоточить наше внимание на способах выражения веры и утверждения морали в примитивной религии.
Начнем с религиозного действа par excellence[19*] — церемониала смерти. Здесь обращение к религии обусловлено индивидуальным кризисом перед лицом смерти, непосредственно угрожающей мужчине или женщине. Никогда человек не нуждается в поддержке веры и ритуала в такой степени, как в момент расставания с жизнью, когда религия дарует ему последнее утешение на последнем этапе жизненного пути. Религиозные действия, аналогичные христианскому причастию на смертном одре, почти универсальны для всех примитивных религий. Они направлены против невыносимого страха и гнетущего сомнения, от которых дикарь свободен не более, чем цивилизованный человек. Они укрепляют его надежду на существование загробной жизни, на то, что та жизнь не хуже этой, но, право же, даже лучше. Они укрепляют ту веру, ту эмоциональную установку, в которых так нуждается умирающий человек, являются самым весомым утешением в момент величайшего внутреннего конфликта. И весомость этого утешения велика потому, что велико воздействие множества присутствующих людей, величествен и торжествен ритуал. Ибо как мы уже видели, во всех примитивных обществах смерть собирает вокруг умирающего все сообщество, все приходят, чтобы выполнить свой долг перед ним. Этот долг, конечно же, заключается не в эмоциональном сопереживании с умирающим — оно просто привело бы к дезинтегрирующей панике. Напротив, принцип ритуального поведения заключается в противостоянии и противодействии некоторым из самых сильных эмоций, которые могут сломить дух умирающего. Действительно, всем своим поведением группа выражает надежду на спасение его души и ее бессмертие, подкрепляя тем самым только одну из противоборствующих эмоций индивида.
После смерти, несмотря на то, что главный актер оставляет сцену, трагедию играют дальше. Остаются люди, потерявшие близкого человека, и они, как дикари, так и наши цивилизованные современники, одинаково страдают и попадают во власть опасного душевного смятения. Мы уже анализировали это и выяснили, что, разрываемые страхом и благоговением, преданностью и ужасом, любовью и отвращением, они находятся в таком душевном состоянии, которое может привести к психическому расстройству. Религия спасает человека, помогая ему возвыситься над самой этой ситуацией посредством того, что я бы назвал духовным соучастием в священнодействии погребальных обрядов. Мы видели, что в этих обрядах выражается догмат жизни после смерти, а также моральная позиция по отношению к усопшему. Тело, а с ним и личность умершего могут быть предметом как страха, так и нежной любви. Религия укрепляет вторую составляющую этого психологического дуализма, превращая мертвое тело в объект забот, воспринимаемых как священный долг. Связь между умершим и живыми сохраняется, и это факт, имеющий огромное значение для преемственности культуры и непрерывности традиции. При этом мы видим, что требования религиозной традиции выполняются всей общиной, но делается это, опять же, ради нескольких человек, потерявших близкого. Все это проистекает из личного конфликта и служит для решения этого конфликта. Необходимо также помнить, что все, что переживают в таких случаях живые, готовит и их к грядущей смерти. Вера в бессмертие, которую человек уже испытал, в которую он вжился, оплакивая мать или отца, прояснит ему представление о своей собственной будущей жизни.
При всем том мы должны четко разграничивать веру и этический смысл ритуалов, с одной стороны, и с другой — механизмы, приводящие их в действие, конкретные техники, с помощью которых достигается религиозное умиротворение. Спасительная вера в продолжение жизни после смерти уже заложена в сознании индивида. Эта вера не создается обществом. Корни ее в совокупности врожденных свойств психики, обычно именуемых «инстинктом самосохранения». Как мы уже видели, вера в бессмертие тесно переплетена с неприятием идеи конечности бытия, своего и своих близких, тех, кого любишь, — идеи ненавистной, невыносимой для личности и разрушительной для социума. Однако эта идея и обусловленный ею страх всегда таятся в человеческих переживаниях, и только отрицая ее своим ритуалом, религия может побороть этот страх.
Происходит ли это по воле Провидения, непосредственно направляющего человеческую историю, или же в результате естественного отбора, обеспечивающего выживание и распространение культуры, в которой развиваются ритуалы вечной жизни и вера в бессмертие, — проблема теологии или метафизики. Антропологу же достаточно показать значение определенных явлений с точки зрения целостности социума и непрерывности культуры. Во всяком случае мы видим, что религия здесь, по сути, выбирает одну из двух альтернатив, предлагаемых человеку его наследственным инстинктом.
Однако, коль скоро этот выбор однажды сделан, общество оказывается необходимым для его реализации. Член группы, потерявший близкого человека и сам преисполненный горя и страха, не может полагаться на свои собственные силы. Он не способен только лишь своими силами выполнить должное. Здесь вступает группа. Другие ее члены, не будучи во власти горя, не раздираемые метафизической дилеммой, способны реагировать на кризис в соответствии с требованиями религиозного порядка. Тем самым они приносят утешение убитому горем, проводя его через спасительные переживания религиозных церемоний. Всегда легче сохранять присутствие духа перед лицом беды, когда это непосредственно касается не тебя, а другого, и вся группа, большая часть которой не затронута муками страха и ужаса, может таким образом помочь тем немногим, кто сильнее всего страдает. Проходя через религиозные церемонии, люди, лишившиеся близкого сами в чем-то меняются, внимая откровениям бессмертия, обретая новую связь с любимым человеком, прикасаясь к миру иному. Религия наставляет актами культа, группа приводит в исполнение эти наставления.
Но как мы уже видели, умиротворение, которое дается ритуалом, вовсе не является искусственной, приуроченной к случаю манипуляцией. Оно есть не что иное, как порождение противоборства двух мотивов, присущих естественной для человека эмоциональной реакции на смерть; религиозная позиция состоит в выборе и ритуальном закреплении одной из двух альтернатив — надежды на будущую жизнь. И здесь общее собрание людей подтверждает и удостоверяет весомость, основательность этой веры. Публичность и торжественность церемонии оказывают свое воздействие благодаря заразительности веры, величию всеобщего единения, глубоко впечатляющему характеру коллективного поведения. Множество людей, все как один проникновенно совершающие величественную церемонию, — это неизбежно захватывает дух даже у постороннего наблюдателя, не говоря уже об участниках и тем более — о скорбящих родственниках.
Однако необходимо особо подчеркнуть, что социальное единение как исключительно действенное техническое средство утверждения и вдохновления веры — это явление одного порядка, а создание веры или самооткровение общества — явление совсем другого порядка. Общество провозглашает ряд непреложных истин и дает моральное утешение своим членам, а вовсе не предлагает им туманное и бессодержательное представление о его собственной божественности.
При анализе религиозного ритуала другого типа, инициации, мы обнаружили, что этот ритуал есть утверждение существования некоей силы или личности, от которой берет свое начало племенной закон и которая задает моральные правила, преподаваемые посвящаемому. Торжественность церемонии и трудности периода подготовки и испытаний — все это служит тому, чтобы сделать веру впечатляющей, упрочить ее и возвеличить. Создается незабываемая, уникальная в жизни человека ситуация, и благодаря этому он прочно усваивает догмы племенной традиции и нормы морали. Для того, чтобы засвидетельствовать силу и достоверность открываемых истин, мобилизуется все племя и пускается в ход его авторитет.
Здесь опять же, как и в случае с ритуалами смерти, нам приходится иметь дело с индивидуальным жизненным кризисом и с душевным конфликтом, с ним связанным. В пубертатный период юноша должен испытать свою физическую силу, совладать со своим половым созреванием, найти свое место в племени. Это сулит ему определенные привилегии и соблазны, но в то же время накладывает на него известное бремя. Адекватное разрешение данного конфликта состоит в смирении перед традицией, подчинении сексуальной морали своего племени и принятии груза ответственности зрелого мужчины, что и достигается посредством церемонии инициации.
Публичный характер этих церемоний служит как для утверждения величия первичного законодателя, так и для достижения однородности и единообразия в освоении и усвоении морали. Таким образом, инициации становятся формой сконцентрированного образования, религиозного просвещения. Как и в любом обучении, преподносимые принципы просто избирательным образом выявляют то, что присуще самому индивиду, закрепляя и подтверждая этот выбор. Здесь публичность опять же является средством техники, в то время как суть того, чему обучают, не изобретается обществом, а заложена в самом индивиде.
В других культах — таких как праздники урожая, тотемические собрания, подношения первых плодов и ритуальная демонстрация пищи — мы снова видим, как религия сакрализует изобилие и достаток, сулящий благополучное будущее, и тем самым устанавливает почитание внешних сил благодати. Здесь также публичность культа необходима как единственно возможное средство упрочения представлений о ценности пищи, значении ее изобилия и важности запасов. Всеобщее обозрение, всеобщее восхищение, состязательность между производителями — все это средства, с помощью которых формируется представление о ценности. Ценность, религиозная и экономическая, должна иметь универсальную значимость. Но здесь мы опять же обнаруживаем лишь выбор и закрепление одной из двух возможных индивидуальных реакций. Добытая пища может быть либо беспечно потреблена, либо сохранена. Обилие может быть либо стимулом к безрассудной расточительности и беззаботности перед будущим, либо стимулом к изобретению способов сохранения добра и использования его в более высоких целях. Религия отмечает печатью святости культурно полезные мотивы и усиливает их публичным действом.
Публичный характер таких празднеств выполняет кроме того и другую важную социальную функцию. Члены каждой группы, составляющей культурное целое, должны время от времени общаться друг с другом, но наряду с благотворной возможностью укрепления социальных связей такой контакт чреват опасностью раскола. Опасность возрастает, если люди встречаются в тяжелые времена, когда почему-либо утрачено душевное равновесие, в годину нужды или голода, например. Тогда аппетиты ненасытны, сексуальные желания того и гляди могут вырваться наружу. Во времена же изобилия, когда каждый находится в состоянии гармонии с природой, с самим собой и с другими, праздничное собрание проходит в благоприятной моральной атмосфере. Я имею в виду атмосферу общей гармонии и благожелательности. Некоторые временные свободы в период таких собраний, в частности послабление сексуальных запретов и некоторых требований этикета, вероятно, обусловлены той же причиной. Всякий повод для ссор и разногласий должен быть устранен, иначе большое племенное собрание не закончится мирно. Так демонстрируется, что моральная ценность гармонии и доброй воли выше сугубо негативных табу, которые сдерживают человеческие инстинкты. Нет высшей добродетели, чем любовь — в примитивных религиях, так же, как и в более высокоразвитых — она покрывает многие грехи, более того, она их перевешивает.
Наверное нет необходимости в детальном рассмотрении всех прочих типов религиозных ритуалов. Тотемизм, религия клана, которая декларирует общее происхождение от тотемического животного или родство с ним, предполагает коллективную способность клана контролировать существование в природе этого животного вида, налагает на всех членов клана общие тотемические табу и требует почитания тотемических животных или растений, несомненно должна иметь своими кульминационными моментами публичные церемонии и носить отчетливо выраженный социальный характер. Культ предков, целью которого является объединение семьи, рода или племени в единое культовое сообщество, должен, по природе своей, сводить людей вместе на публичных церемониях, иначе он не сможет выполнить свою функцию. Духам-покровителям отдельных групп, племен или городов; божествам отдельных родов, профессиональных групп или местностей — всем до единого, опять же по определению, поклоняются деревней, племенем, городом, профессиональным цехом или политическим объединением в целом.
Для культов, занимающих промежуточное положение между магией и религией — таких, как обряды Интичиума[20*], коллективные обряды земледельческой магии или промысловые обряды рыболовов и охотников — необходимость публичности очевидна, ведь эти церемонии, хотя и отличаются совершенно отчетливо от тех практических занятий, которые они освящают или сопровождают, являются, тем не менее, точными их аналогами. Кооперации в практическом деле здесь соответствует коллективная церемония; лишь объединяя группу тружеников в акте молитвы, эти церемонии могут выполнить свою культурную функцию.
Вообще-то вместо того чтобы конкретно анализировать каждый из существующих типов религиозных обрядов, мы могли бы обосновать наш тезис абстрактной аргументацией: поскольку религия концентрируется вокруг жизненно важных видов деятельности и поскольку все они предполагают общую заинтересованность единых корпоративных групп, постольку всякий религиозный обряд должен быть публичным и проводиться коллективно. Все переломные моменты жизни, все важные занятия вызывают в примитивных общинах публичный интерес, и всем им соответствуют свои обряды, магические или религиозные. То же социальное объединение, которое сплачивается общим делом или кризисным событием, исполняет и соответствующий ритуальный акт. Впрочем, такая абстрактная аргументация, какой бы корректной она ни была, не позволила бы нам получить того подлинного понимания механизмов религиозного созидания и внушения посредством публичности ритуальных действ, которое дает конкретный их анализ.
Таким образом, мы вынуждены заключить что публичность является необходимым техническим средством религиозного вдохновления в примитивных общинах, но при этом общество не является ни автором религиозных истин, ни тем более субъектом самооткровения. Необходимость публичной мизансцены для утверждения догм и коллективного провозглашения моральных истин обусловлена несколькими причинами. Резюмируем их.
Первое. Общественная кооперация необходима, чтобы окружить торжественным величием акт снятия покрова тайны с сакральных сущностей и сверхъестественных существ. Сообщество людей, всем сердцем предающихся отправлению обряда, создает атмосферу единоверия. В этом коллективном действии те, кто на данный момент в меньшей степени нуждается в утешениях веры и подтверждении ее истин, помогают тем, кто нуждается в этом больше. Злые, разрушительные силы рока в час духовного испытания или непосильного бремени таким образом рассеиваются, благодаря системе взаимной поддержки. При тяжкой утрате, в критические моменты взросления, перед лицом надвигающейся опасности или несчастья, равно как и в благополучии, когда достатком можно распорядиться хорошо или плохо — религия всякий раз задает стандарты правильного хода мыслей и поведения, а общество подхватывает ее вердикт и вторит ему в унисон.
Второе. Публичное провозглашение религиозных догм необходимо для поддержания морали в примитивных общинах. Как мы уже видели, каждое положение веры оказывает свое моральное воздействие. Мораль, для того, чтобы стать действенной, должна быть всеобщей. Прочность социальных связей, взаимопомощь, возможность сотрудничества в любом обществе основываются на том, что каждый знает, чего от него ждут; короче говоря — на общепринятых стандартах поведения. Никакие нормы морали не могут работать, не будучи предсказуемы и надежны. В примитивных обществах, где полностью или почти отсутствует закон, поддерживаемый судом и наказанием, автоматизм, самодостаточность норм морали имеют огромное значение для формирования самих основ примитивной организации и культуры. Это возможно только в обществе, где нет персонального обучения морали, нет личных кодексов, правил поведения и законов чести, нет этических школ, нет различий в моральных убеждениях. Обучение морали должно быть открытым, публичным и всеобщим.
Третье, и последнее. Передача и сохранение священной традиции также требуют публичности или по меньшей мере коллективности участия. Для каждой религии существенно, чтобы ее догмы рассматривались и трактовалась как абсолютно неизменные и неприкосновенные. Верующий должен быть твердо убежден, в том, что преподаваемые ему истины, надежно защищены, передаются без искажений и не подлежат фальсификации или пересмотру. Каждая религия должна иметь свои действенные и надежные гарантии неискажаемости ее традиции. Мы знаем, какое исключительное значение придается подлинности священного писания, какая тщательная проявляется забота о чистоте текстов и правильности их толкований в более высокоразвитых религиях. Туземным племенам приходится полагаться лишь на человеческую память. И все же без священного писания, без книг и без синклита теологов они не меньше озабочены чистотой своих «текстов» и не меньше оберегают их от искажений и неверного изложения. И есть лишь один способ предотвратить разрыв священной нити: это участие множества людей в сохранении традиции. Публичное инсценирование мифов у некоторых племен, ритуал декламации священных преданий в определенных ситуациях, воплощение отдельных религиозных представлений в священных обрядах, вручение отдельных частей священной традиции на хранение особым группам людей — тайным обществам, тотемическим кланам, старейшинам — все это средства сберечь чистоту доктрины в примитивных религиях. Мы видим, что везде, где эта доктрина не является в полной мере публичным достоянием, в племени существует своего рода социальная организация, служащая цели ее сохранения.
Эти соображения объясняют также ортодоксальность примитивных религий и оправдывают их нетерпимость. В примитивной общине не только мораль, но также и религиозные догмы должны быть одинаковы для всех ее членов. Поскольку верования дикарей долгое время рассматривались как суеверия, как выдумки, как детские или болезненные фантазии, либо же — в лучшем случае — как примитивное философствование, постольку трудно было понять, почему дикари так упорно и верно придерживаются их. Но коль скоро мы видим, что каждый канон веры дикаря является для него силой жизненной важности, что его доктрины являются истинным цементом социальной жизни — ибо его мораль, его социальная солидарность с соплеменниками, его душевное равновесие берут свое начало именно здесь — нам легко понять, почему он не может позволить себе никакой толерантности. И теперь совершенно ясно, что когда вы начинаете беспечно оплевывать и развенчивать его «суеверия», вы ломаете его моральную опору, а вероятность того, что вы дадите ему взамен другую, ничтожна.
Таким образом, мы ясно видим необходимость в открытом и коллективном характере религиозных актов и в универсальности моральных принципов, мы также ясно понимаем, почему это намного заметнее выражено в примитивных религиях, чем в религиях цивилизованных народов. Публичность культа и всеобщая заинтересованность в делах религиозных объясняются ясными, конкретными, эмпирическими причинами, и не остается места для Идеальной Реальности, якобы являющей себя в качестве изощренной персонификации, мистифицируя людей и вводя их в заблуждение самим актом откровения. Несомненно также, что тот вклад, который общество вносит в религиозное действо, является условием необходимым, но не достаточным для существования и функционирования религии, и без анализа индивидуального сознания мы ни на шаг не продвинемся в ее понимании.
В начале нашего обзора религиозных явлений в разделе III мы провели разграничение между магией и религией; однако позднее в нашем изложении мы оставили магические обряды в стороне, и теперь нам следует вернуться к этой важной севере жизни примитивного общества
V. Искусство магии и сила веры
Магия — само это слово, кажется, обещает нам целый мир таинственных и неожиданных возможностей! Даже для тех, кто не разделяет тяги к оккультному — этого легковесного стремления кратчайшим путем добраться до «эзотерической истины», этого нездорового интереса, который сегодня так свободно и пошло подогревается «возрождением» полупонятных древних верований и культов, сервируемых под именами «теософии», «спиритизма» или «спиритуализма», а также всяких иных псевдонаук (-логий и — измов) — даже для ясного научного ума тема магии имеет особую привлекательность. Отчасти, может быть, потому, что мы надеемся найти здесь некую квинтэссенцию чаяний и мудрости человека архаической культуры (а их, каковы бы они не были, стоит изучать). Отчасти, потому, что само сочетание этих звуков — «магия», кажется, в любом из нас будит некие скрытые душевные силы, какую-то мерцающую надежду на чудо, какую-то дремлющую веру в чудесные способности человека. Свидетельство тому — власть, которой слова «магия», «заклинание», «чары», «колдовство» обладают в поэзии, где скрытое значение слов и эмоциональная энергия, в них как бы застывшая, сохраняются дольше всего и обнажаются наиболее явно.
Однако когда социолог приступает к изучению магии там, где она до сих пор продолжает господствовать, где даже сейчас ее можно обнаружить во вполне развитых формах — т. е. у дикарей, до сих пор еще живущих в Каменном веке — к своему разочарованию он встречается с совершенно трезвым, прозаичным и даже грубым ремеслом, служащим чисто практическим целям, опирающимся на примитивные и неглубокие верования с незрелой и ограниченной идейной основой и с простыми и однообразными практическими приемами. Все это уже было обозначено в определении магии, данном выше, когда, стремясь отграничить ее от религии, мы охарактеризовали магию как совокупность чисто практических действий, служащих средством для достижения конкретных целей. Такой она представилась нам и тогда, когда мы попытались провести грань между нею, с одной стороны, и рациональными знаниями и искусствами — с другой. С этими последними магия так сильно переплетена и так внешне сходна, что требуется немалое усилие, чтобы вычленить ее по существу совершенно отличные ментальные установки и специфически ритуальный характер ее актов. Каждый полевой антрополог на своем горьком опыте убедился в том, что примитивная магия исключительно монотонна и скучна, узко ограничена в своих приемах и идеях, неглубока в своих основных посылках. Проследите за одним обрядом, изучите одно заклинание, постигните принцип магического верования, приемы и социальный контекст его реализации в каком-то одном случае, и вы будете не только знать все о магических обрядах данного племени, но и сможете — что-то добавив от себя, а что-то изменив по собственному усмотрению — в любой части мира обосноваться в качестве практикующего мага, вполне успешно поддерживающего веру в это вожделенное искусство.
Рассмотрим типичный акт магии и выберем для этого хорошо известный и обычно считающийся стандартным обряд — обряд черной магии. Среди видов колдовства, встречающихся у дикарей, наведение порчи при помощи магического острия, наверное, является самым распространенным. Заостренная кость или палка, стрела или шип какого-нибудь животного символически, имитационным движением вонзается в воздух, бросается или «наводится» в том направлении, где, как предполагается, находится человек, которого вознамерились убить колдовством. Мы располагаем бесчисленными рецептами проведения таких обрядов из восточных или древних книг о магии, а также из этнографических сообщений и рассказов путешественников. Но эмоциональное оформление обряда, жесты и иные внешние проявления колдуна описываются более, чем редко. А ведь они имеют огромнейшее значение. Если бы читателя можно было бы внезапно перенести в какую-то часть Меланезии и дать ему поглядеть на колдуна в действии, не осведомив о смысле наблюдаемого, он бы подумал, что перед ним либо душевнобольной, либо человек, охваченный неукротимым гневом. Ибо для обряда абсолютно необходимо, чтобы колдун не просто указал костяным острием на свою жертву, но с выражением глубокой ненависти и гнева ткнул бы им в воздух и… повернул, как поворачивал бы в глубокой ране, а затем выдернул бы внезапным рывком. Таким образом инсценируется не только действие насилия, закапывания, а и страсть насилия.
Итак, мы видим, что «драматическое» изображение эмоции является сущностью этого ритуала, ибо что еще воспроизводится в нем? Не его цель, так как в этом случае колдун должен был бы показывать смерть жертвы, но эмоциональное состояние исполнителя, состояние, близко соответствующее той реальной ситуации, в которой подобное действие совершается, и именно это состояние должно быть симитировано со сценическим артистизмом.
Я мог бы привести в пример целый ряд подобных обрядов из своего собственного опыта и, конечно же, еще больше — из других источников. Так, когда в некоторых видах черной магии колдун повреждает, увечит или уничтожает фигурку или иной предмет, символизирующий жертву, это действие прежде всего ярко изображает ненависть и ярость. Или, скажем, при исполнении обряда любовной магии требуется действительно схватить, сжать в объятиях, ласкать желанную женщину или какой-то предмет, представляющий ее, воспроизводя поведение несчастного влюбленного, потерявшего рассудок и одолеваемого страстью. В военной магии гнев и ярость атаки, эмоции боевого духа, как правило, выражаются более или менее непосредственным образом. При совершении магии, призванной преодолеть страхи — обрядов изгнания духов, например, или сил зла и тьмы — маг ведет себя так, как будто его самого одолевает чувство страха или, по крайней мере, будто он отчаянно борется с ним. Крики, размахивание оружием или горящими факелами часто составляют содержание такого обряда. Или, скажем, в наблюдавшемся мною обряде, призванном отвратить злые силы тьмы, исполнитель должен был ритуально дрожать и произносить заклинания медленно, как будто парализованный страхом. Предполагалось, что такой же страх охватит и неведомого колдуна, если тот приблизится: страх передастся ему и прогонит его прочь.
Все подобные действия, хотя обычно исследователи их рационализируют и объясняют некими принципами магии, на самом деле являются prima facie[21*] изображением или выражением эмоций. Материалы и принадлежности, используемые в них, часто служат тому же. Кинжалы, острые колющие предметы, дурно пахнущие или ядовитые вещества, используемые в черной магии, ароматические вещества, цветы, опьяняющие средства, употребляемые в магии любовной; ценности — в хозяйственной магии — все эти вещи связаны с конечной целью обрядов преимущественно посредством эмоций, а не идей.
Однако наряду с такими магическими обрядами, в которых доминирующее действие служит выражению эмоций, существуют и другие, в которых доминирующее действие как бы предвосхищает результат. Это, используя формулировку сэра Джеймса Фрэзера, обряды, имитирующие свою цель. Так, в наблюдавшемся мною обряде черной магии меланезийцев характерен ритуальный способ произнесения заклинания: голос колдуна слабеет, он издает предсмертный хрип и падает, имитируя оцепенение смерти. Приводить какие-либо другие примеры нет необходимости, так как этот вид магии и близкая к нему контагиозная магия были прекрасно описаны и исчерпывающе документированы Фрэзером. Сэр Джеймс показал также, что целый свод представлений о магических субстанциях, считающихся таковыми в силу своей близости, родственности, сходства или соприкосновения[22*] с объектами колдовства, создан магической псевдонаукой.
Но есть также ритуальное поведение, в котором нет ни имитации, ни предвосхищения, ни выражения какой-либо особой эмоции или идеи. Существуют настолько простые обряды, что они могут быть охарактеризованы только как непосредственное применение магических чар. Например, исполнитель встает и в буквальном смысле «вызывает» ветер, просит, чтобы он подул. Или опять же человек произносит заклинание над каким-то веществом, которое впоследствии будет применено то ли к вещи, то ли к индивиду, на которых направлены чары. Предметы, используемые в таком обряде, также имеют свойства, строго соответствующие магическим целям — они должны быть как нельзя лучше приспособлены, чтобы вбирать в себя, хранить и передавать магические чары — это оболочки, способные заключать внутри и удерживать эти чары, покуда они не будут приложены к объекту назначения.
Но что представляет собой магическая сила, которая фигурирует не только в последнем упомянутом типе обрядов, но и в каждом магическом ритуале? Ибо будь то действие, выражающее определенные эмоции, обряд имитации и предвосхищения или же просто акт проклятия, они всегда имеют одну общую особенность: сила магии, ее чары, всегда должны быть доставлены к объекту колдовства. Что же это? Если коротко, то это всегда сила, заключенная в заклинании, ибо, хотя это редко акцентируется должным образом, самым важным элементом в магии является заклинание. Заклинание — это та часть магии, которая и является собственно оккультной, передается как магическое наследие и известна только лицам, практикующим магию. Для туземцев знание магии означает знание заклинаний, и при анализе любого акта колдовства всегда можно видеть, что ритуал сосредоточивается вокруг произнесения заклинания. Ядром магического действия всегда является формула.
Изучение текстов и формул заклинаний примитивной магии показывает, что существуют три типичных элемента, ассоциирующиеся с верой в действенность магии. Это, во-первых, фонетические эффекты, имитация природных звуков, таких как завывание ветра, раскаты грома, шум разбушевавшегося моря, голоса различных животных. Эти звуки символизируют определенные явления и потому считается, что они магически воспроизводят их. Или же эти звуки выражают некоторые эмоциональные состояния, связанные с желанием, которое должно быть осуществлено посредством магии.
Вторым элементом, весьма выраженным в примитивных заклинаниях, является использование слов, которые должны спровоцировать наступление желаемого события, заявить о нем как об уже случившемся или потребовать его свершения императивно. Так, колдун перечисляет все симптомы болезни, которую он хочет наслать, а в заклинании, несущем смерть, он вербально описывает кончину жертвы. В целительной магии знахарь дает словесную картину состояния совершенного здоровья и физической силы. В хозяйственной магии описывается рост растения, появление животного, приход рыбы на мелководье. Или опять же маг использует слова и фразы, выражающие эмоцию, под влиянием которой он вершит свою магию, и характеризующие действие, в котором проявляется эта эмоция. Воспроизводя ярость, колдун повторяет глаголы: «ломаю», «выворачиваю», «сжигаю», «разбиваю», перечисляя при этом части тела и внутренние органы своей жертвы. Мы видим, что заклинания строятся по тому же самому принципу, что и обряды, а слова выбираются по тому же критерию, что и магические вещества.
И, в-третьих, почти в каждом заклинании есть один элемент, которому нет соответствия в ритуале. Я имею в виду мифологический подтекст — апелляция к предкам и культурным героям, от которых эта магия получена. И здесь мы подошли, пожалуй, к самому важному аспекту настоящей темы, к традиционному контексту магии[23*].
Традиции, как мы уже неоднократно подчеркивали, царствующие в примитивной цивилизации, во множестве концентрируются вокруг магического ритуала и культа. Всякий сколько-нибудь значительный магический обряд обязательно имеет свою историю, рассказывающую о его основах. В ней говорится о том, где и когда человек получил этот обряд, как он стал достоянием отдельной группы, семьи, клана. Но такая история не является рассказом о происхождении магии. Магия никогда не «рождалась», не создавалась и не изобреталась. Она просто «была»: она была изначально непременным спутником всех тех вещей и процессов, которые входят в сферу жизненно важных интересов человека, но не могут быть обеспечены обычными рациональными усилиями. Заклинание, обряд и то, чем они управляют, возникли одновременно.
Так, в Центральной Австралии вся магия существовала уже во времена алчеринга[24*], тогда она возникла вместе со всем остальным, и от этой эпохи она была унаследована. В Меланезии магия ведется с того времени, когда все человечество жило под землей: тогда магия тоже входила в обычный круг занятий предков. В более высокоразвитых обществах считается, что магия унаследована от духов и демонов, но и они, как правило, по преданию не являются ее создателями, а получают ее в готовом виде. Таким образом, вера в первозданность, природную исконность магии универсальна. Универсально и убеждение в том, что только при абсолютно безукоризненной передаче безо всяких изменений магия сохраняет свою действенность. Мельчайшие отклонения от первоначального варианта просто губительны. Затем существует представление, что между предметом и его магическими свойствами имеется сущностная связь. Магия является свойством вещи или, точнее, свойством связи между человеком и вещью, ибо, не будучи созданной человеком, магия всегда была предназначена для человека. Во всякой традиции, во всякой мифологии магия всегда выступает как принадлежность человека, полученная от человека же или какого-то человекоподобного существа. Магия обязательно предполагает существование колдуна-исполнителя, как и предмета и способа колдовства. Она является частью наследия первобытных времен — мура-мура или алчеринга в Австралии, эпохи подземного народа в Меланезии, Золотого века во всем подлунном мире.
Магия является человеческой не только по субъектам своего исполнения, но также и по объектам своего назначения. Главным образом она прилагается к деятельности и состояниям человека — охоте, земледелию, рыболовству, торговле, любви, болезням и смерти. Она направлена не столько на природу, сколько на отношение человека к природе и на его занятия, воздействующие на природу. Более того, результат магии обычно воспринимается не как производное природы, подвергнутой воздействию магических чар, а как нечто исключительно собственно магическое, как нечто такое, что не может быть произведено природой, но может быть произведено лишь магией. Тяжелый недуг, любовь в точке накала, страсть к ритуальному обмену и другие подобные проявления человеческого тела и духа — все это воспринимается как прямые следствия заклинаний и обрядов. Итак, магия не исходит из наблюдений за природой или знания ее законов, а считается исконным достоянием человека, обретаемым только через традицию и утверждающим автономную способность человека достигать желаемых целей.
Таким образом, сила магии не является универсальной силой, пребывающей повсюду и направляемой куда угодно и кем угодно. Магия есть уникальная и специфическая сила, присущая исключительно человеку и высвобождаемая только его искусством, оживляемая его голосом, выбрасываемая во вне лишь пусковым механизмом его обряда.
Здесь можно упомянуть о том, что человеческое тело, будучи вместилищем магии и источником ее движения, должно отвечать ряду условий. Так, маг должен соблюдать всевозможные табу, чтобы заклинания не потеряли свою силу. Это особенно выражено в некоторых частях света, например, в Меланезии, где считается, что заклинания находятся в животе колдуна — вместилище как пищи, так и памяти. Когда это необходимо, они «призываются» к гортани, где «сидят» мысли, а уже отсюда посылаются наружу голосом, основным орудием человеческого сознания. Следовательно, магия не просто является принадлежностью человека, она буквально и фактически заключена в самом человеке и может быть передана только от человека к человеку, согласно очень строгим правилам наследования магического искусства, посвящения и обучения. Таким образом, она никогда не воспринимается как природная сила, которая пребывает в вещах, действует независимо от человека и подлежит выявлению и познанию с помощью тех же процедур, которые человек использует, приобретая обычные знания о природе.
Очевидным следствием сказанного является то, что все теории, которые закладывают в основание магии и другие подобные ей понятия, идут в совершенно неверном направлении. Ибо если сила магии локализована исключительно в человеке, управляется им только при соблюдении весьма специфических условий и предписанным традицией образом, то это, конечно же, не та сила, которую когда-то описал доктор Кодрингтон: «Эта мана не закреплена ни в чем и может быть перенесена почти на все». Мана также «действует всевозможными способами, как на благо, так и во зло… Проявляется в физической силе или в могуществе и достоинствах любого иного рода, которыми обладает человек». Теперь ясно, что эта сила, описанная Кодрингтоном, почти прямо противоположна той магической силе, которую мы находим отраженной в мифологии дикарей, в их поведении и в построении их магических формул. Ведь истинная сила магии, как я хорошо постиг это в Меланезии, заключается только в заклинании и обряде, не может быть «перенесена» на что угодно, а передается лишь в соответствии со строго регламентированной процедурой. Она никогда не действует «всевозможными способами», а лишь так, как это предписано традицией. Она никогда не проявляется в физической силе, а возможности ее воздействия на способности и качества человека строго ограничены и определены.
Близкое понятие, обнаруженное у североамериканских индейцев, также не может иметь ничего общего со специфической конкретной силой магии. Так, о вакане дакота мы читаем: «Вся жизнь есть вакан. Так же, как и все, что обнаруживает силу, будь то в действии, как ветер и плывущие облака, или в инертной непоколебимости, как камень у дороги… Он охватывает все таинственное, все скрытые силы, все божественное». Об оренде (слово взято из языка ирокезов) нам говорят: «Эта сила считается свойством всех вещей… скал, вод, приливов, трав и деревьев, животных и человека, ветра и бурь, туч, грома и молний… неискушенный разум человека видит в ней действительную причину всех явлений, всего происходящего в его окружении».
После того, как мы прояснили сущность магической силы, едва ли необходимо подчеркивать, что между преставлением о мане и иными, подобными ему, с одной стороны, и специфической силой магического заклинания и обряда, с другой, мало общего. Мы видели, что ключевым моментом всей магической веры является явное разграничение между традиционной силой магии и иными силами и энергиями, которыми наделены человек и природа. Понятия типа вакан, оренда и мана, которые включают всевозможные силы и энергии, кроме магических, являются просто примерами первых попыток генерализации еще незрелых метафизических представлений. Подобные генерализации мы находим также и в ряде других слов из туземных языков. Они чрезвычайно важны для нашего понимания умственного развития человека примитивной культуры, но при нашем нынешнем объеме данных они лишь поднимают проблему соотношения между ранними представлениями о «силе», о «сверхъестественном» и о «магических чарах». Стой информацией, которой мы располагаем, невозможно определить, каково же первоначальное значение столь сложных понятий, как понятия «физической силы» и «сверхъестественных возможностей». В представлениях американских индейцев упор, по-видимому, делается на первом, а в представлениях океанийцев — на втором. Я хочу подчеркнуть, что при любых попытках постичь ментальность туземцев необходимо вначале изучить и описать типы их поведения, а затем уже начать объяснять их словарный запас, исходя из обычаев и жизни. Нет более обманчивого проводника на пути к знаниям, чем язык, а в антропологии «онтологическая аргументация» особенно опасна.
На этом необходимо сделать особый упор. Теория о мане как о сущности примитивной магии и религии столь блестяще отстаивалась и так беспечно передавалась из рук в руки, что нельзя не указать для начала на противоречивость нашей информации о мане, особенно в Меланезии. Главное же — нельзя было не подчеркнуть, что мы почти не имеем никаких данных о том, как это понятие соотносится с религиозными или магическими культами и верованиями.
Одно несомненно: магия не рождается из абстрактного представления об универсальной силе, последовательно прилагаемого к конкретным случаям. Магия, без сомнения, возникает независимо в разных реальных ситуациях. Каждый вид магии рожден своей собственной ситуацией и ее эмоциональным настроем, обусловлен стихийным ходом мысли и стихийной реакцией человека. Лишь единообразие ментальных процессов во всех этих конкретных случаях привело к определенным универсальным особенностям магии и общности концепций, которые мы находим в основе магического мировоззрения и поведения человека. Теперь следует представить анализ ситуаций, в которых люди обращаются к магии, и того опыта, который они при этом извлекают.
До сих пор мы главным образом имели дело с представлениями и взглядами на магию у туземцев. Мы подошли к тому, что дикарь просто утверждает, что магия дает человеку власть над некоторыми вещами. Теперь мы должны проанализировать это утверждение с точки зрения наблюдателя-социолога. Давайте еще раз представим себе те обстоятельства, в которых мы встречаем магию. Человек, занимающийся разного рода практической деятельностью, попадает в тупиковую ситуацию; охотник, которому изменила удача, моряк, который не дождется попутного ветра, строитель каноэ, который не уверен, что его строительные материалы выдержат нагрузку, или, наконец, мужчина, который долгое время был здоров, но вдруг почувствовал, что его силы уходят. Каковы естественные действия в таких условиях, если оставить в стороне магию, верования и обряды? Знания отказали, прошлый опыт и технические навыки не помогают — человек чувствует себя беспомощным. Однако стремление к желаемому охватывает его еще сильнее; тревога, страх и надежда — все это вместе взятое вызывает напряжение в организме, которое требует каких-то действий. Пассивное бездействие, единственный выход, диктуемый разумом, оказывается последним, что выбирает человек в такой ситуации, будь то дикарь или цивилизованный, знакомый с магией или совершенно не знающий о ее существовании. Его нервная система и организм в целом побуждают к активности. Одержимый идеей достижения желаемой цели, он видит и ощущает ее. Его организм воспроизводит действия, которые предполагает осуществленная надежда, диктуют эмоции, столь страстно испытываемые.
Человек в приступе бессильной ярости или переполняемый ненавистью к тому, кто расстроил его планы, автоматически сжимает кулак и наносит воображаемый удар своему врагу, бормоча проклятия и бросая слова ненависти и гнева. Влюбленный, страстно жаждущий недоступную или равнодушную красавицу, видит ее в своих грезах, обращается к ней, умоляет, взывает к ее благосклонности и, в мечтах уже ощущая себя принятым, прижимает ее к своей груди. Озабоченный рыболов или охотник видит в своем воображении запутавшуюся в сетях добычу, зверя, пронзенного копьем; он произносит их названия, описывает словами воображаемые картины великолепной добычи, он даже начинает изображать жестами то, чего желает. Человек, заблудившийся ночью в лесу или в джунглях, осаждаемый суеверными страхами, видит вокруг себя демонов, преследующих его, обращается к ним, пытается их прогнать, напугать или же цепенеет в страхе, подобно животному, пытающемуся спастись, притворившись мертвым.
Эти реакции человека на переполняющие его эмоции или неотвязное желание — естественны и обусловлены универсальными психофизиологическими механизмами. Они порождают то, что можно назвать распространением эмоции во вне через выражение ее в слове и действии: угрожающих жестах бессильного гнева и проклятиях, в спонтанном изображении желаемой цели в практически безвыходном положении — в жестах страстной ласки безнадежно влюбленного и т. п. Этими спонтанными действиями и спонтанными усилиями человек как бы инсценирует желаемое событие; или он разряжает свое напряжение в неконтролируемых жестах, или же разражается потоками слов, которые дают выход желанию и предвосхищают свершение.
В чем же состоит при этом чисто интеллектуальный процесс, какие мысли появляются у человека в момент подобного взрыва эмоций и остаются после него? В первую очередь, возникает яркий образ желаемой цели или ненавистного человека, опасности или призрака. И каждый образ сливается с соответствующей эмоцией, что формирует активную установку по отношению к образу. Когда эмоция достигает своего пика и человек теряет контроль над собой, тогда произносимые им слова, его спонтанное поведение помогают разрядить психологическое напряжение. Однако во всем этом взрыве психической активности главенствующее место занимает образ цели. Он обусловливает мотивирующую силу реакции, он выстраивает и направляет слова и движения. Замещающее действие, в котором прорывается страсть и которое вызвано бессилием, субъективно обладает всеми достоинствами действия реального, к которому естественно привела бы эмоция, если бы ей ничто не мешало'
Когда напряжение спадает, получив выход в словах и жестах, навязчивые видения уходят, желаемая цель кажется ближе, и мы снова обретаем контроль над собой и оказываемся в гармонии с жизнью. При этом мы остаемся в убеждении, что слова проклятий и жесты ярости достигли ненавистного нам человека и поразили свою цель; что мольба о любви и воображаемые объятия не могли остаться без желательных последствий, что воображаемое достижение успеха в наших занятиях не может не оказать благотворного влияния на реальный исход дел. Если мы испытывали страх, то когда он, побудивший нас к безумному поведению, постепенно уходит, мы склонны думать, что именно такое поведение прогнало его. Короче говоря, сильное эмоциональное переживание, которое находит выход в чисто субъективном потоке образов, слов и поведенческих реакций, оставляет очень глубокое убеждение в реальности некоей перемены, как если бы действительно имело место какое-то практическое положительное достижение, как если бы что-то в действительности было совершено силой, открывшейся человеку. Кажется, что эта сила, на самом деле рожденная собственной психической и физиологической одержимостью, воздействует на нас откуда-то извне, и человеку примитивной культуры — или доверчивому и наивному рассудку во все времена — стихийное заклинание, непроизвольный образ и спонтанная вера в их эффективность должны представляться прямым откровением, исходящим из какого-то внешнего и несомненно безличного источника.
Если мы сравним этот своего рода спонтанный обряд, это словоизвержение бьющей через край эмоции или страсти, с устоявшимся в традиции магическим обрядом, с принципами, воплощенными в магических заклинаниях и субстанциях, то поразительное сходство между ними покажет нам, что они отнюдь не независимы друг от друга. Магический ритуал, большинство принципов магии, большинство ее заклинаний и приемов открылись человеку во время накала переживаний, которые овладевали им в тупиковых ситуациях его инстинктивной жизни и его практических занятий — в тех щелях и проломах, что остаются в вечно недостроенной стене культуры, которую человек возводит, чтобы оградить себя от постоянных искушений и превратностей судьбы. В этом, я думаю, мы должны признать не просто один из источников, но подлинный первоисточник веры в магию.
Большинству типов магических обрядов соответствуют спонтанные ритуалы выражения эмоций или предвосхищения желаемого. Большинству типичных магических заклинаний, повелений, взываний, метафор соответствует естественный поток слов — проклятий, мольбы или же описаний несбывшихся надежд. Всякая вера в действенность магии имеет параллель среди иллюзий субъективного эмоционального опыта, быстро улетучивающихся из сознания цивилизованного рационалиста (хотя даже оно никогда не бывает полностью избавлено от таких иллюзий), но властно завладевающих умами простых людей любой культуры, а тем более — умами дикарей.
Таким образом, основы веры в магию, как и основы магических обрядов не берутся из воздуха, а обусловлены реальным эмоциональным опытом, в котором к человеку как будто бы приходит особая сила, способствующая достижению желаемой цели. Теперь мы должны задать вопрос: каково отношение между упованиями, рождаемыми таким опытом, и реальностью? Пусть эти иллюзии представляются человеку примитивного общества весьма правдоподобными, но как могут они долгое время оставаться не разоблаченными?
Ответ будет следующим. Во-первых, хорошо известно, что в человеческой памяти свидетельства положительного исхода всегда затмевают свидетельства отрицательного. Один выигрыш легко перевешивает несколько проигрышей. Поэтому примеры, подтверждающие действенность магии, всегда оказываются гораздо более убедительными, чем те, что отрицают ее. Но есть и другие факты, которые реальными или иллюзорными свидетельствами оправдывают упования на магию. Мы видели, что магический обряд должен был зародиться из откровения, как бы полученного в момент реального эмоционального испытания. Но человек, который в результате такого испытания постиг, сформулировал и передал своим соплеменникам ядро нового магического действа — сам при этом, о чем непременно следует помнить, движимый искренней верой — явно был гением. Люди, унаследовавшие эту магию и практиковавшие ее после него, — без сомнения, постоянно достраивая ее и развивая, хотя и веря, что просто следуют традиции, — непременно должны были быть утонченными интеллектуалами, натурами энергичными и предприимчивыми. Это должны были быть люди, достигавшие успеха во всех начинаниях. Эмпирическим фактом является то, что во всех примитивных обществах магия и выдающаяся личность всегда идут рука об руку. Таким образом, магия всегда совпадает с личными удачами, мастерством, отвагой и силой ума. Неудивительно, что она считается источником успеха.
Такая персональная репутация мага и ее роль в укреплении веры в эффективность магии обусловливают интересное явление: его можно назвать «текущей мифологией» магии. Каждый «большой» маг обрастает ореолом историй об удивительных исцелениях или убийствах, добычах, победах и любовных завоеваниях. В каждом обществе дикарей такие истории образуют костяк веры в магию, так как непрерывная хроника магических чудес, подтверждаемых личными эмоциональными переживаниями, которые имеются у каждого, упрочивает веру в магию до такой степени, что она оказывается вне всяких сомнений и подозрений. Всякий выдающийся специалист, практикующий магию, помимо того, что он апеллирует к традиции и к наследию предшественников, создает свой личный вариант «наработанных чудес».
Таким образом, миф — это не мертвый продукт ушедших веков, сохраняющийся лишь как любопытное повествование. Это живая сила, постоянно порождающая новые явления, постоянно окружающая магию новыми подтверждениями. Магия движется славой древней традиции, но она также создает свою атмосферу вечно рождающегося мифа. Существует как совокупность устоявшихся, стандартизованных и составляющих фольклор данного племени легенд, так и постоянный поток рассказов о текущих событиях, подобных тем, что происходили в мифические времена. Магия является связующим звеном между исконным мастерством Золотого Века и чудотворной силой настоящего. Поэтому магические формулы изобилуют мифологическими аллюзиями, которые, будучи высказаны, высвобождают силы прошлого и переносят их в настоящее.
Все это позволяет нам увидеть роль и значение мифологии в новом свете. Миф — не есть дикарское гипотезирование о происхождении вещей, порожденное философским интересом. Не является он также и результатом наблюдений над природой — чем-то вроде символического представления ее законов. Миф — это историческое изложение одного из тех событий, которые раз и навсегда утверждают истинность того или иного рода магии. Иногда это действительное свидетельство магического откровения, исходящее непосредственно от первого человека, которому магия открылась при каких-то драматических обстоятельствах. Чаще же миф состоит в изложении того, каким образом магия стала достоянием клана, общины или племени. В любом случае он является свидетельством ее истинности, ее родословной, верительной грамотой ее притязаний на состоятельность. И как мы уже видели, миф является естественным продуктом человеческой веры, потому что каждая сила должна явить свидетельства своей эффективности, должна действовать и славиться своим действием, чтобы люди могли верить в ее могущество. Каждое верование порождает свою мифологию, ибо нет никакой веры без чудес, и главный миф — это просто рассказ о первом чуде магии.
Можно сразу же добавить, что миф может относиться не только к магии, но и к любой форме социальной власти или социального притязания. Он всегда используется для объяснения особых привилегий или обязанностей, впечатляющего социального неравенства, тяжкого бремени социального ранга — как очень высокого, так и очень низкого. Мифологические рассказы также прослеживают истоки религиозных верований и власти религии. Религиозный миф, однако, является скорее откровенной догмой — утверждением веры в потустороннюю реальность, в сотворение мира, в природу богов — представленной в форме рассказа. Вместе с тем, «социологический миф», особенно в примитивных культурах, обычно сливается с легендами об источниках магической силы. Можно без преувеличения сказать, что самой типичной, самой высокоразвитой мифологией примитивных обществ является мифология магии, и функция мифа заключается не в объяснении происхождения вещей, а в утверждении существующего порядка, не в удовлетворении человеческой любознательности, а в упрочении веры, не в развертывании занимательной фабулы, а увековечивании тех деяний, которые свободно и часто совершаются сегодня и столь же достойны веры, как свершения предков. Эту тесную и глубокую связь между мифом и культом, эту прагматическую функцию мифа, состоящую в укреплении веры, ученые так упорно не замечали в своем непомерном увлечении этиологической, или объяснительной, теорией мифа, что было совершенно необходимо подробно осветить ее.
Нам пришлось сделать экскурс в проблемы мифологии, чтобы обнаружить, что миф порождается воображаемыми или реальными успехами магии. Ну а как насчет ее неудач? При всей той мощной поддержке, которую магия черпает в стихийной вере и стихийном обряде — производных острого желания или неконтролируемого чувства — при всей той впечатляющей ауре, какую придают ей личный авторитет, социальное влияние практикующих магов и слава об их успехах — при всем этом случаются и провалы, и срывы. Мы бы сильно недооценили ум и логику дикаря, его способность извлекать реалистические выводы из практического опыта, если бы посчитали, что он не осознает этого или пренебрегает этим.
Во-первых, магия требует строгого соблюдения множества условий: точное воспроизведение заклинания, безукоризненное исполнение обряда, неукоснительное следование табу и предписаниям, которые сильно сковывают мага. Если одно из многочисленных условий не выполняется, магия не удается. И даже если магический акт выполнен совершенно безупречно, его результат все же может быть сведен на нет: ибо на всякую магию существует своя противомагия. Если, как мы показали, магия рождается из сочетания упорного желания человека со своенравной прихотью случая, то каждое желание, положительное или отрицательное — каждое «хочу» и каждое «не хочу» — должно иметь свою магию. Во всех своих социальных и вселенских амбициях, во всех своих стремлениях добиться счастья и завоевать благосклонность судьбы человек действует в атмосфере противодействия, соперничества, зависти и недоброжелательства. Ибо удача, собственность и даже здоровье — вещи соизмеримые и сопоставимые, и если ваш сосед имеет больше скота, больше жен, больше здоровья и больше власти, чем вы, то вы чувствуете себя превзойденным и униженным. И такова уж натура человека, что он испытывает от чужих неудач столь же острое удовлетворение, как и от своих успехов. Этой социологической игре желания и «противожелания», амбиций и враждебности, успеха и зависти соответствует игра магии и «контр-магии», или же магии белой и магии черной.
В Меланезии, где я непосредственно изучал эту проблему, не существует ни одного магического действия, относительно которого нет твердого убеждения в том, что ему имеется противодействие: если оно окажется сильнее, то может полностью свести на нет результат первого. В некоторых видах магии, как, например, в тех, что имеют дело со здоровьем и болезнями, формулы фактически представлены парами. Колдун, обучающийся ритуалу, вызывающему какую-то болезнь, в то же время выучивает формулу и обряд, которые могут полностью аннулировать действие вредоносной магии. Так же и в любовной магии: здесь тоже не только действует убеждение, что если для того, чтобы завоевать одно сердце, используются две формулы, то более сильная возьмет верх над более слабой, но имеются и заклинания, призванные охладить чувства любовницы или жены своего соперника. Представлен ли этот дуализм магии в остальном мире так же последовательно, как и на островах Тробриан — трудно сказать, но тот факт, что оппозиция белой и черной, положительной и отрицательной магии существует повсюду, не подлежит сомнению. Таким образом, неудачу магии всегда можно объяснить ошибкой памяти, небрежностью исполнения, несоблюдением табу, и — последнее, но не менее важное, — тем, что кто-то применил «контр-магию».
Теперь мы можем более полно определить соотношение магии и науки, в общих чертах уже обозначенное выше. Магия сродни науке в том, что она всегда имеет определенную цель, тесно связанную с человеческими инстинктами, потребностями и занятиями. Искусство магии направлено на достижение практических целей. Подобно другим умениям и ремеслам, она также руководствуется «теорией», системой принципов, которые диктуют то, каким образом должно быть выполнено действие, чтобы оно было эффективным. Анализируя магические заклинания, обряды, вещества и предметы, мы обнаружили, что имеется ряд общих принципов, которые в них выражены, Как наука, так и магия развивают свой собственный метод. В магии, как и в других искусствах, человек может уничтожить то, что он сделал, или исправить нанесенный им ущерб. Действительно, в магии количественные эквиваленты черного и белого, по всей вероятности, должны быть намного более уравновешены, а следствия колдовства в большей степени могут быть ликвидированы анти-колдовством, чем это возможно в любом другом практическом мастерстве или ремесле. Одним словом, как магия, так и наука проявляют определенное сходство, и вслед за сэром Джеймсом Фрэзером мы можем вполне обоснованно назвать магию псевдонаукой.
Ложный характер этой псевдонауки отнюдь не трудно распознать. Наука, даже в форме примитивных знаний дикаря, основывается на обычном, универсальном опыте повседневной жизни, опыте, добытом человеком в борьбе с природой за свое существование и безопасность, основанном на наблюдении и закрепленном рассудком. Магия основывается на специфическом опыте эмоциональных состояний, когда человек наблюдает не над природой, а над самим собой, когда не рассудок постигает истину, а игра эмоций с человеческим организмом создает иллюзию откровения. Наука основывается на убеждении, что опыт, усилия и логика действенны; а магия — на вере в то, что надежда не может не сбыться, а желание не может быть обмануто. Научные учения диктуются логикой, а учение магии — ассоциацией идей под воздействием желания. Эмпирическим фактом является то, что совокупность рациональных знаний и совокупность знаний магических, каждая, включены в различные традиции, в различный социальный контекст, в различные виды деятельности. И все эти отличия ясно осознаются дикарями. Одно составляет сферу мирского; другое, окруженное таинственностью, предписаниями и табу, является частью сферы сакрального.
Как магия, так и религия зарождаются и функционируют в ситуациях эмоционального стресса, таких, как кризисы жизненного цикла и жизненные тупики, смерть и посвящение в племенные таинства, несчастная любовь и неудовлетворенная ненависть. Как магия, так и религия предлагают выход из ситуаций и состояний, не имеющих никакого эмпирического разрешения, только посредством ритуала и веры в сверхъестественное. Эта сфера в религии охватывает веру в призраков и духов, мифических хранителей племенных тайн, примитивных посланцев провидения; в магии — веру в ее первозданную силу и могущество. Как магия, так и религия основаны строго на мифологической традиции и обе существуют в атмосфере чуда, в атмосфере постоянных проявлений чудотворной силы. Обе они окружены запретами и предписаниями, которые отграничивают сферу их влияния от мира профанного.
Что же тогда отличает магию от религии? В качестве отправного пункта мы выбрали самое отчетливое и ясное разграничение: мы определили магию как практическое искусство в сфере сакрального, состоящее из действий, которые являются только средствами достижения цели, ожидаемой как их следствие; религию же — как совокупность самодостаточных актов, цель которых достигается самим их свершением. Теперь мы можем проследить это отличие более глубоко. Практическое ремесло магии имеет свою ограниченную, узко очерченную технику: заклинание, обряд и наличие исполнителя — вот что образует ее нехитрое триединство, своего рода магическую Троицу. Религия, с ее многосложными аспектами и целями, не имеет такой простой техники, и ее единство может быть обнаружено не в форме ее действий и даже не в единообразии ее содержания, а, скорее, в функции, которую она выполняет, и в ценностном смысле ее веры и ритуала. И опять же, вера в магию, сообразно своему незамысловатому практическому характеру, исключительно проста. Она всегда заключается в убеждении в способности человека достигать некоторых определенных результатов посредством определенных заклинаний и обрядов. В религии же мы имеем целый мир сверхъестественных объектов веры: пантеон духов и демонов, благосклонные силы тотема, дух-хранитель, племенной Всеотец и образ загробной жизни образуют вторую сверхъестественную реальность примитивного человека. Мифология религии также более разнообразна, сложна и креативна. Обычно она сосредоточена вокруг различных догматов веры и развивает их в космогонии, сказаниях о деяниях культурных героев, богов и полубогов. Мифология же магии, несмотря на всю свою значимость, состоит лишь из неизменно повторяющихся переутверждений первичных достижений.
Магия, особое искусство, предназначенное для особых целей, во всякой своей форме становится однажды достоянием человека и дальше должна передаваться по строго определенной линии из поколения в поколение. Поэтому с самых ранних времен она остается в руках избранных, и самой первой профессией человечества является профессия колдуна или знахаря. Религия же, напротив, в примитивных условиях является делом всех, в котором каждый принимает активное и равноценное участие. Каждый член племени должен пройти инициацию, а затем сам участвует в инициациях других, каждый причитает, скорбит, копает могилу и поминает, и в должное время каждый, в свою очередь, тоже будет оплакан и помянут. Духи существуют для всех, и каждый становится духом. Единственная специализация в религии — т. е. ранний спиритуалистический медиумизм — является не профессией, а индивидуальным даром. Еще одно отличие магии от религии — игра черного и белого в колдовстве. Религии в на ранних стадиях не присуще столь явное противопоставление добра и зла, благотворных и вредоносных сил. Это также связано с практическим характером магии, которая стремится к конкретным, легко поддающимся оценке результатам, в то время как ранняя религия, хотя и является носительницей нравственности по сути своей, оперирует с роковыми, непоправимыми событиями, а также входит в контакт с силами и существами куда более могущественными, чем человек. Не ее это дело — переделывать дела человеческие. Афоризм — страх прежде всего создал богов во вселенной — представляется определенно неверным в свете антропологии.
Чтобы в полной мере понять различие между религией и магией и иметь ясную картину тройственного созвездия магии, религии и науки, давайте кратко очертим культурную функцию каждой. Функция примитивных знаний и их значение уже рассматривались, и действительно понять их несложно. Знакомя человека с его окружением, позволяя ему использовать силы природы, наука, примитивные знания даруют ему огромное биологическое преимущество, высоко поднимая над остальным мирозданием. К пониманию функции религии и ее значения мы пришли в обзоре верований и культов дикаря, представленном выше. Там мы показали, что религиозная вера обосновывает, закрепляет и развивает все полезные установки, такие, как почтение к традиции, гармония с окружающим миром, мужество и самообладание в борьбе с трудностями и перед лицом смерти. Эта вера, воплощаемая в культе и обряде и поддерживаемая ими, имеет огромное биологическое значение и открывает человеку примитивной культуры истину в более широком, прагматическом смысле слова.
В чем же культурная функция магии? Мы видели, что любой инстинкт и эмоция, любое практическое занятие могут завести человека в тупик или подвести его к пропасти — когда пробелы в его знаниях, ограниченность его способности к наблюдению и размышлению в решающий момент делают его беспомощным. Человеческий организм реагирует на это спонтанным взрывом эмоций, в котором рождаются зачатки магического поведения и зачаточная вера в его эффективность. Магия закрепляет эту веру и этот рудиментарный обряд, отливает их в стандартные, освящаемые традицией формы. Таким образом, магия обеспечивает примитивного человека готовыми ритуальными способами действий и верованиями, определенными духовными и материальными техниками, которые в критические моменты могут послужить как бы мостами, перебрасываемыми через опасные пропасти. Магия позволяет человеку с уверенностью заниматься своими важными делами, сохранять устойчивость и целостность психики при вспышках гнева, в приступах ненависти, при безответной любви, в минуты отчаяния и тревоги. Функция магии заключается в ритуализации человеческого оптимизма, в укреплении его веры в победу надежды над страхом. Магия есть свидетельство того, что для человека уверенность важнее сомнения, упорство лучше, чем колебания, оптимизм предпочтительнее пессимизма.
Глядя издалека и с высока, с вершин нашей развитой цивилизации, нам, куда более надежно защищенным, легко увидеть всю вульгарность и несостоятельность магии. Но без ее силы и руководства ранний человек не мог бы справляться со своими практическими трудностями так, как он это делал, не смог бы продвинуться к более высоким стадиям развития культуры. Вот почему в примитивных обществах магия имеет универсальное распространение и такую огромную власть. Вот почему мы находим магию неизменным спутником всякого важного занятия. Я думаю, мы должны видеть в ней воплощение высокого безрассудства надежды, которое и сегодня остается наилучшей школой человеческого характера.[25]
Миф в примитивной психологии
Посвящение сэру Джеймсу Фрэзеру
Если бы в моей власти было вернуть прошлое, то я хотел бы перенести вас на двадцать лет назад в старый славянский университетский город — я имею в виду город Краков, древнюю столицу Польши и местонахождение старейшего университета Восточной Европы. Тогда бы я смог показать вам студента, покидающего средневековые стены университетского колледжа, в явно подавленном состоянии духа, но крепко сжимающего в руках в качестве единственного утешения три зеленых томика с хорошо известным золотым оттиском на переплете — изящным изображением белой омелы, символом «Золотой ветви».
Мне только что велели по состоянию здоровья оставить физические и химические исследования, но разрешили продолжать мои любимые факультативные занятия, и я решил предпринять первую попытку прочитать английский шедевр в оригинале. Возможно, мои душевные страдания отступили бы, если бы мне дано было заглянуть в будущее и предвидеть настоящий момент, узнать, что я удостоюсь огромной чести произнести речь, посвященную сэру Джеймсу Фрэзеру в столь представительной аудитории и на языке самой «Золотой ветви».
Ибо как только я начал читать этот великий труд, я сразу же был захвачен и покорен им. Я понял тогда, что антропология, такая, какой ее представил сэр Джеймс Фрэзер, — это великая наука, достойная столь же ревностной преданности, как и любая из ее старших и более точных ученых сестер, и я отдался служению антропологии Фрэзера.
Мы собрались здесь для того, чтобы отметить ежегодный тотемический праздник «Золотой ветви»; оживить и укрепить узы антропологического единства; вновь прикоснуться к источнику и символу наших антропологических интересов и привязанностей. Я лишь ваш скромный глашатай, выражающий общее восхищение перед великим автором и его классическими работами: «Золотая ветвь», «Тотемизм и экзогамия», «Фольклор в Ветхом Завете», «Задача души», «Вера в бессмертие» (The Golden Bough, Totemism and Exogamy, Folklore in the Old Testament, Psyche's Task, The Belief in Immortality). Мне следовало бы, как поступил бы истинный практикующий маг туземного племени, зачитать полный список его работ, чтобы их дух (их «мана») посетил нас.
Моя задача и приятна и в известном смысле проста, ибо во всем, что бы я ни сказал, имплицитно отдается дань тому, кого я всегда считал Мастером. Вместе с тем, это же самое обстоятельство делает мою задачу сложной, ибо получив от него столь много, я вряд ли в состоянии вернуть столько же. Поэтому мне лучше устраниться, даже сейчас, когда я обращаюсь к вам, и предоставить другому говорить моими устами — тому другому, кто был для сэра Джеймса Фрэзера вдохновителем и спутником жизни, кем и сам сэр Джеймс был для нас. Едва ли мне нужно говорить вам, что этот другой — не кто иной, как современный представитель примитивного общества, современный дикарь, мысли, чувства и само дыхание которого пронизывают все, что написано Фрэзером.
Другими словами, я не буду пытаться угостить вас какими-либо из моих теорий, а вместо этого изложу некоторые результаты антропологической полевой работы, выполненной мною на северо-западе Меланезии. Более того, я ограничусь темой, на которой сэр Джеймс непосредственно не концентрировал своего внимания, но при изучении которой, как я попытаюсь показать, его влияние оказывается столь же плодотворным, как и при анализе всех тех многочисленных проблем, что исследовались им самим.
[Представленное выше является вступительной частью речи, произнесенной в честь сэра Джеймса Фрэзера в университете города Ливерпуль в ноябре 1925 г.]
I. Роль мифа в жизни
Обращаясь к рассмотрению типичной меланезийской культуры и обзору взглядов, обычаев и поведения туземцев, я намерен показать, как глубоко священная традиция, миф проникают во все их занятия и как сильно они контролируют их социальные и моральные проявления. Другими словами, тезис данной работы заключается в том, что между словом, логосом — мифами, священными сказаниями племени, — с одной стороны, и ритуальными действиями, моральными установками, выражающимися в поступках, социальной организацией и даже практической деятельностью, с другой, существует тесная связь.
Чтобы заложить фундамент для описания моих меланезийских наблюдений, я коротко охарактеризую современное состояние научного изучения мифологии. Даже поверхностный обзор литературы свидетельствует, что у нас нет оснований жаловаться на однообразие взглядов или отсутствие полемики. Если взять лишь самые последние современные теории, выдвинутые для объяснения природы мифа, легенды и волшебной сказки, то следует поставить на первое место, по крайней мере в том, что касается количества работ и напористости, так называемую школу натурмифологии, которая процветает главным образом в Германии. Сторонники этой школы утверждают, что первобытный человек глубоко интересовался природными явлениями и что его интерес носил преимущественно теоретический, созерцательный и поэтический характер. Пытаясь отобразить и интерпретировать фазы луны или регулярный и вместе с тем меняющийся путь солнца по небу, он создавал своего рода символические персонифицированные рапсодии. Для приверженцев этой школы каждый миф в качестве своей основы или первичной сущности имеет то или иное естественное явление, настолько искусно вплетенное в повествование, что иной раз оказывается почти невозможно распознать его. Большого согласия среди этих ученых относительно того, какого рода естественное явление лежит в основе большинства мифологических построений, не наблюдается. Существуют исключительно лунные толкователи мифологии, настолько одержимые своей идеей, что даже мысли не допускают о том, что какой-либо другой феномен, кроме ночного спутника земли, способен служить предметом восторженных интерпретаций дикаря. Общество сравнительных исследований мифа, основанное в Берлине в 1906 году и имеющее среди своих сторонников таких известных ученых, как Эренрайх, Зике, Винклер, проводит свою работу под знаком луны. Другие, как, к примеру, Фробениус, считают солнце единственным объектом, вокруг которого примитивный человек концентрировал свои символические сказания. Затем имеется школа метеорологических толкователей, которые считают основанием мифа ветер, погоду и краски неба. К этой группе принадлежат такие хорошо известные авторы старшего поколения, как Макс Мюллер и Кун. Некоторые из этих узко специализированных мифологов яростно сражаются за то или иное небесное тело или принцип; другие придерживаются более широких взглядов и готовы признать, что первобытный человек создал свою мифологическую смесь изо всех небесных тел вместе взятых.
Я пытался честно и беспристрастно представить натуралистические интерпретации мифов, но, откровенно говоря, эта теория кажется мне одной из самых экстравагантных из когда-либо существовавших в антропологии или гуманитарном знании — и неспроста. Теория эта подверглась совершенно сокрушительной критике со стороны великого психолога Вундта и выглядит абсолютно неприемлемой в свете любой из работ сэра Джеймса Фрэзера. Исходя из своих собственных исследований мифов, бытующих у дикарей, я должен сказать, что чисто художественный или научный интерес человека примитивного общества к природе весьма ограничен; в его представлениях и сказаниях символизм занимает совсем незначительное место; в действительности миф — это не поэтическая рапсодия, не излияние потока досужих вымыслов, а действенная и исключительно важная культурная сила. Кроме того, наряду с игнорированием культурной функции мифа, эта теория приписывает человеку примитивной культуры ряд надуманных интересов и смешивает несколько четко различимых типов фольклора — волшебную сказку, легенду, сагу и священное сказание, или миф.
Полной противоположностью этой теории, которая придает мифу натуралистический, символический и нереальный характер, является теория, которая рассматривает священное предание как исторический пересказ подлинных событий прошлого. Эта точка зрения, недавно выдвинутая так называемой исторической школой в Германии и Америке и представляемая в Англии д-ром Риверсом, принимает во внимание не более, чем часть истины. Нельзя отрицать, что история, так же как и естественное окружение, должна была наложить печать на все культурные достижения, в том числе и на мифы. Но рассматривать всю мифологию как простую летопись так же неверно, как и относиться к ней как к размышлениям примитивного натуралиста. Этот взгляд к тому же наделяет человека примитивной культуры чем-то вроде научного интереса и стремления к знаниям. Хотя дикарь и имеет в своем складе ума что-то от любителя древностей, так же как и от натуралиста, но прежде всего он активно занят решением практических задач и вынужден преодолевать множество трудностей; все его интересы направлены в это прагматическое русло. Мифология, священное предание племени, является, как мы увидим, мощным средством, помогающим человеку, позволяющим ему соединить две стороны его культурного наследия. Более того, мы увидим, что та огромная роль, какую миф играет в примитивной культуре, непосредственно связана с религиозным ритуалом, моральными факторами и социальными принципами. Религия и мораль лишь в очень небольшой степени сопряжены с интересом к науке или истории, и миф, таким образом, основывается на совершенно иных душевных движениях и психических установках.
Тесная связь между религией и мифом, упущенная из виду одними учеными, была, однако, замечена другими. Такие психологи, как Вундт, социологи Дюркгейм, Убер и Мосс, такие антропологи, как Кроули, и такие филологи-классики, как мисс Джейн Харрисон, — все они увидели тесную связь между мифом и ритуалом, между священной традицией и нормами социальной структуры. На всех этих авторов в большей или меньшей степени оказала влияние работа сэра Джеймса Фрэзера. Несмотря на тот факт, что великий британский антрополог, так же как и большинство его последователей, достаточно ясно представлял себе социальное и ритуальное значение мифа, те факты, что я намерен изложить, позволят нам еще точнее определить и сформулировать основные принципы социологической теории мифа.
Я мог бы представить и более пространный обзор взглядов, расхождений во мнениях и полемики между учеными мифологами. Научное изучение мифологии явилось точкой пересечения различных гуманитарных наук: классический гуманитарий должен решить для себя — является ли Зевс луной, солнцем или просто исторической личностью; и является ли его волоокая супруга утренней звездой, коровой или персонификацией ветра — ветреность жен общеизвестна. Затем все эти вопросы должны переобсудить различные племена археологов, работая на своих «мифологических аренах» — халдейских и египетских, индийских и китайских, перуанских и майянских. Историк и социолог, филолог и лингвист, германист и романист, специалист по кельтской культуре и славист — все они участвуют в дискуссии, у всех свои отдельные маленькие компании. Не избавлена мифология и от внимания логиков и психологов, метафизиков и эпистемологов, не говоря уже о таких посетителях, как теософ, модный астролог и представить Христианской Науки[26*]. И наконец, имеем мы и психоаналитика, который явился позднее других, чтобы показать нам, что миф — это сон наяву, который пригрезился расе, и что мы можем объяснить его, лишь развернувшись спиной к природе, истории и культуре и нырнув глубоко в темные воды бессознательного, где на самом дне находятся традиционные параферналии и символы психоаналитических экзегез[27*]. Так что, когда на этот пир приходят, наконец, бедняги антрополог и фольклорист, им едва ли остаются хоть какие-то крошки!
Если мои слова создали у вас впечатление хаоса и неразберихи, если я внушил вам ощущение невероятно яростных мифологических баталий со всей пылью и шумом, которые при этом поднимаются, значит я добился как раз того, чего желал. Ибо я хочу пригласить моих читателей выйти из тесных кабинетов теоретиков на открытый воздух антропологического поля и последовать за мной в мысленном полете в те времена, что я провел в меланезийском племени Новой Гвинеи. Там, идя на веслах по лагуне, глядя на туземцев, работающих на полях под палящим солнцем, следуя за ними в джунгли, вдоль извилистого берега моря или среди рифов, мы узнаем об их жизни. Наблюдая за их ритуалами, когда спадает полуденный жар или сгущаются сумерки, разделяя с ними их пищу у костра, мы можем послушать их рассказы.
Ибо антрополог — единственный среди множества участников мифологического спора — имеет уникальное преимущество, заключающееся в возможности оказаться рядом с дикарем всякий раз, когда он чувствует, что его теоретическая мысль заходит в тупик и источник его аргументации иссякает. Антрополог не прикован к скудным останкам культуры, разбитым табличкам, поврежденным текстам или обрывкам рукописей. Ему нет необходимости заполнять огромные пробелы пространными, но спекулятивными комментариями. Антрополог смотрит в глаза создателю мифа. Он не только может полностью записать текст в том виде, в каком он существует — со всеми его вариациями — проверить и перепроверить; он также имеет под рукой целый ряд подлинно надежных комментаторов; более того, он имеет перед собой всю полноту жизни, в которой рождался миф. И как мы увидим, в этом живом контексте можно столько же узнать о мифе, сколько и из самого повествования.
Миф, в том виде, в каком он существует в общине дикарей, то есть в своей живой примитивной форме, является не просто пересказываемой историей, а переживаемой реальностью. Это — не вымысел, как, к примеру, то, что мы читаем сегодня в романах, это — живая реальность, которая, как верят туземцы, возникла и существовала в первобытные времена и с тех пор продолжает оказывать воздействие на мир и человеческие судьбы. Такой миф является для дикаря тем, чем для искренне верующего христианина является библейское повествование о Сотворении мира, Грехопадении, Искупительной Жертве распятого на кресте Христа. Наше священное писание живет в наших обрядах, в нашей морали, руководит нашей верой и управляет нашим поведением; ту же роль играет и миф в жизни дикаря.
То, что изучение мифа было вынужденно ограничено лишь анализом текстов, оказалось фатальным для понимания его сущности. Мы имели миф — в тех формах, в которых он дошел до нас из классической античности, из древних священных книг Востока и других подобных источников — без контекста живой веры, без возможности получить комментарии от настоящих верующих, без соответствующих знаний социальной организации, действующей морали и народных обычаев, — без информации, по крайней мере столь же полной, какую легко может получить современный ученый в полевых наблюдениях. Более того, нет никакого сомнения в Том, что в своей настоящей литературной форме эти сказания подверглись весьма значительным изменениям в руках писцов, толкователей, ученых священнослужителей и теологов. Для того, чтобы понять секреты бытия мифа, необходимо вернуться к примитивной мифологии и изучать миф, который все еще жив, не мумифицирован жреческой мудростью и не хранится в нерушимом, но безжизненном хранилище мертвых религий.
Как мы увидим, если миф изучать живым, то он оказывается не символическим, а прямым выражением своего содержания; не объяснением, удовлетворяющим научный интерес, а словесным воскрешением первобытной реальности. Он пересказывается для удовлетворения глубоких религиозных потребностей, он является сводом моральных и даже практических предписаний, а также средством поддержания общественной субординации. В примитивной культуре миф выполняет незаменимую функцию: он выражает, укрепляет и кодифицирует веру; он оправдывает и проводит к жизнь моральные принципы; он подтверждает действенность обряда и содержит практические правила, направляющие человека. Таким образом, миф является существенной составной частью человеческой цивилизации; это не праздная сказка, а активно действующая сила, не интеллектуальное объяснение или художественная фантазия, а прагматический устав примитивной веры и нравственной мудрости.
Я попытаюсь доказать все эти утверждения, рассмотрев различные мифы; но для того, чтобы наш анализ был убедительным, необходимо дать представление не только о мифе, но также и о волшебной сказке, легенде и историческом предании.
Давайте теперь мысленно перенесемся к берегам Тробрианской[28] лагуны и окунемся в жизнь туземцев, увидим их за работой, увидим их за игрой и послушаем их рассказы. В конце ноября начинается период дождей. Работы на полях мало, сезон рыболовства еще не в полном разгаре, далекие морские плавания лишь брезжат в будущем, а праздничное настроение после пира и танцев в честь сбора урожая все еще дает о себе знать. Стоит атмосфера общительности, у туземцев свободное время, а плохая погода часто удерживает их дома. Давайте в сумерках приближающегося вечера войдем в одну из деревень и сядем у костра, куда мерцающий огонь притягивает все большее и большее число людей по мере того, как наступает вечер и оживляется разговор. Рано или поздно кого-то попросят рассказать историю, так как это пора волшебных сказок. Если рассказчик окажется искусным, то он вскоре вызовет смех, замечания и подсказки, и его сказка превратится в настоящее представление.
В это время в деревнях обычно рассказывают народные сказки особого типа, называемые кукванебу. Существует поверье, воспринимаемое не слишком серьезно, что их пересказ оказывает благотворное влияние на рост недавно посаженных растений. Для того, чтобы получить этот эффект, в конце рассказа всегда исполняют короткую песенку, в которой упоминаются весьма плодовитые дикорастущие растения — касийена.
Каждая сказка «принадлежит» одному из членов общины. Каждую сказку, хотя она известна многим, может рассказывать лишь ее «владелец»; однако он может подарить ее кому-то другому, обучив того и уполномочив пересказывать ее. Но не все «владельцы» знают, как увлечь слушателей и вызвать неудержимый смех, что является одной из основных целей таких рассказов. Хороший рассказчик должен изменять голос, передавая прямую речь, с должным темпераментом распевать песенки, жестикулировать и вообще играть на публику. Некоторые из этих сказок являются определенно «историями для курилки»[29*], из числа других я могу представить несколько примеров.
Вот история о девушке, оказавшейся в беде, и о ее героическом спасении. Две женщины отправились на поиски птичьих яиц. Одна из них находит под деревом гнездо, другая предостерегает ее: «Это яйца змеи, не трогай их!» «О нет! Это птичьи яйца», — отвечает первая и уносит их с собой. Мать-змея, вернувшись и найдя гнездо пустым, отправляется на поиски яиц. Она появляется в ближайшей деревне и поет песенку:
«Извиваясь, я держу свой путь,
Яйца птицы есть дозволено;
Яйца друга трогать запрещено».
Это путешествие длится долго, ибо путь змеи прослеживается от деревни к деревне, и везде она должна петь свою песенку. И наконец, оказавшись в деревне этих двух женщин и увидев, как похитительница печет яйца, змея обвивается вокруг нее и проникает в ее тело. Жертва падает, больная и беспомощная. Но герой близко; мужчина из соседней деревни видит во сне эту драматическую ситуацию, прибывает на место, извлекает змею, рассекает ее на куски и берет обеих женщин себе в жены, таким образом получая двойную награду за свою удаль.
В другой истории мы узнаем о счастливой семье, отце и двух его дочерях, которые, покинув свой дом на северном коралловом архипелаге, плывут на юго-запад до тех пор, пока не достигают крутых берегов скалистого острова Гумасила. Отец ложится на помосте и засыпает. Из джунглей выходит великан-людоед, съедает отца, похищает и уводит с собой одну из дочерей, в то время как другой удается убежать. Убежавшая в джунгли сестра передает пленнице кусочек волшебного тростника, и когда великан-людоед ложится и засыпает, они разрезают его на части и убегают.
В деревне Окопукопу у самой бухты живут женщина и ее пятеро детей. Чудовищно огромный скат, выскочив из воды и прошлепав через деревню, вторгается в хижину этой женщины и, напевая песенку, откусывает ей палец. Один из сыновей пытается убить чудовище, но терпит неудачу. Каждый день повторяется то же самое, пока на пятый день младшему сыну не удается убить гигантскую рыбу.
Вошь и бабочка отправляются в небольшое воздушное путешествие, вошь в качестве пассажира, а бабочка в качестве аэроплана и пилота. В середине этого представления, когда они летят над морем, как раз между побережьем Вавела и островом Китава, вошь издает громкий крик, бабочка вздрагивает, вошь падает и тонет.
Мужчина, чья теща — каннибалка, весьма неосмотрительно уходит, оставив на ее попечении троих своих детей. Та, естественно, пытается съесть их; однако дети вовремя убегают, взбираются на пальму и не подпускают женщину к себе (все это, конечно, рассказывается куда подробнее) до тех пор, пока не возвращается отец и не убивает эту бабушку. Есть еще история о полете к Солнцу; история о великане-людоеде, уничтожающем посевы; о женщине, которая была настолько жадной, что украла всю еду на погребальной церемонии, и множество других рассказов, подобных этим.
Однако здесь мы не столько концентрируем внимание на тексте рассказа, сколько на его социальном контексте. Текст, конечно же, исключительно важен, но вне контекста он остается мертвым. Как мы уже видели, манера, в которой история рассказывается, придает ей должное звучание и значительно увеличивает интерес к ней. Сам характер исполнения, голос и мимика, выразительность рассказчика и реакция аудитории, означают для туземцев столько же, сколько и текст; и социолог должен внимать настрою туземцев. Это целое представление, которое опять же должно происходить в соответствующее время — в определенные часы суток, в определенный сезон года, когда молодые посадки на полях еще ждут будущей работы и подлежат лишь легкому влиянию магии волшебных сказок. Мы также должны иметь в виду социальный смысл личного «владения» сказкой, функцию поддержания дружественной обстановки и культурную роль этой занимательной устной «беллетристики». Все эти элементы в равной мере важны; все они должны быть изучены наряду с текстом. Такие рассказы живут в быту туземца, а не на бумаге, и когда ученый записывает их, не воспроизводя ту атмосферу, в которой «цветут эти цветы», он представляет нам не более, чем изуродованный осколок реальности.
Теперь я перехожу к другому типу рассказов. Они не приурочиваются к какому-либо сезону, не требуют стереотипного изложения, их исполнение не принимает формы драматического представления и не оказывает никакого магического эффекта. Тем не менее эти истории имеют большее значение, чем рассказы предыдущего типа, ибо они считаются правдивыми, а информация, содержащаяся в них, — более ценной и насущной, чем та, что заключена в кукванебу. Когда группа туземцев отправляется с дальним визитом или же в плаванье, молодежь с присущим ей интересом ко всему новому — новым ландшафтам, новым общинам, новым людям и, возможно, даже новым обычаям, — не переставая удивляться, задает много вопросов. Старшие и более опытные соплеменники сообщают молодым нужные сведения, и это всегда принимает формы конкретных рассказов. Старый человек может рассказать о чем-то из своего собственного опыта: о походах и боях, в которых он участвовал, о чудесах магии, получивших широкую известность, или о необыкновенных успехах в хозяйственных делах. К этому он может присовокупить и воспоминания своего отца, и слышанное когда-то в сказках и легендах, передающихся из поколения в поколение. Так, память об опустошительных засухах и страшных голодовках сохраняется на многие годы вместе с описанием лишений, борьбы и преступлений отчаявшихся людей.
Вспоминают также о сбившихся с курса мореплавателях, которым пришлось высадится на берег, где жили каннибалы или враждебные племена, иногда об этом слагают песни, иногда — легенды. Излюбленная тема песен и рассказов — очарование, мастерство и артистизм знаменитых танцовщиков. Рассказывают о далеких вулканических островах; о горячих источниках и неосторожных купальщиках, сварившихся заживо; о таинственных землях, населенных странными мужчинами и женщинами; об удивительных путешествиях, выпавших на долю моряков в далеких морях; о чудовищных рыбах и гигантских осьминогах; о прыгающих скалах и коварных колдунах. Имеются истории, старинные и недавние, о провидцах и людях, побывавших в стране мертвых — в них перечисляются самые известные деяния и крупные подвиги этих персонажей. Есть также рассказы, ассоциируемые с формами и свойствами отдельных природных объектов: скала, напоминающая лодку, — это некогда окаменевшее каноэ; антропоморфная скала — окаменевший человек; красное пятно на кораллах — свидетельство гибели туземцев, съевших слишком много орехов бетеля.
Все это многообразие сказаний можно подразделить на несколько категорий. 1) «исторические рассказы» о событиях, непосредственным свидетелем которых был рассказчик, или по крайней мере о событиях, достоверность которых может подтвердить кто-то из живых; 2) «легенды», в которых связь времен нарушена, но содержание которых относится к кругу явлений, привычных для членов племени, и, наконец, 3) «основанные на слухах сказки» о далеких странах и событиях древних времен, выходящих за рамки существующей культуры. Однако туземцы не делают таких разграничений, и на деле все эти типы повествований незаметно переходят один в другой. Обозначаются они одним словом — либвогво — и все считаются правдивыми. Их изложение не предполагает драматического искусства рассказчика и определенного места и времени. В их содержании обнаруживается одно существенное общее качество. Все они посвящены предметам, имеющим практический интерес для туземцев: рассказывают о хозяйственных занятиях, войнах, путешествиях, ритуальном обмене, выдающихся танцорах и т. п. Кроме того, поскольку чаще всего в них говорится о чьих-то выдающихся достижениях или подвигах, постольку они способствуют росту престижа рассказчиков: ведь они вспоминают либо случаи из своей жизни, либо события из жизни своих предков и родственников — прославляя их, они прославляют свой род. В частности поэтому хранятся в памяти и передаются из поколения в поколение такие рассказы. В историях, объясняющих происхождение различных черт ландшафта, соответствующие события помещены в знакомый социальный контекст: указывается клан или семья, представители которых были участниками таких событий. Если же такой социальный контекст отсутствует, то это уже не истории, а попутные краткие замечания по поводу тех или иных подробностей ландшафта — впечатляющих свидетельств ушедших времен.
Все это еще раз ясно показывает, что мы не сможем полностью понять ни значение текста, ни социальный смысл рассказа, ни отношение к нему туземцев, если будем изучать его изложение на бумаге. Эти сказания живут в памяти человека, в способе их передачи и даже в еще большей мере — в совокупном интересе, который не дает им умереть, который заставляет рассказчика пересказывать их с гордостью или печалью, который заставляет слушателя внимать им с нетерпением и завистью, пробуждает надежды и амбиции. Таким образом, суть легенды даже еще больше, чем суть волшебной сказки, невозможно постичь при простом ее прочтении, эта суть открывается только при изучении повествования в контексте социальной и культурной жизни туземцев.
Но лишь когда мы переходим к третьему и самому важному классу рассказов — священным сказаниям, или мифам — и сравниваем их с легендами, характер всех трех классов повествований приобретает полную определенность. Этот третий класс рассказов называется туземцами лилиу, и я хочу подчеркнуть, что воспроизвожу классификацию и терминологию самих туземцев и ограничиваюсь лишь несколькими комментариями для ее уточнения. Третий класс историй далеко отстоит от двух других. Если первые рассказываются для развлечения, вторые — для того, чтобы дать важную информацию или удовлетворить социальные амбиции, то третьи рассматриваются не просто как правдивые, а как священные и почитаемые и играют несравненно более существенную культурную роль. Народная сказка, как мы знаем, является сезонным представлением и актом общения. Легенда, рожденная встречей с необычной реальностью, открывает исторические картины прошлого. Миф вступает в действие, когда обряд, церемония, социальный или моральный закон требуют утверждения и подтверждения их древности, реальности и святости.
В последующих разделах этой работы мы детально рассмотрим целый ряд мифов, но сейчас давайте просто бросим взгляд на предмет некоторых типичных мифологических рассказов. Возьмем, к примеру, ежегодное празднество возвращения мертвых. Оно требует значительных приготовлении и особенно демонстрации обилия пищи. С приближением празднества рассказываются истории о том, как смерть начала карать человека и как он утратил способность к постоянному омоложению. Рассказывается, почему духи покидают деревню и не могут оставаться у костра и, наконец, почему они возвращаются раз в году. Или же другой пример. Когда в определенное время года при подготовке к далекому плаванию, тщательно ремонтируются старые и строятся новые каноэ, проводятся особые магические обряды. В сопровождающих их заклинаниях содержатся мифологические аллюзии, и сами священные действия включают элементы, которые становятся понятны только после того, как рассказана история о летающем каноэ, древнем обряде и его магии. Такое явление, как церемониальный обмен — его правила, его географические маршруты, его магия, — тесно связаны с соответствующей мифологией. Нет сколько-нибудь значительных магических приемов, церемоний или обрядов, которые существовали бы без веры; а вера зиждется на рассказах о конкретных прецедентах. Это чрезвычайно крепкий союз, ибо миф рассматривается не только как источник дополнительной информации, но также и как своего рода варрант, верительная грамота на право совершать определенные действия и часто также как практическое руководство к ним. Вместе с тем, ритуалы, обряды, обычаи и социальные институты порой заключают в себе прямые мифологические коннотации и считаются производными тех или иных мифических событий. Культурный факт является памятником, в котором воплощен миф, а миф считается подлинным источником, из которого родились мораль, социальное группирование, обряды и обычаи. Таким образом, священные сказания — это функционально интегрированная часть культуры. Их существование и воздействие не просто выходят за границы акта изложения — пересказа: они не только черпают свою сущность из жизни и ее интересов: они руководят и управляют многими культурными явлениями, они составляют догматический костяк примитивной цивилизации.
Это, наверное, самый важный момент отстаиваемого мною тезиса; я утверждаю, что существует особый класс историй, которые считаются священными, они воплощаются в ритуале, морали и социальной организации и являются неотъемлемой и действенной частью примитивной цивилизации. Эти сказания живут не благодаря праздному интересу, не как вымышленные или даже подлинные истории, а являются для туземцев утверждением первозданной, более величественной и значимой реальности, которая определяет современную жизнь, судьбы и деятельность человечества; знание их задает мотивы ритуальных и моральных действий человека, указывает, как исполнять эти действия.
Чтобы сделать предмет нашего обсуждения совершенно ясным, сравним еще раз наши заключения с новейшими взглядами современной антропологии, но не для того, чтобы просто подвергнуть критике не согласующиеся с нашим мнения, а чтобы увязать наши результаты с нынешним состоянием знании, дать оценку тому, к чему мы пришли, и сформулировать точно и определенно имеющиеся у нас расхождения с предшественниками.
Лучше всего будет процитировать сжатое и авторитетное определение, и с этой целью я выбрал то, что дано было покойной мисс Берн и проф. Майресом в помещенной ими в «Notes and Queries on Anthropology»[30*] статье под заглавием «Рассказы, поговорки и песни». Нам сообщают что «этот раздел охватывает множество интеллектуальных усилий народов», которые «представляют собой ранние опыты ума, воображения и памяти». С некоторым недоумением мы спрашиваем, а куда же делись эмоции, интерес и амбиции, социальная роль произведений устного творчества и глубокая связь наиболее серьезных из них с культурными ценностями? После короткой классификации устных рассказов, выполненной обычным способом, мы читаем о священных сказаниях: «Мифы — это истории, которые, какими бы удивительными и невероятными они ни казались нам, тем не менее пересказываются с полной верой в них, потому что по своему назначению или по убеждению рассказчика они служат для объяснения, посредством чего-то конкретного и понятного, абстрактной идеи или таких неясных и сложных понятий, как Творение и Смерть, расовые отличия и разнообразие животных видов, различные занятия мужчин и женщин; происхождение обрядов и обычаев, поразительных объектов природы или доисторических памятников, смысл имен людей и названий местностей. Такие рассказы иногда называются этиологическими, потому что их целью является объяснение того, почему что-то существует или происходит»[31].
Здесь мы вкратце имеем все, что может сказать по этому вопросу современная наука. Однако согласятся ли наши меланезийцы со сказанным здесь? Конечно же, нет. Они не хотят «объяснять» в своих мифах или «делать понятным» что-либо происходящее, тем более некую абстрактную идею. Насколько мне известно, этому нельзя найти примера ни в Меланезии, ни в каком-либо другом сообществе. Те немногие абстрактные понятия, которые имеют туземцы, несут свое конкретное объяснение в словах, выражающих их. Если бытие описывается глаголами «лежать», «сидеть» и «стоять», если причина и следствие выражаются словами, обозначающими «основание» и «то, что раньше на нем стояло», если различные существительные, обозначающие конкретные предметы, используются в значении, близком к понятию «пространства», то сами слова и их связь с конкретной реальностью делают абстрактную идею достаточно «понятной». Не согласится также тробрианец или какой-либо другой абориген, что «Сотворение, Смерть, расовые отличия и разнообразие животных видов, различные занятия мужчин и женщин» являются «неясными и сложными понятиями». Нет ничего более знакомого туземцу, чем различия в занятиях мужчин и женщин; в них нет ничего такого, что. надо было бы объяснять. Но эти, хотя и хорошо знакомые различия, иногда оказываются досаждающими, неприятными или по меньшей мере ограничивающими, и поэтому иногда бывает нужно оправдать их, подтвердить их древность и подлинность, короче говоря, обосновать их ценность и необходимость. Смерть, к сожалению, также не является неясной, абстрактной или сложной для понимания любого человеческого существа. Она даже слишком навязчиво реальна, слишком конкретна, слишком легка для понимания любого, кто сталкивался с ней, когда дело касалось его близких или же дурных предчувствий относительно самого себя. Если бы она была неясной или нереальной, то человеческие мысли и чувства не обращались бы к ней так часто; но идея смерти переполняет человека ужасом, желанием устранить ее угрозу, смутной надеждой на то, что она будет не объяснена и оправдана как часть действительности, а вытеснена, выброшена из действительности, утратит реальность и, по сути дела, окажется отрицаемой. Миф, утверждающий веру в бессмертие, в вечную молодость, в жизнь после смерти, является не интеллектуальным ответом на загадку, а определенным актом веры, рожденной из глубочайшей инстинктивной и эмоциональной реакции на самую страшную и навязчивую идею. И истории о «происхождении обрядов и обычаев» не рассказываются просто для их объяснения. Они никогда ничего не объясняют в каком бы то ни было смысле этого слова; они всегда излагают прецедент, представляющий собой идеал и гарант существования обычая или обряда, а иногда дают практические указания для точного соблюдения соответствующей процедуры.
Поэтому мы не можем согласиться ни с одним из положений этого прекрасного, хотя и краткого, обобщения современных антропологических подходов к мифологии. Данное в нем определение создает представление о воображаемом, несуществующем классе произведений устного творчества — этиологических мифах, — соответствующем несуществующему желанию объяснять и бесцельным «интеллектуальным усилиям», которые на деле находятся где-то за пределами примитивной культуры и социальной организации с их сугубо прагматическими интересами. Весь этот подход кажется нам ложным, потому что мифы рассматриваются как просто рассказы, потому что они расцениваются как интеллектуальное творчество примитивных «кабинетных» мыслителей, потому что они вырываются из контекста жизни и изучаются в том искаженном виде, который они принимают на бумаге, а не в том виде, в котором они живут в действительности. Анализируемый подход делает невозможным не только ясное понимание сущности мифа, но и удовлетворительную классификацию народных сказаний в целом. По существу, нам придется не согласиться и с определениями легенды и волшебной сказки, данными теми же авторами в «Notes and Queries on Anthropology».
Но важнее всего то, что такой подход может фатально отразиться на эффективности полевой работы, ибо при таком подходе наблюдатель удовлетворяется простой записью сказаний. Интеллектуальное содержание истории исчерпывается ее текстом, но ведь функциональный, культурный и прагматический аспекты любого туземного сказания не в меньшей мере проявляются в манере его изложения, в социальном контексте воспроизведения, чем в самом тексте. Гораздо легче записать рассказ, чем проследить рассеянные и сложные пути, которыми он входит в жизнь, или постичь его функции, изучая обширные социальные и культурные реалии, в которые он вторгается. И именно по этой причине у нас так много текстов и так мало знаний о подлинной природе мифа.
Итак, тробрианцы могут нам преподать важный урок, и потому давайте вернемся к ним. Мы подробно рассмотрим некоторые из их мифов для того, чтобы индуктивно, но тем не менее определенно, подтвердить наши заключения.
II. Мифы о происхождении
Лучше всего нам начать с начала начал и рассмотреть некоторые из мифов о происхождении. Туземцы говорят, что мир был заселен из-под земли. Человечество первоначально обитало под землей и вело там существование, во всех отношениях подобное теперешней жизни на земле. Под землей люди были также организованы: у них имелись деревни, кланы и районы; они различались по социальному рангу, у них были привилегии, права и обязанности, они владели собственностью и были сведущи в магии. Обладая всем этим, они вышли на поверхность земли, заняли свои теперешние территории и продолжили свои хозяйственные и магические занятия. Они принесли с собой всю свою культуру, чтобы она существовала дальше на земле.
Есть особые места — гроты, группы деревьев, нагромождения камней, бьющие из-под земли источники, обнажения кораллов, устья ручьев — называемые туземцами «дырами», «норами» или «домами». Из таких «дыр» вышли первые пары (сестра как глава семьи и брат как ее защитник) и завладели землями, задав тотемические, хозяйственные, магические и социальные характеристики зародившимся таким образом сообществам.
Проблема социального ранга, играющая большую роль в социологии тробрианцев, решилась теми, кто вышел на свет из особой дыры, называемой Обукула; она находится около деревни Лаба-и. Это событие отличалось тем, что в противоположность обычному ходу вещей (обычно одна «дыра» является местом выхода прародителей одного линиджа[32*]), из этой дыры близь Лаба-и последовательно вышли прародители четырех основных кланов[33*]. Более того, их появление сопровождалось событием на первый взгляд тривиальным, но для мифической реальности в высшей степени важным. Вначале вышла Кайлаваси (игуана), животное клана Лукулабута; она выбралась из-под земли, как все игуаны вылезают из своих нор; затем она взобралась на дерево и оставалась там в качестве наблюдателя, не участвуя в последующих событиях. Вскоре появилась Собака, тотем клана Лукуба; этот клан первоначально обладал наиболее высоким рангом. Третьей вышла Свинья, представляющая клан Маласи, который сейчас занимает самое высокое положение. Последним вышел тотем Луквасисига, по одним версиям это Крокодил, по другим — Змея, по третьим — Опоссум. В некоторых же версиях тотемический аналог просто не упоминается. Собака и Свинья бегали вокруг, и Собака, увидев плод ноку, обнюхала его и съела. И тогда свинья сказала: «Ты ешь ноку, ты ешь грязь, ты груба и неотесана, главной здесь, гуйау, буду я». И с тех пор, Табалу, высший субклан клана Маласи, является субкланом вождей.
Чтобы понять этот миф, недостаточно проследить за диалогом собаки и свиньи, который может показаться беспредметным или незначительным. Но если вы узнаете туземную социологию, оцените исключительное значение для нее социального ранга и осознаете тот факт, то пища и ограничения на нее (табу социальной группы или клана) являются основным показателем социального происхождения человека, если вы, наконец, постигнете психологию тотемической идентификации, — то вы начнете понимать, что это событие, случившееся in stau nascendi[34*], раз и навсегда определило отношения между двумя соперничающими кланами. Чтобы понять этот миф, вы должны хорошо знать социологию, религию, обычаи и мировоззрение создателей. Тогда и только тогда вы сможете понять, что значит эта история для туземцев и как она может функционировать в их жизни. Если вы живете среди них и знаете их язык, вы постоянно сталкиваетесь с отголосками ее в их спорах относительно превосходства того или иного из кланов и в обсуждениях различных табу на еду, которые часто открывают поистине казуистические дискуссии. Если же вы вступите в контакт с общинами, где процесс распространения влияния клана Маласи все еще развивается, то вы лицом к лицу встретитесь с мифом как с действенной силой.
Достаточно любопытно, что вышедшие первым и последним тотемы игуана и тотем Луквасисига с самого начала остались в стороне: таким образом, порядковый принцип и логика событий, похоже, не слишком влияют на аргументацию мифа.
Если основной миф, связанный с Лаба-и и посвященный иерархии четырех кланов, очень часто упоминается в племени, то не менее живыми и действенными, каждый в своей общине, являются мифы местного значения. Когда новые люди приходят в какую-то отдаленную деревню, им обычно рассказывают не только легендарные исторические предания, по прежде всего сообщают мифологические сведения о происхождении этой общины, о ее магической и хозяйственной специализации, о ее положении и месте в тотемической организации. Если возникают споры о принадлежности земли, разногласия относительно вопросов магии, прав на рыболовные угодья или других привилегий, всегда обращаются к свидетельствам мифа.
Позвольте мне показать конкретно, каким образом типичный миф о происхождении местных людей пересказывается в повседневной жизни туземцев. Давайте понаблюдаем за группой гостей, прибывающих в ту или иную из тробрианских деревень. Они рассядутся перед домом главы общины в центре селения. По всей вероятности, рядом будет располагаться «место рождения» этой общины, отмеченное выходом кораллов на поверхность или грудой камней. На это место гостям будет указано, будут упомянуты имена брата и сестры, родоначальников общины, и, возможно, будет сказано, что первый мужчина построил свой дом как раз в том месте, где сейчас стоит хижина вождя. Туземные слушатели, конечно же, знают, что сестра жила в другом доме, расположенном рядом, ибо она никогда бы не поселилась в тех же стенах, что и ее брат.
В качестве дополнительной информации посетителям могут сообщить, что предки принесли с собой материалы, орудия и все навыки местных ремесел. В деревне Йалака, к примеру, это будет процесс получения извести посредством сжигания раковин. В Окобобо, Обвериа и Обоваду предки принесли с собой навыки и орудия для полировки твердого камня. В Бвойталу первопредки принесли с собой из-под земли инструмент резчика, акулий зуб и мастерство в этом ремесле. Таким образом, в большинстве случаев хозяйственные монополии прослеживаются до локальных истоков. В деревню более высокого ранга родоначальники принесли с собой знаки наследственного статуса; в других случаях на поверхность вышло какое-то животное, связанное с местным субкланом. Некоторые сообщества изначально были поставлены во враждебные отношения с другими. Самым же важным даром из доставленных в этот мир из мира подземного всегда была магия; но об этом более подробно мы скажем позднее.
Если бы европеец, случайно оказавшись рядом, услышал только ту информацию, что туземцы сообщают друг другу, то почти ничего бы не понял. И более того, услышанное могло бы привести его к серьезным заблуждениям. Так, указание на одновременное появление брата и сестры может натолкнуть его на мысль об инцесте или о каком-то неупомянутом персонаже, который был мужем прародительницы. Первое предположение было бы совершенно ошибочным и бросало бы ложную тень на специфические отношения между братом и сестрой, в которых первый неизменно является опекуном, а вторая, столь же неизменно, — ответственной за продолжение родственной линии. Лишь знание принципов матрилинейного счета родства и соответствующих институтов делает понятным упоминание имен двух предков, столь значимое для туземного слушателя. Если европеец станет интересоваться, кто был мужем сестры и каким образом у нее появились дети, он вскоре снова столкнется с набором совершенно незнакомых идей: проблема отцовства нерелевантна с социологической точки зрения[35*]; представление о физиологической роли мужчины в зачатии отсутствует[36*]; действует странная и сложная система брака, матрилинейного и патрилокального[37*] одновременно[38].
Социальный смысл этих сказаний о происхождении станет ясен только тому европейскому исследователю, который сумеет разобраться в туземных правовых представлениях о принадлежности к социальным объединениям, о наследовании прав на территорию, на рыболовные угодья, и на местные ремесла и прочие занятия. Ибо в соответствии с племенными правовыми принципами все такие права являются монополией местной общины и только потомков первоначальной прародительницы по женской линии. Если бы далее европейцу сказали, что, кроме главного места выхода предков из-под земли, в одной и той же деревне имеется еще несколько других «дыр», то он был бы еще более озадачен, и только внимательное изучение конкретных деталей и принципов туземной социологии открыло бы ему систему организации сложносоставной общины в рамках одной деревни, т. е. общины, в которой соединяются несколько субкланов.
Таким образом, понятно, что миф «говорит» туземцу гораздо больше, чем реально говорится при его пересказе; в рассказе содержатся лишь конкретные сведения о характерных обстоятельствах мифологической истории данной местности; истинный смысл мифа, фактически вся его суть, заключены не в рассказе, а в принципах социальной организации, которые туземец усваивает не тогда, когда прослушивает фрагментарные пересказы мифов, а непосредственно в процессе социальной жизни, постепенно постигая свое социальное окружение и устройство своего племени. Другими словами, именно контекст социальной жизни, а также последовательное постижение того, что все, что велят ему делать, имеет свой прецедент и образец в ушедших временах, ставит в его сознании на свои места содержащиеся в мифе сведения, именно это позволяет ему понять суть племенных мифов о происхождении.
Поэтому наблюдателю необходимо детально ознакомиться с социальной организацией туземцев, если он действительно хочет вникнуть в существо ее мифологических традиций. Тогда короткие истории, рассказываемые о происхождении людей той или иной местности, станут для него совершенно понятными. Он ясно увидит, что каждая из этих историй является только частью, и довольно скромной, гораздо более крупной истории, которую можно воссоздать лишь на основе самой жизни туземцев. И что действительно важно в такой истории, так это ее социальная функция. Такая история передает, выражает и укрепляет фундаментальный факт территориального и родственного единства группы людей, являющихся потомками общих прародителей. В сочетании с убеждением, что только общее происхождение и некогда состоявшийся здесь выход предков из-под земли дают полное право на эту землю, миф о происхождении в буквальном смысле является правовой верительной грамотой общины. Поэтому даже когда люди какой-то общины терпели поражение в борьбе с враждебными соседями и изгонялись со своей земли, они все равно сохраняли глубокую духовную связь с этой землей, и по истечении некоторого времени, или же после церемонии заключения мира, им всегда разрешалось вернуться на свое первоначальное место жительства, восстановить деревню и снова возделывать свои огороды[39]. Коренящееся в традиции чувство реальной и интимной связи с землей; постоянная возможность видеть «на сцене повседневной жизни» то самое место, откуда «все пошло»; историческая преемственность привилегий, занятий и характерных социальных различий, восходящих к мифологическим первоначалам, — все это, несомненно, обусловливает сплоченность, местный патриотизм, чувство единства и родства в общине. Но помимо того, что каждое сказание о появлении на свет связывает воедино историческую традицию, правовые принципы и различные обычаи, необходимо также четко представлять себе, что оно составляет не более, чем малую часть традиционной мифологии в целом. Таким образом, с одной стороны, сущность мифа заключается в его социальной функции; с другой стороны, начав изучение социальной функции мифологии и воссоздание ее полного значения, мы постепенно подходим к построению целостной теории туземной социальной организации.
Одним из самых интересных явлении, связанных с традиционным уставом и прецедентом, является адаптация мифа и мифологического принципа к тем случаям, в которых сама основа мифологии вопиющим образом попирается. Это те случаи, когда территориальные права автохтонного клана, то есть клана, появившегося в этом месте, попираются кланом пришельцев. При этом создается конфликт принципов, так как принцип, согласно которому земля и права на нее принадлежит тем, кто буквально вышел из нее, несомненно не оставляет места никаким пришельцам. Но вместе с тем автохтоны — опять же в буквальном мифологическом смысле — не могут эффективно противостоять людям субклана высокого ранга, решившим поселиться в новом месте. В результате появляется особый класс мифологических рассказов, которые оправдывают аномальное положение вещей. Сила различных мифологических и нормативных принципов проявляется в том, что такие «оправдывающие» мифы все же содержат противоречивые и логически несовместимые утверждения и положения, которые лишь поверхностно примиряются между собой в завершающем эпизоде, явно изобретенным ad hoc[40*]. Изучение таких историй исключительно интересно как потому, что оно дает нам глубокое понимание психологии туземцев, отражающейся в их традиции, так и потому, что искушает реконструировать реальное прошлое племени. Однако, уступая этому искушению, мы должны проявлять крайние осторожность и скептицизм.
У тробрианцев мы находим, что чем выше статус тотемического субклана, тем больше у него возможностей для территориальной экспансии. Сначала изложим факты, а затем перейдем к их интерпретации. Люди субклана самого высокого ранга, субклана Табалу, клана Маласи, управляют рядом деревень: деревней, Омаракана, самой главной в районе; деревней Касанайи, двойником Омараканы, и деревней Оливилеви, основанной примерно три «правления» спустя после поражения главной деревни. Еще две деревни — Омламвалува, на данный момент уже прекратившая свое существование, и Дайагила, уже больше не управляемая Табалу, раньше также принадлежали им. Такой же субклан, носящий такое же название и претендующий на такое же происхождение, но не соблюдающий всех табу, удостоверяющих статус, и не обладающий всеми регалиями, соответствующими рангу, правит в деревнях Ойвейова, Гумилабаба, Каватариа и Кадавага, расположенных в западной части архипелага. Последняя из названных деревень находится на маленьком островке Кайлеула. Деревня Туква-уква лишь недавно, примерно пять «правлений» тому назад, вошла во владения Табалу. И наконец, субклан, имеющий то же название и претендующий на родство с первыми двумя, правит в двух больших и могущественных общинах юга, Синакета и Вакута.
Вторым важным обстоятельством, касающимся этих деревень и их правителей, является то, что правящий клан не претендует на появление (выход предков из-под земли) в пределах территории какой-либо из этих общин, где его члены владеют землями, практикуют местную магию и держат власть. Все люди этого клана утверждают, что появились вместе с первой свиньей из исторической дыры Обукула на северо-западном побережье острова, у деревни Лаба-и. Оттуда, согласно их преданию, они распространились по всему этому району[41].
Мифологическая традиция этого клана содержит определенные, несомненно исторические, факты, которые следует четко выделить и отметить; основание деревни Оливилеви три «правления» тому назад, поселение Табалу в Туква-уква пять «правлений» тому назад, присоединение к своим владениям Вакуты примерно семь или восемь «правлений» тому назад. Под «правлением» имеется в виду период жизни и владычества одного отдельного вождя. Поскольку у тробрианцев, как, без сомнения, и у большинства матрилинейных племен, на смену вождю приходит его младший брат, постольку в среднем «правление» очевидно оказывается много короче, чем период жизни одного поколения, и является, поэтому, гораздо менее ненадежной мерой времени, ибо во многих случаях оно может и не быть короче. Те особые исторические рассказы, которые подробно излагают когда, кем и каким образом было основано поселение, являются трезвым, лишенным фантазии изложением фактов. Например, от независимых информаторов можно получить подробный рассказ о том, как во времена их отцов и дедов Бугвабвага, вождь Омараканы, после неудачной войны вынужден был бежать вместе со всей своей общиной далеко на юг, в некое место, где имели обыкновение устраивать временные поселения. Спустя пару лет он вернулся, чтобы совершить церемонию примирения и восстановить Омаракану. Однако его младший брат не вернулся с ним, а основал постоянную деревню, Оливилеви, и остался в ней. Этот рассказ, который до мельчайшей детали может быть подтвержден любым просвещенным взрослым туземцем этого района, несомненно является самым надежным историческим преданием, какое только можно получить в общине дикарей. Сведения о Туква-укве, Вакуте и т. д. носят такой же достоверный характер.
Что ставит достоверность таких сказаний выше всяких сомнений, так это их социологические основания. Бегство после поражения является общим правилом в племенной практике. Характерны также способы приведения деревень под власть людей высокого статуса — например, брак между женщинами Табалу и главами подчиняемых деревень. Техника этого процесса имеет огромное значение и должна быть описана подробно. Брак у тробрианцев патрилокальный, поэтому женщина всегда переходит в общину мужа. В хозяйственном отношении брак влечет за собой постоянный обмен пищи, поставляемой семьей жены, на ценности, которые дает муж. Наиболее изобилуют пищей центральные равнины Киривины[42*], где правят вожди высшего ранга из Омараканы. Ценные украшения из раковин, регалии вождей, изготовляются в прибрежных районах, расположенных к западу и югу. Поэтому всегда существовала и до сих пор наблюдается тенденция, обусловленная экономическими факторами, выдавать женщин из высокоранговых кланов или субкланов замуж за влиятельных глав таких деревень, как Гумилабаба, Каватариа, Туква-уква, Синакета и Вакута.
Пока все идет строго в соответствии с буквой племенного закона. Но как только женщина Табалу поселяется в деревне мужа, она затмевает его своим статусом и очень часто — влиятельностью. Если у нее есть сын или сыновья, то до наступления половой зрелости они являются законными членами общины своего отца. Они становятся самыми важными особами мужского пола в этой общине. И как это водится у тробрианцев, даже после их возмужания отец хочет оставить их при себе в силу привязанности; община же чувствует, что, благодаря их пребыванию в ней, поднимается ее общий статус. Большинство хочет, чтобы они остались, а меньшинство — законные наследники главы общины, его братья и сыновья его сестры — не осмеливаются противиться этому. Поэтому, если эти высокоранговые сыновья не имеют особо важных причин выполнить предписываемое нормами — вернуться в свою деревню, т. е. в деревню своей матери — они остаются в общине отца и правят ею. Если у них есть сестры, они также могут остаться, выйти замуж в этой же деревне и таким образом положить начало новой династии. Постепенно, не сразу, эти пришлые люди присваивают все привилегии, регалии и функции, до этого по праву принадлежавшие местным лидерам. Их величают «хозяевами» деревни и ее земель, они заседают во главе официальных советов, решают все важные дела, требующие решений, и, что существеннее всего, берут в свои руки контроль над местными монополиями и местной магией.
Все, только что изложенное мной, — результат тщательных эмпирических наблюдений; теперь давайте рассмотрим легенды, призванные увязать все это с мифологической традицией. Согласно одному сказанию, из первичной дыры у Лаба-и вышли две сестры, Ботабалу и Бонумакала. Они сразу же отправились в Киривину, в ее центральный район, и поселились в Омаракане. Там они были радушно приняты местной женщиной, в ведении которой находились магия и все другие права; таким образом появилась мифологическая санкция на их пребывание в главной деревне. (К этому мы позднее еще вернемся.) Спустя некоторое время между сестрами возникла ссора из-за банановых листьев, используемых для изготовления красивых женских одеянии. Старшая сестра приказала младшей уходить прочь, что у туземцев является большим оскорблением. Она сказала: «Я останусь здесь и буду строго придерживаться всех табу. А ты иди и ешь кустарниковую свинью и рыбу катакайлува». Вот почему вожди прибрежного района, фактически имея тот же статус, не соблюдают те же табу. Подобная история рассказывается также туземцами из прибрежных деревень, с той, однако, разницей, что это не старшая сестра приказывает младшей уходить, а младшая велит старшей оставаться в Омаракане и соблюдать все табу, а сама отправляется на запад.
Согласно версии обитателей деревни Синакета, было три первых женщины субклана Табалу: старшая осталась в Кириване, средняя обосновалась в Кубоме, а младшая пришла в Синакету и принесла с собой диски из раковин калома, что положило начало соответствующему местному ремеслу.
Все сказанное относится лишь к одному субклану клана Маласи. Все другие субкланы этого клана, которых я насчитал около дюжины, имеют более низкие статусы: все они автохтоны своих мест, т. е. не иммигранты на своей теперешней территории; некоторые из них, в частности Бвойталу, — это вообще парии, т. е. категория людей презираемых. Хотя все они носят то же родовое имя, обладают тем же тотемом и во время проведения церемоний находятся бок о бок с людьми самого высокого ранга, туземцы относят их к совершенно иному классу.
Прежде чем перейти к реинтерпретации, или исторической реконструкции фактов, я представлю сведения о других кланах. Следующим по значимости, пожалуй, является клан Лукуба. Среди его субкланов есть два или три, которые по своему статусу следуют непосредственно за Табалу из Омараканы. Прародителями этих субкланов называют Мваури, Мулобваиму и Тудаву; все они вышли из одной и той же основной дыры у Лаба-и, из которой появились и четыре тотемических животных. Впоследствии они мигрировали и обосновались в определенных важных центрах округа Киривина и близлежащих островов, Китава и Вакута. Как мы видели, согласно основному мифу о происхождении, вначале самый высокий статус имел клан Лукуба, до того, как эпизод с собакой и свиньей не изменил соотношение статусов. Более того, большинство мифологических персонажей или животных относятся к клану Лукуба. Великий мифический культурный герои Тудава, известный также как прародитель субклана, носящего это имя, является Лукуба. Большинство мифических героев, ассоциируемых с межплеменными отношениями и ритуальными формами торговли, также относятся к этому же клану[43]. Большинство обрядов хозяйственной магии племени также принадлежит людям этого клана. На острове Вакута, где их недавно затмили, если вовсе не лишили влияния, Табалу, они все еще способны постоять за себя; они все еще сохранили за собой монополию на магию, и, опираясь на мифологическое предание, Лукуба все еще заявляют о своем действительном превосходстве над узурпаторами. Среди них и гораздо меньше субкланов низкого ранга, чем у Маласи.
Мало что известно мне о мифологии и культурной или исторической роли третьего крупного тотемического подразделения, Луквасисига. В основном мифе о происхождении его прародитель или вовсе не упоминается, или же соответствующему животному — персонажу-предку — отводится совершенно незначительная роль. Представители этого клана не владеют ни одной из особо важных форм магии и подозрительно отсутствуют в каких-либо мифологических аллюзиях. Единственным, где они играют значительную роль, является обширный цикл сказаний о Тудаве, в которых великан-людоед Доконикан представлен как вступающий в обладание тотемом Луквасисига. К этому клану относится глава деревни Кабваку, который также является вождем района Тилатаула. Этот район всегда находился в состоянии потенциальной вражды с районом собственно Киривины, и вожди Тилатаула были политическими соперниками Табалу, людей высшего ранга. Время от времени между этими двумя районами развязывались войны. И независимо от того, какая сторона терпела поражение и вынуждена была бежать, последующие ритуалы примирения всегда приводили к миру, и две провинции снова восстанавливали прежнее соотношение статусов. Вожди Омараканы всегда сохраняли свое превосходство по рангу и что-то вроде общего контроля над враждебно настроенным районом, даже если победа была на стороне последнего. Вожди Кабваку до определенной степени должны были подчиняться их приказам; в частности, когда в древние времена выносился смертный приговор, вождь Омараканы поручал привести его в исполнение своему потенциальному врагу. Реальное главенство вождей Омараканы было обусловлено их статусом. Но в значительной степени их власть и тот страх, что они вселяли во всех остальных туземцев, имели своим источником практикуемую ими важнейшую магию — магию солнца и дождя. Таким образом, члены субклана Луквасисига были и потенциальными врагами, и исполнительными вассалами вождей высшего статуса, но превосходили Табалу в военном деле. Ибо, если в мирное время главенство Табалу оставалось непререкаемым, то считалось, что во время войны Толивага из Кабваку обычно более умелы и достойны уважения. Люди клана Луквасисига, вместе с тем, слыли неискушенными в морском деле (Кулитаодила). Один или два других субклана этого клана имели довольно высокий статус, и их члены часто вступали в браки с людьми Табалу из Омараканы.
Четвертый клан, Лукулабута, включает в себя субкланы только низкого статуса. Это самый малочисленный клан, и единственная магия, с которой знакомы его члены, — это колдовство.
Когда мы подходим к исторической интерпретации этих мифов, перед нами с самого начала встает фундаментальный вопрос: должны ли мы рассматривать субкланы, фигурирующие в легенде и мифе, только как локальные разветвления однородной культуры, или мы можем приписать им более амбициозную историческую роль носителей разных культур, т. е. считать их объединениями, представлявшими различные миграционные волны. Если принять первую альтернативу, тогда все мифы, исторические данные и социальные реалии будут относиться только к незначительным внутренним передвижкам и переменам, и нам будет нечего добавить к уже сказанному.
Однако в поддержку более смелой гипотезы можно подчеркнуть, что основная легенда о происхождении помещает исток, «выход», всех четырех кланов в весьма подозрительное место. Лаба-и расположена на северо-западном побережье, единственном участке побережья, куда преобладающие муссонные ветры могли прибить странствующих мореплавателей. Более того, во всех мифах миграционные подвижки, пути культурных влияний и маршруты культурных героев идут с севера на юг и обычно, хотя и не обязательно, с запада на восток. Эти направления обнаруживаются в великом цикле сказаний о Тудаве; эти направления мы находим в мифах о миграциях; эти направления обнаруживаются в большинстве легенд, связанных с кула[44*]. Таким образом, правомерно предположить, что культурное влияние распространялось с севера архипелага, — влияние это можно проследить на восток, вплоть до острова Вудларк, и на юг, вплоть до архипелага Д'Антрекасто. Косвенным подтверждением этой гипотезы, возможно, могли бы быть некоторые мифологические конфликты, вроде конфликта между Собакой и Свиньей, между Тудавой и Докониканом, между двумя братьями, один из которых был каннибалом. Таким образом, если мы допустим, что эта гипотеза верна, то складывается следующая схема. Самый древний слой будут представлять кланы Луквасисига и Лукулабута. Последний, согласно мифу, появился первым; оба они являются «относительными автохтонами», ибо и тот и другой — не мореплаватели, их поселения обычно расположены в удалении от моря, а их основным занятием является земледелие. Традиционно враждебное отношение основного субклана Луквасисига — Толивага — к Табалу, которые, по-видимому, иммигрировали последними, также можно объяснить этой гипотезой. И опять же, вполне согласуется с ней то обстоятельство, что чудовище-каннибал, с которым борется инноватор и культурный герой Тудава, относится к клану Луквасисига.
Таким образом, становится ясно, что миграционными единицами следует считать не кланы, а субкланы. Ибо неопровержимым фактом является то, что большой клан, который включает ряд субкланов, представляет собой не более, чем рыхлую аморфную социальную структуру, расколотую значительными культурными трещинами. Клан Маласи, например, включает как субклан самого высокого статуса, Табалу, так и самые презираемые субкланы, Вабуа и Гумсосопа из Бвойталу. Историческая гипотеза миграционных единиц должна объяснить соотношение субкланов и кланов. Мне кажется, что второстепенные субкланы, скорее всего, относятся к ранее прибывшим и что их тотемическая ассимиляция является побочным результатом общего процесса социальной реорганизации, которая произошла после того, как прибыли сильные и влиятельные иммигранты, типа Тудава и Табалу.
Таким образом, историческая реконструкция требует ряда дополнительных гипотез, каждая из которых должна считаться правдоподобной, будучи при том произвольной; а каждое новое допущение привносит свой элемент неопределенности. Вся же реконструкция — это интеллектуальная игра, заманчивая и увлекательная — исследователь втягивается в нее часто, казалось бы, совершенно спонтанно — но всегда остающаяся за пределами доступного проверке наблюдением, за пределами строгого научного вывода — если, конечно, полевой исследователь удерживает под контролем свою способность к наблюдению и чувство реальности. В разработанную мной схему как бы естественно встраиваются факты социологии, мифов и обычаев тробрианцев. Тем не менее, я не придаю ей слишком серьезного значения и не думаю, что даже самое исчерпывающее знание изучаемого района дает этнографу право на что-либо, кроме пробных и очень осторожных реконструкций. Возможно, подобные схемы гораздо более широкого охвата, будучи сопоставлены, могли бы показать свою ценность или же, наоборот, — полную несостоятельность. Скорее же всего, такие схемы, имеют какое-то значение только в качестве рабочих гипотез, побуждающих к более тщательным и детальным сбору и фиксации легенд, преданий и социологических особенностей.
Историческая реконструкция абсолютно ничего не дает для постижения социологии этих легенд. Какова бы ни была скрытая реальность незасвидетельствованного прошлого, мифы служат, скорее, для того, чтобы сгладить противоречия, создаваемые историческими событиями, чем для того, чтобы точно эти события зафиксировать. Мифы, рассказывающие о распространении сильных субкланов, в некоторых отношениях проявляют верность правде жизни — содержат сведения, не согласующиеся друг с другом. Эпизоды, с помощью которых эти несоответствия если не скрываются, то сглаживаются, скорее всего специально придуманы; мы видели, как некоторые мифы различаются в деталях таких эпизодов — в зависимости от места, где их рассказывают. В других случаях эти эпизоды как раз подкрепляют новые притязания и не существовавшие ранее права.
Таким образом, анализ мифа в историческом аспекте интересен тем, что показывает, что взятый как целое миф не может быть беспристрастной, трезвой историей, потому что он всегда создается ad hoc, для выполнения определенной социальной функции, для прославления определенной группы или для оправдания сомнительного статуса. Этот анализ показывает нам также, что в восприятии туземца собственно история, полуисторическая легенда и чистый миф плавно переходят друг в друга, образуя непрерывную последовательность, и что в действительности они выполняют одну и ту же социологическую функцию.
И это снова приводит нас к нашему первоначальному утверждению: истинная значимость мифа объясняется тем, что он имеет характер ретроспективной, вездесущей, живой реальности. Для туземца он не является ни вымышленной историей, ни рассказом о мертвом прошлом; это — утверждение некоей сверхреальности, все еще отчасти живой. Она жива постольку, поскольку созданные в мифе прецедент, его принцип и его мораль по-прежнему управляют социальной жизнью туземцев. Ясно, что функция мифа особенно выражена там, где существует социальное напряжение, как, например, в случае значительных различий в статусе и власти, в вопросах старшинства и субординации и, несомненно, там, где происходят сущностные исторические перемены. Это мы можем утверждать с определенностью, но всегда будут оставаться сомнения в том, насколько далеко мы можем продвигаться в нашей исторической реконструкции, основываясь на мифе.
Мы безусловно вправе отбросить все объяснительные и символические интерпретации мифов о происхождении. Персонажи и существа, которых мы находим в них, есть то, чем они представляются с первого взгляда, а не символы скрытых реальностей. Что же касается объясняющей функции этих мифов, то здесь нет той проблемы, которую они бы разрешали, нет странности, которую они бы объясняли, и нет теории, которую они бы предлагали.
III. Мифы о смерти и повторяющихся жизненных циклах
В некоторых версиях мифов о происхождении жизнь человечества под землей сравнивается с жизнью человеческих душ после смерти в ныне существующем мире духов. Таким образом, как бы перекидывается мифологический мост, соединяющий первобытное прошлое и судьбу каждого реального человека, еще одно из тех связующих звеньев между мифом и жизнью, которые столь важны для понимания психологии и культурной ценности мифологии.
Параллель между первобытным состоянием человечества и загробным существованием душ можно провести даже еще дальше. Души умерших после смерти попадают на остров Тума. Там они проникают под землю через специальную дыру — своего рода инверсия первоначальных явлений. Еще более важно то мифологическое обстоятельство, что после некоторого периода существования в виде духа на острове Тума, в потустороннем мире, человек стареет, седеет и покрывается морщинами; а затем он омолаживается, сбрасывая кожу. Точно так же делали люди в первобытные времена, когда они жили под землей. Когда они впервые вышли на поверхность, то еще не утратили этой способности; мужчины и женщины могли вечно оставаться молодыми.
Однако они утратили эту способность вследствие внешне тривиального, но важного и рокового происшествия. Жила-была когда-то в деревне Бвадела старая женщина вместе со своими дочерью и внучкой; три поколения чистой матрилинейной родословной. Однажды бабка и внучка отправились искупаться в ручье, образовавшемся во время прилива. Девочка осталась на берегу, а старая женщина отплыла на некоторое расстояние и скрылась из виду. Она сбросила свою кожу, и эта кожа, подхваченная приливной водой, поднялась вверх по ручью и застряла в кустах. Превратившись в молодую девушку, женщина вернулась к внучке. Но та ее не узнала, испугалась и стала гнать прочь. Рассердившись и обидевшись, женщина отправилась обратно к месту купания, отыскала свою старую кожу, влезла в нее и вернулась к внучке. На этот раз она была узнана и встречена следующими словами: «Сюда приходила молодая девушка; я испугалась и прогнала ее». На что старая женщина ответила: «Нет, ты просто не захотела признать меня. Ладно, теперь ты состаришься, а я умру». Они отправились домой, где ее дочь готовила еду. Старая женщина сказала дочери: «Я пошла купаться, и прилив унес мою кожу; твоя дочь не узнала меня и прогнала прочь. Теперь я не буду сбрасывать кожу. Мы все состаримся. Мы все умрем».
После этого люди утратили способность менять кожу и оставаться молодыми. Единственные, кто сохранили способность менять кожу, — это «животные низа»: змеи, крабы, игуаны и ящерицы; это потому, что люди когда-то тоже жили под землей. Эти животные выходят из-под земли и все еще могут менять кожу. Если бы люди жили сначала наверху, то «животные верха» — птицы, летающие лисицы и насекомые — так же могли бы менять свою кожу и возвращать свою молодость.
Здесь кончается этот миф — как его обычно рассказывают. Иногда туземцы добавляют к этому некоторые комментарии, проводя параллели между духами мертвых и первобытным человечеством; иногда делают упор на мотиве перерождения рептилий; иногда пересказывают один лишь эпизод с потерей кожи. Сам по себе этот рассказ, казалось бы, тривиален и незначителен; он может показаться таковым тому, кто не изучал его на фоне верований, обычаев и обрядов, связанных со смертью и будущей жизнью. Этот миф, несомненно, представляет собой не что иное как драматизированное поверье туземцев о прежней способности человека к омоложению и последующей утрате ее.
Итак, вследствие конфликта между бабкой и внучкой человеческие существа, все до единого, оказались подвержены увяданию и дряхлению, которые несет с собой старость. Однако этим их доля не исчерпывается, на этом их судьбы не обрываются, ибо старость, физическое дряхление и немощь — это еще не смертный приговор для туземцев. Для того чтобы понять весь цикл их верований, необходимо изучить представления о болезнях, старении и смерти. Житель Тробрианских о-вов — определенно оптимист в своем отношении к здоровью и смерти. Сила, бодрость и физическое совершенство являются для него естественным состоянием, на которое могут повлиять или которое могут нарушить лишь неблагоприятный случай или сверхъестественная причина. Случайные факторы — вроде переутомления, солнечного удара, переедания или переохлаждения — могут вызвать незначительное и временное недомогание. Ударом копья в сражении, ядом, падением с дерева или скалы человек может быть покалечен или убит. Случаются ли все эти несчастья, а также многие другие — когда, например, человек тонет в море или в реке, подвергается нападению крокодила или акулы — совершенно независимо от колдовства, для туземца всегда остается вопросом спорным. Но не существует сомнений в том, что все серьезные и особенно все смертельные болезни обусловлены различными формами колдовства. Среди этих последних преобладают ординарные вредоносные практики местных магов, способных, как считается, посредством своих обрядов и заклинаний вызывать недуги, список которых покрывает едва ли не все обычные патологии, за исключением скоротечных болезней и эпидемий.
Источник колдовства всегда ищут в некоем воздействии, идущем с юга. Есть два места на Тробрианском архипелаге, где, как считается, зародилось колдовство, или, скорее, куда оно было перенесено с архипелага Д'Антрекасто. Одно из них — это роща Лавайво между деревнями Ба-у и Бвойталу, а другое — южный остров Вакута. Оба этих района до сих пор считаются самыми известными центрами колдовства.
Район Бвойталу имеет особенно низкий социальный статус на острове; там живут самые искусные резчики по дереву и самые лучшие мастера плетения, однако, они употребляют в мясо пищу таких недостойных тварей, как скат и кустарниковая свинья. Эти туземцы долгое время были эндогамными[45*] и представляют, пожалуй, самый древний слой местной культуры острова. К ним колдовство было принесено с южного архипелага крабом. Об этом животном сообщается, что оно либо появилось из дыры в роще Лавайво, либо прилетело по воздуху и свалилось с неба в том же самом месте. Ко времени его появления человек и собака уже вышли на поверхность. Краб был красным, потому что содержал в себе колдовство. Собака увидела его и попыталась укусить. Тогда краб убил собаку, а после убил и человека. Но затем он пожалел о содеянном, его «брюшко шевельнулось», и он вернул человека к жизни. После чего человек предложил своему убийце и спасителю большую плату, покала, и попросил членистоногое отдать ему свою магию. Что и было сделано. Человек тут же воспользовался колдовством, чтобы убить своего благодетеля, краба. Затем, согласно правилу, которое якобы соблюдалось до недавнего времени, он убил своего ближайшего родственника по материнской линии. После этого колдовство оказалось в полном его распоряжении. Теперь крабы черные, потому что колдовство вышло из них; однако они живучи, потому что когда-то были распорядителями жизни и смерти.
Подобный миф бытует и на южном острове Вакута. Рассказывают, что где-то на северном берегу острова Норманби некое злобное существо, с виду похожее на человека, но не человеческое, вселилось в бамбук. Этот бамбук несло течением на север до тех пор, пока не прибило к берегу у мыса Яйвау или Вакута. Человек из близлежащей деревни Квадагила услышал доносившийся из бамбука голос и расколол его. Демон вышел наружу и обучил человека колдовству. Согласно информаторам с юга, это и была исходная точка в истории черной магии. В район Ба-у в Бвойталу черная магия попала с о-ва Вакута, а не непосредственно с южного архипелага. Другая версия жителей Вакуты утверждает, что таува-у пришло на Вакуту не в бамбуке, а более величественным образом. У Севатупа на северном берегу острова Норманби росло большое дерево, в котором обитало множество злобных существ. Дерево упало, его основание осталось на острове Норманби, ствол и ветви оказались над морем, а вершина пришлась на Вакуту. Поэтому колдовство наиболее распространено на южном архипелаге; море между основанием и верхушкой дерева богато рыбой, изобиловавшей в ветвях дерева, а местом, откуда колдовство пришло на Тробрианы, является южное побережье о-ва Вакута. Ибо в верхушке дерева скрывались три самых злобных существа (два существа мужского пола и одно женского), которые и передали свои магические знания жителям острова.
Эти мифологические истории — не более, чем одно из звеньев в цепи верований, окружающих кончину человека. Мифические эпизоды можно понять и должным образом оценить их значение только во взаимосвязи с верой в силу и природу колдовства и с чувствами и представлениями, с ним связанными. Выразительными рассказами о появлении колдовства не исчерпываются истории о сверхъестественных опасностях. По местному поверью, внезапная и скоротечная болезнь и смерть вызываются не колдунами-мужчинами, а летающими ведьмами, которые действуют совершенно иначе и которым в целом присущи более выраженные сверхъестественные свойства. Я не смог отыскать ни одного первичного мифа о происхождении такого ведовства. Вместе с тем, все связанное с этими ведьмами окружено комплексом поверий, образующих то, что может быть названо текущей мифологией, или мифологией настоящего. Я не буду приводить здесь эти поверья подробно, потому что сделал это в своей книге «Аргонавты Тихоокеанского Запада»[46]. Но важно знать, что ореол сверхъестественных чар вокруг тех, кого считают ведьмами, порождает непрерывный поток историй. Такие истории можно считать мифами второго порядка, производными веры в сверхъестественные силы. Подобные истории рассказываются также и о колдунах-мужчинах, бвага-у.
Ил. 1. Бронислав Малиновский с тробрианскими женщинами, 1917 г. (Права: Лондонская школа экономики и Хелена В. Малиновская)
Ил. 2. Деревянные шпатели для извести (центральный — из панциря черепахи), украшенные фигурками птиц и крокодилов (Новая Гвинея). Британский музей.
Наконец, эпидемии. Они приписываются прямому действию злобных духов, таува-у, которые, как мы видели, мифологически считаются чаще всего первоисточником всякого колдовства. Эти злобные существа постоянно обитают на юге. Время от времени они посещают Тробрианский архипелаг и, невидимые для обычных людей, расхаживают ночами по деревням, гремя своими чашками для лайма[47*] и стуча своими деревянными мечами-дубинками. И когда бы эти звуки ни заслышались, жители деревни впадают в ужас, ибо те, кого таува-у поражает своим деревянным оружием, умирают: такое вторжение всегда ассоциируется с массовыми смертями. Тогда в деревнях распространяется лериа, эпидемическое заболевание. Злобные духи могут иногда превращаться в рептилий, и тогда они становятся видимыми человеческому глазу. Такую рептилию не всегда легко отличить от обычной, но сделать это очень важно, так как раненный или обиженный таува-у мстит смертью.
И тут, вокруг этого мифа сегодняшнего дня, вокруг этого местного предания о событиях, которые не принадлежат к прошлому, а случаются и поныне, опять же нарастает бесчисленное множество конкретных рассказов. События некоторых из них происходили даже во время моего пребывания на Тробрианских о-вах; однажды свирепствовала тяжелая дизентерия, а в 1918 году наблюдалась вспышка заболевания типа испанской инфлюэнцы. Многие туземцы говорили, что слышали таува-у. В Вавеле видели гигантскую ящерицу; человек, который убил ее, вскоре умер, а в деревне разразилась эпидемия. В то время, как я был в Обураку и в деревне распространялась болезнь, гребцы лодки, в которой я плыл, увидели настоящего таува-у, в мангровых зарослях появилась огромная многоцветная змея, которая с нашим приближением загадочно исчезла. И только из-за своей близорукости и, возможно, также из-за неумения распознавать таува-у, мне не удалось увидеть это чудо самому. Такую и подобные ей истории можно услышать десятками от туземцев во всех местностях. Рептилий этого типа следует помещать на высокие помосты и класть перед ними различные ценные подношения; в том, что так нередко делается, меня заверяли туземцы, которые сами были свидетелями подобных церемоний, но я никогда не видел этого своими глазами. И опять же, мне говорили, что некоторые женщины-ведьмы вступают в половую связь с таува-у, а относительно одной, ныне живущей, это даже определенно утверждалось.
Пример таких верований показывает, как исходная матричная история постоянно порождает производные мифы. Так, будучи связано с представлениями о причинах всевозможных болезней и смерти, эти поверья и рассказы, которые отражают часть из них, а также всякое самое незначительное экстраординарное событие, какие постоянно подмечают туземцы, — все это образует единое органичное целое. Эти верования, несомненно, не представляют собой ни теорию, ни объяснения. С одной стороны, они представляют собой целый комплекс культурно значимых практик, ибо колдовство не только считается практиковавшимся ранее, но и практикуется в настоящее время, по крайней мере в его мужских формах. С другой стороны, рассматриваемый комплекс включает все прагматические реакции человека на болезнь и смерть; в нем выражены его эмоции, его предчувствия; он оказывает влияние на поведение человека. И снова миф предстает как нечто весьма отдаленное от чисто интеллектуальных объяснений.
Теперь нам полностью известны туземные представления о тех факторах, которые некогда лишили человека способности к постоянному омоложению, и о тех, что в настоящее время укорачивают само его существование. Кстати, связь между этими факторами только косвенная. Туземцы верят, что хотя любая форма колдовства может повредить как ребенку, юноше или человеку в расцвете сил, так и пожилому человеку, все же старики подвержены ему сильнее. Таким образом, потеря способности к омоложению по меньшей мере подготовила почву для колдовства.
Однако было время, когда люди уже старели, умирали и таким образом становились духами, но все же оставались еще в деревнях среди живущих, — так же, как сейчас они витают вокруг своих жилищ, когда возвращаются в деревню во время ежегодного праздника миламала. Но однажды старуха-дух, жившая в доме своих родственников, улеглась, свернувшись, на полу под одним из топчанов. Ее дочь, разносившая пищу домашним, нечаянно пролила немного варева из кокосовой чашки и обварила эту старуху, а та стала возмущаться и ругать дочь. На что последняя ответила: «Я думала, что ты ушла; я думала, что ты возвращаешься только раз в году, во время миламала». Старуха-дух обиделась и сказала: «Я отправлюсь на Туму и буду жить под землей». Затем она взяла кокосовый орех, разрубила его пополам, оставила себе половину с тремя «глазками», а другую отдала своей дочери. «Я даю тебе половину, которая слепа, и поэтому ты не будешь видеть меня. А себе я беру половину с глазами, и поэтому я буду видеть тебя, когда вернусь вместе с другими духами». Вот почему духи невидимы, хотя сами они могут видеть людей.
В этом мифе содержится упоминание о ежегодном празднике миламала, когда духи возвращаются в свои деревни на время торжеств. Более подробный миф рассказывает о том, как был учрежден этот праздник миламала. В Китаве умерла женщина, оставив беременную дочь. Родился сын, но у молодой матери недоставало молока, чтобы кормить его. Когда на соседнем острове умирал мужчина, она попросила его передать ее покойной матери, которую он увидит в стране духов, чтобы та принесла еды своему внуку. Женщина-дух наполнила корзину пищей духов и пришла в деревню, повторяя нараспев: «Чью еду я несу? Еду для своего внука, которую я отдам ему; я отдам ему его еду». Она сказала своей дочери: «Я принесла еду; мужчина передал мне, чтобы я принесла ее. Но я слаба; я боюсь, что люди могут принять меня за ведьму». Затем она испекла один клубень ямса и отдала его своему внуку. А потом отправилась в буш возделывать огород для своей дочери. Однако, когда она вернулась, ее дочь сильно испугалась, так как мать в облике духа была похожа на колдунью. Дочь стала прогонять ее: «Возвращайся на Туму, в страну духов, а то люди скажут, что ты ведьма». Старая женщина-дух сетовала в ответ: «Почему ты меня гонишь? Я думала, что останусь с гобой и буду возделывать огород для своего внука». Но дочь все твердила: «Уходи прочь, возвращайся на Туму». Тогда старая женщина взяла кокос, расколола его пополам, дала «слепую» половину дочери, а половину с тремя «глазками» оставила себе. Она сказала ей, что раз в году она и другие духи будут возвращаться во время миламала и смотреть на людей в деревнях, но сами будут оставаться невидимыми. Так ежегодный праздник стал тем, чем он и является по сей день.
Для того чтобы понять эти мифологические истории, необходимо соотнести их с туземными представлениями о мире духов, с обычными практиками людей в сезон миламала и с представлениями о взаимодействиях мира живых с миром мертвых, которые воплотились в местных формах спиритизма[48]. После смерти каждый дух отправляется в потусторонний мир на остров Тума. У входа его встречает Топилета, страж мира душ. Новоприбывший подносит ему какой-нибудь ценный дар — т. е. духовную субстанцию одной из тех ценностей, которыми он был украшен после смерти. Когда он появляется среди духов, его приветствуют друзья и родственники, умершие раньше, и он сообщает им новости верхнего мира. Затем он начинает жить жизнью духов, которая сходна с земным существованием, хотя иногда, в угоду надеждам и упованиям человека, рассказчики и приукрашивают ее, превращая в сущий Рай. Но даже те туземцы, которые описывают жизнь духов такой прекрасной, не проявляют никакого стремления приобщиться к ней.
Связь между духами и живыми людьми осуществляется несколькими путями. Многие люди видят духов своих умерших родственников или друзей, особенно на острове Тума или возле него. И наряду с этим существуют сейчас и, по-видимому, с незапамятных времен существовали мужчины и женщины, которые в трансе или во сне могут отправиться в долгое путешествие в потусторонний мир. Они принимают участие в жизни духов, приносят к ним и от них новости, передают важные послания и различные сообщения. И прежде всего они всегда готовы передать от живых людей духам дары в виде пищи и ценностей. Эти люди доводят до сознания других мужчин и женщин реальность мира духов. Они также приносят немалое утешение живым, которые всегда с нетерпением ждут новостей от своих дорогих усопших.
Во время ежегодного праздника миламала духи возвращаются с Тумы в свои деревни. Для них возводится специальная высокая платформа, чтобы они могли сидеть и смотреть вниз на дела и забавы своих родственников. В огромных количествах выставляется на общее обозрение еда, чтобы радовать их сердца, равно как и сердца живых членов общины. Днем на циновках перед хижиной главы деревни и перед хижинами уважаемых и богатых ее жителей раскладывают всевозможные ценности. В деревне соблюдается ряд табу, чтобы предохранить невидимых духов от увечья. Нельзя проливать горячие жидкости, ведь можно обварить духов — как обварили ту старую женщину в мифе. Нельзя рубить дрова в пределах деревни и играть с копьями или палками или бросать метательные снаряды и т. п., чтобы не поранить балома, духа. Более того, духи проявляют свое присутствие добрыми и недобрыми знаками, выражая свое удовлетворение или обратное. Легкое раздражение духа иногда выражается неприятным запахом, более серьезное неодобрение проявляется в плохой погоде, несчастных случаях и порче имущества. В таких ситуациях — так же как и во время транса признанного медиума или при приближении смерти — мир духов представляется туземцам очень реальным и близким. Ясно, что миф включен в эти верования как их неотъемлемая часть. Отношения между человеком и духом, как они представлены в религиозных верованиях и опыте настоящего, имеют себе прямые и близкие аналоги в различных мифологических эпизодах. Здесь опять миф можно рассматривать как некий фон, на котором разворачивается панорама непрерывной перспективы — от индивидуальных личных забот, страхов и печалей, через традиционное обрамление верований, т. е. множество конкретных случаев, рассказываемых на основе собственного опыта и памяти прошлых поколений, непосредственно к той эпохе, когда подобные события якобы случались впервые.
Я представил факты и пересказал мифы так, будто существует обширная обобщающая схема взаимоувязанных верований. Эксплицитно такой схемы, конечно же, нет в туземном фольклоре. Но такой способ изложения, тем не менее, вполне адекватен определенной культурной реальности, ибо все конкретные проявления местных верований, все чувства и убеждения, связанные со смертью и жизнью после смерти, поддерживают друг друга и формируют большое органичное целое. Все разнообразие историй и представлений суммируется как вариации на тему, и туземцы спонтанно выявляют параллели и связи между ними. Мифы, религиозные верования и переживания, сопряженные с духами и сверхъестественным, — все это в действительности составляющие одного целого; на практике такое единство ментальных восприятий выражается в попытках связаться с потусторонним миром. Мифы являются лишь частью органичного целого; это развернутая повествовательная форма, проясняющая решающие моменты туземной веры. Когда мы изучаем ту или иную тему, подобным образом отлившуюся в рассказы, то находим, что все они относятся к тому, что можно назвать особенно неприятными или неутешительными истинами: потеря способности к омоложению, появление болезней, смерть в результате колдовства, отказ духов от постоянного контакта с людьми и в конце концов частичное восстановление связи с ними. Мы также видим, что мифы этого цикла более драматичны, а также более последовательны и в то же время более сложны, чем мифы о происхождении. Если не вдаваться в детали, то я. думаю, что это обусловлено более глубоким метафизическим смыслом, более сильным эмоциональным зарядом историй, связанных с человеческой судьбой, по сравнению с историями о социологических прецедентах и установлениях.
Во всяком случае мы видим: миф особенно глубоко внедряется в эти сферы скорее не вследствие их особой загадочности, рождающей любознательность, а вследствие их эмоциональной окрашенности и прагматической значимости. Мы обнаружили, что идеи, проводниками которых являются такие мифы, связаны с наиболее болезненно воспринимаемыми обстоятельствами жизни. Так, в центре внимания одного из таких рассказов (об учреждении праздника миламала и периодических возвращениях духов мертвых) ритуальные формы поведения человека и табу, сопряженные с верой в духов. Предметы, о которых идет речь в таких мифах, сами по себе вполне ясны; нет необходимости их «объяснять», и миф не выполняет этой функции даже отчасти. Что он делает на самом деле — так это трансформирует эмоции, порождаемые предчувствием, за которым даже в сознании туземца брезжит неизбежный и безжалостный конец. Миф прежде всего дает четкое представление об этом. Во-вторых, он низводит смутный, но всепоглощающий страх до уровня обыденной, повседневной реальности. Все самое вожделенное — сила вечной юности, способность к омоложению, спасающая от увядания и старости, — все это утрачено в результате нелепого происшествия, предотвратить которое было под силу ребенку и женщине. Разлука с любимыми после смерти, оказывается, обусловлена неловким обращением с кокосовой чашкой и пустяковой ссорой. А болезнь представляется чем-то некогда сидевшим внутри безобидного животного и вышедшим наружу в результате случайной встречи человека, собаки и краба. Человеческие ошибки, провинности и случайные промахи приобретают огромную значимость. Рок, судьба и неизбежность, напротив, низводятся до уровня небольших прегрешений людей. Чтобы понять это, наверное, следует иметь в виду, что на деле в своем отношении к смерти — своей собственной или любимых людей — туземец руководствуется не только верой и мифологическими представлениями. Его сильный страх смерти, его острое желание отсрочить ее и его глубокое горе от утраты любимых им людей вступают в противоречие с оптимизмом веры и представлениями о близости и доступности потустороннего мира, поддерживаемыми туземными обычаями и обрядами. Нельзя не замечать смутных сомнений, способных поколебать эту веру перед лицом смерти или ее угрозы. В долгих беседах с некоторыми серьезно болевшими туземцами и особенно с моим другом Багидо-у, болевшим туберкулезом, я чувствовал не вполне отчетливые — не артикулировавшиеся сознательно, но неизменно прорывавшиеся в словах каждого из них — глубокую горечь по поводу быстротечности жизни и всего лучшего в ней, все тот же страх перед неизбежным концом и все тот же немой вопрос: можно ли раз и навсегда избавиться от этой участи или по крайней мере хоть на время ее отодвинуть. Но те же самые люди цепляются и за единственную надежду, которую дает им их вера. Яркие картины, воссоздаваемые мифами, рассказами и поверьями о мире духов заслоняют от человека огромную эмоциональную бездну, зияющую перед ним.
IV. Мифы о магии
Теперь я хотел бы более подробно рассмотреть другой класс мифологических рассказов, тех, что связаны с магией. Магия со многих точек зрения является самым важным и самым таинственным аспектом прагматических жизненных установок человека примитивной культуры. Это одна из проблем, которые в настоящее время вызывают наиболее острый интерес у антропологов и особенно оживленно обсуждаются ими. Основа в ее изучении была заложена сэром Джеймсом Фрэзером, который к тому же воздвиг на этом фундаменте свою стройную и знаменитую теорию магии.
Магия играет настолько важную роль в северо-западной Меланезии, что ее значение не скроется даже от поверхностного наблюдателя. Однако сферы ее приложения на первый взгляд не очень четко очерчены. С одной стороны, кажется, что она присутствует повсюду. С другой стороны, существуют некоторые весьма значимые и жизненно важные виды деятельности, в которых отсутствие магии бросается в глаза. Ни один туземец никогда не станет возделывать огород с посадками ямса или таро без обращения к магии. Тем не менее, культивирование некоторых важных растений, таких как кокосовая и арековая пальмы, бананы, манго и хлебное дерево, не сопряжено с магией. Рыболовство, вид хозяйственной деятельности, занимающий по своей значимости второе место после земледелия, в некоторых из своих форм связан с изощренной магией. Так, опасная охота на акул, на неведомых калала или тоулам окутаны магией. Однако столь же жизненно важный, но легкий и надежный метод добычи рыбы глушением вообще не имеет своей магии. При изготовлении каноэ — деле, изобилующем техническими трудностями, требующем организованного труда и сопряженном с последующими опасными плаваниями, — ритуал сложен, тесно переплетен с работой и считается абсолютно необходимым. При возведении жилищ, таком же сложном с технической точки зрения занятии, но не связанном ни с опасностью, ни с игрой случая и не требующем таких развитых форм сотрудничества, как строительство каноэ, работа не сопровождается никакой магией. Резьба по дереву — занятие, имеющее огромнейшее значение в хозяйстве. В некоторых общинах она является универсальным ремеслом, изучается с детства и практикуется каждым, но там вообще нет соответствующей магии. Однако есть другой тип ремесла резчика, — изготовление скульптурных изображений из эбенового и других твердых пород дерева, — практикуемый повсеместно только людьми, обладающими особым техническим и художественным талантом, и в отличие от первого он имеет свою магию, которая считается основным источником мастерства и вдохновения. Знаменитый церемониальный обмен — кула — окружен сложными магическими обрядами, тогда как некоторые второстепенные формы обмена, имеющие чисто коммерческий характер, вовсе не сопровождаются магией. А такие дела, как война и любовь, и такие проявления роковых и природных сил, как болезни, ветер, солнце, дождь, по туземным представлениям почти полностью подчинены магии.
Даже этот беглый обзор подводит нас к важному обобщению, которое послужит в качестве отправной точки. Мы находим магию там, где есть место случайности, эмоциональной игре надежды и страха. Мы не находим магии там, где все ясно, надежно и хорошо контролируется рациональными навыками и технологическими процессами. Мы находим магию везде, где дает себя знать фактор риска. И не встречаем магии нигде, где абсолютная безопасность исключает какие бы то ни было дурные предчувствия. Это психологический фактор. Но магия выполняет также и иную важнейшую социальную функцию. Как я уже пытался показать в другом месте, магия является активным фактором организации труда и систематической кооперации. Она также считается основной силой, контролирующей охоту на крупную дичь. Таким образом, интегральная культурная функция магии состоит в заполнении брешей и проломов в тех важных видах деятельности, которыми человек еще не вполне овладел. Магия дает человеку примитивной культуры твердое убеждение в том, что он способен добиваться успеха, и тем самым достигать своей цели; она также снабжает его особыми ментальными и материальными техниками там, где его обычные навыки и знания не помогают. Таким образом, она дает человеку возможность с уверенностью выполнять его жизненно важные задачи, сохраняя самообладание и психическую целостность, в обстоятельствах, которые, не будь магии, полностью деморализовали бы его отчаяньем и тревогой, страхом и отвращением, безответной любовью и бессильной ненавистью.
Итак, магия сродни науке в том, что она всегда имеет определенную цель, обусловленную человеческими инстинктами, нуждами и стремлениями. Искусство магии нацелено на достижение практических результатов; подобно любому другому искусству или ремеслу, она также руководствуется теорией и системой принципов, которые определяют тот способ, которым следует выполнять каждое действие, для того чтобы оно было эффективным. Таким образом, магия и наука проявляют ряд сходных черт, и вслед за Джеймсом Фрэзером мы тоже можем назвать магию псевдонаукой.
Но рассмотрим более обстоятельно природу магического искусства. Магия во всех ее формах включает три главных ингредиента. В магическом акте всегда используются определенные слова, произносимые или читаемые нараспев, всегда исполняются определенные ритуальные действия и всегда имеется человек, совершающий ритуал. Поэтому, анализируя природу магии, мы должны разграничить ее составляющие: формулу, обряд и исполнителя. Сразу же можно сказать, что в той части Меланезии, которую мы изучаем, самой важной составляющей магии, несомненно, является заклинание. Для туземцев знание магии означает знание заклинания, и в любом акте колдовства ритуал сосредоточен вокруг произнесения заклинания. Обряд и искусство исполнителя являются лишь дополняющими факторами, условиями надлежащей передачи заклинания и его применения. Это очень важно для нашего анализа, ибо магическое заклинание близко связано с передаваемыми из поколения в поколение знаниями и особенно с мифологией[49].
Почти все типы магии сопряжены с традиционными рассказами об их «истории». В этих рассказах говорится, где и когда конкретная магическая формула досталась человеку, как она стала принадлежностью местной общины и каким образом передается от одного человека к другому. Но такая «история» не является рассказом о происхождении магии. Магия никогда не «рождалась», она никогда не создавалась и не изобреталась. Любая магия просто «была» изначально в качестве необходимого дополнения ко всем тем вещам и процессам, в которых человек жизненно заинтересован, но которые не подвластны его нормальным рациональным усилиям. Заклинание, обряд и объект, управляемый ими, возникли одновременно и живут в единстве.
Таким образом, сущностью всякой магии является ее традиционная целостность. Магия может быть действенной только в том случае, если она без упущений и ошибок передается из поколения в поколение, от первобытных времен и до нынешнего дня. Поэтому всякий вид магии предполагает наличие как бы родословной, своего рода паспорта, перемещающегося вместе с ним во времени. Это и есть миф о магии. То, как миф придает магическому действу смысл и обоснованность, сливаясь с верой в действенность магии, лучше всего проиллюстрировать конкретным примером. Как мы знаем, любовь и влечение к противоположному полу играют заметную роль в жизни меланезийцев. Подобно представителям многих народов Южных Морей, они свободны и раскованы в своем поведении, особенно до брака. Однако супружеская измена является наказуемым проступком, а половые связи в рамках одного тотемического клана строго запрещены. Но самым большим преступлением в глазах туземцев является любая форма кровосмешения. Одна только мысль о таком прегрешении между братом и сестрой наполняет их ужасом. Брат и сестра, связанные самыми близкими узами родства в этом матриархальном[50*] обществе, не могут даже просто свободно разговаривать друг с другом, никогда не должны улыбаться друг другу или подшучивать друг над другом, а какие-либо сексуальные аллюзии, относящиеся к одному из них, в присутствии другого считаются исключительно дурным тоном. Однако вне клана сексуальная свобода велика, и любовные коллизии принимают множество интересных и даже притягательных форм.
Всякая сексуальная привлекательность и всякая способность к обольщению относятся на счет любовной магии. Туземцы полагают, что эта магия восходит к одному драматическому происшествию отдаленного прошлого. О нем рассказывает странный и трагический миф об инцесте между братом и сестрой. Я могу лишь коротко изложить этот сюжет[51]. Двое молодых людей жили в одной деревне вместе со своей матерью, и девушка случайно вкусила сильного любовного зелья, приготовленного ее братом для кого-то другого. Обезумев от страсти, она стала преследовать своего брата и совратила его на пустынном берегу. Охваченные стыдом и раскаянием, брат и сестра отказались от еды и питья и умерли вместе в гроте. Сквозь их скелеты, сплетенные в предсмертном объятии, проросла ароматическая трава, и эта трава является самым сильнодействующим ингредиентом в смеси веществ, используемой обычно в любовной магии.
Можно сказать, что мифы о магии, даже в большей мере, чем мифы других видов, бытующие в примитивных культурах, оправдывают социологические притязания практикующих это искусство, задают форму ритуала и модель последующего чудесного события, подтверждают истинность убеждения в действенности магии.
Наше открытие этой культурной функции магического мифа полностью согласуется с блестящей теорией происхождения власти и царственного сана, разработанной сэром Джеймсом Фрэзером в первых частях его «Золотой ветви». Согласно сэру Джеймсу, начала социального преобладания обусловлены прежде всего магией. Продемонстрировав, как эффективность магии соотносится с локальными притязаниями и правами, социологическими взаимодействиями и линиями происхождения, определяющими преемственность статусов и достояний, мы смогли обнаружить еще одно звено в цепи причинно-следственных связей между преданием, магией и социальной властью.
V. Заключение
На протяжении всей этой книги я пытался доказать, что миф является прежде всего культурным фактором. Но это не единственное. Миф, что вполне очевидно, еще и нарратив — произведение словесного творчества — и как таковой он имеет свои литературные аспекты, которые неправомерно переоценивались большинством исследователей, но которыми, тем не менее, не следует полностью пренебрегать. Миф содержит в себе зародыш будущих эпоса, лирики и трагедии; и он был использован в этих жанрах творческим гением народов и профессиональным искусством цивилизаций. Мы видели, что некоторые мифы представляют собой всего лишь сухие и сжатые утверждения, почти лишенные какой-либо фабулы и драматических эпизодов; другие, подобно мифу о любви или миф:) у о магии каноэ и далеких морских плаваниях, являются в высшей степени драматическими рассказами. Если бы позволяло место, я мог бы представить здесь длинную и замысловатую сагу о культурном герое Тудаве, который убивает великана-людоеда, мстит за свою мать и выполняет целый ряд культурных задач[52]. Сравнивая такие истории, можно было бы продемонстрировать, почему миф в некоторых своих формах как нельзя более располагает к последующей литературной переработке и почему в других своих формах он остается лишенным художественности. Простой социологический прецедент, легализация статуса, доказательство справедливости локальных и десцентных (линиджных) притязаний не ведут в сферу глубоких эмоциональных переживаний и потому лишены литературной ценности. В противоположность этому вера — вера в магическое, вера религиозная — тесно сопряжена с глубочайшими желаниями человека, с его страхами и надеждами, с его чувствами и страстями. Мифы о любви и смерти, истории о потере бессмертия, о конце Золотого века, об изгнании из Рая, мифы о кровосмешении и колдовстве включают те самые содержательные элементы, которые присущи таким художественным жанрам, как трагедия, лирика и романтический рассказ. Наша теория культурной функции мифа, раскрывая его соотношение с верой и демонстрируя тесную связь между обрядом и преданием, могла бы способствовать более глубокому пониманию литературного потенциала рассказов дикарей. Но развивать эту тему, какой бы захватывающей она ни была, мы здесь не можем.
Открывая наше изложение, мы подвергли сомнению и критике две новейшие теории мифа: взгляд на миф как на возвышенное описание естественных явлений и доктрину Эндрю Лэнга, согласно которой миф является объяснением сущего, примитивным аналогом науки. Наш анализ показал, что ни одна из ментальных установок, предлагаемых этими теориями в качестве основополагающих, не является доминирующей в примитивной культуре, что ни одна не может объяснить ни форму примитивных сакральных историй, ни их социальный контекст или культурную функцию. Но уяснив, что миф служит преимущественно для утверждения социологических льгот, для ретроспективной демонстрации моделей поведения или для обоснования веры в магию путем апелляции к чуду, явленному в первобытные времена, — уяснив все это, мы ясно видим, что в священных легендах можно найти и элементы интереса к природе, и элементы объяснений ее феноменов. Ибо прецедент имеет связь с последующими случаями, хотя связь эта подчиняется интеллектуальной схеме, совершенно отличной от научного установления причинно-следственных зависимостей или зависимостей между действием и результатом. Интерес к природе, опять же, вполне очевиден, если иметь в виду всю важность мифологии магии и то, как тесно магия связана с хозяйственными заботами человека. Однако в этом отношении мифология очень далека от беспристрастных и созерцательных рапсодий на тему природных явлений. Между мифом и природой необходимо вставить два звена: прагматический интерес человека к некоторым аспектам внешнего мира и его потребность в компенсации с помощью магии недостатка рационального и эмпирического контроля над некоторыми явлениями.
Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что в этой книге я рассматривал мифы дикарей, а не мифы высоких цивилизаций. Я считаю, что изучение функций и функционирования мифологии в примитивных обществах должно предшествовать обобщениям, которые делаются на основании материалов высокоразвитых культур. Некоторые из этих материалов дошли до нас только в изолированных литературных текстах, вырванные из той социальной обстановки, в которой они бытовали, вырванные из социального контекста. Таковы мифологии народов классической античности и мертвых цивилизаций Востока. Исследователь-классик должен учиться у антрополога.
Наука о мифологии живых высокоразвитых культур, таких, как сегодняшние цивилизации Индии, Японии, Китая и (последняя, но не менее значительная) наша собственная, вполне может черпать вдохновение в сравнительном изучении примитивного фольклора; и, в свою очередь, мифология цивилизованных народов может предоставить важные дополнения и объяснения исследователям примитивной мифологии. Впрочем, это уже слишком сильно выходит за пределы задач данной работы. Однако я хочу подчеркнуть, что антропология должна быть не только изучением обычаев дикарей с позиций нашей ментальности и нашей культуры, но также и изучением нашей собственной ментальности в интеллектуальной перспективе, заимствованной у человека Каменного века. Погружаясь мысленно в жизнь людей гораздо более простой культуры, чем наша, мы обретаем возможность как бы взглянуть на самих себя издалека и с новыми критериями подойти к нашим порядкам, убеждениям и обычаям. Если бы антропологии удалось тем самым внушить нам новые представления о ценностях и снабдить нас более совершенным чувством юмора, то она могла бы по праву претендовать на звание великой науки.
Теперь, когда я закончил обзор фактов и последовательно изложил свои выводы, мне остается только кратко подвести итоги. Я пытался показать, что фольклор, эти рассказы, имеющие хождение в туземной общине, живут в контексте племенной жизни, а не только в изложении. Говоря это, я имею в виду, что идеи, эмоции и желания, связанные с каждой конкретной историей, переживаются не только в момент ее пересказа, но и всякий раз, когда ее содержание воспроизводится в том или ином обычае, моральном установлении или ритуальном действе. И здесь между различными типами историй обнаруживаются значительные различия. «Волшебная сказка», рассказываемая у костра, имеет весьма ограниченный социальный контекст; «легенда» более глубоко проникает в традиционную жизнь общины, но самую важную функцию выполняет «миф». Миф как описание первобытной реальности, которая все еще жива, и как ее оправдание посредством прецедента представляет ретроспекцию моделей поведения и критериев моральных ценностей, подтверждение действующего социального порядка и веры в магию. Поэтому он не является ни просто увлекательным рассказом, ни аналогом науки, ни видом искусства или историческим свидетельством, ни фантастическим объяснением. Он выполняет главным образом функцию, неразрывно связанную с поддержанием традиции и непрерывности культуры, с формированием культурно опосредствованного восприятия старости и молодости, а также исторического прошлого человечества. Если говорить кратко, функция мифа состоит в том, чтобы упрочить традицию, придать ей значимость и власть, возводя ее истоки к высоким, достойным почитания, наделенным сверхъестественной силой началам.
Поэтому миф является неотъемлемой частью культуры в целом. Как мы видели, он постоянно рождается снова; каждая историческая перемена производит свою мифологию, которая, однако, только косвенно связана с историческим фактом. Миф является своего рода постоянным побочным продуктом живой веры, которая нуждается в чудесах; социальных устоев, которые требуют прецедента; морального закона, который требует оправдания.
Возможно, мы слишком много берем на себя, пытаясь дать новое определение мифа. Наши выводы подразумевают новый подход к науке о фольклоре, ибо мы показали, что она не может абстрагироваться от обряда, от социального устройства или от материальной культуры. Народные сказки, легенды и мифы следует перенести из их одномерного существования на бумаге в трехмерную реальность полноценной жизни. Что же касается антропологических полевых исследований, мы, несомненно, требуем новых методов сбора материала. Антрополог должен покинуть свой удобный шезлонг на веранде миссионерского дома, правительственной станции или бунгало плантатора, где, вооружившись карандашом и записной книжкой, а временами и виски с содовой, он привык собирать показания своих информаторов, записывать их фольклорные рассказы, заполняя листы бумаги текстами, продиктованными дикарями. Он должен отправиться в деревни и видеть туземцев за работой на огородах, на берегу моря, в джунглях; он должен плавать вместе с ними к далеким песчаным отмелям и к чужим племенам, наблюдать за ними во время рыбной ловли, торговли и ритуальных морских экспедиций. Информация должна поступать к нему во всем ее многоцветий в ходе его собственных наблюдений за туземной жизнью, а не выжиматься по каплям — с помощью разговорных трюков — из неохотно отвечающих ему информаторов. Полевые данные могут быть получены не из первых, а из вторых рук даже если вы находитесь в кругу дикарей, среди их свайных построек, совсем рядом с настоящим каннибализмом и охотой за головами. Антропология «открытого воздуха», в противоположность записыванию под диктовку, — это тяжелая работа, но это также и огромная радость. Только такая антропология может дать нам всесторонний взгляд на примитивную культуру и ее носителей. В том, что касается мифа, такая антропология показывает нам, что он, будучи далеко не праздным умозрительным построением, является жизненно важной составной частью практического взаимодействия человека с окружающей его действительностью.
Однако и здесь мои притязания невелики, и все заслуги опять же принадлежат сэру Джеймсу Фрэзеру. В «Золотой ветви» представлена теория ритуальной и социальной функции мифа, к которой я смог сделать лишь небольшие дополнения в виде того, что проверил, подтвердил и задокументировал в процессе своих полевых исследований. Эта теория применена Фрэзером в его знаменитых книгах и при истолковании магии, и при мастерской демонстрации огромного значения земледельческих ритуалов, и при декларировании центральной роли культов растительности и плодородия («Adonis, Attis, Osiris»; «Spirits of the Corn and of the Wild»[53*]). В этих работах, как и во многих других своих трудах, Джеймс Фрэзер устанавливает тесную связь между словом и действием в примитивной вере; он показывает, что слова мифологических рассказов и заклинаний, с одной стороны, и акты ритуала, с другой, являются двумя неразделимыми аспектами примитивной веры. Глубокий философский вопрос, поставленный Фаустом — что первично, слово или дело, — обернулся софизмом. Человек начинается одновременно и с ясно сформулированной мысли, и с мысли, воплощенной в действии. Без слов, встроенных ли в трезвую и рациональную беседу, запущенных ли в дело посредством магического заклинания, обращенных ли к божеству в молитве, человек не мог бы пуститься в свою великую культурную Одиссею, с ее приключениями и свершениями.
Ил. 3. Резная деревянная фигурка, украшавшая нос пироги, инкрустирована перламутром (Соломоновы острова). Выраженный прогнатизм (выступающие челюсти), характерный для подобных фигурок, никак не связан с антропологическим типом меланезийцев и, скорее всего, ассоциируется с клювом фрегата, птицы, считавшейся инкарнацией духа умершего. Музей Дуэ, Соломоновы острова.
Балома: духи мертвых на Тробрианских островах[54]
У туземцев Киривины смерть становится отправной точкой двух ценен событий, которые протекают почти независимо друг от друга. Смерть поражает индивида: его душа (балома или балом) покидает тело и отправляется в иной мир, чтобы вести там призрачное существование. Его кончина — это также и событие для всей общины, потерявшей своего члена. Люди скорбят об умершем, оплакивают его и устраивают бесконечный ряд поминальных пиров. Чаще всего это обряды, заключающиеся в раздаче неприготовленной пищи, реже они представляют собой настоящие трапезы, для которых пищу готовят и на которых ее съедают на месте. Эти церемонии проводятся близ тела умершего и диктуются долгом скорби и оплакивания. По эти общественные церемонии и обряды — что очень важно для нашего изложения — никак не связаны с духом. Они исполняются не для того, чтобы сообщить балома (духу) о своей любви и сожалении, и не для того, чтобы удержать его от возвращения; они ничего не сулят ему и не влияют на его отношения с живыми.
Поэтому туземные представления о загробной жизни следует обсуждать, не касаясь темы оплакивания и погребальных обрядов. Последние чрезвычайно сложны, и правильное их описание потребовало бы также досконального анализа туземной социальной системы[55]. В этой статье будут охарактеризованы лишь представления о духах мертвых и загробной жизни.
Сразу же после того, как дух покидает тело, с ним происходит замечательная вещь. В широком смысле это может быть определено как расщепление. Посуществу, имеются два верования, которые, будучи явно несовместимыми, тем не менее, бытуют бок о бок. Согласно одному из них, балома (основной вид духов мертвых) отправляется «на Туму, небольшой островок, расположенный примерно в десяти милях на северо-запад от Тробриан»[56]. На этом острове имеются и живые обитатели, которые локализуются в большой деревне, тоже называющейся Тума. Его часто посещают и туземцы с основного острова. Но другому верованию, после смерти дух некоторое, недолгое, время ведет неприкаянное существование возле деревни и в местах, часто посещавшихся умершим: где-то на огороде, на берегу моря или у водоема. Этот вид духов называется коси (иногда произносится кос). Соотношение между коси и балома не вполне ясно. и туземцы обычно не утруждают себя попытками согласовать эти представления. Некоторые наиболее интеллектуальные информаторы берутся объяснить несоответствия, но их «теологические» опыты дают не совпадающие результаты, и, по-видимому, господствующая ортодоксальная версия отсутствует[57]. Так или иначе, эти два верования существуют бок о бок в догматической неприкосновенности; они считаются истинными, оказывают влияние на поступки людей, управляют их поведением. Люди искренне, правда, не слишком сильно, боятся коси, а некоторые действия, совершаемые при оплакивании и захоронении умерших, подразумевают веру в путешествие духа на Туму — представления об этом путешествии разработаны до деталей.
Ил. 4. Фигурка Ули из раскрашенного дерева (Новая Ирландия). Ули представляют собой изображения предков, наделенные чертами гермафродитов; использовались, по всей вероятности, в магии плодородия. Волосы собраны в траурную прическу. На шее — охотничье лассо. Ранее принадлежала к коллекции У.Бонди; в настоящее время находится в коллекции барона фон дер Хайдта.
Тело умершего убирают всеми его лучшими украшениями, и все ценные вещи, которыми он владел, кладутся рядом с ним. Это делается для того, чтобы он смог унести «сущность» или «духовную часть» своих богатств в иной мир. Этот обычай подразумевает веру в местного Харона по имени Топилета, который получает «плату» от духа (см. ниже).
Коси, призрак умершего, в течение нескольких дней после смерти можно встретить на дороге возле деревни, увидеть на огороде или услышать, как он стучится в дома своих родных и друзей. Люди явно боятся встречи с коси и всегда стремятся быть настороже, чтобы вовремя заметить его, но их страх не очень силен. Коси считаются глумливыми, но в целом безвредными; они проказничают, докучают людям и пугают их, устраивая мелкие пакости, вроде грубой шутки, когда один человек в темноте пугает другого. Вечерами, притаившись где-нибудь, коси может бросать камешки или гальку в проходящих мимо, звать их по имени; иногда слышится его смех, доносящийся из мрака ночи. Но он никогда не причиняет реального вреда. Никто никогда не пострадал от коси, а тем более не был убит им. Коси никогда не прибегает к таким ужасным способам запугивания людей, от которых волосы на голове становятся дыбом и которые так часто описываются в наших историях о привидениях.
Я очень хорошо помню, как впервые услышал упоминание о коси. Была темная ночь, и я в компании троих туземцев возвращался из соседней деревни, где в тот день умер мужчина и где мы присутствовали при его погребении. Мы шагали друг за другом, когда неожиданно один из туземцев остановился, и все они разом заговорили, оглядываясь вокруг с явным любопытством и интересом, но без признаков ужаса. Мой переводчик объяснил, что кто-то из них услышал коси в огороде, засаженном ямсом, — мы в тот момент как раз его пересекали. Я был поражен тем фривольным тоном, в каком туземцы обсуждали это мрачное происшествие, и попытался выяснить, всерьез ли они верят в появление коси и как реагируют на него эмоционально. В реальности события, кажется, не было ни малейшего сомнения, и впоследствии я узнал, что хотя увидеть или услышать коси — дело довольно обычное, никто не боится пойти в одиночку в темный огород, где только что раздавался голос коси, и никто ни в коей мере не одержим невыносимым, гнетущим, парализующим страхом, так хорошо известным всем, кто испытал его сам или изучал отношение к привидениям, какими мы представляем их в Европе. У туземцев абсолютно нет «историй о привидениях», за исключением рассказов о мелких проделках коси, и даже маленькие дети не боятся их.
В целом наблюдается удивительное отсутствие суеверной боязни темноты, и люди не страшатся ходить в одиночку по ночам. Я посылал мальчиков (явно не старше десяти лет) ночью по одному на довольно значительные расстояния за какими-нибудь намеренно оставленными мною вещами и обнаружил, что они безбоязненно и с готовностью соглашаются идти за небольшую плитку табака. Мужчины и юноши ночью в одиночку ходят из одной деревни в другую, часто на расстояние в несколько миль, не имея шанса встретить кого-либо в пути. В действительности же, поскольку такие прогулки обычно совершаются в связи с какой-нибудь любовной историей, часто недозволенной, постольку идущий сознательно избегает каких-либо встреч, пробираясь в буше в стороне от дороги. Я хорошо помню также, как встречал в сумерках на дороге одиноких женщин, правда только пожилых. Дорога, ведущая из деревни Омаракана (и из ряда других деревень, расположенных недалеко от восточного побережья) к берегу, проходит через раибоаг — скалистую местность, поросшую лесом, — где тропинка петляет среди скал и утесов, идет через расщелины и мимо пещер — местность; довольно зловещая ночью; но туземцы часто ходят по этой дороге туда и обратно ночью в полном одиночестве: конечно, люди отличаются друг от друга, одни храбрее, другие трусливее, но в целом этот всеобщий страх туземцев перед темнотой, о котором пишут исследователи, жителям Киривины почти не свойственен[58].
Тем не менее, когда в деревне случается смерть, суеверные настроения возрастают. Однако они связаны не с коси, а с существами, которым «сверхъестественность» присуща в гораздо меньшей степени, т. е. с невидимыми ведьмами, называющимися мулукуауси. Это реально живущие женщины, с которыми можно быть знакомым и разговаривать в обыденной жизни, но которые, по поверью, обладают способностью становиться невидимыми, отправлять «посланника» из своих тел или перемещаться на большие расстояния по воздуху. В своей бестелесной форме они чрезвычайно опасны, могущественны и вездесущи[59]. Всякий, кто случайно встретится с ними, наверняка подвергнется нападению.
Они особенно опасны в море, и всегда, когда поднимается шторм и каноэ оказывается под угрозой гибели, появляются мулукуауси в поисках жертвы. Поэтому никто не вздумает отправляться в дальнее плавание — на юг, к архипелагу Д'Антрекасто, или на восток, к островам Маршалл-Бенет, или еще дальше, к острову Вудларк (Моруа), не зная каига-у, сильнодействующей магии, предназначенной отгонять и сбивать с толку мулукуауси. Даже при постройке масава — каноэ для дальних морских плаваний (вага), — должны произноситься заклинания, чтобы уменьшить опасность, исходящую от этих страшных женщин.
Они так же опасны и на суше, где нападают на людей и выедают их языки, глаза и внутренности — лопоуло (слово, переводимое обычно как «легкие», также означает «внутренности» в целом). Впрочем, все эти сведения относятся к теме колдовства и вредоносной магии, и нам пришлось привести их здесь только потому, что представления о мулукуауси интересуют нас в их связи со смертью. Ибо этим ведьмам присущи поистине омерзительные наклонности. Всякий раз, когда умирает человек, они просто роятся вокруг и поедают его внутренности. Они выедают его лопоуло, его язык, глаза, и фактически пожирают всю его плоть, после чего становятся еще опаснее для живых. Они стекаются к дому, в котором жил умерший, и пытаются проникнуть внутрь. В старые времена, когда труп оставляли в полузасыпанной могиле посреди деревни, мулукуауси обычно собирались на деревьях в деревне и вокруг нее[60]. Теперь же, когда тело выносят из дома для погребения, применяется магия, предназначенная для того, чтобы отогнать мулукуауси.
Мулукуауси прочно ассоциируются с запахом разложения, и я слышал, как многие туземцы утверждали, что, оказавшись в опасности на море, они отчетливо ощущали запах бурапуасе (падали), что было признаком присутствия там этих дурных женщин.
Мулукуауси являются объектом настоящего ужаса. Так, с приближением ночи непосредственно прилегающая к могиле местность оказывается абсолютно безлюдной. Я обязан своим первым знакомством с верой в мулукуауси такому случаю. Почти в самом начале своего пребывания в Киривине я наблюдал за оплакиванием покойника возле свежей могилы. После захода солнца все скорбевшие собрались возвращаться в деревню, и когда они жестами пытались увлечь меня с собой, я настоял на том, чтобы остаться, полагая, что, возможно, существует какая-то церемония, которую они хотели провести в мое отсутствие. После того, как я на протяжении примерно десяти минут оставался на своем ночном дежурстве, несколько человек из тех, что раньше ушли в деревню, вернулись с переводчиком. Он объяснил мне суть дела и был очень серьезен, когда говорил об опасности, которую представляют мулукуауси, хотя, зная белых людей и их обычаи, он не особенно беспокоился за меня[61].
Даже, находясь в деревне, где случилась смерть, или поблизости от нее, люди очень боятся мулукуауси, и ночью не хотят ходить по деревне или посещать близлежащие рощу и огороды. Я часто расспрашивал туземцев о реальной опасности прогулок в одиночку по ночам вскоре после того, как умер человек, и у них никогда не было ни малейших сомнений в том, что единственно кого следует бояться, это мулукуауси.
Поведав о коси, проказливых и безобидных призраках умерших, которые исчезают после нескольких дней эфемерного существования, и о мулукуауси, отвратительных, опасных женщинах, питающихся мертвечиной и нападающих на живых, мы можем перейти к обсуждению основного вида духов, балома. Я называю этот вид основным, потому что балома, по представлениям туземцев, ведут вполне позитивное, мыслимое весьма конкретно, существование на острове Тума; потому что они время от времени возвращаются в свои деревни; потому что живые — и во сне и наяву — порой навещают этих духов, встречаются с ними на Туме; потому что их видели те из живых, кто были на пороге смерти, но вернулись к жизни; потому что эти духи играют заметную роль в туземной магии и даже получают подношения и что-то вроде умилостивительных жертвоприношений: и наконец, потому что они самым радикальным образом подтверждают свою реальность регулярными реинкарнациями, — возвращаясь в родные места, в мир живых, и будучи, таким образом, вечными.
Балома покидает тело сразу же после наступления смерти и отправляется на остров Тума. Маршрут и способ передвижения, по сути те же, что выбрал бы и живой человек, чтобы добраться из своей деревни на Туму. Тума — это остров; поэтому к нему необходимо плыть на каноэ. Балома из прибрежной деревни сядет в каноэ и доберется до острова. Дух из внутренней деревни вначале отправляется в ту деревню на побережье, откуда обычно плывут на Туму. Так, из Омараканы, деревни, расположенной почти в центре северной части Бойовы (главный остров Тробрианского архипелага), дух перемещается в Каибуолу, деревню на северном берегу, откуда легко добраться до Тумы, особенно когда дуют юго-восточные ветры; эти пассаты доставляют туда каноэ всего за несколько часов. В Оливилеви, большой деревне на восточном берегу, которую я посещал во время миламала (ежегодный праздник духов), считается, что балома — эти гости с острова мертвых — располагаются лагерем на берегу, куда они прибывают на своих каноэ, причем последние имеют «духовное» или «невещественное» свойство, хотя эти понятия подразумевают, пожалуй, нечто большее, чем представляют туземцы. Одно несомненно — ни один обычный человек при обычных обстоятельствах не может видеть ни такое каноэ, ни что-то другое, принадлежащее балома.
Как мы убедились в начале статьи, когда балома покидает деревню и людей, которые его оплакивают, связь с ним прерывается: по крайней мере в течение некоторого времени стенания оплакиващих не доходят до него и никаким образом не затрагивают его. Но его сердце тоже полно горя, он скорбит о разлуке с теми, кого любил. На берегу острова Тума есть камень, называющийся Модавоси. Сидя на нем, дух рыдает, глядя назад, в сторону берега Киривины. Вскоре его слышат другие балома. К нему выходят все его родственники и друзья (балома), присаживаются рядом с ним на корточки и присоединяются к его рыданиям. Они вспоминают свои собственные утраты и сожалеют о своем доме и о всех тех, кого они покинули. Некоторые из балома громко плачут, другие причитают монотонным речитативом точно так, как это делается во время великого погребального бдения (иавали) после смерти человека. Затем балома отправляется к источнику под названием Гилала[62] и промывает глаза, что делает его невидимым[63]. Отсюда дух направляется в Дукупуалу, место на коралловом кряже, где находятся два камня, называющиеся Дикумаио-и. Балома поочередно стучит по ним. Первый отзывается громким звуком (какируана), но когда удар приходится по второму, дрожит земля (иойу). Балома слышат этот звук, и все они собираются вокруг новоприбывшего и приветствуют его на Туме[64].
На каком-то этапе своего перехода в мир духов балома должен встретиться с Топилетой, вождем деревень умерших. Когда конкретно Топилета принимает новичка, мои информаторы не могли сказать, но это должно происходить вскоре по его прибытии на Туму, ибо Топилета живет недалеко от камня Модавоси и выступает в роли Цербера или Св. Петра: он впускает дух в потусторонний мир, и считается, что он даже может не впустить его. Однако его решение не основывается на каких бы то ни было моральных соображениях: просто оно зависит от того, удовлетворен ли Топилета той платой, что предлагает ему новоприбывший. После смерти родственники умершего убирают труп украшениями, которые принадлежали усопшему. Они также кладут с ним все его другие ваигу-а (ценности)[65] и в первую очередь церемониальные топоры (беку). Предполагается, что дух берет все с собой на Туму — в «духовном» качестве, конечно. Туземцы объясняют это просто и точно: «Как балома человека уходит, а его тело остается, так и балома ценных вещей и топоров отправляются на Туму, хотя сами предметы остаются»[66]. Дух уносит эти ценности в небольшой корзине и выбирает вещи, подходящие для подношения Топилете.
Говорится, что эта плата вносится, чтобы Топилета указал правильную дорогу, по которой дух должен следовать уже на Туме. Топилета спрашивает новоприбывшего о причине его смерти. Существует три класса причин: вредоносная магия, отравление и гибель на войне. На Туме имеются три дороги, и Топилета указывает ту из них, которая соответствует типу постигшей человека смерти. Ни одна из этих дорог никаким особым преимуществом не отличается, хотя мои информаторы были единогласны в своих утверждениях, что смерть на войне — это хорошая смерть, смерть от отравления хуже, тогда как смерть от колдовства — худшая из всех. Эти пояснения означают, что мужчина предпочтет умереть скорее на войне, чем как-то иначе; и хотя они не подразумевают никакого морального преимущества той или иной из этих форм смерти, такие предпочтения, несомненно, обусловлены некоторым романтическим ореолом, присущим смерти на войне, и страхом перед колдовством и болезнью.
В одну категорию с гибелью на войне входит и форма самоубийства, при которой человек взбирается на дерево и бросается вниз (у туземцев это называется ло-у). Это одна из двух форм самоубийства, известных в Киривине. К такому самоубийству прибегают как мужчины, так и женщины. Самоубийство представляется явлением весьма обычным[67]. Оно совершается как акт наказания, но не себя самого, а чаще всего кого-то из провинившихся близких. И как таковое оно является одним из важнейших средств осуществления правосудия у этих туземцев. Однако психологическая основа такого обычая не так проста, но здесь мы не можем подробно обсуждать эти удивительные факты.
Наряду с ло-у самоубийство также совершают, принимая яд. Для этой цели используется яд, которым глушат рыбу — тува[68]. Такие самоубийцы вместе с теми, кто был отравлен ядом, получаемым из желчного пузыря рыбы определенного вида — сока, отправляются второй дорогой, дорогой яда.
Утонувшие люди идут той же дорогой, что и те, кто был убит на войне. Это тоже считается «хорошей» смертью. И, наконец, третьей дорогой следуют те, кто были убиты черным колдовством. Туземцы признают, что существуют болезни, вызванные естественными причинами, и отличают их от тех, что связаны с вредоносной магией. Но согласно господствующим здесь представлениям только последние бывают смертельными. Таким образом, третья дорога на Туме предназначается для всех умерших «естественной смертью» в нашем понимании, т. е. не вследствие явного несчастного случая. А, по понятиям туземцев, как правило, такие смерти сопряжены с колдовством[69]. Духи женщин следуют теми же тремя дорогами, что и духи мужчин. Им указывает путь жена Топилеты, которую зовут Бомиамуйа. Пока это все о различных категориях смерти.
Мужчину или женщину, неспособных заплатить необходимую плату стражу Потустороннего мира, ожидает очень тяжелая участь. Такой дух, не допущенный на Туму, будет сброшен в море и превратится в вайаба, мифическую рыбу с головой и хвостом акулы и туловищем ската. Однако опасность превратиться в вайаба, по-видимому, не очень занимает мысли туземца; напротив, наведя справки, я узнал, что такое несчастье случается крайне редко, если вообще когда-либо случается, — мои информаторы не смогли привести ни одного конкретного примера. Когда я спрашивал, откуда в таком случае они вообще об этом знают, ответ обычно гласил: «Старый разговор» (токунабогу ливала). Таким образом, после смерти человека не ждет возмездие за прижизненные дела, ни перед кем не нужно отчитываться, не надо проходить никаких испытаний, и в целом на пути из этой жизни в иную нет препятствий.
Что касается образа Топилеты, то проф. Зелигман пишет: «Топилета во всем похож на человека, за исключением того, что у него огромные уши, которыми он постоянно машет; согласно одному источнику, он относится к клану Маласи и, похоже, ведет совершенно обычную жизнь тробрианского островитянина». Эта информация была получена на соседнем острове, Каилеула (который проф. Зелигман называл Кадавага), но она полностью совпадает с тем, что мне рассказывали о Топилете в Киривине. Далее профессор Зелигман пишет: «Он [Топилета] обладает некоторыми магическими способностями, может, например, вызывать землетрясения по своему желанию, а когда стареет, готовит снадобье, которое возвращает молодость ему, его жене и детям. Умершие вожди сохраняют свою власть и на Туме, а Топилета, хотя и считается самым главным существом на Туме… представляется настолько непохожим на других духов мертвых вождей, что нельзя сказать, что он правит мертвыми в обычном смысле этого слова. На самом деле сложно обнаружить свидетельства того, что Топилета пользуется какой-либо властью в ином мире»[70].
Топилета — неотъемлемая принадлежность Тумы, но он, после того как принимает прибывающих духов, никак не влияет на их жизнь. Умершие вожди действительно сохраняют свой статус, однако пользуются ли они какой-либо властью, моим информаторам было не совсем ясно[71]. Более того, Топилета является подлинным владельцем или хозяином земли духов на Туме и тамошних деревень[72]. В том мире есть три деревни: собственно Тума, Вабуайма и Валисига. Топилета считается толивалу (главой) всех трех деревень, но просто ли это титул или Топилета имеет решающий голос в важных делах, ни один из моих информаторов не знал. Неизвестно также, существует ли какая-либо связь между этими тремя деревнями и тремя дорогами, ведущими в потусторонний мир. Миновав Топилету, дух входит в ту деревню, в которой он отныне будет жить. Он всегда находит там кого-нибудь из своих родственников, у кого он может побыть до тех пор, пока ему не найдут или не построят жилище. Туземцы представляют себе все точно так же, как бывает в этом мире, когда человек вынужден перебраться в другую деревню, — событие отнюдь не редкое на Тробрианских о-вах. В течение некоторого времени новоприбывший очень печален и много плачет. Однако другие балома, особенно противоположного пола, пытаются утешить его в новой обстановке, склоняют создать новые узы и привязанности и забыть старые. Мои информаторы (все они были мужчинами) единогласно утверждали, что духа-мужчину, появившегося на Туме, представительницы прекрасного и стыдливого — в нашем мире — пола просто осаждают своим вниманием. Вначале духу хочется поплакать о тех, кого он оставил; его родственники-балома оберегают его от всяких посягательств, говоря: «Подождите, дайте ему время; пусть он поплачет». Если он был счастлив в супружестве и оставил после себя вдову, по которой тоскует, то, естественно, он хочет подольше оставаться наедине со своим горем. Но все напрасно! Представляется (и это снова только мужское мнение), что в потустороннем мире гораздо больше женщин, чем мужчин, и что они очень нетерпеливы, не выносят длительной скорби. Если они не могут добиться успеха обычным способом, то прибегают к магии, этому могущественному средству завоевания расположения другого человека. Духи женщин на Туме не менее искусны и не более щепетильны в использовании любовных чар, чем живые женщины в Киривине. Очень скоро горе новичка отступает, и он принимает подношение, называющееся набуодау — корзину, наполненную бу-а (орехи бетеля), мо-и (листья бетеля) и ароматическими травами. Это подносится со словами «Кам паку», и если подарок принимается, то формируется новая пара[73]. Мужчина, конечно, может ждать, когда к нему на Туме присоединится его вдова, но мои информаторы, похоже, не склонны были считать, что так поступают многие. Однако вина за это полностью лежит на красавицах Тумы, которые используют такую сильнодействующую магию, что даже самая крепкая супружеская верность не может устоять. В любом случае дух обретает счастливое существование на Туме, где он проживает еще одну жизнь[74], а потом снова умирает. Но эта новая смерть тоже, как мы убедимся далее, не ведет в небытие.
Однако пока это не произошло, балома вовсе не лишен связи с миром живых. Время от времени он посещает свою родную деревню, а его навещают оставшиеся жить друзья и родственники, ибо некоторые из них обладают способностью непосредственно проникать в призрачный мир духов. Другим же балома являются лишь в видениях, или же они могут слышать голоса балома, видеть их издали или в темноте — при этом достаточно отчетливо, чтобы без труда узнать и не сомневаться, что это балома.
Но Тума, как уже говорилось, — это и остров живых: там есть деревня, которую время от времени посещают жители Киривины. На Туме и на прилегающих островах очень много панцирей черепах и больших белых раковин каури (овулум овум); фактически этот небольшой островок является основным источником этих материалов, идущих на самые ценные украшения у жителей северных и восточных деревень Киривины[75]. Поэтому люди с главного острова часто приезжают на Туму.
Все мои информаторы из Омараканы и соседних деревень довольно хорошо знали Тума. И едва ли среди них нашелся бы хоть один, кто никогда не сталкивался с балома. Кто-то видел в сумерках тень, удалившуюся при его приближении; кто-то слышал хорошо знакомый голос и т. д., и т. п. Багидоу, исключительно умный человек из субклана Табалу, главный знаток земледельческой магии в Омаракане и мой лучший информатор во всем, что касалось старинных традиций и преданий, видел множество духов и не имел ни малейшего сомнения в том, что человеку, в течение некоторого времени находящемуся на Туме, совсем несложно увидеть любого из своих умерших друзей. Однажды он (Багидоу) брал воду из источника в раибоаге (скалистая местность) на Тума, когда балома ударил его по спине. Обернувшись, Багидоу увидел только тень, исчезающую в кустах, и услышал причмокивание, какое обычно производят губами туземцы, желая привлечь чье-то внимание. И еще, однажды ночью Багидоу спал на Туме на подмостках. Внезапно он почувствовал, как его подняли и положили на землю.
Большая группа людей вместе с вождем Омараканы, Тоулувой, отправилась на Туму. Они причалили недалеко от камня Модавоси и неожиданно увидели стоящего там человека. Они тут же узнали в нем Гийопеуло, великого воина, мужчину непомерной силы и смелости, который недавно умер в деревне, расположенной не более чем в пяти минутах ходьбы от Омараканы. Когда они приблизились, он исчез, но они явственно услышали: «Букусисуси бала [Вы оставайтесь, я должен идти]», — обычная форма прощанья. Другой из моих информаторов пил воду на Туме в одном из больших гротов, наполненных водой, — их множество в раибоаге — и услышал, как из этого водоема раздался голос: его окликнула по имени девушка, которую звали Буавау Лагим.
Я слышал о массе таких происшествий. Стоит отметить, что во всех этих случаях балома явно отличаются от коси, — т. е. туземцы уверены, что они видят или слышат именно балома, а не коси, хотя несколько легкомысленное поведение этих существ (вроде сбрасывания уважаемого человека с подмостков или хлопанья его по спине) никоим образом не отличается от повадок коси. И опять же, туземцы не воспринимают эти «явления» или проделки балома с чувством «гадливости»; они также, похоже, не боятся этих духов так, как боятся европейцы своих привидений; они боятся балома ничуть не больше, чем коси.
Помимо таких эпизодических и мимолетных соприкосновений, живые могут вступать в гораздо более тесные контакты с балома при посредничестве тех избранных, что посещают страну мертвых. Проф. Зелигман пишет: «Есть люди, которые говорят, что были в нижнем мире Тума и возвращались в верхний мир»[76]. Такие люди отнюдь не редки и представлены обоими полами, хотя, конечно, их способности не всегда хорошо известны, даже ближним. В Омаракане, деревне, где я жил, самым известным человеком из этой категории была женщина, Бвоилагеси, дочь умершего вождя Нумакалы, брата и предшественника Тоулувы, нынешнего правителя Омараканы. Она посещала и, по-видимому, продолжает посещать Туму, где видит балома и разговаривает с ними. Она также принесла с собой с Тумы песню балома, которую часто поют женщины Омараканы.
Есть также один мужчина, Монигау, который время от времени отправляется на Туму и приносит новости от духов. Хотя я очень хорошо знаю их обоих, мне не удалось получить детальной информации об их странствиях на Туме. Оба они чувствовали себя очень стесненно, когда я затрагивал эту тему, и отвечали на мои вопросы нехотя и банально. У меня сложилось твердое впечатление, что они не могут дать никаких подробных объяснений и что все, что они знали, они уже говорили каждому, и поэтому оно известно всем. Таким общим достоянием была и вышеупомянутая песня[77], а также личные устные послания духов своим семьям. Бвоилагеси — с ней я однажды говорил на эту тему в присутствии ее сына, Тукулубакики, одного из самых дружелюбных, скромных и умных туземцев, которых я знал, — сказала, что никогда не помнит то, что видела, однако помнит то, что ей было сказано. Она не идет и не плывет на Туму; она засыпает и просто оказывается среди балома. Она и ее сын были совершенно уверены, что песня была напета ей балома. Но было ясно, что эта тема тягостна для Тукулубакики, особенно когда я настойчиво расспрашивал о деталях. Я не смог обнаружить ни одного случая, когда бы моя дама-информатор извлекла бы реальную экономическую выгоду из своих приключений на Туме, хотя ее престиж был очень велик, несмотря на спорадические проявления открытого скептицизма.
Так, два моих информатора говорили мне, что все эти утверждения о встречах с балома — чистая ложь. Один из них, Гомайа, парень из Синакеты (деревня в южной части острова), рассказал мне, что одним из самых удивительных людей, посещавших Туму, был некий Митакаийо из Обураку; но даже он был обманщиком. Он обычно похвалялся, что может отправиться на Туму, чтобы поесть. «Я хочу сейчас есть; я отправлюсь на Туму; там много еды: спелых бананов, ямса и таро, готовых к употреблению в пищу; рыбы и свиней; там также много орехов арековой пальмы и бетелевого перца; каждый раз, когда я бываю на Туме, я там ем». Можно легко себе представить, как сильно эти картины волновали воображение туземцев, как они поднимали престиж хвастуна и вызывали зависть у тех, кто почестолюбивее. Хвастовство, предметом которого является пища, — самый распространенный способ проявления тщеславия или честолюбия у туземцев. Человек незнатного происхождения может поплатиться жизнью, если у него будет слишком много еды или слишком хороший огород и особенно если он слишком хвастливо будет выставлять все это напоказ.
Гомайе, по-видимому, не нравилось хвастовство Митакаийо, и он попытался добраться до истины. Он предложил ему один фунт[78*]. «Я дам тебе один фунт, если ты возьмешь меня на Тума». Но Митакаийо готов был довольствоваться много меньшим. «Твои отец и мать все время плачут о тебе; они хотят увидеть тебя; дай мне две плитки табака, и я отправлюсь повидаться с ними и отдам им табак. Твой отец видел меня; он сказал: „Принеси табака от Гомайи“». Митакаийо не спешил взять с собой Гомайю в мир иной. Гомайа дал ему две плитки табака, которые мудрец сам же и выкурил. Гомайа узнал об этом, сильно возмутился и стал опять настаивать на том, чтобы лично побывать на Туме, обещая дать фунт, как только вернется оттуда. Митакаийо дал ему три вида листьев и приказал натереть ими тело, а другую небольшую порцию листьев велел съесть. Когда это было сделано, Гомайа лег и заснул — но он так и не попал на Туму. Это сделало его скептиком. А Митакаийо, хотя и не получил обещанный фунт, сохранил свой престиж в общине.
Этот же самый Митакаийо разоблачил другого не столь знаменитого ясновидца, якобы посещавшего Туму, по имени Томуайа Лакуабула. Между ними было вечное соперничество, Митакаийо часто с пренебрежением отзывался о Томуайе. В конце концов решили устроить испытание. Томуайа обещал отправиться на Туму и принести оттуда какую-нибудь вещь. На самом деле он отправился в буш и украл связку орехов бетеля, принадлежавших Моураде, главе деревни (токарайвага валу) Обураку. Большую часть орехов он употребил сразу, однако один оставил на будущее. Вечером он сказал своей жене: «Положи мне циновку на топчан; я слышу пение балома; я скоро буду с ними; я должен лечь». Затем он начал петь в своем доме. Все люди снаружи слышали его и говорили друг другу: «Поет один лишь Томуайа, и никто другой». На следующий день они ему так и сказали, но он ответил, что они не могли слышать его, что это пели многочисленные балома, а он присоединился к ним.
С приближением рассвета он засунул оставленный для этой цели орех бетеля в рот, а на рассвете поднялся, вышел из дому и, вытаскивая орех бетеля изо рта, закричал: «Я был на Туме; я принес оттуда орех бетеля». Этот знак произвел огромное впечатление на всех людей, но Моурада и Митакаийо, которые внимательно следили за ним в предшествующий день и знали, что он украл связку орехов, разоблачили его. С этого времени Томуайа больше не говорил о Туме. Я записал эту историю в точности так, как слышал ее от Гомайи, и привел ее здесь без изменений. Однако туземцы в своем изложении очень часто искажают перспективу. Мне кажется, что мой информатор объединил в этом рассказе несколько разновременных событий; но в данном случае основной интерес представляют нашедшие отражение в рассказе Гомайи психологические установки туземцев по отношению к «спиритизму»; я имею в виду выраженный скептицизм некоторых индивидов и прочность веры большинства. Из этих историй также с очевидностью вытекает — и об этом прямо заявляли мои скептически настроенные друзья, — что главным мотивом всех этих путешествий на Туму является материальная выгода, получаемая провидцами.
Несколько иной способ общения с духами характерен для людей, предрасположенных к состояниям кратковременного транса, когда они вступают в разговор с балома. Я не могу даже приблизительно определить психологическую или психопатологическую основу таких явлений. К сожалению, я узнал о них только в конце своего пребывания там — за две недели до своего отъезда и то лишь случайно. Однажды утром я услышал громкие и, как мне показалось, сварливые крики на другом конце деревни и, будучи всегда наготове заполучить очередной социологический «документ», я спросил у туземцев в моей хижине — в чем дело? Они ответили, что это Гумгуйау — уважаемый и тихий мужчина — разговаривает с балома. Я поспешил туда, но, прибыв слишком поздно, нашел его выбившимся из сил, лежащим на постели и, по-видимому, спящим. Это происшествие не вызвало никакого возбуждения, потому что, как мне сказали, он имел обыкновение говорить с балома. На этот раз он говорил громко, на повышенных тонах, что напоминало обвинительный монолог, и, как мне сказали, речь шла о большом ритуальном состязании лодок, которое проводилось за два дня до этого. Такие гонки устраиваются всегда, когда построено новое каноэ, и обязанность вождя, который организует их, — обеспечить также большое сагали (обряд раздачи еды) в связи с праздником. Балома некоторым бескорыстным и неопределенным образом всегда проявляют интерес к празднествам и следят за тем, чтобы на них было достаточно еды. Любая скудость, обусловленная либо нерадивостью, либо неудачной организацией, вызывает негодование балома, которые винят вождя независимо от того, его ли это промах или нет. Так, в данном случае балома обратились к Гумгуйау, чтобы выразить свое сильное неодобрение по поводу скудного сагали, устроенного недавно на берегу. Организатором праздника, конечно же, был Тоулува, вождь Омараканы.
По-видимому, в общении между балома и миром живых играют некоторую роль и сновидения. Похоже, что балома являются во сне живым преимущественно сразу же после смерти. Кто-то из близких друзей или родственников умершего, кого не было в деревне в момент смерти, видит балома во сне и от него же узнает печальную новость. Балома также часто являются во сне женщинам, чтобы сообщить им, что они забеременеют. Во время миламала, ежегодного празднества, умершие родственники часто посещают людей в сновидениях. В первом из упомянутых случаев (когда духи после смерти приходят к отсутствовавшим друзьям или родственникам) наблюдаются некоторая свобода интерпретаций и некоторая «символизация», как это бывает при толковании сновидений во все времена и во всех цивилизациях. К примеру, большая группа юношей из Омараканы отправилась работать на плантацию в Майлн Бэй на крайней восточной оконечности Новой Гвинеи. Среди них был Калогуса, сын вождя Тоулувы, и Гумигавайа, туземец незнатного происхождения из Омараканы. Однажды Калогусе приснилось, что к нему пришла его мать, пожилая женщина, одна из шестнадцати жен Тоулувы, жившая в Омаракане, и сказала ему, что она умерла. Он очень опечалился и, по-видимому, выразил свое горе причитаниями. (Эта история была рассказана мне одним из членов группы). Все другие поняли, что «что-то, должно быть, случилось в Омаракане». Когда на пути домой они узнали, что умерла мать Гумигавайи, то совсем не были удивлены и нашли в этом объяснение сновидения Калогусы.
Мне кажется, что сейчас самое время обсудить природу балома и их соотношение с коси. Из чего они состоят? Из одной и той же субстанции или из разных? Являются ли они тенями, духами или представляются чем-то материальным? Все эти вопросы можно задать туземцам, и самые интеллектуальные из них легко поймут смысл таких вопросов и будут обсуждать эту тему с этнографом, проявляя и проницательность, и интерес. Но такие дискуссии ясно показали мне, что, затрагивая эти и подобные им вопросы, мы оставляем в стороне сферу собственно веры и сталкиваемся с совершенно иным классом туземных идей. Здесь туземец скорее прибегает к умозрительным спекуляциям, нежели к положительной вере, причем сам он не слишком серьезно относится к своим спекуляциям; не беспокоит его и то, являются ли они ортодоксальными или нет. Только самые интеллектуально развитые туземцы станут углубляться в такие вопросы и при этом будут высказывать свое личное мнение, а не определенные догматы. Даже они — особо одаренные — не имеют в своем словарном запасе или наборе понятий ничего, что хотя бы приблизительно соответствовало нашим понятиям «субстанция» или «сущность». Правда, у них есть слово у-ула, близкое по значению к нашим «причина» и «начало».
Вы можете спросить: «Как выглядит балома? У него такое же тело, как у нас, или другое? И если другое, то чем отличается?» Далее вы можете привлечь внимание к тому обстоятельству, что тело остается, а бестелесный балома уходит. Почти неизменный ответ: балома похож на отражение (сарибу) в воде или в зеркале (так может сказать современный житель Киривины), а коси подобен тени (каикуабула). Это разграничение (балома есть «отражение», а коси — «тень») — типичное, но ни в коей мере не единственное мнение. Иногда о том и другом говорят, что они похожи как на сарибу, так и на каикуабула. Мне всегда казалось, что такие ответы — не столько определения, сколько сравнения. Я хочу сказать, что туземцы вовсе не были уверены, что балома имеет тот же «состав», что и отражение; на самом деле они знали, что отражение — это «ничто», что это сасопа (обман), что в нем нет никакого балома, но что балома — это «просто что-то похожее на отражение» (балома макавала сарибу). Если их припереть к метафизической стенке коварными вопросами: «каким образом балома может окликать живых людей, есть и заниматься любовью, если он похож на сарибу?; как может коси стучаться в дом, бросать камни или ударить человека, если он подобен тени?» и т. п., — то наиболее умственно одаренные туземцы отвечают приблизительно следующее: «Да, балома и коси похожи на отражение и на тень, но они также похожи и на людей и ведут себя точно так же, как люди». И трудно спорить с ними[79]. Некоторые менее одаренные или менее терпеливые информаторы склонны пожимать плечами в ответ на такие вопросы; другие же явно не прочь пофантазировать и выдвинуть какую-нибудь крайнюю точку зрения, а также поинтересоваться вашим мнением и вступить в метафизическую дискуссию. Однако такие импровизации никогда не достигали уровня самостоятельных гипотез; они просто вращались вокруг уже приведенных выше представлений.
Следует четко уяснить, что существуют и убеждения, которых придерживались все мои информаторы без исключения. Нет ни малейшего сомнения в том, что балома сохраняет наружность человека, которого он представляет, так что если вы видите балома, то узнаете в нем умершего человека. Балома живут жизнью людей; они стареют; они едят, спят, любят, как на Туме, так и во время посещения своих деревень. Все это моменты, относительно которых у туземцев не было ни малейшего сомнения. Следует отметить, что эти догматы относятся к поступкам балома, описывают их поведение, а некоторые из них — такие как, например, убеждение в том, что балома нуждаются в пище — подразумевают определенное поведение живых людей при контактах с балома (см. ниже, описание миламала). Единственным, по сути, всеобщим убеждением, касающимся природного естества балома и коси, было то, что первые подобны отражениям, а последние подобны теням. Заслуживает внимания, что такой дуализм сравнений соответствует поведенческим характеристикам этих образов: открытые, определенные и постоянные балома и непонятные, непредсказуемые ночные призраки — коси.
Но в понимании даже фундаментального соотношения между балома и коси имеются существенные противоречия — противоречия, которые касаются не только их сущности, но и соотносительного их существования. Бесспорно преобладающей точкой зрения является то, что балома отправляется прямо на Туму, и то, что другой дух, коси, в течение короткого периода времени бродит вокруг селения. Этот взгляд допускает два толкования: либо в живом человеке находятся два духа, и оба они оставляют тело после смерти, или же коси является чем-то вроде вторичного духа, появляющегося только в момент смерти и отсутствующего в живом теле. Туземцы понимали этот вопрос, если я формулировал его так: «Балома и коси живут в теле все время? Или же в теле живет один балома, а коси появляется только после смерти?» Но все ответы были нерешительными и противоречивыми, один и тот же информатор в разное время отвечал по-разному. Это как нельзя лучше свидетельствует о том, что человек вступает здесь в сферу чистых догадок и импровизаций.
Помимо выразителей названной выше наиболее распространенной позиции, я нашел нескольких человек, которые неоднократно утверждали, что коси представляет собой первую стадию развития духа и что в дальнейшем, спустя несколько дней, коси превращается в балома. Таким образом, в этом случае мы имели бы только одного духа, который некоторое время после смерти остается в округе, рядом со своим домом, а затем удаляется. Несмотря на свою большую простоту и логичность, такое суждение высказывалось гораздо менее уверенно. Однако оно было достаточно независимым и развернутым, чтобы усомниться в том, что первое убеждение следует считать общепризнанным или хотя бы ортодоксальным.
Интересный вариант первой версии (версии параллельного существования балома и коси) был предложен Гомайей, одним из моих лучших информаторов. Он был убежден, что лишь те люди, что при жизни были колдунами (бвога-у), оставляют после смерти коси. Однако быть бвога-у не очень сложно. Любой человек, знающий какие-нибудь силами (заклинания черной магии) и имеющий обыкновение использовать их, является бвога-у. Согласно Гомайе, другие (обычные люди) не становятся коси; они становятся только балома и отправляются на Туму. Во всех остальных деталях — таких, как естество балома и коси, их поведение, а также эфемерность существования коси — Гомайа соглашался с общепринятыми взглядами. Его вариант достоин внимания, потому что Гомайа — очень умный туземец, его отец был великим магом и бвога-у, а его кадала (дядя по материнской линии) тоже колдун. Более того, версия Гомайи очень хорошо согласуется с тем, что бвога-у, как считают туземцы, всегда бродят по ночам, и с этим поверьем связан фактически единственный серьезный ночной страх, если не считать веры в мулукуауси. И опять же, как мы видели выше, мулукуауси, хотя и не бвога-у (еще более опасный вид злонамеренного человеческого существа, сведущего в колдовстве), имеет невидимого «двойника», или «посланника», который называется какулувала и который покидает ее тело и передвигается самостоятельно. Это верование в «двойника», или «посланника» существует параллельно с другим, согласно которому мулукуауси странствуют в телесной форме.
Эти наблюдения показывают, что в общем представления, касающиеся естества балома и коси, а также их соотношения, не выкристаллизовались в какую-либо ортодоксальную и определенную доктрину. Еще менее ясным у туземцев является представление о соотношении балома и тела живого человека. Туземцы не могут дать определенных ответов на такие вопросы, как: «Обитает ли балома в какой-то части тела (голове, животе, легких)? Может ли он оставлять тело на протяжении жизни? Не балома ли это отделяется от тела человека и путешествует, видя другие места, во время сновидений? Не балома ли это покидает тело некоторых живых людей и посещает Туму?» Хотя на последние два вопроса обычно отвечают — «да», такие ответы звучат весьма неубедительно и явно не подкрепляются ортодоксальным преданием. Интеллект, память и мудрость туземцы локализуют в теле и знают местонахождение каждого из этих свойств; но локализовать балома они не могут, и право же, я склонен полагать, что они представляют себе, что после смерти от тела отделяется двойник, а не душа, обитающая в нем при жизни. Однако уверен я только в том, что их представления еще не выкристаллизовались в определенные формы, они скорее ощущают свои верования, нежели формулируют их, и верования эти в большей мере описывают поведение балома, чем аналитически препарируют их сущность и условия существования.
Другим вопросом, на который, кажется, не существует ни одного определенного, догматического ответа, является вопрос о том, где конкретно обитают духи. На поверхности земли на острове Тума или под землей, или еще где-либо? Существует несколько мнений, и их сторонники высказываются вполне уверенно. Так, от ряда информаторов, включая Багидоу, очень серьезного и заслуживающего доверия человека, я получил ответ, что балома живут на острове Тума, что их деревни расположены где-то там, подобно тому, как балома во время их ежегодного возвращения в Киривину в период миламала располагаются лагерем где-то по соседству с деревней. Три упоминавшиеся выше деревни мертвых делят территорию острова с Тумой — деревней живых. Балома невидимы, как и все то, что принадлежит им, и потому их деревни могут располагаться там, никому не мешая.
По другой версии, балома спускаются под землю, в «нижний мир» в буквальном смысле, и живут там в Тумавиаке (Великой Туме). Эта версия, в свою очередь, имеет два варианта, в одном из которых говорится о двухуровневом подземном мире. Когда балома перестает существовать, завершив первый цикл своего бытия в форме духа, он спускается на нижний уровень, и только оттуда он может снова вернуться в материальный мир (см. ниже, VI, реинкарнация). Большинство же отрицают эту теорию и говорят, что существует только один уровень нижнего мира. Последнее согласуется с изложением проф. Зелигмана: «Духи мертвых не остаются в верхнем мире с живыми, а спускаются в иной мир, под землю»[80]. И опять же, это утверждение о подземной Туме, как представляется, лучше согласуется с господствующим в Киривине верованием, согласно которому первые человеческие существа появились из «дыр» в земле. Зелигману даже довелось слышать историю о том, что «мир первоначально был заселен с Тумы мужчинами и женщинами, посланными в верхний мир Топилетой, который сам остался под землей»[81]. В том, что мне не пришлось слышать эту версию, нет ничего удивительного, принимая во внимание большое разнообразие точек зрения по ряду вопросов, один из которых и касается сущности Тумы и ее соотношения с миром живых. Свидетельство Зелигмана подтверждает мнение, что «подземная Тума» является самым ортодоксальным представлением, хотя, как уже говорилось, в целом этот вопрос в туземной вере еще не определился догматически.
Давайте, однако, вернемся к сношениям между живыми людьми и духами. Все, что было сказано по этому поводу выше, касалось сновидений или видений, в которых фигурируют духи, и мимолетных столкновений с ними людей бодрствующих и пребывающих в нормальном психическом состоянии. Все такого рода контакты можно назвать частными и случайными. Они не регулируются обычаем и нормами, хотя, конечно же, требуют определенного склада ума и согласуются с определенным типом верований. Они не публичны: община не участвует в них коллективно, и никакой ритуал с ними не связан. Но есть случаи, когда балома посещают деревню или принимают участие в некоторых публичных действиях — случаи, когда община принимает их сообща, когда им уделяется определенное внимание, в строго установленной форме, регулируемое обычаем; когда они принимают участие в магических обрядах и играют в них отведенную им роль.
Так, каждый год после того, как собран урожай с огородов и в земледелии наступает перерыв, потому что вновь возделывать огороды еще рано, у туземцев появляется время для танцев, пиршеств и общественных праздников, которые называются миламала. Балома во время миламала присутствуют в деревне. Все они возвращаются с Тумы в свои родные деревни, где к их встрече готовятся, где воздвигаются специальные платформы для них, где по обычаю им подносятся дары и откуда с завершением полнолуния их торжественно, но без сожаления выдворяют.
Балома, опять же, играют важную роль в магии. В магических заклинаниях перечисляются имена духов предков; эти взывания к духам являются, пожалуй, самой заметной и устойчивой отличительной чертой магических заклинаний. Кроме того, в некоторых магических обрядах делаются подношения балома. Имеются следы веры в то, что духи предков некоторым образом содействуют достижению целей определенных магических обрядов; на самом деле эти подношения балома — единственный церемониальный элемент (в узком смысле слова), который мне удалось обнаружить в магических обрядах[82].
Здесь мне хотелось бы добавить, что не существует никакой связи между балома умершего человека и его останками (череп, челюсть, кости рук и ног, волосы), — которые имеют обыкновение носить при себе родственники умершего и которые используются соответственно как сосуд для лайма, шейные подвески и лопаточки для лайма, хотя в некоторых племенах Новой Гвинеи такая связь существует[83].
Теперь следует подробно рассмотреть факты, связанные с миламала и ролью духов в магии.
Ежегодный праздник миламала представляет собой очень сложное социальное и магико-религиозное явление. Его можно назвать «праздником урожая», так как он проводится после того, как собран урожай ямса и пищевые хранилища заполнены. Но, что довольно странно, в контексте миламала отсутствуют как прямые, так и косвенные ассоциации с земледельческими работами. В этом празднике, устраиваемом после того, как старые огороды принесли свои урожаи, а новые еще ждут обработки, нет никаких элементов, отражающих ретроспективу прошлого земледельческого сезона или предполагающих перспективу будущего. Миламала — это период танцев. Танцы обычно продолжаются в течение месяца миламала, но они могут растянуться еще на месяц или даже на два. Такое пролонгирование танцевального сезона называется усигула. Никаких танцев в собственном смысле слова в другое время года не устраивается. Миламала открывается определенным торжественным представлением с танцами и первым барабанным боем. Этот ежегодный период пиров и танцев, конечно же, сопровождается и заметной активизацией половой жизни. Типичны также церемониальные визиты, которыми обмениваются деревни; они сопровождаются обильными взаимными подношениями и своеобразными трансакциями, заключающимися в «покупках» и «продажах» танцев.
Прежде чем перейти собственно к теме этого раздела — описанию той роли, которую балома играют в миламала — мне необходимо нарисовать общую картину этого праздничного периода, иначе некоторые детали, касающиеся балома, могут оказаться «не в фокусе».
Миламала следует непосредственно за сбором урожая. Этот процесс сам по себе носит определенно праздничный характер, хотя в нем и отсутствуют элементы собственно гедонизма — столь фундаментального качества киривинцев. Однако туземец находит огромную радость в доставке урожая домой. Он любит свой огород и искренне гордится своими посадками. Прежде чем урожай будет, наконец, помещен в специальное хранилище (эти хранилища, несомненно, являются самыми заметными и живописными постройками в деревне), владелец использует не одну возможность выставить напоказ предмет своей гордости. Итак, клубни таиту (вид ямса) — самой важной культуры в этой части света — выкапывают из земли, тщательно очищают; волоски, которыми они покрыты, срезают раковиной. Затем складывают клубни в большие конические кучи. В огороде возводятся специальные хижины или навесы, чтобы защитить таиту от солнца, и под этими навесами выставляются горы клубней: большая коническая куча в центре — там сложены отборные плоды — и вокруг несколько меньших, в которых сложены клубни таиту худшего сорта, а также те, что будут использованы для новых посадок. Дни и недели уходят на очистку клубней и искусное складывание куч так, чтобы их геометрическая форма была совершенной и на поверхности оказались лишь лучшие клубни. Эта работа выполняется владельцем огорода и его женой, если у него есть таковая, а односельчане группами расхаживают по огородам, нанося друг другу визиты и восхищаясь ямсом. Темы разговоров — сравнения и восхваления.
Таким образом, яме может оставаться на огороде в течение нескольких недель, после чего его переносят в деревню. Вся эта работа имеет определенно праздничный характер, переносчики украшают себя листьями, ароматическими травами, раскрашивают лица, хотя и не облачаются в «полный танцевальный наряд». Когда таиту перенесены в деревню, выкрикиваются особые словесные формулы: один человек кричит речитативом, а остальные отвечают резкими возгласами. Обычно они бегут в свои деревни бегом; затем все вместе занимаются складыванием таиту в конические кучи, точно такие же, из каких клубни только что были взяты в огороде. Эти кучи выкладываются на большой круглой площадке перед хранилищем для ямса, куда в конечном итоге и будут убраны.
Но прежде чем это произойдет, ямсу предстоит пролежать еще две недели или около того на земле. Его будут пересчитывать и снова восхищаться им. Для защиты от солнца клубни укрывают пальмовыми листьями. Наконец в деревне начинается еще один праздничный день, когда весь яме из куч переносят в хранилища. Это делается за один день, хотя на доставку ямса в деревню уходит несколько дней, что может дать некоторое представление о нарастании темпа жизни в деревне во время страды, особенно в связи с тем, что таиту часто доставляется из других деревень, и в это время даже отдаленные общины наносят друг другу визиты[84].
Когда урожай в конце концов оказывается в хранилищах, работы прекращаются, и пауза заполняется миламала. Обряд, который торжественно открывает весь этот праздничный период, является в то же самое время «освящением» барабанов. До этого нельзя бить в барабаны публично. После торжественного открытия можно бить в барабаны и начинать танцы. Подобно большинству обрядов в Киривине, этот обряд открытия танцевального сезона состоит в раздаче еды (сагали). Еду складывают в кучки, готовят церемониально, а затем выкладывают на деревянные блюда или раскладывают по корзинам, выставленным в ряд; затем вдоль этого ряда идет мужчина и у каждого блюда или у каждой корзины громко выкрикивает имя[85]. Жена или другая родственница мужчины, имя которого было названо, забирает еду и относит в дом, где ее и едят. Такая церемония (называющаяся раздачей — сагали) по нашим понятиям не очень похожа на пир, особенно потому, что ее кульминация — мы понимаем кульминацию пира как процесс еды — никогда не бывает публичной, едят только в семейном кругу. Но здесь праздничные элементы заключаются в подготовке к пиру, в сборе и приготовлении пищи, в передаче ее в общественную собственность (ибо каждый должен внести свою долю в общий запас, который затем должен быть равномерно разделен между всеми участниками) и, наконец, в публичном распределении. Это распределение и является собственно церемонией открытия миламала; в полдень мужчины наряжаются и исполняют первый танец.
Теперь жизнь в деревне заметно меняется. Люди больше не ходят на огороды, не занимаются и другой работой, не ловят рыбу, не строят лодок. Утром деревня полна народу, местных жителей и, часто, гостей из других деревень. Но настоящие празднества начинаются позднее. Когда минует самое жаркое время дня, примерно в три-четыре часа пополудни, мужчины сооружают свои знаменитые головные уборы. Эти уборы состоят из большого количества перьев белого какаду, которые втыкаются в густые черные волосы и торчат оттуда во все стороны, подобно иглам дикобраза, образуя большой белый ореол вокруг головы. Завершающей деталью служит плюмаж из красных перьев, возвышающийся над белым ореолом. В отличие от жителей многих районов Новой Гвинеи, чьи головные уборы пестрят разноцветными перьями в разнообразных сочетаниях, жители Киривины имеют только этот единственный тип головных украшений, который неизменно используется всеми туземцами и во всех видах танцев. Тем не менее, в сочетании с хохолками казуара, верхушки которых обрамлены красными перьями, — их прикрепляют к поясам на талии и к браслетам на предплечьях — эти головные украшения придают танцорам удивительное очарование. В регулярном ритме танца возникает иллюзия, что наряд сливается с танцором, черные хохолки с красной верхушкой гармонируют с шоколадной кожей. Белые головные уборы и шоколадные тела, кажется, превращаются в единое органичное и фантастическое целое, несколько дикарское, но ни в коей мере не гротескное, ритмично двигающееся под монотонное и мелодичное пение и перекрывающий его бой барабанов.
В некоторых танцах используются разрисованные танцевальные щиты, в других танцующие держат в руках длинные узкие ленты из листьев пандануса. Эти последние танцы, отличающиеся гораздо более медленным ритмом, с эстетической точки зрения проигрывают (на европейский вкус) из-за того, что мужчины по традиции надевают женские юбки из травы. Большинство танцев исполняются в кругу: барабанщики и певцы стоят в центре, а танцоры движутся вокруг.
Ритуальные танцы в полном праздничном облачении никогда не проводятся ночью. С заходом солнца мужчины расходятся и снимают свои перья. Барабаны на некоторое время умолкают — наступает час основной трапезы. С приходом ночи возобновляется бой барабанов, и исполнители, теперь уже без украшений, снова выходят в круг. Иногда они начинают петь прелестную танцевальную песню, и барабанщики переходят на танцевальный ритм — тогда мужчины исполняют настоящий танец. Но чаще, особенно поздней ночью, бывает другое: пение прекращается, танцы останавливаются, и лишь непрерывный бой барабанов звучит во тьме. Теперь все туземцы — мужчины, женщины и дети, собираются вместе и медленно движутся по-двое — по-трое вокруг барабанщиков. Женщины держат маленьких детей на руках или прижимают их к груди, старики и старухи ведут своих внуков за руку, все движутся, один за другим, в неустанном кружении, не ведая иной цели, зачарованные боем барабанов. Время от времени танцующие произносят нараспев долгое растянутое: «Аа… а; Эээ…э», делая резкие ударения в конце… тогда барабаны внезапно прекращают бой, и кажется, что эта бесконечная карусель на какое-то время лишается своей движущей силы, но движение не прекращается и живой круг не распадается. Вскоре, однако, бой барабанов возобновляется, к несомненному восторгу всех присутствующих — за исключением этнографа, который предвкушает прелести предстоящей бессонной ночи. Этот карибом, как его называют, малым детям предоставляет случай всласть поиграть, прыгая рядом с медленно передвигающейся цепью взрослых или снуя между ними, а старикам и старухам дает возможность насладиться хоть каким-то подобием танца; к тому же это самое подходящее время для игр и ухаживаний влюбленных молодых людей.
Танцы и карибом повторяются день за днем и ночь за ночью. По мере того, как прибывает луна, нарастает накал празднества, частота и усердие, с которыми исполняются танцы в полном облачении, увеличивается их продолжительность; танцы начинаются раньше, карибом длится почти всю ночь. Жизнь в деревнях изменяется и темп ее ускоряется. Большие группы молодых людей обоих полов навещают соседние деревни. Издалека приносятся подарки в виде еды, и на дороге можно встретить людей, нагруженных бананами, кокосовыми орехами, связками орехов арековой пальмы и таро. Наносятся определенные важные церемониальные визиты, во время которых одна деревня в полном составе под предводительством вождя в установленном порядке посещает другую. Такие визиты иногда связаны с важными трансакциями, вроде «покупки танцев», так как танцы всегда кем-то монополизированы и «продаются» по высокой цене. Такая сделка становится достоянием местной истории, и о ней рассказывается на протяжении многих лет и поколений. Мне посчастливилось участвовать в процедуре такой передачи танца. Она всегда предполагает несколько посещений; во время каждого из них сторона, наносящая визит (она и выступает продавцом), демонстративно исполняет танец, а зрители таким образом разучивают его, и некоторые из них присоединяются к танцующим.
Все важные «официальные» визиты отмечаются солидными подарками, которые хозяева дарят гостям. В свою очередь хозяева потом посетят своих прежних гостей и получат от них ответные дары.
К концу миламала посещения гостей из довольно отдаленных деревень становятся почти ежедневными. В старые времена такие посещения носили очень сложный характер. Они, несомненно, были заведомо дружественными, и намерения пришедших должны были быть добрыми, но за официальным дружелюбием всегда таилась опасность. Пришельцы всегда были вооружены, и именно по таким случаям весь арсенал «церемониального» оружия выставлялся напоказ. В самом деле, даже сейчас традиция ношения оружия не полностью подавлена, хотя в настоящее время благодаря влиянию белого человека оружие является не более чем украшением и объектом демонстрации. К этому классу вооружения относятся большие мечи-дубинки, изготовленные из твердых пород дерева и иногда украшенные великолепной резьбой; резные посохи и короткие декорированные копья — все это вещи хорошо известные по музейным коллекциям из Новой Гвинеи. Они в равной мере служат и для дела, и для удовлетворения тщеславия. Демонстрация богатства как предмета гордости, дорогих, искусно украшенных изделий — одна из тех страстей, которыми одержимы обитатели Киривины. «Расхаживание» с большим деревянным мечом, на вид смертоносным и в то же время украшенным искусной резьбой и разрисованным красной и белой красками, — излюбленное развлечение туземного юноши; он ходит в праздничной раскраске: либо с белым носом, резко выделяющимся на темном лице, либо с одним «черным глазом» или с каким-нибудь довольно сложным узором из кривых, пересекающих все его лицо. В прежние времена ему часто приходилось пускать в ход такое оружие, и даже сейчас он может прибегнуть к нему, доведенный до белого каления. Либо ему понравилась какая-то девушка, либо он понравился какой-то девушке, и его ухаживания, если они не очень искусны, всегда вызывают негодование. Женщины и подозрение в применении вредоносной магии являются основными причинами ссор и деревенских потасовок, которые (что вполне отвечает общему оживлению племенной жизни в период миламала) были и остаются отнюдь не редкими в это время.
Ближе к полнолунию, когда энтузиазм начинает достигать высшей точки, деревни украшаются выставленной напоказ в как можно большем количестве пищей. Таиту не выносятся из хранилищ, однако их прекрасно видно через большие проемы между образующими стены хранилищ перекладинами. Бананы, таро, кокосовые орехи и т. п. выкладываются особым образом, который будет детально описан позднее. Выставляются напоказ и ваигу-а, местные «ценности».
Миламала заканчивается в ночь полнолуния. Бой барабанов, однако, не прекращается сразу же после этого, но прекращаются танцы, если, конечно, миламала не продлевается на период дополнительных танцев, усигула. Обычно монотонный и вялый карибом продолжается ночь за ночью в течение нескольких месяцев после миламала. Я был свидетелем миламала дважды: один раз в Оливилеви, «столичной» деревне Лубы, района в южной части острова, где миламала наступает на месяц раньше, чем в Киривине. Там я застал только последние пять дней миламала, но в Омаракане, главной деревне Киривины, я наблюдал все от начала до конца. Здесь, кроме всего прочего, я участвовал в «большом визите», когда Тоулува вместе со всеми мужчинами Омараканы отправился в деревню Лилута в связи с «продажей» танца рогайево общине Лилута.
Теперь перейдем к тому аспекту миламала, который имеет непосредственное отношение к теме, обсуждаемой в этой работе, а именно — к роли балома в празднествах во время их обязательного ежегодного визита в свои родные деревни.
Балома знают, когда начнется праздник, потому что он всегда проводится в одно и то же время года, в первой половине месяца, который тоже называется миламала. Этот месяц определяется «как и их календарь в целом» по положению звезд. Собственно в Киривине полнолуние месяца миламала приходится на вторую половину августа или первую половину сентября[86].
Когда приближается это время балома, пользуясь любыми попутными ветрами, плывут с Тумы в свои родные деревни. Туземцам не вполне ясно, где живут балома во время миламала. Возможно, они живут в хижинах своих вейола, т. е. родственников по материнской линии. А может быть, они или некоторые из них располагаются отдельным лагерем на берегу моря около своих каноэ, если деревня находится не очень далеко от побережья, — как делают сами туземцы, навещая близких родственников в другой деревне или на другом острове.
В любом случае в деревне идут приготовления к встрече балома. Так, в деревнях, принадлежащих вождям, для балома гуйя-у (вождей) возводятся специальные, довольно высокие, хотя и небольшие в своей горизонтальной поверхности, платформы, называющиеся токаикайя. Считается, что вождь в буквальном смысле всегда должен занимать более высокое положение, чем обычные смертные. Почему платформы для духов гуйя-у такие высокие (от 5 до 7 м), я не смог выяснить[87]. Помимо сооружения этих платформ, проводится ряд других приготовлений, которые связаны с демонстрацией ценностей и еды, дабы угодить балома[88].
Демонстрация ценностей называется иойова. Вождь каждой деревни — или вожди, так как временами их присутствует несколько человек — обычно имеют немного меньшие крытые платформы рядом со своими хижинами. Они называются бунейова; на них выставляются напоказ их личные ценности, такие предметы роскоши, которые подпадают под местное определение ваигу-а. Большие полированные топоры[89*], снизки красных дисков из раковин, большие браслеты, изготавливаемые из конических раковин, закрученные клыки кабанов[90*] или их имитации — все это и только это является собственно ваигу-а. Эти вещи выкладываются на платформе, снизки кабома (дисков из красных раковин) подвешиваются под крышей бунейова так, чтобы они были хорошо видны. В случае отсутствия бунейова я видел воздвигаемые в деревне временные крытые платформы, на которых демонстрируются ценности. Эта демонстрация проводится в последние три дня полнолуния, выставляемые предметы выкладываются утром и убираются на ночь. При посещениях деревни гостям подобает во время иойова рассматривать демонстрируемые вещи, даже брать их в руки, спрашивать, как они называются (каждый отдельный предмет ваигу-а имеет свое название), и, конечно же, выражать свое огромное восхищение.
Помимо ценностей демонстрируется еда, это придает еще более «яркий» и праздничный вид деревням. Строятся длинные деревянные подмостки, которые называются лалогуа и состоят из вертикальных столбов, примерно от 2 до 3 м высотой, вбитых в землю, и одного или двух рядов горизонтальных жердей, уложенных на столбы. К горизонтальным жердям привязываются связки бананов, таро, особенно крупных экземпляров ямса и кокосовых орехов. Такие постройки идут вокруг центрального места (баку), которое служит площадкой для танцев и средоточием всей церемониальной и праздничной жизни в каждой деревне. Тот год, когда я находился на Бойове, был исключительно неплодородным, и лалогуа достигали не более 30–60 м в длину, охватывая только одну треть периметра баку или того менее. Однако несколько информаторов говорили мне, что в хороший год они могут выстраиваться не только вокруг всей центральной площадки, но также и вдоль улицы, идущей кольцом вокруг баку, и даже за деревней на главной дороге, ведущей в другую деревню. Лалогуа призваны угодить балома, которые всегда сердятся, если напоказ выставлено мало еды.
Все это является своего рода спектаклем, зрелищем, которое должно доставлять балома чисто эстетическое удовольствие. Впрочем, они удостаиваются и более существенных знаков расположения в форме непосредственных подношений пищи. Первая трапеза предлагается им во время катукуала, пира, открывающего миламала.
Этим и начинается период собственно празднеств. Катукуала заключается в распределении приготовленной еды; оно происходит на баку, еду для него предоставляют все жители деревни, а затем она вновь перераспределяется между ними[91]. Эта еда выкладывается на баку, чтобы ее видели духи. Они вкушают «духовную сущность» пищи точно так же, как они берут с собой на Туму балома ценности, которыми принято украшать тела умерших. С момента катукуала (знаменующего открытие танцев) празднество начинается также и для балома. Их платформа размещается, или должна размещаться, на баку; утверждают, что они восхищаются танцами и наслаждаются ими, самих же танцующих, на деле, присутствие балома очень мало занимает.
Еда готовится каждое утро и выставляется для балома на больших красивых деревянных блюдах (кабома) и в домах туземцев. Спустя час или около того еду преподносят какому-нибудь другу или родственнику, который, в свою очередь, в качестве ответного дара даст дарителю такое же блюдо с едой. Вожди имеют привилегию преподносить токай (людям незнатного происхождения) орехи бетеля и свиней и принимать в ответ рыбу и фрукты[92]. Такая еда, приготавливаемая для балома и впоследствии отдаваемая друзьям, называется бубуалу-а. Она обычно раскладывается на топчанах внутри хижины, и человек, ставя кабома, говорит: «Балом кам бубулу-а». Универсальная отличительная черта всех подношений и даров в Киривине — сопроводительная словесная формула.
Кушанье, приготавливаемое из мякоти кокосовых орехов, которое подносится балома (со словами «Балом кам силакутува»), а затем дарится какому-либо живому человеку, называется силакутува.
Характерно, что эта еда, предназначенная для балома, никогда не съедается тем человеком, который предоставляет и готовит ее, а всегда дарится кому-то другому после того, как балома «насытится» ею.
И наконец, в день отбытия балома, к полудню, готовится еще некоторое количество еды, добавляются поштучно кокосовые орехи, бананы, таро и клубни ямса, а ваигу-а (ценности) складываются в корзину. Когда человек слышит характерный бой барабанов, который есть сигнал к выпроваживанию духов — иоба, — он может выставить все эти вещи на улицу; идея заключается в том, что духи могут взять с собой их балома в качестве прощального дара (талои). Этот обычай называется катубукони. Но выставлять все эти вещи перед домом не обязательно, потому что балома вполне может взять их и из дома. Такое объяснение было дано мне, когда я рассматривал дары для балома, стоявшие перед хижинами, и в одном месте (перед домом вождя) увидел лишь несколько каменных томагавков.
Как было сказано выше, присутствие балома в деревне не особенно интересует туземца, если сравнивать с такими притягательными и захватывающими занятиями, как танцы, пиры и сексуальные увлечения, которым здесь рьяно предаются во время миламала. Однако духами не пренебрегают и их роль ни в коей мере не считается сугубо пассивной: они не только восхищаются происходящим или наслаждаются пищей, которую получают. Балома проявляют свое присутствие разными способами. Так, пока балома находятся в деревне, невероятно много кокосовых орехов падает на землю — это балома их сбивают. Когда в Омаракане происходила миламала, совсем близко от моей палатки упали две огромные грозди кокосовых орехов. Замечательная особенность этой активности духов состоит в том, что сброшенные ими орехи считаются общим достоянием, так что благодаря балома и я безвозмездно насладился кокосовым молоком.
Даже маленькие недозрелые кокосовые орехи гораздо чаще падают преждевременно в период миламала, чем в обычное время. Считается, что так балома проявляют свое недовольство скудостью подношений. Балома проголодались (каси молу, так называется их голод) и показывают это. Гром, дождь, плохая погода — помехи танцам и пирам миламала — еще один, более эффективный, способ, которым балома выражают свои настроения. Когда я был в Киривине, полнолуния, как в августе, так и в сентябре, пришлись как раз на сырые, дождливые, грозовые дни. И мои информаторы могли реально продемонстрировать мне связь между недостатком еды и плохой миламала, с одной стороны, и гневом духов и плохой погодой — с другой. Духи могут пойти еще дальше и вызвать засуху и тем самым испортить урожай будущего года. Вот почему очень часто несколько неурожайных лет следуют друг за другим, ведь плохой год и бедный урожай делают невозможной хорошую миламала, что опять гневит балома, которые портят урожай следующего года и т. д. — circulus vitiosus[93*].
Далее, во время миламала балома являются людям в сновидениях. Очень часто это бывают духи недавно умерших родственников. Обычно они просят еды, и их просьбы удовлетворяется дарами бубуалу-а или силакутува. Иногда они передают какие-нибудь вести из своего мира. В деревне Оливилеви, главной деревне Лубы, района, расположенного на юге Киривины, миламала (на которой я присутствовал) была очень бедной, и напоказ не было выставлено почти никакой еды. Вождю, Ванои Киривине, приснился сон. Он будто бы отправился на берег (примерно в получасе ходьбы от деревни) и увидел большое каноэ с духами, плывущими к берегу с острова Тума. Они были сердиты и сказали ему: «Что происходит у вас в Оливилеви? Почему вы не даете нам еды, чтобы утолить голод, и кокосового молока, чтобы утолить жажду? Мы посылаем этот непрекращающийся дождь, потому что разгневаны. Завтра приготовьте много еды; мы съедим ее, и тогда будет хорошая погода; тогда вы будете танцевать». Этот сон имел подтверждение. На следующий день каждый мог видеть на окаукуега (пороге) лисига (дома вождя) Ванои кучку белого песка. Каким образом этот песок был связан со сновидением, принесен ли духами или захвачен самим Ванои во сне, когда он «путешествовал», — этого мои информаторы, среди которых был и сам Ванои, не знали. Но никто не сомневался, что песок — доказательство гнева балома и реальности сна. К сожалению, предсказание насчет хорошей погоды совершенно не сбылось, и в этот день не было танцев, так как шел проливной дождь. Наверное, духи были не совсем удовлетворены количеством еды, предложенной им этим утром!
Но балома озабочены не только едой. Кроме того, что они негодуют по поводу скудости еды и бедности подношений, они также строго следят за соблюдением обычая, всячески проявляя свое неудовольствие при любом нарушении традиционных правил, которые должны соблюдаться во время миламала, и наказывая за это. Так, мне говорили, что духам очень не нравятся небрежность и вялость, с которыми в настоящее время проводится миламала. Раньше в период праздника никто не трудился в поле и не занимался никакой другой работой. Каждый, чтобы угодить балома, предавался развлечениям, танцам и любовным утехам. Теперь же люди отправляются на свои огороды и занимаются там «всякой ерундой» или продолжают заготавливать древесину для возведения дома или постройки каноэ, а духам это не нравится. Поэтому их гнев, который выливается в дождь и бурю, портит миламала. Так было в Оливилеви и позднее в Омаракане. В Омаракане имелась еще одна причина для гнева балома, связанная с присутствием этнографа, и мне не раз пришлось выслушать укоризненные намеки со стороны старейшин и от Тоулувы, самого вождя. Дело заключалось в следующем. Из разных деревень я принес около двадцати танцевальных щитов (каидебу). В Омаракане же в это время исполнялся только один танец, рогайево, — танец с бисила (длинными узкими лентами из пандануса). Я роздал каидебу «золотой молодежи» Омараканы, и привлекательность новизны оказалась настолько велика (у них не было достаточного для надлежащего исполнения танца количества каидебу по меньшей мере последние пять лет), что они тут же начали танцевать гумагабу, танец, исполняемый с танцевальными щитами. Это было серьезным нарушением принятых правил (в то время я не знал об этом), ибо каждый новый вид танца следует освящать церемониально[94]. Такое нарушение возмутило балома, отсюда и плохая погода, падение неспелых кокосов и т. п. В этом меня обвиняли несколько раз.
После двух или четырех недель (миламала должна закончиться в твердо установленное время — второй день после полнолуния, но начаться она может в любое время между предыдущими полнолунием и новолунием) вкушения прелестей гостеприимного приема балома должны покинуть свою родную деревню и вернуться на Туму[95]. Возвращение это принудительное, и о том, что духам пришло время удалиться, возвещает иоба — ритуал выдворения духов. Во вторую ночь после полнолуния, примерно за час до восхода солнца, когда в зарослях поет «кожаная голова», сака-у, и на небе появляется утренняя звезда кубуана, танцы, которые продолжались всю ночь, прекращаются, и звучит особый бой барабанов, иоба[96]. Духи знают этот бой и готовятся в обратный путь. Сила этого ритма такова, что если бы кто-нибудь исполнил его на пару ночей ранее, то все балома оставили бы деревню и отправились к себе домой в потусторонний мир.
Поэтому бить иоба строго запрещено, пока духи находятся в деревне, и я не мог убедить юношей из Оливилеви показать мне образец этого боя во время миламала, тогда как в другое время, когда в деревне не было никаких духов (за несколько месяцев до миламала), мне удалось организовать настоящий иоба в Омаракане. Когда барабаны бьют иоба, туземцы обращаются к балома, просят их уходить и прощаются с ними:
Последние звуки, по-видимому, являются чем-то вроде восклицания, призванного расшевелить медлительных балома и выпроводить их прочь.
Это основной иоба, который исполняется, как указывалось выше, перед рассветом в ночь Воуло. Его назначение — выдворить сильных духов, тех, что могут ходить сами. На следующий день перед полуднем звучит другой иоба, называемый пем иоба, или изгнание слабых. Его цель — избавить деревню от духов женщин и детей, немощных и калек. Он исполняется так же, в том же ритме и с теми же словами.
В обоих случаях участники обряда образуют процессию, которая начинает свое движение с того конца деревни, что наиболее удален от места, где дорога, ведущая в сторону Тумы подступает к самой деревенской роще (вейка), так что ни одна часть селения не остается не «охваченной». Участники церемонии проходят через всю деревню, на некоторое время останавливаются на баку (центральной площадке), а затем направляются к месту, где дорога на Туму выходит за пределы деревни. Это конец иоба, и всегда при этом исполняется танец в специфическом ритме, касавага[97].
Так кончается миламала.
Эти сведения, в том виде, как они представлены здесь, были собраны и записаны до того, как у меня появилась возможность стать очевидцем иоба в Оливилеви. Они точны, полны и детальны. Мои информаторы даже сообщили мне, что в барабаны бьют только юноши и что старшие мужчины не принимают особого участия в иоба. Но, тем не менее, за все время моих полевых работ, пожалуй, не было случая, который бы столь же неопровержимо убеждал в необходимости видеть все своими глазами, как этот обряд, которому я принес огромную жертву, заставив себя подняться в три часа по полуночи, чтобы наблюдать его. Я готовился стать очевидцем одного из самых важных и серьезных этапов в традиционном цикле ежегодных событий, и я определенно предполагал такие психологические установки туземцев по отношению к духам, как благоговейный страх, почтительность и т. п. Я считал, что этот кризисный момент, связанный с устоявшимися верованиями, так или иначе обретет экстраординарное оформление, что это будет большое событие для всей деревни. Когда я пришел на баку (центральное место) за полчаса до восхода солнца, барабаны все еще били, и вокруг барабанщиков все еще сонно двигалось несколько танцоров, но не в ритме обычного танца, а в ритме карибома. Когда послышался сака-у, все тихо удалились прочь — молодежь ушла парами, и для прощания с балома осталось только пять или шесть мальчишек-сорванцов с барабанами, я и мой информатор. Мы отправились к кадумалагала валу — месту в деревне, откуда отходит тропа к другому селению, — и начали выдворять балома. Если учесть, что это была церемония, адресованная духам предков, то менее внушительного представления я не мог себе представить! Я держался на расстоянии, чтобы не мешать иоба, — но здесь этнограф вряд ли что-то мог нарушить или чему-то повредить. Мальчики в возрасте от шести до двенадцати лет стали бить в барабаны, а затем меньшие из них обратились к духам со словами, которые мне ранее сообщили мои информаторы. Слова эти произносились с той же характерной смесью нахальства и застенчивости, с какой обычно мальчишки обращались ко мне, выпрашивая табак или отпуская какие-нибудь шуточки, — оказывается, одни и те же ужимки типичны для уличных сорванцов и здесь, и у нас, когда их проказы допускаются обычаем, как например, в день Гая Фокса[98*] и т. п. И так они шествовали через всю деревню, при этом едва ли можно было увидеть кого-нибудь из взрослых. Единственным другим признаком иоба были причитания в хижине, где недавно умер человек. Мне сказали, что так причитать полагается только во время иоба, когда балома родственника покидает деревню. На следующий день пем иоба был еще менее серьезным: мальчики играли свою роль со смехом и шутками, а старики смотрели на это с улыбками и подшучивали над несчастными слабосильными духами, которым приходилось, ковыляя, убираться. И все же нет сомнения, что иоба как событие, как решающий момент в жизни племени является делом важным. Он никогда и ни при каких обстоятельствах не игнорируется[99]. Как уже отмечалось, он всегда исполняется лишь в надлежащий момент, и с барабанным боем иоба нельзя шутить. Но в его исполнении нет и следа сакральности или даже серьезности.
С иоба сопряжено одно обстоятельство, о котором необходимо здесь упомянуть, так как оно, похоже, некоторым образом вносит поправку в наше утверждение, сделанное в начале этой работы, — что не существует никакой связи между погребальными обрядами и судьбой покинувшего тело духа. Обстоятельство, о котором я говорю, состоит в том, что полное окончание траура (называющееся «омовение кожи», ивини вовоула, буквально «он/она моет кожу») всегда происходит по окончании миламала, на следующий день после иоба. В основе, вероятно, лежит представление о том, что траур должен продолжаться во время миламала, так как дух присутствует в деревне и все видит, а когда дух уходит, нужно «омыть кожу». Но, что довольно странно, я никогда не слышал, чтобы туземцы либо сами давали такое объяснение, либо подтверждали его правильность. Если вы зададите вопрос: «Почему вы моете кожу сразу же после иоба», — то получите неизменный ответ: «Токуа богва бубунемаси [наш древний обычай]». Затем вам придется ходить вокруг да около и задавать наводящие провоцирующие вопросы. И на них (как на все наводящие провоцирующие вопросы, если они содержат в себе неверные или сомнительные утверждения) туземцы всегда отвечают отрицательно или же реагируют на них как на что-то совершенно новое, проливающее некоторый свет на проблему. Но такое восприятие и соответствующие уступки легко отличимы от прямого подтверждения ваших догадок. Никогда не представляло ни малейшей трудности определить, идет ли речь о привычной, устоявшейся, ортодоксальной для них идее или же о чем-то новом для туземного образа мыслей[100].
После изложения всех этих деталей следует сделать несколько общих замечаний об отношении туземцев к балома во время миламала. Это отношение проявляется в том, как туземцы говорят о них или ведут себя во время совершения ритуальных действий; оно менее ясно, чем собственно обрядовые сюжеты и традиционные действия, и более сложно для описания, но оно — тоже факт туземной жизни, и как таковое должно быть отмечено.
Балома во время своего пребывания в деревне никогда не пугают туземцев, и не ощущается никакой скованности в связи с их присутствием. Все свои проделки — проявления гнева и т. п. (см. выше) — они всегда устраивают при ярком свете дня, и проделки эти не содержат в себе ничего «жуткого».
Туземцы совсем не боятся ходить в одиночку по ночам из одной деревни в другую, тогда как некоторое время после смерти человека они определенно боятся этого (см. выше). Миламала — это период любовных игр, одиноких ночных прогулок на свидания и гуляний парами. Самый пик миламала приходится на полнолуние, когда суеверная боязнь ночи отступает сама собой. Все вокруг оживает в свете луны, под громкий бой барабанов и звучащие повсюду песни. Выходя за пределы одной деревни, человек уже слышит барабаны соседней. Нет ничего похожего на гнетущую атмосферу страха перед привидениями или ощущения чьего-то навязчивого присутствия, совсем напротив. Туземцы пребывают в веселом и весьма раскованном состоянии духа, в благодушном и жизнерадостном настроении.
И опять же, следует отметить, что хотя между живыми и духами поддерживается некая связь через сновидения и т. п., считается, что духи никогда не влияют сколько-нибудь серьезно на ход жизни племени. Не обнаруживается никаких признаков гаданий, совещаний с духами или каких-либо иных форм предусмотренного традицией обращения к помощи духов при решении жизненно важных вопросов.
Помимо суеверного страха отсутствуют и табуации, связанные с поведением живых по отношению к духам. Можно также с уверенностью утверждать, что духам выказывается не слишком много уважения. При разговорах о балома или при упоминании личных имен тех из них, которые якобы присутствуют в деревне, не проявляется абсолютно никакой робости. Как говорилось выше, туземцы подшучивают над немощными духами, и вообще о балома и их поведении рассказывают массу анекдотов.
Далее к духам, за исключением духов недавно умерших людей, проявляют очень мало личных чувств. Похоже, нет традиции выделять каких-либо балома персонально и готовить им особый прием, за исключением, наверное, тех случаев, когда чьи-то балома являются во сне родным и просят еды — тогда им делают персональные подношения.
Суммируя, можно сказать: балома посещают свою родную деревню, подобно гостям из других селений. В значительной мере они предоставлены самим себе. Для них — напоказ — выставляют ценности и еду. Их присутствие отнюдь не занимает постоянно мысли туземца и не является центром его интересов в период миламала. Даже во взглядах туземцев, наиболее близко знакомых с европейской культурой, нельзя обнаружить ни малейшего скептицизма относительно реальности присутствия балома на миламала. Но воспринимается их присутствие здесь без особых эмоций.
На этом мы завершаем рассказ о ежегодном визите балома на миламала. Еще один способ, которым балома проявляют себя в племенной жизни, связан с ролью, отводимой им в магической практике.
Магия играет огромную роль в племенной жизни киривинцев (как, несомненно, и в жизни большинства туземных народов). Все важные виды хозяйственной деятельности окружены магией, особенно те, что связаны с выраженными элементами случайности, риска или опасности. Земледелие полностью окутано магией; та нечастая охота, что здесь практикуется, имеет свой ряд заклинаний; рыболовство, особенно если оно сопряжено с риском, а его результат зависит от везения и непредсказуем, оснащено замысловатыми магическими системами. Построение каноэ предполагает длинный список заклинаний, которые следует произносить на различных стадиях работы — при рубке дерева, при выдалбливании челнока из ствола, и, особенно, ближе к завершению — при покраске, при соединении отдельных частей конструкции и спуске на воду. Но к этой магии прибегают только когда сооружают большие каноэ, предназначенные для дальних плаваний. Небольшие лодки, используемые в спокойной лагуне или у берега, где нет никакой опасности, совершенно игнорируются магами. Погода — дождь, солнце и ветер — регулируется множеством заклинаний, особенно она послушна магическим формулам, принадлежащим избранным знатокам или, скорее, семействам таких знатоков, которые передают это искусство по наследству. Во время военных действий — до установления власти белых людей здесь происходили отчаянные сражения — жители Киривины призывали на помощь мастерство определенных семей, которые унаследовали военную магию от своих предков. И, конечно же, от магии зависит благополучие тела, здоровье; оно может быть разрушено или восстановлено посредством магического искусства колдунов, которые одновременно всегда являются и целителями. Если человеку угрожает покушение упоминавшихся выше мулукуауси, то могут быть пущены в ход заклинания, способные противодействовать им, однако единственный надежный способ избежать опасности — обратиться к женщине, которая сама является мулукуауси; такая женщина всегда найдется в какой-нибудь отдаленной деревне.
Магия столь распространена, что я, живя среди туземцев, помимо тех случаев, когда специально договаривался присутствовать при магическом обряде, сплошь и рядом совершенно неожиданно сталкивался с ее ритуалами. В Омаракане дом специалиста по земледельческой магии, Багидоу, находился не более чем в пятидесяти метрах от моей палатки, и я помню, как в один из самых первых дней своего пребывания там, когда я еще едва знал о существовании такой магии, до меня донесся его монотонный речитатив. Позднее мне было позволено даже участвовать в его манипуляциях с магическими травами, которые сопровождались произнесением заклинаний нараспев. Представьте, я мог наслаждаться этой процедурой так часто, как хотел, и пользовался своей привилегией неоднократно. При исполнении многих земледельческих обрядов сначала заклинания произносятся в деревне — над определенными наборами растений, которые маг готовит заранее у себя в доме, — а потом снова уже на огороде, непосредственно перед применением магических средств. Утром маг в одиночку отправляется в буш, иногда очень далеко, собирать нужные растения. Для одного магического действа может понадобиться до десяти ингредиентов, основу каждого составляют растения. Некоторые из них можно найти только на берегу моря, другие следует принести из раибоага (скалистой местности, образованной коралловыми выходами), третьи есть только в одила, зарослях низкорослых кустарников. Маг должен покинуть дом до рассвета и собрать все растения прежде, чем взойдет солнце. Потом они лежат у него в доме, и около полудня он начинает произносить заклинания над ними. На топчане для спанья расстилается циновка, а на нее кладется еще одна. Растения выкладываются на одном конце второй циновки, чтобы потом накрыть их другим концом. В образовавшуюся щель маг и направляет свои заклинания. Его губы должны быть как можно ближе к краям циновки, так, чтобы ни одно из его слов не пролетело мимо; все они должны попасть в промежуток между краями циновки, в которую завернуты листья и травы, ожидающие насыщения заклинаниями. Такое «упрятывание» голоса, несущего заклинания, применяется при всех магических декламациях. Когда нужно заговорить мелкий предмет, складывается воронкой лист, у ее узкого отверстия помещается нужный предмет, в то время как в широкое отверстие маг произносит заклинание. Но вернемся к Багидоу и его земледельческой магии. Он проговаривает свои магические формулы около получаса и даже дольше, произнося их снова и снова, повторяя различные фразы и наиболее важные слова. Он говорит нараспев низким голосом с модуляциями, соответствующими различным магическим формулам. Повторяя слова, он как бы втирает их в заговариваемые вещества.
После того как маг земледелия окончил свои заклинания, он заворачивает циновку и откладывает ее вместе с содержимым в сторону для последующего использования на огороде; обычно это происходит на другое утро. Все обряды собственно земледельческой магии совершаются там, где выращивается урожай, и существует множество заклинаний, которые произносятся на огородах. Существует целая система магии, практикуемой на огородах, она включает целые комплексы сложных и замысловатых обрядов, каждый из которых сопровождается заклинанием. Каждому виду земледельческих работ должен предшествовать соответствующий обряд. Так, существует общий обряд, предшествующий любой работе в огороде, и этот обряд исполняется на каждом участке отдельно. Расчистка участка в лесу предваряется другим обрядом. Выжигание вырубленного и высушенного леса само по себе является магической церемонией и влечет за собой производные магические обряды, исполняемые на каждом участке самостоятельно, причем такие действия растягиваются на четыре дня. Затем, прежде, чем приступить к посадкам, выполняют серию следующих магических актов, продолжающихся несколько дней. Прополка и выкапывание клубней также начинаются с магии. Магические ритуалы служат как бы остовом, на котором держатся все работы в огороде. Маг объявляет перерывы на отдых, которые должны соблюдаться всеми; его работа — регулировать работу общины, он заставляет всех жителей деревни выполнять определенные дела одновременно, он не позволяет никому ни отставать, ни вырываться далеко вперед. Его вклад очень высоко ценится общиной; действительно, трудно себе представить выполнение любой работы на огородах без участия товоси (специалиста по земледельческой магии[101].
Товоси много знает о возделывании огородов, и к его советам всегда прислушиваются с уважением, впрочем, уважение это достаточно формально, так как в деле земледелия мало спорного или сомнительного. Тем не менее туземцы на удивление высоко ценят такое формальное почтение и признание авторитета. Маг, курирующий земледелие, получает также плату от общины — подношения рыбы в изрядных количествах. Следует добавить, что право и честь отвечать за магию на деревенских огородах обычно принадлежат главе деревни, хотя и не всегда это так. Но «делать землю плодородной» (ивойе буйагу) может только человек, который по рождению принадлежит к данной деревне, тот, чьи предки по материнской линии всегда были хозяевами этой деревни и ее земли.
Несмотря на всю свою важность, земледельческая магия жителей Киривины отнюдь не состоит из торжественных обрядов, священнодействий, окруженных строгими запретами. И обставляется она далеко не столь пышно и демонстративно, как это порой бывает у туземцев. Напротив, любой человек, незнакомый с типичными чертами земледельческой магии киривинцев, может пройти мимо исполнителя важной церемонии, и ему даже в голову не придет, что происходит нечто значимое. Так, этот воображаемый прохожий может встретить мужчину, скребущего землю палкой, складывающего в кучку высушенные ветки и стебли или сажающего клубень таро и, вероятно, бормочущего при этом что-то себе под нос. Или же этот прохожий, идя мимо новых огородов — земля на них свеже вскопана, и целый лес больших и маленьких палок, подпорок для будущих стеблей таиту торчит из земли (скоро эти огороды будут выглядеть как поля хмеля), — может увидеть группу мужчин, останавливающихся то там, то здесь и что-то поправляющих в углу каждого участка. А вот если над огородами станут раздаваться громкие заклинания, то внимание гостя будет непосредственно привлечено к магическому значению происходящего. Тогда-то все действия, в других случаях неприметные, приобретут некоторое величие и могут произвести впечатление. Можно будет увидеть отдельно стоящего человека и небольшую группу других людей позади него; громким голосом он взывает к какой-то невидимой силе или, выражаясь более правильно с точки зрения обитателя Киривины, «разбрасывает» невидимую силу по огороду: силу, заключенную в заклинаниях, сконцентрированную в них благодаря мудрости и почитанию многих поколений. Или же можно услышать голоса, звучащие одновременно на всех огородах и речитативом повторяющие одно и то же заклинание — ведь нередко товоси обращается за помощью к своим ассистентам, которые всегда представлены его братьями или другими родственниками по материнской линии.
В качестве иллюстрации рассмотрим один из обрядов земледельческой магии, обряд сжигания вырубленного и высушенного леса. Некоторые, ранее заговоренные, травы следует привязать полосками банановых листьев к верхушкам высушенных молодых побегов кокоса. Подготовленные таким образом факелы служат для поджигания леса. В предполуденное время (обряд, свидетелем которого я был в Омаракане, происходил около 11 часов дня) Багидоу, товоси этой деревни, отправился на огороды в сопровождении Тоулувы, его дяди по материнской линии и вождя деревни, а также нескольких других человек, среди которых была и Бокуиоба, одна из жен вождя. День был жарким, дул легкий ветерок; вырубленная растительность высохла, так что поджечь ее было нетрудно. Каждый из присутствующих взял по факелу — даже Бакуиоба. Факелы были зажжены без всяких церемоний (при помощи восковых спичек, не без сожаления предоставленных этнографом), затем каждый пошел вдоль участков с наветренной стороны, и вскоре все было охвачено огнем. Несколько детей наблюдали за процессом, и не было даже намека на какое-либо табу. Никакого заметного возбуждения по поводу этих действий не ощущалось и в деревне: мы несколько раз проходили мимо юношей и детей, которые играли в деревне, они не проявляли никакого интереса к событию и не собирались идти за нами смотреть обряд. Я принимал участие и в других обрядах, во время которых мы с Багидоу были вообще вдвоем, хотя никакого табу, запрещающего кому-либо находиться при этом, не существовало. Конечно, если бы кто-нибудь захотел присутствовать, ему пришлось бы соблюдать некоторый минимум правил поведения. Табу варьируют от деревни к деревне, так как каждая из них имеет собственную систему земледельческой магии. Я был свидетелем и другого обряда «выжигания» (на следующий день после общего сжигания растительности на каждом отдельном участке жгли небольшие кучки мусора и в огонь бросали особые травы) в соседней деревне. Здесь товоси был очень разгневан тем, что за обрядом издалека наблюдало несколько девочек. Мне сказали, что такие церемонии — табу для женщин в этой деревне. И опять-таки, одни ритуалы проводятся самим товоси, в других ему обычно помогают несколько человек, третьи же — требуют участия всей деревенской общины. Такой коллективный обряд будет подробно описан ниже, так как он имеет более непосредственное отношение к участию балома в магии.
Я рассказал здесь о земледельческой магии только для того, чтобы проиллюстрировать общий характер магии в Киривине. Земледельческая магия является, несомненно, самым заметным из всех видов магии, практикуемых здесь, и некоторые обобщения, сделанные при анализе этого конкретного вида магии, будут верны и для других ее видов. Все это призвано служить нам общей картиной, которую следует все время иметь перед глазами, чтобы мои суждения о роли балома в магии предстали в правильной перспективе[102].
Основу магии в Киривине составляют заклинания. Именно в заклинании заключена сила магии. Ритуал существует лишь для того, чтобы пустить заклинание в ход, и служит своего рода механизмом трансмиссии. Это общее убеждение всех жителей Киривины, как сведущих в магии, так и неискушенных, и даже беглое изучение магического ритуала вполне подтверждает его. Следовательно, ключ ко всем представлениям, касающимся магии, необходимо искать в магической формуле. А здесь мы встречаем частое упоминание имен предков. Многие формулы начинаются с длинного перечня их имен, который служит в некотором смысле призывом к ним.
Вопрос о том, являются ли такие перечни настоящими молитвами, в которых исполнители заклинаний фактически призывают балома предков явиться и принять участие в магии, или же имена предков фигурируют в формулах просто как традиционные знаковые единицы (священные и исполненные магической силы только благодаря их традиционному характеру), — вопрос этот, похоже, не предполагает определенного ответа ни в пользу первого, ни в пользу второго допущения. В действительности здесь, несомненно, наличествуют оба элемента: прямое обращение к балома и традиционная значимость имен предков как таковых. Представленные ниже данные должны позволить сделать более точные заключения. Так как аспект традиции тесно связан со способом наследования магической формулы, то начнем, пожалуй, с последнего допущения.
Магические формулы передаются из поколения в поколение: от отца к сыну по мужской линии или от кадала (брат матери) к племяннику по женской линии, которая, по представлениям туземцев, только и является подлинной линией родства (вейола). Две формы наследования не совсем эквивалентны. Существуют также виды магии, которые можно назвать локальными, потому что они связаны с данной местностью. К этой категории относятся все системы земледельческой магии[103], а также все те магические заклинания, которые сопряжены с тем или иным местом, наделяемым магическими свойствами. Так, самой сильнодействующей магией дождя на острове является магия Касана-и, которую следует вершить у определенного источника в роще, веика, близ Касана-и. Такой была и официальная военная магия в Киривине, обряды которой должны были проводить мужчины из Куаибуаги и которая была связана с кабома, священной рощей, расположенной рядом с этой деревней. А изощренная магия, необходимая при ловле акул и калала, должна исполняться только мужчинами из деревни Кабуола или из деревни Лаба-и. Все формулы локальной магии наследуются по женской линии[104].
Категория магии, которая не связана с определенной местностью и может свободно переходить от отца к сыну или даже к постороннему (за достойную плату), гораздо уже. Сюда относятся в первую очередь формулы туземной медицины, которые всегда существуют парами: силами, формула вредоносной магии, предназначенная насылать болезнь, всегда передается вместе с вивиса, формулой, нейтрализующей силами и, следовательно, исцеляющей данное заболевание. К этой категории принадлежат также: магия, которая связана с искусством резьбы по дереву, магия токабитам (резчика) и заклинания, призванные обеспечить удачу при построении каноэ. Есть еще ряд формул второстепенного значения или по крайней мере, не столь эзотерического характера — это заклинания любовной магии, заговоры против укусов насекомых и против мулукуауси (эти последние, впрочем, довольно важны), магические слова, устраняющие пагубные последствия кровосмешения и т. п. Но даже эти формулы, хотя они и не принадлежат исключительно людям из одной определенной местности, обычно так или иначе связаны с такой определенной местностью. Очень часто в основе конкретной системы магических обрядов лежит миф, а миф всегда является локальным[105].
Таким образом, большинство примеров самой важной магии принадлежит к категории «матрилинейной» магии, которая всегда локальна и по происхождению, и по способу передачи, тогда как в категории второстепенной магии лишь некоторые виды являются определенно локальными по происхождению. Та или иная местность в традиции и в представлениях жителей Киривины тесно связана с конкретными семьями или субкланами[106]. В каждой местности мужчины, которые сменяют друг друга в качестве ее правителей и которые поочередно исполняют магические обряды, необходимые для благополучия общины (такие, как обряды земледельческой магии), естественно, должны занимать высокое положение. Это, очевидно, можно подтвердить фактами, ибо, как упоминалось выше, имена предков по материнской линии играют большую роль в магии.
Для такого подтверждения можно представить несколько примеров, однако детальное обсуждение вопроса придется отложить до другого случая, так как потребовалось бы сравнение этой черты с другими элементами, повторяющимися в магии, а для этого необходимо было бы полное воспроизведение всех формул. Поэтому вернемся к земледельческой магии. Я зарегистрировал две системы такой магии: каилуебила, практикуемую в деревне Омаракана и обычно считающуюся самой сильнодействующей, и момтилакаива, связанную с четырьмя небольшими деревнями — Купуакопула, Тилакаива, Иоуравоту и Вакаилува.
В системе земледельческой магии Омараканы насчитывается десять магических заклинаний, каждое связанно с определенным видом работ: одно произносится при разметке земли, на которой будет возделан новый огород, другое — во время обряда, с которого начинается вырубка зарослей, третье — при ритуальном сжигании срубленного и высушенного леса и т. д. Из этих десяти заклинаний в трех есть упоминание о балома предков. Одно из этих трех, несомненно, является более важным, чем другие, и произносится во время проведения нескольких обрядов: при вырубке, при посадке и т. д.
Вот его начало:
После этого следует остальная часть формулы, очень пространная; в основном она описывает то положение дел, которое заклинание должно обеспечить, т. е. плодородие, избавление растений от вредителей, болезней и т. п.
Правильный перевод таких местных формул представляет определенные трудности. В них содержатся архаические выражения, которые сами туземцы понимают лишь отчасти и значение которых бывает исключительно сложно узнать, — сложно убедить туземцев сделать точный перевод на современный язык Киривины. Типичная форма заклинания состоит из трех частей: 1) вступление (называется у-ула — нижняя часть стебля, это же слово употребляется и для обозначения понятия, близкого к нашему «причина»); 2) основная часть заклинания (называется тапуала — спина, бока, крестец); 3) заключительная часть (догина — кончик, конец, вершина; этимологически связано с дога — клык, длинный и острый зуб). Обычно тапуала гораздо легче понять и перевести, чем остальные части. Взывание к предкам или, пожалуй, если быть более точным, перечень их имен всегда входит в у-ула.
В только что приведенном у-ула первое слово, ватуви, не было понятно моему информатору Багидоу — товоси, магу земледелия из Омараканы. По крайней мере он не смог перевести его для меня. Я думаю, что на основе этимологии его можно перевести как «вызывать» или «делать»[107].
Слова витумага, имага состоят из префиксов виту (вызывать) и и (глагольный префикс третьего лица единственного числа) и из основы мага, которая в свою очередь состоит из ма, корня слова, означающего «приходить», и га, суффикса, часто употребляемого просто для акцентирования чего-либо. Слова витулола, илола симметричны предшествующим, только вместо ма, «приходить», здесь фигурирует корень ла, «идти» (удвоенное в лола).
В перечне предков следует отметить два момента: все имена собственные употребляются со словом тубугу, за исключением предпоследнего, которое сопровождается словом табугу. Тубугу — существительное множественного числа, означающее «мои деды» (гу — суффикс и притяжательное местоимение первого лица); табугу означает «мой дед» (в единственном числе). Использование множественного числа в первой группе связано с тем, что каждый субклан обладает определенным набором имен собственных и каждый член этого субклана должен носить одно из таких родовых имен, хотя он может иметь и другое, не наследственное имя, под которым он более известен. Так, в первой части заклинания обращение направлено не к одному предку по имени Полу, но ко всем, кто обладал этим именем; маг взывает ко «всем моим предкам по имени Полу, всем моим предкам по имени Колеко» и т. д.
Второй характерной чертой, которая также является общей для всех таких перечней предков, является то, что последним именам предшествуют слова билумава-у билумам, которые в общих чертах означают (не вдаваясь в лингвистический анализ) «вы, новые балома», и затем перечисляются имена нескольких последних предков. Так, Багидоу упоминает своего деда Муакенува и своего отца Иована[108]. Это важно, потому что является прямым взыванием к балома: «О ты, балома» (в словосочетании «билумам» суффиксом м служит местоимение второго лица). В свете этого факта перечисление имен предков представляется скорее взыванием к родовым балома, нежели просто перечислением родовых имен, даже если эти имена и заключают в себе активную магическую силу.
В вольном переводе этот отрывок можно представить следующим образом:
Этот вольный перевод все же допускает значительную долю двусмысленности, но следует определенно иметь в виду, что в мыслях самого человека, лучше всего знающего такую формулу, действительно существует такая двусмысленность. На вопрос, что должно прийти, а что пойти, Багидоу высказывал свое мнение только предположительно. Однажды он сказал мне, что здесь говорится о растениях, которые должны войти в почву; в другой раз он считал, что должны уйти вредители огорода. Являются ли «прийти» и «пойти» противоположными по смыслу, так же не ясно. Я думаю, что правильный перевод должен основываться на очень неопределенном значении у-ула, которое есть не что иное, как тип взывания. Считается, что слова здесь воплощают в себе определенную скрытую силу, и в этом их основная функция. Тапуала, в котором нет никаких двусмысленностей, объясняет основную цель заклинания.
Заслуживает внимания также и то, что у-ула подчинено некоторому ритму: симметрия, в которой расставлены четыре группы слов. К тому же, хотя количество повторений слова ватуви варьирует (я слышал произнесение этой формулы несколько раз), оно повторяется одинаковое количество раз в обеих симметричных фразах. Аллитерация в этой формуле, несомненно, также не случайна, так как она встречается и во многих других заклинаниях.
Я подробно остановился на этой формуле, рассматривая ее как типичный образец других, которые будут представлены без детального анализа.
Вторая формула, в которой упоминаются имена предков, произносится во время самого первого из серии следующих друг за другом обрядов при иовота, когда товоси определяет землю, на которой будут возделаны огороды. Эта формула начинается так:
Здесь упоминаются имена двух далеких предков — героев обширного мифологического цикла. Утверждается, что Тудава некоторым образом является предком Табалу (наиболее высокорангового субклана, который правит в Омаракане), хотя нет никакого сомнения в том, что он относится к клану Лукуба (в то время как Табалу относится к клану Маласи).
К этим же двум предкам взывают и в другой формуле, которая произносится над определенными травами, используемыми в магии при посадках на огородах, а также над некоторыми деревянными сооружениями, которые возводятся только с магическими целями и называются камкокола. Эта формула начинается так:
В вольном переводе это означает:
В системе земледельческой магии Омараканы нет специальных упоминаний о каких-либо священных местах поблизости от деревни[109]. Единственное ритуальное действие, выполняемое во время церемонии и связанное с балома, не очень существенно. После произнесения соответствующего заклинания над первым таро, посаженным на балеко (огородный участок, хозяйственная единица и объект магических заклинаний), маг сооружает миниатюрную хижину и ограждение из сухих веток; это называется си буала балома («жилище балома»). Над ним не произносится никаких заклинаний, не удалось мне обнаружить и никакого предания или добиться объяснения смысла этого странного действия.
Другим, гораздо более важным обращением к балома, хотя оно и не связано с обрядом, является приношение, или подношение, духам ула-ула, платы за магию. Ула-ула передается товоси (магу, ответственному за огороды) членами общины и обычно состоит из рыбы, но это могут быть также орехи бетеля или кокосовые орехи, а в настоящее время еще и табак. Все это выставляется в доме мага; рыба, составляющая только небольшую часть всего подношения, насколько мне известно, пред этим приготавливается. В то время как маг читает в своем доме заклинания над магическими снадобьями и другими принадлежностями перед тем, как взять их на огород, ула-ула, подносимая балома, должна быть выставлена где-то рядом с заговариваемым материалом. Это подношение ула-ула для балома не является отличительной особенностью одной лишь земледельческой магии Омараканы, оно встречается также и во всех других магических системах.
Другая система (момтилакаива), о которой уже упоминалось, имеет только одну формулу с перечнем имен балома. Так как она похожа на приведенную выше — отличаются лишь сами имена, — то я ее опускаю. Однако в этой системе магии роль балома гораздо более выражена, ибо в одном из основных обрядов, в ритуале камкокола, делается подношение им. Камкокола — это большие, громоздкие сооружения, состоящие из вертикальных столбов от 3 до 6 метров в высоту и наклонных шестов такой же длины, упирающихся в вертикальные. Два боковых наклонных шеста камкокола своими верхними концами укрепляются в развилине (между стволом использованного дерева и основанием ответвлявшегося от него сука) на вершине вертикального столба. Если на них смотреть сверху, то эти наклонные шесты оказываются под прямым углом друг к другу, а невидимый вертикальный столб приходится на вершину угла, т. е. сверху такая конструкция напоминает букву L, а сбоку — греческую букву λ. Эти сооружения не имеют никакого практического назначения, их единственная функция — магическая. Они образуют, так сказать, магическую модель втыкаемых в землю подпорок для стеблей таиту. Хотя камкокола представляют собой сугубо неутилитарные сооружения, их возведение требует значительного труда. Очень часто тяжелые столбы приходится приносить издалека, так как вблизи деревень, в низкорослых зарослях, которые вырубаются каждые четыре-пять лет, крупных деревьев очень мало. Неделями мужчины заняты поисками подходящих деревьев, их валкой и доставкой на свои огороды для сооружения камкокола. Часто возникают конфликты из-за обвинений в краже столбов.
Ритуал камкокола во всех системах занимает обычно пару дней; кроме того четыре дня или даже больше уходит на обязательный отдых после всех тех работ на огородах, которые предшествуют магическому действу. В системе момтилакаива первый день собственно магии посвящен произнесению заклинаний над огородами. Маг, иногда в сопровождении одного или двух человек, идет через все поле (когда мне довелось наблюдать этот обряд, общее поле — совокупность всех огородов — представляло собой полосу, растянувшуюся примерно на три четверти мили) и на каждом огороде произносит заклинание, прислонившись к одному из наклонных столбов камкокола. Он стоит лицом к огороду и громким голосом, который разносится по всему участку, нараспев говорит заклинание. Ему приходится сделать от тридцати до сорока таких декламации.
Но для нас особенно интересен второй день, так как в исполняемом на огородах обряде принимает участие вся деревня, и, по поверью, при этом присутствуют также балома. Целью этого ритуала является заговаривание листьев, которые будут затем помещены у подножья камкокола, а также — в месте соединения вертикального и наклонных столбов. Утром второго дня вся деревня занята приготовлениями к обряду. Большие глиняные чаны, предназначенные для варки пищи по праздникам, устанавливаются на раскаленные камни [в костре], варево закипает, идет пар, а женщины снуют вокруг и наблюдают за процессом. Некоторые женщины пекут свои таиту в земляной яме, между раскаленными докрасна камнями. Все сваренные и испеченные таиту будут принесены на поле и там торжественно распределены.
Тем временем одни мужчины отправляются в буш, другие идут на берег моря, а третьи — в раибоаг, чтобы собрать растения, необходимые для магии. Следует набрать их целые охапки, так как после ритуала заговоренные растения распределяются среди всех мужчин, каждый из них берет свою долю и использует ее на собственном участке.
Примерно около десяти часов утра я отправился на поле вместе с Насибоваи, товоси деревни Тилакаива. У него на плече висел большой ритуальный каменный топор, который он действительно использует в нескольких обрядах, в то время как Багидоу из Омараканы никогда не употребляет этот инструмент. Вскоре мы прибыли на место и уселись на землю, ожидая, пока соберутся все остальные. Одна за другой начали подходить женщины. Каждая несла на голове деревянное блюдо с таиту, часто ведя при этом за руку одного ребенка и неся другого, устроившегося, обхватив ее ногами, у нее на боку. Церемония должна была происходить в месте, где дорога из Омараканы подходит к огородам Тилакаивы. По одну строну поля, за оградой, были низкие заросли, подступившие совсем близко за последнюю пару лет. На огородах земля была еще голой, и сквозь довольно плотный частокол подпорок для будущих стеблей таиту по другую сторону поля в отдалении просматривались раибоаг и несколько рощиц. Два ряда особенно аккуратных подпорок шли вдоль тропинки — по обе стороны от нее, — образуя красивую «аллею», и там, где находились мы, они заканчивались двумя особенно аккуратными камкокола. Около этих камкокола и должна была проводиться церемония, а растения, которые предстояло положить под ними и поместить на их вершины, должен был предоставить сам маг.
Женщины расселись вдоль «аллеи» и по обоим краям поля. Понадобилось около получаса, чтобы все они собрались. После чего принесенная ими еда была разложена по кучкам, одна кучка на каждого присутствующего мужчину, причем вклад каждой женщины был разделен между кучками. К этому времени прибыли все мужчины, мальчики, девочки и младенцы. Вся деревня была в сборе, и началось действо. Его открывала обычная сагали (раздача еды); вдоль кучек с едой шел мужчина и около каждой кучки выкрикивал имя одного из присутствующих, после чего эта порция (которая была выложена на деревянное блюдо) забиралась женщиной (родственницей названного мужчины) и уносилась в деревню. Таким образом, женщины возвращались в деревню, а вместе с ними и младенцы, и дети постарше. Мне было сказано, что эта часть обряда проводится для балома. Распределенная таким образом еда называется балома каси (пища балома), и считается, что духи принимают участие в обряде, наблюдая за происходящим и радуясь еде. Однако кроме этих заявлений общего характера, абсолютно невозможно было добиться более определенной и более подробной информации о балома ни от кого из туземцев, включая самого Насибоваи.
После ухода женщин, перед тем как начать «настоящий» обряд, прогнали прочь и тех маленьких мальчишек, которые еще оставались. Даже мне и сопровождавшим меня «боям» пришлось удалиться за ограду. А весь обряд заключался лишь в произнесении заклинаний над листьями. Большие охапки листьев положили на расстеленную на земле циновку. Насибоваи присел перед ней на корточки и проговорил свои заклинания. Как только он закончил, мужчины набросились на листья. Каждый, схватив пригоршню, бежал на свой участок, чтобы поместить их под камкокола и на ее верхушке. На этом обряд и кончился. Вместе с ожиданиями все продолжалось час с лишним.
Далее, в одном из заклинаний момтилакаива упоминается «священная» роща (кабома), называемая Овававиле. Она состоит из высоких деревьев, очевидно, не вырубавшихся на протяжении жизни многих поколений, и расположена довольно близко от деревень Омаракана и Тилакаива. Она табуирована, и несоблюдение запрета грозит опухолью половых органов (или слоновой болезнью). Я никогда не заходил в эту рощу не столько из страха нарушить табу, сколько из-за боязни подцепить маленьких красных клещей, которые в самом деле являются сущим наказанием. Для исполнения одного из магических обрядов товоси из Тилакаивы отправляется в этот священный лес и кладет большой клубень каси-иена (разновидность ямса) на камень. Это — подношение для балома.
Заклинание звучит следующим образом:
В этой формуле нет догина (заключительной части). Переводится она следующим образом:
В этой церемонии связь между балома и магией не очень заметна, но она существует, а соотнесение с местностью служит еще одним связующим звеном между традицией предков и магией. Это все о земледельческой магии.
В двух самых важных системах рыболовной магии Киривины, т. е. в магии деревни Каибуола, необходимой для охоты на акул, и магии, способствующей ловле калала (кефаль?) деревни Лаба-и, духи также играют свою роль. Так, в обеих системах один из ритуалов заключается в подношениях балома, которые также берутся из ула-ула, платы, предоставляемой магу жителями его деревни. В «акульей» магии один из обрядов происходит в доме мага. Исполнитель обряда кладет небольшие кусочки приготовленной рыбы (которую он получил в качества ула-ула) и немного орехов бетеля на один из трех камней (каилагила). которые помещаются вокруг очага и служат в качестве подставок для больших глиняных горшков, в которых варят еду. Затем он произносит следующую формулу:
У-ула: «Камкуамси ками Ула-ула кубукуабуиа, Инене-и, Ибуаигана И-иовалу, Ви-иамоуло, Улопоуло, Боваса-и, Бомуагуеда».
Тапуала и догина: «Кукуавиласи поуло, куминум куаидаси поуло; окавала Вилаита-у; окавала Обувабу; Кулоуси кувапуагисе вадола куа-у обуарита, кулоуси кулувабоуодаси куа-у обуарита куиаиоиуваси кукапуагегаси кумаисе кулувабодаси матами пуалалала окоталела Винаки».
У-ула можно перевести:
«Ешьте свою ула-ула (дар, плата за магию), о незамужние женщины, Инене-и» и т. д. (это все имена собственные женских балома).
В тапуала есть слова, которые я не смог перевести, но общий смысл понятен: «Испортьте нашу рыбную ловлю, принесите неудачу нашей рыбной ловле» (пока это заклинание, построенное по принципу «от противного»: в повелительной форме оно перечисляет действия, которые должны быть предотвращены); «Идите, откройте пасть акулы в море; идите, сделайте так, чтобы акула встретилась в море, чтобы оставалась открытой (зияющей) ее пасть; идите, сделайте так, чтобы они встретили акулу; ваши глаза (?); на берегу Винаки».
Во всяком случае, этот отрывочный перевод показывает, что, стремясь обеспечить удачную охоту на акулу, непосредственно взывают к били балома (форма множественного числа от балома, употребляемая когда эти духи выступают в качестве действующего фактора в магии) незамужних женщин.
Мой информатор не меньше меня самого был озадачен вопросом: «Почему женским, а не мужским балома приписывается эффективность в этом виде магии?» Но вообще-то всякому, а не только магам, было известно, что именно женские балома являются толипоула, «хозяевами рыбной ловли». Маг и некоторые другие мужчины, которых я спрашивал, посоветовавшись между собой, осторожно предположили, что мужские балома отправляются рыбачить с мужчинами, а женские балома остаются покинутыми, и чтобы они не гневались, маг должен их накормить. Другой мужчина указал на то, что в мифе, объясняющем существование охоты на акул в Каибуоле, женщина играет важную роль. Но было ясно: всем моим информаторам женское начало толипоула казалось столь естественным, что такой вопрос ранее никогда не приходил им в голову.
Ловля калала в деревне Лаба-и ассоциируется с мифическим героем Тудавой, которого предание особенно тесно связывает именно с этой деревней. Считается, что он был в некотором смысле предком нынешних правителей Лаба-и. Магия, сопутствующая этому виду рыбной ловли, главным образом сопряжена с мифологическими деяниями Тудавы. Так, он жил на берегу, откуда и сейчас отправляются ловить рыбу и где произносятся самые важные магические формулы. Далее, Тудава имел обыкновение ходить по дороге, ведущей от берега к деревне; и на этой дороге есть места, которые, по преданию, свидетельствуют о его деяниях. «Традиционное присутствие», если можно так выразиться, героя ощущается во всех местах, где ловят рыбу. Вся округа «опутана» табу, которые особенно строги во время рыбной ловли. Ею занимаются регулярно — в течение примерно шести дней в месяц, начиная с йяпила (дня полнолуния), когда рыба стаями заходит на мелководье между барьерным рифом и берегом. Туземное предание гласит, что Тудава приказал рыбе калала жить в «больших реках» архипелага Д'Антрекасто и раз в месяц подходить к берегу Лаба-и. Но и магические заклинания, также введенные Тудавой, обязательно следует всякий раз пускать в ход, ибо если ими пренебречь, то рыба не придет. Имя Тудавы, вместе с именами других предков, фигурирует в длинном заклинании, которое произносится в начале каждого рыболовного периода на берегу возле большого священного камня, называющегося Бомликулику[111]. Заклинание начинается словами:
Тудава и Ва-ибуа — мифические предки, принадлежащие деревне Лаба-и. Первый из них, как мы уже знаем, — великий «культурный герой» острова. Стоит отметить игру слов: «ибу-а — Ва-ибуа», очевидно она обусловлена интересами ритма. Слово кулу, вставленное между повторяющимися именами — Тудава и Ибуа — и служащее префиксом трех следующих далее имен, мои информаторы перевести не могли, не видел я и никакого этимологического решения этой проблемы. После имен собственных, перечисленных выше, следует восемь имен без термина родства, и шестнадцать с таковым_ — тубугу («мои деды»), — предваряющим каждое из них. Затем называется имя непосредственного предшественника нынешнего мага. Мой информатор не смог объяснить, почему одни имена были представлены с термином родства, а другие — без него. Но он был совершенно убежден, что эти два способа перечисления имен не являются равноценными или взаимозаменяемыми.
В течение шести дней, пока продолжается рыбная ловля, ежедневно делают подношения балома. Небольшие кусочки приготовленной рыбы (размером с каштан) и кусочки орехов бетеля (а теперь также табак) кладутся магом на камень Бомликулику со следующими словами:
Это означает:
Это акулье заклинание, или призыв, повторяется ежедневно при каждом подношении. Другой заговор, называющийся гувагава, произносится нараспев ежедневно в течение шести дней над некоторыми листьями; он обладает силой привлекать рыбу калала. Заговор начинается с перечня предков, все они именуются либо «предок», либо «дед».
Существует заклинание, которое проговаривается только один раз, в начале шестидневного периода рыбной ловли, на дороге, ведущей из деревни Лаба-и к берегу. Оно произносится нараспев над растением (либу), вырванным с корнем из земли и положенным поперек дороги. В этом заклинании есть следующая фраза:
Это также перечисление имен, все они, как говорят, принадлежат предкам нынешнего мага.
Другая формула, в которой содержатся имена предков, распевается, когда маг подметает пол у себя в доме в начале периода рыбной ловли. Это заклинание начинается так:
Все это имена предков субклана мага. Характерным является повторение имен с прибавлением префикса, «Боки-у, Калу Боки-у» и т. д. Представлено ли полное имя человека первым словом, а второе слово является лишь его перепевом, с приставкой для пущего благозвучия, или же первое является лишь обособленной частью полного имени — моим информаторам было не совсем ясно.
В только что рассмотренной системе магии ловли калала существует семь заклинаний, и в пяти из них фигурируют имена предков, что немало.
Подробное обсуждение всех остальных записанных мною магических формул заняло бы слишком много места. В качестве основания для сжатого обсуждения будет достаточно сводной таблицы (см. ниже)[114].
Как упоминалось выше, существует две категории магии, «матрилинейная» и «патрилинейная», первая привязана к определенной местности, вторая чаще всего может передаваться людьми одной местности людям другой. В магии Киривины также следует различать магию, которая образует систему, и магию, которая состоит из не связанных между собой формул. Термин «система» можно использовать для обозначения такой магии, в которой ряд формул образует органичное согласованное целое. Эта целостность обычно связана с определенной деятельностью, которая также является частью большого органичного целого — деятельностью, направленной на достижение одной конечной цели. Так, совершенно понятно, что земледельческая магия образует систему. Каждая формула связана с каким-то видом работ, а все вместе они образуют последовательность и направлены на достижение определенной цели. То же самое относится и к магии, практикуемой на различных стадиях рыбной ловли, или к магическим формулам, проговариваемым во время последовательных этапов торговой экспедиции. Ни одна формула из такой системы сама по себе ни на что не годится. Они все должны произноситься последовательно; они все должны действовать в рамках одной и той же системы, и каждая должна соответствовать определенной стадии регулируемого вида деятельности. Магия любви, напротив, заключается в заклинаниях (в Киривине их бесчисленное множество), каждое из которых представляет независимую единицу.
| Назначение магии | Общее число зарегистрированных формул | Количество формул, в которых упоминаются имена предков | Количество формул, в которых не упоминаются имена предков |
|---|---|---|---|
| 1. Заговоры погоды | 12 | 6 | 6 |
| 2. Военная магия | 5 | 5 | |
| 3. Каитубутабу (кокосовый орех) | 2 | 1 | 1 |
| 4. Гроза | 2 | 1 | 1 |
| 5. Колдовство и врачевание | 19 | 4 | 15 |
| 6. Каноэ | 8 | 8 | |
| 7. Муасила (торговля, обмен материальными ценностями) | 11 | ? | ? |
| 8. Любовь | 7 | 7 | |
| 9. Каига-у (магия против мулукуауси) | 3 | 3 | |
| 10. Кабитам (заклинания искусства резьбы) | 1 | 1 | |
| 11. Рыбная ловля | 3 | 2 | 1 |
| 12. Ловля скатов | 1 | 1 | |
| 13. Вагева (магия красоты) | 2 | 2 | |
| 14. Орехи арековой пальмы | 1 | 1 | |
| 15. Саикеуло (детская магия) | 1 | 1 |
Военная магия (2) также образует систему. Все заклинания должны произноситься одно за другим, в соответствии с рядом последовательных магических действий. Эта система связана с определенной местностью, и в заклинаниях содержатся упоминания этой местности (наряду с другими), но имен предков в них нет.
Магия погоды (1), главным образом магия «вызывания» дождя и менее важная магия, призванная обеспечить хорошую погоду, является местной и связана с мифом. Все двенадцать заклинаний принадлежат одной местности и представляют собой самую сильнодействующую магию дождя на острове. Они составляют монополию правителей деревни Касана-и (небольшая деревня, практически слившаяся с Омараканой), и монополия эта в засушливые времена дает огромный доход магу в виде даров за проведение обрядов.
В магии каитубутабу (3) две ее формулы также образуют систему; обе они должны произноситься в определенные моменты, когда действуют табу на употребление кокосовых орехов и должны — наряду с сопутствующими обрядами — благоприятствовать урожаю кокосовых орехов.
Магия грозы (4) связана с преданием, в котором фигурирует мифический предок, и он упоминается в заклинании.
Магия строительства каноэ (6) и магия муасила (7), связанная с замечательной системой торговли и обмена ценностями (называющейся кула), образуют каждая свою исключительно важную систему магии. В записанных мною формулах имена предков не упоминаются. К сожалению, мне не удалось записать полной системы муасила, а записанную систему магии каноэ невозможно было надлежащим образом перевести. В обеих системах магии есть упоминания названий местности, но нет имен предков.
Три заклинания магии рыболовства[115] относятся к одной системе.
Другие заклинания (12–15) систем не образуют. В любовных заклинаниях, естественно, нет упоминаний имен предков. Единственными формулами, в которых такие имена появляются, являются те, что призваны наслать болезнь на человека или изгнать ее. Некоторые из этих заговоров связаны с мифами.
Представленные здесь данные, касающиеся роли предков в магии, должны говорить сами за себя. Получить у туземцев дополнительную информацию было почти невозможно Имена балома — неотъемлемая и важная часть многих заклинаний. Бесполезно спрашивать туземцев: «Что случится, если вы не назовете балома?» (такого рода вопросы иной раз помогают узнать, каковы, в представлениях туземцев, санкции или назначение того или иного обряда), потому что магическая формула является незыблемой и неизменной частью традиции. Она должна быть заучена абсолютно точно и повторяться только так, как была заучена. Если какую-либо деталь заклинания или магического обряда исказить, то они полностью потеряют свою действенность. Поэтому пропустить имена предков немыслимо. На прямой вопрос: «Зачем вы называете эти имена?» — отвечают традиционным: «Токунабогу бубунемаси [наш древний обычай]». Так что я мало чего добился, обсуждая эту тему даже с самыми умными туземцами.
О том, что произнесение имен предков — нечто большее, чем просто перечисление, отчетливо свидетельствуют подношения ула-ула, предписываемые всеми самыми важными и тщательно изученными системами, а также и обычай сагали, представленный выше. Но и эти дары, и обычай сагали, хотя они несомненно подразумевают присутствие балома, не говорят об участии духов в достижении цели магии, не указывают на духов как на посредников, с помощью которых достигает цели маг, как на посредников, к которым он взывает или которых он подчиняет себе заклинанием с тем, чтобы они впоследствии выполняли определенные задачи. Иногда туземцы высказывают бесхитростную идею, что доброжелательная позиция духа очень благоприятна для рыболовства или земледелия и что, будучи разгневаны, духи станут вредить. Эта последняя негативная установка, несомненно, была особенно выражена в суждениях туземцев. Балома каким-то таинственным способом участвуют в тех церемониях, которые проводятся для них, и лучше на всякий случай заручиться их поддержкой, но эта установка ни в коей мере не предполагает, что они являются основными или даже второстепенными действующими лицами какого-либо вида деятельности[116]. Магическая сила заключена в самом заклинании.
Отношение туземцев к балома — в том, что касается магии — может стать более понятным, если сопоставить данные этого раздела с данными, рассмотренными в разделе о миламала. Там балома и участники и наблюдатели, благосклонности которых необходимо добиваться, желания которых нужно обязательно удовлетворять. Более того, они не медлят с проявлениями неодобрения и могут немало досадить, если с ними не обращаться должным образом, хотя их гнев далеко не так ужасен, как обычно это представляется в поверьях о сверхъестественных существах — и у дикарей, и у цивилизованных народов. В обрядах миламала балома не являются активно действующими лицами. Их роль пассивна. И из этой пассивности их можно вывести, только испортив им настроение, и тогда они проявляют свое присутствие, так сказать, негативным способом.
Перечисление имен предков в магических заклинаниях имеет еще один аспект, о котором необходимо напомнить. В любых магических обрядах Киривины огромную роль играют мифы, которые лежат в основе отдельных систем и — согласно традиционным преданиям — магии в целом. То, насколько эти предания-традиции связаны с определенными местностями и то, насколько они в силу этого фокусируют семейные предания отдельных субкланов, обсуждалось выше. Следовательно, имена предков, упоминаемые в ряде формул, являются одним из элементов устной традиции, весьма существенным в целом. Сама сакральность этих имен, будучи часто звеном, связующим человека, практикующего магию, с мифическим предком и первым обладателем магии, в глазах туземца является вполне достаточной prima facie причиной перечисления. На самом деле я уверен, что любой туземец в первую очередь именно так расценит перечисление имен предков в заклинаниях и что он никогда не увидит в этом никакого взывания к духам, никакого приглашения балома прийти и действовать; заклинания, произносимые при подношении ула-ула, возможно, являются исключением. Но даже это исключение не занимает первостепенное место в мыслях туземца и не накладывает отпечатка на его общую установку по отношению к магии[117].
Все эти данные, касающиеся отношений между балома и живыми людьми, были некоторым отклонением от темы нашего рассказа о потусторонней жизни балома на Туме, а теперь мы вновь возвращаемся к этой теме.
Мы оставили балома укоренившимся в новой жизни в потустороннем мире, более или менее смирившимся с утратой близких, оставшихся в мире живых. Скорее всего, он снова женился, создал новые узы и наладил новые связи. Если человек умер молодым, то и его балома молод, но со временем он состарится, и в конце концов его жизнь на Туме оборвется. Если человек умер старым, то и балома его стар, и после некоторого периода пребывания на Туме его жизнь также окончится[118]. Во всех случаях конец жизни балома на Туме — очень важный переломный момент в цикле его существования. Именно по этой причине, упоминая об окончании жизни балома на Туме, я избегал слова смерть.
Я представлю простую версию этих событий, а потом приступлю к обсуждению деталей. Когда балома делается совсем старым — у него выпадают зубы, а кожа становится дряблой и морщинистой, — он идет на берег океана и купается в соленой воде; затем он сбрасывает кожу, как змея, и становится… маленьким ребенком — даже зародышем, ваивайа (так называют плод в утробе и новорожденного младенца). Балома-женщина видит этого ваивайа, она берет его и кладет в корзину или заворачивает в лист кокосовой пальмы пуатаи). Потом она несет это маленькое существо в Киривину и помещает его в чрево какой-нибудь женщины, введя через влагалище. Так женщина становится беременной (насусума)[119].
Это то, что я узнал от первого информатора, упомянувшего деторождение в разговоре со мной. Здесь нашли отражение два важных психологических факта: вера в реинкарнацию (перерождение) и отсутствие представлений о физиологических причинах беременности. Теперь я хочу обсудить оба эти сюжета в свете деталей, выясненных мною после дальнейшего сбора сведений.
Прежде всего, каждому в Киривине известно и ни у кого не вызывает ни малейших сомнений, что действительной причиной беременности всегда бывает балома, который внедряется или входит в тело женщины и без которого женщина не может забеременеть; все младенцы образуются или появляются (ибубулиси) на Туме. Эти убеждения образуют основной пласт того, что может быть названо народным или общепринятым верованием. Если вы спросите любого мужчину, женщину или даже смышленого ребенка, вы получите от него или от нее эту информацию. Но какие-либо дальнейшие детали отнюдь не так широко известны; одну подробность узнаешь здесь, другую — там, иные из них противоречат друг другу, и ни одна не кажется вполне ясной, хотя очевидно, что некоторые из этих представлений влияют на поведение и связаны с определенными обычаями.
Во-первых, что касается естества этих «детей-духов», ваивайа[120]. Следует помнить, что туземцы, как это вообще характерно для догматических представлений, очень многое принимают просто как данность и не дают себе труда ясно определять детали или отливать их в конкретные и яркие образы. Самое естественное допущение — «ребенок-дух» есть неразвившийся младенец, эмбрион, зародыш, — высказывается и наиболее часто. Слово ваивайа, означающее «зародыш», «ребенок во чреве», а также «новорожденный» кроме того употребляется и для обозначения невоплотившихся «детей-духов». При обсуждении этой темы, в котором принимало участие несколько мужчин, некоторые утверждали, что человек, после своего перерождения на Туме, становится просто чем-то вроде «крови», буиа-и. Каким образом он может быть впоследствии транспортирован в таком жидком виде — было неясно. Но термин буиа-и, похоже, имеет несколько более широкие коннотации, в данном случае, может быть, имеется ввиду не просто жидкая кровь, а нечто вроде плоти вообще.
Другой круг верований и представлений о реинкарнации отражает устойчивые ассоциации между морем, морской водой и детьми-духами. Так, несколько информаторов говорили мне, что после своего перерождения ваивайа погружается в море. Первая полученная мною и приведенная выше версия гласила, что омывшись в морской воде, дух омолаживается, и его тут же подбирает балома-женщина. и несет в Киривину. По другим версиям, дух после перерождения некоторое время живет в море. Существует несколько поверий, коррелирующих с этим представлением. Так, во всех прибрежных деревнях западного побережья (где была собрана эта информация) незамужние девушки при купании соблюдают определенные предосторожности. Считается, что дети-духи прячутся в попево, морской пене, а также в камнях, называющихся дукупи. Они могут «сесть на плавник» (на плавающее в море бревно) или прикрепиться к мертвым водорослям, плавающим на поверхности моря. Поэтому, когда временами ветер и прилив прибивают к берегу все это в изрядном количестве, девушки боятся купаться, особенно в разгар прилива. Если же замужняя женщина хочет зачать, она может постучать по камням дукупи, чтобы побудить спрятавшегося там ваивайа войти в ее матку. Но это не ритуальное действие[121].
В представлениях жителей внутренних районов тоже существует связь между зачатием и купанием. Самый обычный способ забеременеть — подхватить ваивайа в воде. Часто, купаясь, женщина чувствует, как что-то коснулось ее или даже причинило ей боль. Она говорит: «Рыба укусила меня», а на самом деле это в нее входит ваивайа или его вводят в нее.
Другая довольно важная ассоциация между представлением о зачатии и представлением о том, что ваивайа обитают в море, отражена в единственном значительном обряде, сопутствующем беременности. Спустя примерно четыре-пять месяцев после первых признаков беременности женщина начинает соблюдать определенные табу, и в то же самое время изготавливается длинная добе (травяная юбка), называющаяся саикеуло, которую она будет носить после рождения ребенка. Ее готовят несколько родственниц, которые к тому же совершают над ней магический обряд, долженствующий оказать благотворное влияние на ребенка. В тот же день беременную женщину приводят к морю, где родственницы той же категории, что и те, кто сделали саикеуло, купают ее в соленой воде. За всем этим следует сагали (церемониальная раздача еды).
Обычное объяснение у-ула (смысла) этого обряда: он делает «кожу женщины белой» и облегчает роды[122]. Но в прибрежной деревне Каватариа мне без всякого принуждения с моей стороны дали другое объяснение, согласно которому обряд кокува связан с воплощением детей-духов. По словам одного из моих информаторов, на первой стадии беременности ваивайа на самом деле еще не внедряется в женское тело, происходит лишь что-то вроде подготовки к его приему. Только позднее, во время церемониального купания, ребенок-дух входит в тело женщины. Было ли это объяснение личным домыслом или же оно имело широкое распространение в прибрежных деревнях — мне не известно, но я склонен полагать, что оно действительно представляет составную часть верований туземцев, населяющих побережье. Однако я должен определенно заявить, что мои информаторы из внутренних деревень с полным презрением отвергли это толкование, указав к тому же на противоречие: ведь церемония проводится на достаточно поздних сроках беременности, когда ваивайа уже давно обосновался в чреве матери. Очень характерно, что информаторы без труда замечают несуразицу в высказываниях, которые не соответствуют их убеждениям, тогда как в своих собственных суждениях они весьма толерантны к подобным же противоречиям. Любопытно, что в этом отношении туземцы ничуть не более последовательны или интеллектуально честны, чем цивилизованные люди.
Представление о том, что ваивайа вкладывается в женщину балома, преобладает над поверьем о его воплощении во время купания в море. Но эти два представления сливаются в версии, согласно которой балома вкладывает в женщину ваивайа под водой во время купания. Балома часто является будущей матери во сне, и она говорит мужу: «Мне приснилось, что моя мать (или тетя по материнской линии, или старшая сестра, или бабка) вложила в меня ребенка; мои груди набухают». Как правило, именно женский балома является в сновидении и приносит ваивайа, хотя это может быть и мужчина, но балома всегда должен быть вейола женщины (родственником по материнской линии). Многие туземцы знают, кто принес ваивайа их матерям. Так, Тоулува, вождь Омараканы, был дан его матери Бомакатой (Бугуабуагой) одним из ее табула («дедов» — в данном случае братом матери ее матери)[123]. Бвоилагеси, женщине, упоминавшейся выше, которая посещает Туму, ее сын, Тукулубакики, был дан Томнавабу — ее кадала (братом матери). Жена Тукулубакики, Кувоигу, говорит, что к ней приходила ее мать и дала ей ребенка, девочку, которой сейчас около двенадцати месяцев. Такая осведомленность возможна только, когда конкретный балома является во сне женщине и говорит ей, что вложит в нее ваивайа. Конечно же, такие объявления не являются непременным пунктом программы; большинству людей неизвестно, кому они обязаны своим существованием.
Все представления о реинкарнации объединяет одна исключительно важная черта, и как бы они не разнились в других деталях, в этом уверенно сходятся все информаторы, а именно: принадлежность индивида к определенному социальному подразделению, клану и субклану, сохраняется при всех его перерождениях. Балома в потустороннем мире принадлежит к тому же субклану, что и человек при жизни; и новые воплощения также происходят строго в пределах субклана. Ваивайа передается балома, относящимся к тому же субклану, что и женщина, которой он предназначен, и, как только что говорилось, обычно передающий балома является даже каким-нибудь близким ей вейола. Исключения из этого правила считаются абсолютно невозможными; индивид в цикле перерождений не может поменять свой субклан[124].
Ну и хватит о вере в реинкарнацию. Хотя это универсальное и популярное поверье, т. е. известно всякому, оно не играет особенно значительной роли в социальной жизни. И только последнее из упомянутых представлений — о сохранении уз родства в процессе всего цикла — очень важно, оно определенно иллюстрирует устойчивость социальных разграничений, неизменность принадлежности к определенной социальной группе. И наоборот, оно, как и вера в реинкарнацию в целом, призвано усиливать эти узы.
На первый взгляд может показаться, что представления о реинкарнации и о том, что ребенок-дух помещается кем-то или сам внедряется в чрево матери, заведомо исключают какие-либо знания о физиологическом процессе зачатия. Но любые выводы или доказательства, опирающиеся на законы логики, абсолютно непригодны, когда дело касается веры, будь то вера дикаря или вера цивилизованного человека. Два верования, абсолютно противоречащие друг другу с точки зрения логики, могут прекрасно уживаться друг с другом, в то время как заключение, неизбежно со всей очевидностью вытекающее из утвердившегося догмата, может попросту игнорироваться. Поэтому единственным надежным способом этнологического исследования является изучение каждой детали туземной веры и недоверие к любому выводу, полученному только путем умозаключений.
Можно вполне уверенно утверждать, что в целом туземцы пребывают в полном неведении относительно физиологического механизма оплодотворения. Но хотя эта тема несомненно сложна, чтобы избежать серьезных ошибок, необходимо вникнуть в детали.
С самого начала следует сделать одно разграничение: разграничение между понятием оплодотворения, которое предполагает, что отец вкладывает свою лепту в формирование тела ребенка, с одной стороны, и представлением о чисто физическом действии — половом сношении — с другой. Что касается последнего, то представление о нем у туземцев можно сформулировать следующим образом: прежде чем женщина сможет забеременеть, ей необходимо вступить в половую жизнь.
Я был вынужден сделать такое разграничение (оно диктуется характером собранной мной информации), чтобы объяснить определенные противоречия, накопившиеся в ходе расспросов. Поэтому такое разграничение следует принять как «естественное», соответствующее туземным воззрениям и отражающее их. В самом деле, нельзя было предвидеть, как туземцы отреагируют на мои вопросы о деторождении и с какой стороны они все-таки приблизятся к адекватному знанию фактов. Однако когда это разграничение сделано, его теоретическое значение очевидно. Казалось бы, ясно, что только знание первого факта (роли отца в зачатии) может оказывать какое-либо влияние на формирование туземных представлений о родстве. Коль скоро отец не принимает никакого участия в формировании тела ребенка (по понятиям туземцев), по-видимому, и речи не может быть о кровном родстве по мужской линии. Простое механическое «открытие» пути ребенку в чрево женщины и из него, ясное дело, не имеет решающего значения. Но положительные знания в Киривине находятся как раз на том уровне, когда появляется смутная догадка о некоторой связи между половой близостью и беременностью, но не существует никакого конкретного представления о вкладе мужчины в новую жизнь, формирующуюся в теле матери.
Обобщу данные, которые привели меня к такому утверждению. Обнаружив, что представления о роли отца в оплодотворении отсутствуют, я перешел к прямым вопросам о причинах (у-ула) появления ребенка или беременности женщины, на которые получал неизменный ответ: «Балома боге исаика [его дал балома]»[125].
Конечно, как и любые вопросы об у-ула, этот следует задавать терпеливо и избирательно, и порой он может остаться без ответа. Во многих случаях, когда я ставил этот вопрос прямо и однозначно и его понимали правильно, ответ был таким, какой приведен выше, хотя здесь я сразу же должен добавить, что иногда он усложнялся крайне сбивчивыми намеками на половой акт. Так как меня такие ответы приводили в замешательство, а мне очень хотелось внести ясность, я поднимал этот вопрос всякий раз, как только находил повод, подходя издалека, формулируя его in abstracto и пытаясь прояснить суть дела с помощью конкретных примеров, когда речь заходила о каком-нибудь особом случае беременности, в прошлом или в настоящем.
Особый интерес и решающее значение имели случаи, когда беременные женщины не были замужем[126].
Когда я спрашивал, кто отец внебрачного ребенка, ответ был только один, что никакого отца нет, так как девушка не замужем. Если же я затем спрашивал, в предельно откровенных выражениях, кто является физиологическим отцом, то меня все равно не понимали; если же я продолжал расспросы и формулировал примерно так: «Незамужних женщин много, почему же эта забеременела, а другие нет?» — ответ был: «Балома дал ей ребенка». И здесь я зачастую снова попадал в тупик, так как некоторые высказывания явно подразумевали, что незамужняя женщина, не отличающаяся целомудрием, особенно подвержена встречам с балома. Однако девушки считают, что простое воздержание от купания во время прилива — прямая мера предосторожности против контактов с балома — гораздо надежнее, чем такая косвенная мера, как целомудрие.
Однако к внебрачным или, согласно представлениям жителей Киривины, не имеющим отцов детям и их матерям относятся с некоторым неодобрением. Я помню несколько примеров, когда мне указывали на девушек как на незавидных невест — «нехороших» — потому что у них были внебрачные дети. Если вы спросите, почему это плохо, то дадут стереотипный ответ: «Потому что нет отца, нет мужчины, который взял бы младенца на руки» (Гала таитала Сикопо-и). Так, у моего переводчика, Гомайи, была любовная связь, что здесь вполне обычно до брака, с Иламуегиаей, девушкой из соседней деревни. Сначала он хотел жениться на ней. Но потом у нее родился ребенок, и Гомайа женился на другой женщине. На вопрос, почему он не женился на своей прежней возлюбленной, он ответил: «У нее ребенок, это очень плохо». При этом он был уверен, что она ни разу не была неверна ему в период их «помолвки» (юноши Киривины часто бывают жертвой таких иллюзий). У него не было ни малейшего представления, что можно вообще говорить об отцовстве ребенка. Если бы было, то он признал бы ребенка своим, потому что верил, что в половую близость с матерью вступал только он. А так оказалось достаточно того, что ребенок родился в неположенное время, чтобы отвратить его. Этот пример, однако, отнюдь не свидетельствуют о том, что у женщины, преждевременно ставшей матерью, обязательно возникнут какие-либо серьезные сложности с последующим замужеством. Во время моего пребывания в Омаракане две такие женщины вышли замуж без всяких проблем и толков. Незамужних женщин в возрасте, который можно назвать «брачным» (25–45 лет), здесь нет, и когда я спрашивал, может ли женщина остаться незамужней из-за того, что имеет ребенка, ответ был категорически отрицательным. Так что здесь также следует иметь в виду все сказанное выше о роли балома в зачатии, как и все приведенные мной конкретные случаи.
Когда, вместо того чтобы просто спрашивать туземцев об у-ула беременности, я излагал им эмбриональную теорию, то обнаруживал полное неведение. Сравнение с семенем, посаженным в почву, и растением, вырастающим из семени, совершенно ни в чем их не убеждало. Правда, они проявляли интерес к этому и спрашивали, таков ли «способ, которым белый человек делает это», но оставались в полной уверенности, что в Киривине «обычай» не таков. Семенная жидкость (момона) служит только для удовольствия и смазки, и характерно, что словом момона обозначаются как мужские, так и женские выделения. О каких-либо других свойствах момона они не имели ни малейшего понятия. Итак, какие-либо представления о единокровии отца и ребенка или о родстве как о телесной связи между отцом и ребенком абсолютно чужды туземному образу мыслей. Упомянутый выше случай, когда туземцы не понимали вопроса: «Кто отец ребенка незамужней женщины?», можно дополнить двумя другими примерами, относящимися к замужним женщинам. Когда я спрашивал своих информаторов, что произойдет, если женщина забеременеет в отсутствие своего мужа, они спокойно соглашались, что такие случаи могут иметь место и что абсолютно никаких неприятностей не последует. Один из них (я не записал его имени и не запомнил его) в качестве примера привел свой собственный случай. Вместе со своим белым господином он отправился в Самараи[127] и находился там, как он сказал, в течение года. В это время его жена забеременела и родила ребенка. Он вернулся из Самараи, увидел ребенка, и все было замечательно. После дальнейших расспросов я пришел к выводу, что мужчина отсутствовал примерно 8-10 месяцев, поэтому не было безусловной необходимости подвергать сомнению верность его жены. Но то, что муж не имел ни малейшего желания подсчитывать лунные месяцы своего отсутствия и что он определял длительность этого периода весьма приблизительно и без всякого беспокойства, симптоматично. Это был умный мужчина, долгое время живший бок о бок с белыми людьми в качестве «боя по найму», и он вовсе не казался робким или «подкаблучником».
Когда однажды я затронул эту тему в присутствии нескольких белых мужчин, постоянных жителей Тробрианских о-вов, м-р Камерон, плантатор с о-ва Китава, рассказал мне о случае, который поразил его, так как он не имел ни малейшего представления о невежестве туземцев. Туземец с Китавы, нанявшись на работу к белому человеку на острове Вудларк, отсутствовал дома два года. Вернувшись, он нашел там ребенка, родившегося за пару месяцев до его возвращения. Он с готовностью принял его как своего собственного и не понимал ни насмешек, ни намеков белых мужчин, которые спрашивали, не стоит ли ему развестись или, по меньшей мере, хорошенько выпороть свою жену. В том, что его жена забеременела спустя примерно год после его отъезда, он не нашел ничего хоть в малейшей степени подозрительного или наводящего на размышления. Таковы эти два поразительных примера, которые я обнаружил в своих записях; но я располагаю множеством других подтверждений такого удивительного положения дел; они следуют из менее впечатляющих фактов и из обсуждения воображаемых примеров с различными информаторами.
Наконец, с этой темой связаны представления туземцев о родстве между отцом и ребенком и их понимание родства вообще. У них существует только одно слово для обозначения родства, это вейола. Этот термин указывает на родство по материнской линии и не включает родственных отношений ни между отцом и его детьми, ни между какими-либо агнатными[128*] родственниками. Очень часто, расспрашивая об обычаях и их социальной основе, я получал ответ: «О, отец не делает этого; потому что он не вейола детям». Понятие о родстве по материнской линии имеет в своей основе идею общности тела. Во всех социальных вопросах (правовых, экономических, ритуальных) как самое близкое рассматривается родство между братьями, «потому что они состоят из одного и того же тела, одна и та же женщина родила их». Таким образом, демаркационная линия между родством через отца и по отцовской линии (которое как генетическое понятие для туземцев не существует, поэтому отсутствует и соответствующий термин) и родством, прослеживаемым через мать (вейола), соответствует разделению между теми, кто имеет «одно и то же тело» (без сомнения это полный аналог нашему понятию «кровного родства»), и теми, кто не являются «одним телом».
Но, несмотря на это, связь меду отцом и детьми исключительно тесна и в повседневной жизни — вплоть до самых мелочей — и в вопросах наследования прав и привилегий. Так, дети могут входить в деревенскую общину отца, хотя по правилам они принадлежат к деревенской общине матери. Отец передает по наследству ряд своих привилегий детям. Самая важная из них — монополия на тот или иной вид магии. Это главная ценность из всех «владений» человека. Так, очень часто, особенно в случаях, вроде упомянутых выше (в разд. V), когда отец может сделать это законно, он оставляет свою магию сыну, а не брату или племяннику. Примечательно, что отец, движимый привязанностью к детям, всегда стремится оставить им как можно больше и делает это всякий раз, когда удается.
В такой передаче магии по наследству от отца к сыну имеется одна особенность: магию дарят, а не продают. Конечно же, магию человек должен передать наследнику при жизни, так как его нужно обучать формулам и обрядам. Когда мужчина передает магию кому-нибудь из своих вейола — младшему брату или своему племяннику по женской линии — он получает плату, называющуюся в этом случае покала. Это должна быть весьма значительная плата. Когда магии обучается сын, не взимается абсолютно никакой платы. Это, подобно многим другим особенностям туземных обычаев, остается в высшей степени непонятным, потому что родственники по материнской линии имеют право на магию, а сын, по сути, не имеет на нее вообще никаких прав, и при определенных обстоятельствах его могут лишить этой привилегии те, кто имеет на нее право; и все же он получает ее бесплатно, а они должны дорого платить за нее.
Воздерживаясь от других возможных объяснений, я просто приведу ответ туземцев на этот вопрос, который ставит в тупик (мои информаторы вполне отчетливо осознавали всю парадоксальность ситуации и прекрасно понимали, почему я был озадачен). Они сказали: «Мужчина передает ее [магию] детям своей жены. Он живет с этой женщиной бок о бок, он обладает ею, она делает для него все, что жена должна делать для мужа. Все, что он делает для ребенка, является платой (мапула) за то, что он получил от нее». Это отнюдь не единичное высказывание. Здесь суммированы стереотипные ответы, полученные мною в тех случаях, когда я поднимал этот вопрос. Таким образом, именно тесная связь между мужем и женой, а не представление — каким бы смутным и далеким от реальности оно не было — о физическом отцовстве, оправдывает в глазах туземцев все то, что отец делает для своих детей. Следует четко понимать, что социальное и психологическое отцовство (сумма всех уз — эмоциональных, правовых, экономических) воспринимается как производное обязательств мужчины по отношению к своей жене, а понятия о физиологическом отцовстве не существует в сознании туземцев.
Теперь давайте перейдем к обсуждению второй из двух выше разграниченных проблем: к смутным представлениям туземцев о существовании некоторой связи между половым актом и беременностью. Выше я упоминал, что, говоря о причинах беременности, туземцы приводили меня в замешательство утверждением, что половое сожительство также является причиной появления детей. Это представление существует, так сказать, параллельно с фундаментальной идеей о том, что беременность случается по вине балома или воплотившегося ваивайа.
Вышеупомянутое утверждение можно было услышать не часто; в сущности его почти полностью затеняла основная версия. Поначалу я заметил только ее, счел, что успешно добыл нужную мне информацию, и не видел больше проблем, требующих прояснения. Будучи вполне удовлетворен тем, как я справился с изучением представлений о деторождении у тробрианцев, и продолжая интересоваться этим просто в силу своей врожденной педантичности, я был изрядно шокирован, когда в самом основании моей конструкции обнаружился изъян, который угрожал ей полным крушением. Я помню, как мне сказали об очень легкомысленной молодой женщине из Касанаи, известной под именем Иакалуса: «Сене накакаита, Коге ивалулу гиади [очень распутная, у нее есть ребенок]». Услышав это весьма неоднозначное высказывание, я приступил к расспросам с пристрастием и выяснил, наконец, что по совершенно устоявшемуся представлению туземцев у женщины со «свободными устоями» больше шансов заиметь ребенка. Мне поведали также, что если бы нашлась женщина, никогда не вступавшая в половую близость, то у нее, конечно же, не могло бы быть ребенка. Теперь уже эти люди казались мне столь же осведомленными, сколь несведущими представали раньше. При том создавалось впечатление, что одни и те же мужчины поочередно принимали то одну, то другую точку зрения, а эти последние определенно противоречили друг другу. Я расспрашивал так дотошно, как только мог, и мне казалось, что туземцы отвечают по-разному, когда я по-разному формулирую вопросы: если вопрос подразумевает знание физиологии зачатия, они говорят «да», если вопрос предполагает незнание, они говорят «нет». Их озадачивали моя настойчивость и (со стыдом признаю) нетерпеливость. Я не мог объяснить им, что же меня обескураживает, хотя, как мне казалось, я прямо указывал им на противоречие.
Я пытался побудить их сравнить животных и людей, и спрашивал, существует ли у свиней нечто подобное балома, приносящее маленьких поросят. О свиньях мне было сказано: «Икаитаси, икаитаси макатеки бивалулу минана [они спариваются, спариваются и вскорости самка должна разродиться]». Таким образом, здесь у-ула беременности представляется совокуплением. Какое-то время противоречия и неясности в их ответах казались мне совершенно безнадежными; я был в одной из тех тупиковых ситуаций, которые часто встречаются в этнографической полевой работе, когда начинаешь подозревать, что туземцам просто нельзя доверять, что они нарочно рассказывают небылицы, или же что сосуществуют две системы представлений, одна из которых исказилась под влиянием белого человека. На самом же деле в этом случае, как и в большинстве других, причина затруднений совсем иная.
Последний удар по моим самонадеянным суждениям о «туземном невежестве» внес вместе с тем и порядок в этот, казалось бы, полный хаос. Мифологический цикл о культурном герое Тудаве начинается рассказом о его рождении. Его мать, Митигис, или Булутукуа, была единственной из всех жителей деревни Лаба-и, оставшихся на острове. Все другие убежали в страхе перед великаном-людоедом Докониканом, который пожирал людей и фактически почти истребил население Киривины. Булутукуа, покинутая своими братьями, жила одна в гроте в раибоаге около Лаба-и. Однажды она заснула, и капли воды, стекавшие со сталактитов, попали на ее вульву и открыли проход. После этого она забеременела и родила по очереди рыбу-бологу, свинью, куст растения куэбила (имеющего ароматические листья и использующегося как украшение), еще одну рыбу (калала — она упоминалась выше в разд. V), какаду (катакела), попугая (карага), птицу (сикуаикуа), собаку (каикуа), и, наконец, Тудаву. В этой истории тема «искусственного оплодотворения» кажется в высшей степени неожиданной. Как можно найти то, что представляется пережитком былого неведения, у людей, неведение которых представляется полностью сохранившимся? И опять же, как получилось, что женщина в мифе родила несколько детей одного за другим, если она только один раз побывала под капающим сталактитом? Все эти вопросы озадачивали меня, и я задавал их туземцам без особенной надежды на успех, пытаясь пролить хоть какой-то свет на все это.
Однако я был вознагражден и получил ясное и окончательное решение своей проблемы, решение, которое выдержало ряд последующих, самых что ни на есть педантичных, проверок. Одного за другим расспрашивал я своих лучших информаторов, и вот что они говорили: девственница (накапату, на — префикс, указывающий на женский род, капату — запечатанный, закрытый) не может родить ребенка и не может зачать, потому что ничто не может ни войти в ее вульву, ни выйти оттуда. Ее надо открыть, или «пронизать» (ибаси; это слово употребляется для описания воздействия водяных капель на Булутукуа). Поэтому влагалище женщины, часто вступающей в половую связь, будет более открытым, и ребенку-духу легче войти в него. Та же женщина, которая остается совершенно целомудренной, будет иметь намного меньше шансов забеременеть. Но совокупление совсем не обязательно, оно лишь механически способствует. Вместо него может быть использован любой другой способ расширения прохода, и если балома пожелает вложить ваивайа или таковой сам захочет войти внутрь, то женщина забеременеет.
В том, что это так, моих информаторов, вне всякого сомнения, убеждает и случай Тилапои — женщины, живущей в Кабулуло, деревне, соседствующей с Омараканой. Она полуслепа, слабоумна и настолько некрасива, что ни у кого не возникает даже мысли о половой близости с нею. Фактически она является излюбленным объектом шуток, предполагающих чью-то половую связь с нею: шуток, которые всегда смакуются и повторяются, так что «Куои Тилапои! [Вступи в половое сношение с Тилапои!]» стало формой шутливого оскорбления. Однако, несмотря на тот факт, что она, как считается, никогда не имела половых связей, однажды она родила ребенка, который впоследствии умер. Есть и другой пример, еще более поразительный — женщина из Синакеты, которая, как мне сказали, настолько непривлекательна, что любой мужчина покончил бы с собой, если бы его всерьез хотя бы заподозрили в сексуальной близости с ней. И все же у этой женщины было не менее пяти детей. Предполагается, что в обоих этих случаях беременность стала возможной вследствие расширения вульвы пальцами. Мои информаторы не без удовольствия останавливались на этом сюжете, графически и схематически иллюстрируя мне детали процесса. Их рассказ не оставлял ни малейшего сомнения в искренности их веры в то, что женщина может забеременеть без полового акта.
Таким образом, я научился видеть существенную разницу между представлением о механическом действии полового акта, к чему и сводится все, что туземцам известно о естественных причинах беременности, и знаниями об оплодотворении и о роли мужчины в создании новой жизни в чреве матери — процессе, о котором туземцы не имеют ни малейшего понятия. Это объясняет загадку в мифе о Булутукуа, где женщину следовало «открыть», а после этого она могла родить одного за другим целый ряд детей, не нуждаясь в каком-либо новом физиологическом вмешательстве. Это проливает свет также на «знание» о зачатии у животных. Применительно к животным (а домашние животные, такие как свинья или собака, занимают важное место в универсуме туземца) какие-либо идеи о жизни после смерти или существовании души отсутствуют. Если человека спросить прямо, имеются ли балома животных, он может ответить «да» или «нет», но это будет импровизация, а не фольклор. Таким образом, проблемой реинкарнации и формирования новой жизни у животных попросту пренебрегают. Физиологический аспект, напротив, известен хорошо. Так, если вы спросите о животных, то получите ответ, что здесь необходимы физиологические предпосылки, но другая сторона вопроса — как реально возникает новая жизнь в утробе — просто игнорируется. И не стоит огорчаться по этому поводу, ибо туземец никогда не утруждает себя экстраполяцией своих верований в те сферы, к которым они по сути своей не относятся. Он не утруждает себя размышлениями о жизни после смерти у животных, и у него нет определенных представлений об их появлении на свет. Такие проблемы решаются применительно к человеку: это и только это есть подлинная сфера их действия, и распространять их за ее пределы не следует. Даже в теологии не-дикарей подобные вопросы (например, о душе у животных и об их бессмертии) обычно весьма запутаны, и их решения зачастую не более последовательны, чем у папуасов.
В заключение можно повторить, что те познания, которыми туземцы обладают в этой сфере, не несут сколько-нибудь значительной социологической нагрузки, не влияют ни на туземные представления о родстве, ни на сексуальное поведение. После обсуждения материалов, относящихся к Киривине, представляется необходимым сделать несколько более общее отступление на эту тему. Как хорошо известно, незнание физического отцовства впервые было обнаружено сэром Болдуином Спенсером и м-ром Ф.Гилленом в племени арунта в Центральной Австралии. Впоследствии этими первооткрывателями и некоторыми другими исследователями то же самое положение вещей было зафиксировано у целого ряда других австралийских племен, при этом исследованиями была охвачена практически вся центральная и северо-восточная часть австралийского континента, насколько она вообще была доступна для этнологических изысканий.
Главные дискуссионные вопросы, возникающие в связи с этим открытием, таковы. Во-первых, является ли это незнание специфической чертой австралийской культуры или даже культуры арунта, или же это универсальный факт, присущий большинству или всем низшим расам? Во-вторых, является ли это состояние неведения первичным, т. е. просто отсутствием знания, обусловленным недостаточностью наблюдений и умозаключений, или же это вторичное явление, обусловленное наложением анимистических идей и вследствие этого оттеснением первичных знаний?[129]
Я бы вообще не стал вступать в эту дискуссию, если бы не желание привести некоторые дополнительные факты, отчасти полученные в результате работы вне Киривины, отчасти состоящие из некоторых общих наблюдений в условиях полевой работы — наблюдений, имеющих непосредственное отношение к данной проблеме. Поэтому я надеюсь, что меня извинят за это отступление, так как это не столько спекуляции по поводу спорных вопросов, сколько дополнительный материал, проливающий свет на них.
Во-первых, я хочу изложить некоторые свои наблюдения, сделанные не в Киривине. Они, похоже, показывают, что неведение, подобное обнаруженному мною на Тробрианских о-вах, было характерно и для папуа-меланезийцев Новой Гвинеи. Проф. Зелигман пишет о племени коита: «Утверждают, что одного полового акта недостаточно, чтобы вызвать беременность; чтобы обеспечить ее, сожительство должно устойчиво продолжаться в течение месяца»[130]. Подобное положение вещей я обнаружил и у маилу, на южном побережье Новой Гвинеи: «… Связь между сожительством и зачатием, похоже, известна маилу, но на прямые вопросы о причинах беременности определенных и позитивных ответов я не получил. Туземцы — в этом я уверен — не улавливают в должной мере связь между этими двумя фактами… Точно так же, как проф. Зелигман у коита, я нашел твердое убеждение, что только продолжительная, в течение месяца или более, половая связь ведет к беременности, и что одного единственного полового акта недостаточно, чтобы привести к этому результату»[131].
Такие заявления не являются категорическими, и, по сути, не предполагают полного незнания физического отцовства. Но так как ни один из исследователей, похоже, не вник в детали, то можно а priori допустить, что эти заявления нуждаются в некоторых дальнейших уточнениях. И действительно, во время своего второго посещения Новой Гвинеи я смог глубже вникнуть в эти вопросы и теперь понимаю, что мое суждение о представлениях Маилу неполно. Во время своего пребывания у маилу я был так же озадачен, как и в Киривине. В Киривине меня сопровождали двое юношей из района, прилегающего к территориям маилу, они дали мне точно такую же информацию, какую я получил в Киривине, т. е. они подтвердили необходимость половой связи, предваряющей беременность, но были абсолютно несведущи относительно оплодотворения. Просматривая свои заметки, сделанные у синаугхоло (племя, близко связанное с коита), я увидел, что высказывания туземцев на самом деле свидетельствуют лишь о представлении, что прежде чем зачать, женщина должна вступить в половую близость. Я убедился, что на все прямые вопросы относительно того, есть ли что-либо в половом акте, вызывающее беременность, я получал отрицательные ответы. К сожалению, ни разу я прямо не спрашивал, существуют ли какие-либо верования о «сверхъестественной причине беременности». Юноши из Гадогадо-а (район, прилегающий к территориям маилу) сказали мне, что у них таких верований нет. Однако их ответ нельзя считать надежным, так как они значительную часть жизни провели на службе у белых людей и могли просто не знать многого из традиционного духовного наследия своего племени. Однако не может быть никакого сомнения в том, что как сообщения проф. Зелигмана, так и моя информация, полученная у маилу, если их углубить и дополнить с помощью туземных информаторов, дадут тот же результат, что и данные, собранные в Киривине — отсутствие знаний об оплодотворении.
Все эти туземцы: и коита, и южные массим района Гадогадо-а, и северные массим Киривины[132] — представители единого папуа-меланезийского популяционного ствола, причем киривинцы — весьма продвинутая ветвь этого ствола, фактически, насколько нам известно, самая продвинутая[133].
Отсутствие у самых развитых папуа-меланезийцев знаний об оплодотворении, впервые зафиксированное Спенсером и Гилленом в Австралии, и его предполагаемое отсутствие у всех папуа-меланезийцев, похоже, говорит о более широком распространении этого явления и о значительно большей его устойчивости на достаточно высоких стадиях социального развития, чем это предполагалось прежде. Но следует настоятельно повторить, что пока исследования не будут детальными и, особенно, пока не будет обязательно соблюдаться приведенное выше разграничение, всегда будет оставаться вероятность неудач и ошибок[134].
Перейдем ко второму из упомянутых выше дискуссионных вопросов: не может это неведение быть вторичным — результатом наложения на первоначальные знания затемнивших и оттеснивших их анимистических представлений. Учитывая общий склад ума туземцев Киривины, конечно же, следует дать решительно отрицательный ответ. Представленные выше подробные описания, если на них посмотреть с этой точки зрения, пожалуй, уже достаточно убедительны, но некоторые дальнейшие наблюдения могут придать дополнительный вес нашим выводам. Разум туземца абсолютно чист в этом отношении, и никак нельзя заподозрить, что весьма определенно выраженные представления о реинкарнации существуют параллельно с какими-то туманными знаниями. Идеи и верования, связанные с реинкарнацией, хотя они, без сомнения, имеются, не оказывают заметного социологического влияния и, конечно же, не занимают ведущей позиции в туземных догматических представлениях. Более того, понимание физиологических процессов и роль, приписываемая балома, вполне могли бы уживаться друг с другом, подобно тому, как сосуществуют представления о необходимости механического расширения вульвы и о функциях духов, или подобно тому, как во множестве ситуаций туземец учитывает естественную и рациональную (в нашем смысле) причинность явлений и их последовательность, хотя параллельно с этим предполагаются магические причины и следствия.
Неосведомленность об оплодотворении — это проблема, лежащая не в области психологии веры, а в области психологии знания, основанного на наблюдении. Только веру может оттеснить или заслонить собою другая вера. Когда же сделано эмпирическое наблюдение, когда уловлена причинно-следственная связь, никакие вера или «суеверия» не могут затемнить это знание, хотя знание и вера могут существовать параллельно друг другу. Земледельческая магия ни в коей мере не «заслоняет» знания туземцев о каузальной связи урожая с надлежащей расчисткой участка, удобрением земли золой, поливом и т. п. Два ряда представлений существуют в его уме параллельно, и один никоим образом не «заслоняет» другой. В вопросе физиологии отцовства, мы имеем дело не с определенным направлением мысли, не с традиционной догмой, обусловливающей практические действия, обычаи и обряды, а с сугубо негативным явлением — с отсутствием знания. Это отсутствие никак не может быть «привнесено» какими-либо содержательными верованиями. Нам, безусловно, следует любой широко распространенный пробел в знаниях, любое универсально зафиксированное отсутствие информации, любое универсальное упущение в наблюдениях, с которыми мы сталкиваемся у туземных племен, рассматривать — если нет доказательств обратного — как первичные. Иначе мы можем с тем же успехом попытаться доказать, что человечество когда-то обладало восковыми спичками, но впоследствии они были вытеснены более сложными и живописными палочками для добывания огня и другими способами получения огня трением.
Далее, высказываемое иногда предположение, что туземцы, якобы «сознательно создают впечатление, что не знают этого», кажется скорее блестящей jeu de mots[135*], нежели следствием серьезных стараний добраться до истины. Однако все становится на свои места, если мы реально представим себе те невероятные трудности, которые пришлось бы преодолеть туземному «натурфилософу», чтобы прийти к чему-то сходному с нашими знаниями в области эмбриологии. Если вдуматься в то, насколько сложны эти знания и как недавно мы сами их приобрели, то предположение о наличии у туземцев даже самых слабых проблесков таких знаний предстанет во всей своей нелепости. Это должно выглядеть убедительным даже для тех, кто подходит к туземным представлениям с чисто спекулятивных позиций, исходя из того, что туземцы, предположительно, должны бы знать. Но мы имеем дело с целым рядом авторов, которые, после того как представленное выше положение дел было определенно зафиксировано у туземцев, отнеслись к этой информации с изрядным скептицизмом и принялись переистолковывать названные особенности ментальности туземцев самым изощренным образом. Путь от абсолютного незнания к точному знанию долог и должен быть пройден постепенно. Нет никакого сомнения, что туземцы Киривины сделали первый шаг на этом пути, осознав необходимость полового акта в качестве предварительного условия беременности. Осознали это, хотя, наверное, менее отчетливо, и арунта в Центральной Австралии, у которых Спенсер и Гиллен обнаружили представление о том, что половой акт готовит женщину к принятию ребенка-духа.
И другое соображение, еще раньше выдвинутое некоторыми авторами, кажется мне весьма существенным, более того, оно показалось таковым и нескольким моим туземным информаторам. Я имею в виду тот факт, что у большинства диких племен половая жизнь начинается очень рано и ведется очень активно, так что единичный половой акт не воспринимается как самостоятельное обособленное событие, которое может сконцентрировать на себе внимание и побудить задуматься о последствиях; напротив, половая жизнь для них — нормальный непрерывный процесс. В Киривине считается, что незамужние девушки, начиная с шести (sic!) лет, обычно осуществляют неконтролируемые сексуальные сношения чуть ли не каждую ночь. Так это или нет — несущественно; важно лишь то, что для туземца в Киривине половой акт — почти такое же обыденное явление, как еда, питье или сон. Что же здесь может дать толчок пытливым наблюдениям, навести на мысль о причинно-следственной зависимости между совершенно обычным, повседневным делом, с одной стороны, и исключительным, единичным событием — с другой? Легко ли осознать, что тот самый акт, который женщина совершает почти так же часто, как ест или пьет, один, два или три раза в жизни будет причиной ее беременности?
Несомненно, что лишь два исключительных единичных события легко проявляют свою взаимозависимость. Для того чтобы обнаружить, что нечто необычное — результат чего-то совершенно обычного, требуется (наряду с научным складом ума) умение исследовать, изолировать факты, исключать несущественное и экспериментировать. При наличии всех этих предпосылок туземцы, наверное, открыли бы здесь причинно-следственную связь, ведь ум туземца функционирует по тем же правилам, что и наш: его способности к наблюдению весьма высоки, если он испытывает острый интерес к предмету, да и сами понятия «причины» и «следствия» отнюдь не чужды ему[136]. И хотя понятия «причина» и «следствие» в своих развитых формах связаны с категориями «повторяющегося», «закономерного» и «обычного», в своем психологическом основании (психологическом «происхождении») они, несомненно, сопряжены с незакономерными, неповторяющимися, неординарными, т. е. единичными явлениями.
Некоторые из моих туземных информаторов весьма определенно указывали мне на отсутствие последовательности в моих аргументах, когда я прямо заявлял, что это не балома вызывает беременность, а вызывается она чем-то вроде семени, брошенного в почву. Я помню, как меня почти прямо опровергали, требуя объяснить, почему причина, которая повторяется ежедневно, или почти ежедневно, так редко приводит к следствию.
Резюмируя, можно сказать, что если мы вообще имеем основания говорить об определенных «примитивных» состояниях ума, то обсуждаемое состояние неведения является именно таким примитивным состоянием, и его распространение у меланезийцев Новой Гвинеи, похоже, указывает на то, что оно сохраняется на гораздо более высоких стадиях развития, чем можно было предположить, основываясь только на австралийском материале. Достаточно некоторого знания мыслительных механизмов туземцев и обстоятельств, в которых они делают свои наблюдения (применительно к нашей теме), и любому станет ясно, что положение вещей именно таково, каким и должно быть — иным оно быть не может, — а всякие мудреные интерпретации и теории не требуются.
Кроме конкретных данных о туземных верованиях, представленных выше, существует еще один ряд фактов, которые имеют не меньшее значение и которые необходимо обсудить, прежде чем настоящую тему можно будет считать исчерпанной. Я имею в виду общие социологические законы, которые необходимо постичь и сформулировать в полевых условиях, чтобы осмыслить и изложить в научной форме данные, доставляемые наблюдением несистематизированно. В моих первых попытках изучить и описать туземные учреждения имеются огромные изъяны, связанные с недостатком методологической ясности в деле этнографической и социологической полевой работы. Я считаю необходимым отметить трудности, с которыми я столкнулся, и поделиться тем, как я пытался их преодолеть.
Так, одним из основных правил, которые я установил себе в своей полевой работе, было «собирать чистые факты, отделять факты от интерпретации». Это правило вполне корректно, если под «интерпретацией» понимать все гипотетические спекуляции о «происхождениях» и т. п. и все поспешные обобщения. Но есть такая форма интерпретации фактов, без которой невозможно проводить никакое научное наблюдение; я имею в виду интерпретацию, которая в бесконечном разнообразии фактов выявляет общие законы, которая отделяет существенное от не имеющего отношения к делу, которая классифицирует и располагает в определенном порядке явления и ставит их в общую взаимосвязь. Без такой интерпретации вся научная работа в полевых условиях неизбежно скатится к чистому «собиранию» данных; в лучшем случае она может дать нам разрозненные и отрывочные сведения, лишенные всякой внутренней связи. Но она никогда не сможет ни ясно представить социальную структуру данного народа, ни дать органичное изложение его верований, ни представить картину мира с точки зрения туземца. В большинстве случаев фрагментарность и бессистемность современного этнологического материала обусловлены культом «чистого факта». Как будто можно завернуть в свое походное одеяло определенное число фактов «в том виде, в каком вы нашли их», привезти домой и отдать кабинетному ученому, чтобы он их обобщал и строил свои теоретические конструкции.
Но в том-то и дело, что это совершенно невозможно. Даже если вы опустошите район своей работы: вывезете оттуда все предметы материальной культуры и доставите их на родину, особенно не заботясь о тщательном описании их назначения — практика, систематически осуществлявшаяся в ряде небританских тихоокеанских владений, — научная ценность такой музейной коллекции будет весьма сомнительна просто потому, что упорядочение, классификацию и интерпретацию следует проводить на местах, соотнося материальные объекты с органичным целым туземной социальной жизни. То, что невозможно применительно к самым «кристаллизованным» явлениям — предметам материальной культуры, — еще «невозможнее» применительно к явлениям, «плавающим» на поверхности поведения туземцев, таящимся в глубинах их сознания или лишь отчасти отраженным в их институтах и церемониях. В поле лицом к лицу сталкиваешься с хаосом фактов: некоторые из них так мелки, что кажутся не имеющими значения; другие предстают столь огромными, что, кажется, не вмещаются в поле зрения. Но в таком сыром виде это вообще не научные факты, они абсолютно эфемерны и могут быть зафиксированы только лишь с помощью интерпретации, если посмотреть на них sub specie aeternitatis[137*] и пытаться постичь и закрепить в сознании только то, что существенно в них. Лишь законы и обобщения являются научными фактами, и полевая работа заключается только и исключительно в интерпретации хаотической социальной реальности, в подчинении ее общим правилам.
Все статистические данные, любой графический план деревни или поселения, всякая генеалогия, любое описание церемонии — фактически любой этнологический документ — уже сами по себе обобщения, причем порой очень трудно дающиеся. Ведь в каждом конкретном случае необходимо сначала выявить и сформулировать правило: что считать и как считать. Всякая графическая схема должна быть составлена так, чтобы отражать определенную экономическую или социальную организацию. Всякая генеалогия должна отражать родственные связи между людьми, и она будет иметь ценность, только если все соответствующие данные будут собраны. Во всякой церемонии случайное должно быть отделено от существенного, второстепенное от первостепенного, элементы, варьирующие от случая к случаю, от элементов, строго повторяющихся по традиции. Все это может показаться почти трюизмом, тем не менее, к сожалению, упор на необходимость придерживаться «только чистого факта» — постоянный принцип во всех руководствах по полевой работе.
Возвращаясь после этого отступления к основному предмету обсуждения, я хочу предложить некоторые общие социологические правила, которые мне пришлось сформулировать, чтобы разрешить определенные проблемы и снять противоречия в информации и чтобы вместе с тем, отдавая должное сложности фактов, упростить их ради ясности общей картины. То, что здесь будет сказано, относится к Киривине и не обязательно применимо к иным и более обширным районам. И кроме того, здесь будут рассмотрены только те социологические обобщения, которые имеют непосредственное отношение к верованиям, и даже более того — к верованиям, обсуждаемым в данной работе.
Самый важный общий принцип изучения верований, которому я должен был следовать в своих полевых изысканиях, таков: любое верование или любой образец фольклора — это не просто фрагмент информации, которую можно почерпнуть из любого случайного источника, от любого случайного информатора и принимать за аксиому, взятую в одном единственном экземпляре. Напротив, каждое верование отражается в умах всех членов данного общества и проявляет себя во многих социальных явлениях. Поэтому оно многопланово и фактически присутствует в социальной реальности в ошеломляющем разнообразии, очень часто приводящем в замешательство, хаотичном и неоднозначном. Другими словами, существует «социальное измерение» верования, и оно должно быть тщательно изучено; верование должно быть проанализировано в его движении в этом социальном измерении; оно должно быть исследовано в свете разнообразия складов ума и в свете разнообразия институтов, в которых оно может быть прослежено. Проигнорировать это социальное измерение, оставить без внимания то разнообразие, в котором любой данный образец фольклора встречается в социальной группе, будет ненаучно. В равной мере ненаучно будет признать эту проблему и решить ее просто, рассматривая вариации как несущностное, потому что в науке только то является несущностным, что не может быть сформулировано в виде общего закона.
Этнологическая информация о верованиях обычно оформляется примерно так: «Туземцы верят в существование семи душ», или же: «В этом племени мы узнали, что злые духи убивают людей в буше» и т. п. Однако такие утверждения, несомненно, являются ложными или, по меньшей мере, неполными, потому что никакие «туземцы» (во множественном числе) никогда не имеют никаких верований и никаких идей, но каждый из них в отдельности обладает своими собственными идеями и своими собственными верованиями. Более того, верования и идеи существуют не только в виде осознанных и сформулированных взглядов членов общины. Они воплощены в социальных институтах и выражаются в поведении туземцев; из того и из другого они должны быть, так сказать, извлечены. Во всяком случае ясно, что дело обстоит не столь просто, как это предполагает «одномерная» этнологическая практика. Этнограф находит информатора и, поговорив с ним, получает возможность сформулировать туземный взгляд, скажем, на жизнь после смерти. Этот взгляд записывается, подлежащее предложения ставится во множественном числе, и мы узнаем о том, что «туземцы верят в то-то и то-то». Вот это и есть одномерный подход, так как он игнорирует социальные измерения, в которых следует изучать данное верование, он также игнорирует и сущностные сложность и множественность[138].
Конечно, очень часто, но все же отнюдь не всегда, эту множественность можно проигнорировать и вариации в деталях оставить без внимания как несущественные, ввиду однородности, которая просматривается в основных чертах верования. Но этот вопрос должен быть предварительно изучен, и для упрощения разнообразия и унификации множественности фактов необходимы свои методические правила. От любых необдуманных действий следует несомненно отказаться как от ненаучных. Однако, насколько мне известно, никто из исследователей, работающих в поле, — даже самые выдающиеся из них, — не пытался выделить и изложить такие методические правила. Поэтому нижеследующие замечания должны оцениваться снисходительно, ведь это всего лишь единичное усилие выявить некоторые важные связи. Такая попытка заслуживает снисхождения еще и потому, что она явилась результатом подлинных переживаний и трудностей, с которыми автор столкнулся в поле. Если в изложении верований, сделанном выше, ощущается определенной недостаток единообразия и ясности, если, далее, трудности наблюдателя так или иначе получили выход, то это тоже следует, извинить по тем же причинам. Я стремился как можно отчетливее показать «социальное измерение» в сфере верований, не утаивая затруднений, вытекающих из разнообразия туземных взглядов, а также из необходимости постоянно иметь в виду и социальные институты, и туземные интерпретации, равно как и поведение самих туземцев. Иными словами, трудности, связанные с проверкой социальных фактов психологическими данными и vice versa.
Теперь давайте излагать правила, которые позволят нам свести все многообразие проявлений верований к более простой схеме. Начнем с неоднократно высказывавшегося утверждения, что сырой материал являет собой почти что хаотические разнородности и многообразия. Примеры этому можно легко найти в материалах, представленных в данной работе, и они делают выдвинутое положение ясным и конкретным. Так, рассмотрим верования, отвечающие нашему вопросу: «Как туземцы представляют себе возвращение балома?». Я действительно задавал этот вопрос в понятной для них формулировке целому ряду информаторов. Во-первых, ответы всегда были фрагментарными — туземец расскажет вам только об одном аспекте, очень часто несущественном, в соответствии с тем, что ваш вопрос вызвал в его уме в тот момент. Ничего иного не приходится ожидать и от неподготовленного «цивилизованного человека». Помимо своей фрагментарности, которая может быть отчасти восполнена повторением вопроса и обращением к другим информаторам с целью ликвидировать пробелы, эти ответы были порой безнадежно противоречивыми и неадекватными. Неадекватными потому, что некоторые информаторы были неспособны даже уловить суть вопроса и никак не могли охарактеризовать такую сложную вещь, как их собственная ментальная установка. Вместе с тем, другие были удивительно умны и способны понять почти полностью, чего добивается от них исследователь-этнолог.
Что же мне было делать? Составить что-то типа «среднего арифметического» взглядов? Однако степень произвольности представлялась здесь слишком высокой. Более того, было очевидно, что эти взгляды — лишь небольшая часть всей доступной информации. Все люди, даже те, которые не смогли сказать, что они думают о возвращении балома и что они чувствуют по отношению к этим духам, тем не менее вели себя, следуя определенным традиционным правилам и соблюдая определенные каноны эмоциональных реакций, и эти правила и каноны так или иначе отражали туземные ментальные установки, связанные с верой в балома.
Поэтому в поисках ответа на сформулированный выше вопрос — как и на любой вопрос, касающийся верования и поведения, — я вынужден был обратиться к соответствующим обычаям. В качестве первого принципа следовало установить разграничения между личными мнениями, информацией, полученной путем расспросов информаторов, и сведениями, извлекаемыми из анализа публичной церемониальной практики. Как помнит читатель, ряд догматических убеждений, которые я нашел выраженными в основанных на обычае традиционных действиях, были перечислены выше. Так, общее верование, что балома возвращаются, воплощено в таком широком социологическом факте, как миламала. Демонстрация ценностей (иойова), возведение специальных платформ (токаикайя), выставление напоказ пищи на лалогуа — все это отражает присутствие балома в деревне, усилия, направленные на то, чтобы угодить им, сделать что-нибудь для них. Подарки в виде еды (силакутува и бубуалу-а) демонстрируют еще более непосредственное участие балома в жизни деревни.
Сновидения, которые часто предшествуют таким подношениям, — это тоже традиционные явления, хотя бы потому, что они ассоциируются с традиционными подношениями и ими санкционируются. Они делают сношения между балома и живыми в известной мере персональными и конечно же более определенными. Читатель сможет легко умножить такие примеры (связь между верованием в Топилету, который взимает плату за вход в иной мир, и ценностями, раскладываемыми вокруг тела умершего перед погребением; верования, воплощенные в иоба, и т. д.).
Помимо верований, выраженных в традиционных обрядах, существуют и верования, воплощенные в магических формулах. Эти формулы так же определенно закреплены традицией, как и обычаи. На самом деле они даже более точны как документы, чем обычаи, так как не допускают никаких вариаций. Лишь небольшие отрывки магических формул были представлены выше, однако даже они иллюстрируют тот факт, что верования могут быть безошибочно выражены заклинаниями, в которых они содержатся. Каждая формула, сопровождаемая обрядом, выражает некие конкретные, детализированные, специфические верования. Так, когда в одном из вышеназванных земледельческих обрядов маг кладет клубень на камень, чтобы способствовать росту урожая, и произносит нараспев формулу, которая комментирует и описывает это действие, то во всем этом безошибочно отражаются определенные верования: вера в священность особой рощи (здесь наша информация подтверждается табу, окружающими эту рощу); вера в связь между клубнем, помещаемым на священный камень, и всеми клубнями на огороде и т. д. В некоторых из упоминавшихся формул воплощены и выражаются и другие, более общие верования. Так, общая вера в помощь балома предков так сказать стандартизуется в заклинаниях, обращенных к этим балома и сопровождающих обряд, в котором они (духи) получают свою ула-ула.
Как упоминалось выше, некоторые магические заклинания основываются на определенных мифах, детали которых содержатся в формулах. Такие мифы и мифологию в целом следует поместить рядом с магическими заклинаниями как традиционное, твердо установившееся выражение верования. Для эмпирического определения мифа (опять же, не претендующего на применение вне данных, полученных в Киривине) могут быть использованы следующие критерии: это предание, объясняющее существенные социальные характеристики (например, мифы о разделении на кланы и субкланы) и относящееся к совершившим выдающиеся деяния личностям, в прошлое существование которых верят безоговорочно. Считается, что следы их существования до сих пор сохранились в различных памятных местах: камень, представляющий окаменевшую собаку, или же пищу, превратившуюся в камень, грот, в котором лежат кости, — свидетельство пребывания великана-людоеда Доконикана, и т. д. Реальность мифических персонажей и мифических событий ярко контрастирует с нереальностью содержания обычных сказок, которых рассказывается великое множество.
Можно сказать, что все верования, воплощенные в мифологическом предании, почти так же неизменны, как и те, что воплощены в магических формулах. Фактически содержание мифологического предания исключительно устойчиво, и его версии, излагаемые туземцами из различных мест Киривины — из Лубы и из Синакеты — совпадают до деталей. Более того, я записал версии некоторых мифов из цикла о Тудаве во время своего краткого пребывания на о-ве Вудларк (он расположен примерно в шестидесяти милях к востоку от Тробрианского архипелага, но жители относятся к той же этнической общности, названной проф. Зелигманом северными массим), и они во всех существенных чертах идентичны версиям, полученным в Киривине.
Суммируя эти наблюдения, мы можем сказать, что все верования, заключенные в туземных обычаях и преданиях, должны восприниматься как неизменяемые, прочно укорененные. Их разделяют все представители общества, все они ведут себя в соответствии с этими верованиями, и поскольку основанные на обычае действия не допускают индивидуальных вариаций, постольку верования этой категории стандартизованы их социальным воплощением. Их можно назвать догмами туземной веры, или «общественными идеями» — в противоположность идеям индивидуальным[139]. Однако следует сделать одно важное дополнение, без которого это утверждение окажется неполным: только те элементы веры могут рассматриваться как «общественные идеи», которые не только воплощены в местных институтах, но и эксплицитно формулируются туземцами и признаются ими существующими в такой форме. Так, все туземцы признают присутствие балома во время миламала, их изгнание при иоба и т. п. И все сведущие туземцы дадут единодушно один и тот же ответ при объяснении магического обряда и т. п. Наблюдатель же, с другой стороны, никогда не может с уверенностью говорить о достоверности его собственной интерпретации местных обычаев. Так, например, в выше упомянутом факте, что траур всегда прекращается сразу же после иоба, кажется, ясно выражается верование, что человек, прежде чем прекратить траур, ждет, пока балома умершего не покинет деревню. Но туземцы не подтверждают этой интерпретации, и поэтому она никак не может считаться «общественной идеей», нормативным верованием. Вопрос, являлось ли первоначально это верование причиной данного обряда, относится к иному классу проблем, но совершенно ясно, что есть две ситуации, которые никак нельзя смешивать: первая — когда верование, наряду с тем, что оно воплощено в обычае, формулируется в обществе повсеместно; вторая — когда верование не осознается, хотя явно выражается в обычае.
Это позволяет нам сформулировать определение «общественной» идеи: Это догмат верования, воплощенный в обычаях или в передаваемых из поколения в поколение текстах, а также формулируемый в единодушных высказываниях всех компетентных информантов. Слово «компетентные» просто исключает маленьких детей и безнадежно невежественных индивидуумов. Такие «общественные идеи» можно рассматривать как «инварианты» туземной веры.
Наряду с социальными обычаями и преданиями, которые воплощают и стандартизируют веру, существует еще один важный фактор, который отчасти связан подобным же образом с верой, — я имею в виду общее поведение туземцев по отношению к объекту верования. Такое поведение было описано выше как проливающее свет на важные аспекты туземных верований, связанных с балома, коси и мулукуауси, и отражающее эмоциональные установки туземцев по отношению к ним. Этот аспект, вне всякого сомнения, имеет исключительное значение. Описать представления туземцев о призраке или духе вовсе не достаточно. Такие объекты верования вызывают выраженные эмоциональные реакции, и в первую очередь здесь следует искать объективные факты, соответствующие этим эмоциональным реакциям. Представленные выше данные, касающиеся этого аспекта туземной веры, какими бы неполными они ни были, ясно показывают, что с накоплением методического опыта систематическое исследование может быть распространено и на эмоциональную сторону верования, причем в настолько строгих параметрах, насколько это позволяют этнологические наблюдения.
Поведение можно описать, подвергая туземцев определенным тестам, в которых должны проявиться их боязнь призраков или их почтение к духам и т. п. Мне придется признать, что в своих полевых изысканиях я хотя и осознавал значение этого метода, не сумел должным образом разработать и испытать на практике соответствующие новые и трудоемкие приемы. Теперь же я ясно вижу, что если бы я приложил больше усилии именно в этом направлении, то смог бы представить гораздо более убедительные и объективно достоверные материалы. Так, что касается страхов туземцев, мои тесты были не вполне тщательно продуманы, причем даже в том виде, в каком я использовал их, они недостаточно подробно отражены в моих записях. И опять же, я помню тон — довольно непочтительный, — в каком туземцы говорили о балома, я также помню, что меня тогда поразили некоторые характерные выражения: я должен был бы тут же их записать, но не сделал этого. Наблюдая за поведением исполнителей и «зрителей» магического обряда, можно подметить некоторые мелкие детали, характеризующие общий «тон» психологического настроя туземцев. Такие вещи я фиксировал лишь частично и, думаю, совершенно недостаточно (о них только вскользь упоминалось в этой работе, в рассказе об обряде камкокола, так как в действительности они не имеют отношения к теме духов или жизни после смерти). Однако до тех пор, пока этот аспект не станет предметом более широкомасштабных наблюдений и не накопится некоторый сравнительный материал, полноценная разработка соответствующей методики полевой работы, безусловно, будет весьма затруднена.
Эмоциональные установки, проявляющиеся в поведении и характеризующие верования, не неизменны: они варьируют индивидуально и не имеют никаких объективных «закрепителей» (таких, какие имеются у верований, воплощенных в обычаях). Тем не менее, они проявляются в объективных фактах, которые могут быть охарактеризованы «почти количественно». Например: какова должна быть сила мотивации, чтобы туземец отважился в одиночестве при пугающих обстоятельствах отправиться в путь, и какова может быть дальность этого пути. В каждом обществе есть более храбрые и более трусливые индивиды, люди эмоциональные и люди бесчувственные и т. д. Но для каждого общества характерны свои типы поведения, и, полагаю, достаточно указать эти типы, так как вариативность во всех обществах почти одинакова. Конечно, если появится возможность зафиксировать и вариации, будет еще лучше.
Чтобы проиллюстрировать возможности этого метода конкретными примерами, я проводил эксперименты (тесты на силу страха) в другом районе Папуа — в Маилу, на южном побережье. Они показали, что никакие ординарные мотивы, ни даже посулы экстраординарной платы в виде табака, не могли побудить ни одного туземца отправиться ночью в одиночестве на расстояние вне поля видимости и пределов слышимости деревни. Однако даже здесь были вариации, некоторые мужчины и мальчики не хотели покидать деревню даже в сумерках, другие готовы были ночью отойти (не очень далеко) за плитку табака. В Киривине, как было сказано выше, поведение людей в той же ситуации было совершенно иным. Но и здесь также некоторые люди намного боязливее других. Вероятно, вариации можно было бы описать более точно, но я не в состоянии сделать это. Как бы то ни было, типы поведения соответствуют характеру верований, — если, например, сравнить эту экспериментальную ситуацию в Киривине и в Маилу.
Поэтому представляется возможным в первом приближении рассматривать элементы верований, выраженные в поведении, как типы, т. е. не придавать значения индивидуальным вариациям. Фактически складывается впечатление, что типы поведения значительно варьируют от общества к обществу, тогда как индивидуальные различия, похоже, во всех обществах имеют примерно один и тот же диапазон. Это вовсе не означает, что их следует игнорировать, но в первом приближении ими можно пренебречь; при этом информация из-за такой неполноты не становится неверной.
Теперь перейдем к последней категории данных, которые нужно изучить для того, чтобы понять верования определенного общества, — к индивидуальным мнениям или интерпретациям фактов. Их никак нельзя считать неизменными, нельзя их и удовлетворительно охарактеризовать, указав к какому «типу» они относятся. Поведение, отражающее эмоциональные аспекты верований, может быть охарактеризовано указанием на его тип, потому что вариации ограничены определенными, легко описываемыми пределами, так как эмоциональная и инстинктивная природа человека, насколько можно судить, в принципе однородна, и индивидуальные различия остаются практически одинаковыми в любом человеческом обществе. В сфере чисто интеллектуальных аспектов верования, в идеях и мнениях, объясняющих верование, есть место для огромного диапазона вариаций. Вера, конечно же, не подчиняется законам логики, и противоречия, расхождения и весь общий интеллектуальный хаос, связанный с верованиями, следует признать фундаментальным фактом.
Одно важное упрощение в этом хаосе достигается путем соотнесения разнообразия индивидуальных мнений с социальной структурой. Почти с каждой сферой верований сопряжена определенная категория людей, социальное положение которых дает им право на особое знание данных верований. В конкретной общине они всеми официально признаются обладателями ортодоксальной версии, и их суждения считаются правильными. Более того, их суждения в значительной мере основаны на традиции, которую они наследуют от своих предков.
Такое положение вещей в Киривине очень хорошо иллюстрируется традицией магии и связанной с ней мифологией. Хотя здесь так же мало эзотерических знаний и обычаев и так же мало табу и секретности, как и в любом туземном обществе, известном мне по опыту и по литературе, тем не менее здесь принято с полным уважением относиться к правам человека в сфере его родовой традиции. Если вы в любой деревне зададите любой вопрос, касающийся деталей обрядов земледельческой магии, ваш собеседник тут же адресует вас к товоси (человеку, отвечающему за магию огородов). А затем, после дальнейших изысканий, вы зачастую узнаёте, что ваш первый информатор прекрасно знал все нужные факты и, возможно, сумел бы их описать еще лучше, чем «специалист». Тем не менее туземный этикет и чувство справедливости заставляют его направить вас к «надлежащему человеку». Если этот надлежащий человек будет на месте, то вам не удастся убедить никого другого заговорить на эту тему, даже если вы заявите, что не хотите слышать мнения «специалиста». Несколько раз я получал информацию от одного из своих обычных «инструкторов», а впоследствии «специалист» утверждал, что она неверна. Когда позднее я рассказывал о таких поправках первому информатору, то он, как правило, отказывался от своих слов: «Ну, если он так говорит, это должно быть верно». Особую осмотрительность, конечно же, следует проявлять, когда «специалист» по своей природе склонен к коварству, как это часто наблюдается у колдунов (которые обладают способностью убивать людей с помощью магии).
И опять же, если магия и соответствующее предание принадлежат другой деревне, то соблюдается такая же осмотрительность и сдержанность. Вам советуют отправиться за информацией в эту деревню. Если вы будете настаивать, ваши туземные друзья, возможно, расскажут вам, что знают, но всегда под конец добавят: «Тебе следует пойти туда и узнать все у того, кто правильно скажет». При изучении магических формул это абсолютно необходимо. Так, мне пришлось отправиться в Лаба-и для того, чтобы ознакомиться с магией ловли рыбы калала, и в Куаиболу, чтобы записать заговоры охоты на акулу. О магии строительства каноэ я получил сведения от мужчин из Лу-эбилы и мне пришлось отправиться в Буаиталу, чтобы познакомиться с преданием и заклинаниями тогинивайу, самой сильнодействующей формы колдовства, хотя мне не удалось записать силами, или вредоносное заклинание, и я лишь частично добился успеха, пытаясь ознакомиться с вивиса, или исцеляющим заклинанием. Даже если искомые сведения не имеют отношения к заклинаниям, а являются просто передаваемым из поколения в поколение знанием, вам все равно часто предстоит испытать сильное разочарование. Так, например, подлинными хранителями мифологических преданий о Тудаве считаются жители Лаба-и. Прежде чем отправиться туда, я собрал все сведения, которые мои информаторы в Омаракане могли сообщить мне, и надеялся на огромный урожай дополнительной информации, но, как оказалось, это я поразил туземцев Лаба-и, цитируя детали, которые они признали совершенно верными, но которые сами уже позабыли. Фактически никто из них даже наполовину не был так хорошо знаком с циклом мифов о Тудаве, как мой друг Багидоу из Омараканы. И опять-таки — деревня Иалака является тем историческим местом, где когда-то до небес поднялось мифическое дерево. С ним связывается происхождение грома. Если вы спросите, что такое гром, то вам сразу же скажут: «Иди в Иалака и спроси толивалу (вождя)», хотя практически всякий может поведать о происхождении и природе грома, и ваше путешествие в Иалака, если вы предпримите его, принесет только разочарование.
Тем не менее, эти факты показывают, что идея «специализации» в деле хранения передаваемых из поколения в поколение знаний весьма развита, что туземцы признают приоритет «специалистов» во многих вопросах веры и обрядности. Некоторые из «специализаций» связаны с определенной местностью; в таких случаях ортодоксальную доктрину всегда представляет глава деревни или же самый умный из его вейола (родственник по материнской линии). В других случаях специализация дифференцирует людей внутри деревенской общины. Здесь, однако, специализация интересует нас не в силу того, что она определяет права на магические формулы или гарантирует точность изложения того или иного мифа. Здесь она интересует нас только постольку, поскольку она имеет отношение к интерпретациям верований, связанных с такими формулами или мифами. Ведь наряду с передаваемым из поколения в поколение текстом специалисту всегда известны традиционные его толкования, а также комментарии к нему. Характерно, что беседуя с такими специалистами, вы всегда получаете более четкие ответы и слышите более определенные высказывания. Вы ясно видите, что этот человек не рассуждает и не излагает вам свою собственную точку зрения: он вполне осознает, что его собеседника интересуют ортодоксальные установки и традиционные интерпретации. Так, когда я спрашивал нескольких информаторов о назначении си буала балома, крошечной хижины, которую строят из сухих веток во время одного из земледельческих обрядов (см. выше, разд. V), они пытались дать какое-то объяснение, но это, как я сразу определил, были их личные мнения. Когда же я спросил об этом самого товоси Багидоу, он просто отверг все объяснения и сказал: «Это традиционный обычай, никто не знает его смысла».
Таким образом, все многообразие индивидуальных высказываний необходимо разделить важной демаркационной линией: по одну сторону от нее окажутся высказывания компетентного специалиста, по другую — суждения обывателя. Информация, исходящая от специалистов, имеет традиционную основу: она четко и ясно сформулирована и в глазах туземца представляет ортодоксальную версию верования. И поскольку компетентным в каждом конкретном вопросе обычно бывает небольшое число людей (в последнем случае это вообще один человек), постольку получение наиболее важных интерпретаций верований не представляет особой трудности.
Но, во-первых, эти, самые важные, интерпретации не отражают всех точек зрения, иногда даже их нельзя считать типичными. Так, например, в связи с колдовством (черной, смертоносной магией) исключительно важно различать суждения специалиста и представления постороннего. И те и другие отражают в равной мере важные, хотя и, естественно, разные аспекты одной и той же проблемы. Однако существует определенная категория верований, где тщетно искать соответствующих специалистов. Так, что касается естества балома и их соотношения с коси, некоторые высказывания больше заслуживали доверия и были более детальными, чем другие, но не нашлось никого, кто бы считался общепризнанным авторитетом в этих вопросах.
При исследовании верований, не связанных со специализацией, а также традиционных представлений, содержание которых особенно интересно в изложении именно неспециалистов, следует исходить из некоторых правил, позволяющих как бы «зафиксировать на месте» суждения, свободно флуктуирующие в общине. Здесь я вижу только одно ясное и важное разграничение, а именно: между тем, что можно назвать общественным мнением, или, если более правильно (так как понятие «общественное мнение» имеет для нас особое значение), общим мнением членов данной общины, с одной стороны, и частными размышлениями индивидов — с другой. Этого разграничения, насколько я понимаю, вполне достаточно.
Если вы опрашиваете «широкие массы» общины, включая женщин и детей (дело довольно легкое, если вы хорошо знаете язык и месяцами живете в одной и той же деревне, но совершенно невозможное без этого), то обнаруживаете, что всегда, когда ваш вопрос однозначно понят, их ответы не варьируют: они никогда не отваживаются на собственные рассуждения. Я получил очень ценную информацию по некоторым вопросам от мальчиков и даже девочек в возрасте от семи до двенадцати лет. Очень часто во время моих длинных послеполуденных прогулок меня сопровождали деревенские дети, и в таких случаях, не скованные необходимостью сидеть без движения и быть внимательными, они свободно говорили и объясняли разные вещи с удивительной ясностью, показывая хорошее знание дел своего племени. Фактически с помощью детей мне часто удавалось разрешать некоторые социологические проблемы, которые пожилые люди не могли мне прояснить. Непринужденность, отсутствие всякой подозрительности и склонности к мудрствованиям, а также, возможно, подготовка, полученная в миссионерской школе, делают их бесценными информаторами по многим вопросам. Относительно опасений, согласно которым их представления могли быть искажены воздействием миссионерского обучения, я могу только сказать, что был поражен абсолютной неподатливостью туземного ума подобным влияниям. Та толика нашей веры и наших идей, которую они получают, остается в совершенно изолированном уголке их мозга. Таким образом, общеплеменное мнение, в котором практически не встречается никаких вариаций, можно выяснить даже с помощью самых скромных информаторов.
Когда контактируешь с умудренными опытом взрослыми информаторами, дело обстоит совершенно иначе. Они представляют собой категорию, с которой этнографу приходится проделывать большую часть своей работы, но разнообразие их мнений составляет немалую проблему, если, конечно, исследователь не удовлетворяется записью одной версии по каждой теме и не придерживается упорно только ее. Высказывания умных, интеллектуально активных информаторов, насколько я могу судить, нельзя свести к чему-то единообразному или унифицировать в соответствии с какими-то принципами: они являются важными свидетельствами, иллюстрирующими умственный потенциал общины. Кроме того, они очень часто демонстрируют типичные способы восприятия верований или разрешения трудных проблем. Однако необходимо ясно осознавать, что такие высказывания сточки зрения социологической совершенно отличны от того, что мы назвали выше догмами или «общественными идеями». Они также отличны от общепринятых или распространенных идей. Они составляют категорию интерпретаций верований, которая близко соответствует нашим произвольным спекуляциям в вопросах веры. Они характеризуются значительным разнообразием, они не выражаются обычными или традиционными словесными формулами, они не являются ни ортодоксальным мнением эксперта, ни ходячими истинами.
Эти теоретические рассуждения о социологии верований можно суммировать в следующей таблице, где различные группы верований классифицируются таким способом, который, на мой взгляд, отражает их естественные связи и разграничения, по крайней мере настолько, насколько этого требует материал, собранный в Киривине:
1. Общественные идеи, или догмы: верования, воплощенные в социальных институтах, обычаях, магико-религиозных формулах, обрядах и мифах. Они сущностно связаны с эмоциональными реакциями, проявляющимися в поведении и характеризуются этими реакциями.
2. Теология, или интерпретация догм:
(a) ортодоксальные объяснения, исходящие от специалистов;
(b) широко распространенные, общие установки, формулируемые большинством членов общины;
(c) индивидуальные спекуляции или гипотезы.
Для каждой из этих категорий в настоящей работе можно с легкостью подобрать примеры, в которых хотя бы приблизительно представлены качественные социологические характеристики и степень социальной глубины, т. е. «социальное измерение» каждого аспекта верования. Необходимо помнить, что эта теоретическая схема, лишь смутно представляемая мною вначале, использована здесь еще не в полной мере, поскольку выработка такой методики в полевых условиях происходит постепенно, по мере накопления опыта. Поэтому применительно к собранному в Киривине материалу она скорее служит заключением ex post facto[140*], нежели основой метода, принятого в исходной точке работы и систематически использовавшегося в ее процессе.
Примеры догм, или общественных идей можно найти во всех верованиях, которые были описаны как воплощенные в обычае миламала, в магических обрядах и формулах, а также в соответствующих мифах, и в мифологическом предании, связанном с жизнью после смерти. Эмоциональный аспект был проанализирован, насколько мне позволяли мои познания, при описании поведения туземцев во время обрядов миламала, а также при описании их поведенческих установок по отношению к балома, коси и мулукуауси.
Что касается теологических взглядов, было представлено несколько ортодоксальных интерпретаций магических обрядов, полученных от специалистов. В качестве широко распространенных — популярных — представлений (кроме тех, что одновременно являются и догмами), я могу отметить местный спиритизм: здесь все, даже дети, верят (и рассказывают массу соответствующих историй), что некоторые люди бывают на Туме, в стране мертвых, и приносят оттуда песни и новости живым. Однако эти поверья и связанные с ними истории ни в коей мере не являются догмой, ведь они даже вполне открыты для скептицизма некоторых особенно умудренных опытом и критически мыслящих информаторов, к тому же они не сопряжены ни с каким основанным на обычае институтом.
Самым лучшим примером сугубо индивидуальной «теологии» могут служить размышления и рассуждения туземных интеллектуалов о естестве и сущности балома.
Я хочу напомнить читателю, что локальные различия в верованиях, т. е. вариации верований от района к району, совсем не рассматривались в этом теоретическом разделе. Такие различия относятся скорее к сфере антропогеографии, нежели к сфере социологии. Кроме того, они лишь в очень незначительной степени отражены в данных, представленных в настоящей работе, так как практически весь мой материал был собран в пределах небольшого района, где локальные вариации едва ли вообще существенны. С локальными вариациями можно связать лишь некоторые расхождения в верованиях о реинкарнации (см. выше, разд. VI).
Если локальные различия в содержании верований в основном нерелевантны нашей теме, то совсем иначе дело обстоит с локальными магико-мифологическими специализациями, упоминавшимися выше, (мифы о происхождении грома в Иалаке, магия охоты на акул в Куаибуоле и т. д.), потому что это фактор, сопряженный со структурными, организационными основами общества, а не просто пример общего антропологического феномена, состоящего в том, что все меняется по мере нашего продвижения по поверхности земли.
Ясно, что все эти теоретические соображения — результат опыта длительной работы в полевых условиях, и привести их здесь, в связи с уже изложенными данными, представлялось мне вполне целесообразным, потому что они тоже принадлежат к сфере этнологических фактов, только это факты гораздо более общего характера. Однако именно благодаря такому высокому уровню генерализации они более важны, чем детали обычаев и веровании. Только два условия, в равной мере обеспеченные исследователем, — выведение общих закономерностей и подробное документирование — делают информацию действительно полной, отражающей предмет нашего интереса.
Ил. 5. «Корвар», изображение предка (бухта Гилвинк, Новая Гвинея). Голова подобных изображений иногда бывает изготовлена из дерева, иногда же (как в этом случае) использовался подлинный череп. Ажурный экран перед изображением украшен орнаментом с символическим изображением змей.
Ил. 6. П. Гоген. Варварские сказания. 1902. Эссен, музей Фольванг.
Матрилинейный комплекс и миф[141*]
Теперь обратимся к обсуждению фольклора в связи с типичными эмоциональными характеристиками матрилинейной семьи[142*]. Тем самым мы вступаем в область весьма разработанных проблем, лежащих на грани психоанализа и антропологии. Давно уже признано, что и серьезные предания о временах предков, и истории, рассказываемые ради забавы, так или иначе отражают желания людей, среди которых они имеют хождение. Более того, школа Фрейда придерживается мнения, что фольклор особенно тесно связан с подавляемыми желаниями, которые некоторым образом находят выход в сказках и легендах; то же самое относится к пословицам, типичным шуткам и фразеологизмам, а также к стереотипным ругательствам и оскорблениям.
Начнем с последних. Связь ругательств и оскорблений с бессознательным не следует интерпретировать в том смысле, что они непосредственно отвечают подавляемым стремлениям оскорбляемого или даже оскорбителя. Например, широко распространенное у восточных народов и многих дикарей выражение «съешь дерьмо» и его слегка модифицированная форма у народов, говорящих на романских языках, непосредственно не выражает желаний ни первого, ни второго. Косвенно оно призвано только унизить и оскорбить человека, которому адресовано. Всякое ругательство (или формула оскорбления) содержит определенные допущения, окрашенные сильным эмоциональным потенциалом. Некоторые из них эксплуатируют чувства отвращения и стыда; в других описываются или подразумеваются определенные действия, которые считаются непристойными в данном обществе, и именно это оскорбляет чувства слушателя. Сюда относятся и богохульства, достигшие в европейской культуре зенита изощренности в бесчисленных вариациях «Me cago en Dios!»[143*], которые можно услышать повсюду, где звучит звонкий испанский язык. Сюда также относятся различные оскорбления с упоминанием социального положения, презираемых или унизительных занятий, преступных привычек и т. п. Все они весьма интересны с социологической точки зрения, так как указывают на то, что считается пределом деградации в данном обществе.
В Европе инцестуальное ругательство, — когда адресату предлагают вступить в кровосмесительную половую связь (обычно с матерью), отличительный атрибут славянских народов, среди которых первенство, несомненно, принадлежит русским. Это многочисленные вариации выражения «Е… твою мать» («Вступи в половое сношение со своей матерью»)[144*]. Этот тип ругательств, в связи с его сюжетом и той важной ролью, что он играет на островах Тробриан, более всего интересует нас. Здесь у туземцев имеются три инцестуальных выражения: «Квой инам» — «Совокупляйся с твоей матерью»; «Квой лумута» — «Совокупляйся с твоей сестрой»; «Квой ум квава» — «Совокупляйся с твоей женой». Комбинация этих трех высказываний любопытна уже сама по себе, ведь мы видим, что в них самые законные и самые запретные типы половых отношений упоминаются бок о бок, с одной и той же целью — оскорбления или унижения. Еще более примечательной является их градация по степени оскорбительности. Ибо в то время как приглашение к инцесту с матерью — это довольно мягкое оскорбление, скорее поддразнивание или подшучивание, вроде нашего «Пошел куда подальше!»[145*], то предположение об инцесте с сестрой — уже серьезная обида, и используется это ругательство лишь в приступе настоящего гнева. Но самым худшим оскорблением является предложение вступить в половую связь с женой. Я знаю лишь два случая, когда его употребили всерьез, и в одном из этих случаев оно послужило, наряду с другими мотивами, причиной братоубийства. Это выражение считается настолько скверным, что я узнал о его существовании только после длительного пребывания на Тробрианах. Ни один туземец не произнесет его иначе как шепотом и не станет шутить с таким чудовищным оскорблением.
Какова психология такой градации? Очевидно, что здесь нет отчетливой корреляции с чудовищностью или непривлекательностью действия. Инцест с матерью на деле исключен абсолютно и полностью, и вместе с тем он фигурирует в самом мягком ругательстве. Не могут быть связаны различия в оскорбительной силе ругательств и со степенью преступности предполагаемого действия, ибо наименее преступное, по сути, законное половое сношение, если его вам приписывают, оказывается самым оскорбительным. На самом деле залогом оскорбительности выступает как раз правдоподобие и реальность действия и то чувство стыда, гнева и унижения в глазах социума, которое возникает, когда сметены все барьеры социального этикета, обнажая голую реальность. Ибо половая близость между мужем и женой маскируется здесь самым строгим этикетом. Он, конечно, не так строг, как правила, регулирующие отношения между братом и сестрой, но он полностью исключает какие бы то ни было публичные намеки на сексуальные контакты. Нельзя шутить на тему секса и произносить непристойности в присутствии супругов. А говорить в грубых выражениях о личных и непосредственных проявлениях сексуальности людей, состоящих в браке, — значит нанести моральное оскорбление чувствительным тробрианцам. Психологически это исключительно интересно, так как показывает, что сила воздействия оскорбления коренится, главным образом, в соотношении реальности действия и правдоподобия желания, с одной стороны, и традиционных приемов социального сдерживания — с другой.
Тот же психологический механизм проясняет степени действенности оскорблений, предполагающих инцест с матерью и с сестрой. Они измеряются прежде всего вероятностью допущения. Мысль об инцестуальных отношениях с матерью так же омерзительна для туземца, как и мысль об инцесте с сестрой, возможно, даже в большей мере. Но сама организация социального взаимодействия и сексуальной жизни, как мы видели, почти полностью исключает искушение вступить в кровосмесительную связь с матерью, в то время как вероятность импульсов к инцесту с сестрой, столь же строго табуированному и столь же жестоко наказуемому, а также гипотетические возможности для реализации подобного импульса, все же допускаются. Поэтому такое ругательство и оскорбляет до глубины души[146*].
Нам нечего сказать о пословицах на островах Тробриан, по той причине, что их здесь не существует. Что же касается типичных фразеологических оборотов и других лингвистических формул, то следует отметить такой важный факт, как употребление в магических заклинаниях слова «лугута», «моя сестра», для обозначения несовместимости и взаимного отвращения.
Теперь перейдем к мифу и легенде, т. е. рассказам, преследующим серьезную цель: раскрыть суть или происхождение тех или иных явлений, институтов и обычаев. Для того чтобы сделать обзор этого весьма обширного и богатого материала понятным и в то же время сжатым, мы разделим все эти рассказы на три категории: (1) мифы о происхождении человека, устройстве общества и, в частности, о тотемическом делении и социальном ранжировании; (2) мифы о культурных изменениях и достижениях, куда входят легенды о героических свершениях, о внедрении обычаев, о развитии культурных явлений и происхождении социальных институтов; (3) мифы, связанные с определенными формами магии[147].
С матрилинейным характером культуры мы сталкиваемся в первой же категории историй, то есть в мифах о происхождении человека, об основаниях социального порядка, особенно — о власти вождей и о тотемических подразделениях, о различных кланах и субкланах. Эти мифы, — которых здесь существует множество, так как в каждой местности есть свои собственные предания или же их версии, — связаны известным стилистическим и концептуальным единством. Все они единогласно утверждают, что люди появились из-под земли через дыры в ней. Каждый субклан имеет свое собственное место выхода на поверхность, а события, сопутствовавшие этому важному моменту, обычно определяют привилегии или ограничения прав соответствующего субклана. Наиболее интересно для нас то, что первые предки, появление которых описывается в мифах, это всегда женщины, сопровождаемые иногда братьями, иногда — тотемическими животными, но ни в коем случае не мужьями. В некоторых мифах подробно описывается, как прародительница производит на свет потомство. Она начинает линию своих отпрысков после того, как неосмотрительно попадает под дождь, или после того, как ее спящую в гроте «пронизывают» стекающие со сталактитов капли воды, или же после того, как ее во время купания кусает некая рыба. Таким образом она оказывается «открытой», «ребенок-дух» входит в ее чрево и она становится беременной[148]. Таким образом, вместо созидающей силы отца мифы декларируют спонтанную способность к воспроизводству матери-прародительницы.
Не появляется отец и ни в какой другой роли. Фактически он никогда не упоминается; ему просто нет места ни в одном уголке мифического мира. Большинство таких локальных мифов дошло до нас в весьма рудиментарной форме. Некоторые из них описывают только одно событие, либо же лишь подтверждают чьи-то права или привилегии. Те из них, которые содержат конфликт или драматическое происшествие, существенные элементы неискаженного мифа, неизменно изображают матрилинейную семью и происходящую в ней драму. Так, например, изображается ссора между двумя братьями, в результате которой они разлучаются и каждый уводит с собой свою сестру. В другом мифе описывается, как две сестры, повздорив, разлучаются и основывают две разные общины.
В мифе, который, наверное, можно отнести к этой группе и который объясняет утрату бессмертия или, выражаясь более точно, утрату вечной молодости, эту катастрофу порождает ссора между бабкой и внучкой. Матрилинейность — определение происхождения по женской линии (материнское право), ведущая роль женщин в организации родственных отношений, матриархальная[149*] конфигурация родства и братских коллизий, короче говоря, модель матрилинейной семьи — отчетливо выражена в структуре мифов этой категории. Нет ни одного мифа о происхождении, в котором мужу или отцу отводилась бы какая-либо роль или вообще отмечалось его присутствие. Для психоаналитика очевидно без лишних доводов, что матрилинейный характер мифологической драмы тесно связан с матрилинейным подавлением в рамках семьи.
Теперь перейдем ко второму классу мифов, к мифам, сопряженным с великими культурными достижениями, явившимися результатом героических подвигов и важных свершений. Этот класс мифов не так рудиментарно представлен и состоит из длинных циклов, где развиваются явно драматические события. Один из важнейших циклов этой категории составляют мифы о Тудаве, герое, рожденном девственницей, которая была «открыта» стекающей со сталактита водой. Деяния этого героя описываются в целом ряде мифов, имеющих незначительные локальные вариации; эти мифы приписывают Тудаве введение земледелия и установление многих обычаев и моральных норм, хотя его собственный моральный облик представлен довольно слабо. Однако основным свершением героя, известным повсюду в этом районе и составляющим базис мифологического цикла в целом, является победа над великаном-людоедом. Эта история такова.
Человечество вело счастливое существование на Тробрианском архипелаге. Неожиданно в восточной его части появился ужасный людоед но имени Доконикан. Он питался человеческой плотью и постепенно истреблял одну общину за другой. В то время в деревне Лаба-и, в северо-западной части главного острова, жила семья, состоящая из сестры и ее братьев. Доконикан все ближе и ближе подбирался к Лаба-и, и семья решила бежать. Однако в тот момент сестра поранила ногу и не могла идти дальше. Братья покинули ее: оставили вдвоем с маленьким сыном в гроте на берегу моря неподалеку от Лаба-и, а сами сели в каноэ и уплыли на юго-запад. Мальчика воспитывала мать, она сначала научила его выбирать прочную древесину для копий, затем обучила магии квойгапани, которая лишает человека разума. Герой отправился в путь и, околдовав с помощью этой магии квойгапани Доконикана, убил его, отрубил ему голову. После этого он и его мать приготовили пирог из таро и внутрь запекли голову людоеда. С этим страшным кушаньем Тудава отплыл на поиски брата своей матери. Найдя его, Тудава предложил ему пирог, в котором его дядя к своему стыду и ужасу обнаружил голову Доконикана. Охваченный страхом и угрызениями совести, брат матери стал предлагать племяннику различные подарки во искупление того, что оставил его и сестру на растерзание людоеду. Герой отказывался от всех подарков и смягчился только тогда, когда получил в жены дочь своего дяди. После этого он уплыл прочь и свершил еще ряд выдающихся деяний, которые в этом контексте нас не интересуют.
В этом мифе целых два конфликта, которые придают драматизм его действию: первый — великан с каннибальским аппетитом и второй — материнский дядя, бросающий сестру и племянника на произвол судьбы. Второй конфликт представляет собой типичную матрилинейную драму, отвечающую естественной тенденции, подавляемой племенной моралью и обычаем, — как мы это выяснили в ходе изучения матрилинейной семьи на Тробрианах. Ибо брату матери отведена роль опекуна ее самой и ее семьи. Однако эта обязанность тяжелым грузом ложится на него и не всегда охотно и с благодарностью принимается его подопечными. Поэтому характерно, что начало самой важной героической драмы в мифологии связано с самым страшным грехом «матриарха» — пренебрежением долгом.
Но этот второй матриархальный конфликт отнюдь не независим от первого. Герой, убив Доконикана, преподносит его голову на деревянном блюде своему дяде по материнской линии. Если бы это подношение имело целью лишь напугать брата матери видом чудовища, то не было бы смысла запекать голову в пирог из таро. Более того, так как Доконикан был врагом всех людей, то вид его головы должен был бы наполнить дядю чувством радости. То, как обставлено это действие и чувства, его подстилающие, обретают смысл, если мы предположим, что между дядей и людоедом существовала какого-то рода договоренность или молчаливое согласие. В этом случае дать съесть голову одного каннибала другому — значит правомерно наказать, и тогда в легенде на самом деле совершается одно злодейство и имеется только один конфликт, разделенный на две стадии и продублированный двумя действующими лицами. Таким образом, мы видим, что легенда о Тудаве содержит в себе типичную матрилинейную драму, которая составляет ее ядро и доводится до логического завершения. Поэтому я удовлетворюсь указанием на эти неоспоримые черты, которые отчетливо проступают в самих мифологических событиях, и не буду вдаваться в дальнейшую детальную интерпретацию этого мифа, что потребовало бы выдвижения определенных исторических и мифологических гипотез. Однако я хочу высказать предположение, что интерпретация образа Доконикана не исчерпывается его связью с «матриархом», что это может быть образ, перешедший из патриархальной культуры в матриархальную. В этом случае Доконикан может представлять отца и мужа. Если это так, то данная легенда может быть чрезвычайно интересна тем, что показывает, как господствующий тип культуры формирует и трансформирует персонажи и ситуации, дабы вписать их в свой социальный контекст.
Еще одно событие этого мифа, о котором я должен хотя бы кратко упомянуть, — женитьба героя в конце истории на своей двоюродной сестре по материнской линии. Это, согласно существующей у туземцев системе родства, считается определенно неправильным, хотя не расценивается как кровосмешение.
В другом легендарном цикле мы находим историю о ссоре двух братьев по поводу огородного участка, что часто случается и в реальной жизни; в этой ссоре старший брат убивает младшего. Миф ни словом не упоминает о каком-либо раскаянии за содеянное. Вместо этого детально описывается своего рода кулинарная антикульминация драмы: старший брат выкапывает яму на огороде, собирает камни, листья и дрова и, как если бы он только что зарезал свинью или поймал большую рыбу, жарит мясо брата в земляной печи. Затем он разносит жареное мясо по деревням, вновь и вновь поджаривая его, когда обоняние подсказывает ему, что в том есть необходимость. Те общины, что отказываются от такого подношения, остаются неканнибальскими; те же, что принимают его, отныне обречены навсегда превратиться в поедателей человеческой плоти. Таким образом, здесь каннибализм прослеживается к первобытному акту братоубийства и к склонности или отвращению мифологических предков к добытой таким преступным и греховным образом пище. Нет необходимости говорить, что это миф неканнибальских племен. Причины бытования каннибализма в одних племенах и его отсутствия в других описываются также в мифах туземцев Добу и других районов архипелага Д'Антрекасто, где человеческое мясо употребляется в пищу. В этих мифах каннибализм, безусловно, не представляется как нечто отталкивающее. Они, однако, тоже строятся если не на фактической ссоре между двумя братьями и двумя сестрами, то на разногласии между ними[150]. В этих мифах нас главным образом интересует матрилинейный отпечаток, который явно носит ссора между старшим братом и младшим.
Миф о происхождении огня, в котором также кратко упоминается и происхождение солнца и луны, описывает конфликт между двумя Осетрами. Можно добавить, что огонь в этом мифе зарождается в женских половых органах.
Читатель, привыкший к психоаналитическим интерпретациям мифов, к психологическим и антропологическим экскурсам в эту область в целом, найдет мои заметки исключительно простыми и незамысловатыми. Все, что здесь сказано, ясно начертано на поверхности мифа, и я едва ли стремился представить какую-либо сложную или символическую интерпретацию. Впрочем, я воздерживался от этого намеренно. Ибо развиваемый здесь тезис, заключающийся в том, что в матриархальном обществе миф должен содержать конфликты главным образом матрилинейного характера, требует только бесспорных доводов. Более того, если я прав, и такая социологическая точка зрения действительно хоть на шаг приближает нас к верной интерпретации мифа, значит совершенно понятно, что мы не нуждаемся в окольной или символической реинтерпретации фактов, а можем с уверенностью позволить фактам говорить за себя. Любому внимательному читателю очевидно, что многие из ситуаций, которые мы понимаем как прямое следствие матрилинейного комплекса, посредством искусственного и символического истолкования можно привести в соответствие с патриархальной перспективой. Конфликт между братом матери и племянником, которые должны, по идее, всегда поддерживать друг друга и быть заодно, а в действительности часто противостоят друг другу как два злодея; борьба и каннибальская жестокость между двумя братьями, которые по закону племени должны составлять единое целое, — все это соотносится с аналогичными конфликтами в рамках патриархальной семьи. Матриархальный миф от патриархального отличает только разница в персонажах и распределении ролей. Отличается социологическая перспектива, в которой предстает трагедия. Мы никоим образом не подрываем основания психоаналитических объяснений мифа. Мы всего лишь корректируем социологию таких толкований. Однако я надеюсь, что достаточно ясно продемонстрировал, что эта коррекция имеет исключительно важное значение.
Перейдем теперь к третьей категории мифов, к тем мифам, что ассоциируются с основами культурных достижений и магии. Магия играет исключительно важную роль во всем, чем занимаются эти туземцы. Всякий раз, когда они приступают к чему-то, что имеет для них жизненно важное значение и в чем они не могут положиться исключительно на свои собственные силы, они обращаются за помощью к магии. Туземцы прибегают к магии для того, чтобы управлять ветром и контролировать погоду, чтобы избежать опасностей на море и добиться успеха в любви, в церемониальном обмене и в танцах. Черная магия и целебная магия играют весьма значимую роль в их социальной жизни; в самых важных хозяйственных предприятиях и занятиях, вроде земледелия, рыболовства и строительства каноэ, магия выступает в качестве существенного и важного элемента. Между магией и мифом существует тесная связь. Та сверхъестественная сила, которую демонстрируют герои мифов, обусловлена главным образом их знанием магии. Ныне же большинство людей отличается от великих мифических героев прошлого именно тем, что они утратили самые эффективные приемы магии. Если бы можно было возродить былые сильные заклинания и могущественные обряды, то люди могли бы летать по воздуху, омолаживать себя и поэтому жить вечно, убивать и снова возвращать людей к жизни, всегда быть красивыми, удачливыми, любимыми и почитаемыми.
Но не только миф черпает свою силу в магии. Магия также зависит от мифа. Почти всякое заклинание и обряд имеют мифологическую основу. Туземцы пересказывают предания прошлого, объясняющие, каким образом магия стала достоянием человека и служащие доказательством ее действенности. В этом, наверное, заключается основная социальная функция мифа. Ибо миф живет в магии, а так как магия оформляет и поддерживает многие социальные институты, то миф оказывает свое влияние и на них.
Теперь рассмотрим несколько конкретных примеров мифов о магии. Вначале следует детально обсудить один из них; для этого я выбрал миф о летающем каноэ, который уже публиковался в подробном изложении[151]. Он связан с магией, которая используется туземцами при построении лодок. Это долгая история, она рассказывает о том времени, когда магия, которая применялась при строительстве каноэ, могла сделать его летающим по воздуху. Герой этого мифа — последний из людей (по-видимому и первый тоже), кто знал, как пользоваться этой магией, — изображается в роли строителя каноэ и мага. Нам рассказывают, как под его руководством строится каноэ; как во время морской экспедиции на юг оно обгоняет все остальные каноэ, летя по воздуху, тогда как другим приходится плыть по воде; как его владелец добивается поразительного успеха в этой экспедиции. Таково счастливое начало истории. Теперь приходит черед трагедии. Все мужчины общины завидуют герою и полны ненависти к нему. Происходит другое событие. Наш герой владеет еще и эффективной земледельческой магией, а также магией, с помощью которой он может причинять вред своим соседям. И когда случилось так, что страшная засуха пощадила только его огород, мужчины общины решили, что он должен умереть. Младший брат героя получил от него магию построения каноэ и земледельческую магию. Поэтому никто не думал, что, убив старшего брата, они потеряют и магию. Преступное деяние свершается, причем не кем-то из посторонних, а младшим братом героя. В одной из версий героя убивают, объединившись, брат и племянники (по женской линии). В другой версии следует продолжение: убив старшего брата, младший приступает к организации погребальных церемоний в его честь. Но суть предания в том, что, сделав свое черное дело, младший брат пытается применить магию при строительстве каноэ и к своему отчаянию обнаруживает, что овладел далеко не всей магией, а только ее самой слабой частью. Таким образом человечество навсегда утратило магическую силу производить летающие лодки.
В этом мифе четко выделяется матрилинейный комплекс. Герой, который по племенному закону обязан поделиться магией со своим младшим братом и племянником по женской линии, откровенно говоря, обманывает их, сделав вид, что передал им все заклинания и обряды, тогда как в действительности он поделился с ними лишь толикой своих знаний. В то же время младший брат, который обязан защищать своего старшего брата, мстить за его смерть и разделять все его интересы, оказавшись во главе заговора, обагрил свои руки кровью братоубийства.
Если мы сравним эту мифическую ситуацию с социальными реалиями, то обнаружим странное соответствие. Долг каждого мужчины состоит в том, чтобы передать своему племяннику по женской линии или младшему брату наследственную собственность семьи — семейный миф, семейную магию и семейные песни а равно как и права на некоторую материальную собственность и хозяйственные обряды. Передача магии, очевидно, осуществляется в течение всей жизни старшего мужчины. Передача прав собственности и привилегий часто происходит перед его смертью. Интересно, что такая законная передача собственности, причитающейся человеку по наследству от его дяди по материнской линии или старшего брата, всегда осуществляется за определенную плату (покала), которая зачастую бывает весьма значительной. Но что еще важнее, когда отец передает какую-то собственность сыну, он всегда делает это бесплатно, только из любви. В реальной жизни также нередко наблюдается параллель мифологическому обману младшего брата старшим. Между двумя людьми, которые по закону племени должны быть едины в своих интересах, привязанностях и обоюдных обязанностях, всегда существуют недоверие и взаимная подозрительность. Поэтому всякий раз, когда мне рассказывали о какой-нибудь магии, у меня возникало чувство, что рассказчик сам сомневается, не был ли он обманут, когда его дядя или старший брат делился с ним своей магией. Такого сомнения никогда не возникало у человека, получившего свою магию в качестве дара от отца. Наблюдая за людьми, владеющими важными системами магии, я обнаружил, что большинство молодых специалистов, успешно практикующих магию, получили свое умение в качестве отцовского дара, а не как наследство по женской линии.
Итак, в реальной жизни, как и в мифах, ситуация, как видим, соответствует этому комплексу — подавляемым чувствам, прямо противоречащим закону племени и общепринятым идеалам племени. Согласно закону и морали, два брата или дядя по линии матери и племянник — друзья и союзники, объединенные общими интересами и чувствами. В реальной жизни в определенной степени, а в мифе совершенно явно они выступают как враги, обманывая друг друга, убивая друг друга, и в их отношениях преобладают скорее подозрительность и враждебность, чем любовь и союз.
Еще один эпизод из мифа о летающем каноэ заслуживает нашего внимания: в его эпилоге говорится, что три сестры героя разгневались на младшего брата за то, что он убил старшего, не обучившись магии. Однако сами они уже освоили ее, и хотя, будучи женщинами, они не могли ни строить летающие каноэ, ни управлять ими, они умели летать по воздуху как летающие ведьмы. Когда злодеяние свершилось, они улетели прочь, и каждая из них обосновалась в своем районе. В этом эпизоде мы видим характерную черту положения женщины в матрилинейном племени: она первой овладевает магией, еще до того как с этой магией знакомится мужчина. Сестры, похоже, выполняют также функцию защиты моральных устоев клана, впрочем, их гнев направлен не против самого преступления, а против ущерба достоянию клана. Если бы младший брат обучился магии, прежде чем убить старшего, то сестры и дальше продолжали бы счастливо жить рядом с ним.
Следует упомянуть еще один миф, фрагментарно публиковавшийся ранее[152], миф о магии, спасающей при кораблекрушении. Жили два брата, старший был человеком, а младший — собакой. Однажды старший отправился ловить рыбу на своем каноэ, но отказался взять с собой младшего. Брат-собака, который научился у своей матери магии безопасного плавания, последовал за старшим, плывя под водой. В рыбной ловле он оказался более удачлив. В отместку старшему брату за его высокомерие он перешел в другой клан и завещал магию новым родственникам, адоптировавшим его. Драматическая коллизия этого мифа связана главным образом с тем, что мать отдает предпочтение младшему сыну. Это определенно матрилинейная черта, так как здесь мать открыто распределяет свои милости и ей не приходится обманывать отца, как поступает в более широко известном библейском сюжете мать Исава и Иакова. Имеется здесь также и типичный матриархальный конфликт, несправедливость старшего брата по отношению к младшему и расплата за нее.
Здесь уместно представить еще один важный сюжет: легенду о происхождении любовной магии, — пожалуй, самое наглядное проявление матрилинейного комплекса. У этих любвеобильных людей искусство нравиться, привлекать и соблазнять представителей противоположного пола связано с демонстрацией красоты, удали и артистических способностей. Слава хорошего танцора, хорошего певца, воина имеет свой сексуальный аспект, и хотя честолюбие всегда самодостаточно, часть его подвигов возлагается на алтарь любви. Но над всеми способами соблазнения здесь повсеместно возвышается самое что ни на есть прозаическое и грубое искусство магии, исключительно почитаемой туземцами. Местный Дон Жуан скорее будет похваляться своей магией, чем какими-либо личными качествами. Менее удачливый ухажер будет вздыхать по магии: «Если бы я только знал настоящую кайроиво!», — вот рефрен разбитого сердца. Туземцы нередко указывают на старых, безобразных и увечных людей, которые неизменно пользуются успехом в любви благодаря магии.
Эта магия непроста. Она требует серии действий, каждое из которых состоит из особого заклинания и соответствующего ритуала и исполняется одно за другим, чтобы постепенно усиливать чары, насылаемые на вожделенный объект. Сразу же следует оговорить, что эта магия практикуется как девушками, для того чтобы пленить избранника, так и юношами, для того чтобы покорить возлюбленную.
Первое заклинание связано с ритуальным купанием в море. Заклинание произносится над губчатыми листьями, которые туземцы используют как аналог нашему купальному полотенцу, обтирая и высушивая ими кожу. Купающийся вытирает кожу заколдованными листьями, а затем бросает их в воду. Подобно тому, как листья на волнах то поднимаются вверх, то опускаются вниз, «нутро» любимой будет страстно волноваться. Иногда этого заклинания бывает достаточно; если же нет, то отвергнутый влюбленный прибегает к более сильному средству. Вторая формула произноситься над орехом бетеля, который влюбленный затем жует и выплевывает в направлении своей возлюбленной. Если и это не приносит результата, тогда третье заклинание, еще более сильное, чем два предыдущих, произносится над каким-нибудь деликатесом, вроде ореха бетеля или табака, и часть этого зелья затем дают съесть, пожевать или выкурить возлюбленной. Еще более решительная мера — произнести магическую формулу в раскрытые ладони, а затем попытаться прижать их к груди любимой.
Последний и самый сильнодействующий метод, почти без преувеличения можно назвать психоаналитическим. Фактически задолго до того, как Фрейд открыл преимущественно эротический характер сновидений, аналогичные теории уже были весьма популярны у дикарей с шоколадной кожей на северо-западе Меланезии. По их представлениям, некоторые формы магии могут вызывать сновидения. Желание, внушенное во сне, возникает и в часы бодрствования, и таким образом сон становится явью. Это чистой воды фрейдизм, но перевернутый с ног на голову; впрочем, я не буду даже пытаться определить, какая из этих двух теорий верна, а какая ошибочна.
Что до любовной магии, то существует еще и методика с применением определенных ароматических трав: их варят в кокосовом масле и произносят над ними заклинание. Оно придает мощную способность вызывать сновидения. Если приготовившему это магическое варево человеку удастся сделать так, чтобы его аромат достиг ноздрей возлюбленной, то этот ищущий любви обязательно ей приснится. Она же непременно попытается воплотить в жизнь видения и переживания такого сна.
Среди нескольких видов любовной магии самым важным, несомненно, является сулумвойя. Ему приписывается большая сила, и если туземец захочет купить соответствующие заклинание и обряд или пожелает, чтобы они были исполнены от его имени, то ему придется дать немалую цену. Эта магия локализована в двух центрах. Один из них расположен на восточном берегу основного острова. С прекрасного пляжа, покрытого чистым коралловым песком, открывается вид на запад, где за белыми гребнями рифа в ясный день можно видеть силуэты возвышающихся вдали коралловых скал. Среди них расположен остров Ива, еще один центр любовной магии. А на основном острове, этот пляж, где жители деревни Кумилабвага обычно купаются и откуда они уходят в плавания на своих каноэ, — почти что святилище любви. Здесь среди белых известковых скал, поросших роскошной растительностью скрывается грот, где в первобытные времена разыгралась трагедия; по обеим сторонам грота бьют источники, которые до сих пор обладают магической способностью внушать любовь.
Эти два магических центра любви, обращенные друг к другу, но разделенные морем, связывает прекрасный романтический миф. Интереснейшая особенность этого мифа состоит в том, что он ведет происхождение любовной магии от ужасного и трагического — в глазах туземцев — события: инцестуальных отношений между братом и сестрой. Этот сюжет имеет некоторое сходство с легендами о Тристане и Изольде, Ланселоте и Женевьеве, Зигмунде и Зигелинде, а также с целым рядом аналогичных историй, распространенных у дикарей.
В деревне Кумилабвага жила женщина из клана Маласи, у нее были сын и дочь. Однажды, пока мать изготовляла себе юбку из растительных волокон, сын приготовил магическое снадобье из трав. Сделал он это, чтобы добиться любви некой женщины. Он положил немного пряных листьев квайявага и немного душистой сулумвойя (мяты) в очищенное кокосовое масло и варил эту смесь, произнося над ней заклинание. Затем он вылил ее в сосуд из жестких листьев банана и поставил его на крышу хижины, сделанную их пальмовых листьев. А сам отправился купаться в море. Тем временем его сестра собралась к источнику, чтобы набрать воды в сосуды из кокосовых орехов. Проходя мимо того места, где было оставлено магическое масло, она задела сосуд волосами, и несколько капель масла попало на них. Она растерла это зелье пальцами и понюхала его. Вернувшись с водой, она спросила мать: «Где мужчина, где мой брат?» Это, согласно местным представлениям о морали, было отвратительно, ибо ни одна девушка не должна спрашивать о своем брате, не должна говорить о нем как о мужчине. Мать догадалась о том, что произошло. Она сказала себе: «Увы, мои дети потеряли голову!».
Ил. 7. П. Гоген. Таинственный источник. 1893. Цюрих, собрание Э. Бюрле.
Ил. 8. П. Гоген. Идол. 1898. С.-Петербург, Государственный эрмитаж.
Сестра побежала за своим братом и нашла его на берегу, где он купался. Он был без передника из листьев, который обычно прикрывает детородный орган у мужчин. Она же развязала свою юбку из растительных волокон и, обнаженная, попыталась приблизиться к нему. Придя в ужас от ее непристойного вида, мужчина бросился бежать по берегу, пока дорогу ему не преградила отвесная скала, которая с севера ограждает пляж Бокараивата. Он повернулся и побежал обратно, к скале на южном конце пляжа, крутой и неприступной. Так они трижды пробежали по пляжу в тени развесистых ветвей огромных деревьев. Наконец, уставший и изнуренный, муж чина позволил сестре догнать его, и они упали, обнявшись, в ласкающие волны. Затем преисполненные стыда и угрызений совести, но сжигаемые неугасающим огнем любви, они отправились в грот Бокараивата и оставались там без пищи, без воды и без сна. Там они и умерли, сжимая друг друга в объятиях, а сквозь их сплетенные тела проросла душистая трава — местная мята (сулумвойя).
А на на острове Ива одному мужчине приснился кирисала, магический сон об атом трагическом событии. Ему явилось видение во сне. Проснувшись, он сказал: «В гроте Бокараивата двое мертвых, а из их тел растет сулумвойя. Я должен идти». Он взял каноэ и поплыл от своего острова к острову Китава. Затем с Китавы он отправился к основному острову и высадился на берегу, где разыгралась трагедия. Там он увидел цаплю, парящую над гротом. Он вошел в грот и нашел траву сулумвойя, проросшую сквозь тела любовников. Потом он пошел в деревню. Мать признала позор, павший на ее семью. Она дала этому человеку магическое заклинание, которое тот выучил наизусть. Часть формулы он «взял» с собой на Ива, а часть «оставил» в Кумилабваге. В гроте он сорвал немного мяты и тоже увез с собой. Он вернулся на свой остров, на Иву, и сказал: «Я привез сюда верхушку магии; ее корни остались в Кумилабваге. Так они и будут там около пляжа Кадиусаваса и вод Бокараиваты. В одном источнике должны купаться мужчины, в другом — женщины». Потом этот мужчина с Ивы наложил табу на магию, строго предписав, как должен исполняться ритуал, и поставил условие, что людям Ива и Кумилабвага причитается изрядная плата, если они будут допускать других к своей магии или своим священным местам. В предании также упоминается чудо или по крайней мере чудесный знак, который должен являться тем, кто совершает магический ритуал на берегу. В мифе это подается как установление мужчины с острова Ива: если магия удалась и можно ждать желаемых результатов, должны появиться две маленькие рыбки, играющие на мелководье у берега.
Эту последнюю часть мифа я здесь изложил лишь конспективно, ибо полный пересказ содержит социологические притязания обладателей магии, утомительно многочисленные и переходящие в хвастовство; упоминание о чудесном знаке обычно навевает воспоминания из недавнего прошлого; описания ритуала доходят до чисто технических подробностей, а перечень табу выливается в череду наставлений и назиданий. Но для рассказчика как раз эта последняя часть предания, представляющая практический, прагматический и зачастую личный интерес, пожалуй, более важна, чем все остальное, и антрополог может почерпнуть из нее гораздо больше, чем из всего предшествующего драматического рассказа. В мифе излагаются социологические притязания, так как магия, о которой идет речь, — личная собственность. Она должна переходить от полновластного владельца к человеку, которому она причитается по праву. Вся сила магии заключается в соблюдении традиции. Первостепенное значение имеет прямое родство между нынешнем ее обладателем и теми, кто стоял у ее истоков. В некоторых магических заклинаниях перечисляются имена всех их прежних обладателей. Обряды и заклинания должны полностью соответствовать исходному канону. И миф служит неоспоримым первоисточником, содержит законченную модель этой серийной обрядовой практики. Кроме того он служит верительной грамотой на право наследования магии, исходным свидетельством наследственных привилегий.
В связи с этим необходимо сказать несколько слов о социологическом контексте магии и мифов. Некоторые виды магии не локализованы. Сюда относятся колдовство, любовная магия, магия красоты и магия кула[153*]. В этих видах магии филиация[154*] тоже важна, хотя речь идет не о родственной филиации. Другие виды магии связаны с определенной местностью, с местными ремеслами общины, с привилегиями и исключительными правами, принадлежащими вождю и его главной деревне. Сюда относится всякая земледельческая магия, которая должна иметь своим источником ту почву, на которой она только и может быть действенной. Сюда же относится магия охоты на акул и магия других видов рыбной ловли, имеющих местный характер. Сюда также относятся некоторые формы магии построения каноэ, магия красных раковин, используемых для украшений, и, больше всего, вайгиги, верховная магия дождя и солнца, являющаяся исключительной привилегией верховных вождей Омараканы.
В такого рода локализованной магии эзотерическая сила слов так же тесно связана с определенным местом, как и люди, населяющие соответствующую деревню и пользующиеся этой магией. Таким образом, магия не только локализована, но и является исключительной наследственной собственностью группы лиц, связанных матрилинейным родством. В таких случаях миф о магии должен рассматриваться — наравне с мифом о происхождении местной общины — как мощная социологическая сила, объединяющая группу, придающая ей чувство общности и солидарности и утверждающая единые культурные ценности.
Еще один элемент концовки изложенного выше рассказа, представленный также в большинстве других мифов о магии, — перечисление знамений и чудес. Можно сказать, что подобно тому, как локальный миф обосновывает права группы посредством прецедента, миф о магии подтверждает их посредством чуда. Магия основывается на вере в особую силу, изначально принадлежавшую человеку и наследуемую по традиции[155]. Действенность этой силы подтверждается мифом, но она должна подтверждаться и тем единственным аргументом, который человек принимает в качестве окончательного доказательства, а именно практическими результатами. «По плодам их узнаете их»[156*]. Человек примитивной культуры ничуть не менее страстно, чем современный человек науки, стремится подтвердить свои убеждения эмпирическим фактом. Эмпиризм веры, — как у дикаря, так и у цивилизованного человека, — сводится к поискам чудес. Живая вера всегда будет порождать идею чуда. Нет ни одной цивилизованной религии без своих святых и демонов, без своих прозрении и знамений, без духа Господня, нисходящего на верующих. Нет ни одного новомодного религиозного течения, ни одной новой религии, будьте спиритизм, теософия или Христианская Наука[157*], которые не пытались бы доказать свою правомерность неопровержимыми фактами сверхъестественных манифестаций. У дикаря также есть свое чудотворство, и на Тробрианах, где всем сверхъестественным заправляет магия, это чудотворство магии. Каждому виду магии сопутствуют непрерывные потоки чудес, которые то сливаются в целую реку неоспоримых сверхъестественных доказательств, то растекаются тоненькими ручейками мелких знамении, но никогда не иссякают.
Так, любовной магии сопутствует свой поток, который, начинается с перечисления ее текущих ординарных успехов, затем вбирает в себя замечательные рассказы о совершенно безобразных мужчинах, возбуждавших страсть у знаменитых красавиц, и доходит до кульминации, иллюстрируя чудотворную мощь магических чар каким-нибудь недавним печально известным примером инцеста. Это преступление обычно связывается с роковой случайностью, подобной той, что соединила мифических любовников, брата и сестру из Кумилабваги. Таким образом, миф закладывает фундамент всех сегодняшних чудес; он остается их моделью и каноном. Я мог бы привести и другие рассказы, в которых раскрывается аналогичная связь между первоначальным мифическим чудом и его повторением в сегодняшних чудесах живой веры. Читатели моей книги «Аргонавты Тихоокеанского Запада» должны помнить, как мифология церемониального обмена накладывает свой отпечаток на современные обычаи и практики. В магии дождя и солнца, в земледельческой и рыболовной магии выражена мощная тенденция рассматривать экстраординарные чудесные свидетельства магических чар как повторение первоначальных мифических чудес.
И последнее. В большинстве мифов, ближе к концу, излагаются ритуальные предписания, табу и нормы поведения. Если миф о том или ином виде магии рассказывается ее «владельцем», то этот последний, естественно, будет утверждать, что его собственные функции обусловлены всем рассказанным. Он верит в свое тождество с первоначальным обладателем магии. В мифе о любви, как мы видели, место, где произошла исходная трагедия, — эти грот, пляж и источники — становится святыней, наделенной магической силой. Для местных жителей, которые больше не обладают монополией на эту магию, огромное значение имеют определенные их прерогативы, по-прежнему связанные с данным местом. Внимание этих людей, естественно, больше всего занято той частью ритуала, которая остается принадлежностью этого места. События мифа, связанного с магией дождя и благоприятной погоды, которая является одним из краеугольных камней власти вождя Омараканы, ассоциируются с несколькими примечательными местами окрестного ландшафта. Эти же места служат средоточием соответствующих ритуалов и в настоящее время.
Считается, что всякая сексуальная привлекательность, всякая соблазнительность имеет своим источником любовную магию.
Магические обряды, требующиеся для успешной охоты на акул и удачной ловли калала также связаны с особыми местами. Но и в тех преданиях, которые не приурочивают магию к местности, длинные инструкции по проведению ритуала либо вплетаются в изложение сюжета, либо вкладываются в уста одного из действующих лиц. Предписания, включенные в миф, по существу демонстрируют его прагматическую функцию, его тесную связь с ритуалом, с верой, с живой культурой. Авторы психоаналитических работ часто характеризуют миф как «вековечную мечту расы». Но это определение не годится даже в грубом приближении, ввиду только что установленного нами практического и прагматического характера мифа. Здесь я лишь между прочим касаюсь этой проблемы, ибо более полно она обсуждается в другом месте[158]. В этой работе я прослеживаю проявления матрилинейного комплекса только в рамках одной культуры, которую я изучал непосредственно в процессе тщательной полевой работы. Но полученные результаты могут иметь более широкое приложение. Ибо мифы о кровосмешении между братом и сестрой часто встречаются у матрилинейных народов, особенно у жителей тихоокеанского региона, а ненависть и соперничество между старшим братом и младшим или между племянником и дядей по матери — распространенный мотив мирового фольклора.
Миф как драматическое развитие догмы[159*]
В пригороде Инсбрука, на одной из боковых улиц можно набрести на недостроенную церковь; она стоит позади небольшой виллы. Порой можно также встретить людей, несущих или кирпич, или что-нибудь еще из строительных материалов; если, проявив задатки этнографа-любителя, вы остановитесь и расспросите их, то узнаете, что это не каменщики и не строители, а паломники — крестьяне и городские жители, зачастую из отдаленных мест, несущие с собой и материалы, и веру, и рвение, без которых невозможно возведение новой церкви. Эта церковь посвящена Св. Терезе и заложена на месте, сравнительно недавно обретшем славу чудотворного. Первым чудом было сенсационное и знаменательное событие; предание о нем, хотя и недавнее, уже отлилось в форму малого мифа. Женщина родила близнецов, верующие говорят, что они явились на свет уже мертвыми. Мать, набожная женщина, вознесла молитвы Св. Терезе и поклялась, что если дети вернутся к жизни, она будет до конца своих дней поклоняться святой в маленькой купальне на заднем дворе своего дома. Святая вняла ее клятвам и молитвам, близнецы ожили, росли и преуспевали; за большим чудом последовали малые чудеса. Церковь, которая чаще всего игнорирует, а временами даже встречает в штыки всякие спонтанные чудеса, это чудо признала[160]. Купальню преобразовали в маленькую часовню; ее чудодейственные свойства приобрели широкую известность, во время служб она переполнялась людьми, и в конце концов был организован сбор средств на строительство большой церкви.
Это совсем недавний, достоверно засвидетельствованный и типичный процесс, в результате которого у верующих появляются одновременно новый малый культ — ответвление старого, — новый позитивный символ веры и новая традиция. Это близкая параллель Лурду, Лоретто, Сантьяго де Компостела и бесчисленным храмам, алтарям и местам чудотворной силы, где мы, приверженцы Римской Католической Церкви, поклоняемся Богу в лице его святых: мы верим, что именно в том самом месте, где находится статуя, икона или реликвия, на нас снизойдет чудесная благодать.
Католичество не одиноко. Человек, прибывший в Солт Лейк Сити, естественно, осмотрит Табернэкл[161*] и ряд домов, в которых жили Бригхэм Янг[162*] и его жены; он будет восхищаться удивительной энергией, социальной организацией и моральной силой, превратившими пустыню в процветающий край. Он поймет, как сильная религия может создать здоровую общину и привести к великим свершениям. Внимательно же изучив истоки этой веры, вы рано или поздно обнаружите чрезвычайно интересный миф, который рассказывает о том, как Бог открыл Джозефу Смиту[163*] основы новой веры и нового социального порядка. И опять перед нами новый миф, новый ритуал и новая мораль, вырастающие, так сказать, одновременно и в тесной взаимосвязи из одного события. Возьмем ли мы Христианскую Науку[164*], рожденную сенсациями чудесного исцеления и откровения, или же Общество Друзей[165*] с его почти полным отрицанием чудес, но со своим священным преданием об Основателе как о личности в высшей степени нравственной, — и всюду мы найдем, что действенность религии и ее достоверность имеет в своей основе священное предание и что религиозное чудо, будь оно чисто нравственным подвигом или феноменом сугубо магическим, должно опираться на прецедент, для того чтобы в него верили.
Все это может показаться общим местом, вряд ли достойным специального обсуждения. В сущности все это, казалось бы, столь очевидно, что едва ли может претендовать на статус научного вклада в сравнительное изучение человеческой религии. И тем не менее эта простая истина: миф следует изучать скорее в его социальных, ритуальных и этических аспектах, нежели как художественную или псевдонаучную сказку, — почти полностью игнорируется исследователями, что я и попытаюсь продемонстрировать на нижеследующих страницах.
Но прежде позвольте мне отметить, что этнограф, работающий среди людей примитивного общества, повсюду обнаружит аналогичные обстоятельства. У палеолитических[166*] обитателей Центральной Австралии все сложные ритуалы магии и религии тесно связаны с совокупностью священных преданий, которые без особой натяжки можно назвать тотемическими евангелиями этого народа. Как мы на основе нашей доктрины первородного греха проводим обряд крещения и верим в эту догму, исходя из того, что сказано в Книге Бытия, так и они инициируют своих юношей, чтобы сделать из них полноценных мужей своего племени. Их верования также родились из их примитивных евангелий, в которых рассказывается, как некое не сформировавшееся и необрезанное существо по воле благотворящего тотемического духа превратилось в человека, полноценного телесно и духовно. У индейцев пуэбло их богатая мифология диктует веру в то, что плодородия можно добиться через драматическое представление свершений предков — ритуальное обращение к тем силам природы, что когда-то открылись в персонифицированной форме в великих и чудесных событиях прошлого. В некоторых частях Меланезии магия творит чудеса сегодня, потому что воспроизводятся все те заклинания и обряды, которые вершили великие чудеса Золотого века.
Что же представляет собой феномен мифа? Если коротко, то, во-первых, это основные догматы религиозной веры, представленные в конкретных рассказах, и, во-вторых, это рассказы, которые никогда не воспринимаются просто как описания произошедшего в прошлом. Всякий ритуал, всякое художественное воспроизведение того или иного религиозного сюжета в контексте поклонения реликвиям и святилищам, короче говоря, — любым зримым воплощениям прошлых сенсационных проявлений высшей благодати — возрождает к жизни определенный мифологический сюжет или эпизод События мифологического прошлого играют определяющую роль, также как нормы поведения и принципы социальной организации.
Даже поверхностный взгляд на любую религию покажет, что миф в некотором смысле есть раскрытие догмы. Вера в бессмертие, догмат непрерывности существования личности дали начало бесчисленным легендам о том, как и когда человек был сотворен для вечной жизни на земле; о том, как люди, то ли в результате ошибки сверхъестественного посланника, то ли вследствие собственного прегрешения, то ли в силу простого недоразумения, потеряли бессмертие[167]. Вера в Провидение и в великого Создателя вселенной воплощена в бесчисленных мифологических космогониях. На тихоокеанских материковых побережьях и на тихоокеанских островах нам рассказывают, как мир был выловлен из моря или вылеплен из ила; на континентах мы находим легенды о том, как из хаоса последовательно были сотворены различные части вселенной или как божественный Создатель швырнул землю вниз из космоса, из тьмы. Широкому диапазону верований, обычно относимых к разряду «поклонения природе», также соответствует обширный комплекс мифов о тотемических предках: о появлении и чудесном, хотя и не всегда, с нашей точки зрения, нравственном поведении богов природы, о первых встречах человека с его духом-хранителем.
Мудрость, так же как и благотворительность, должна начинаться с того, что хорошо знакомо. Изложенный здесь принцип каждый может наилучшим образом оценить в соотнесении с его собственными религиозными убеждениями. Я полагаю, что если бы мы взяли любую из существующих догм нашей собственной религии, то увидели бы, что все они основаны на священном предании. Католик может углубляться в учение Церкви, протестант прямо обращаться к Библии, но в конечном итоге основу любой веры всегда составляет священное предание, устное или письменное; священное предание, которое, конечно же, не исключает теологических интерпретаций и дополнений.
Я уже упоминал о догмате первородного греха; догматом искупления пронизан весь Новый Завет и он достигает кульминации в жертвоприношении на Голгофе; догмат реального или символического присутствия следует интерпретировать, ссылаясь на описания Тайной Вечери. Вера в Троицу, три ипостаси в их реальной взаимосвязи — догмат, по поводу которого велось множество теологических споров и было пролито немало человеческой крови, — основана на нескольких событиях, изложенных в Библии. Будучи верующим, убежденным христианином, я также имел свои собственные наивные представления. Я всегда думал, что в момент Сотворения Бог-Отец выступал в своем собственном лице, что позднее на сцене каким-то образом появился Бог-Сын, вначале предвещаемый в Ветхом Завете, а затем — как полноценная личность в Евангелии. Святой Дух, всегда несколько туманная для меня бестелесная часть божественности, представлялся мне где-то парящим, но, несомненно, присутствующим, даже когда «тьма была над бездною». По сути, я каким-то образом чувствовал, что когда «дух носился над водой», то он вполне мог сделать это в самом подходящем для этого «крылатом облике» — в облике голубя. Наверное, под впечатлением живописи я представлял себе ковчег Бога-Отца, плывущий по темным волнам изначального океана. Я пишу обо всем этом потому, что по собственному опыту знаю, что никакая абстрактная идея не может быть достаточной основой для живой веры. Вера, в ее живой форме, обращается к реальным фигурам священной истории как к слову и делу, на коих зиждется спасение. Возьмем любую из существующих догм. Если мы, будучи католиками или протестантами, иудеями или неиудеями, буддистами или последователями г-жи Эдди[168*], спиритами или мормонами, проследим наши догмы до их живых корней, то обнаружим, что они ведут к неким священным событиям или по меньшей мере к некой общей картине, подразумеваемой легендой о сотворении, грехопадении, страданиях избранного народа или же о ярких видениях пророков.
Не так легко, наверное, сделать обратное, взять событие, пусть даже важное событие, из наших священных писаний и показать, как оно выкристаллизовалось в конкретную доктрину веры, в моральную заповедь или в догму социального поведения. Но результаты такого исследования были бы удивительными. Потоп, например, с первого взгляда кажется не чем иным, как драматической историей. В действительности — здесь я снова говорю, основываясь главным образом на собственном опыте знакомства с живой верой, — Потоп является мифологическим доказательством, подтверждающим всепроницательность недремлющего ока Господня. Когда человечество совершенно сбилось с пути, Бог наказал мужчин и женщин, вознаградив лишь одного, кто составлял исключение. Потоп был чудом, и чудом с моральным подтекстом; он выступает свидетельством одобрения Богом нравственного поведения и его высшей справедливости.
Пожалуй, легче рассматривать христианство в антропологическом аспекте, чем подходить к дикарю и примитивным религиям с точки зрения истинно христианского мировоззрения. Нехристианское высокомерие, проявляемое многими из нас по отношению к примитивным верованиям, наше убеждение, что все это лишь пустые суеверия и грубые формы идолопоклонничества, глубоко повлияли на изучение примитивных религий европейцами. Священные сказания дикарей часто просто принимались за вымысел. Осознав, что они являют собой соответствия нашим священным писаниям, собиратели и исследователи могли бы, возможно, более полно понять и ритуальный, и этический, и социальный смысл примитивной мифологии. Этнографические свидетельства изрядно искажены ошибочными теоретическими подходами. Изучая некоторые исторические религии Древнего Востока — Египта, Ведической Индии, Месопотамии — мы полностью располагаем священными писаниями, в гораздо меньшей мере — информацией об их ритуале и почти не имеем данных о том, как эти религии воплощались в нормах морали, социальных институтах и общественной жизни.
Я говорю все это для того, чтобы привлечь внимание вдумчивого читателя к тому обстоятельству, что лучше всего приступать к постижению религии в целом, начав с объективного анализа наших собственных верований. А затем самое правильное — обратиться к подлинно научному изучению экзотических религий в том виде, в каком они практикуются сегодня в нехристианских общинах. Изучение же мертвых религий, о которых мы имеем только разрозненные данные, отрывочные документы и фрагментарные памятники, — не самый лучший путь из тех, что ведут к всестороннему пониманию религии.
Таким образом, развиваемая здесь точка зрения имеет своей главной философской основой принцип, согласно которому самое важное в любой религии — это то, как она живет. «Вера, отделенная от свершений, бесплодна». Так как миф является необходимой предпосылкой веры, более того, ее основанием, то мы должны изучать миф в его влиянии на жизнь людей. На языке антропологии это означает, что миф или священная история определяются своей функцией. Это та история, которая излагается для того, чтобы утвердить веру, чтобы засвидетельствовать прецеденты обряда и ритуала или увековечить образцы морального или религиозного поведения. Итак, мифология, или священное предание общества, сводится к совокупности нарративов, вплетенных в культуру, обуславливающих веру, определяющих ритуал, служащих матрицей социального порядка и сводом примеров нравственного поведения. Всякий миф, естественно, имеет и литературный аспект, так как он всегда является рассказом, но этот рассказ не просто образчик занимательного вымысла или пояснительного изложения для верующих. Это подлинное описание удивительного события, определившего строение мироздания, сущность нравственного поступка и способ ритуального общения между человеком и его создателем или другими высшими силами.
Здесь нам следует прервать наши рассуждения, чтобы привлечь внимание читателя, особенно если он неспециалист, к тому, что речь идет отнюдь не об усложнении очевидного. Мы утверждаем, что миф — это неотъемлемая часть структуры всякой религии, а если более конкретно, то он представляет собой матрицу и ритуала, и веры, и морального поведения, и социальной организации. Это означает, что миф — не часть примитивной науки, не первобытная философская аллегория полупоэтического восторженного характера и не искаженное странным образом историческое свидетельство. Поэтому основная функция мифа заключается не в том, чтобы объяснять сущее, не в том, чтобы сообщать о прошлых исторических событиях и не в том, чтобы выражать в той или иной форме общие человеческие фантазии или чаяния. Этот взгляд не нов и не революционен. Я сформулировал его в ранний период свой работы — гораздо яснее, как мне тогда казалось, и слишком категорично, как говорили некоторые мои коллеги, — но в целом он по существу отражает современные гуманистические тенденции. Идея значимости социального аспекта религии, которую впервые выдвинул Робертсон-Смит, а позднее развивали Дюркгейм, Хьюберт Морс и Рэдклифф-Браун, подводит нас к вопросу о социальном аспекте мифологии. Внимание к поступку и поведению в современных социальных науках, в свою очередь, подводит нас к вопросу о влиянии мифологии на ритуал и моральное поведение человека. Психоаналитическое соотнесение мифа со сновидениями и грезами, с фантазиями и идеалами, каким бы нелепым оно ни казалось далекому от психоанализа и непосвященному среднему обывателю, действительно выявляет динамичный аспект мифа, его связь со структурой человеческой семьи в ее прагматическом аспекте. Но прежде всего нам необходим так называемый функциональный подход, который применительно к мифу в контексте культурных явлений ведет нас непосредственно к изучению мифа через его культурную функцию. Согласно этому подходу, идеи, ритуальные формы деятельности, законы морали ни в одной культуре не существуют обособленно — в изолированных сферах бытия; человек действует, потому что верит, и верит, потому что ему чудесным образом была явлена истина. Священная традиция, моральные нормы и ритуальное обращение к Провидению существуют не каждое само по себе, а в тесном взаимодействии, что представляется почти самоочевидным. Но убедиться в том, что далеко не для всех это так самоочевидно, можно хотя бы из обзора некоторых уже устоявшихся и недавно выдвинутых теорий мифа.
Речь пойдет о взглядах, которые в то или иное время преобладали в научном и донаучном понимании мифа. Давние и современные эвгемеристы утверждают, что миф всегда сосредоточен вокруг ядра или сердцевины исторической истины, искаженной ложным символизмом и литературными преувеличениями. Эвгемеризм все еще дает о себе знать во всех тех исследованиях, которые используют примитивные предания для установления исторического факта. В этой точке зрения есть своя доля истины; несомненно, легенды Полинезии действительно содержат историческое ядро. Реинтерпретации восточной мифологии (Эллиот Смит, Перри и Э.М. Хокарт) внесли свой вклад в наши знания о некоторых стадиях развития культуры. Но столь же несомненно, что поиск исторического ядра в племенном предании затрагивает только один аспект проблемы и, пожалуй, не самый существенный. Такой подход не может раскрыть фактическую социальную функцию мифологии. Основная цель священного предания заключается не в том, чтобы служить хроникой событий прошлого; она состоит в том, чтобы установить полезный прецедент в славном прошлом для подражания ему в настоящем. Исторические трактовки мифа, какими бы плодотворными они ни были во многих случаях, должны быть дополнены социологической теорией мифа по крайней мере по двум причинам. Во-первых, если выдвигаемая мною точка зрения верна, то исключительно важно, чтобы полевой работник не просто изучил текст священного сказания или легенды, но прежде всего — их прагматический смысл, сказывающийся во влиянии на социальную организацию, религиозные обычаи и моральные устои существующего общества. И во-вторых, невозможно добиться теоретического объяснения чудесных, непристойных или экстравагантных элементов мифа, трактуя их как искажения исторических фактов. Их, как и многие другие мотивы исторического нарратива, можно понять только в связи с ритуальным, этическим и социальным воплощением самого рассказа в современном поведении.
Теория, согласно которой сущность мифа заключается в аллегорическом представлении природных явлений, связана прежде всего с именем Макса Мюллера. Здесь было бы неправильно отрицать ценность его вклада в целом. Ибо нет сомнения, что интерес человека к определенным природным явлениям и процессам, прежде всего к росту растений и воспроизводству животных, отражается в религиозных обрядах, а они, как мы знаем, связаны с мифологией. Но натуралистический символизм, особенно в том виде, в каком он по сей день выступает в определенных школах научной мысли в Германии, упрощает проблему, исключая важные промежуточные звенья — культ, ритуал и верования. Вместо этого он привносит две ложные концепции. Согласно одной из них, реальная сущность мифов якобы совершенно неправильно понимается теми, кто пересказывает их и верит в них сегодня. Другими словами, по мнению приверженцев этой школы, скрытый, или эзотерический, смысл сражений, испытаний, преступлений, триумфов и героических свершений — которые якобы являются аллегорическими описаниями движения солнца, фаз луны, роста и увядания растительности — соответствует некоей давней, первобытной, или мифопоэтической, стадии развития человечества. Как сказали бы наши ученые коллеги, этот скрытый смысл можно постичь лишь с помощью очень мощной интуиции, которая позволяет схватывать внутреннее содержание аллегорий. Автору настоящей работы, исходящему из собственного опыта полевых исследований и из внимательно прочитанной литературы, совершенно ясно, что предположение о полном отличии ментальности людей, создавших мифы, от ментальности тех, кто применяет их на практике, является совершенно неубедительным. События, излагаемые в мифе, так тесно связаны с тем, что делают люди сегодня, при всех преувеличениях и странностях изложения, что ни одно эзотерическое объяснение не пригодно для разъяснения сущности мифа. Другой порок подобных интерпретаций в том, что не только все содержание мифов представляется символическим, но и весь символизм связывается лишь с одним природным явлением. Так, согласно некоторым авторам, все мифы можно свести исключительно к движению солнца; согласно другим — к фазам луны; третьи же видят в них только аллегорию процессов роста и развития растений или животных. Но если предлагаемая в нашем обсуждении точка зрения верна и соотносима с верой, ритуалом и моралью, тогда следует признать, что даже эти указания на природные процессы или астрономические события, которые мы действительно находим в мифах, должны отличаться от племени к племени и от района к району. Там, где климат и почва позволяют людям развивать земледелие, магия и религия народа будет сосредоточена вокруг жизни растений, а миф будет содержать упоминания о росте и увядании растений, влияниях солнца, ветра и дождя. И хантеровская[169*] луна, конечно, будет здесь очень важна, потому что она управляет жизнью племени, формируя его календарь. Поэтому, отнюдь не преуменьшая значения поклонения природе, ее обожествления в религии и ее отражения в мифологии, я настаиваю на том, что и то, и другое следует изучать посредством подхода, охватывающего и религиозную догму, и этику, и ритуал.
Выступая против аллегорических интерпретаций Макса Мюллера, Эндрю Лэнг выдвинул этиологическую теорию примитивного мифа. В определенном смысле это было шагом вперед, так как его теория приписывала мифу более прагматическую роль в примитивной культуре. Однако она существенно проигрывала от того, как автор формулировал ее. Позвольте мне процитировать его собственные слова: «Дикари подобны нам своим любопытством и нетерпением, „causas cognoscere rerum“[170*], но, обладая нашим любопытством, они ограничены отсутствием внимания, присущего нам. Они столь же легко удовлетворяются, сколь нетерпеливы в поисках объяснения». «Уровень развития дикаря», который цивилизованному наблюдателю напоминает «временное умопомрачение» (Мюллер), характеризуется тем, что дикарь ищет объяснения возникающего перед ним явления, «и это объяснение он составляет для себя сам или получает из предания в форме мифа… Мифология дикаря, которая является также и его наукой, имеет ответы на все вопросы» (о происхождении мира, человека и животных)[171]. Но на самом-то деле ни мы, ни дикари не обладаем природным любопытством, нам совсем неинтересно знать причины явлений. В мире цивилизованного человека такое любопытство — удел исключительно специалистов с научным складом ума и соответствующей подготовкой, что является следствием развитого разделения труда. В то же время, дикари, подобно нам самим, нуждаются в здравых, эмпирических и практических знаниях, необходимых им во всяком техническом процессе, в хозяйственной деятельности и крупномасштабных коллективных действиях — при ведении войны, мореплаваниях или переселениях. Приравнивание мифологии дикаря к примитивной науке является одной из величайших ошибок, когда-либо имевших место в теоретической трактовке человеческой культуры. Именно это дало начало последующим теориям о совершенно ином складе ума примитивного человека, о дологической ментальности дикарей и их неспособности к научному или эмпирическому мышлению. Сам факт, что мы имеем свою собственную мифологию, настолько же развитую, как и примитивная, и выполняющую аналогичную функцию, должен был бы подсказать тем теоретикам мифа, которые представляют его продуктом совершенно иного первобытного разума, что их теории, мягко говоря, неудовлетворительны. Однако подобные взгляды до сих пор оказывают влияние на современную научную мысль[172].
Несколько эклектичное и туманное изложение этой темы проф. Рут Бенедикт в «Энциклопедии социальных наук» под рубриками «Миф» и «Фольклор» представляет собой шаг вперед по сравнению с предшествующими теориями мифа. В последней из названных статей мы находим следующее резюме: «Современное изучение фольклора освобождается от предвзятых мнений и далеко идущих аллегорий и исходит из понимания значения фольклора как социального явления и как средства выражения настроений социальной группы и ее культурной жизни. Если принять фольклор за такой же характерный атрибут культуры, как технология, социальная организация или религия, нет нужды особо говорить о его коллективном авторстве, ибо мифы обязаны своим существованием коллективному творцу не в большей и не в меньшей мере, чем обряды бракосочетания или плодородия. Все культурные феномены, включая народные сказания, в конечном итоге представляют собой индивидуальные творения, определяемые культурными условиями» (с.291, 1931). И снова, в статье «Миф»: «У некоторых народов миф является краеугольным камнем всего религиозного комплекса, а религиозные обряды невозможно понять иначе, как через мифологию» (с. 180). Но вместе с тем Рут Бенедикт считает, что: «Истоки религии не следует искать в мифологических представлениях, так же, как и начала мифа — в религии. И то и другое постоянно взаимно обогащают друг друга, и результирующий комплекс является производным первичных свойств и того и другого». Принимаемая здесь точка зрения, что фольклор выражает социальные устои или что мифология и религия взаимно обогащают друг друга, не доходит до четкого признания специфической социальной функции мифа как задающей структуру ритуала, морали и социальной организации. По существу. проф. Бенедикт в своей статье о мифе открыто критикует мою точку зрения. Она отрицает универсальность функционального характера мифа как устава социальной организации, религиозных веровании и ритуальной практики.
Таким образом, мы можем заключить, что выдвигаемая здесь точка зрения постепенно получает признание, но пока еще не стала общепринятой или четко осознанной. Однако она ни в коей мере не является оригинальной теорией автора настоящей работы. В этом вопросе, как и во многих других, первыми вспышками прозрения мы обязаны великому шотландскому ученому Робертсону-Смиту. Робертсон-Смит, наверное, был первым, кто ясно осознавал социальный аспект человеческих религий, а также подчеркивал, иногда даже чрезмерно, значительно большую роль ритуала, чем догмы («Religion of the Semites», 3rd. ed., 1927). Согласно его убеждению, религия представляет собой скорее набор фиксированных практик, нежели систему догм. Есть, пожалуй, некоторое преувеличение и в его словах о том, что «античные религии в значительной своей части не имели веры: они целиком состояли из институтов и обрядов» (c.16) — так как в другом месте он, более справедливо, отмечает, что «мифология занимает место догмы… Короче говоря, обряд был связан не с догмой, а с мифом» (с. 17). Если мы правы, утверждая, что не в том дело, что всякий миф содержит догму, а в том, что большинство догм основано на мифах, то нам следует признать, что Робертсон-Смит полностью предвосхитил отстаиваемую здесь точку зрения: «если тот образ мысли, который представлен в мифе, не получил отражения в ритуале как таковом, значит, он не обрел подлинно религиозной санкции; миф отдельно от ритуала — лишь сомнительное и ненадежное свидетельство». Здесь Робертсон-Смит ясно признает, что любой нарратив должен оцениваться по той функции, которую он выполняет в организованном религиозном поведении. Я бы сказал, что миф, не воплощенный в ритуале, — уже не миф, а просто «бабушкины» или «дедушкины сказки». Другими словами, любое определение или характеристика фольклора, которые игнорируют его влияние на ритуал, а также на социальную организацию, обречены оставаться бесплодными. Это подразумевается и в утверждении Робертсона-Смита о том, что «религия была набором фиксированных практик… и практика предшествовала теоретическим доктринам» (с. 19). В настоящее время нас не так сильно волнует, что первично, а что вторично; мы скорее считаем принципиальным видеть в теоретических доктринах и традиционных практиках две стороны одной медали; они развиваются вместе и невозможно изучать одно без другого.
Взгляды Робертсона-Смита повлияли на многих последующих авторов. Д-р Э.А. Гарднер, в статье о мифе («Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics»), пишет, что «мифология посредством иллюстрации и объяснения природы и характера богов или других высших сил помогает человеку установить отношения с ними на правильной основе». Это может показаться компромиссом между взглядами Эндрю Лэнга и Робертсона-Смита, но если под объяснением подразумевается принцип и схема надлежащего проведения ритуальных обрядов, то сущность мифа изложена верно. Два тома монументальной работы Фрэзера о мифах и культах Адониса, Аттиса и Осириса, наряду с отголосками принципов Робертсона-Смита, отмечены огромной проницательностью самого автора «Золотой ветви» и содержат документальные подтверждения развиваемой здесь точки зрения.
Но особенно чувствуется неудовлетворительность современного состояния антропологии и особенно необходимо делать упор на культурную функцию мифа при проведении практических полевых работ. Крупнейшие ученые, такие, как Спенсер и Гиллен, Фьюкс, Кашинг, А.Р. Браун и Элсдон Бест, также как и полевые исследователи младшего поколения функционалистов — д-р Раймонд Ферс, д-р И.А. Ричардс, д-р Х.Х. Паудермейкер, обеспечили нас доброкачественным материалом. Но в большинстве их книг, даже самых превосходных, трудно отыскать взаимосвязь между фольклором и религией, которая позволила бы нам проверить и документально подтвердить ведущие принципы Робертсона-Смита и его последователей.
Окончательный критерий любой теории в какой-либо области знаний, претендующей на научность, заключается в ее эмпирической ценности. Открывает ли выдвинутая здесь точка зрения новые пути эмпирического исследования; помогает ли она обнаруживать новые факты и новые взаимосвязи между фактами? Наверное, наилучшим доказательством значения настоящей теории мифа является то, каким образом я сам пришел к этой точке зрения в своей полевой работе. Отправляясь на Новую Гвинею, я был уже знаком с господствующим этиологическим объяснением мифа. Эта теория, как мы видели, построена на ошибочных предпосылках, согласно которым мы должны собирать сказания и рассматривать их как изолированные документы примитивной науки. И только в условиях полевых изысканий мне пришлось усвоить урок функционального соотнесения мифа и ритуала.
Ил. 9. П. Гоген. В былые времена. 1893. Нью-Йорк, частное собрание.
Список иллюстраций
| Стр | |
|---|---|
| Фронтиспис | Бронислав Малиновский |
| 127 | Бронислав Малиновский с тробрианскими женщинами, 1917 г. (Права: Лондонская школа экономики и Хелена В. Малиновская) |
| 128 | Деревянные шпатели для извести (центральный — из панциря черепахи), украшенные фигурками птиц и крокодилов (Новая Гвинея). Британский музей. |
| 145 | Резная деревянная фигурка, украшавшая нос пироги, инкрустирована перламутром. Музей Дуэ, Соломоновы острова. |
| 146 | Фигурка Ули из раскрашенного дерева (Новая Ирландия). Ранее принадлежала к коллекции У. Бонди; в настоящее время находится в коллекции барона фон дер Хайдта. |
| 240 | «Корвар», изображение предка (бухта Гилвинк, Новая Гвинея). |
| 241 | П. Гоген. Варварские сказания. 1902. Эссен, музей Фольванг. |
| 269 | П. Гоген. Таинственный источник. 1893. Цюрих, собрание Э. Бюрле. |
| 270 | П. Гоген. Идол. 1898. С.-Петербург, Государственный эрмитаж. |
| 282 | П. Гоген. В былые времена. 1893. Нью-Йорк, частное собрание. |