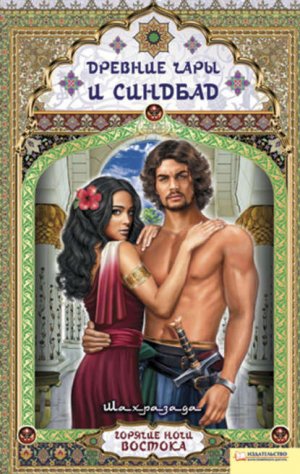
Амаль сосредоточенно переворачивала страницы толстого колдовского учебника. Сегодня, о чудо, у нее получалось все. Легко, почти без усилий, ей удалось удержать на ладони язычок огня, который она извлекла из мизинца другой руки. Шелковые одеяния, разбросанные по всей комнате, сами аккуратно сложились в стопку и улеглись в сундук. Ветки жасмина в высокой вазе вновь зацвели.
– Здесь же все так понятно написано! – с некоторым недоумением пробормотала Амаль. – Но почему же раньше я не понимала ни слова? Что мне мешало?
– Ты сама мешала себе, моя девочка, – проговорила Маймуна, отделяясь от стены, вернее, выходя из нее. О, теперь почтенная джинния не летала, словно ветер, не превращалась в невидимое облако. Сейчас ей это казалось детскими глупыми забавами. Ведь она ничего не лишилась, а обрела дом, любимого, красавицу дочь. И потому от всей магии, доступной детям колдовского мира, она оставила себе лишь малость. Хотя, пожалуй, этой малости любому магу-человеку хватило бы на сотню жизней. Но для дочери Димирьята, царя джиннов, это были просто безделушки.
– Я сама, матушка?
– Конечно! Думаю, ты вбила в свою неразумную голову, что влюблена в какого-то юношу. И все свои силы тратила на то, чтобы добиться от него взаимности…
– Да, матушка, ты, как всегда, удивительно права. Я и вправду вбила этакую глупость себе в голову. Я действительно все силы тратила на ерунду: вспоминала каждое слово единственной встречи, пыталась увидеть потаенный смысл этих пустых слов. И, мамочка, я была столь безумна, что за простыми вежливыми словами увидела неземную любовь…
Маймуна улыбалась. О, как отрадно слышать эти слова дочери. Хотя она совершенно не понимала, что же столь решительно изменило взгляды малышки Амали за последние несколько дней. Должно быть, это непонимание чуткая девушка разглядела в глазах матери.
– Ах, мамочка, ты же ничего не знаешь…
– О чем ты, малышка?
Маймуне очень хотелось сказать дочери, что она все знает, все понимает и очень ей сочувствует. Но джинния подумала, что будет куда лучше, если Амаль поведает ей эту историю сама. В противном случае пришлось бы раскрыть девочке глаза на ее колдовскую природу… Пришлось бы объяснять, почему сын рода человеческого вовсе не пара для нее, Амали, дочери мастера Дахнаша.
Девушка на миг замолчала, прикидывая, с чего лучше начать свой рассказ.
– Несколько дней назад я познакомилась с Нур-ад-Дином, женихом Мариам, моей доброй подружки. Удивительно – ведь я знаю ее всю жизнь, но до сих пор не видела ее суженого.
Маймуна кивала. Да, она тоже этому удивлялась, даже подозревала Мариам в каком-то удивительном, неизвестном ей, джиннии, колдовстве. Амаль же продолжила:
– И показался мне жених Мариам столь прекрасным, что я придумала целую любовную историю. Придумала, мамочка, к стыду своему, и то, что я влюбилась в жениха подруги, и то, что он влюбился в меня. О, я стократно вспоминала те несколько вежливых слов, которыми обменялась с красавчиком Нур-ад-Дином. И каждый раз находила в этих словах все более глубокий и лестный для себя смысл, все более прекрасные чувства.
– Ох, малышка, это случается со всеми юными девушками…
– Какой ужас, мамочка! И неужели все девушки потом вешаются на шею этим юношам?
– Вешаются на шею?
– О да, мамочка, представь, как далеко зашла моя глупость. Я прислушивалась ко всем шагам на нашей улице, пытаясь услышать его шаги… Я, словно тигрица, затаилась у калитки, чтобы, будто случайно, встретить его и убедить, что лишь я, дурочка, могу составить его счастье.
– Малышка моя…
– О да, сейчас мне стыдно даже рассказывать тебе об этом…
– Продолжай, маленькая. Клянусь, больше этого не узнает ни одна живая душа.
«Не узнает этого и ни одна душа неживая. Уж я-то сделаю так, чтобы ни Дахнаш, ни даже сам Иблис Проклятый не проник сегодня за наши стены!»
– О, я даже боюсь вспомнить, какие глупые слова я говорила. Мне стыдно перед самой собой, мамочка. Счастье, что Нур-ад-Дин оказался куда более решителен. Его жестокую отповедь я сначала восприняла как удар, удар в самое сердце. Но пришла домой и…
И поняла, что сама наворожила себе все, от первого до последнего слова и взгляда.
Маймуна укоризненно покачала головой.
– Девочка, я же много раз тебе говорила, что в нашем роду были колдуны и ведьмы! Ты могла причинить юноше большие беды! И навлечь множество неприятностей на себя.
– Да, мамочка, ты говорила мне это. Но… Но как только я поняла, что никакой любви не было и в помине, я сразу стала соображать куда лучше. Словно пелена глупости спала с моих глаз. Я увидела в истинном свете и его, и Мариам, и себя, недостойную.
– Увы, дорогая, так иногда бывает. Но сейчас ты уже не влюблена в Нур-ад-Дина, верно?
Амаль усмехнулась, и Маймуна со страхом поняла, что ее девочке уготована более чем необычная судьба, что столь сильной ведьмы, сочетающей мудрость колдовскую и человеческую, мир еще не рождал.
– Нет-нет, к счастью. Ибо еще, должно быть, не родился тот человек, который будет достоин моей любви.
«О Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими! Я же хотела вырастить обыкновенную девочку… Похожую на всех остальных девочек…»
– Малышка моя!
– Все в порядке, мамочка, клянусь! И теперь я смогу выучиться по этой книге и стать такой же прекрасной и умелой колдуньей, как ты, моя прекрасная и добрая!
Маймуна поцеловала дочь и вышла из комнаты, как простые люди, через дверь. Ей нужно было о столь многом подумать…
Свиток первый
Увы, мир устроен не так, как этого хочется простому смертному. И даже не так, как это кажется существам, рожденным магией самого Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими… Ибо не зря говорят, что не следует делиться планами с Аллахом всесильным – он лишь рассмеется тебе в лицо… Одним словом, мир устроен несправедливо. Более чем несправедливо для любого под этим небом, каким бы умелым колдуном он ни был.
Маймуна, дочь Димирьята, царя джиннов, любила Дахнаша, ифрита. Сколько веков длилась их любовь, сказать затруднительно. Однако, поняв, что жить друг без друга они не могут, дети колдовского народа в человеческом облике осели в древнем городе у слияния великих рек. Дочь их, Амаль, была такой же, как другие девочки: играла с котятами, училась печь пирожки, помогала матери по дому… И Маймуна стала привыкать к мысли, что жизнь ее устроилась, а судьба дочери известна от первого дня до последнего.
Могущественная джинния учила свою малышку колдовским премудростям, но неустанно повторяла, что делает это лишь потому, что «в роду твоего уважаемого деда были колдуны».
Девушка выросла и стала, подобно всем дочерям рода человеческого, заглядываться на своих сверстников-юношей. И тут Маймуна поняла, что совершила ошибку, ибо Амаль была уверена, что она обычный человек. И потому как же ей, дочери ифрита, теперь втолковать, что не следует соединять свою судьбу с судьбой простого смертного, пусть и трижды прекрасного юноши?
О нет, не совсем так – судьбу-то соединять можно. Можно жить семьей, рождать детей, радоваться жизни, непозволительно долгой для сына человеческого. Но лишь до того мига, пока сей сын не захочет освятить брак в мечети или костеле… Ибо никто из детей огненного народа не может представить судьбы той несчастной, которая станет венчанной женой…
Однако сейчас, казалось, до всех этих забот еще более чем далеко. Амаль просто выросла в высокую красавицу и проводила почти каждый день с дочерью соседей, красавицей Мариам.
Вот и сейчас девушки устроились под корявым карагачом, что не столько украшал, сколько уродовал двор соседей.
– Как у вас уютно, подружка, как спокойно…
– Амаль, но ведь ваш двор похож на наш. И у вас уютно, тепло, тихо… Совсем как у нас.
– Ты знаешь, не так… И деревья одинаковые, и ручеек так же бежит. И стены толстые… А все равно – у нас все иначе. Даже я, о, ты знаешь, как я люблю тепло, даже я с трудом дышу – воздух словно из печи.
– Быть может, тебе это только кажется?
– Не знаю… Наверное, кажется. Вот только папа все время маму то ведьмой, то духом огня дразнит. А она не обижается. Даже смеется.
– Завидую я тебе, Амаль. И у нас так было, пока Аллах всесильный не призвал к себе мою маму. И остались мы с папой теперь вдвоем.
– Да, тетю Бесиме жалко. Она такая добрая была, заботливая. А какие пирожки пекла…
Мариам улыбнулась. Амаль всегда была сластеной, да и поесть очень любила, даже когда они совсем маленькими были. Бывало, мама специально звала в гости тетю Маймуну с дочкой – чтобы и ее, Мариам, накормить, приговаривая:
– Смотри, доченька, как хорошо кушает Амаль. И ты тоже так… Вот Амали пирожок, а вот Мариам. Вот Амали молочка, а вот тебе, малышка.
И тетя Маймуна всегда улыбалась и гладила ее теплой рукой.
Воспоминания на миг вернули обеих подружек в то доброе и славное время. Когда-то давно, когда Бесиме и Нур-ад-Дин только появились в этом квартале ремесленников, матушка Амали приняла живейшее участие в обустройстве дома. И потом множество раз появлялась на пороге то с кувшином молока – почему-то всегда теплого, то с горячими, словно только что из печи, лепешками. Бесиме была рада такой помощи и сама частенько баловала соседей разными яствами, творить которые была великой мастерицей.
Ничего удивительного, что девочки росли, словно сестры. Быть может, они были даже ближе, чем настоящие сестры, потому что на ночь матери их все-таки разводили по домам, и потому до утра все ссоры забывались, и утро начиналось с новых проказ.
Девочки росли, превратившись из милых крошек сначала в гадких утят, а потом в необыкновенных, пусть и совершенно разных, красавиц. Мариам – тоненькая, невысокая, с милым лицом и золотым сердцем, была, казалось, полной противоположностью своей подруге. Ибо та вся была «слишком». Слишком рослая для девушки, слишком крепкая, с громким голосом и ярким румянцем. Похоже было, что из нее получились бы две обычные девушки. Но Амаль не стеснялась ни своего роскошного тела, ни своего яркого румянца, ни своего громкого голоса. О Аллах всесильный, она была не просто громкоголоса, она была шумна… И даже слегка бравировала этим.
– Но почему, скажи мне, Мариам, – как-то спросила она подружку, – почему я должна всего этого стесняться? Я такая, какая есть. И надеюсь, что найдется юноша, которому понравятся и мой рост, и мои формы, и мой голос. Даже мое пение он полюбит!
Действительно, полюбить пение Амали мог только юноша с сердцем столь же пылким, сколь и безрассудным, ибо девушка пела ничуть не лучше молодого ишака. И столь же громко… И как Маймуна ни наставляла ее, как ни просила оставить в тайне ее занятия в магии, но порой желание Амали похвастать необыкновенными умениями все же пересиливало.
– Мама меня чуточку учила. Она говорила, что все женщины в нашем роду владеют удивительными способностями и раньше или позже к каждой из нас приходит великая колдовская сила.
Да, добрая матушка Амали ничуть не лгала. Как не лгала и Амаль – она лишь повторяла слова матери, немного жалея о том, что не знает, когда именно эта колдовская сила придет и к ней.
Ни Маймуна, ни Дахнаш, как мы знаем, не были людьми. Маймуна, матушка Амали, была джиннией, а ее любимый, отец Амали – Дахнаш, родился ифритом, и сила его была известна каждому из потомков Иблиса Проклятого. Некогда они решили подшутить над всем человеческим родом и вызвали великую любовь в сердцах юноши, холодного, как снега в горах, и девушки, гордой, как сами эти горы. Шутка оказалась столь удачной, что и самим детям колдовского рода стало недоставать одного их пылкого чувства и они возжелали обзавестись наследниками[1].
Когда же родилась Амаль, Маймуне показалось, что воспитывать ее должна добрая и нежная матушка, а не дочь огненного рода, язык пламени и торжество жара. Вот так и случилось, что Маймуна и Дахнаш сменили свои огненные сущности на человеческий облик и поселились в тихом городском квартале ремесленников, неподалеку от шумного в любой день и любой час богатого базара.
О, конечно, ни джинния, ни ифрит не собирались навсегда оставаться лишь людьми. Но это было настолько удобное обличье и настолько уютная, спокойная жизнь, что превращение в нечто иное уже стоило им немалых трудов. Должно быть, поэтому Амаль и не подозревала, как на самом деле выглядят ее обожаемые родители, и о том, что ее будущее – бессмертная жизнь и вечный жар огня.
О да, Маймуна делилась с дочерью лишь крохами удивительных умений колдовского народа, но этого вполне хватило девушке для того, чтобы решиться заколдовать двух «несчастных» и заставить их броситься в объятия друг друга. И, быть может, ей бы это преотлично удалось, если бы не свойственная всем девушкам впечатлительность и желание принять то, что кажется, за истину.
Как и сейчас, тогда перед ней лежала толстая книга, которую давным-давно, быть может, уже год назад, когда отца не было дома, ей дала матушка, добрая Маймуна. (О, как бы удивилась эта самая Маймуна, узнав, как дочь мысленно называет ее!) То был воистину колдовской учебник, учебник по магии… Вернее, по самым ее начаткам.
Ибо Маймуна и хотела вырастить дочь волшебницей, и опасалась этого. Да, она понимала, что девочка все равно, раньше или позже, ощутит свою колдовскую силу и все то, что дали ей родители при рождении. Но побаивалась, что усиленные занятия Амали внесут немало беспокойств в их такую спокойную и устоявшуюся жизнь. О, это удивительно, но факт – даже для детей магического народа иногда так сладок покой!
Но прежде чем мы увидим, что же стало со столь достойными мечтаниями уважаемой джиннии, оглянемся назад, дабы увидеть, каким был урок, который преподал высокой и громкоголосой Амали любимый ее лучшей подруги Мариам, уважаемый купец Нур-ад-Дин.
Свиток второй
Амаль тщетно пыталась преодолеть раскрытую на самом начале четвертого урока страницу. И, как она ни тщилась понять, что значит «трансмутация внутреннего в человеческом существе сопоставима с трансмутацией первичных элементов, составляющих все мироздание», у нее ничего не получалось.
Девушка снова и снова скользила глазами по этим строкам, но с каждым разом понимала все меньше. Более того, она удивлялась, как ей удалось преодолеть первые три урока. Говоря по чести, мысли Амали сейчас были заняты вовсе не магией. Вернее, не магией из учебника. Ибо она вспоминала совсем другую магию. Магию человеческого общения, магию слов Нур-ад-Дина, магию его бархатного взгляда, кажется, говорящего все, что только желает услышать женщина.
Вновь и вновь девушка вспоминала слова, которые говорил Нур-ад-Дин. Возвращаясь мысленно к каждому из них, она находила новый, все более манящий, все более радующий смысл.
Я спросила, был ли хорош его день. Ибо так велит обычай. Но его слова… О, они были воистину волшебны. Ведь он сразу запомнил мое имя.
– О Амаль, – ответил он, прекраснейший. – День мой был неплох. Торговля идет неторопливо. А большего требовать не следует. Хорош ли был твой день, красавица?
Ох, он воистину сказал это!
И тогда ты назвал меня красавицей! Не побоялся, что рядом Мариам, что она может обидеться на него или на меня. Или на нас обоих… И я, опустив глаза, ответила:
– Благодарю тебя, уважаемый. Я сегодня успела лишь помочь матушке, и истолочь зерно, и убраться в доме, и… и, конечно, поболтать с Мариам.
Но что же еще, кроме правды, я могла бы ему поведать? Просто честно рассказала, что сделала с утра, хотя не успела даже вспомнить, о чем мы беседовали с его невестой, моей подружкой. Но как он взглянул на меня в ответ! Столь теплый, мягкий, обволакивающий взгляд. И сколь прекрасные глаза…
А потом, когда ты был уже не в силах любоваться моей красотой, то отвел взгляд и спросил, стараясь не выдать своего волнения:
– О чем же ты, уважаемая, болтала с моей невестой?
Должно быть, вспомнив о том, что у него есть невеста, он пытался усмирить собственные желания. Но, конечно, не смог этого сделать, ибо глаза его куда яснее слов говорили о его истинных желаниях.
А мне тогда пришлось ответить, чтобы не выдать своего волнения, вот так:
– Как всегда, о женихах… Вернее, о ее женихе! О тебе, прекрасный, как сон, Нур-ад-Дин!
Хотя более всего я бы хотела, чтобы мы с Мариам беседовали о моем женихе… О тебе, удивительный, желанный…
Конечно, ты удивился моим словам. Столь сильно, что переспросил:
– Обо мне?
Дурачок, ну о ком же еще мы могли беседовать? Конечно, о лучшем из мужчин, о прекрасном, чудном женихе.
И мне вновь пришлось прийти к тебе на помощь. Я улыбнулась и ответила:
– Ну конечно, о тебе! Ведь у меня-то жениха нет… Вот я и укоряла Мариам, что она до сих пор скрывала от меня такого умного, достойного и уважаемого человека, как ты, Нур-ад-Дин!
Но как же еще я могла показать ему, что совершенно свободна? Что моя душа открыта для любви, а мое сердце жаждет ее более всего на свете? Ты улыбнулся, и я подумала, что лишь о таком женихе, как ты, я мечтала всю свою жизнь.
Должно быть, ты понял мои слова, ибо, улыбнувшись в ответ, сказал:
– Не печалься, прекраснейшая! И у тебя появится жених, поверь мне. Он будет видеть лишь тебя, любоваться твоими глазами, наслаждаться твоим голосом, твоей грацией!
И тогда я поняла, что ты, ты сам готов любоваться моими глазами и без устали слушать мой голос, и наслаждаться каждым моим движением. А я подумала, что была бы счастлива, если бы это был ты! Но недостойно гордой девушки сразу бросаться в объятия мужчины, услышав такое. И потому я ответила:
– Надеюсь, что я смогу побаловать своего жениха не только голосом или походкой, уважаемый… Ведь я еще и стряпаю недурно… И шью!
Должно быть, он меня понял правильно, ибо его ответ был ответом настоящего мужчины.
Ты, думаю, хотел мне сказать, что и сам мечтаешь стать моим женихом. Ибо твои слова утверждали это яснее ясного:
– О, – блеснув глазами, ответил ты, – твои многочисленные таланты сделают какого-нибудь юношу воистину счастливейшим из смертных!
И тут я увидела, что ты все понял! Ты не просто понял, ты увидел, насколько я лучше всех вокруг и насколько хорошей женой я стану в будущем…
Амаль наверху мечтала о несбыточном, невидящими глазами уставясь в книгу. А внизу, потчуя поздним ужином мужа, Маймуна делилась своими тревогами с Дахнашем.
– Наша девочка меня тревожит… Она вернулась от Мариам сама не своя. И вот уже который час смотрит пустыми глазами на первый лист урока, даже не делая попытки перевернуть страницу.
– Но почему это вдруг тебя встревожило? Быть может, попался трудный урок?
Маймуна вздохнула. Дахнаш был замечательным отцом – он защищал дочь даже тогда, когда никакой опасности не было вовсе. Вот и сейчас он бросился на помощь своей маленькой девочке.
– О нет, дело здесь совсем не в уроке. Ведь она даже не читает… Она просто думает о своем, и глаза ее полны такими мечтаниями, что я опасаюсь самого худшего.
Далее можно было Дахнашу не объяснять. Ибо и он, и его жена прекрасно знали, что для их дочери будет самым худшим. Да, они всегда опасались, что девочка влюбится в сына человеческого рода. Увы, в тайной истории магического народа было множество случаев, когда дети этой бессмертной расы влюблялись в отпрысков рода человеческого. О, дальнейшая их судьба была воистину ужасна – они теряли бессмертие, превращаясь в пыль вместе со своими возлюбленными. Но случалось и то, что много хуже смерти – во имя вечной жизни они теряли саму душу, которая и дарила им то, что они называли любовью.
Не стоит говорить, что ни Дахнаш, ни Маймуна не желали подобной участи своей прекрасной, любимой доченьке. Вот почему ифрит так испугался слов своей жены.
– Но когда, скажи мне, о наилучшая из всех, эта глупая девчонка могла влюбиться?
– Любимый, для этого бывает достаточно и мига… Я бы беспокоилась куда меньше, если бы она влюбилась в юношу колдовского рода. Но боюсь, что тот, о ком она мечтает, разобьет ее сердечко, даже не заметив этого. И что это всего лишь человек, обычный мальчишка, какими полон этот огромный и в то же время такой маленький город.
Сейчас и джинния, и ифрит были людьми куда больше, чем бывают сами люди. Ибо никакой другой матери не пришло бы в голову беспокоиться о разбитом сердце дочери лишь оттого, что мечтательной пеленой подернулись глаза девушки.
– Ты уверена, Маймуна?
– О да, мой прекрасный. Ибо те мысли нашей девочки, которые я подслушала, никак иначе понять нельзя. Она влюбилась в жениха своей подружки и мечтает о том дне, когда сможет назвать его своим мужем.
Если бы Дахнаш мог вознести Аллаху всесильному хоть слово мольбы, он возопил бы, подобно самому истовому верующему. Но, увы, ифрит не может просить повелителя правоверных о помощи. И потому он должен полагаться лишь на свои силы. И, конечно, на силы своей жены, которых куда как немало.
– Так что же нам теперь делать, Маймуна?
– Я думаю, мой любимый, что единственным выходом будет сделать так, чтобы жених этой девочки, Мариам, подружки Амали, как можно скорее стал ее, Мариам, мужем.
– Но что будет, если наша крошка впадет в черную тоску? Если она от горя сойдет с ума?
– Наша девочка? О нет, скорее она от злости испепелит весь дом… Или взлетит над городом ослепительным сиреневым облаком… Или… Ну, не тебе рассказывать, на что способна джинния в гневе…
Конечно, Дахнашу можно было не рассказывать, на что в гневе способна джинния. Ибо он это преотлично знал, любя собственную жену уже не одно столетие.
Утро следующего дня застало Амаль за деятельными приготовлениями. Как бы то ни было, сколь бы прекрасен и желанен ни был Нур-ад-Дин, но она обещала подружке помочь поворожить, чтобы ее, Мариам, отец увидел наконец, сколь прекрасна матушка Нур-ад-Дина, и влюбился в нее.
В том же учебнике для начинающих магов она прочла о любовном напитке. И теперь собирала по дому необходимые для любовного зелья ингредиенты. Сначала все было хорошо, легко нашелся и аконит, и черная пыль тоски, и белый камень радости. Амаль брала всего по капельке, понимая, что мать в любой момент может ей помешать. Маймуна же, сразу определив, какое зелье собралась варить ее неугомонная дочь, из-под ресниц весьма внимательно за ней следила, не пытаясь, впрочем, как-то помешать девушке.
Но дальше в списке пошли такие странные компоненты, которым неоткуда было взяться даже в доме Маймуны. Вот поэтому и пришлось Амали придумывать, чем бы заменить палец висельника и черных египетских тараканов, зерна из плодов с дерева познания добра и зла, белую глину Лемурии и золото полуденных восходов.
Должно быть, настоящей колдунье все это добыть не составило бы ни малейшего труда, но… Увы, Амаль была колдуньей начинающей, и потому вместо черных тараканов она надумала взять инжир, вместо пальца – скрученный капустный лист, вместо зерен с дерева познания добра и зла Амаль прихватила зерна горчицы, белую глину нашла в собственном дворике, а за золото восходов решила выдать мамалыгу, приготовленную Маймуной только вчера вечером.
Та лишь посмеивалась про себя. Вот ее дочь поспешила к подружке, пробормотав:
– Мамочка, я у Мариам. Мы такое придумали…
Не успела захлопнуться за девушкой калитка, как Маймуна накинула темно-зеленый чаршаф, столь шедший к ее зеленым глазам, и последовала за дочерью, на всякий случай пробормотав заклинание, отводящее взгляд.
Безусловно, она собралась присмотреть за чудесами, которые намеревается творить Амаль, и уберечь от последствий город, если чудеса ее неумелой дочери удадутся с избытком.
Амаль же вовсю хозяйничала у соседей.
– Ну что, Мариам, ты готова?
– Готова? К чему?
– К сотворению снадобья, что навеки соединит твоего батюшку и матушку Нур-ад-Дина?
О да, чуткое ухо Маймуны уловило необыкновенную мягкость, с которой дочь произнесла имя чужого жениха. И в который уж раз порадовалась своей наблюдательности и умению делать выводы. Хотя, быть может, следовало бы ругать себя за желание уберечь крошечную доченьку, вместо того чтобы еще в раннем детстве раскрыть ей глаза на истинную природу ее происхождения.
Предмет же размышлений чрезмерно заботливой матушки, Амаль, не без натуги вытащила из кладовой ближе к очагу тяжелую миску с затейливыми узорами у ободка.
– Вот… Теперь мы зальем туда воды… Три гарнца. А потом положим белый камень радости, аконит и вот это… – Темно-серый порошок, похожий на мелко молотый перец, комком упал в закипающую воду.
– А что это? – спросила Мариам. Ей становилось все страшнее. Но она держала себя в руках, ибо любопытство было сильнее страха.
– Это черная пыль тоски… ее надо сварить, чтобы… ну, чтобы тоска сварилась вместе с ней и больше не досаждала влюбленным. – Амаль, конечно, все это только что придумала. Ибо в книге не было сказано об этом ни слова, а спрашивать у матери она не решилась.
Пока закипала вода для удивительного зелья, подруги молчали. Амаль про себя четырнадцать раз должна была произнести первую из волшебных фраз, переписанных тоже из учебника, а Мариам со страхом смотрела, как наливается темно-зеленым цветом вода в миске.
– Ну вот, – проговорила Амаль, закончив бормотать первое заклинание. – Теперь мы должны добавить палец висельника…
Мариам вздрогнула.
– Вот… Теперь дюжину черных египетских тараканов, накормленных заповедной травой чинь-иним…
Мариам передернуло.
– Ну, остались мелочи… Вот это, а теперь вот это… Теперь белую глину Лемурии, вот… теперь золото восходов и алую кровь закатов…
Мариам почувствовала дурноту.
– Ну вот, теперь эту безделицу… – Амаль вытрусила над кипящей водой узелок. – Теперь шесть раз вместе прочитаем вот эти слова, а потом…
– А что потом? – с дрожью в голосе спросила Мариам.
– А потом остудим напиток. В книге сказано, что он будет совершено безвкусным и его можно будет вливать куда угодно.
– И что, папа должен будет выпить эту вонючую гадость?
Тут Амаль смешалась. Ибо закипающее зелье было темно-зеленого цвета, отвратительно пахло и не думало становиться бесцветным и приобретать, как учила книга, едва ощутимый аромат жасмина.
– Но в книге же сказано, что оно будет без цвета… – пробормотала она.
Мариам молчала и уже сожалела, что согласилась ворожить, чтобы уговорить отца жениться на матушке Нур-ад-Дина.
– А, знаю, – радостно вскричала Амаль. – Надо же прочитать заклинание! Шесть раз прочитать! Вот тогда все получится!
Мариам, вздохнув, начала бормотать вместе с подругой непонятные слова, более всего похожие на скверные ругательства, которыми столь любили изъясняться рабы с полуночи при виде женщин, пришедших за покупками на базар.
Вот заклинание было произнесено четыре раза, вот пять, вот шесть. Зелье почти почернело, и запах стал просто оглушительным[2].
– О Аллах всесильный! – прошептала Мариам. – И что теперь?
Амаль растерянно молчала. Она была уверена, что все исполнится именно так, как это описано в волшебной книге, конечно, забыв, что всякий рецепт, все равно – лепешек ли, волшебного ли зелья, требует точного соблюдения и умелых рук.
Тем временем зелье действительно стало бледнеть. По его поверхности пошла пена, потом пена спеклась в ярко-зеленые комки… А потом с шипением варево стало проедать медь миски и капать в огонь, отчего пламя окрасилось сначала в ярко-желтый, а потом в светло-голубой цвет.
– Амаль, что мы наделали?!
О, как же здесь было Мариам не закричать. Ибо под кухней находился обширный подвал с припасами, не терпящими дневного жара. Варево же, как было девушкам прекрасно видно, добралось уже до камней под очагом и вот-вот грозило пролиться сквозь толстые плиты пола.
К счастью, каменные плиты оказались вареву «не по зубам», и оно, пошипев еще немного, темными лужами стало остывать у погасшего очага.
Свиток третий
– Ох, подружка, ну и натворили мы дел! Хорошо, если батюшка не заметит этого безобразия…
– Но отчего он должен что-то замечать? Вот мы сейчас развеем в воздухе то, что осталось от медной миски, а потом… Потом уложим новые камни. И все станет как было!..
– Развеем? – с нескрываемым страхом спросила Мариам.
– Ну да. Это совсем просто, я такое давно умею. Мама всегда говорит, что ломать не строить. Ну, не бойся…
– А может, все-таки не надо?
Но Амаль, отвернувшись от подруги, уже решительно зашептала. Миг – и медная миска без дна побледнела и в самом деле исчезла.
«Воистину, доченька, ломать не строить», – подумала Маймуна. Она готова была помочь юной колдунье, но оказалось, что с такими чудесами девушка умеет справляться совсем недурно.
Одного движения брови Амали было довольно, чтобы под очагом появились новые камни.
– Ну вот, теперь все как надо!
Мариам только кивнула – и в самом деле, теперь все было как надо, даже вонь рассеялась. А вот страх еще не прошел.
– Аллах великий, – проговорила девушка, – уже и солнце клонится к закату. Скоро закроются все лавки, батюшка вернется домой. А у меня ничего не готово… Да и Нур-ад-Дин может заглянуть…
Амаль очень хотела увидеться с Нур-ад-Дином (быть может, вчерашние мечтания сегодня окажутся отрадной истиной). И потому она просительно посмотрела на Мариам и предложила:
– А давай я помогу тебе печь лепешки? Ты же знаешь, они получаются у меня вкусными-вкусными.
Мариам кивнула – лепешки Амали действительно получались удивительно ароматными и пышными. И никогда не пригорали. Быть может, здесь и крылось истинное волшебство?
Вскоре девушки уже вдвоем хлопотали у печи. Мариам резала овощи, а под руками Амали поспело тесто. Ей было достаточно всего лишь дюжины минут – и вот уже первые лепешки опустились на дно глубокой сковородки с кипящим маслом.
Да, на этот раз чудо было подлинным. Амаль что-то напевала над сковородой, на блюде рядом росла гора румяных лепешек. Но… Но руки Амали были пусты – она ничего не переворачивала и не складывала. Все это делала за нее толстая глиняная сковорода: когда лепешки были почти готовы, с двух сторон этого привычного предмета появлялись две тоненькие трехпалые ручки, которые аккуратно приподнимали лепешку, чтобы лишнее масло стекло, а потом так же осторожно укладывали ее на блюдо. Мариам даже показалось, что она слышит, как сковорода тихонько подпевает Амали.
Девушка тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения. Но ничего не изменилось. Румяная лепешка легла на блюдо, а тоненькая ручка, выросшая откуда-то из-под дна сковороды, спряталась обратно.
– Ну вот, – проговорила довольная Амаль, – лепешки готовы.
– Подру-ужка, – протянула Мариам, – это же настоящее чудо!
Девушка зарделась.
– Да, а мне казалось, что ты тоже так умеешь… Мариам отрицательно покачала головой. Увы, ей приходилось вооружаться инструментами, более похожими на инструменты лекаря, только для того, чтобы зажарить в масле лепешки или целый кусок мяса, как любил отец.
Стукнула калитка – и отец, Нур-ад-Дин-старший, вернулся домой. Амаль, неловко кивнув, поспешила ретироваться, так и не дождавшись прекрасного жениха Мариам.
В полуоткрытую калитку за ней скользнула и Маймуна – она была невидима, но отнюдь не бесплотна, и потому порадовалась рассеянности дочери.
Свиток четвертый
«Как он был прекрасен тогда, когда мы увиделись в доме у этой дурочки! Как учтив! Как благовоспитан! Как всего несколькими словами показал, сколь интересна я, Амаль, ему, сколь большие надежды связывает он с этим знакомством!»
Вновь и вновь, мысленно погружаясь в тот вечер, Амаль перебирала слова Нур-ад-Дина и свои ответы, как красавица перебирает разноцветные украшения, любуясь игрой камней и благородным отблеском золота.
Я спросила, был ли хорош его день. Так велит обычай… К тому же я мечтала услышать и его голос. Ибо у такого прекрасного юноши и голос должен быть столь же прекрасен.
– Ах, Амаль, – ответил он, умнейший из мужчин мира. – День мой был неплох. Торговля идет неторопливо. А большего требовать не следует. Хорош ли был твой день, красавица?
Да, он назвал меня красавицей! Для него я и стала красавицей с первого взгляда, а быть может, и с первого вздоха… Быть может, он почувствовал, что я самой судьбой предназначена ему… Быть может, его тонкая душа сразу разглядела мою, сразу потянулась к ней, сразу ответила на неслышном языке нарождающейся любви…
Я же, скромно опустив глаза, ответила:
– Благодарю тебя, уважаемый. Я сегодня успела лишь помочь матушке, и истолочь зерно, и убраться в доме, и… и, конечно, поболтать с Мариам.
О, с каким бы удовольствием, с какой бы радостью я начала свой рассказ с того, что описала бы свои мечты о нем, желанном! Но и тут обычай сдержал мое признание, уже почти готовое прорваться наружу. Однако его ответный взгляд был столь пронизывающим, столь знающим! Он сразу услышал, чего я не сказала ему! Черные глаза осветили мой разум, согрели мою душу первыми лучами надежды… Мне даже показалось на миг, что с уст его готово уже было сорваться пылкое признание.
Но и над ним, готовым ответить на мой безмолвный призыв, тоже довлели традиции. Ибо он спросил лишь:
– О чем же ты, уважаемая, болтала с моей невестой?
Да, этим вопросом он пытался усмирить свои желания – не зря же вспомнил об этой дурочке Мариам. Но пытаться усмирить желания столь же глупо, как пытаться окриком остановить мчащегося коня, и потому я поняла все, что он хотел мне сказать. Поняла и взглядом же ответила, что пылаю к нему неземными чувствами и согласна на все. Но вслух пришлось ответить совсем просто… И лишь для того, чтобы простушка Мариам не поняла, что наши души уже обо всем договорились.
А потому я лишь сдержанно произнесла, даже не подняв глаз:
– Как всегда, о женихах… Вернее, о ее женихе! О тебе, прекрасный, как сон, Нур-ад-Дин!
Он сразу понял, что я просто поддразниваю его, что давно уже готова отдать ему и свою душу, и свое тело. Нур-ад-Дин прекрасно меня понял, но, чтобы эта легковерная девчонка ни о чем не догадалась, делано удивился:
– Обо мне?
Я улыбнулась и ответила так, как должно было ответить малознакомому юноше. Но не так, как желала бы ответить тому, кто влюблен в меня и в кого безумно влюблена я.
А потому сказала:
– Ну, конечно, о тебе! Ведь у меня-то жениха нет… Вот я и укоряла Мариам, что она до сих пор скрывала от меня такого умного, достойного и уважаемого человека, как ты, Нур-ад-Дин!
Наш разговор был совершенно разным для того, кто слушал и кто смотрел. Тому, кто слышал нас, было ясно, что мы всего мгновение назад познакомились. Тому же, кто видел наши взгляды, кто понимал наши улыбки, было ясно, что мы беседуем лишь для того, чтобы Мариам ничего не поняла. Но еще сильнее отличалась наша болтовня от того, что кричали, о нет, пели друг другу наши души.
Думаю, он, умнейший, понимал меня так же легко, как я понимала его. Ибо простая благовоспитанная улыбка говорила куда яснее всяких слов.
Для глупых же ушек Мариам предназначались только глупые же слова:
– Не печалься, прекраснейшая! И у тебя появится жених, поверь мне. Он будет видеть лишь тебя, любоваться твоими глазами, наслаждаться твоим голосом, твоей грацией!
О, как я его понимала! Как легко расслышала восхищение мною, моим голосом, моей грацией, моим телом. Как понимала его сдерживаемое желание! О, если бы можно было, я бы насладилась его долгожданными объятиями немедленно. Но приличия, о, как страшна их сила, требовали скромного и осторожного поведения, и потому мне пришлось ответить лишь то, что они, эти страшные тиски для душ, допускали:
– Надеюсь, что я смогу побаловать своего жениха не только голосом или походкой, уважаемый… Ведь я еще и стряпаю недурно… И шью!
Я увидела, что он понял меня прекрасно. Ибо глаза Нур-ад-Дина радостно блеснули. Теперь он знал, что я смогу быть не только прекрасной возлюбленной, сильной и пылкой, но и заботливой женой, умелой и аккуратной. Он сразу понял, что подобного бриллианта ему более не найти, и восторг этот смог скрыть лишь отчасти.
И потому мой любимый произнес:
– О, твои многочисленные таланты сделают какого-нибудь юношу воистину счастливейшим из смертных!
Да, нам не нужны были иные слова. Те слова, которыми всегда обмениваются влюбленные. Ибо он понял меня даже без них. Как я поняла его, лишь единожды взглянув в это прекрасное лицо, погрузившись в бездны черных глаз, коснувшись своей, жаждущей любви душой его души…
К сожалению, Маймуна не решилась вновь подслушать мысли дочери. Быть может, тогда бы она смогла отвлечь Амаль или заставить ее думать о другом. И тогда ничего бы из того, что произошло далее, не случилось бы. Или случилась бы лишь малая часть. Но снежный ком так и растаял бы, не превратившись в лавину, которая погребла под собой и Амаль, и ее пылкие мечты о грядущем.
Не в силах избавиться от своих все более радужных мечтаний, а вернее, погружаясь все более в их сладкий плен, она решила, что сможет доказать «прекрасному, как сон» юноше, жениху Мариам, что мечтает лишь о нем. Для этого она избрала путь весьма простой и, как ей казалось, единственно верный. Она решила приоткрыть калитку и следить за каждым, кто покажется на их улице. И как только в дальнем ее конце она увидит Нур-ад-Дина, то выскочит за порог и сделает вид, что куда-то очень и очень торопится. Но как она ни торопится, врожденная благовоспитанность велит ей потратить несколько драгоценных минут на беседу.
Так оно и случилось. О, сколько раз за этот вечер замирало ее сердечко! Ибо стоило лишь в дальнем конце улицы показаться мужской фигуре, как Амаль лихорадочно закалывала шаль, столь же лихорадочно осматривалась и хватала в руки корзинку с рукоделием. Но лишь стоило ей присмотреться – и разочарование захлестывало ее с головой, – ибо то был не он, не ее любимый, не Нур-ад-Дин.
Наконец, когда она уже почти устала ждать, когда несчастное рукоделие превратилось в грязный комок, ибо побывало с десяток раз в дорожной пыли, когда шаль из снежно-белой стала серой, юноша, олицетворение ее мечты, ступил на камни родной улицы.
Куда только девалась ее усталость, куда девалась застенчивость?! Должно быть, пережив не один раз ту, первую, столь волнующую встречу, Амаль уже и сама уверовала не только в сладчайшие из своих грез, но и в то, что знакома и близка с прекрасным Нур-ад-Дином долгие годы.
Она с независимым видом шла навстречу юноше, делая вид, что чем-то сильно озабочена. И, лишь поравнявшись с ним, проговорила:
– Да хранит тебя во веки веков повелитель всех правоверных!
– Здравствуй и ты, красавица, – ответил чуть удивленный Нур-ад-Дин.
Он еще из-за поворота заметил неловкие ухищрения Амали: увидел, что она выглядывала из калитки, обратил внимание на то, как она вдруг засуетилась, а потом поспешила навстречу ему с таким видом, будто прошла уже сотню сотен шагов по всем улицам города. Его не удивило странное поведение девушки, нет. Ибо после размолвки с любимой он уже в который раз убедился: он не в силах понять, что же движет прекрасными, но такими странными женщинами. Да и потом – ну мало ли почему выглядывала на улицу Амаль?
Говоря откровенно, Нур-ад-Дина вовсе не занимала эта высокая и неловкая подруга любимой. Того единственного разговора юноше хватило с лихвой, чтобы понять – девушка не очень умна, не очень тактична… Если бы он хотел отомстить Мариам, он, быть может, и попытался бы обратить свой взор на другую девушку, хотя вряд ли в этом качестве избрал бы Амаль. Однако он, Нур-ад-Дин, решил сторониться всех женщин вообще. И теперь усердно претворял в жизнь свое решение.
Не ответить на приветствие Амали юноша не мог, но при этом не хотел и сдерживать удивления, ибо не пристало благовоспитанной девице поджидать мужчину и первой заговаривать с ним.
– Благодарю тебя за добрые слова, прекрасный Нур-ад-Дин! Был ли удачным твой день?
– Сегодняшний день был не хуже и не лучше других.
– Это отрадно слышать. Был ли твой день богат встречами?
– Ты спрашиваешь об этом у торговца, Амаль, – устало усмехнулся Нур-ад-Дин. – Весь мой день – это встречи с разными, зачастую более чем неприятными людьми. Встречи и попытки договориться к взаимной выгоде. Или разойтись, не ущемив ничьих интересов.
– О Нур-ад-Дин, – ответила Амаль, почувствовав насмешку в голосе юноши, – я всего лишь не очень умная и не очень опытная девушка. И потому могу иногда ошибаться…
«Да она еще глупее, чем мне показалось сначала!»
– О да, – учтиво согласился Нур-ад-Дин, – умение ошибаться свойственно всем. Но не все умеют осознавать свои ошибки…
«Неужели я сказала что-то неправильно? Но разве не следует во всем соглашаться с мужчиной? Разве не следует ему льстить, называя и самым умным, и самым добрым?»
– Быть может, если бы ты, прекрасный Нур-ад-Дин, указал мне на мои ошибки, помог бы их исправить, я бы стала чуточку умнее…
Нур-ад-Дина удивили эти слова. Его невеста ни за что не позволила бы себе даже помыслить о чем-то подобном! И, только вспомнив о Мариам, Нур-ад-Дин сообразил, что у него нет никакой невесты, что он сам не так давно отказался от всех женщин… И в первую очередь от той, которую вспоминал теперь и всякий день, и, что тут греха таить, каждую ночь.
– Увы, прекрасная Амаль, мне не под силу быть чьим-то наставником… Да и не люблю я кого-то чему-то учить!
– Даже меня, о Нур-ад-Дин? Ведь я всего лишь юна и глупа…
Амаль захлопала глазами. Возможно, если бы она этого не сделала, ее попытки очаровать Нур-ад-Дина увенчались бы успехом. Но после слов о собственной глупости девушка и вовсе перестала существовать для Нур-ад-Дина. Ибо он превыше многого ценил в женщине то, что наблюдал у собственной матери, – самоуважение, умение не пасовать перед трудностями, опираться на собственные силы… Конечно, его матушка никогда бы не стала никого просить помочь ей, поучить ее. Она всегда была уверена в собственных знаниях и, как это прекрасно, готова была помочь делом и словом всем, кто в этом нуждался.
– Даже тебя, Амаль. Я же сказал – не люблю и не умею учить. Нет у меня ни терпения к чужим глупостям, ни снисхождения.
– Как жаль… – протянула девушка.
– А мне нисколько не жаль. Я не люблю тех, кто унижает себя ради какой-то выгоды. Я не люблю тех, кто не ценит собственный разум. И, о Аллах всесильный, я не люблю женщин, которые готовы на самоуничижение ради того, чтобы удостоиться внимания мужчины.
Разговор принимал совсем не тот оборот, на который рассчитывала Амаль. Прекрасный юноша вдруг исчез, и рядом с ней оказался грубый мужлан, не способный понять потаенной сути ее слов. Да разве она не ценит себя? Разве не уважает собственный разум? Разве унижается перед кем-то?
– О Нур-ад-Дин, мне не хочется верить своим ушам, но… Неужели ты говоришь обо мне?
– Увы, добрая Амаль, я говорю о тебе… разве достойно уважающей себя девушке столь унизиться, чтобы просить об уроке мужчину, причем мужчину малознакомого, жениха другой девушки?
– Но мне казалось, что тогда, у Мариам, ты меня понял… Ты… Ты ответил на мои чувства…
Амаль лепетала еще что-то, с каждой секундой все больше унижая себя в глазах Нур-ад-Дина.
– Аллах всемилостивый, девушка! Что ты такое говоришь?! Какие чувства?!
– Мне показалось, что ты воспылал ко мне столь же сильно, сколь я воспылала к тебе…
Увы, грезы Амали давно уже стали для нее куда большей реальностью, чем сама жизнь. И теперь, в миг, когда жизнь в пух и прах разбивала ее придуманный рай, девушка выглядела куда глупее, чем была на самом деле.
Нур-ад-Дин, и без того настроенный совсем недружелюбно, теперь был просто полон отвращения к Амали. Причем настолько, что позволил себе слова, каких воспитанный юноша вовсе не должен был говорить девушке, тем более в него влюбленной.
– Я?! Воспылал чувствами?! И к кому – к тебе? К глупой курице, к тому же павшей так низко, чтобы пытаться увести чужого жениха? Неужели я похож на подобного безумца? Ведь воспылать чувствами к подобной женщине может лишь мужчина, который готов взойти на казнь! Любой другой непременно сбежит, едва только попытается с тобой заговорить! Воспылал чувствами! О Аллах всемогущий!
С каждым следующим словом Нур-ад-Дина Амаль все ниже опускала голову. Лицо ее горело, краска заливала шею. Слова эти, злые и, конечно же, незаслуженные, как казалось девушке, впивались сотнями отравленных кинжалов ей в самое сердце. Какая же она была дура! Как мог увлечь ее этот неумный, нечуткий, злой и жестокий человек! Где были ее глаза, как она могла принять этот холодный взгляд за взгляд влюбленного, эти сухие слова за слова друга?
Нур-ад-Дин готов был продолжить, но Амали хватило и услышанного. Она почувствовала, что уже достаточно и грубостей, и унижения. Не очень понимая, что творит, девушка вытащила из корзинки испачканное рукоделие и бросила его прямо в лицо Нур-ад-Дина.
От неожиданности тот захлебнулся собственными словами. И тогда Амаль закричала:
– Да как ты смел! Кто ты такой?! Пустой тюрбан… Безмозглый осел… Ничтожество… Вот и оставайся с ней! Только ее ты и заслуживаешь!
И девушка со всех ног бросилась к калитке своего дома. Слезы душили ее. Счастье, что она не ведала, какую беду могла наслать на любого, кто просто косо бы на нее посмотрел! До этого урока в волшебной книге она еще не добралась.
И уже за одно это Нур-ад-Дину стоило бы ежедневно, да что там, ежечасно благодарить Аллаха всесильного и всемилостивого.
Последние же слова Амали стали для юноши настоящим откровением. Он выпрямился, отряхнул одеяние и проговорил:
– Да, дурочка, ты стократно права! Я только ее, моей прекрасной Мариам, и заслуживаю. Более того, только о ней я и мечтаю. Но вот согласится ли она меня увидеть вновь?
Сей вопрос Нур-ад-Дин адресовал пустой улице и, понятно, ответа не получил.
Свиток пятый
Амаль все еще переживала отповедь, данную ей глупцом и невеждой. Она готова была уже, как раньше, спрятаться у матушки в подоле, а потом со слезами ей все рассказать. Но Маймуна была занята готовкой, и отрывать ее от сего занятия было неосторожно, да и немудро.
И в этот миг раздался неуверенный стук в калитку.
– Наверняка Мариам пришла посмеяться над моим горем, – пробормотала Амаль, но калитку все же открыла.
Это и в самом деле была Мариам. Как ни расстроена была Амаль, но ее подруга выглядела куда печальнее. И потому девушки, не говоря ни слова, обнялись. Все так же, молча, они поднялись к Амали.
Хозяйка уселась на низкую скамеечку возле окна – под окном на черном столике, расписанном невиданными цветами, лежала толстая книга. То был колдовской учебник Амали. Страницы книги были испещрены удивительными рисунками и письменами, разобрать которые Мариам не могла. Амаль же преувеличенно старательно читала, периодически поднимая глаза вверх и повторяя вслух, дабы, вероятно, лучше запомнить.
– Какая ты умница, подружка! Ты учишься и днем и ночью! – проговорила Мариам.
– Ох, красавица! – ответила Амаль, с видимым удовольствием отрываясь от чтения, хоть и приступила к нему всего миг назад. – Быть может, это и хорошо – учиться и днем и ночью, но почему-то я ничего не запоминаю. Слова проскальзывают через мой разум, словно вода через решето. И вновь в голове пустота, какой она была и до того, как я садилась учить урок.
– Бедняжка! Мне жаль тебя!
– Должно быть, я совсем-совсем тупая! Не зря же матушка говорит, что я не похожа ни на кого ни в ее роду, ни в роду отца!
– Зато ты похожа на саму себя! А урок ты обязательно выучишь! Вот успокоишься и выучишь!
– Надеюсь, подружка, ты все-таки права. Мне нужно просто перестать думать о сотне вещей сразу. И тогда, я знаю, моя матушка наконец сможет гордиться мной, как равной.
– Счастливица ты, Амаль! Как бы я хотела, чтобы матушка проверяла мои дела, чтобы она учила меня или даже, о какое это было бы счастье, ругала!
Амаль недоуменно посмотрела на подругу, но, вспомнив, что матушки Мариам давно уже нет на свете, лишь ласково погладила ее по плечу. О да, по сравнению с ней она, Амаль, пусть и отвергнутая любимым, пусть и укоряемая родителями, все-таки счастливица.
– Почему так печальны твои глаза, подружка?
– Увы, Амаль, радоваться-то нечему. Все как всегда, и глупо рассчитывать, что для меня, Мариам, сверкнет когда-то хоть крохотный лучик надежды.
Амаль пристально взглянула в лицо девушки. Та говорила совсем серьезно. Более того, глаза Мариам были полны слез. И лишь огромным усилием воли ей удавалось сдержаться.
– Что случилось, Мариам?
– Я поссорилась с любимым… Аллах всесильный, Амаль, я с ним рассталась! О, я несчастнейшая из девушек!
И Мариам разрыдалась. Амаль сидела рядом с подружкой и тихонько гладила ее по плечу, желая хоть как-то поддержать ее. Увы, их любимый (о, как хорошо, что подружка не знает этого!) оказался суровым, черствым и недобрым юношей. Теперь уже она, Амаль, удивлялась, как же Мариам, доброй и кроткой Мариам, удавалось столь долго быть вместе с ним, столь долго считать его своим избранником. Ведь он должен был, вернее, просто не мог не обижать ее каждый день, каждую минуту!
Мариам, конечно, уже не помнила повода для ссоры! Но зато отлично помнила, как зло сверкнули глаза любимого, когда она, безумная, не стала его удерживать, когда не стала ползать перед ним на коленях, умоляя сменить гнев на милость. «И не буду никогда ползать! – Гордость девушки подсказала ей эти слова, пусть пока произнесенные лишь в глубине души. – Не нравлюсь – не буду и навязываться! Ведь живут же тысячи девушек, не ожидая того мига, когда их любимый предстанет перед ними! И я так смогу!»
– И правильно, молодец! Ну, подумай сама, Мариам, разве он, глупец, достоин тебя? Разве он достоин внимания хоть одной девушки в мире?
– Как ты права, Амаль! Он не достоин даже моего взгляда!
– Более того, дорогая моя девочка, он не достоин даже упоминания о себе. А ты слезы о нем льешь!
– Прости меня, добрая моя подружка, – Мариам подняла голову и улыбнулась Амали. – Ты стократно права! Я не должна ни вспоминать его, ни проливать о нем слезы! Да и шла я к тебе за другим!
– А вот это правильно, подружка! Сейчас мы с тобой спустимся и полакомимся чем-нибудь – матушка уже трижды звала меня, – а потом упросим ее рассказать нам что-нибудь волшебное, удивительное!..
Мариам улыбнулась Амали. О да, именно этого, оказывается, она и хотела с самого утра! Какого-нибудь лакомства и… и сказку! О, как давно она мечтала о волшебной сказке!
Когда же с яствами было покончено, девушки присели у ног Маймуны и впрямь приготовились слушать сказку. Но та увидела, что черед сказок прошел, а вот время бесед с мудрой матушкой уже наступило.
«Бедняжка Мариам, – подумалось Маймуне. – Ее матушка больше никогда с ней не посекретничает, не выслушает ее сбивчивых жалоб. Пусть малышка побудет у нас…»
– Вот так, мои красавицы! Помните – даже самой сильной женщине иногда бывает необходимо почувствовать себя маленькой девочкой, найти подушку, в которую можно выплакаться… Или просто послушать сказку, чтобы хоть ненадолго забыть о собственных заботах, пусть всего на миг, но стать принцессой с далеких островов, или колдуньей, которой ведомы все тайны мира, или смелой пираткой, которой сладок пороховой дым…
– О да, матушка, это понятно.
Мариам же не сказала ни слова. Она просто сидела рядом с доброй соседкой и наслаждалась мгновениями покоя.
Маймуна обожала дочь (что само по себе неудивительно). Но лишь недавно она поняла, вернее, почувствовала, что выросшая дочь перестала быть для нее опекаемой крошкой. Что теперь этой красивой и высокой девушке можно говорить серьезные вещи, с ней можно сплетничать и советоваться, как с подругой. Да, это ощущение, привычное для многих матерей, было для дочери огненного племени подлинным открытием.
Именно сегодня, когда Мариам, торопливо распрощавшись, убежала к себе, мать-джинния наконец решилась открыть Амали истинную ее сущность.
Маймуна нежно погладила дочь по голове. Что-то в этом прикосновении показалось девушке необычным, и она подняла глаза.
– Что-то случилось, матушка?
Маймуна покачала головой.
– Нет, малышка, ничего ужасного не случилось. Просто я поняла, что пришла пора, когда тебе уже можно рассказать всю правду.
– Правду, прекраснейшая? Но разве вы с отцом мне лгали?
– Нет, не лгали. И старались ничего от тебя не скрывать. Однако лишь сейчас я могу открыть тебе глаза на истину. Которая, родившись в далеком-предалеком прошлом, не должна испортить ни твоего будущего, ни будущего твоего избранника…
Амаль встревоженно взглянула на мать. Не только прикосновение руки – и нотки в голосе были столь новы, столь непривычны. И от этого сердце девушки забилось сильнее.
– Помнишь ли, малышка, что я рассказывала тебе о магических корнях нашей семьи?
– Конечно… Ты, наверное, тысячу тысяч раз повторяла, что в твоем роду были сильные колдуны и колдуньи… Что я могу унаследовать сей колдовской дар и потому не должна без крайней на то нужды ни гневаться, ни обижаться на окружающих, ни даже повышать на них голоса – особенно на тех, кто не принадлежит к нашей семье.
Маймуна кивнула. Каждое из этих слов было кристально чистой правдой, но при этом они все были до последней степени лживы. Увы, таковым бывает любое изреченное слово, стоит ему только придать иное значение.
– Да, доченька, это так. В моем роду все были колдунами и колдуньями, никто из нас не принадлежит к роду человеческому. Моим отцом был сам Димирьят, царь всех джиннов.
– Ой…
– Род же твоего отца и моего мудрого мужа не менее древен, ибо твой уважаемый батюшка рожден ифритом, и доселе я не знаю никого, кто может соперничать с ним в его огненных умениях!
– Ой… – вновь прошептала Амаль. Она чувствовала, что пол под ее ногами проваливается, а вместе с ним исчезает навек и та жизнь, которой она жила до этого страшного часа.
Маймуна же не слышала ужаса в голосе дочери. Или предпочла его не слышать – ведь надо же когда-то девочке узнать, каков мир на самом деле. А потому продолжила рассказ с поистине лекарской безжалостностью.
– Умение колдовать, которому ты учишься по древней книге, присуще каждому существу нашего рода с первого дня его рождения. Именно поэтому я и просила тебя быть ровнее и не гневаться без крайней нужды: всего одно слово, сказанное джиннией, способно превратить жизнь обычного человека в бесконечную череду страданий. А гнев, каким дочь ифрита может ожечь неразумного человечка, навсегда лишит его слуха или зрения… Да что там, и самой жизни.
– Матушка, какой ужас…
– Да, красавица, это страшно. Не делала ты этого только потому, что не знала, насколько тебе такое подвластно. Или потому, что боялась ослушаться меня или отца…
– Но почему же я об этом ничего не знала?! Почему лишь сейчас ты мне рассказываешь об этом?
– Дочь, в твоем вопросе кроется ответ: ибо лишь сейчас пришло время, когда слова мои дойдут до твоего разума, а не навеки напугают твою душу. Именно сейчас, когда ты из малышки превращаешься во взрослую де…
И тут Маймуна запнулась. Ибо каждое ее слово противоречило само себе: с точки зрения джиннии, Амаль останется неумелой и неразумной колдуньей еще долгие столетия. Хотя с самого момента рождения уже может представлять смертельную угрозу для всего человеческого. С этой же самой, человеческой точки зрения, она уже пару лет как была вполне взрослой девушкой. Но Маймуна не была бы дочерью самого царя джиннов, если бы не нашла более чем красивый и совершенно правильный выход.
– Да, именно сейчас, когда ты из малышки превращаешься во взрослую девушку… По меркам рода человеческого. Ибо теперь, зная, кто ты есть на самом деле, ты должна более чем мудро подходить к каждому человеку и вдвойне, втройне мудро взирать на каждого приглянувшегося тебе юношу – достоин ли он, пусть и привлекательный, или надежный, или успешный, или яркий, ступать с тобой по одним улицам? Достоин ли он целовать пыль у твоих ног? Достоин ли он того, чтобы стать спутником дочери огненных народов?
Что-то в словах матери показалось Амали неправильным. К счастью, у нее хватило разума не возражать Маймуне, но запомнить свой вопрос. Джинния же продолжала:
– Ибо если он сего недостоин, выяснится это на удивление быстро. И судьба его тогда будет столь печальна, что я не готова дать за нее даже медный фельс…
– Матушка, любимая, прости, что я прерываю твою речь. Но у меня так много вопросов и просьб, что я не знаю, с чего же начать.
– Начни с самой первой… или самой последней… Тебе же очень хочется высказать их все, верно?
– О да… Тогда самый последний вопрос, появившийся у меня только что. Ты говорила, что судьба его будет более чем печальна. Что это значит?
– Ты можешь в гневе превратить его в скорпиона или мышь, к примеру… А если он сильно допечет тебе своей, предположим, глупой ревностью, ты и развеять по ветру сможешь его, не двинув даже бровью, одним только движением души…
– О Аллах великий…
И тут впервые Амаль почувствовала пренеприятнейший укол.
– К сожалению, малышка, – понимающе кивнула Маймуна. – Для нас повелитель всех правоверных – не самый желанный покровитель. Ибо мой древний род и род твоего отца восходят скорее к недругам его, чем к друзьям. Какие еще вопросы ты мне хотела задать?
– Матушка, но ты расскажешь мне теперь все-все о нас? О наших предках? О традициях? О запретах?
– Конечно, моя маленькая…
– И еще одно, матушка. Нет, это не вопрос, вернее, не совсем вопрос. Вот ты говорила, что я теперь должна взвешивать, достоин ли приглянувшийся мне юноша стать моим спутником.
– Да, крошка, говорила.
– Но разве дочери рода человеческого не должны делать то же самое? Разве им их матушки не говорят о том, что их любимый игрок или мот, что он волочится за каждой юбкой или готов ради мечты забросить и дом и любимую? Разве они не должны взвешивать столь же придирчиво, сколь ты велишь это делать мне?
– Да, это так – юные девы действительно должны, как мне кажется, взвешивать все более чем придирчиво. Однако ты забываешь, маленькая, что они лишь дочери человеческого рода. И тот глупец, который окажется недостойным избранником, в любом случае окажется жив. Ему грозит лишь метко запущенный в голову глиняный кувшин… Или пятнадцать палок по пяткам за нарушение супружеской верности. В любом случае он останется жив. А вот что станет с тем, кто прогневит дочь огненного народа… Маймуна пожала плечами.
– Этого ни я, джинния, дочь царя джиннов, ни любой из ифритов, ни даже, клянусь, сам Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими, представить не может…
– Но все же?
– Он может стать скорпионом или ослом, может превратиться в облако или вулкан. Он… В любом случае человеком он быть перестанет… Может уснуть на тысячу лет, может превратиться в камень и оказаться в мраморном карьере…
– Но, быть может, именно таким и должен быть удел сего негодного, недостойного? Быть может, он и должен развеяться по ветру в назидание остальным?…
– Да, быть может, это и есть его судьба. Но вот только о назидании речь не идет. Ибо никто, запомни это, дочь, никто и никогда, хоть он человек, хоть ифрит, хоть джинн, на чужих ошибках не учится. И потому о назидании говорить и смешно и глупо. А род человеческий поберечь все же надо. Ибо как же тогда более мудрые народы огня или льда, эфира или земли будут развлекаться?
Но Амаль услышала лишь первую часть этого более чем пренебрежительного высказывания.
– Никто и никогда, матушка?
– Никто и никогда, увы…
Амаль выглядела озадаченной. Но была не просто озадачена – она была к тому же еще и здорово напугана. Именно так, как этого хотелось Маймуне. Однако следовало закончить урок, каким бы горьким он ни был.
– И помни, малышка, что тебе, дочери колдовского народа, не следует связывать свою судьбу с судьбой человека. Ибо будущего у этого союза нет…
– Нет?! Мне нельзя смотреть на юношей? Нельзя искать себе пару?
Маймуна впервые за весь этот трудный разговор рассмеялась.
– Ох, маленькая… Ну почему же нельзя? Можно! Ищи себе пару, люби… Но помни, что он умрет через лет пятьдесят-шестьдесят. А для тебя годы эти пролетят как минуты. Он станет немощен и слаб, а ты будешь оставаться молодой и сильной. Что рожденные тобой дети унаследуют все твои колдовские знания и умения, твою колдовскую судьбу и потому будут обречены искать себе пару лишь в колдовском мире…
– Так, значит, ты не запрещаешь мне любить простого человека?
– Ну, конечно, не запрещаю, ибо чувство это есть великое благо. Я лишь прошу сто тысяч раз взвесить, сколь сильна твоя любовь и готова ли ты наблюдать за тем, как старится и становится немощным твой избранник.
– Но я могу любить человека? Жить с ним, рождать с ним детей, радоваться простым человеческим радостям?
– Да, дочь. Живи с ним, рождай детей, радуйся и наслаждайся этими радостями…
– Матушка, в твоей речи отчетливо слышно «но». Чего же мне делать не следует?
– Только одного – не следует просить имама освятить ваш союз. Сколь бы он ни был крепок, но, как только сей достойный муж прочитает все свои молитвы, судьба твоя, малышка, неузнаваемо и навсегда изменится. Ты и останешься дочерью колдовского народа и перестанешь быть таковой. Будешь уметь колдовать, не будучи при этом колдуньей… Что может произойти после этого с твоим избранником, а теперь и мужем, я даже не берусь угадывать… Ибо еще Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими, говорил, что каждого из детей колдовского народа, кто решится на это, ждет кара. Причем для каждого своя – и знать о том, как будет покаран сей отпрыск, не может никто – будь он хоть сам царь колдунов.
– И все?
– Этого более чем достаточно: какой будет твоя кара – неизвестно никому. Ясно лишь, что ты перестанешь быть собой. Тебя такое не страшит?
– Нет, матушка, меня такое не страшит. Однако я запомню сегодняшний урок…
На самом-то деле Амаль понимала, что она не столько запомнит, сколько никогда сегодняшнего разговора с матерью не забудет. Что она будет мысленно возвращаться к нему раз за разом – и вновь взвешивать каждое из слов Маймуны…
– Да будет так, крошка. А сейчас давай-ка мы с тобой отвлечемся – вскоре появится отец, а ужин мы готовить и не начинали.
Свиток шестой
Это была чистая правда – солнце уже коснулось горизонта, но очаг был более чем холодным. Скажем по секрету, Маймуне вовсе не обязательно было каждый день разводить в нем огонь – иногда ей хватало тепла рук для того, чтобы лепешки подрумянились, а мамалыга превратилась из крупы и воды в изумительное лакомство. Но вечером Дахнаш, достойный муж и обожаемый отец, ифрит и дитя огненного народа, любил подкрепиться основательно – мясом, пловом, пирожками… И тут уж без помощи поленьев и очага было не обойтись.
К тому же Маймуна чувствовала, что сегодня Дахнаш приведет гостей – и, значит, следовало до поры до времени спрятать свою колдовскую сущность подальше. Увы, джинния не возражала бы продолжить вечером урок, который только что преподала дочери – быть может, следовало бы показать, как вовсе без огня приготовить ужин или как одними лишь вулканическими эманациями создать лакомство, достойное того, чтобы им насытилась дюжина ифритов. Но, увы, сей урок приходилось оставить до лучших времен.
Миг – и в печи ожил веселый огонь. Еще миг – и на него сверху сам собой водрузился казан, только вчера вечером вычищенный до блеска усердными магическими руками.
Вскоре зашумело масло и в нем стали подрумяниваться овощи для плова. Да, ифрит Дахнаш оказался необыкновенным лакомкой, а обильные и сытные человеческие блюда пришлись ему по вкусу куда более, чем огненные эманации и мировые эфиры. Вскоре плов уже жил собственной жизнью, нежась в тепле, а сверху высокая гора сладких пирожков готовилась к тому, что и хозяева, и гости воздадут им высокую хвалу перед тем, как поглотят их, обсыпанных кунжутом, источающих неземные ароматы, истекающих сладкими соками.
Амаль помогала матери, как это бывало уже сотни раз. Но впервые она увидела, что именно делает Маймуна. О нет, она и раньше наблюдала за движениями своей обожаемой матушки. Но сейчас она увидела, как собирается тесто, повинуясь едва заметным движениям глаз джиннии – вот раскрылся куль с мукой, вот белая высокая горка на каменной плите на миг окуталась дымкой. Вот в муке угнездились яйца, вот невесть откуда взявшаяся ледяная вода пролилась недолгим дождем, вот крошечные кометы приправ нашли в тесте свое место. Вот груши и инжир, окунувшись в ручеек, улеглись обсыхать на длинном льняном полотенце… Да, это было подлинной магией – драгоценной, ибо невидимой для любого, кроме тех, кто не горит желанием рассмотреть ее, а, увидев мельком, лишь пожмет плечами: «что же здесь волшебного, обычное тесто…»
Чутье не подвело Маймуну: ибо за миг до того, как скрипнула калитка, впуская Дахнаша и гостя во двор, все было готово. Более того, Маймуна не ошиблась и в числе гостей: ее мужа и нежного отца Амали сопровождал всего один человек.
Дахнаш обожал приводить в дом гостей – кузнецу, весь день проводившему в жаре и грохоте, доставляло поистине неземное наслаждение общение со всяким, ценящим волшебство живого огня горна. А таковых находилось более чем много, ибо Дахнаш был подлинным мастером, способным сотворить чудо даже из простой кочерги, не говоря уже об оружии, слава которого гремела за сотни фарсахов от города, давшего приют ему, ифриту, и его семье.
Итак, открылась калитка, и на каменные плиты двора ступил Дахнаш в привычном уже человеческом облике – высокий черноволосый мужчина неопределенных лет, выбритый и сверкающий белоснежными зубами из-под тоненьких усов (Маймуна не раз слышала от мужа, что так будут выглядеть герои непонятных сказаний о бандитах, решившихся торговать запретной «огненной водой» в далекой стране, которую недоучка Колон из Порты примет за дивную заповедную страну Хинд). Если бы не воистину богатырское сложение, Дахнаш более всего походил бы на жулика, сладкими лживыми речами выманивающего последние фельсы из тощих кошелей легковерных.
Следом за ним вошел во двор юноша, необыкновенно похожий на Дахнаша-кузнеца: тоже сложенный подобно каменотесу, более чем высокого роста – быть может, всего на палец ниже самого Дахнаша, настоящего великана по меркам здешнего говорливого базара. Глаза юноши выдавали в нем уроженца полуночных стран, но загар говорил, что свою родину он покинул весьма давно.
– Да будет милостив над этим кровом Аллах всесильный и всемилостивый! – проговорил гость гулким басом.
От Маймуны не укрылась ухмылка, на миг искривившая губы мужа, – увы, упоминание о повелителе всех правоверных все еще отзывалось в нем мучительными уколами где-то под левой лопаткой. Однако со временем терпеть эту боль становилось все легче – быть может, оттого что боль со временем уменьшалась. Или привычнее – Маймуна старалась не думать о подобных мелочах.
– Здравствуй, юный гость! – с поклоном ответила джинния. Она не прятала лица, однако все же старалась соблюдать порой казавшиеся странными местные обычаи и умело повязывала на голову яркие шелковые платки, до которых оказалась большой охотницей. – Входи под наш кров, преломи с нами хлеб, чувствуй себя как дома…
– Благодарю тебя, почтенная хозяйка.
Юноша прошел по каменным плитам и устроился у самой печи – именно там, где обычно любил сиживать и Дахнаш. Услышав же смех хозяев, он неловко вскочил.
– Присаживайся, о достойный гость, – все еще улыбаясь, проговорил Дахнаш и почти насильно усадил юношу обратно. – Это место для таких, как мы с тобой – подлинных любителей огня и жара.
Да, так оно и было – это место действительно более всего любил именно ифрит Дахнаш, хозяин дома и настоящий сын огненного народа.
– Жена, позволь представить тебе нашего гостя. Это Синдбад, сын странника Аль Ас-Синда, коего глупцы альбионцы и ромеи имеют наглость называть пиратом.
– Увы, добрый Дахнаш, это так. Отец же в самом деле куда более любит торговлю и странствия, чем грабежи и насилие. Однако его врагам удобнее считать его убийцей и бандитом, нежели достойным негоциантом.
– Добро пожаловать в наш дом, юный Синдбад, – вновь поклонилась Маймуна, несколько недоумевая, зачем понадобилось звать в дом сына пусть даже сотню раз уважаемого негоцианта, которого лишь недоумки-враги считают пиратом.
Но Дахнаш, словно подслушав мысли жены (хотя, быть может, просто их услышав – ибо рожден был сыном колдовского народа, а не глупым человечком), поспешил развеять сомнения Маймуны.
– Вот уже дюжину дней юный Синдбад помогает мне в кузне, жена. И я более чем доволен таким подмастерьем: он умел, терпелив и воистину по-львиному силен – именно этого я всегда требовал от своих подмастерьев, а теперь наконец получил.
– Благодарю тебя, уважаемый Дахнаш, – гость не поленился встать и поклониться. – Много видел я кузнецов, многим помогал, но лишь у тебя в кузне нашел не только работу и приют, но и подлинное наслаждение от сотворения нужных и прекрасных вещей!
– Но довольно раскланиваться, гость! Жена, мы невероятно голодны! Накорми нас так, как это пристало и как пристало привечать желанных гостей в доме мастеров нашего уважаемого рода!
Маймуна стала подавать ужин, уже в который раз удивляясь тому, как удивительно преображается ее муж, становясь не только умелым мастером, но и радушным хозяином-человеком. Наконец Маймуна убедилась, что ставить яства просто некуда.
– Довольно, достойнейшая! Мы не сможем съесть это и за неделю…
– Вы начните, а уж там мы посмотрим, сможете вы съесть это за неделю или вам понадобится несчастных семь дней…
Маймуна удалилась в кладовую, удивляясь, куда делась Амаль. Однако разума у джиннии все-таки хватило, чтобы не бегать по дому, подобно переполошившейся курице в поисках своего неразумного цыпленка.
Тьма спустилась на город – вечер уступил место ночи. По дому стали зажигаться огоньки – Маймуна не могла отказать себе в удовольствии поселить крошечные огненные души в разных частях своего жилища с тем, чтобы они превращались в светильники, едва зайдет солнце. Она совершенно не боялась глупых разговоров, ибо знала, что никто, хоть трижды ученый человек, не обратит внимания на живущий своей жизнью горящий светильник. Так оно и оказалось – мужчины насыщались и беседовали, светильники разгорались тем ярче, чем темнее становилась ночь.
И лишь когда пришла очередь обязательного кофе – черного, как сама эта ночь, сладкого, как мечта, и горячего, как страсть, – иного Дахнаш не признавал, – спустилась вниз и Маймуна. Мужчины с удовольствием помогли хозяйке найти на столике место для пышущего жаром кофейника.
– Но где же наша дочь, прекраснейшая?
Увы, Маймуна знала лишь, что дочь где-то дома, но вот где – увы, не ведала.
– Должно быть, усердно штудирует науки, – пожала плечами джинния.
– До сих пор? – Дахнаш был по-настоящему удивлен. – Отрадная усидчивость…
– Штудирует науки? – Юный Синдбад не смог скрыть изумления. – Девушка?
– Что тебя удивляет? – недобро улыбнулась Маймуна. – Что, в твоей стране девушки не штудируют науки? Не читают книг? Не учат иноземных языков, дабы знать, сколь огромен мир?
– Зачастую, почтенная хозяйка, они ничего этого не делают, ты права, – кивнул Синдбад. – Ибо считают, что этим могут лишь отвратить от себя будущих женихов.
– Какая дикая страна… – Маймуна готова была высказаться и жестче.
– Увы, достойнейшая, это так. Наша полуночная страна действительно иногда более чем дика. Мои старшие братья частенько жаловались, что не знают, о чем разговаривать с такими девушками. Ибо не только же животная страсть привлекает юношу, но и разумные речи, живые глаза, мудрые поступки.
– Вот я и говорю: дикари. Лишь разумная, образованная женщина может дать достойное воспитание детям, лишь образованная мать сумеет раскрыть им глаза на то, как велик и прекрасен мир…
– Ну-у, жена, не стоит говорить о столь тонких материях…
– Твоя мудрая и прекрасная жена более чем права, достойный Дахнаш, – ответил ифриту Синдбад. В ответе этом Маймуна с удивлением услышала подлинное волнение: юноша, похоже, и в самом деле, не для приличия, был согласен с ней. – Я удивлен тому, сколь созвучны ее слова словам моей, увы, уже почившей матушки. Она, бедняга, родила лишь пятерых сыновей и весьма печалилась, что, собрав знания, кои можно передать лишь дочери, теперь вынуждена сутками молчать.
– Должно быть, твоя матушка нашла для себя отраду во внучках, уважаемый гость? – Маймуна задала вопрос скорее для приличия, но, увидев в глазах гостя настоящую боль, пожалела о своем показном любопытстве.
– Увы, уважаемая. Моя матушка погибла. Как погибли и мои братья. Враги отца решили, что весть о смерти семьи сможет выманить Ас-Синда, призвать его к родному порогу. Но тут они просчитались – ибо в огне пожара удалось уцелеть лишь мне, а достойный Аль Ас-Синд все так же бороздит океаны, не возвращаясь на туманные берега Альбиона. Если еще жив, конечно.
Маймуна почувствовала, какой болью дались юному гостю, с виду такому невозмутимому, столь простые слова. Она жалела и о том, что начала этот разговор. И о том, что позволила себе затронуть больные струны в душе юного помощника своего мужа.
Но еще более жалела Маймуна о том, что слова эти могла услышать Амаль – ибо знала, что к сердцу девушки нет более короткого пути, чем жалость. А то, что дочь тайком прислушивается к беседе во дворе, джинния не сомневалась ни на миг.
– Должно быть, почтенная хозяйка, мне следует рассказать о себе – дабы более не мог я заставить тебя жалеть о неловких словах. И потом, должен же мой уважаемый наниматель знать, с кем имеет дело.
– Я знаю, с кем имею дело, мальчик. Твои руки зачастую говорят куда яснее слов.
– Однако, уважаемый, я все-таки поведаю о том, как оказался в здешних местах. Не хочу, чтобы твоя прекрасная жена считала меня просто неловким варваром, как не хочу, чтобы она подозревала меня в дурных наклонностях или неумных поступках.
Синдбад задумался. Глаза отражали, как далеко он сейчас от теплых лепешек и уюта дома джиннии и ифрита. Он был там, на родных берегах, и голос его выдавал, насколько горько и больно ему это возвращение.
И, наконец, заговорил.
Свиток седьмой
Все замерло без движения, только пролетал ветер и изредка падали последние, замешкавшиеся капли дождя да стекала вода с разрушенной стены. Я долго прислушивался, но других звуков уловить не мог. Мне мерещились враги там, где их не было.
Несколько часов назад это место посетила смерть. Эта куча обугленных развалин была моим домом, и еще прошлой ночью, уставившись в темный потолок своей комнаты, я, как всегда, мечтал здесь о заморских странах. А теперь моя мать лежит в неглубокой могиле, вырытой моими собственными руками, родной дом превратился в руины и дождевая вода собирается лужами в выбоинах древнего каменного пола… пола, выложенного моими предками в незапамятные времена.
Рассвет уже послал небу первую весть о себе. Я покрепче сжал в кулаке нож, выждал еще немного в тени и сказал себе: «Я достану это золото или убью каждого, кто встанет между ним и мной».
Тлеющие угли уже не просвечивали между обрушившимися балками крыши – дождь погасил их, оставив лишь смрад намокшего обгорелого дерева и запах смерти. Я стрелой метнулся из своего укрытия к колодцу, опустил руку внутрь и стал отсчитывать холодные камни.
Два… три… четыре… пять!
Острием великолепного дамасского кинжала я расковырял известку. Несмотря на пронизывающую ночную сырость, пот крупными каплями выступил у меня на лбу. Люди Магеррада могли вернуться в любую минуту.
Наконец камень подался. Я расшатал его пальцами и поднял наверх. Вложил кинжал в ножны и запустил руку в углубление от камня, нащупывая шкатулку, которую спрятал там мой отец. Вот она! Мягко, осторожно я вытащил ее из ниши – маленькую коробочку из дерева со странным, нездешним запахом…
И тут за спиной у меня раздались приглушенные шаги!
Обернувшись, я увидел смутно вырисовывающуюся почти рядом со мной темную фигуру. Таким высоким мог быть только Файталер, наемник, ближайший помощник Магеррада, ветеран грабительских войн.
– Ага-а! – Файталер был доволен. – Я так и знал! Старый волк спрятал сокровище, а волчонок вернулся за ним.
– Это ничего не стоит, – солгал я, – просто пустяки, которые оставил мне отец…
– Вот и отдай мне эти пустяки, – Файталер протянул руку, – и можешь идти своей дорогой. Пускай Магеррад сам охотится за детьми.
Ночь была холодная. Ветер студил мое тело под мокрой от дождя одеждой. Где-то поблизости крупная капля упала в лужу, раздался едва различимый звук – «кап»! Среди тех, кто останавливался в доме моего отца за многие годы, был один тощий, жилистый, свирепый с виду моряк с кожей, покрытой оспинами и ножевыми шрамами. Однажды, впившись мне в плечо твердыми и острыми, как когти, пальцами, он криво улыбнулся на одну сторону и дал мне совет:
– Доверяйся своей смекалке, парнишка, и своей крепкой правой руке.
И, глядя на меня искоса, осушил стакан.
– А если у тебя еще и левая крепкая и есть немного золота – это тоже не повредит!
Моя левая… Моя левая рука еще лежала на камне, вынутом из углубления. Может, я пока и парнишка, но уже сейчас высок и силен, как взрослый мужчина, и, как аравиец, черен от солнца, потому что совсем недавно вернулся с рыболовных банок за Исландией, куда ходил с людьми с острова Брега.
– А ты точно отпустишь меня, если отдам тебе шкатулку? – спросил я и покрепче сжал камень.
– До тебя мне дела нет. Давай ее сюда.
Он потянулся к шкатулке, и тут я ударил его камнем.
Слишком поздно Файталер вскинул руку, чтобы защититься от удара. Он, правда, сумел сохранить в целости череп, но свалился как подкошенный. Я перескочил через неподвижное тело и побежал – во второй раз за последние несколько часов искал я спасения на вересковых пустошах.
Какой мальчишка не изучил вдоль и поперек землю своего детства?! Каждую пещерку, каждый дольмен, каждую рытвину в земле, и каждую дырку в изгородях, и весь безлюдный, зажатый скалами берег на целые мили в обе стороны. Здесь я играл и вел воображаемые войны, и здесь я смогу удирать, прятаться, ускользать. Только сегодня перед вечером я бежал, спасаясь от людей Магеррада, и вот теперь снова приходится спасаться – теперь уж от его подручных.
Позади меня Файталер, шатаясь, поднимался на ноги. Он встал и, еще оглушенный после удара, натолкнулся на стену. Я слышал, как он ругается. Должно быть, наемник заметил меня, потому что громко заорал и бросился вдогонку.
Нырнув в низинку, заросшую кустарником, я прополз по узкому проходу вроде туннеля, известному лишь окрестным волкам да мальчишкам, а когда штормовые облака рассыпались, словно овцы, чтобы попастись на лугах небесных, опять вышел к бухточке.
Там стоял корабль. Команда возилась на берегу, наполняя бочки водой. Увидев, что я приближаюсь, двое моряков выхватили мечи, а третий наложил на лук стрелу; так они стояли и смотрели мне за спину, не следует ли за мной еще кто-нибудь. Судно у них было неуклюжее, плохо выкрашенное, с наклонной мачтой и одним рядом весел – ничего похожего на стройные черные корабли моего отца-негоцианта и корсара.
Матросы с мечами, разглядев, что я совсем еще мальчишка, пришел один и опасаться им нечего, выступили вперед – теперь вид у них стал более свирепым.
– Я желаю говорить с вашим капитаном, – сказал я.
Они указали на приземистого, жиреющего человека в грязном красном плаще. Смуглый, с глубоко посаженными хитрыми глазами, он мне сразу не понравился, и я охотно вернулся бы к руинам, если бы не разыскивающие меня люди Магеррада.
– Мальчишка! – пренебрежительно бросил капитан.
– Но рослый, – заверил его один из подчиненных, – и сильный парень.
– Куда вы плывете? – спросил я.
– Куда ветер несет. – Он оглядел меня недружелюбно, но оценивающе.
– Может, на Кипр? Или на Сицилию?
Капитан посмотрел на меня с интересом – эти места были известны лишь немногим, кроме странствующих купцов или крестоносцев. Но мы, жители побережья Бретани, рождались для моря. В роду моей доброй матушки были венеты – те кельтские мореплаватели, которые вслед за своими жрецами-друидами отказались платить дань Риму и устояли перед легионами Юлия Цезаря.
– Похоже, мальчик, ты знаешь о Кипре? – глумливо усмехнулся толстяк.
– Может быть, там мой отец. Я его разыскиваю.
– Кипр – это далеко. Что ему там делать?
– Моего отца, – гордо сказал я, – зовут Аль Ас-Синд!
Как я и надеялся, они остолбенели – корабли Аль Ас-Синда были известны каждому: они опустошали берега и нападали на суда многих народов, ведущих торговлю за самыми дальними морями. Имя моего отца было сродни легенде.
– Твое путешествие будет напрасным. Пока ты доберешься до Кипра, он уже уплывет оттуда.
Мне еще предстояло получить множество уроков, и один из них заключался в том, что нельзя говорить слишком много.
– Его корабль был потоплен, а отец или убит, или продан в рабство. Я должен разыскать его.
Ни один человек не пожелал бы по доброй воле навлечь на себя гнев Аль Ас-Синда; но после моих слов капитан, видимо, успокоился и теперь знал, что делать. Я был высок, а в плечах шире любого из его команды – кроме двоих.
– Ну так как, если поплывешь с нами, ты будешь работать или заплатишь?
– Если цена не слишком высока, то заплачу.
Тут уже вся команда придвинулась ближе, и мне очень захотелось, чтобы со мной был меч… Но что оставалось делать? Я должен либо бежать с ними, либо стать лицом к лицу с псами Магеррада.
– Я могу заплатить золотой дублон, – предложил я.
– Да ты же сожрешь больше! – презрительно произнес он, однако взгляд недобрых маленьких глаз стал острее.
– Два дублона?
– А где ж такой мальчишка мог раздобыть золото?
Его внезапный жест застал меня врасплох, и, прежде чем я успел шевельнуться, меня схватили и швырнули наземь. Несмотря на мое сопротивление, шкатулку вырвали из-под рубахи и взломали. Сияющее золото потоком полилось на песок, несколько монет раскатилось в стороны, ускользая от жадных пальцев. Капитан отобрал золото – как неохотно разжимались пальцы! – чтобы разделить между командой.
– Ладно, берите его на борт, – приказал он. – Дорогу свою он оплатил, но работать будет все равно, а не то отведает кнута.
Мой кинжал вырвал из ножен какой-то урод с круглым, как луна, лицом и нечесаными волосами, – вырвал и сунул себе за пояс. Уж его-то я никогда не забуду. Дамасские клинки нелегко достать, а этот к тому же был отцовским подарком.
– Ну вот, кое-чему ты уже научился, – сказал капитан, злорадно усмехаясь. – Никогда нельзя показывать свои деньги чужим людям… Ладно, делай послушно свое дело и доживешь до Сицилии. Я знаю там одного турка, который даст отличную цену за такого смазливого мальчика… – Он ухмыльнулся. – Впрочем, когда попадешь к нему в руки, долго ты мальчиком уже не останешься…
Я был избит, весь в синяках, но все равно, стоило ноге моей коснуться палубы, как вдоль спины пробежали мурашки. Однако когда меня подвели к свободному месту гребца на рабской скамье и я увидел, в какой грязи мне придется работать, я попытался отбиваться. Казалось невозможным, чтобы люди могли существовать в таких отвратительных условиях, хотя, надо признаться, жилища у нас на побережье не блистали чистотой – кроме дома моего отца.
Он был родом из Багдада, последним потомком старинной семьи, не один десяток лет путешествовал по странам под рукой Аллаха всесильного и принес в наш дом не только богатые ткани, но и другой образ жизни – среди прочего, любовь к купанию в горячей воде.
Прикованный к веслу, я с отвращением огляделся вокруг. Тогда я не представлял себе, что смогу все это выдержать… хотя со временем мне довелось узнать, как много может вынести человек – и все-таки выжить. Положение рабов на этой галере было жалким, я жалел их, жалел и себя вместе с ними. Их спины носили свидетельства того, что происходит, когда надсмотрщик прохаживается вдоль скамей, а его бич не бездействует.
На нашем судне требовалось по два человека на каждое весло, и рядом со мной был прикован крупный рыжий здоровяк самого разбойничьего вида.
– Недолго ты дрался, – презрительно сказал он. – Неужто кельты так ослабели?
– Это судно держит путь в древний и вечно юный город Искендера Двурогого, а мне туда и нужно… – Я сплюнул кровью и добавил: – А кроме того, на берегу меня ждет смерть.
Его громкий хохот показал, что этот рыжий еще сохранил силу и присутствие духа; видно, плеть пока не сумела сломить его и превратить в настоящего раба.
– Эх, добрались бы твои враги сюда! – цинично произнес он. – Здешний сброд мало что понимает в драке и еще меньше в мореплавании. Будет истинным чудом Господним, если они нас всех не утопят.
Звали его Рыжий Марк.
– Остерегайся, – предупредил он меня. – Этот зверь с плетью, там, на баке, очень скор на руку. Старайся, работай как следует, а не то шкуру спустит.
– Меня зовут Синдбад, – сказал я и, произнеся это имя, почувствовал себя бодрее.
– Это имя кое-что да значит, – согласился он.
Немного высокопарно – по молодости – я рассказал ему о своем отце.
– Мужчины нашего рода вели в бой других венетов против Цезаря, и, говорят, среди монахов, приветствовавших викингов, когда те впервые приплыли в Исландию, был Синдбад, мой прямой предок.
– Вчерашним ветром паруса не надуешь, – ответил Рыжий Марк. – Я знаю, бретонские корсары свершили много дел, но вот сам-то ты чего стоишь?
– Спроси у меня об этом лет через пять. Тогда я найду, что тебе ответить.
Прошло четыре года с тех пор, как отец отправился в свое последнее путешествие – торговать и грабить, ибо пиратством занимались все корабли, когда представлялся случай. Бретонцы были корсарами с тех самых пор, как корабли начали плавать по глубоким морям. Пусть и называли они свои набеги негоциями, но «сколько ни говори „халва“, во рту слаще не станет».
Да я и сам недавно вернулся из путешествия к богатым рыбным полям далеко на закате, куда плавал с людьми с острова Брега. Месяцы, проведенные в море, прибавили мне мускулов и научили, как жить и работать среди мужчин.
Вернувшись домой, я обнаружил, что лошадей наших украли, стада угнали, а на двух старейших вассалов отца напали близ самого нашего замка и убили их. Пока мой отец был дома, Магеррад трясся от страха у себя в замке: отец пообещал в случае чего повесить его за ноги на стене этого самого замка. Но я, как ни старался, не смог поднять людей против этого труса. Они были напуганы и осторожны: «Подождем, пока возвратится Аль Ас-Синд».
Когда потом Магеррад явился к нам, мы с матерью встретили его в воротах; рядом с нами были четверо моих братьев и еще двое слуг с мечами наготове. Мы оказались для него слишком острым блюдом, и он только грозился, требуя уплаты дани и обещая спалить наше жилище вместе с нами.
– Приходи когда хочешь, – гордо сказала моя мать. – Скоро Аль Ас-Синд будет здесь, уж он тебя приветит.
Ядовит и едок был его смех:
– Ты думаешь, я не слышал? Он убит в бою с маврами у берегов Кипра!
Все это я рассказал шепотом Рыжему Марку. Рассказал еще, как однажды, вернувшись домой, я нашел мать убитой, а дом в огне. Как, обезумев от горя, я выскочил из-за изгороди и бросился на Магеррада: только стремительный прыжок спас ему жизнь. Клинок мой лишь распорол негодяю щеку, залив одежду кровью. Ошеломленные внезапностью нападения, его люди не успели спохватиться, и я ускользнул… хотя свобода моя и оказалась такой недолгой…
Свиток восьмой
Маймуна не зря обеспокоилась тем, что Амаль услышала печальную историю юного гостя. Девушка, конечно, пожалела Синдбада, а пожалев, тут же перестала даже вспоминать Нур-ад-Дина, став все чаще и чаще вспоминать гиганта кузнеца.
Более того, она решила, что помощник отца тоже не принадлежит к роду человеческому – не зря же Дахнаш не нахвалится своим подмастерьем.
– Не может быть, матушка, чтобы столь умелый кузнец был обыкновенным человеком. Его манит огонь, ему поклоняется огонь, ему служит огонь – значит, и в его жилах течет кровь колдовского народа, самая крошечная ее часть, но все же…
Маймуна лишь пожимала плечами – дочь могла быть в чем-то права. А если юный богатырь – действительно далекий потомок кого-то из бесчисленных ифритов или джиннов, бэнши или гоблинов, ведь многие из них умели принимать облик человеческий и многие любили дочерей человеческих? Однако родство сие было чересчур далеким, если и было вообще.
Урок, который не так давно преподала Маймуна дочери, уже забылся, и теперь Амаль ежедневно прибегала в кузню отца, чтобы принести свежеиспеченные лепешки или якобы забытый отцом халат, унести посуду, которую забыла захватить вчера, или просто минуту-другую поболтать с всегда доброжелательным Синдбадом.
Не укрылось от Маймуны и то, что как бы ровен и почтенен ко всем вокруг ни был юный Синдбад, при виде Амали в глазах его разгорается пламя, а губы неизменно украшает нежная улыбка. Одним словом, не только Амаль была увлечена юным подмастерьем отца, но и он готов был влюбиться в девушку.
– Не понимаю, прекраснейшая, почему тебя так тревожит это? – как-то вечером пробормотал Дахнаш, когда жена поделилась с ним своими опасениями. – Синдбад славный парень, сильный, мудрый. Отчего бы ему не влюбиться в нашу девочку?
Маймуна лишь глубоко вздохнула. Какой-то частью своего разума, быть может, более присущей джиннии Маймуне, она осознавала, что нет нужды беспокоиться о дочери, что девочка в силах постоять за себя… И что тот скорпион, в которого превратится неудачливый возлюбленный, будет ничуть не страшнее любого иного скорпиона, что… «Не стоит беспокоиться о маленькой ведьме!» – именно это твердила Маймуна-джинния Маймуне-матери.
Однако та уже в сотый раз удерживала себя от того, чтобы вновь войти в комнату Амали, чтобы еще раз напомнить о том, что нельзя ей, дочери колдовского народа, вновь обращать внимание на сына рода человеческого, что ничего хорошего ждать от такого союза не следует, как нельзя ждать чего-либо радостного от встречи холодных океанских вод с горячей душой извергающегося вулкана.
Но все же в комнату к дочери не входила и повторять свои слова не решалась. Увы, пылкая и бесшабашная джинния все чаще уступала место заботливой матери – подобной всем иным матерям, беспокоящейся денно и нощно о благе каждого из своих детей, какими бы взрослыми те ни были. И, увы, прислушивающейся к голосу своих опасений куда усерднее, чем к гласу разума.
Дни пролетали за днями, но интерес двух юных сердец друг к другу не иссякал – скорее наоборот: ни Амаль, ни Синдбад уже не мыслили ни дня друг без друга. Если днем девушка не прибегала в кузню отца, то вечером Синдбад и Дахнаш вдвоем возвращались к уютному очагу и щедро накрытому столу.
Дни незаметно складывались в недели, затем в месяцы. Так прошло более полугода с того вечера, как юный Синдбад в первый раз переступил порог дома своего нанимателя.
В тот вечер (как казалось Маймуне, злополучный) порог дома Дахнаш переступил один. И был вечер этот слишком ранним – до заката оставалось еще несколько часов.
– О муж мой, что случилось? – всерьез испугалась джинния. – Несчастье?
Дахнаш гулко расхохотался.
– Прекраснейшая, ты стала совсем человеком – обычной пугливой девчонкой! Ничего не случилось. И, думаю, не случится в ближайшие дни.
– Но отчего ты в столь ранний час вернулся домой?
– Ибо я получил весточку, что мой названный старший брат – ифрит Бохрам – ищет встречи со мной. Вот я и оставил кузню на Синдбада, а сам прибежал к тебе, дабы ты вместе со мной встретила уважаемого гостя.
Маймуна покачала головой – ее сердце не ликовало в предвкушении этой встречи, но и не печалилось. И это джинния решила счесть хорошим знаком. О, как же сильно она ошиблась – знак то был дурной, но узнала достойная колдунья об этом куда позже.
Сейчас же Маймуна, пожав плечами, лишь порадовалась, что Амаль с самого утра отпросилась вместе с соседкой и ее дочерью – глупой донельзя и донельзя же навязчивой Джамилей, – на ярмарку, которая раскинулась на полудень от главных городских ворот. Теперь можно было, не принимая привычного уже человеческого облика, заняться приготовлениями к встрече уважаемого гостя.
Даже в своей колдовской ипостаси Маймуна едва успела сделать все, чтобы достойно встретить названного брата мужа. Однако тот, против ожиданий, вошел неспешно в калитку именно в человеческом облике. Более того, его сопровождал юноша, чем-то на него похожий и точно так же одетый.
– Да сохранит Аллах всесильный и всевидящий этот дом на дюжину дюжин лет! – воскликнул достойный негоциант, под личиной которого прятался ифрит Бохрам. Воскликнул так, чтобы его слышали все собаки на всех окрестных улицах. Однако от взгляда Маймуны, мгновенно принявшей человеческий облик, не укрылся охранительный знак, которым осенил себя сей тучный гость.
«Защищаешься, толстяк… – С удивлением Маймуна заметила, что гостю она нисколько не рада, как не ждет от его визита ровным счетом ничего хорошего. – Защищаться-то любой неумеха может. А ты попробуй прожить среди людей без всяких амулетов и заговоров… Попробуй терпеть каждый раз боль, что пронзает тебя даже при случайном упоминании повелителя всех правоверных…»
– Брат мой, – Дахнаш раскрыл гостю объятия. – Сколь долгой была наша разлука!
– И сколь сладкой стала встреча! – Толстяк не без опасения нырнул в объятия хозяина.
Маймуна наблюдала за встречей братьев, но почему-то без малейшего умиления. Скорее она чувствовала себя зрителем, который тайком пробрался в балаган и теперь наблюдает за достаточно удачной репетицией.
Наконец гости умостились за столиком, наконец опустился на подушки и сам Дахнаш. Позволила себе присоединиться к мужу и Маймуна. Здесь, за высоким дувалом, вдали от людских глаз, она не считала нужным соблюдать иные, нелепые, на ее взгляд, традиции и обычаи.
– Почтенные хозяева, – с легким поклоном начал толстяк-гость. – Должно быть, вы увидели сходство между мной и этим юношей. Да, это мой сынок, достойный и умелый Джидрис. Не так давно он стал самым успешным выучеником твоего, о прекраснейшая, отца, великого Димирьята.
Маймуна склонила голову так, чтобы ее кивок заметил лишь самый внимательный.
– Он же, о уважаемые, поделился со мной радостью от того, что вы наделили его прекрасной внучкой, умницей и красавицей Амалью.
«Интересно, откуда мой батюшка знает, что Амаль умница и красавица? Он же ее видел один-единственный раз в тот день, когда малышке исполнилось пять… Похоже, толстяк привык льстить и теперь уже не может иначе вести беседу даже с самыми близкими…»
– Да, – Дахнаш самодовольно кивнул. – Амаль выросла умной и прекрасной дочерью, достойной своей великой матери…
– Тогда, полагаю, не следует нам, почтеннейшие, ходить вокруг да около. Думаю, о нет, я уверен в том, что мой сынок станет прекрасным мужем для вашей дочери. Он просто горит желанием соединить свою судьбу с судьбой дочери самого Дахнаша!
«И внучкой самого Димирьята, великого повелителя колдовского мира! – не без злорадства подумала Маймуна. И тут же вынуждена была одернуть сама себя. – Хотя лучшей пары для Амали нам не сыскать, ибо пусть юноша и обременен столь неприятными родственниками, однако быть выучеником моего уважаемого отца и отпрыском колдовского народа вовсе немало. Вот только как обо всем этом сказать Амали?»
Видимо, сомнение все же пробилось через маску гостеприимства.
– Уважаемая, отчего ты сомневаешься в успешности этого союза?
«Какое счастье, что я сомневаюсь совсем в другом!» – подумала Маймуна.
– О достойнейший. – Маймуна чуть склонила голову. – Я ни единого мига не сомневаюсь в успешности сего союза. Более того, я думаю, что лучшей партии для нашей дочери не сыскать. И дело вовсе не в том, что твой уважаемый сын выученик моего батюшки. Хотя это только хорошо говорит о нем. Дело и в том, что твой сын – дитя колдовского народа. Не мне упоминать сейчас, сколь нечасто могут девушки из колдовских семей встретить юношей, отягощенных той же тайной рождения…
Бохрам часто-часто закивал. О да, он знал, что девушки колдовского рода – явление куда более редкое, чем снег в знойной пустыне. Более того, именно из-за этого он и переступил порог дома «отступника», каким считал Дахнаша только за то, что тот решился жить среди людей и служить им своими удивительными умениями.
– Замечу, почтенный, что на моем лице ты прочитал не сомнение, а скорее удивление. И еще отчасти печаль – ибо если дочь сватают, значит, ее мать уже стара и годится лишь в поварихи или прачки…
О, каким светом полыхнули глаза Дахнаша! Он-то знал, как молода и сильна на самом деле его жена. Знал, что в словах Маймуны сейчас куда больше яда, чем это может услышать любой, будь он хоть трижды маг!
– Прекраснейшая! Позволь не согласиться с тобой! Ибо ты столь же юна, сколь и прекрасна! Позволю заметить, что ты выглядишь сестрой своей дочери, пусть и старшей… Но сестрой, если не сверстницей…
– Не следует льстить мне, добрый гость, – Маймуна улыбалась, но ни грана доброты не было в этой улыбке. – Я лишь объяснила, какие мысли меня сейчас тревожат. Скажи мне, юноша, ты и в самом деле горишь желанием жениться на нашей дочери?
Похоже, ответ на этот вопрос почтенные гости не репетировали, так как юноша откровенно замялся.
«Да, мальчик, врать ты еще только учишься и знаешь, что получается это у тебя… скверновато…»
Маймуна улыбалась, наблюдая за безмолвными муками юного гостя. Тот же сначала покраснел, потом побледнел, потом пошел пятнами, потом глубоко вздохнул и наконец проговорил:
– Я мечтаю об этом. Ибо она есть мечта моей жизни… Ибо горю дыханием… нет, желанием, соединить судьбу с судьбой этой прекрасной внучки…
Теперь пошел пятнами его отец – достойный Бохрам. Однако старший быстрее справился с собой, вновь окунувшись в облик тучного, но богатого негоцианта и заботливого отца. Он положил руку на плечо сына, и тот замолчал.
– Мальчик волнуется, уважаемая. Полагаю, ты можешь понять его чувства.
– Конечно, почтеннейший. Я понимаю его чувства и уважаю их – войти в дом невесты всегда столь волнительно для жениха…
Теперь часто кивал Джидрис, радуясь подсказке, которую заботливо предложила мудрая Маймуна.
– Воистину, прекраснейшая, ты более чем права – мое волнение так велико, что я даже слов найти не могу.
– Увы, мой мальчик. Я вынуждена тебя разочаровать. Амаль появится лишь на закате – она с подругой отправилась на ярмарку. Так что тебе придется набраться терпения и дождаться завтрашнего дня. А вот завтра, едва наступит полдень, войди вновь в наш дом – и попытайся покорить сердце своей избранницы.
– Да будет так, мудрейшая из джинний, – юному Джидрису удалось склониться удивительно низко. В глазах его читалось нешуточное облегчение.
Маймуне на миг даже стало жалко мальчика. Но лишь на миг. Ибо она прекрасно знала, что ей скажет дочь, когда узнает о визите «жениха». Предчувствовала она и неприятный разговор с мужем, но тут она хотя бы знала, что ответить.
«Казнь не отменена, малыш, – подумала Маймуна. – Она лишь отложена!»
Стократно кланяясь и заверяя в неизменности чувств, гости покинули дом Дахнаша.
– Жена, что это было? Почему ты выгнала уважаемых людей? Отчего не пригласила их дождаться у нас возвращения Амали? Отчего не потчевала со всей возможной сердечностью?
– Любимый, что с тобой? Это же не кади и не глава городской стражи! Это такие же дети колдовского народа, как мы с тобой! Почему я должна их потчевать, если им может быть неприятен вкус человеческой пищи? Отчего я должна приглашать их дожидаться нашей дочери и коротать досуг в неспешной беседе за обильным столом? Они, быть может, уже потеряли свой человеческий облик и для них завтрашнее утро настанет через миг…
(Тут Маймуна оказалась необыкновенно, сказочно права. Ибо почтенные гости, ступив за порог и увидев лишь пустую улицу, тотчас же растворились в тени старого карагача и растаяли среди листвы – дожидаться восхода солнца детям колдовского народа более по вкусу где-нибудь в теплых странах. Например, в жерле вечно живого Везувия…)
– А вот нас с тобой, о мой муж и повелитель, ждет пренеприятнейшее объяснение с дочерью. Я даже знаю слова, с которыми она набросится на тебя. Более того, я готова спорить на тысячу полновесных динаров и уверена, что спор сей выиграю…
– Спорить?… Набросится?… Но почему?
– Посмотрим, Дахнаш. Дождемся дочери… Непонятная Дахнашу уверенность горела в глазах прекрасной джиннии. И ифриту показалось, что куда лучше не спорить сейчас с женой, а и в самом деле дождаться прихода дочери.
«Вот когда девочка побеседует с юным Джидрисом, вот когда поймет всю мудрость этого союза… О моя прекрасная, вот тогда я тебе и укажу на то, сколь неразумна бывает женская уверенность по сравнению с мужской мудростью…»
Увы, Дахнаш еще не почувствовал, что и сам он уже почти перестал быть ифритом – да, он оставался им по рождению… Но разумом-то давно уже превратился в самого обычного человека! Заботливого мужа, любящего отца – главу семьи, несколько свысока взирающего на «своих девочек»…
Садилось солнце, остывали камни двора, у окна расположилась с иглой Маймуна, уверенная в своей правоте. Тишина, такая, какой бывает она в вечно шумном городе, ненадолго окутала уютный дом Амали.
Когда же на небе показалась первая звезда, калитка наконец открылась.
– Нет, моя прекрасная, сегодня я сюда не войду, – услышала джинния голос юного Синдбада. – Вот завтра, когда сядет солнце, я приду, дабы просить у твоих уважаемых родителей позволения назвать тебя своей женой. Сейчас же простимся…
– Хорошо, любимый… Завтра на закате… Маймуна выглянула. Ее взору предстало прекраснейшее из зрелищ, какое лишь может себе представить мать взрослой девушки: пара застыла в объятиях, не в силах разомкнуть рук.
«Вот и ответ, о мой муж и повелитель… Кажется, я знаю, что тебе завтра скажет твоя дочь!..»
Маймуна вновь опустила глаза к шитью – отчего-то она пристрастилась к вышиванию. Мельчайший бисер в ее руках превращался в изумительной красоты картины.
– Какие чудесные платьица я смогу дарить своей внучке… – прошептала Маймуна, улыбаясь своим мыслям.
Свиток девятый
– Дочь, нам надо поговорить! – Голос Дахнаша в тиши утра не сулил ничего хорошего.
– Матушка, отчего так сердит отец? – шепотом спросила Амаль.
– Малышка, вчера у нас были гости, о которых отец хотел бы поговорить с тобой.
– Гости? Но почему же тогда отец с самого утра столь суров?
– Мы повздорили из-за их прихода. А дело-то касается тебя. Вот поэтому отец и сердится на всех сразу: на меня, на тебя, даже на блюдо с пирожками. Вот сейчас он его уронит…
Подтверждая слова Маймуны, внизу раздался грохот упавшего медного блюда.
– Да будет в этом доме порядок хоть когда-нибудь?! – взревел Дахнаш.
– Иди, доченька. Иначе через миг наш папа превратится в вулкан.
Хихикнув, Амаль выскочила из комнаты. Джинния сразу же перестала улыбаться – она-то знала куда больше, чем полагала дочь, и намного больше, чем думал муж. А потому опасалась, что разговор этот может быть весьма и весьма неприятным.
Однако, к ее невероятному изумлению, внизу было тихо. Потом раздался смех Амали, потом хлопнула калитка. И только тогда джинния решилась спуститься вниз.
Амаль хлопотала у столика, вокруг царил уже почти образцовый порядок.
– Матушка, иди скорее, лепешки остынут.
Лепешки, конечно, и не думали остывать. Но джинния завтракала молча – что-то в сегодняшнем утре было неправильным, настораживающим.
– Доченька, что сказал тебе наш сердитый отец?
– Ничего особенного, – Амаль пожала плечами. – Он лишь велел мне никуда не выходить из дому и привести все в порядок, чтобы не стыдно было принять гостей. Но я и так никуда не собиралась. А что до порядка… Вот, уже почти все заметено…
Метла уже наводила чистоту в самом дальнем углу двора.
Маймуна улыбнулась – Дахнаш решил повременить. Похоже, он все-таки не был настолько уверен в себе и своих словах, чтобы прямо с утра огласить свою волю. Или, напротив, был настолько уверен в своей власти…
– Да будет так, доченька. Сделай все, что велел отец. Не следует его сердить лишний раз.
«Но куда же отправился он сам? Отчего не принимает деятельного участия в подготовке к встрече уважаемых гостей?» Увы, о том, сколь мало она, джинния, дочь древнего рода, уважает этих самых гостей, муж прекрасно знал. Тем более удивительным был его уход из дома, где, как он надеялся, все с нетерпением ждут появления жениха.
Недоумение и удивление Маймуны длились недолго – ифрит вернулся домой задолго до полудня. О его триумфальном появлении возвестил нешуточный грохот: необыкновенных размеров блюда, несколько кувшинов и чаш, с десяток пиал произвели шум, который не услышал бы лишь глухой.
– Дочь наша! Жена наша!
– О громогласнейший! Зачем так кричать – мы же обе здесь, всего в двух локтях от тебя!
– Амаль, малышка, посмотри!
Лицо Дахнаша лучилось самодовольством.
– Эту посуду из бронзы я сам украсил эмалью и благородными металлами… Со дня твоего рождения я собирал ее, дабы в тот день, когда ты станешь невестой, подарить тебе утварь, достойную лишь царей!
– «Невестой», батюшка? – В голосе Амали читалось не столько удивление, сколько, пожалуй, смущение и облегчение.
– Ну конечно! В тот день, когда порог дома девушки переступает юноша, который горит желанием назвать ее своей женой, она, полагаю, и становится невестой!
– Так ты все знаешь?
Да, теперь Маймуна была уверена, что слышит радость облегчения в голосе дочери.
– Знаю? Знаю ли я?! О-о-о…
«Нет в этом мире более самоуверенного отца, чем мой муж… Они же говорят о разном, но при этом рады тому, что понимают друг друга!»
– Батюшка, какое счастье!
– Знаю ли я?! О дочь моя, да я узнал это самый первый! Я практически своими руками устроил так, чтобы двери моего дома открылись сегодня для моего будущего зятя!
– О, я счастливейшая из дочерей! – И Амаль кинулась отцу на шею.
– О, я счастливейший из отцов! – И Дахнаш заключил дочь в объятия.
Маймуна же взирала на эту идиллическую картину с ужасом. Ибо она легко могла себе представить, что произойдет после ухода Джидриса. Более того, она предчувствовала, какую боль переживет сегодня ее дочь. Чувства буквально раздирали джиннию… но она молчала. Ибо ничего поделать не могла – ни с мужем, ни с Амалью. Они оба сейчас были глухи к гласу разума, и вернуть им здравое суждение могла лишь суровая реальность.
Тем временем Амаль стала разглядывать драгоценный подарок отца, вытирая запылившиеся места кончиком шелкового шарфа, которым стянула волосы рано утром.
– Ох, это более чем драгоценный дар, отец мой… Какая удивительная работа! Какое буйство цвета! Какое изумительное мастерство…
– Я рад, доченька! Рад, что смог угодить тебе. Ибо, кроме тебя и мамы, у меня нет никого – никого, кого я мог бы баловать так, как мне этого хочется!
Отец и дочь взирали друг на друга с такой нежностью, что сердце Маймуны замерло. Но всего на миг – ибо внутренний голос предсказывал такую бурю, какой не видели еще стены этого дома.
И потому джинния сказала:
– Дочь, немедленно отправляйся к себе! Дом-то в порядок ты привела, но сама стала грязной, как осенняя листва! Немедленно переоденься! Да не забудь умыться…
– Мама!
– Амаль, не спорь!
Девушка молча отправилась к себе. И лишь после того, как хлопнула дверь ее комнаты, Дахнаш заговорил.
– Маймуна, что с тобой? Ты не рада тому, что к нашей дочери посватался столь уважаемый юноша? Ты не видишь, как счастлива дочь?
– Любимый, ты в своем отцовском рвении оказался слеп, как новорожденный крот! И юноша вовсе не уважаем – скорее знаменита его семья… Да и счастье нашей дочери… Оно мне кажется сомнительным. Она просто радуется твоим подаркам.
И вновь у Маймуны не хватило духу рассказать мужу правду. Поймав себя на этом, она собралась с духом, открыла рот и…
В этот миг калитка распахнулась и на плиты двора ступили давешние гости – тучный одышливый Бохрам и еще более перепуганный Джидрис. Сегодня родичи мужа были одеты куда наряднее, а за ними плыли по воздуху немалые сундуки.
«Подарки, должно быть», – ничего, кроме досады, в душе озадаченной и озабоченной джиннии не вызвало это отрадное для любых родителей зрелище.
– Да воссияет над этим домом благодать… И да пребудет над ним… счастье во все дни всех лет, что стоит он под этими прекрасными небесами!
Льстецу Бохраму все-таки удалось избежать упоминания имени повелителя всех правоверных.
– Здравствуй, брат! – с поклоном ответил Дахнаш.
– Здравствуй и ты, мой друг! – Бохрам обнял ифрита с почти родственной любовью. И с неподдельным уважением поклонился джиннии: – Здравствуй и ты, прекраснейшая из дочерей огненного народа!
Маймуна кивнула. Она не боялась сейчас показаться невежливой – да и что в подлинной вежливости могли понимать эти глупцы…
– Но где же волшебно-прекрасная дева? Где невеста моего мальчика? Отчего она не встречает с поклоном своего жениха?
– Амаль готовится к встрече… – чуть суховато проговорила Маймуна. – Присядьте в тени, пригубьте айрана, отдышитесь. Надо же девушке показать себя наилучшим образом.
Джинния говорила дежурные слова, почти не замечая этого. Она прислушивалась к тому, что происходит наверху, но ничего опасного не слышала – только звук шагов дочери. Вот хлопнула дверь, вот шаги зазвучали отчетливее – Амаль спускалась по лестнице. Вот стихли – девушка ступила на плотно уложенные плиты двора.
– Позволь, о мой друг и брат, представить тебе нашу прекрасную дочь! И да полюбишь ты ее так же сильно, как любим ее мы!
Бохрам раскрыл девушке объятия. Но Амаль словно прикипела к месту: она-то ожидала увидеть совсем другого человека.
– Сколь прекрасна твоя дочь, брат мой! Сколь она робка! Клянусь, она станет самой лучшей невесткой для меня, недостойного Бохрама!
Пересиливая удивление, Амаль сделала несколько неуверенных шажков.
– Дочь наша, это мой брат и давний друг Бохрам! Сегодня он привел в наш дом своего сына – твоего жениха, Джидриса! Поклонись же так, как сие пристало уважающей гостей девушке!
Амаль покорно склонила голову. Этот поклон следовало бы назвать просто опусканием глаз перед неприятными, но уважаемыми пришельцами.
– Как долго длится твоя радость, дочь наша! – проворковал Бохрам. – Позволь же выразить наше нетерпение: и я, и мой сынок горим желанием услышать от тебя самые важные слова, слова согласия…
– Согласия, батюшка? – Амаль с недоумением подняла глаза на отца. – Согласия на что?
– О несчастная… Твоя радость столь велика, что ты не слышишь слов? Я же сказал, что сей достойный юноша, который не смеет поднять на тебя глаза, и есть твой жених. Что уважаемые гости пришли с приличествующими дарами, дабы уговориться о дне вашей свадьбы…
«Ты ничего этого не говорил, глупый ифрит… А дочь твоя ждала, что ты, именно ты, назовешь ее женихом совсем другого юношу… Ох, что сейчас будет!..»
– Моя радость, батюшка, воистину неизмерима… – Маймуна увидела, что дочь уже пришла в себя. Более того, ей стало ясно, что девушка с трудом сдерживает нарастающий гнев. – Однако ты все решил за меня. Я вижу, сколь уважаемы наши гости, я вижу, сколь прекрасен юноша, коего ты назвал моим женихом. Но прошу у тебя разрешения перемолвиться с ним десятком слов до того, как соглашусь на самое лестное для любой девушки предложение.
Дахнаш видел лишь внешнюю сторону, сторону более чем благопристойную. Правда, он и не ожидал ничего иного. Ибо ифриты порой бывают слепы так же, как самые глупые отцы из рода человеческого.
– Доченька, я не просто позволяю. Я даже прошу тебя об этом.
– Тогда позволь нам подняться наверх, дабы мы смогли побеседовать вдали от ваших ушей…
– Да будет так, малышка! Ибо, думаю, желания твоего жениха столь возвышенны, что он не воспользуется уединением, чтобы творить глупости…
Джидрис, покраснев до корней волос, бросил на Дахнаша опасливый взгляд. Сделал шаг, другой, затем, чуть осмелев, стал подниматься по лестнице…
Маймуна увидела выражение глаз дочери. И ей стало дурно – если бы на месте Джидриса был обычный юноша, родившийся человеком, а не потомком колдовского народа, она бы не поставила и медного фельса на жизнь бедняги. Что же собиралась сделать Амаль с ифритом, было еще неясно, но ничего хорошего от этой беседы наедине Маймуна уже не ждала.
Стихли шаги на лестнице, почти неслышно закрылась дверь комнаты Амали.
– Ну что ж, уважаемый Бохрам, пока дети договариваются между собой, мы, полагаю, можем вкусить от яств, коими столь умело потчует нас моя прекрасная жена!
Дахнаш сделал широкий жест, приглашая брата. Тот с некоторым недоумением воззрился на пустой лаковый столик. Но ничего сказать не успел – на нем с волшебной скоростью стали появляться блюда и кувшины, пиалы и чаши…
– О мой муж и повелитель! Я прошу у тебя и у нашего уважаемого гостя прощения за то, что не подготовилась как надлежит к сегодняшнему застолью, ибо лишь блюда человеческие могу сейчас подать, дабы ты потчевал нашего необыкновенного гостя…
– Прекраснейшая, – голос Бохрама воистину мог поспорить с мягкостью мягчайшего из шелков. – И это прекрасно. Когда я в облике человеческом, то нахожу невыразимую прелесть в блюдах именно человеческой кухни. Полагаю, дымящаяся чаша лавы меня бы не только не порадовала, но даже испугала бы.
«Ох, мой родственник… Особенно если бы из этой чаши вылетела раскаленная вулканическая бомба!.. Однако тебе не откажешь в учтивости».
Любой женщине приятна благовоспитанность гостя… Она и тут сделала свое дело, несколько смягчив суровое сердце Маймуны.
Дети колдовского народа, обратившись в достойных людей, мирно беседовали за богато накрытым столом. Беседа текла легко, как ручеек. И душа Маймуны уже совсем успокоилась, когда сверху раздался грохот. Потом к грохоту примешался крик, а потом на лестнице послышались более чем быстрые шаги – кто-то бегом, перепрыгивая через ступени, спускался во дворик.
Перепуганная, покрытая крупными каплями пота физиономия Джидриса была столь выразительной, что Маймуне уже не нужны были никакие расспросы. Но и Бохрам, тучный отец, ничего спросить не успел, ибо Джидрис схватил его за руку и буквально потащил к калитке.
– Идем, отец! Не нужна мне никакая жена… Не нужны мне никакие связи, никакие возможности… И даже должность, которую обещали, если я женюсь…
– Но… Мальчик…
Что было дальше, осталось для Маймуны неясным. Вернее, она решила, что не будет пытаться услышать, что же творится на улице и чем напугала Амаль неудачливого жениха.
Однако Дахнаш придерживался совершенно иного мнения. Он открыл было рот, чтобы возопить, призывая Амаль, но та уже появилась у очага, весьма довольная. С удовольствием оглядела столик и схватила румяный пирожок. Аппетит Амали не могла бы испортить буря, если бы разыгралась перед самым ее носом.
– Дочь! Что произошло? Почему твой жених выскочил как ошпаренный?
– Мой жених? – переспросила Амаль, подбоченясь и прищурив потемневшие от гнева глаза. – Мой жених?
– Да! Твой уважаемый жених! Человек, которому я оказал честь, назвав тебя его невестой!
– Жених?! Человек?!
Беседа отца и дочери становилась все громче и громче – в воздухе отчетливо пахло скандалом. Маймуна же всем этим наслаждалась, ибо видела, что дочь взяла от нее все самое лучшее, стала настоящим ее, огненной джиннии, подобием.
– Да!!! Повторяю тебе, упрямая ослица, – это был твой уважаемый жених! Я требую, чтобы ты вернула его сей же час и принесла подобающие извинения!
– Ах так?! Ты требуешь! Так вот, упрямый плешивый ишак, я не верну его! Да я шагу не сделаю, чтобы вернуть это унылое никчемное существо! И сама не сделаю, и тебе, безмозглому, не позволю! И это ничтожество ты назвал моим, моим! женихом… Да он же пуст, как разбитый сотню лет назад кувшин, он ничего не знает и ничего не умеет. Он может лишь пыжиться, гордясь славой, принадлежащей ему всего лишь по праву рождения, но не благодаря его усердию!
– Но он достойная пара для такой девушки как ты!
– Он недостойная пара даже для престарелой гадюки, что живет среди пустыни!
«Ну почему же, – подумала эта самая, много повидавшая, утратившая свой смертоносный яд гадюка. – Я бы вышла замуж за такого свеженького малыша. Я бы даже женой была ему неплохой… Хотя, девочка, ты права – не годится мужчине гордиться именем семьи, ничего не сделав для преумножения славы этого имени…»
– Как смеешь ты говорить такие слова мне, твоему отцу?!
– Какие? Что я такого сказала своему отцу, что он стал похож на покрасневшего от натуги барана?
– Барана?!
Дахнаш задохнулся от гнева. И Маймуна поняла, что сейчас самое время ей вступить в эту увлекательную беседу.
– Доченька, что ты сделала с юношей?
– Ничего я с ним не сделала… – Амаль пожала плечами. – Я просто спросила, почему он решил посвататься именно ко мне…
– И что рассказал тебе сей достойный юноша?
– Этот недостойный слизняк стал разливаться соловьем, описывая годы своего учения у твоего, мама, отца, царя Димирьята. Дескать, он был лучшим из всех учеников и теперь умеет все, что под силу самому царю джиннов. Мне надоело слушать эту похвальбу, и я попросила его сотворить грушу.
– А он?
– Он странно так посмотрел на меня, но грушу сотворил. Желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Когда же я эту дрянь отбросила, он почему-то вжал голову в плечи, но все же спросил, чего я хочу теперь. Я попросила малахитовую чашу…
– А что он подал тебе?
– Чашу, но только медную, к тому же наполненную болотной тиной.
– О да, достойный выученик… – Маймуна бросила взгляд на красное лицо мужа и удивилась его выражению. – Что же было дальше?
– Я попросила, чтобы он сотворил мне виолон, ведь я музыку люблю больше жизни…
– А он?
– А он сказал, что утомился творить для меня чудеса. Дескать, что теперь моя очередь очаровывать его…
– О все боги мира… «Очаровывать»…
– Увы, матушка, сей юный глупец сказал именно так… Более того, он попытался меня обнять, стал сопеть мне в ухо и бормотать, что не откажется вкусить моего тела прямо сейчас, пока дураки-старшие болтают о никому не нужных вещах…
– Наглец… – пробормотал Дахнаш.
– Ты же только что называл его достойнейшим юношей…
– Погоди, доченька, но что сделала ты? Чем ты его так напугала?
– А я выскользнула из объятий и сказала, что если он притронется ко мне, я сделаю так, что он больше не пожелает ни одной женщины до конца своих дней…
– О Аллах всесильный… – Ифрит помянул имя покровителя всех правоверных, но никакого укола боли не почувствовал. Быть может, он не чувствовал сейчас вообще ничего, кроме обжигающего стыда.
– Этот осел самодовольно усмехнулся и снова полез ко мне… Но я произнесла заклинание неподвижности… И он застыл… Тогда я вытащила флакон с настоем против кашля и сказала, что это зелье, убивающее плотские желания. И что я волью ему весь фиал в глотку, если он сделает в мою сторону хоть один шаг…
– Нельзя так с мужчинами…
– С мужчинами, быть может, и нельзя, а вот этому вонючему шакалу оказалось довольно… Заклинание перестало действовать через миг. А еще через полмига он уже бежал по лестнице и кричал, что больше никогда… Я не стала слушать, что именно он никогда…
– Дочь, ты меня расстраиваешь. Юноша, конечно, повел себя недостойно, но все же я велю тебе называть его своим женихом и немедленно отправиться вместе со мной просить прощения за свои деяния.
– Отец! Я люблю тебя, я тебя уважаю, но… Но я никуда с тобой не пойду! Ты слышишь, никуда! Повторяю – и сама не пойду, и тебя не пущу! Не хватало еще – извиняться перед этой смрадной падалью…
Маймуна порадовалась, что дочь всегда была далека от уличных торговцев и уличных ругательств. Но следующие слова Амали, вполне благовоспитанные и учтивые, прозвучали для отца хуже самой грязной площадной брани, хотя согрели сердце матери подобно огню в ненастный вечер.
– Лишь я сама вправе избирать себе мужа так же, как сделала это моя мудрейшая матушка. Я никому не позволю ничего решать за меня! И сегодня после заката познакомлю тебя с тем, кого сама считаю своим избранником!
Ифрит задохнулся от гнева. О нет, скорее его гнев поглотил все иные чувства, желания и движения – Дахнаш был самим олицетворением отеческого негодования.
– Да как ты смеешь?!
– Так, как посмели это некогда вы сами – ты и моя матушка! Я сама изберу себе любовь, я сама изберу себе судьбу и не попрошу твоего совета никогда!
Последнее слово Амаль просто отчеканила. И Дахнаш сломался – плечи его поникли, из глаз ушел огонь.
– Делай, что хочешь, дурочка! Но пеняй на себя…
– Именно этого я и хочу, отец, – делать то, что считаю правильным и пенять на себя саму, если окажусь неправой.
Свиток десятый
Должно быть, Дахнаш хотел ответить дочери, но его прервал едва слышный скрип калитки – гости вновь посетили дом мастера-кузнеца. Вернее, один гость. Юный Синдбад, как и обещал, в закатный час ступил на плиты двора.
Маймуна почти не смотрела на гостя – она вглядывалась в лицо дочери. Хотя в этом не было никакой нужды – сияющие глаза Амали лучше любых слов выдавали ее сердечную тайну. Дахнашу же понадобилось усилие, чтобы прийти в себя и изобразить гостеприимную улыбку, пусть даже вялую.
– Да охранит Аллах всесильный и всевидящий этот дом и каждого в его стенах!
– Здравствуй, Синдбад, здравствуй, мальчик мой! Все ли в порядке в кузне?
– О да, мудрый Дахнаш. Заказ был готов в срок, и его уже забрали. Торговец шелковыми коврами, везучий Али-баба, пришел, дабы заказать у нас кованые двери для своей новой лавки.
– Воистину везучий Али-баба… Это третью лавку он открывает?
– Пятую, мой наниматель, пятую в этом году.
– Должно быть, жена, и нам следует купить у него ковер – раз уж столь везуч хозяин лавки, то, быть может, немного удачи перепадает и его покупателям. Тем более, что она нам сейчас так нужна…
Амаль не сводила глаз с юноши, наслаждаясь просто звуком его голоса.
– …Из далекой страны за полуденным океаном пришел еще один заказ – визирь Шимас заказал для оружейных хранилищ своей страны запоры и стеллажи. А для своей жены – серебряное колье и браслет. Такие, какие умеешь плести ты один…
Синдбад-то говорил от чистого сердца, не вкладывая ни грана лести. Однако Дахнаш при последних словах самодовольно улыбнулся – как кот, которому под нос положили мышь и которого убедили в том, что всего миг назад эту мышь он изловил.
Маймуна молчала. Говоря по совести, она просто не знала, что делать. Юный Синдбад пришел вовсе не для того, чтобы льстить Дахнашу или в подробностях передавать ему все, что произошло за день. Однако такая неторопливая беседа почти наверняка немного успокоит ифрита и, быть может, убережет его от скороспелых решений или опрометчивых слов. Любое же вмешательство в эту беседу грозит и ей, джиннии, и ее дочери нешуточным скандалом с самыми непредсказуемыми последствиями. Или, что то же самое, вполне предсказуемыми.
Вот поэтому Маймуна положила руку на плечо дочери и пробормотала:
– Подожди, малышка. Сейчас отец немного успокоится. А уж потом ты расскажешь ему все о себе и этом славном парнишке.
– Так ты все знаешь, мам? – прошептала Амаль.
– Я знаю не все, но вполне достаточно для того, чтобы понять, что происходит и чего ты желаешь. Потерпим же, помолчим, пусть мужчины наговорятся.
Уже давно село солнце, бархатная ночь зажгла звезды над засыпающим городом. И лишь тогда Дахнаш довольно откинулся на подушки.
– Ну что ж, мальчик. Сегодня был хороший день и ты отлично справился. Теперь я могу уйти на покой и поручить все тебе.
– Благодарю тебя, почтеннейший, за такие слова. Однако пришел я не только за этим. Мне кажется, что настала пора для разговора, куда более серьезного, чем рассказ о нашей огненной работе.
– О чем ты, юноша?
Дахнаш успокоился. Он не то чтобы забыл, он перестал вспоминать о том, что еще днем приходили сватать его дочь, что разыгрался скандал, когда дочь посмела отказать и, что гораздо хуже, выгнала в толчки неудачливого жениха. Не думать об этом было куда удобнее, уютнее, чем вновь возвращаться к этим мыслям.
Но Синдбад этого не знал. Он видел горящие глаза Амали, которые, казалось, подталкивали его в спину. Он слышал ее невысказанный вопрос: «Ну когда же ты решишься?» Он… да он и сам желал уже закончить эту пустую беседу и наконец изложить свою просьбу.
– Уважаемый Дахнаш, прекрасная Маймуна… Не знаю, как начать… Но… Да будет так… Мы с вашей дочерью, о почтеннейшие, любим друг друга и просим дозволения пожениться.
Маймуна улыбнулась – наконец юный гигант смог высказать то, чего не видел лишь слепой… Ну, и ее муж тоже.
– Пожениться? – Никогда еще Дахнаш не был настолько изумлен. О нет, он был просто поражен. – Но почему, юноша?
– Мы любим друг друга, – повторил Синдбад, не понимая вопроса Дахнаша.
– Любите… Любите… Ты, значит, любишь ее, а она, выходит, любит тебя?…
– Да, уважаемый, именно так.
– Она любит тебя… Тебя, а не кого-то другого… Так вот почему она выставила за порог Джидриса…
– Нет, отец. Я его выставила не потому, что люблю другого, а потому, что он ничтожество… Хотя… – Амаль осеклась, ибо положение было двусмысленным. – Хотя и поэтому тоже.
– Но почему ты ничего не сказала мне, упрямая ослица?! Почему ты заставила меня выглядеть круглым дураком? Почему не сказала сразу, что любишь другого и хочешь именно его называть своим женихом?!
– Не сказала?! Да когда мне было это говорить? Ты же не слышишь никого и ничего вокруг! Ты отдал приказание и был таков! Припер несчастную груду железяк с самодовольной миной и велел радоваться тому, что какой-то червяк теперь должен стать моим мужем!
От последних слов Синдбад вздрогнул. Он хотел было задать Амали какой-то вопрос, но рев Дахнаша пригвоздил его к месту.
– Гору железяк?! Приказал?! Да как ты… Маймуна поняла, что следует вмешаться, и вмешаться немедленно – иначе пути назад не будет, а взаимные упреки на повышенных тонах перейдут грань и нанесут болезненные раны душам ее мужа и дочери.
Потому она едва заметно повела рукой и… все стихло.
– А теперь выслушайте голос разума, о мои неразумные. Я лишила вас возможности говорить, дабы вы, наконец, начали думать. Тебе, дочь, следует успокоиться и все объяснить отцу. Тебе, муж, следует молча выслушать наше выросшее дитя и попытаться понять, что именно она говорит. Ни о сочувствии, ни о сострадании я сейчас не прошу. Молча выслушать и подумать о ее словах. Девочка, ты готова рассказать нам с отцом все как есть? Или тебе нужно еще время?
Амаль несколько раз утвердительно кивнула.
– Ну что ж, тогда говори. Но помни – спокойно и без истерик. Мы понимаем, что сейчас речь идет о самом для тебя важном. Но если ты опять сорвешься на крик, я лишу тебя голоса навсегда, и ты достанешься нашему гостю молчаливой и загадочной, как варварская статуя.
– Повинуюсь, матушка, – едва слышно проговорила Амаль.
Но Синдбад уже услышал решение. И пусть предстоял долгий разговор, но юный гигант уже успокоился – матушка Амали, строгая, если не суровая, свое слово уже сказала.
– Все началось с того дня, когда ты, о мой благородный и громогласный отец, привел Синдбада в наш дом. С тех пор мы встречались ежедневно, вели долгие беседы и поняли, что предназначены друг другу самой судьбой. У нас похожие вкусы, у нас похожие взгляды, мы видим мир так, словно у нас на двоих один разум. Вот поэтому я и прошу, о мой суровый отец, дозволения на то, чтобы назвать Синдбада, умного и умелого подобно тебе, своим супругом.
Маймуна усмехнулась – девочка решила подсластить пилюлю. Но увидела, что Амаль хочет продолжить, и превратилась в слух, дабы не дать дочери сказать лишнего.
– Ты спрашивал, отчего я выгнала в толчки юного Джидриса, которого ты предназначил мне в мужья. Я отвечу: ибо он никчемен, его дух слаб, а его внешность столь уныла, будто он уже переселился в мир иной. И даже если бы я не любила Синдбада, лучшего из мужчин, то и тогда бы не согласилась стать женой столь презренного существа. И сделала бы это не потому, что не люблю тебя, о мой суровый отец, а потому, что люблю и не хочу, чтобы ты мучился, видя мои муки. Ибо с таким мужем, как тот слизняк, ничего кроме мук мне бы не было уготовано…
Амаль выпрямилась. Синдбад едва заметно кивнул ей, подбадривая и утешая. Улыбнулась дочери и Маймуна – и одобряя, и утешая, и сочувствуя. Говоря по чести, сердце джиннии было неспокойно с самого начала этого разговора. Ведь в свое время она ни у кого ни на что разрешения не спрашивала. Ей и в голову не могло прийти спрашивать разрешения у Димирьята, царя джиннов, на то, чтобы назвать сумасбродного ифрита Дахнаша своим супругом.
Теперь пришел черед Дахнаша отвечать дочери.
– О мой супруг, – повернулась к мужу джинния, – сейчас я верну тебе дар речи, но прошу, чтобы слова твои были столь же спокойны и взвешены, как слова Амали. Более того, я умоляю тебя об этом. Ты преотлично знаешь, что в моих силах, – не заставляй твою супругу показывать все, на что она способна.
Лишь договорив это, Маймуна задалась вопросом: отчего ничему не удивляется Синдбад, отчего упоминание о заклинании безмолвия не вызвало у него никакого смущения.
«Наверное, у Амали хватило безрассудства рассказать любимому все как есть… Быть может, поэтому юный Синдбад был столь насторожен, когда входил вечером в наш дом…»
«Ты права, уважаемая, – услышала джинния безмолвный ответ юноши. – Твоя мудрая дочь рассказала мне все о своей семье. Более того, именно ей я обязан возможностью беседовать сейчас с тобой, пока твой уважаемый супруг, мой наниматель, собирается с силами…»
«И ты не испугался, мальчик? Должно быть, совсем непросто знать мужчине, что его жена ведьма?»
«Это лестно, уважаемая. Это внушает гордость… Если такая необыкновенная девушка, как Амаль, обратила внимание на меня, смиренного, значит, не так уж я никчемен… Значит, достоин жить с ней рядом и смогу радовать ее, воистину обремененную более чем удивительными способностями, умениями и родственниками…»
Маймуна не могла не порадоваться этим словам своего будущего зятя. Ибо мальчик-то оказался совсем не прост. Кроме умной головы и завидной внешности, ему, оказывается, дано было и мудрое сердце вкупе с недюжинным мужеством.
«Да будет так, мой мудрый зять… А теперь выслушаем же моего супруга…»
– О моя громогласная дочь, – начал Дахнаш. – О моя мудрая супруга, о мой ученик. Стыд гложет меня. Ибо я не смог сдержаться. Но этого мало – я возомнил, что могу принимать решения за всех, как это делают дети рода человеческого.
«Я не верю своим ушам…»
– …Но еще более стыд гложет меня из-за того, что я оказался во многом глупее, чем даже самый обычный кузнец из любой заброшенной деревни: я, не слушая своих любимых жены и дочери, возомнил, что управляю их жизнями, будто они подобны куску металла в моей кузне. Что я имею право распоряжаться судьбой самых дорогих для меня людей без их ведома. Более того, что, распоряжаясь, я могу не слушать их желаний так, словно они куклы или домашние любимцы. И нет за это мне прощения.
Маймуна понимала, что это лишь начало длинной речи. «Да что же это такое! Почему сейчас, когда настал самый прекрасный день для любого родителя, когда дитя избрало себе любимого, когда готово поделиться радостью с родителями, я должна, подобно суровому лазутчику, взвешивать каждое слово этих неразумных!..»
– Прости меня, моя супруга! Прости меня и ты, моя выросшая дочь. Пусть ваше с Синдбадом счастье длится столь же бесконечно, как наше с твоей мудрой матушкой!..
Синдбад громко и облегченно вздохнул.
– Об одном лишь прошу я, никчемный. Не приглашайте имама для совершения свадебного обряда. Не опускайтесь до того, чтобы просить помощи у Бога, в каком бы из обличий он ни выступал.
– И да будет так! – с заметным облегчением проговорила Маймуна.
Грозовая туча, еще мгновение назад висевшая над домом, превратилась в легчайшее облачко, незримо растаявшее в бездонной вышине небес. В первый раз за бесконечно долгие годы Маймуна поняла, что значит выражение «словно камень упал с души».
Радостной улыбкой расцвело и лицо Синдбада. Ведь теперь он перестал быть просителем, а стал нареченным женихом. И, что гораздо важнее, обзавелся другом в лице будущей тещи – везение, которое весьма редко выпадает на долю молодого мужа.
– Но, дочь моя, эти «проклятые железяки» тебе все же придется забрать! – пробормотал вконец обессилевший Дахнаш.
Амаль засмеялась:
– Я сделаю это с превеликим удовольствием, батюшка! Это такая красота!..
Свиток одиннадцатый
– И да сохранит эту семью Аллах всесильный и всевидящий во всякий день и во всякую ночь!
Имам поспешно захлопнул книгу. Быть может, старость брала свое, быть может, проводить свадебный обряд в кузне он считал ниже своего достоинства… Как бы то ни было, теперь эти двое уже женаты и больше ему здесь, в стенах, по которым мечутся красные отсветы горна, делать нечего.
– Сын мой, запись будет сделана в главной городской книге завтра в полдень! И да пребудет с вами, дети, милость повелителя всех правоверных!
Старик засеменил прочь, решительно отказавшись от угощения. Более того, он не обратил внимания и на то, что обычно ясные небеса затянуты тяжелыми свинцовыми тучами, которые грозят невиданной бурей всякому, кто осмелится выйти на улицу.
– Жена, моя жена… – едва слышно и очень нежно проговорил Синдбад.
– Муж, мой прекрасный муж, – ответила Амаль.
Не было в мире слов, чтобы выразить бурю чувств, которая поглотила сейчас души новобрачных. И потому они не обратили никакого внимания на непонятный звук, который заполнил всю кузню на краткий миг – словно огромный шмель попытался вылететь из собственной плоти. Низкий гул завибрировал и затих, будто предупреждая неразумных детей о бесповоротности решений судьбы.
К счастью, эти двое, наконец обретшие свою вторую половинку, ни о чем не тревожились – они впервые остались одни, и дождь беспокоил их меньше всего.
Амаль больше всего волновалась из-за того, что ее неловкость и неопытность могут помешать ей. Синдбаду же было довольно одной ее улыбки: он желал ее и знал, что она горит не меньшей страстью.
Тишина и шум дождя за окном сделали свое дело – сейчас во всем мире их осталось лишь двое. Они принадлежали друг другу, и одно лишь предвкушение соединяло их неразрывно.
«Она самая прекрасная, самая желанная, самая удивительная на свете девушка! – подумал он, любуясь ее сильным телом, лишь угадывающимся под хиджабом. – Как бы я хотел, чтобы она позволила мне поцеловать себя… О Аллах милосердный, я мечтаю о ней, но боюсь спугнуть ее, будто дикую серну! Как же мне быть?»
И в этот момент она, должно быть, почувствовав его горящий взгляд, отложила пирожок и каким-то новым, оценивающим, невероятно страстным взглядом окинула юношу, стоящего у окна. Он понял, пора пришла и дальше откладывать просто глупо, подошел к ней и склонился к ее устам, запечатлев первый, горячий и страстный поцелуй.
Едва слышный вздох вырвался из груди девушки, но губы уже искали новых поцелуев. Из пугливого зверька она в единый миг превратилась в страстную, жаждущую любви женщину.
– Я так долго ждала тебя, мой любимый, мой единственный, мой…
Но более она не смогла сказать ни единого слова – он наконец поверил своему счастью и наслаждался теперь необыкновенными поцелуями – первыми, но жаждущими, невинными, но страстными, робкими, но дарящими наслаждение.
Вскоре юноша почувствовал, что не в силах более оставаться одетым, что удобный кафтан грозит превратиться в путы, что он не в силах более удерживаться и лишь едва касаться ее прекрасного тела через несколько слоев одежды. Он, осмелев, обнял плечи девушки и прижал ее к себе так, словно не собирался разжимать этих объятий никогда.
– Я… Я хочу… хочу насладиться тобой, мой прекрасный, мой желанный… – едва слышно проговорила Амаль. Проговорила и сама удивилась тому, что смогла произнести эти слова вслух.
– Я мечтаю о тебе, моя греза…
– Я твоя… Я твоя… – проговорила она, чувствуя, как ее возлюбленный осторожно снимает булавки с хиджаба, освобождая волосы.
Прикосновение этих прекрасных кос стало для юноши настоящим ударом, подобным удару бича. Ибо, только почувствовав их шелковистую тяжесть, убедился он, что это вовсе не сон, что самая желанная девушка в мире принадлежит ему не в грезах, а наяву.
Он взглянул в лицо любимой и не мог не задохнуться от счастья. Но мудрый внутренний голос, о какое счастье, что он менее подвержен страстям, прошептал: «Не торопись, не торопи ее. Дай ей чуть привыкнуть к себе… Помни, сегодня ваша первая ночь. И если ты хочешь, чтобы вторая и третья… и все остальные не превратились для кого-то из вас в тягостную повинность…»
– О прекраснейшая… великолепная! Остановись на миг… Не торопись…
– Я вся твоя, мой любимый… Говори, что мне делать, – я стану твоей ученицей.
– Да будет так. Тогда позволь мне снять с тебя одеяние… И позволь мне избавиться от своего платья…
Девушка закрыла глаза, позволив ему снять с нее платье. Но стоило ему лишь коснуться ее нежной шеи, как глаза ее раскрылись. Юноша почувствовал головокружение и постарался найти успокоение в самых обычных действиях. Он сбросил кафтан и рубаху, сел и наклонился, чтобы снять башмаки.
И тут произошло истинное чудо: из статуи его желанная превратилась в живую женщину! Она поспешила к нему и склонилась над его ногами, чтобы помочь. Ощутив на своей голове прикосновение его руки, она вздрогнула.
– Моя греза, что ты делаешь?
Амаль подняла голову и посмотрела ему в глаза. О, эти глаза – они горели черным пламенем страсти. Она чувствовала прикосновение этого взгляда каждый раз, когда видела его, она чувствовала, что он не просто замечает каждое ее появление, что он каждый день ждет мига, когда она войдет в кузню. Что ждет дня, подобного сегодняшнему, позволившему наконец им соединить свои тела так, как давно уже соединены их души.
Синдбад протянул руку, взял ее за подбородок и приподнял голову. Он долго и пристально смотрел в ее прекрасные, желанные глаза. Потом его губы слегка коснулись ее губ, распространяя по всему девичьему телу легкий трепет. Она в смущении опустила глаза и вдруг заметила, что ее возлюбленный почти обнажен – лишь легкие шальвары из шелка еще скрывали его ноги. Девушка, зачарованная, рассматривала его тело, тихонько пальцами прикасаясь к волоскам на груди, широким загорелым плечам, огромным ладоням, длинным, чуть узловатым пальцам… Он некоторое время наблюдал за ней, и ему стало весело. Он встал и привлек ее к себе. Его руки потянулись к сложному узлу, который был завязан на ее вышитом кушаке.
Несколько минут он возился с ним, но разгадка тайны этого узла ускользала от него. Он прошептал:
– Кто же, о Аллах, завязал этот узел?
Девушка рассмеялась.
– Я, мой прекрасный.
– Коварная… Ага, вот как!
Он потянул шелковую ленту и снял ее. Теперь полупрозрачная рубаха повисла свободно. Он снял ее через голову девушки и бросил на огромный сундук в дальнем углу. Миг – и туда же отправились его шальвары – прежде, чем девушка заметила, как он их снял. Она стояла, ошеломленная, а он опустился на колени и аккуратно снял ее башмачки. И вновь девушка закрыла глаза, ибо юноша осторожно лишил ее последней защиты – тончайших шелковых шальвар.
Потом встал и осторожно развязал ленты, скреплявшие ее длинные косы. Черные и длинные, словно волшебные змеи, они упали почти на пол – чуть распушившиеся кончики закачались под коленями. Когда же он погрузил пальцы в их нежное тепло, то поразился, насколько похожи волосы его любимой на шелк, драгоценный и живой.
Синдбад снова повернул ее лицом к себе и стоял, созерцая ее обнаженную красоту. Его уверенные действия удивили ее.
Амаль была потрясена, обнаружив, что стоит обнаженная перед мужчиной. На несколько долгих минут девушка замерла под его изучающим взглядом. Она не имела ни малейшего понятия о том, чего Синдбад ждал от нее – если он, конечно, вообще ждал чего-нибудь, кроме покорности.
– Чего ты хочешь от меня, мой господин? – немного испуганно прошептала она.
Выведенный из своего мечтательного состояния, юноша понял, как неловко она себя чувствует. Он нежно привлек ее к себе и обнял.
– Прекраснейшая! – произнес он с нежностью, но его голос показался ей необычайно хриплым. – За свою жизнь я повидал достаточно красивых женщин, но никогда еще я не встречал столь совершенной, столь безупречной красы, моя светлая греза!
– Значит, ты хочешь меня?
– Хочу тебя?! – произнес он, задыхаясь. – Да я мечтаю о тебе с того самого мгновения, как увидел тебя, маленькая колдунья!
– Думаю, я тоже хочу тебя! – ответила она с нежностью. Он рассмеялся.
– Откуда же ты можешь знать, что хочешь меня, моя красавица? Не ты ли мне говорила, что я – единственный мужчина, который когда-либо прикасался к тебе! Но тебе это понравилось, не спорь! О да, моя греза, тебе это понравилось! Только что, когда ты впервые коснулась меня.
Она залилась краской.
– Откуда ты знаешь об этом?
– Потому что я мужчина и я знаю женщин.
Он провел рукой вниз по ее спине под волосами и стал гладить и ласкать ее бедра. В изумлении она отскочила от него, но он прошептал ей на ухо:
– Нет, моя мечта, не надо бояться! Мы не будем торопиться, ведь сегодня наша первая ночь… мужчина и женщина должны дарить друг другу величайшее из возможных наслаждений, смакуя, пробуя на вкус каждый миг, ничего не опасаясь и всему радуясь!
Он приподнял ее голову и бережно поцеловал ее.
– Я мечтаю о тебе, прекраснейшая!
А потом, улыбнувшись, поцеловал ее в кончик носа.
– Я люблю твою гордость и твою удивительную красу!
Синдбад поцеловал ее веки, закрывшиеся при его первом нежном натиске.
– Я люблю твою робость и твою решительность! Но больше всего я люблю тебя саму, моя удивительная мечта, единственная из всех девушек мира! Единственная… моя ведьма… моя мечта…
Она лишь слегка вздрогнула, услышав его «я люблю…», но ничего не сказала. О, пусть этот миг продлится как можно дольше – миг, когда он любит ее, как в самых сладких ее мечтах!
Он чуть-чуть нагнулся, поднял ее и бесконечно бережно опустил на ложе. Неистовое биение сердца отдавалось у нее в ушах. Глаза Амали были плотно закрыты, но она слышала его голос, который нежно проговорил:
– Я любовался твоим прекрасным телом, моя дорогая, и теперь предоставляю тебе возможность сделать то же самое. Открой глаза, не бойся! – приказал он ей, и в его голосе слышался смех. – В теле мужчины нет ничего такого, чего следовало бы опасаться. Может быть, в нем есть что-то смешное. Ведь у него нет той красоты форм, какая есть в женском теле. Все же, полагаю, я достаточно привлекателен, по крайней мере настолько, насколько может быть привлекателен мужчина.
У нее вырвался тихий смех, но глаза оставались закрытыми.
– Ну же, глупенькая! – В его голосе слышалась и насмешка, и строгость. – Открой глаза!
Амаль открыла глаза и села. О, каким взглядом она наградила юношу! Гордость всех женщин мира смотрела на мужа с нескрываемым гневом.
– Мне нельзя приказывать, помни это!
Потом ее глаза расширились, и она выдохнула:
– О-о-ох!
Глядя на нее, он нежно усмехнулся:
– Разве я не привлекателен на твой взгляд, моя колдунья?
И он встал во весь рост, позволяя рассмотреть себя как следует, даря возможность чуть привыкнуть к их общей наготе.
Она же просто не могла оторвать взгляд от его тела. Он был подлинным гигантом, намного выше ее, прекрасно сложен: ноги длинные, икры и бедра крепкие и красиво очерченные, узкая талия, переходившая в широкую грудь и еще более широкие загорелые плечи; руки поражали силой, длинные и мускулистые, лишь пальцы выдавали, как тяжко он трудится – длинные, чуть узловатые, они казались чересчур крупными даже для его сложения. Его тело было загорелым и гладким, и теперь, когда она глядела на него, ее снова переполняло желание ласкать его…
Непонятно откуда, но Амаль знала, какими сладкими бывают прикосновения к любимому телу. Девушка осторожно отводила взгляд от его стержня страсти. Однако теперь ее взгляд скользнул вниз, и, когда она отважилась сделать это, краска смущения разлилась по ее щекам. К ее удивлению, тот страшный зверь, перед которым она испытывала ужас, оказался всего лишь нежным созданием, маленьким и мягким, угнездившимся на своем ложе, покрытом темными волосами. И снова Синдбад угадал ее мысли.
– О, как же он изменится, моя греза, едва я лишь возжелаю тебя!
– Но ведь ты же сказал, что хочешь меня! – упрекнула она его.
– Я действительно хочу тебя, о моя греза, но хотеть и желать – это столь различные чувства. Я хочу тебя разумом и сердцем, а желание исходит из моего тела.
Он вытянулся на ложе рядом с ней.
– Сегодня у меня еще не было времени для желания.
Протянув руки, он привлек ее к себе.
– Я просто мечтал, жаждал этого мига, моя колдунья.
«Почему он называет меня колдуньей? Неужели он не боится? В самом деле не боится связать свою судьбу с дочерью колдовского народа?» Но мысль, почти паническая, исчезла столь же быстро, сколь и появилась.
От сладости его прикосновений голова кружилась, и мыслям уже не было места в закручивающемся все туже водовороте страсти.
Губы Синдбада нашли ее губы. Он завладел ими и пробовал их вкус до тех пор, пока Амаль, охваченная сильной дрожью, не отдалась его вспыхнувшей страсти.
Она не ожидала, что губы мужчины могут быть такими нежными. Он мягко приказал ей разомкнуть губы, и она повиновалась, пропуская внутрь его бархатистый язык. Он ласкал ее язык, и неожиданно она почувствовала, что внутри у нее начинает полыхать пламя. Она откинула голову назад и несколько раз вдохнула воздух, чтобы унять головокружение, но он только засмеялся и снова завладел ее губами в горячем поцелуе. Наконец, ненадолго насытившись этими обольстительно сладкими губами, он проложил своим обжигающим ртом тропинку вниз. Его сильные пальцы гладили ее длинную шею. Запечатлев жаркий поцелуй под самыми волосами, он прошептал:
– Ты чувствуешь, как в тебе зарождается желание, любовь моя?
И Синдбад нежно укусил ее за мочку уха, а потом двинулся дальше по мягкой шелковистой коже шеи. Девушка задрожала. Когда руки юноши отыскали ее округлые полные груди, она нежно вздохнула в страстном томлении. О, как Амаль желала его прикосновений! Она жаждала их, ей казалось, что тогда растает и исчезнет это ужасное, непереносимое томление, переполнявшее все ее существо. Он с благоговением ласкал ее груди, дивясь их мягкости и нежности.
Потом без предупреждения опустил голову вниз, и его теплый рот захватил трепещущий и напрягшийся сосок. Он набросился на ее грудь с непонятной ей страстью, и она вскрикнула, удивившись не только его действиям, но и чувству напряжения, которое возникло в самом низу ее живота. О, то было любовное томление, и сейчас ей впервые дано было ощутить его коварную тяжесть.
Синдбад поднял голову, и звук его голоса успокоил ее.
– Не бойся, моя мечта! Разве это неприятно тебе?
В ответ она снова притянула его голову к своей груди, и он возобновил эти приятные ласки. Однако вскоре продолжил свои исследования. Одной рукой он обвил ее талию, а другой легко прикасался к ее животу, который неистово трепетал под его прикосновениями. Синдбад опустил голову и стал раздражать языком ее пупок, заставляя ее корчиться и извиваться под ним. Его рука опустилась еще ниже, к ее гладкому и нежному бугру у самих ног. Теперь он чувствовал, что она начала сопротивляться ему. Ее тело напрягалось под его пальцами, а в звуке ее голоса послышался страх.
– Пожалуйста, прекрасный мой! Пожалуйста, не надо!
– Почему ты вдруг стала так бояться меня?
Он попытался снова прикоснуться к ней, но она, защищаясь, схватила его за руку.
– Пожалуйста!
«О, как она робка… Как сладко дарить страсть этой сильной и робкой красавице! Как сладко делиться ею с той, кто впитывает уроки страсти всем своим существом!»
Он решительно убрал ее руки и стал нежно ласкать ее.
– Я всегда считал, что Аллах всесильный создал женщину для того, чтобы ее возлюбленный поклонялся ей. Когда я прикасаюсь к тебе с любовью, я поклоняюсь твоему совершенству. Ты не должна бояться меня и моих прикосновений!
– Но еще никто и никогда не прикасался ко мне так! – тихо произнесла она, дрожа под его пальцами. В ответ он снова поцеловал ее и прошептал:
– Не бойся, моя прекрасная! Не бойся!
И она почувствовала, что он с величайшей осторожностью начал исследовать сокровенные уголки ее тела. Странное томление охватило ее, руки и ноги сделались слабыми и беспомощными. Он – ее единственный, ее герой, но неужели он может трогать ее вот так? Его палец мягко проник в ее тело, и она вскрикнула, сопротивляясь и пытаясь увернуться от него. Синдбад быстро перевернул ее, и теперь она лежала под ним. Лежа сверху, он шептал ей на ухо нежные слова любви:
– Не надо, не бойся, моя сладкая греза! Не бойся!
Она ощущала каждую пядь его тела. Его гладкая грудь давила на ее полные груди, его плоский живот нажимал на ее слегка округлый живот. Его бедра касались ее бедер и передавали им свое тепло, которое исторгало стон из ее губ. До сих пор она не пыталась прикоснуться к нему, но теперь не стала подавлять неистовое желание, которое проснулось в ней.
Он погрузился лицом в ее волосы. Его поцелуи казались бесконечными. Ее руки обвились вокруг его шеи. Потом она стала гладить его спину, заканчивая свои поглаживания там, где ее ладони встречались с его твердыми ягодицами, и мягко пощипывая их.
– Ах, мой прекрасный, твоя кожа такая нежная! – прошептала она.
– А что ты знаешь о мужчинах, малышка? – спросил он. Его губы обжигали нежную кожу ее шеи.
– Я не знаю ничего, кроме того, чему ты научишь меня, мой властелин! – тихо ответила она.
Ее руки снова заскользили вверх по его спине и обняли его за шею.
– Я научу тебя всему, что знаю и умею сам, моя греза, моя мечта! Но хватит ли у тебя смелости для этого? – спросил он, и взгляд его темных глаз впился в ее глаза.
Амаль дрожала, прижавшись к нему, но в ее взгляде не было колебаний, когда она ответила:
– Да, мой прекрасный, да, теперь у меня хватит смелости!
Его рот накрыл ее губы в нежном поцелуе, и она почувствовала, что его руки скользнули вниз, под нее, и немного приподняли ее бедра. Кровь неистово бежала по ее венам, и ей никак не удавалось унять дрожь. Тут она вдруг почувствовала, как что-то твердое настойчиво пытается проникнуть между ее дрожащих бедер.
– О мой господин, я хочу стать женщиной, мечтаю быть лишь твоей женщиной, но снова боюсь!
Она увернулась от него и сжалась в углу ложа. Синдбад уже готов был застонать от разочарования. Еще никогда в своей жизни он не желал женщину так отчаянно. Он поддался искушению силой заставить ее лечь и добиться от нее того, чего он так страстно желал. «Потом она простит мне это», – подумал он. Но когда он поднял голову, то увидел, что она расширенными от ужаса глазами пристально смотрит на его мужское естество.
– Ты не должен делать этого! – закричала она. – Ты же разорвешь меня!
С минуту он молчал, наслаждаясь ее наивностью.
– Моя любовь, поверь, все будет совсем иначе… Тебе понравится наша страсть!
Она молча покачала головой. О, как же она боялась… Сейчас буря, что бушевала снаружи, казалась ей легким весенним дождиком по сравнению с той бурей, что сотрясала ее душу. Она и желала его, и хотела бежать. Но он решительно заключил ее в объятия, нежно целовал и гладил ее до тех пор, пока огненная стихия снова овладела всем ее существом.
Она чувствовала себя очень необычно, как никогда прежде. Ее тело казалось ей сладким пламенем, и это пламя разгоралось под его прикосновениями. Это было приятно и в то же время мучительно. Наконец, она почувствовала, что больше не в силах выносить эту сладкую муку.
Синдбад ощутил, что ее тело расслабилось, и в то же мгновение его жезл вошел в ворота ее женственности и мягко проник в напряженное лоно. Он на миг остановился, поцеловал ее закрытые глаза и убрал с ее лба прядь волос. Она застонала, и в звуке ее голоса слышались одновременно и страсть, и испуг. Он чувствовал, как сильно стучит ее сердце под его грудью.
Девушке казалось, что он разрывает ее на части. Его мужское естество заполняло ее всю, жадно поглощало ее, и она испытывала жестокую боль. Она старалась лежать неподвижно, с плотно закрытыми глазами, чтобы он не узнал о ее боли и его удовольствие не было испорчено. Когда он на мгновение остановился и попытался успокоить ее, она почувствовала некоторое облегчение. Но затем он возобновил свои движения и быстро прорвался через ее преграду.
Она пронзительно вскрикнула от боли и попыталась увернуться от него, но он твердо держал ее и продолжал проникать в ее сопротивляющуюся сладость.
– Нет, нет! – всхлипывала она, и на глазах ее показались слезы.
Тут вдруг Амаль осознала: то, что всего лишь несколько минут назад казалось ей страшным орудием пыток, внезапно сделалось источником самого дивного наслаждения. Ей казалось, что она больше не в состоянии сопротивляться ему. Он двигался вперед и назад в ее теле, и казалось, что весь мир вокруг нее пульсировал и кружился.
Она не представляла себе, что может существовать что-нибудь настолько великолепное, как это слияние тел. Она словно бы растворилась в нем, а он – в ней.
Наслаждение все усиливалось, боль забылась, а она все падала и падала в теплую и приятную темноту. Она вцепилась в плечи юноши, потерявшись в мире своих чувств, и он был восхищен ее откликом на его страсть. Он с нежностью заключил ее в объятия, чтобы, вновь придя в себя, она почувствовала, как он любит ее. Ведь так оно и было на самом деле. Покрывая ее лицо легкими поцелуями, он ободряюще прошептал ей:
– Моя единственная, прекраснейшая, я так люблю тебя!
Синдбад повторял эти слова снова и снова, пока она, наконец, не открыла глаза и не взглянула на него.
– О мой единственный, я тоже люблю тебя! Я хочу доставить тебе удовольствие, но неужели каждый раз мне будет так же больно, как сейчас?
– Нет, больше никогда! – пообещал он.
Несколько долгих мгновений она молчала и лишь тихонько поглаживала его по спине. Он почувствовал, что от этих простых движений желание снова растет в нем, и думал, осмелится ли он еще раз овладеть ею или нет.
– Я снова хочу тебя, мой прекрасный!
– Отдохни, моя греза… И мы еще насладимся друг другом, клянусь тебе.
Но Амаль упрямо повторила:
– Я снова хочу тебя, мой прекрасный!
Она подчеркнула свои слова, повернув голову и потянув зубами мочку его уха.
По телу Синдбада пробежала дрожь. Он в первый раз ощутил, насколько его возлюбленная страстная, пылкая… Именно такая, какой должна быть подлинная женщина, настоящая дочь огня. Протянув руку, он стал массировать ее сосок, пока он не сделался упругим и не встал, словно стойкий маленький солдатик на холме ее восхитительной груди. Она притянула его голову к себе, стала целовать его в губы, шепча:
– Возьми же меня, мой желанный! Я вся горю!
Он лег на нее и проскользнул в ее нежное лоно, чувствуя, что Амаль еще слегка вздрагивает от боли. Он медленно продвигался вперед в ее теле, проникая все глубже, а потом вышел наружу, но только для того, чтобы потом вновь стремительно погрузиться в ее пылающее страстью тело. Он почувствовал ее ноготки на своей спине и услышал ее стон.
– Нет! Я хочу получить наслаждение! Не отказывай мне в этом!
Он засмеялся и сел между ее ногами.
– Не спеши, греза! Можно получить еще большее удовольствие, если не торопить события.
И он стал совершать мучительно медленные движения, доводившие ее почти до безумия. Амаль оказалась совершенно беспомощной перед теми восхитительными ощущениями, которые вновь начали одолевать ее. Она не верила, что может быть еще лучше, однако каждая минута приносила все новые восторги, и наконец все вокруг закружилось и она совершенно потеряла ощущение времени, ничуть, правда, не беспокоясь об этом. Единственная мысль пронеслась в голове – какая она была дурочка, когда боялась его.
Синдбад застонал от наслаждения и упал на ее грудь.
Свиток двенадцатый
Наступило утро. Синдбад открыл глаза в тот миг, когда бесцеремонные солнечные лучи добрались до ложа.
– Вправду, нет ничего прекраснее мига, когда ты из возлюбленного становишься супругом… – пробормотал он и взглянул на спящую жену.
Лицо Амали было безмятежно спокойно. Казалось, она улыбается сквозь сон – так умеют улыбаться дети, когда их сновидения полны ничем не омраченного счастья.
– Моя звезда… Моя греза… – прошептал Синдбад и нежно поцеловал жену в губы.
Он надеялся, что сейчас распахнутся огромные глаза и новая волна счастья обладания поглотит их. Но, увы, его молодая жена спала. Она едва слышно вздохнула и чуть заметно пошевелилась, удобнее устраиваясь на локте Синдбада.
«Бедняга, – подумал юноша. – Она такая ранимая, нежная. А я всю ночь…»
Теплые объятия, жаркие слова, сплетение тел в свете одного-единственного светильника. Все это промелькнуло перед мысленным взором Синдбада. О, как бы он желал еще раз окунуться в удивительную сказку первого узнавания! Ибо узнавать любимого человека можно всю жизнь и каждый раз находить в нем все новые, еще более привлекательные черты.
Но, увы, непросто разбудить жар в спящем человеке. Быть может, Синдбад, движимый страстью, и попытался бы это сделать, но совесть встала на пути его желаний.
«Да я ей и глаз сомкнуть не дал!.. Солнце уже взошло, когда уснул я сам… Пусть спит, хоть до завтрашнего утра! Немало найдется у меня дел, чтобы превратить эти полупустые комнаты в уютный дом для такой необыкновенной девушки, как моя Амаль».
И, верный своему решению, Синдбад погрузился в домашние хлопоты – благо все дела в кузне Дахнаш взял на себя.
«Но всего на неделю! – грозно хмурил брови ифрит. – Ты слышишь, зять мой?! Всего на неделю!»
Наступил полдень – Амаль спала. Не было слышно ее дыхания, грудь вздымалась редко, но лицо ее было спокойным и умиротворенным. Синдбад пару раз подходил к ложу, один раз даже решившись потревожить покой любимой. От поцелуя Амаль не проснулась, но повернулась так, будто хотела взглянуть в лицо мужа. Хотя, возможно, Синдбаду сие лишь показалось, ибо оковы сна были необыкновенно крепки и разжиматься не собирались.
Не проснулась Амаль ни на закате, ни в полночь, ни на рассвете. Сон ее был все так же крепок, а дыхание все так же едва слышно.
И тут Синдбад перепугался: его прекрасная, огненная, живая Амаль все более походила на прозрачно-печальную мраморную статую, каких он немало повидал на родине в соборах и церквях.
– О нет, – прошептал юноша. – Не для того я покинул свой разрушенный дом, не для того исколесил и исходил полмира, чтобы любоваться тем, как превращается в камень лучшая из дочерей человеческих!
Помня, что на решение всех домашних дел (Аллах всесильный, какое счастье!) у него осталось дней пять, Синдбад отправился к имаму, тому самому, кто сочетал его с Амалью брачными узами.
Имам поморщился, увидев не пороге «неверного», хотя знал, что юноша, пусть и родился в далеком и холодном Альбионе, был приверженцем Аллаха всесильного и всевидящего и не пропускал ни одной молитвы. Лишь когда в кузне дела требовали его неустанного наблюдения, Синдбад вынужден был отложить священный для каждого правоверного ритуал, однако затем истово возносил Аллаху всесильному самые горячие и искренние слова.
Но в глазах «мудрого», пусть и непроходимо тупого и фанатичного старика Синдбад оставался и неверным, и слугой самого Иблиса Проклятого.
Синдбад начал рассказ о своих неприятностях, но имам не захотел слушать.
– Иди домой, – гадливо морщась, проговорил старик. – Сию же минуту я обращусь к покровителю всех правоверных, и не успеешь ты ступить на порог дома, как все твои беды закончатся.
– Воистину, тогда моя садака[3] станет самой большой, какую ты видел в своей долгой и полной мудрости жизни!
Домой Синдбад бежал так быстро, как только мог. Если бы ему было дано умение летать, он бы пролетел добрую дюжину кварталов. Увы, обещание имама так и осталось пустыми унылыми словесами. Ибо дома было тихо: неслышно спала Амаль, и некому было подать усталому супругу даже чашу воды.
– Что ж, бессильный старикашка. И это все, что ты можешь… Так тому и быть!
И Синдбад сам решил вознести пылкие слова молитвы повелителю всех правоверных. Должно быть, это была самая горячая молитва из всех, какие долетали до ушей Аллаха всесильного. Однако не помогла и она – и Синдбад провел ночь рядом с теплым и любимым, но совершенно неподвижным телом жены. Ни поцелуи, ни ласки так и не смогли пробудить уснувшую красавицу.
Следующее утро Синдбад начал с поиска искуснейшего из лекарей, который знает все о сне человеческом. Такой мудрец, конечно, нашелся. После рассказа Синдбада лекарь задумался, но тоже не торопился собираться в дорогу.
– Отчего ты столь неподвижен, о уважаемый? Отчего не собираешь полную корзину снадобий, дабы поспешить к порогу моей захворавшей супруги?
– Тому есть много причин, юноша, – неторопливо ответил лекарь. Он подал Синдбаду пиалу, полную горячего чая, и указал на место напротив себя. – Во-первых, потому, что твоя супруга вовсе не хворает. Да, среди тех, кто тяжко болеет, встречаются такие, кто несколько дней, а иногда и недель пребывает на зыбкой грани между смертью и жизнью. Это состояние, конечно, не болезнь – скорее сие есть способ защититься от хвори, обмануть ее…
– Сказки варварских племен говорят, что надо выпить мертвой воды, дабы хворь подумала, что смерть ее опередила.
– Мудро… В сказках иногда достает и мудрости, и здравых наблюдений за миром вокруг нас. А что еще говорят эти сказки?
– Что потом надо выпить живой воды и восстать молодым и полным сил, – хмуро ответил Синдбад. Весь этот разговор казался ему пустой тратой времени, юноша стал бояться, что еще минута-другая – и его прекрасная, подобная богиням жена умрет, так и не покинув объятий Морфея.
– Что ж, и сие наблюдение не лишено смысла. Однако, боюсь, мало подходит тебе – ибо нет у нас ни мертвой, ни живой воды.
– Но что же делать, мудрейший? Мне говорили, что ты знаешь о сне все, что лучше тебя никто не составит снадобья, погружающего в крепкий и здоровый сон!
– Это чистая правда, мальчик! Лучше меня сие никто сделать не сможет! Но я никогда еще не сталкивался с тем, что человека надо пробудить – куда чаще я сталкиваюсь с жалобами на то, что мои хворые не могут уснуть…
Синдбад тяжело вздохнул – надежды на легкий исход таяли.
– Увы, друг мой, вряд ли я тебе помогу. Попробуй смочить ей уста крепким кофе, самым крепким, какой только сможешь купить и сварить.
– А если кофе не поможет?
– Тогда… Быть может, напиток из далекой страны Чин… Он так же бодрит и столь же приятен на вкус… Свари кофе и сдобри его перцем и имбирем. Скорее более имбирем, чем перцем. Говорят, что такой кофе поднимает и хладный труп!..
С таким невеселым напутствием Синдбад отправился домой. На никогда не спящем базаре он нашел и свежайший, ароматный имбирь, и горячий, горящий на солнце перец, доставленный через полмира из далекой сказочной страны Фузан. О кофе, конечно, можно было не беспокоиться – в каком же доме прекраснейшей из стран мира под рукой Аллаха всесильного и всевидящего нет дома лучших зерен? В каком доме не передается из поколения в поколение заветный рецепт его наилучшего приготовления?
Сваренный по всем правилам кофе дымился в медной джезве. Но запах на Амаль не подействовал. Как не подействовали и капли ароматного напитка на губах. Не открывая глаз, она слизнула их и, вздохнув, повернулась на другой бок.
К сожалению, снадобье лекаря оказалось столь же ценным, сколь и молитва имама.
– Следует, наверное, признать тщетность моих попыток, – проговорил Синдбад, допивая напиток, так и не ставший целительным снадобьем. – Когда солнце соберется на покой, думаю, мне нужно отправиться в дом мастера Дахнаша и узнать у уважаемых родителей моей прекрасной, что с ней и как мне ее излечить…
Перед мысленным взором Синдбада встала ужасная картина: матушка Амали, прекрасная Маймуна, покрывает слезами руку дочери, а мастер Дахнаш тщетно пытается скрыть слезы. «Увы, зять наш, мы не ведаем, что приключилось с нашей красавицей… Мы не знаем, как тебе помочь…»
– Хорошо будет, если они не пригласят стражников, подумав, что это я опоил снотворным зельем их дочь. А стражники и разбираться не будут – проводят в зиндан, да и забудут на десяток лет обо мне и моей несчастной доле. Нет уж, сколь бы мудры ни были родители Амали, но я сам должен понять, что произошло и как вернуть к жизни мое уснувшее сокровище.
Еще одна ночь рядом со спящей Амалью не принесла Синдбаду ни покоя, ни отдыха. Однако долгие полуночные размышления все-таки не были пустыми. Ибо вспомнил юный супруг о знахаре, что нашел приют у восходной городской стены. На базаре (о Аллах великий, где же еще!) рассказывали, что знахарь этот молод, что нашел он путь сюда, под длань защитника всех правоверных, из невероятно далекой полуночной варварской страны. Говорили также, что снадобья знахаря не так горьки, как снадобья лекарей, что излечивает он и словом, и взглядом, и даже повернувшись к недужному спиной.
– Ну что ж, полуночный знахарь ничем не хуже полуденного лекаря… Возможно, даже лучше.
Едва взошло солнце, как Синдбад покинул опостылевшее ложе, воистину одр скорби, и отправился к восходной городской стене, где много лет уже находили себе приют иноземцы – с полудня и полуночи, с заката и восхода. Приверженцы Исы и Заратуштры, принца Гаутамы и сотен иных богов… Были среди них и знахари, гордо именующие себя хакимами, были и циркачи, были и музыканты, встречались даже рисовальщики, не боящиеся гнева Аллаха всесильного за то, что изображают человека. Отчего-то здесь чаще всего можно было найти повивальных бабок и шептух.
Хотя сейчас ему, Синдбаду, было не до повивальной бабки, однако он мимоходом подумал, что с удовольствием торопился бы в этот квартал именно за ней в ожидании часа, когда прекрасная Амаль одарит его наследником.
Увы, сия радостная картина пока оставалась лишь далекой мечтой, а вот обиталище полуночного знахаря юноша смог найти без посторонних подсказок. Хижина (обиталище сие язык не поворачивался назвать домом) и впрямь прилепилась прямо к городской стене. Вокруг нее на веревках сушились пучки трав, издававшие оглушительный аромат. У порога грызлись за кость собаки, а некто, более всего походивший на одичавшего дервиша, помешивал в котле варево, которое в равной степени могло быть и едой, и снадобьем, и отравой. Или, быть может, так он пытался выстирать свое платье…
– Должно быть, это и есть успешный и мудрый Феодор… – пробормотал Синдбад.
Дервиш обернулся. Ярко-серые глаза выдавали в нем уроженца полуночи, рубище оказалось просто распахнутым на груди меховым халатом. А обувью служили не бабуши с загнутыми носами, а сапоги из непонятной кожи темно-серого цвета, зияющие дырами и щедро украшенные заплатами.
– Воистину, я Феодор, мудрейший из мудрых знахарей, успешнейший из успешных лекарей, знающий все под этим небом и смело взирающий в иные небеса!
Воспитание, данное мудрой матушкой, не позволило Синдбаду спросить, отчего это столь успешный, настолько мудрый лекарь ютится в собачьей конуре и почему от него разит, как в жаркий летний день от городской свалки.
«Хотя, может, сие есть непременное условие – не мыться, дабы не смыть с себя удачу. Варварские обычаи, что с них возьмешь… К тому же мне выбирать не приходится – лекари-то отказались мне не только продать снадобье, но даже подарить совет».
Свиток (о нет, только не сейчас!) тринадцатый
Юноша помолчал несколько минут, размышляя, как сделать рассказ коротким, но точным. Знахарь вновь повернулся спиной и еще раз перемешал варево палкой в котле.
– Так что привело тебя, раб божий, к подлинной мудрости, коей олицетворение есть я один и никто иной?
– Моя жена занедужила…
– Это не ко мне… Никчемные повитухи на соседней улице…
– О нет, почтенный… Моя жена погрузилась в сон, из которого не возвращается…
– Знал бы кто, как мне надоели эти просители. Ну разве мне, великому и умелому, печься о каких-то недужных? Разве не дарованы мне умения побеждать бесов и их отца и отца их отца? Разве я для того проделал столь долгий путь и добился столь впечатляющих успехов?
Синдбад умолк, не приученный перекрикивать собеседника. Последние же слова знахаря изумили юношу. «Успехов? – хотелось спросить ему. – Жизнь в лачуге в окружении своры псов ты называешь успехом?»
Уже второй раз за несколько минут Синдбаду захотелось уйти от этого словоблуда. Но надежда на то, что он знает, как избавить Амаль от оков сна, удержала его на месте.
– Так знай же, мальчик-невежда, – возгласил знахарь Феодор. – Перед тобой единственный в мире подлинный борец с бесами. И тот, кто на самом деле, без лжи, может помочь тем, кто такими бесами одержим… Бесы мне говорят: «Ты нас не трогай, лечи людей травами, и тебе будет спокойно, и нам хорошо». Я начал лечить людей в тридцать три года, когда меня посетила Богородица. После этого стал соблюдать пост, молиться, ходить в церковь. А до этого времени мне в церкви не приходилось бывать, лишь когда меня крестили ребенком, чего я совсем не помню…
Громкая барабанная дробь отвлекла Синдбада от повествования и повествователя. У распахнутых городских ворот появилась странная процессия – двое воинов, глашатай и барабанщик.
– Сюда, все сильные и ловкие! Сюда, все умелые и везучие!
Синдбад невольно поднял голову, ибо был и силен и ловок. С везением, правда, дело обстояло не так хорошо, но…
Процессия удалялась, стихли и крики высокого худого воина.
– Да ты не слушаешь меня, никчемный!.. В самом начале своего целительского пути мне пришлось схлестнуться с бесом Викентием, начальником сатанинской разведки и контрразведки, который сидел в одной женщине. Эту порчу сделала ей свекровь на второй день после свадьбы, накормив ее пирожками из мышей. Привезли ее ко мне, а у нее и ногти синие. Занесли женщину на руках. А изнутри больной пошел голос: «Ну все, мне конец». То заговорил бес. Это был его дух, а тело беса находилось в четвертом измерении. У меня с бесом была не только борьба, но и беседа…
«Порчу сделала свекровь… Нет, моя бы матушка плакала от радости…»
Сейчас, по прошествии стольких лет, Синдбаду трудно было уже вспомнить, как именно радовалась его суровая мать. Но, несомненно, она была бы рада обретению невестки и счастью сына.
– Сей бес в шесть сотен лет (по времени четвертого измерения) занял высокий пост. Он мне говорил: «Я подлинный генерал. У меня на каждом плече по шесть погон и на каждом погоне по шесть черепов. Ведь я за свою жизнь отправил на тот свет пять сотен человеческих душ. В ком я только не сидел за свою жизнь!.. В последний раз я сидел в женщине, которая решила было отправиться по святым местам. Но я ее отговорил и оставил дома. Ее я убрал буквально за год – уж очень она выпить любила». Еще он мне говорил: «А ты знаешь, что мы тебя искали, но не нашли. Смотрели и среди верующих, и среди монахов, и среди священников – нигде тебя не было».
– Сюда, все ловкие и отважные! – вновь раздался крик. – Сюда, все смелые и неустрашимые!
Голова Синдбада стала кружиться. Даже в кузне, в гудении огня и перестуке молотков и молотов было спокойнее и уютнее.
– Урюк? Черный ссохшийся камень ты называешь урюком?!
– Лечу от натоптышей и мозолей!.. Лечу от тоски и бесплодия!..
– Когда с рекомым было покончено, из этой больной женщины заговорили дочки сатаны Фелия и Сения. С ними я разобрался быстро. На арену вышел сам сатана. Чтобы быстрее его добить, а у меня уже появился небольшой опыт, мне три раза пришлось возить эту женщину к мощам. Ближе сотни шагов к последнему приюту святого Иова ее невозможно было подвести. Женщина упиралась, кричала и рычала. Когда монах, сидевший возле мощей, говорил ему: «Уходи, бес, на камыши, на болота», из больной рычал сам сатана: «Мое место на троне». Как сейчас помню этот день: на Купалу сатана был уничтожен. Он был тринадцатым по счету, прожил в общей сложности восемнадцать тысяч лет по их летоисчислению, а по нашему – три тысячи лет.
– Не слушай его, юноша, – Синдбад услышал сзади голос, принадлежащий, как ему показалось, сверстнику. – Он может заболтать кого хочешь. Лучше дождись, пока он утомится, и найди меня, святого Виферемия, который может излечить тебя от любой хвори за два часа и два золотых дирхема!
Синдбад попытался оглянуться, но невидимый юноша прошипел:
– Не смей! Ты меня сглазишь! Запомни – святого Виферемия!..
– А дальше пошло-поехало. В ноябре уничтожил беса Константина, который заведовал пеклом в аду. В середине зимы изничтожил Асмодея, весной следующего года – Вельзевула, а накануне Дня Всех Святых такая же участь постигла Люцифера. В своей жизни мне приходилось не раз встречаться даже с самим дьяволом.
– Точить ножи! Точить ножницы! Лудим, паяем, починяем!..
– Не верь никому, сильный и ловкий! Верь только нам!
– С верхушкой нечисти интересно общаться. Они рассказывают очень много любопытных вещей. Все это мной перепроверено (каким образом – это моя тайна). Нечистые, как и люди, умеют предавать. Кого-то обошли званием, должностью, кто-то кого-то обидел. Когда был уничтожен сатана, трон пустовал года полтора. Дьявол назначил нового сатану, молодого беса. Он чем-то не подошел Мелании, жене дьявола, и в конце осени его ликвидировали.
И вновь рядом раздалась барабанная дробь.
– Подлые твари! – Еще один голос из-за спины объяснил Синдбаду, что означает некая странная процессия, вновь появившаяся в квартале у городских ворот. И вновь Синдбад не увидел говорящего. – Наемников вербуют! Опять бессильный шах вздумал расширить пределы своего унылого мирка… И опять ищет пушечное мясо…
– Лекарства от боли в горле и колене! Притирания для возвращения чувств и красы! Духи для привлечения и влечения! Все для унылых и опустивших руки!
Синдбад чувствовал себя уже и унылым и опустившим руки, с больным горлом и коленом, лишившимся красы и чувств. А еще он чувствовал, как стремительно тает надежда, как даже воспоминания о веселом смехе Амали и ее нежной улыбке тускнеют перед его мысленным взором.
«Клянусь, сегодняшнюю пытку я выдержу до конца! Если и этот… шут не сможет мне ничем помочь… Вот тогда я паду на колени перед мудрой матушкой Амали…»
Простая мысль воспользоваться умением беседовать на расстоянии отчего-то не приходила в голову Синдбада.
Новая волна аромата окатила задумавшегося юношу. И вместе с ним вернулся и голос «мудрейшего и успешнейшего» Феодора.
– Глава нечистой цивилизации – дьявол, который ранее был одним из самых сильных и светлых ангелов у Бога и которого называли Денницей. Но Денница не захотел любить Бога, исполнять волю Божию, а захотел сам стать Богом. Денницу поддержала третья часть ангелов. Во время битвы дьявол и его ангелы были свергнуты с неба. Пав же в теснины земные, дьявол создал чертей, бесов и другую нечисть. Так появились жители четвертого измерения. Табелью о рангах у нечистых занималась Елизаздра, жена дьявола (я извел ее сущность всего два года назад). За ее делами – не реки, а моря человеческой крови. Демоны подразделяются на полу-демонов и собственно демонов. Полу-демон – существо, чем-то отдаленно напоминающее кузнечика, однако высотой в два человеческих роста, стоящее на копытах. Кстати, копыта у полу-демонов и демонов – самое уязвимое место.
На голове небольшие рожки, по краям туловища два крыла, одно из которых недоразвитое, а второе – размером в локоть. Передвигаются полу-демоны, как кузнечики. Собственно демоны, в свою очередь, подразделяются на простых демонов и знать. У всех имеются очень мощные крылья, с помощью которых они летают.
Противовесом демонам являются бесы. Общее число бесов в шесть раз превышает общее число демонов. Да и ключевые посты в нечистой цивилизации в основном занимают бесы. Слово дьявола – закон для всего мира нечистых. Чтобы законы эти неукоснительно соблюдались, учреждена должность гран-надсмотрщика. Сейчас это место у них вакантно – я постарался в прошлом году на совесть. Если черт или бес в чем-то нарушают законы, то с них живьем сдирают шкуру. Если считают, что следует наказать примерно, могут оторвать и хвост. А вместе с хвостом из нечисти уходит и вся сила. Такие, бесхвостые, бродят тенями среди людей и отводят глаза.
«Похоже, кто-то вот так отвел глаза и моей прекрасной…»
– Так сложилось за долгие годы, что реальные ведьмы, колдуны и бесы превратились в сказочных персонажей. Это им было только на руку, теперь колдовать и вредить людям можно было безнаказанно, ибо в них никто не верил, а объяснения бедам человек стал искать в науках, кои суть изощреннейшее из дьявольских изобретений… Я же, веря больше в сказки, там же нашел и очень много способов борьбы с нечистью. Скажу по чести, в реальной жизни дьявол похож на дракона, каким его изображают сказания моей родины: длиной около сорока локтей, из которых два десятка составляет хвост, по обеим сторонам туловища по три крыла. Как дьявол, так и остальная знать могут уменьшаться в размерах или принимать вид человека.
– Сюда, все усталые и нерешительные! Сюда, к нам, знающим путь!
– А малыша укутай поплотнее, особенно ночью, ибо если ты не дашь ему пожевать пихтовую щепу, недуг перейдет из горла в само дыхание. И даже я, Заидат, не дам за здоровье твоего малыша и медного фельса!
– Вторым по силе и значимости был Люцифер – дух астрального света. Это дракон длиной в двадцать шесть, дважды тринадцать локтей, по краям туловища которого три крыла, кроме того, вдоль всего туловища сверху еще одно крыло. Асмодей – ангел-истребитель. Выглядит, как огромная змея, по краям туловища тоже по три крыла. Длиной это чудовище в два десятка локтей. Вельзевул – князь тьмы и демонов. Похож на гигантскую ящерицу, однако чуть меньше, чем Асмодей. По обеим сторонам туловища по три крыла с каждой стороны.
– Позволь, мудрейший, – пересилив себя, обратился Синдбад к болтливому знахарю. – Но зачем ты мне рассказываешь все это?
– Ты должен знать, о ком я говорю, червь. Ты должен знать, кого я победил. И тогда ты сможешь довериться моим знаниям и умениям. А сейчас не перебивай – иначе в гневе я низведу тебя до праха у ног этих прекрасных псов.
«Прекрасных?! Да эти шелудивые твари похожи на прекрасных, как ты на лекаря и последнюю надежду человека…»
Синдбад хотел уже встать и уйти. Но вспомнил спящую Амаль и… решил взять себя в руки. Что, если под личиной этакого безумца скрывается подлинный целитель?
– Нектарий – дракон о семи головах, хранитель жертвенной чаши. Сама чаша сделана из черного гранита, и в ней может уютно поместиться живой слон. Из нее дьявол пьет кровь младенцев, которая обладает чудовищной жизненной силой. Виссарион – пятиголовый дракон, хранитель меча дьявола (меч длиною в тринадцать локтей, булатная сталь и чернение). Самуил – трехглавый дракон, хранитель дьявольского трона и колчана со стрелами дьявола. Трон же сделан из золота. Велиар – крылатый змей, хранитель короны, скипетра и державы дьявола. Изиккил – демон, хранитель малой печати дьявола, сделанной из золота. Израэл – демон, черный ангел смерти. Молох – ящер, хранитель лука дьявола. Сам лук сделан из тиса, длиной ровно в дважды тринадцать локтей. Но основное назначение Молоха есть разжигание войн между людьми, в чем он немало преуспел.
– Сюда, все, лишенные надежды! Сюда, все, ищущие пропитания!
– Притирания для красы и неги! Мази от мозолей и душевных болей!
– Это золото, а не урюк!
– В этом золоте поумирали даже престарелые черви!
– Сюда, все сильные и смелые!..
Свиток четырнадцатый
Для него, Хасиба, все началось в раннем детстве – у стены отцовской мастерской. Быть может, то был дар, но до некоторых пор он ощущался лишь как кошмар, что тревожит детский сон. А вот в юношескую пору дар сей превратился в проклятие и настиг его, когда учился он у почтенного Саддама, скрывая свои видения от наставника. И если бы в тот жаркий день они не отправились в цирк, такой же, как и в нашем прекрасном городе, бродячий цирк, его жизнь бы не изменилась.
Многого ожидал малыш Хасиб от представления, но куда больше увидел. Порадовали мальчика и дрессированные звери, увидел он и канатоходцев, и замечательных жонглеров. Внимание же почтенного Саддама привлекли, к удивлению его юного спутника, не чудеса, которых он так ожидал, а обыкновенные гимнасты.
– Смотри, малыш, – прошептал учитель ему на ухо, – вот это и есть настоящее чудо, настоящее искусство. Ибо чудеса с помощью каната может показать любой, а вот так замечательно владеть своим делом, добиться столь точного равновесия дано лишь тому, кто не щадит самого себя и занимается своим ремеслом все время, добиваясь того, что ремесло это назовут искусством – вот как я сейчас.
– Да, учитель, – послушно кивнул Хасиб, пытаясь понять, что же так поразило учителя в таких несложных с виду движениях.
Мальчик смотрел, но пока ничего не видел, а его наставник, прищелкивая языком, раз за разом восклицал:
– Ай, прекрасно! Ай, замечательно! Ай, какой молодец!
Представление закончилось, и зрители стали расходиться.
– Не ругаешь ли ты меня, учитель? – робко спросил Хасиб. От его взгляда не укрылось, что чаще губы учителя складывались в гримасу пренебрежительную, чем довольную.
– О нет, мой мальчик. Многое из того, что я увидел, послужит нам с тобой отличным поводом поговорить и изучить самые разные стороны жизни и науки. Кое-что показалось мне смешным, кое-что любопытным. Но ничего отвратившего меня я не увидел. А потому от всего сердца благодарю тебя – ты преподал мне отличный урок. Да и удовольствие я получил. Что в моем возрасте и вовсе уж редкость.
Хасиб просиял – угодить учителю было совсем непросто. И вот сейчас, неторопливо возвращаясь с ним домой, мальчик потихоньку радовался.
– Смотри, мой умный ученик, вот там, у колодца, я вижу еще одного настоящего мастера. Посмотри на его высокое искусство – не каждый день можно увидеть здесь, в глуши, заклинателя змей.
Хасиб присмотрелся. В жидкой тени старого карагача на циновке сидел изможденный чужеземец и наигрывал на дудочке какой-то едва слышный немудреный мотивчик. А перед ним, поднявшись из старой плетеной корзины, покачивалась огромная кобра.
Эту змею Хасиб не спутал бы ни с какой другой. Именно такое чудовище когда-то напугало его у стены отцовской мастерской.
– Удивительно, – пробормотал Саддам. – Я не знал, что эти подданные Царицы вырастают до таких огромных размеров!
– Чему ты удивляешься, учитель? Я видел такую огромную змею возле отцовской мастерской, когда был еще совсем малышом…
– Ты видел такую змею?! – с изумлением и страхом переспросил Саддам.
– Ну да, учитель. Вот такую же, как эта, только чуть темнее. Она… – тут Хасиб замялся. Никому не хочется признаваться в том, что его что-то испугало. Но через миг продолжил: – … она испугала меня, вот точно так же встав прямо перед моим лицом из темноты.
– Удивительно, малыш. Но не бросилась, да?
– Не бросилась. Она мгновение посмотрела мне прямо в глаза, а потом сгинула. Я даже не сразу понял, куда она девалась, да и была ли вообще.
– Так, значит, Царица оставила здесь своих соглядатаев… Сколько уж лет прошло, но это порождение Иблиса Проклятого не желает сдаваться, не желает проигрывать в нашей с ним вечной схватке…
– О чем ты, почтенный Саддам? Ты чего-то испугался?
– Да нет, малыш, все в порядке. Это просто мысли вслух. А что было с тобой потом? После того, как перед тобой встала кобра?
Хасиб пожал плечами.
– Особенного ничего и не было, учитель. Вот разве что…
– Что же? – с жадным любопытством учитель впился взглядом в лицо мальчика.
– Меня теперь боятся все звери… И щенки, и коты, и даже наша коза…
– Боятся, говоришь?… Как удивительно. Какой странный дар! И за что?
– Дар, учитель?
– Да, мальчик мой. То чудовище, которое напугало тебя…
– Учитель… – Хасиб покраснел.
– Прости, мальчик, я говорил слишком громко. Так вот, то чудовище, которое видел ты… Это была рабыня самого удивительного и коварного из порождений Иблиса Проклятого – Царицы змей. Так вот, эта рабыня зачем-то подарила тебе такую странную особенность – тебя теперь действительно будут бояться все животные. Точно так же, как почти все животные боятся змей. Но вот зачем она это сделала, я понять не могу.
– Учитель, но мне вовсе не нужен был этот дар!
– Мальчик, дары Царицы змей чаще всего весьма опасны, а порой просто грозят смертью их невольному обладателю.
Хасибу стало не по себе. Более того, он вновь окунулся в воспоминания о том вечере, когда чудовище взглянуло прямо в его глаза.
И словно в ответ на эти воспоминания, смолкла немудреная песенка дудочки. Скрылась в старой корзине и чудовищная змея, плясавшая под эту мелодию. А в руках заклинателя появилось другое чудовище. Огромная змея, толщиной с тонкое бревно и длиной в добрый десяток локтей, ярко-желтая, с пестрым коричневым узором, обвила плечи и шею заклинателя. Голова чудовища покачивалась рядом с землей с одной стороны, а хвост волочился по земле с другой стороны тела иссушенного странствиями чародея.
– Какое чудовище! – прошептал Хасиб. – Если эта змея настолько длиннее той, что прячется в корзине, насколько же она опаснее!
Саддам засмеялся.
– О нет, мой друг! Это просто сетчатый питон. Он куда безобиднее пляшущей кобры – ведь у него нет ядовитых зубов. Опасность он представляет для мышей или мелких птичек…
– Питон… – пробормотал Хасиб, пробуя на вкус новое слово. – Страшилище…
И как ни испугала Хасиба эта яркая змея, мальчик не мог оторвать глаз от огромного пестрого тела и крошечной плоской треугольной головки, что покачивалась почти у пяток укротителя. Внезапно змея зашевелилась, пытаясь, должно быть, уютнее устроиться на костлявых плечах факира, и стала поднимать голову.
И тут почтенный Саддам сам смог увидеть то чудо, о котором только что услышал от Хасиба. Питон скользнул головой по отставленной в сторону руке заклинателя и поднялся так, чтобы его глаза оказались прямо напротив глаз мальчика. Мгновение он смотрел Хасибу в лицо, а потом поспешно начал стекать в огромный распахнутый сундук.
– Дрянной мальчишка! – закричал факир, брызгая слюной. – Ты напугал моего малыша!
Хасиб недоуменно взглянул на заклинателя, а потом на учителя, словно прося у него защиты. Саддам успокаивающе кивнул и сделал шаг вперед. Но заклинатель продолжал кричать.
– Люди, вы все видели?! Меня, честного факира, известного во всех пределах Малой, Средней и Большой Азии, Ас-Исраэля-бар-Мицва, заклинателя самых страшных змей, обижают! На моих змей замахиваются, а этот скверный мальчишка только что, нет, вы все это видели, бросил камень в моего крошку, Пеструшку-малыша!
– Прошу прощения, добрый человек, – примирительно заговорил Саддам, – но мой ученик не сделал ни одного движения!..
– Люди, вы видели?! Нет, вы все это видели?! Мало того что моих крошек обижают какие-то мерзкие хулиганы, так еще у них находятся защитники?! Я этого так не оставлю! Я найду управу и на тебя, паршивец, и на этого старика!
– Ой, не ори, Исраэль! Никто твоих крошек не обижает, – лениво донеслось от ближайшего каменного прилавка. – Твои чудовища сами могут испугать и обидеть кого хочешь… Стой спокойно и дай этим почтенным людям идти своей дорогой.
Заклинатель вновь закричал, но уже немного тише:
– Нет, и кто это будет говорить?! Это говорит какой-то паршивый продавец фиг и лимонов!.. Ну, что ты понимаешь в высоком искусстве дрессировки? Теперь же мои малыши откажутся даже вылезать из своих сундуков и корзин! Они же такие ранимые! Чуткие, робкие…
– О да, – хихикнул тот же голос. – Они чуткие и робкие… Как ты, глупец. Или как наша городская стража.
– Нет, люди, вы все слышали?! – вновь завопил заклинатель. – Мне, потомственному колдуну, закрывают рот, как обыкновенному базарному зазывале.
– Ой-ой… Видели мы таких потомственных колдунов… Вот взял бы и заколдовал всех прохожих, чтобы они бросали тебе не ничтожные медные фельсы, а полноценные дирхемы… Тогда и твои крошки от голода не нападали бы на почтенных посетителей базара.
– Мои красавчики ни на кого не нападают – они просто защищают меня! Люди, вы все слышали?! Этот человек обижает моих малышей…
– Пойдем, мальчик, пока этот глупый крикливый человек вновь не вспомнил о нас, – наклонившись, прошептал Саддам на ухо Хасибу.
Учитель и ученик, стараясь не сбиваться на быстрый шаг, но и не ползти, словно улитка, постарались оставить место перебранки как можно более достойным образом. Но долго еще за своей спиной они слышали визгливые выкрики «Люди, вы все слышали?!» и пренебрежительно ленивые ответы торговца фигами.
Свиток пятнадцатый
Вот так, едва начав учиться у почтенного Саддама, Хасиб раскрыл ему одну из своих тайн. Мудрости наставника хватило, чтобы не проявлять излишнего любопытства, издали наблюдать за учеником. Лишь когда они оставались вдвоем, учитель осторожно расспрашивал мальчика о том, как проявляется его странный дар.
Хасиб не понимал, почему так настойчиво расспрашивает его наставник, но честно отвечал, всерьез пытаясь объяснить самому себе, что же с ним произошло тогда, у стены отцовской мастерской, и что происходит сейчас, когда его прикосновений стараются избежать котята и щенки, сторонится коза, а пауки уже давным-давно покинули не только дом отца, мастера Асада, но и пристанище мудрого учителя Саддама.
Постепенно любопытство учителя ослабло и расспросы прекратились. Вернее, удивительный дар ученика по-прежнему интересовал учителя, но он видел, что в расспросах мало пользы, и потому ограничивался только наблюдениями. Сам же Хасиб не особенно откровенничал, да и не о чем было – пауков уже нет, в руки ему даются только предметы неодушевленные… И, пожалуй, это все.
Но не знал учитель о второй тайне Хасиба. А сам мальчик вовсе не торопился кому-то о ней рассказывать.
Да, уже не первый год снился ему время от времени один и тот же странный, тревожный сон. Но теперь он стал чуть иным.
Вновь первыми в абсолютной черноте пришли слова неведомого языка, которые произносил странным свистящим шепотом некто невидимый. Вновь, как и раньше, каждому из этих слов сопутствовала яркая цветная полоса или, быть может, лента своего цвета. Но теперь Хасиб уже ясно видел, что это вовсе не лента – каждому слову сопутствовала змея: извивающаяся, с блестящей шкурой, переливающейся в солнечных лучах. Хотя откуда во сне было взяться солнцу? Но сейчас Хасиб не задумывался об этом. Как раньше не менялись эти ленты, так теперь не менялись эти существа – от лимонно-желтого, пронзительно-яркого полоза к темно-коричневому, благородно-сдержанному, но беспощадному аспиду. И далее точно так же, как и в первых снах, цвета изменялись. Перед глазами спящего мальчика вновь играли на освещенной солнцем поляне десятки змей. Переливы их блестящей кожи поражали и оглушали всеми цветами и оттенками, присущими живой природе, – от нежного, едва заметно розового, каким бывает восход в горах, до тускло-пурпурного, уходящего в черноту. И слова… О, эти слова! Они все так же начинали и завершали пляску, но теперь уже не цвета, а пляску между жизнью и смертью.
Теперь и глухой мог различить шелест, который по-прежнему был подобен перешептыванию листьев в кроне дерева. А потом из этого шуршания стали доноситься, все более явственно, слова:
– Ас-сасай! Асс-ни! Сансис! Суассит!
Затем вновь все стало затихать – змеи бесшумно свивались в клубки, переползали от одного яркого пятна, может быть, травинки, а может быть, кома земли, к другому. Вновь во сне Хасиб уже надеялся на то, что все прошло, и тут звучал поистине громовой раскат новой фразы, оглушительно непонятной и все такой же пугающей, и появлялась на этой солнечной поляне с сотнями змей истинная царица этого карнавала красок – ослепительно-алая огромная змея:
– Шуан-сси суас-си, суас-ассат…
Эти звуки все так же иссушали, кажется, и саму душу. Еще миг – и Хасиб готов был упасть лицом в это шипение, шуршание и клокотание смертельно-опасной жизни, чувствуя, что его жизнь закончена и не стоила ни гроша… Он готов был уже расстаться с миром, погрузиться в благословенную, тихую и беспросветную черноту забвения… И в этот миг все заканчивалось.
Нельзя сказать, что пробуждение после такого сна бывало отрадным. Напротив, Хасиб чувствовал себя так, словно его всю ночь били палками мальчишки, которые почему-то рассердились на него сверх всякой меры. Болели и спина, и бока, и лицо, и ноги. А вот руки не болели, но их так сводило, что мальчику приходилось разминать пальцы несколько бесконечно долгих минут, чтобы вновь почувствовать ток крови и отрадную уверенность в движениях.
Увы, этот сон, как и раньше, изматывал, и пусть теперь он был более осмысленным, равно как и ужас, что оставался в душе после пробуждения, но понять, что же его вызвало, было все так же невозможно.
– Надо рассказать учителю, – пробормотал Хасиб, проснувшись в одно нерадостное утро. – Еще одной ночи такого ужаса я не выдержу.
И это было чистой правдой – сердце его быстро и оглушительно громко билось, а ужас, который вызвало зрелище десятков извивающихся смертельно опасных клубков, изгнал из разума все остальные чувства. Но мальчик признался самому себе, что сегодня сон отличался и еще кое-чем. Слова… О, слова, которые раньше жили лишь во сне, теперь пробудились вместе с утром.
Теперь Хасиб прекрасно помнил звучание каждого из них, их шипящую и свистящую душу, но по-прежнему, и, быть может, к счастью, не знал их значения. И тогда Хасиб решился вновь произнести их вслух (хотя потом он так и не мог ответить себе на вопрос, зачем же он это сделал):
– Ас-сасай! Асс-ни! Сансис! Суассит!
С минуту было тихо – так часто бывает на рассвете, когда все живое еще наслаждается последними, сладкими мгновениями сна. Но потом какое-то неясное шуршание раздалось у самого окна. Хасиб затаился, пытаясь понять, происходит это на самом деле или лишь мерещится ему.
Шуршание повторилось. Оно стало чуть отчетливее и теперь слышалось куда ближе. Хасиб плотнее укутался в кошму и подобрал под себя ноги. Он, конечно, уже почти ничего не боялся (да и как может неизвестно чего бояться столь взрослый юноша?). Но почему-то этот звук, так похожий на те, что слышались ему в сновидении, изрядно испугал его.
Хасиб накрылся с головой и одним глазом следил за тем, что происходит в комнате. Шуршание все приближалось, но мальчик никого не замечал. И наконец оно стало оглушающе громким…
И в этот миг показался его, страшного шуршания, источник: из угла рядом с ложем Хасиба выскочила мышка. Она стремилась как можно быстрее покинуть комнату, вероятнее всего, весьма озабоченная необходимостью пополнения запасов на зиму.
Мальчик почувствовал, что по его спине катится капля холодного пота. Ему, оказывается, было не просто страшно, а по-настоящему жутко. И кто его так испугал? Серая мышка… Даже не мышка, а так, мышонок…
– Хасиб, – громко произнес мальчик, решительно вставая на ноги, – ты действительно «Хасиба – тощая и глупая девчонка»! Испугаться мыши! Да так, что тебя не слушаются руки и под тобой трясутся ноги… Стыдно! Недостойно будущего кузнеца и ученого человека!
Хасиб, конечно, гневно отчитал сам себя и по дороге к учителю не раз назвал себя трусливой девчонкой. Но ужас, пережитый этой ночью, был столь силен, что мальчик решил рассказать учителю все. Все, что видел во сне, все, что слышал. И все, чего боялся.
И еще на одно деяние решился Хасиб. Он вновь вслух произнес слова из сна. Быть может, для того, чтобы убедиться, что это был просто сон и этот свист-шипение ничего не значит…
Он остановился, не дойдя до пристанища учителя нескольких десятков шагов, и громко проговорил:
– Шуан-сси суас-си, суас-ассат…
И ничего не произошло. Лишь с высокого пирамидального тополя сорвались птицы, что прятались в кроне, и с громкими криками исчезли в высоком по-утреннему голубом небе.
– Мало ли от чего могут с криком покинуть дерево птицы… – пробормотал Хасиб и сделал еще несколько шагов к дому почтенного Саддама.
Как ни уговаривал себя мальчик, что следует все и немедленно рассказать наставнику, но в то утро не смог произнести ни слова. А потом сон понемногу забылся, как забылся и ужас при виде клубков змей и страх от произнесенного вслух удивительного сочетания звуков.
Свиток шестнадцатый
– В то утро я ничего наставнику и не рассказал. Как не смог решиться это сделать еще довольно долго. Странное сновидение нечасто возвращалось ко мне. Еще реже я мог вспомнить его. Когда же Аллах всесильный позволил мне примкнуть к вашему цирку, почтенная гадалка, я стал уставать так, что не помнил сновидений, ибо валился с ног и спал как колода. Но иногда… вот как вчера…
Хасиб и заговорил не открывая глаз. Вновь перед его мысленным взором свивались в немыслимые клубки змеи-ленты, вновь он не мог отвести взгляда от этого отвратительного и вместе с тем необыкновенно притягательного зрелища. Вновь звучали, отчетливо и громко, все те же слова. Сейчас они ему напомнили его представление!
Но, рассказывая, Хасиб внезапно понял, что появились и отличия. Теперь змеи более не были заняты лишь собой. Они, отрываясь, пусть всего на миг, от своих дел, все чаще вперяли в него немигающие и, кажется, испытующие взгляды. И ему, Хасибу, во сне недоставало сил, чтобы отвести взгляд. Более того, его эти странные взгляды змей не испугали. Он сейчас, раскрывая душу перед старухой Карой, понял, что его невыносимо испугал тот миг, когда прозвучали финальные слова и сон стал меркнуть. Сейчас Хасиб понял, что его испугало именно расставание, именно то, что он вновь оставался один.
– Понимаешь, уважаемая Кара, именно то, что я оставался один, без опеки и защиты этих тварей, столь сильно испугало меня, что я закричал изо всех сил. Теперь я это вспомнил.
Кара молчала, и было видно, что она никогда еще не слышала ничего подобного. Более того, почтенная женщина была изрядно перепугана.
Наконец она заговорила.
– Бедный мальчик, – голос ее сейчас особенно сильно напоминал воронье карканье. Только сейчас ворона, похоже, готова была сняться с места при первых звуках опасности. – Никогда я не слыхивала ничего подобного, никогда в одном сне одного человека не сливались все известные мне знаки смерти и вражды.
Хасиб молча пожал плечами. Он не пытался никому ничего доказывать, ведь он не выдумал свой давний кошмар. Он ничего не приукрасил – просто честно рассказал все, что видел и помнил.
Старуха раскурила коротенькую трубочку и задумчиво уставилась на свои руки. Пальцы ее двигались – она словно мысленно играла в какую-то игру, рассчитывая свои ходы и ходы противника. Хасиб ей не мешал, пытаясь размеренным дыханием, как показывал ему не так давно один из силачей, успокоить бешено бьющееся после воспоминаний сердце.
Наконец старуха заговорила:
– Увы, мой мальчик, я не знаю толкования… Одно могу сказать – то, что сон этот сопровождает тебя всю жизнь, говорит о том, что это твое предназначение. В чем оно состоит: в войне со змеями или в том, что некогда ты станешь их властителем и другом, еще неясно. Могу сказать, что эти создания будут тебя сопровождать до твоего последнего мига, до твоего смертного часа.
– О Аллах всесильный и всемилостивый, только не это!
– Малыш, не стоит пугаться предназначения. Его надо спокойно принять. Быть может, некогда ты станешь просто владельцем цирка, а в труппе появится заклинатель змей. Только и всего.
– Это было бы лучшим из исходов.
– Должно быть, да. Могу лишь сказать тебе, малыш, что и меня твой сон испугал. Обещаю, что я еще подумаю о тех знаках, которые он дает.
– Благодарю тебя, уважаемая Кара, от всего сердца благодарю!
И старуха вновь погладила Хасиба по плечу, хоть и не даря настоящего спокойствия, но от всего сердца утешая.
«Ну что ж, недалекий Хасиб, теперь-то ты доволен? – спросил юноша сам у себя. – Теперь тебе стала яснее твоя судьба? Ты лучше знаешь, чего опасаться и к чему стремиться? Тебя, глупца, в далекие годы обидели слова учителя… Хотя он всего лишь честно признался, что не разумеет значения твоего сна. И сейчас ты отправился на поклон к цыганке, потому что она уж точно растолкует твое сновидение?! И ты это толкование получил… Хотя тебе сказали ровно столько, сколько ты и так знал. Безголовый ты осел, дружище Хасиб! Стоило сбегать за тридевять земель, огорчая родителей и глупыми криками оскорбляя учителя… Сопляк, трус, болван…»
– Не ругай себя, мальчик, не казнись, – проговорила старая Кара. Быть может, она и не была всеведающей гадалкой, но в людях разбиралась превосходно. Тем более в таких, прозрачных, как этот высокий и сильный мальчик, решивший, что он фокусник.
– О добрая Кара, я не могу не казниться. Ибо я из-за этого сна потерял ученого друга и наставника, из-за этого сна рассорился с ним и родителями и отправился в странствие, пытаясь доказать им, что я сумею стать кем-то… кем-то, кто сможет собственным трудом и разумом добыть и знания, и пропитание.
– Ну что ж, малыш, так бывает. Ты, должно быть, не поверил учителю, заявившему, что он чего-то не знает или не понимает?
– Откуда ты знаешь, уважаемая?
– Ну-у, уж настолько-то я в людях разбираюсь, малыш.
– Так и было, – покорно кивнул Хасиб. – Я и в самом деле не поверил учителю. Но что не дает мне покоя: я называл его словами столь пренебрежительными, сколь и недостойными настоящего ученика. Я обвинил учителя в том, что он не знает вообще ничего. Хотя это уж чистая ложь. Ибо всему, что я сейчас умею и знаю, меня научил он, почтенный Саддам.
– Юность жестока, Хасиб, но старость разумна. Поверь мне, учитель не обиделся на тебя. Он, думаю, просто опечалился из-за твоего ухода.
– Хорошо, если так. Но мне кажется, что он все-таки что-то понял – ведь я к нему пришел испуганным после точно такого же сновидения. Он что-то понял, попытался мне что-то сказать… Но я, осел, не дал ему даже рта раскрыть, бросившись на него, как бездомная собака, и облаяв, словно целая свора глупых голодных псов.
– Мне жаль, дружок, что вы расстались так. Но… Жизнь человеческая состоит из обид и раскаяний в той же степени, что и из вопросов и ответов. Попроси мысленно прощения у своего наставника. Да смотри, проси от всего сердца, и тогда ты услышишь его ответ. Ну, а услышав наставника, думаю, ты сообразишь, что ему сказать.
– Благодарю тебя, добрая Кара. Я попытаюсь.
– Так ты говоришь, что твоим наставником был сам почтенный Саддам, мудрость которого известна от одного океана до другого? – задумчиво спросила старуха. Было похоже, что она пытается на что-то решиться и что-то все же ее останавливает.
– Должно быть, почтеннейшая, мы с тобой говорим о разных людях. Мой учитель мудр, рассудителен. Он живет в нашем городке уже очень давно. Но я никогда не слышал о том, чтобы его слава гремела от одного океана до другого…
– О нет, мальчик. Ты, полагаю, все-таки ошибаешься. Твой учитель высок, болезненно худ, а на левой руке у него недостает двух пальцев, которые он потерял, по его же словам, в давней драке?
– Да, уважаемая, – кивнул донельзя удивленный Хасиб.
– Ну, тогда мы с тобой говорим об одном и том же человеке – некогда знаменитом и необыкновенно сильном маге, а нынче об ученом-отшельнике, который предпочел стать мировым судьей, изредка учить глупых мальчишек становиться на самую малость умнее и чего-то напряженно ожидать, выходя каждый вечер за городские ворота.
– Удивительно, почтеннейшая, но ты знаешь о моем наставнике так много… Куда больше меня.
– Юность иногда столь же надменна, сколь и глупа, и столь же глупа, сколь и слепа. Увы, малыш, когда уходит возможность решать все силой, поневоле учишься делать сие с помощью разума. А потому ищешь людей, которые на этом тернистом пути значительно преуспели.
Хасиб слушал старую цыганку и не верил собственным ушам. Так изъясняться мог бы и сам учитель. Сейчас Кара вовсе не походила на ту взъерошенную старуху, которая гадала перед представлением по руке и предсказывала счастье и богатство. Перед Хасибом сидела действительно очень пожилая женщина, действительно очень уставшая от жизни, но при этом полная сил и любопытства. Такой можно было бы доверить и более страшные секреты, чем какой-то глупый сон.
– Ты говоришь словно мой учитель, добрая женщина.
– Я встречалась с почтенным Саддамом, малыш. Нам, старикам, иногда полезно узнать что-нибудь новенькое. А никто лучше твоего учителя не просветит невежественную цыганку.
– Но почему ты сейчас вспомнила о моем учителе, Кара?
– Потому что мне нужен мудрый совет. И кто же, скажи, мальчик, может дать мне лучший совет, чем ученик самого мудрого человека, слава которого гремит от одного океана до другого?
– Тебе нужен совет? – переспросил Хасиб с недоумением.
– О да, мой мальчик. Я столкнулась с загадкой, которую следует решить быстро и правильно. Ибо через два дня здесь нас уже не будет. А совет наш нужен местной повивальной бабке – женщине умелой и мудрой, но лишь в том, что касается здоровья, малышей и мудрых советов молодым мамочкам. Во всем же остальном старая Заидат не мудрее трехлетнего карапуза.
Хасиб улыбнулся.
– И что же произошло у этой почтенной женщины, Кара?
– Не совсем у нее, мальчик, у ее старшей дочери. Девочка вышла замуж за уважаемого и доброго человека – ткача Саида, вдовца. Аллах всесильный благословил ее двойней. Но с некоторых пор дочь Заидат, Зухра, не находит себе места в собственном доме. Ибо каждое новолуние, когда ночь черна и беспросветна, дом, по словам Заидат, стонет и качается. А с недавних пор и вовсе начал плясать. Но только в новолуние.
– Понятно… Новолуние – это время, когда на жителей Земли простирается власть Иблиса Проклятого… – кивнул Хасиб. – Во всяком случае, так говорят все те, кто не может найти более разумного объяснения.
– Это так, мальчик.
– Ты побывала уже в этом доме, почтенная? Он старый и действительно готов развалиться?
– Дом более чем стар. Но он простоит гораздо дольше, чем это кажется. Ибо он сложен из камня, а не из кирпича, скреплен известью и яичным белком.
– Настоящая крепость. Но как же он может шататься в таком случае? Уж не грезится ли все это уважаемой… Как, ты говорила, ее зовут?
– Хозяйку дома зовут Зухра, она дочь Заидат.
– …уважаемой Зухре.
– Я видела и ткача, хозяина, и Зухру, и всех троих детей.
– Ты же говорила, что у почтенной женщины двойня…
– Это так. С ними живет и старшая дочь уважаемого хозяина дома, тринадцатилетняя Марьям. Она полна почтительности к мачехе и очень любит своих сводных братиков.
Хасиб задумался. В его голове начали возникать какие-то, пока неясные, ответы. Но он не торопился высказывать вслух все, что пришло ему в голову.
– Послушай, добрая Кара. Я бы хотел сам взглянуть на дом и его обитателей. Может быть, мне, колдуну и магу, – тут Хасиб весело подмигнул старухе, – откроются те тайны, которые смогли укрыться от твоего мудрого, но недостаточно опытного в делах волшебства взора?
Кара улыбнулась юноше в ответ. Сейчас это был сильный и решительный человек, которому, должно быть, и в самом деле будет по силам разобраться в тайне.
– Да будет так, – кивнула старуха. – Завтра утром я приведу тебя еще раз к этому старому дому, который помнит, похоже, времена самого царя Камбиза. Твоя слава колдуна до этих мест еще не дошла, но ты же все-таки ученик самого почтенного Саддама. И я надеюсь, что его громкое имя послужит нам, а сам он, уважаемый и воистину мудрый человек, не обидится, что мы воспользовались крохой его великой славы.
Свиток семнадцатый
Утро следующего дня выдалось удивительно мрачным. Собирался дождь, и в воздухе все сильнее ощущались признаки близкой зимы. Для Хасиба, жителя куда более знойных мест, было уже и вовсе холодно. Но даже Кара, опытная странница, ежилась. А после одного из резких порывов ветра чуть ворчливо проговорила:
– Надо выбираться побыстрее отсюда. Иначе мы тут застрянем до снега.
– До снега, уважаемая? – переспросил Хасиб. – Откуда в этих местах взяться снегу?
– Поверь, малыш, даже если здесь и не будет снега, погода останется отвратительной долгих три, а то и четыре месяца…
Хасиб лишь кивнул, ибо сейчас уже было и зябко и удивительно неуютно. Но Кара продолжала с ворчанием пробираться через лабиринт узких улочек, и юноше ничего не оставалось, как поспевать за ней.
Вскоре показалась и цель их недолгого путешествия. Дом и в самом деле был необыкновенно стар. Хасибу даже не понадобилось вспоминать все, что он узнал о законах, по которым возводится здание (о, сколько еще полезных уроков, выученных некогда благодаря настойчивости учителя, ждали в разуме Хасиба своей очереди!). Этот дом был построен настолько давно, что всякая память о строителях истерлась в песок. Но стены были все так же просты и толсты, каменные балки все так же надежны, а крыша все так же плотна и непроницаема для стихии.
– Какое удивительное сооружение, – пробормотал Хасиб, рассматривая стену. Он оперся на каменную кладку и поразился тому, как плотно подогнаны камни друг к другу. – Да, это настоящая крепость, а не дом.
– Входи, мальчик, сейчас здесь совсем пусто. Зухра забрала детей и переселилась к своей матери до тех пор, пока тайна пляски и стонов ее дома не будет раскрыта.
– А где же хозяин? Он позволит нам бродить по его жилищу?
– Говорю же – здесь никого нет. Почтенный ткач не высовывает носа из своей мастерской, а дети все у бабушки в гостях.
– Да будет так.
Хасиб был так высок, что ему пришлось чуть наклонить голову, чтобы войти в двери дома. Шаги гулко отдавались от стен, и юноша в который раз подивился работе мастеров, столь давно и столь надежно сложивших это жилище. Как только дверь за Карой и Хасибом закрылась, сразу стало необыкновенно тихо.
– Да здесь можно не только зиму пережидать! – пробормотала Кара.
– О да, почтеннейшая. А теперь прислушаемся: мне нужно понять, что имела в виду почтенная хозяйка, говоря о пляске камней.
Старуха-цыганка замолчала. Она была более чем довольна, что ей удалось к поискам тайны привлечь такого сильного союзника. И потому, что великий Саддам был его учителем, и потому, что некая печать магии лежала на челе самого юноши, и потому, что сон, которого Кара не смогла истолковать, яснее ясного говорил о непредсказуемом будущем и удивительных умениях Хасиба.
Предмет же размышлений старой цыганки почти неслышно ходил от комнаты к комнате и, стараясь встать точно в середине каждой, несколько долгих минут к чему-то прислушивался. Лицо его было сосредоточенным, почти угрюмым, и двигался он так, словно боялся вспугнуть даже тень.
Старая Кара, стараясь ступать так же неслышно, шла за ним, удивляясь странным действиям юноши и его сосредоточенности. Внезапно Хасиб обернулся к ней и приложил палец к губам.
– А теперь замри, старуха, – почти неслышно прошептал он.
Несколько долгих минут было тихо. А потом уже и Кара смогла различить звуки ударов, которые доносились откуда-то снизу.
– Да мы здесь не одни, – пробормотала старуха.
– И это точно не магические силы… Я готов спорить на собственный тюрбан, что в доме орудуют самые обыкновенные воры.
– И никакого колдовства в ночь новолуния? – В голосе старухи звучало невольное разочарование.
– Никакого, даже самого крошечного колдовства. Эти стены не поддались времени и ветрам. Никакое колдовство, согласись, не может соперничать с непобедимым временем… Ну что ж, пора посмотреть, кто и, самое главное, зачем выгнал из дома почтенную женщину и ее троих детей.
Все так же, почти неслышно, юноша прошел по всему этажу и наконец нашел ступени, что вели вниз.
– Тут огромный подвал, – прошептал он на ухо цыганке. – Звуки доносятся отсюда.
В подтверждение его слов они услышали еще один удар, потом вдруг девичье ойканье, а потом и неразборчивый говор.
Хасибу уже становилось скучновато. Он-то рассчитывал на волшебные чудеса, летающих по дому призраков, стоны и всхлипывания, доносящиеся из стен. А все оказалось куда проще и неинтереснее. Но начатое дело следовало довести до конца, и потому юноша продолжал красться по подвалу к самому дальнему углу. Вот еще один поворот и…
И глазам старухи-цыганки и балаганного фокусника предстало удивительное зрелище. На полу, рядом с отброшенной киркой, сидела молоденькая девушка и горько плакала, а рядом с ней на коленях стоял юноша чуть старше ее и пытался ее успокоить.
– Ну, не плачь, малышка, это же просто царапина. Сейчас все пройдет. Ты веришь мне?
– Я верю только тебе, – сквозь слезы отвечала девушка.
Юноша наклонился и поцеловал плачущую девчушку сначала в один глаз, потом в другой.
– Ну вот, слезки уже не льются. И пальчик не болит. Потерпи, маленькая, осталось совсем немного!
– Ничего себе «немного»! Мы только одну стену проверили, да и ту не всю… И где же спрятано это проклятое сокровище?!
Хасиб прижался спиной к стене так, чтобы на него не падал пляшущий свет от факела, воткнутого в стену.
– Это не воры, – прошептал он на ухо цыганке. – И ты, конечно, ничего бы не поняла, если бы осталась наверху. Думаю, я бы тоже ничего не понял… Хотя и ожидал чего-то подобного.
– Ожидал?
– Я расскажу тебе об этом позже, хорошо? А сейчас давай выведем на чистую воду этих искателей сокровищ. Прошу тебя, помоги, ведь мы же с тобой все-таки циркачи, актеры.
Цыганка лишь кинула. Она еще ничего не понимала, но была полна решимости довести дело до конца.
Хасиб несколько раз очень громко вздохнул, потом застонал. А затем сделал несколько очень громких шагов, не двигаясь, впрочем, с места.
– Клад… Кто потревожил мой клад?… – взвыл он подлинным замогильным голосом.
Кара, едва не рассмеявшись, как девчонка, взглянула на юных воров, хотя, вероятно, их следовало бы все же назвать искателями сокровищ.
– Я же тебе говорила! – вскричала девчушка уже в полный голос. – Я тебе говорила и про старика, который тыщу лет назад зарыл здесь свой меч и золотые монеты! Ты мне не верил, глупец…
– Ну что ты кричишь… – зашептал ее спутник. – Если это настоящий призрак, он не должен появляться раньше ночи, а сейчас утро едва вступило в свои права.
– Глупец, – отвечая ему, замогильным голосом простонал Хасиб. – Нам, призракам, все равно, когда расправляться с ворами – днем или ночью, в новолуние или в часы затмений…
– Это он… – В голосе девушки зазвучал ужас. – И он говорит с тобой!.. Сам завоеватель всех земель… Только он один знает о новолунии…
– И ты знаешь, иначе не пугала бы мачеху, а спокойно спала бы себе до утра.
– Я боюсь… Уведи меня отсюда, скорее!
Сейчас девчушка уже кричала, и в крике этом не было и грана разума, а была лишь истерика.
– Малышка, но мы же ничего и не нашли… Как же мы сможем сбежать, если карманы наши пусты?
– Я боюсь! – кричала девушка. – Уведи меня отсюда, немедленно! Мне не нужны никакие сокровища!
Хасиб решил добавить масла в огонь и несколько раз протяжно провыл, шаркая ногами:
– Мой клад… Мой меч…
Юный искатель кладов не двигался с места. Должно быть, его не столь легко было испугать, как его подругу.
– Кто ты и что делаешь здесь? – наконец выговорил он, подняв голову вверх.
– Кто ты, глупый слизняк?! – демоническим хохотом разразился Хасиб. – Как смеешь ты тревожить меня, хозяина каждого камня и каждой травинки?
– Я тебя не боюсь, глупый дух! Ты ничего не можешь мне сделать! Я ищу твой клад, и я найду его!
– Не смей! – взвизгнула девчушка. – Не смей так разговаривать с нашим призраком! Он может все – иначе не появился бы здесь!
Юноша делано рассмеялся. Без всякого сомнения, ему очень страшно.
– Да ничего он не может, немощный пустой дух пустого места!
– Ах ты паршивец! – прошептал Хасиб. – Это я – пустой дух пустого места?! Ну посмотрим же!
Вынув из воздуха монетку, он подбросил ее вверх так, чтобы она ударилась сначала о потолок, а только потом упала к ногам насмерть перепуганной парочки.
– Я же тебе говорила, – посеревшими от страха губами прошептала девушка. – Это он, хозяин кладов и хранитель дома! Он все-таки пришел по наши души. Не надо было мне тебя слушать… Не надо!
– Но как же иначе нам было найти клад? Конечно, мы потревожили чей-то древний дух…
– Теперь нам надо сбежать отсюда как можно быстрее, – проговорила девушка, поднимаясь на ноги и прикидывая, как бы побыстрее оказаться наверху. – Теперь, когда дух проснулся, может случиться что угодно…
– Да что может случиться, глупая ты курица?! – в сердцах вскричал юный кладоискатель. И осекся, ибо говорить этого явно не следовало.
– Как ты назвал меня, Саид? – переспросила девушка. На миг она перестала быть испуганной малышкой, а в ее голосе слышался вполне взрослый и страшноватый даже для Хасиба яд.
– Прости, малышка… Я… Я хотел спросить, что же с нами теперь может случиться?
– Да что угодно, ишак! Мы ссоримся, хотя до этого не ссорились никогда. А через миг можем запросто лишиться рук, или ног, или головы… На нас может рухнуть свод этого вечного дома…
– А я говорю тебе, все будет хорошо… Надо только поискать у той, дальней стены…
– Надо как можно быстрее сбежать отсюда, упрямый осел! Сбежать, пока живы, и больше никогда не спускаться в подвал, забыть о том дне, когда мы узнали о кладе… Забыть и никогда не вспоминать…
– Но если мы так сделаем, мы же не сможем сбежать… У нас не будет денег. Нам и дальше придется терпеть своих глупых родителей, слушаться их глупых запретов…
Девушка приходила в себя. И хотя ее по-прежнему била дрожь, теперь у нее уже хватило сил, чтобы встать на ноги и начать осторожненько выбираться к по-прежнему раскрытому люку над лестницей в подвал.
– И пусть! – бормотала она, не пытаясь даже услышать возражений своего спутника. – Пусть я лучше останусь с отцом и мачехой. В конце концов, не такие они и плохие люди, вовсе не глупые… А братики мои… самые лучшие на свете братики…
Шаг за шагом девушка пробиралась вперед. Вот она прошла уже в паре шагов от успевших спрятаться Хасиба и Кары, вот уже свет факела освещает только ее спину, вот сильные ножки отсчитали все ступени лестницы наверх… Девушка исчезла. Юноша же продолжал по-прежнему сидеть на корточках под той же самой дальней стеной.
Хасиб подмигнул Каре, хотя вряд ли старуха могла разглядеть его лицо в тени от колонны.
– Клад… – вздохнул он. – Отдай мой клад… Внезапно мальчишка вскочил и закричал что было сил:
– Да кто ты такой?!
– Я – твоя смерть… Я хранитель сокровищ и тот, кто убьет любого, на них покушающегося… Уйди… Уйди, и ты останешься жив…
– Я тебя не боюсь! – глупым петушком воскликнул мальчишка.
И тогда Хасиб произнес слова из своего сна, слова, которые давно уже привык использовать как заклинание:
– Шуан-сси суас-си, суас-ассат…
И случилось истинное чудо. Стены отразили эти уже привычные для Хасиба звуки, отразили стократно. Теперь уже со всех сторон слышались шипение и тихий свист. Даже самому Хасибу стало не по себе. Но вот звуки стали затихать, а следом за ними из подвала сбежал и мальчишка, заливаясь слезами.
– Ну вот и все, – уже нормальным голосом проговорил Хасиб. – Тайны нет и не было. И нам можно исчезнуть из этого старого дома. А ты, мудрая гадалка, потом пошлешь смышленого мальчугана, чтобы он порадовал хозяев дома. Теперь, после твоих огромных усилий, дом вновь стал так же безопасен, как и был еще совсем недавно.
Старая цыганка лишь кивнула. Но в глазах ее плясал веселый огонек.
Отряхивая пыль с башмаков и кутаясь в плащ, Хасиб проговорил:
– Старая история. Старая как мир. Просто глупая девчонка захотела сбежать из родительского дома. Наверное, мудрые родители запрещали ей встречаться с этим молодцем… А может быть, сначала она узнала о старом кладе, который зарыт где-то в доме, а потом стала уговаривать своего дружка найти его и сбежать вместе. А может, все было и не так…
– Но при чем тут пляшущие и стенающие камни дома?
– Ну, это как раз понятно… Ведь дочь уважаемой повитухи в конце концов сгребла сыновей в охапку и сбежала из этого проклятого места. И теперь ее падчерица могла спокойно целыми днями искать это самое сокровище и не бояться ни настойчивых расспросов, ни укоров, ни скандалов, что она якшается с кем попало…
– Должно быть, все так и было…
– О, если бы все тайны решались столь же просто и понятно… – вздохнул Хасиб. – Сейчас довольно было медной монетки и старого заклинания. Где же взять такой же простой ключик, чтобы разгадать мои загадки?…
– Увы, мой друг, – отвечала цыганка, с удивительным проворством поспевая за широким шагом Хасиба. – Не думаю, что все загадки разрешаются так же просто. Но от всего сердца желаю, чтобы это было так.
– И я тоже, почтеннейшая, и я тоже.
Давно уже исчез из виду заколдованный дом, вскоре перед глазами должен был предстать и балаган. Но Хасиб шел, не замечая, казалось, ничего вокруг. Он вновь и вновь вспоминал эхо, которому неоткуда было взяться в тесных стенах старого подвала, эхо, которое напугало не только глупого мальчишку, но и его самого, Хасиба-фокусника.
Свиток восемнадцатый
– Смерть выглядит так, как ее рисуют, и обязательно с косой. Место ее жительства – ад. Она – подручная дьявола. Но почему она успевает приходить одновременно к сотням тысяч людей в разных частях света? Это связано с тем, что смерть может бесконечно делиться, не теряя при этом своей силы. Смерть пришла в этот мир вместе с грехопадением Адама и Евы. Не будет греха – не будет и смерти. Если приходит смерть и становится в ногах у больного, то человек будет жить, а если в изголовье – умрет. Основная масса людей считает, что ад, преисподняя, пекло и геенна огненная – одно место. На самом деле это не так.
– О Аллах, да разве это урюк?!
– Это золото, а не урюк! Как ты, презренный, можешь не видеть ясных лучей солнца, что подарили этому благословенному лакомству свои силы?! Как ты можешь не видеть драгоценные соки прекрасного древа, что напоили его сладчайшим ароматом?!
– Притирания для здоровья колена и локтя!.. Мази из грязи и глины!..
– Ад есть место, где живут нечистые, а земля – место их работы. У них есть искусственное солнце, которое не дает тепла, а лишь освещает. Каждый вид нечистых живет обособленно от другого вида. Ад можно сравнить с многоэтажным домом. Только этажи считаются в этом доме сверху вниз. Чем ниже живут нечистые, тем они знатнее.
«Мое терпение воистину на исходе!.. Я буду ждать до полудня – и если он к этому мгновению не скажет хоть слова по делу, я его просто убью, клянусь Аллахом всесильным!..»
– На восьмом этаже ада находится пекло. Пеклом оно называется потому, что там пекутся, но не сгорают человеческие души. Размерами этот этаж страха превосходит все виденное любым из людей (хотя, конечно, я не испугался). В котлах кипит различного цвета смола, ибо добывается она из недр земли на различной их глубине. А потому и жар у этих котлов разный – одни могут сварить корову, а иные подобны вулкану. Котлы же сами различной вместимости: на несколько сот человеческих душ или всего лишь на несколько душ. В воскресные дни, а также по всем двенадцати годовым церковным праздникам котлы не топят. Кроме того, не топят котлы за неделю перед Пасхой и на Пасху. В эти дни грешные души отдыхают. В настоящее время в аду находится чуть более пяти миллиардов человеческих душ.
«Откуда он все это знает?»
– Ты, должно быть, желаешь узнать, откуда это мне известно, – в первый раз прервал свой монолог знахарь. – Отвечу, раз уж ты не решаешься спросить сам: я там был, я все это видел. Но я был там гостем, а потому остался жив. Если же спросишь ты, как случилось мне получить такое приглашение, я честно отвечу, что мне, единственному и неповторимому, удалось обмануть самого дьявола. Я сделал вид, что согласен на его условия, что продам ему душу. Но в обмен попросил не высокие должности, не сундуки с камнями самоцветными и не деву, прекрасную телом и разумом. Я, ибо мудр не по годам, попросил странствия по всем кругам ада и знакомства со всеми его обитателями.
– Зачем? – спросил Синдбад.
– Но как же они смогут мне навредить, если я знаком с каждым из них и выпил не один ковш крепчайшей браги за содружество чистых и нечистых?! Неужели трудно самому сообразить?…
– Воистину трудно, ибо сие есть хитрость, недоступная пониманию простого смертного…
Однако то был ответ не Синдбада, который лишь пожал плечами. За юношу-кузнеца ответил другой обитатель этого престранного квартала – такой же оборванный и с таким же отстраненным взглядом. К груди он прижимал толстенную книгу, а у пояса болталась чернильница. Синдбад подумал, что этот несчастный бездомный зарабатывает на хлеб насущный писанием жалоб в присутствия.
– Да, это была моя хитрость, – самодовольно кивнул говорливый Феодор и почесал безволосую грудь. – И она оправдала себя. Видите же, сижу здесь, перед вами, живой и здоровый, а ведь за мной гоняются все бесы мира! Так вот, продолжим… Ниже ада – в пропасти – находится геенна огненная. Преисподняя – это самый низ, место, где живет только один дьявол.
– Сладкий, говорю тебе! Воистину наполненный соком самого солнца!
– Черный! Гнилой и старый!
– Сюда, все жаждущие славы и денег! Сюда, все ищущие работу по душе!
– Бесы, полубесы и черти смертны, так как состоят только из тела и духа, души у них нет. Ведьмы и колдуны, кто они такие, как ими становятся и для чего? Человек в том случае становится ведьмой и колдуном, если он продает свою душу дьяволу и отказывается от Бога. Как правило, эта сделка происходит со вторника на среду в самый глухой час ночи. Этот договор обязательно подписывается кровью человека из мизинца левой руки. Ведьмы и колдуны бывают родовые, когда колдовство передается из поколения в поколение, непотомственные, которых научили колдовать другие ведьмы или колдуны. Родовые ведьмы и колдуны начинают осваивать свою «профессию» в двенадцать, а то и в неполных одиннадцать лет.
– Юноша, что ты здесь делаешь? – шепотом спросил у Синдбада подсевший к нему бездомный писец. – Что за надобность привела тебя к этому поистине безумному гению?
– Быть может, он найдет способ излечить мою жену от вечного сна… – прошептал в ответ Синдбад.
– Он?… Да он даже не подумает над твоим вопросом – ты же видишь, он слышит только себя!
– Я все-таки дождусь окончания его речи. Возможно, в ней я сам смогу найти ответ…
Собеседник пожал плечами, а Синдбад постарался сосредоточиться на словах знахаря, который, похоже, ушел в своем рассказе уже далековато.
– Людям, обычным людям, не мне, конечно, кажется, что колдунья – это обязательно неграмотная баба с клюкой. На самом же деле «ремеслом» сим занимаются лекари и артисты, зодчие и пекари, властители и рабы, священнослужители самых различных вероисповеданий. Зависть и злость, жажда богатства, славы, желание продвинуться вверх по ступеням должностей – вот побудительные мотивы для продажи души дьяволу. И все это они от него получают. Но какой ценой?! Земная жизнь быстро пролетает, а после смерти начинается расплата за грехи. Но самое страшное то, что страдают их потомки. Впервые я услышал рассказы о ведьмах и колдунах в детстве от бабушки и мамы. С годами пришло понимание того, что ведьмы и колдуны – страшная быль нашего дня. Сейчас, если я слышу слова «ведьма» или «колдун», то знаю, что каждый из них – настоящий убийца.
– Сюда, все уставшие от скуки! Сюда, все любящие драку!
– Когда же подписан договор человека с нечистым, то на духовном уровне у человека, продавшего душу дьяволу, вырастают рожки, хвост и копыта. В подчинение колдуна или ведьмы передают определенное количество чертей, бесов и полубесов. На каждого нового колдуна или ведьму заводится дело, куда до самой смерти нечистые заносят все черные дела колдуна или ведьмы. В тот самом, видимом лишь нечистым и мне, гениальному, четвертом измерении человеку присваивают звание черта. Чем больше ведьма или колдун сделают гадостей людям, тем больше им дают в подчинение бесов. У ведьм и колдунов аура вокруг головы черная или серая. Как бы ведьмы и колдуны себя ни называли – белыми или черными, – они слуги дьявола.
«До полудня остаются минуты… Пора, должно быть, уже выбираться из этой клоаки…»
– Один раз в году, не пороге весны, в тринадцатый день марта по календарю папы Григория, самые сильные ведьмы и колдуны со всего света «слетаются» в ад. Они рассказывают об уже содеянном, награждаются за дела черные и получают планы на год следующий. Многие из людей, наверно, заметили, что в високосный год больше всего происходит несчастий, чаще умирают люди. Это связано с тем, что високосный год – год нечистых. В этот год нечистые в два раза больше высасывают энергию из людей. Как правило, ведьму или колдуна после смерти так распирает, что они не помещаются в гробу. Это происходит за несколько часов до выноса тела. Умирают они тяжело, если не успевают передать свое черное дело. Перед смертью они стараются взять человека за руку с той целью, чтобы дух ведьмы или колдуна через середину ладони, место уязвимое и открытое всему – и белому, и черному, – зашел в него. И через некоторое время человек под давлением духа умершего колдуна сам начинает заниматься черными делами. Самое страшное, что порча передается по крови от родителей к детям. Уже не один десяток лет я наблюдаю многочисленных больных с новой, невиданной ранее немощью. Сия болезнь видна и одновременно не видна – она в отвращении к работе и желании переместиться в тихий уголок, дабы слиться с природой.
Ученый люд не может объяснить природу этого недуга, а на самом деле, я более чем убежден, это есть результат колдовства и порчи.
– О, это гениальное прозрение… – прошептал писец, все так же сидящий рядом с Синдбадом на корточках. – Поистине, только человеку, побывавшему во всех кругах ада, под силу прозреть эту великую истину.
«Ох, это не квартал циркачей и повивальных бабок! Это квартал безумцев всех мастей… Как, должно быть, прекрасен мир человека, единственной заботой которого стал поиск ответов на никому не нужные вопросы. Ведь, готов спорить на собственный тюрбан, этот болтливый знахарь в жизни своей не заработал достойным трудом ни одного медного фельса! А этот полубезумный писарь, должно быть, тяготится тем, что ему приходится зарабатывать, дабы не умереть с голоду…»
– Особенно неправдоподобным многим людям кажется то, что ведьмы и колдуны могут превращаться в кошек, собак, свиней, колеса от телеги и т. д., что могут поднимать свое тело в воздух, то есть летать. Но это реальность, а не досужий вымысел.
«Когда же ты, наконец, закончишь свою бесконечную лекцию?! Когда скажешь хоть слово, которое можно истолковать как ответ на мой вопрос?»
– У порченого больного, как правило, наблюдается упадок сил. Ему не хочется двигаться и возникает большое желание поскорее лечь в постель. Это связано с тем, что из стоящего человека труднее сосать энергию, чем из лежащего. Чтобы побольше высосать энергии, нечистые стараются разозлить человека, довести его до «белого каления». Когда человек начинает злиться, его защита от всех нечистых истончается, а может даже и прорваться… Очень хорошо чувствуют присутствие нечистых в доме кошки и собаки. В том месте, где находится нечисть, собаки и кошки не могут находиться. Собаки начинают лаять, шерсть у них, как и у кошек, на загривке поднимается дыбом, они стараются убежать. Некоторые кошки из-за этого уходят из дома навсегда… Даже спящие нечистые продолжают изводить человека, мучить его. Они вселяют в него сомнение и желание немедленно помочь, бежать на край света за неведомым лекарством…
– Аллах всесильный… – простонал вконец измученный этой бесконечной лекцией Синдбад, – наконец ты добрался до сути! Так все же, что произошло с моей женой? Отчего она спит который уже день? Отчего лучи солнца не способны пробудить ее?
Феодор посмотрел на Синдбада так, словно увидел его первый раз в жизни. Более того, знахарь перестал вдохновенно вещать и наконец присел на перевернутый казан.
– А кошки? Кошки у вас есть дома?… – вполголоса спросил он, сменив и тон с менторского на обычный человеческий.
Синдбад пожал широченными плечами.
– И кошки, и коза, и собака…
– И коза, значит…
Эти слова болтливый знахарь почти прошептал. Его «водопад мудрости» иссяк столь стремительно, что Синдбаду даже стало страшно – не померещилась ли эта бесконечная болтовня.
Дело приблизилось к полудню, жара усиливалась. Странный знахарь наконец снял свои не менее странные сапоги из валяной шерсти.
– Как ты уже понял, выслушав меня и мои выстраданные годами скитаний соображения, твоя жена не имела дел с нечистыми, не была она и одержима бесами. Думаю, к ней не прикасался ни ифрит, ни джинн, ни иной маг…
«Ох, дурачок, как же ты ошибаешься… И зачем я только пришел сюда? Зачем слушал тебя? Отчего не сбежал, едва ты раскрыл свой рот?»
– Единственный выход, который я вижу, о вопрошающий, это излечение ее водой жизни из источника жизни…
Синдбад опешил. Надо было высидеть на солнце от рассвета до полудня, выслушать долгую лекцию о породах нечистых, куда более похожую на бред одержимого, чтобы получить вот такой совет?!
– Но что значит, уважаемый, вода жизни из источника жизни? – Юноша решил, что он сдержит свой гнев… Хотя бы до того мига, когда получит ясный ответ.
– Мне это уже неинтересно, ничтожный. Твоя жена больна, а не одержима, – вот ты и думай, что значит «вода жизни из источника жизни».
Гнев заполонил душу Синдбада. Пальцы его, доселе спокойно сплетающие тонкие проволочки в ажурную полосу, сжались (а кулакам юного кузнеца мог бы позавидовать любой воин) – и ажурное украшение превратилось в сморщенный комок.
– Ах ты унылый болтун! Пустой бурдюк! Ему неинтересно! Должно быть, поэтому тебя и изгоняют от всякого человеческого жилья вот уже который год!
– Отчего ты кричишь, ничтожный? – Выражению лица знахаря мог позавидовать любой монарх, столько в нем было изумления и презрения. – Ты же получил совет – вот и радуйся, ибо сам Феодор-умнейший снизошел до услуги к тебе.
– Снизошел, говоришь? – Синдбад нашел в себе силы улыбнуться.
И было в этой улыбке столько яда, что Феодору, всего миг назад надменному, как оракул в далеких Дельфах, стало страшно.
– И ответ, говоришь, получил… Отлично! Я принимаю твой совет. И совершенно бесплатно, заметь, не желая получить из твоих вонючих рук даже медного фельса, даю тебе свой. Убирайся сей же час из моего города! Да так, чтобы стражники, коих я вскоре приведу, не нашли ни тени твоих тряпичных башмаков, ни даже тени от твоего смрада!
И Синдбад встал во весь свой гигантский рост.
Должно быть, Феодору только сейчас удалось рассмотреть своего «вопрошающего». Или, что тоже возможно, уже не раз бывало, что неверный совет, неумное слово вызывали гнев в душах тех, кто пытался припасть к сухому источнику «его мудрости». Так или нет, сейчас сие было несущественно. А вот то, что через несколько минут здесь могут появиться стражники, и без того уже не раз пытавшиеся изгнать говорливого знахаря, было более чем очевидно. И пугало гораздо сильнее.
– Ну что ты, о мудрый вопрошающий? – залебезил Феодор. – Не стоит кричать – ты задал вопрос, я дал на него ответ. И мы квиты. Иди своей дорогой… Не мешай моим размышлениям.
– О да, – ухмыльнулся Синдбад, – я сейчас уйду. Я даже стражу звать не буду – лишь пущу слух, сколь верным и нужным оказался твой никчемный бред. А все потому, что ты испугался моего «холодного железа», настоящего, наговоренного истинными магами против таких неумелых колдунов, как ты…
Вот это был настоящий удар. Ибо если «холодное наговоренное железо» способно оказалось испугать его, знахаря, то никакой он вовсе не знахарь, защитник всех недужных и немощных, смелый воин, что противостоит злу, а сам – воплощение этого зла, бесенок, умеющий только болтать своим глупым языком.
Свиток девятнадцатый
С несказанным удовольствием Синдбад покинул смрадный и нелепый квартал колдунов. Свежий воздух, как ему сейчас показалось, можно было пить, как родниковую воду. Жар полуденного солнца, даже не в тени, был подобен теплому прикосновению ладони друга.
– Аллах всесильный, ну как же можно жить таким лживым шакалом?… Как случилось, что это ничтожество мнит себя излечителем хворей? Отчего?
– Оттого, юный кузнец, – услышал Синдбад рядом женский голос, – что его глупая голова еще не оказывалась так опасно близко к плахе. Оттого, что, нахватавшись знаний по верхам, он поспешил убраться из родных мест, где его бы очень быстро заперли в приют умалишенных или в тамошний зиндан – в назидание прочим недоучкам.
– Воистину ты права, незнакомка!
– Зови меня Заидат, я повивальная бабка.
Синдбад усмехнулся. Ибо Заидат была сильной и вовсе не старой женщиной, с лицом мудрым и спокойным.
– «Бабка»? Да ты не старше моей тещи, почтенная, а ее я всегда считал женщиной молодой и полной сил.
– Но как же мне еще назваться, юноша? Я помогаю малышам появиться на свет – так тебе больше нравится?
– О да, добрейшая, так мне нравится гораздо больше. Открою тебе секрет: утром, когда я спешил на поиски Феодора, оказавшегося просто бессильным болтуном, думал я, что с куда большим удовольствием искал бы повивальную бабку, дабы помогла она моей жене одарить меня наследником.
Заидат улыбнулась – именно так может улыбаться женщина, когда у нее на руках появляется малыш, новая жизнь, которую следует оберегать всеми силами и всем умением, присущим мудрым взрослым.
– Отчего, юноша, твое лицо стало столь печально? Быть может, вскоре так и произойдет… Но искать меня не нужно, я расскажу тебе, где живу…
– Должно быть, ты не слышала моего рассказа, почтеннейшая. Я пришел к болтливому недоумку лишь потому, что не смог добиться совета ни от имама, ни от лекаря, приверженца Аллаха всесильного.
– Но что же случилось?
И Синдбад в который уже раз за последние дни принялся рассказывать о том, как пытался разбудить жену утром после свадьбы, как поил ее крепким кофе… И что все было тщетно, ибо прекраснейшая из женщин улыбалась, но спала столь крепко, что даже дыхания ее слышно почти не было.
– Скверная история, друг мой, скверная. Увы, ни разумный лекарь, ни безумный знахарь тебе бы тут точно не помогли. К сожалению, не могу помочь и я: моих знаний достаточно для рождения здорового младенца, а вот что делать с таким крепким сном, я не знаю. Однако, мой мальчик, я знаю, у кого спросить совета. Не смейся – старуха Заидат, быть может, и походит на неумную сплетницу, однако не боится спрашивать совета у любого, обладающего знаниями, и не боится указывать на истинных мудрецов.
– Я не смеюсь, добрая Заидат, я мечтаю, чтобы мне, наконец, указали на того, кто поможет мне – и пусть это будет хоть сам Иблис Проклятый!
– Не надо столь… грозных советчиков. Я укажу тебе на мудреца юного, быть может, столь же юного, как ты сам. Он пришел в наш город вместе с бродячим цирком, помог мне да и задержался с прошлой зимы.
– С бродячим цирком? – Голос Синдбада выдал его разочарование.
– Да, глупец. Этот юноша, его зовут Хасиб, показывает фокусы, творит чудеса и при этом чист и возвышен духом. Зимой он помог моей дочери – изгнал из дома непонятную нечисть и за это не взял ни гроша. Более того, он сказал мне, что разгадка оказалась столь же далека от мира по ту сторону добра и зла, как наш прекрасный город от льдов полуночи.
– Изгнал нечисть? Как?
– Сие мне неведомо. Мальчик вместе с гадалкой из цирка, ее Карой зовут, отправился в опустевший дом, обшарил его весь от погребов до конька на крыше, и… духи перестали раскачивать стены и стонать каждое новолуние. Хасиб, да хранит его Аллах всесильный, повелел старшую дочь моей дочери, нет, ее мужа, одним словом, падчерицу, отдать в учение, дабы стала она столь же умна, сколь и я сама, ее бабушка, пусть и названная. Ведь нечисть, по словам юного Хасиба, появляется там, где бездельничает и мучится бездельем дух хозяев.
– И как, помогло?
– О да, малышка оказалась умненькой, она теперь моя самая надежная помощница. Если Аллах всесильный позволит, то станет она настоящей повивальной бабкой, когда меня не будет на свете белом…
И дородная Заидат утерла увлажнившиеся глаза.
– Уважаемая, не стоит плакать. Ты молода, красива и сильна. Отчего же печалиться заранее?
– Ты прав, мальчик, ты прав.
– Увы, я-то спрашивал, вернулись ли духи после того, как малышка стала твоей помощницей… Выходит, этот фокусник и в самом деле оказался умелым колдуном?
– Умелый ли он колдун, я не ведаю. Знаю лишь, что стены дома моей дочери надежны и недвижимы. А еще вот что рассказала мне Кара-гадалка. Его, Хасиба-фокусника, гложет своего рода одержимость – и потому, думаю, вы легко найдете общий язык.
– Да будет так, почтенная. Приводи его ко мне. И пусть он попытается изгнать духов из моего дома.
Тих и неуютен показался Синдбаду этот самый, его, дом. Амаль все так же спала, мягко улыбаясь. Очаг погас, родничок, обычно радовавший тихим журчанием, тек беззвучно.
– Должно быть, это и есть моя судьба: тишина в доме, спящая жена и ничего впереди… – пробормотал юноша, разжигая очаг, намереваясь попотчевать гостя хоть крепким кофе.
Садилось солнце, посылая прощальные лучи каждому из листков старой вишни. Шелестел в листве ветерок. В распахнутую настежь калитку, куда могли заглядывать все прохожие, неторопливо и достойно вошла давешняя знакомая, почтенная Заидат. А следом за ней порог переступил и Хасиб, рекомый циркач. Синдбад ожидал чего угодно, кроме того, что увидел.
Хасиб был высок ростом, очень худ, одет в самую обычную одежду и более всего походил на книжника, которого оторвали от нового свитка и заставили пешком отправиться из-за пустяка через весь город. Более того, вместо колпака со звездами и волшебной палочки в руках у Хасиба была толстая книга, а вместо магического плаща – шелковая черная рубаха, распахнутая на груди по цыганскому обычаю.
– Да пребудет над этим домом милость Аллаха всесильного! – привычно проговорил Хасиб и осмотрелся. Все было именно так, как рассказала Заидат, – чистота, наведенная мужской рукой, уют, созданный заботливым мужем, и тишина, тишина, что равно дарит предчувствие радости и беды.
– Здравствуй и ты, Хасиб! – сдержанно поклонился Синдбад. – Присядь у огня, уважаемая Заидат. Кофе ждет моих гостей.
Повисла пауза. Таким бывает миг в разговоре, когда незнакомые или едва знакомые люди лишь прикидывают, как начать беседу. Выход из неловкой ситуации (воистину, как обычно) нашла женщина.
– Синдбад, я уже рассказала уважаемому Хасибу о том, что произошло у тебя. Думаю, будет разумным, если ты поведаешь достойному юноше о том, чего мне не рассказал.
– Да будет так! Знай же, почтенный, что я влюбился в Амаль, мою грезу, с первого взгляда. В тот день мой наниматель, Дахнаш-кузнец, привел меня к себе домой, дабы я увидел, каким бывает мир кузнеца и какой может быть его семья. Девушка меня пленила сразу, ибо оказалась умна, скромна и любознательна. В долгих наших беседах стало ясно, что нет на свете души, более предназначенной для меня, а брачная ночь, – тут Синдбад низко склонил голову, – показала, что нет и тела, более созданного для меня.
Хасиб улыбнулся, и юного кузнеца поразила такая мягкая и понимающая улыбка. Синдбаду подумалось, что лишь тот, кто ощутил подобную боль, кто носит в себе подобное воспоминание, сможет помочь ему, страдающему от несправедливости мира.
– Однако наутро моя прекрасная не проснулась, и для меня померк свет… Тогда я отправился к имаму…
Синдбад продолжал рассказ, пытаясь найти отсвет понимания в глазах Хасиба-фокусника. Но лицо гостя оставалось непроницаемым.
«Поможешь ли ты мне, юный незнакомец… Или, подобно всем иным, скажешь, что ничего сделать не можешь и чтобы я был доволен уже тем, что ты изволил нанести мне визит?»
Синдбад закончил рассказ и пригубил уже остывший кофе. Да, рецепт лекаря не подвел – даже холодным он дарил невероятную бодрость и заставлял шире раскрыть глаза на сей непостижимый мир.
– Что ж, уважаемый хозяин, – голос Хасиба оказался неожиданно низким и сильным, – я выслушал тебя и понял тебя. Как почувствовал и то, сколь глубоко твое страдание. Быть может, часть ответа я уже знаю – во всяком случае, ощущение этого заставляет сильнее биться мое сердце. Однако мне кажется, что ты доверяешь мне не более, чем иным шарлатанам. А потому, прежде чем поделиться с тобой своими догадками, я расскажу о своем наставнике, ибо судьба моего учителя более чем познавательна. Тебе станет ясно, и кто я, и чему я выучился за эти долгие годы.
– Да будет так, о мой гость.
– Знай же, что достойный Саддам появился в моем городе очень и очень давно. Его будущая жена нашла его в пустыне, что лежала сразу за городской стеной. Неизвестный истекал кровью и был истощен до последней степени. Добрая женщина нашла в себе силы, чтобы донести его до своего жилья и выходить. Было это так…
Свиток двадцатый
Солнце только взошло, когда Мадина, почтенная златошвейка, покинула дом. Так бывало частенько – на рассвете она уходила за городскую стену, в самое сердце пустыни, и бродила там почти до полудня. А вернувшись, начинала новую шаль или платье, и, говорят, не было в мире вышивки столь же искусной, сколь и необыкновенно тонкой.
Наконец Мадина добралась до пологого холма. Отсюда уже не были видны городские стены, и лишь до самого горизонта расстилались безжизненные, но прекрасные пески.
Сегодня же столь привычное место выглядело совсем иначе.
– Наверное, дюжина джиннов вознамерилась перерыть пески в поисках клада… Глупцы, они не ведают, что последний клад из этих мест вывезли задолго до того, как на белый свет родился сам повелитель всех джиннов, Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими!
Быть может, именно так все и было, ибо пески вокруг свидетельствовали либо об усердных поисках, либо о столь же усердном сражении. Какие-то глубокие полосы бороздили прежде гладкие пески. И полосы эти порой становились такими глубокими, что уместнее было бы назвать их канавами…
– Аллах всесильный и всемилостивый, – пробормотала почтенная ханым, – но что же здесь случилось?
И словно в ответ на ее слова, издалека донесся стон. Мадина не испугалась! И не растерялась. Как бы ни были прекрасны пески для нее, для многих других они оставались лишь смертельно опасным и недобрым местом. А потому возможность обнаружить здесь путника, умирающего от зноя и жажды, была более чем велика.
Стон повторился. Мадина обернулась на голос и увидела на куче песка изможденного мужчину в черном плаще. Посеревшее лицо и запекшиеся губы яснее ясного говорили, что он умирает, причем умирает не столько от жажды, сколько от потери крови.
Мадина остановилась в шаге от неизвестного. Она собралась было спросить, что с ним, кто он, но не успела – невесть откуда взявшаяся змея пестрой молнией прыгнула на умирающего и вцепилась в его иссушенную руку.
Человек в черном даже не вздрогнул. Похоже, он вовсе не почувствовал укуса.
– О Аллах всесильный и всевидящий! – пробормотала Мадина. – Да что же такое происходит в мире, если сии безжалостные порождения самого зла среди бела дня нападают на людей?!
Мадина приблизилась к неизвестному. Змея, совершенно не страшась громкого голоса почтенной ханым, толстой лентой зла уже струилась вдалеке. И только тогда умирающий открыл глаза.
– Все в порядке, почтеннейшая… Это просто слуги Царицы…
– Какой царицы? Откуда здесь взяться каким-то слугам?
– Это слуги Царицы змей, добрая женщина. Мы сражались. И она вышла победительницей… Боюсь, с моей смертью у нее больше не останется врагов…
– С твоей смертью?
– Да… Думаю, остались считанные минуты… И после этого мы с тобой простимся навсегда, прекраснейшая…
Ох, как же давно никто не называл Мадину прекрасной! Это простое слово придало женщине сил. Она почувствовала себя куда более могучей, чем даже сотня сотен богатырей. Да и до города было не так далеко…
– Я отнесу его домой. И выхожу… Если Аллаху будет угодно, чтобы этот уважаемый человек выжил, то он выживет. Ну а если ему суждено умереть, то он умрет, как надлежит правоверному, и будет упокоен со всеми почестями, причитающимися правоверному! Ну а теперь…
И Мадина потащила неизвестного в черном плаще. Конечно, ее сил было бы маловато, чтобы донести до собственного дома взрослого мужчину, но тот, кого почтенная ханым нашла в песках, должно быть, постился уже очень давно и весом едва превосходил пятнадцатилетнего подростка. Ни единого стона не вырвалось из его уст – похоже, он уже готовился к встрече с самим Аллахом всесильным и всемилостивым. Но смелая ханым решила, что этот удивительный человек, иссушенный, словно сами пески, еще не готов предстать перед повелителем всех правоверных. И потому, невероятными усилиями все же доставив его к себе домой, принялась за врачевание.
О упрямство женщины! Ты – сила столь мощная и столь несокрушимая, что многие законы, земные и небесные, склоняются в почтительном поклоне перед тобой. Склоняются и подчиняются. Ибо известно, что проще исполнить прихоть, чем доказать, что она неисполнима.
Вот так и получилось с излечением неизвестного в черном плаще. Омывая его исхудавшее тело, Мадина насчитала почти сотню следов от змеиных зубов. Сотню! Хотя для того, чтобы свести в могилу человека, бывает достаточно и одного-единственного. Неудивительно, что этот странный человек прощался с неизвестной спасительницей. Наверное, он знал, что дни его сочтены.
Но Мадина этого не знала и не хотела знать. Эликсиры и настойки, снадобья и отвары, что придумали хитрые люди за всю историю медицины, оказались сильнее даже самого сильного змеиного яда. И через несколько месяцев уважаемая ханым поняла, что ей удалось одержать победу в этом соревновании с силами природы.
Она, Мадина, победила: неизвестный в одно прохладное осеннее утро сам вышел во дворик. Он был еще более изможденным, чем в день своего спасения, но на его щеках уже не играл лихорадочный румянец, глаза смотрели трезво и спокойно, а руки не тряслись в ознобе и не корчились в судорогах.
– Благодарю тебя, прекраснейшая, отважнейшая из женщин! Ты вернула меня к жизни!
– Здравствуй и ты, незнакомец! Как чувствуешь себя?
– Намного лучше, – мужчина улыбнулся. И улыбка эта оказалась столь солнечной и светлой, что сердце Мадины затрепетало.
– Ну что ж, я рада это слышать. И рада тому, что вижу перед собой не умирающего, а выздоравливающего человека.
– Но скажи мне, почтеннейшая, как удалось тебе победить яд слуг Царицы змей?
– Должно быть, это удалось мне потому, что я не думала ни о какой-то там царице, ни о ее слугах. Ты просто умирал, и я просто не могла этого допустить. А остальное сделали мое терпение и кое-какие снадобья, которыми меня снабдили здешние знахари.
Человек недоуменно покачал головой.
– Простым знахарям не дано победить яд самой Царицы… Ни один из смертных не знает средства против него…
– Выходит, уже знают…
– Выходит, что так.
Тут неизвестный вдруг переменился в лице.
– Но ты, уважаемая… ты же не колдунья?
Мадина рассмеялась.
– О нет, глупый человек. Я простая женщина, вдова по имени Мадина. Я златошвейка и уже много лет нахожу самую изысканную и строгую красоту в песках пустыни.
– Златошвейка… Быть может, дело в этом… Или в холодном металле… Вероятно, это то, чего я не мог учесть…
Мадина молчала. Она уже поняла, что перед ней человек необычайной учености. Но кто он? Женщина с любопытством смотрела на своего собеседника, решив, что не будет задавать вопросов. «Он и сам расскажет мне все, – подумала она. – Ему только надо дать немного времени…»
Несколько минут стояла полная тишина, лишь бесшумно мелькала игла в проворных пальцах уважаемой ханым. Да, Мадина шила всегда – для нее это уже стало и лучшим лекарством от любого беспокойства, и лучшим времяпрепровождением, и, конечно, недурным заработком. Вскоре женщина заметила, что ее собеседник вышел из задумчивости и с большим удовольствием рассматривает ее умелые руки и ее, о Аллах, как же можно было так забыться, непокрытые волосы, и улыбающееся лицо.
– Прости меня, красавица, я не назвался. Меня зовут Саддам ибн Мехмет.
– А я Мадина, златошвейка.
И почтенная ханым вновь опустила глаза к шитью. Она чувствовала, что через миг ее неизвестный гость поведает о себе. Но торопить его не хотела – терпению златошвеек может позавидовать и самый терпеливый из йогов, чудотворцев таинственной страны Хинд.
– Знай же, умная и добрая Мадина, что я происхожу из древнего рода магов. В нашем семействе мужчины посвящали всю свою жизнь борьбе с порождениями Иблиса Проклятого, с его детьми и с детьми его детей.
– Прости мне мой глупый вопрос, уважаемый Саддам, но как же бороться с ними, если они бессмертны?
– О да, – Саддам улыбнулся слегка покровительственно. – Они бессмертны, как и сам их прародитель. И потому бороться с ними следует не мечом или ножом, а магией. Некогда, так давно, что уже истерлись все воспоминания о нем, жил на свете маг, решивший стать вровень с богами. Он изготовил напиток бессмертия и… и все же оказался смертным. Но не в этом дело… Однако он был первым, кто смог победить в магическом поединке одно из порождений врага всего живого. Так он доказал, что борьба с этими существами возможна. Вот поэтому и появились маги, колдуны, ставящие перед собой необыкновенно высокую цель – извести всех детей самого Иблиса Проклятого и, быть может, его самого.
Мадина широко раскрыла глаза. Это была поистине великая цель… Недостижимая, но великая.
– И ты, уважаемый, тоже принадлежишь к таким магам?
– Да, как и все мужчины нашего рода. Враги наши бессмертны, но все же ни мой прадед, ни мой дед, ни мой отец не теряли надежды. Они создали и передали мне магический щит, способный защитить от посягательств подданных Царицы змей. Они научили меня их языку, рассказали об их нравах… Сотни лет мужчины нашего рода искали и находили противоядия, а мой отец смог придумать универсальное противоядие, которое в силах было бороться с любым ядом мира, изобретенным природой ли, человеком ли.
И вновь Мадина не смогла удержаться от ехидного замечания.
– Когда я тебя нашла, Саддам, я не увидела ни щита, ни флакона с противоядием. Более того, я увидела, как какая-то змея, яркая, словно цыганские юбки, укусила тебя и невредимой отправилась прочь.
– Так все и было, почтенная. Ты перебила меня, но я понимаю, отчего ты это сделала. Ты не веришь моим словам…
– Увы, уважаемый, я не могу верить, если глаза говорят мне совершенно обратное. Я нашла истощенного путника, искусанного этими мерзкими созданиями и умирающего от кровопотери в пустыне.
Саддам кивнул.
– Да… Много лет я упражнялся в магии, постиг все, что создали до меня мужчины нашего рода, и… И отправился на поиски своего врага, Царицы змей, уверенный, что вооружен более чем достаточно, чтобы противостоять ее злой силе.
– Понимаю, – задумчиво проговорила Мадина, – тебя подвела твоя уверенность.
– Ты права, уважаемая, – вновь кивнул Саддам, удивляясь тому, как легко его собеседница постигает суть вещей, не отвлекаясь на мелочи. – Меня подвела уверенность в собственной неуязвимости. Быть уверенным, безусловно, необходимо, но…
– Но и сомневаться следует.
– Так и есть, мудрая красавица.
Мадина усмехнулась этим словам. «Красавица… Да после этих мерзких тварей любая женщина будет казаться необыкновенной красавицей!»
Меж тем Саддам продолжал свой рассказ.
– Я готовился к сражению, выбирал место, вновь и вновь повторяя каждое слово каждого заклинания… Но все равно Царица змей меня опередила. Она указала место сражения, обезоружила меня и лишила не только сил магических, но и человеческих. Тринадцать дней, тринадцать часов и тринадцать минут длилась схватка. Увы, я проиграл. И, поняв это, попытался сбежать, как это ни прискорбно, пока еще жив.
– Но мне кажется, у тебя ничего не вышло.
– Да, у меня ничего не вышло. Каждая капля яда лишала меня сил столь быстро, что вскоре я был не сильнее новорожденного младенца. И тогда на поле битвы вышла она сама, Царица…
– О Аллах всесильный!
– Она не стала меня добивать, она лишь посмеялась надо мной, назвав глупцом и недоучкой. Увы, она лишила меня всех магических знаний и сил. Думаю, она была уверена, что я не протяну и дня. Но ты, умная и добрая красавица, обманула ее. И потому я остался жив.
– Ну что ж, маг Саддам. Я рада этому. Пусть ты и лишен магических сил, но ты не умер. А потому, думаю, сможешь еще вступить в битву с твоим врагом.
– О нет, добрая моя Мадина. Более я не буду ни с кем сражаться, ибо я уже не маг. Но я много знаю и могу еще принести много пользы, ибо я все еще человек.
– И да будет так, уважаемый!
– Но ты, красавица… Ты позволишь мне остаться с тобой?
– Позволю ли? Конечно, позволю… Если ты не будешь называть меня красавицей. Я не терплю вранья.
– Его, о прекраснейшая, не терплю и я. И потому буду называть тебя и красавицей и умницей, ибо лучше тебя женщины в мире нет.
Свиток двадцать первый
Вот так случилось, что почтенный мудрец Саддам ибн Мехмет остался в крошечном городке на границе песков. Да, он был самым мудрым из всех мужчин городка, но не пожелал становиться имамом или кади. Ему вполне хватало и того, что в спорах всегда призывали его, трезвого и спокойного, дабы он нашел истинное решение. Он был доволен тем, что матери доверяли ему, позволяя учить своих детей, что к его совету прибегали во всех тех случаях, когда терялись даже знающие из знающих. Одним словом, он стал местным кладезем всех и всяческих знаний.
И пусть магическая сила ушла из его рук, но знания и умения, приобретенные за долгие годы, все так же оставались при нем. Знаний этих, конечно, не хватало на то, чтобы быть бессмертным, но ему, почтенному Саддаму, удалось пережить не одно поколение. Хватило этих знаний и на то, чтобы даровать удивительное долголетие жене, уважаемой Мадине. Говорили, что Аллах позволил им прожить вместе более сотни лет.
Никто не знает, выдумка ли это, или так оно и произошло на самом деле. А до чего только не охочи досужие слухи!
Но когда эта сотня лет миновала, утратил уважаемый Саддам и любимую свою жену.
– Если бы мы встретились хотя бы на год раньше! – восклицал он в полутьме, вспоминая свою умницу и красавицу Мадину. – Тогда бы и ты, моя прекраснейшая, единственная из женщин мира, жила бы столь же долго, сколько суждено жить мне. И я бы радовался каждому мигу, проведенному с тобой, так же сильно, как в первые дни нашей любви!
И это была чистейшая правда, ибо каждому дню, проведенному с Мадиной, уважаемый Саддам радовался, как дитя. Радовалась такой жизни и сама Мадина, вновь и вновь повторяя своим приятельницам рассказ о том, как нашла она в пустыне умирающего, как выходила его, дала ему возможность жить и радоваться жизни. Умница Мадина, конечно, умолчала о сотне змеиных укусов и о том, что ее муж некогда был магом, поставившим своей целью уничтожение одного из порождений врага всего живого. Она говорила лишь, что ее супруг, уважаемый Саддам, некогда удалился в пески, дабы слиться с миром и найти высшее просветление в их могучей, но невидимой жизни. Подруги верили и завидовали. Как же не верить в мудрость чужого мужа, если он по сто тысяч раз на дню демонстрирует жене свою любовь, заботу и привязанность? И как не завидовать этому – ведь далеко не каждый мужчина способен на столь сильные и долгие чувства!
С того дня, как златошвейка Мадина нашла себе мужа в песках, миновало более сотни лет. Эта история стала местной легендой и местной гордостью. Похороненная Саддамом, Мадина уже не могла никому раскрыть ни единой тайны. И потому соседи теперь знали лишь, что почтенный ибн Мехмет знает все – от законов сотворения мира до рецептов снадобий, от уложений первого из царей до самой глупой сплетни самого далекого из базаров.
С утра до вечера вбивал он в непослушные мальчишеские головы науки и умения, которые могли бы пригодиться не только пастуху или пекарю, писцу или кузнецу. Он пытался рассказать им обо всем, что есть в мире бесконечно интересного, едва примечательного и незаметного вовсе, даря столько знаний, сколько в силах были поглотить детские умы.
Больше выделял он среди своих учеников Хасиба – сына кузнеца Асада[4], не зря зовущегося львом. Сколь смел и решителен был кузнец, столь жадным до знаний оказался его первенец. Для Хасиба же каждый день, проведенный среди книг Саддама, был полон радости. Он никогда не обращал внимания на слова сверстников о том, что негоже настоящему мужчине засиживаться за книгами, как презренному евнуху, что лишь владение мечом и уверенная власть над конем достойны настоящего мужчины. Хасиб только посмеивался, когда мальчишки дразнили его «Хасибой – тощей девчонкой». Ибо он уже не раз убеждался в том, сколь много могут те, кто владеет знаниями.
Все началось в тот день, когда он, тогда шестилетний Хасиб, отправился с отцом к Саддаму. Кузнецу Асаду нужен был совет в его деле – хотя он был кузнецом потомственным, но прекрасно осознавал, что далеко не все секреты его удивительного ремесла ему уже открыты. Вот поэтому он и счел нужным как-то вечером, просто по-соседски, зайти к почтенному Саддаму, чтобы потолковать о сплавах и флюсах, присадках и добавках к жидкому металлу.
Мудрец принял соседей с распростертыми объятиями: ибо ничего более дарующего наслаждение, чем мудрая беседа или дельный совет, не ведал он в этой жизни.
Хасиб же очень быстро перестал понимать, о чем толкуют взрослые. Но сам вид обиталища почтенного мудреца был столь удивителен, что мальчишка легко высидел в молчании три долгих часа. Ибо он был занят не менее старших: рассматривал корешки бесчисленных книг, любовался странными приборами, украшавшими полки и стол. Более того, он набрался смелости и осторожно стащил с ближайшей полки какую-то удивительную книгу с красочными картинками. Положил ее к себе на колени и только тогда понял, что мудрец заметил это и вовсе не собирается его наказывать или хотя бы журить. Хасиб рассматривал необыкновенно яркие рисунки и удивлялся тому, что в его доме нет такого количества книг, а те, что есть, вовсе лишены рисунков.
Асад уже выяснил все, что собирался, и стал откланиваться. И тогда Саддам спросил:
– Скажи мне, о кузнец, учишь ли ты сына премудростям своего ремесла?
– Увы, почтенный Саддам, еще нет. Мое ремесло столь опасно, что я боюсь пускать сына даже на порог.
– Это неразумно, мой друг… Весьма неразумно.
– Но он же еще так мал…
– О да, мальчик мал, но это не значит, что его следует держать в стороне от знаний и умений, которые кормят его семью.
– О да, уважаемый, это так.
– Но раз ты, смелый Асад, боишься открыть мальчику тайны плавящегося металла, то позволь мне учить его и открывать ему другие тайны, пока он не подрастет для того, чтобы смело войти в поистине необыкновенную мастерскую кузнеца.
– Я почту за величайшую честь, уважаемый Саддам, если ты согласишься учить моего сына. Более того, я бы и сам, быть может, решился просить тебя об этом, но опасаюсь, что не смогу заплатить за твою науку больше пригоршни медных фельсов.
– Это вполне приемлемая плата, добрый Асад. Ведь я не торгую, а делюсь знаниями. Когда-нибудь юный Хасиб, если, конечно, сие позволит Аллах всесильный и всемилостивый, станет твоим подмастерьем, а потом и мастером. И мне бы хотелось, чтобы громкое имя кузнецов из твоего, Асад, рода еще долго гремело и в нашем прекрасном городке, и по всей округе.
Асад почтительно поклонился, радуясь, что теперь заботу о знаниях Хасиба взвалил на свои плечи уважаемый, но такой странный мудрец, Саддам ибн Мехмет. Возможно, учение, сколь бы тяжелым оно ни было, и поможет малышу Хасибу избавиться от странных, но так сильно тревожащих его и огорчающих его добрую матушку снов.
Как бы смел ни был Асад, кузнец, он все же побоялся рассказать почтенному Саддаму о тайне своего сына. Быть может, из-за того что опасался, как бы мудрец не отказался учить «безумного» ученика, быть может, из-за того что не считал эту тайну такой уж важной.
Но тайна у малыша Хасиба была. И какая! Тайна эта, более чем удивительная, сначала забавляла уважаемую матушку Хасиба, потом огорчала ее, а потом уже и откровенно тревожила.
А дело было в том, что мальчишке снились сны. Почтенный Синдбад, мне прекрасно видно, что ты усмехнулся. И совершенно прав. Ибо кому из живущих под этим небом сны не снятся?!
О да, сны снятся всем, но далеко не каждому снятся слова неведомого языка, которые произносятся странным свистящим шепотом. Более того, каждому из этих слов сопутствует яркая цветная полоса или, быть может, лента своего цвета. И никогда эти ленты не меняются. От лимонно-желтого, пронзительного, к темно-коричневому, благородно-сдержанному. А потом, через мгновение, цвета меняются. И теперь мерцающие перед глазами спящего мальчика пятна поражают и оглушают всеми оттенками розового – от нежного, какой бывает заря в горах, до тускло-пурпурного, уходящего в черноту. И слова… О, эти слова. Они всегда начинают и завершают пляску цвета.
Сначала слышен лишь шелест, подобный перешептыванию листьев в кроне дерева. А потом из этого шуршания доносятся первые звуки.
– Ас-сасай! Асс-ни! Сансис! Суассит!
Потом все затихает. Ты уже надеешься на то, что все прошло, и тут громовой раскат ярко-красного цвета и звучит новая фраза, оглушительно непонятная и потому пугающая:
– Шуан-сси суас-си, суас-ассат…
Последние звуки иссушают, кажется, и саму душу. Еще миг – и ты чувствуешь, что твоя жизнь не стоит ни гроша… Чернота поглощает само твое существо, ты готов уже расстаться с миром и… И все заканчивается.
О да, в этот миг сон Хасиба всегда прерывался. Сначала мать узнавала об этом по младенческому плачу, потом по тихому шмыганию носом, а потом по едва слышным словам: «Аллах всесильный, да когда же это закончится?!»
Мудрости материнской хватало лишь на то, чтобы не броситься с криком ужаса к лекарю посреди ночи. Но сколько бы лекарей ни обследовали сына кузнеца, все они сходились на том, что мальчишка совершенно здоров, а глупой гусыне матери вовсе не стоит так опекать такого силача и богатыря. Когда же матушка Хасиба робко спрашивала о снах, лекари пренебрежительно отмахивались, повторяя одну и ту же фразу: «Ну кому из живущих в этом мире не снятся сны?»
Постепенно и сам Хасиб стал все чаще повторять матери:
– Матушка, ну кому не снятся сны?
В ответ на эти слова сына мать лишь тяжело вздыхала и пыталась уговорить себя, что ее беспокойство – лишь беспокойство глупой женщины.
Была у Хасиба и еще одна тайна. Но о ней его матушка, к счастью, и понятия не имела. Не знал об этом отец, не знали приятели. Не догадывался об этом до поры до времени и сам Хасиб. Пока случай не раскрыл ему глаза.
То жаркое лето, когда мальчишке исполнилось пять лет, он, наверное, не забудет до самой смерти. Ибо в то лето под стеной отцовской кузницы в глубокой норе поселилась змея. Сначала Асад-кузнец радовался, что из мастерской исчезли все мыши, хотя кошка в его владениях так и не объявилась. Потом отец заметил черную узкую дыру прямо у самой каменной кладки. А после, когда уже всходила луна, он увидел и саму обитательницу этой норы – огромную, устрашающе-прекрасную кобру.
Хасиб огорчился, когда отец запретил ему бывать в кузнице. Но, как он ни проливал слезы, Асад был непреклонен. Конечно, мальчишка не мог усидеть на месте и как-то поздно вечером отправился в кузницу, чтобы убедить весь мир, что отцовские запреты для него не страшны.
Чем ближе подходил мальчишка к мастерской, тем более тяжелыми становились его шаги. Вскоре он уже просто крался, опасаясь каждого стука или скрипа. Но все же шуршания тяжелого змеиного тела по песку он не услышал. Огромная кобра вдруг встала перед ним, поднявшись почти вровень с его лицом. Этот миг Хасиб запомнил особенно ярко. Запомнил он и то, как странно изменились глаза чудовища. Сначала страшный губительный огонь играл в бездонной их глубине. Потом чудовище словно окаменело. А через миг все исчезло, как исчезла в норе и сама огромная змея.
Конечно, можно не говорить, что мальчишка бежал домой так быстро, как только мог. Можно и не упоминать, что два долгих дня после этого он не выходил даже из двора, радуя матушку кротостью и необыкновенным, воистину волшебным послушанием. Но разумно будет заметить, что и через год после этого Хасиб шарахался от всего, что своими очертаниями могло бы напомнить вид змеиного тела или блеск ее глаз.
Время, конечно, излечило мальчика от этих страхов. Оно стерло из его памяти и страшный огонь змеиных глаз, и высоко поднявшуюся над землей приплюснутую голову, и пляшущий раздвоенный язык. Забыл Хасиб о своем страхе, но вот мир этого страха не забыл.
Ибо с того страшного вечера, пусть и почти стершегося из памяти мальчика, его стали бояться все живые существа. Его не кусали пчелы, его сторонились пауки, от него в панике спасались котята и щенки. Даже черная коза, кормилица, дарящая семье Хасиба необыкновенно вкусное молоко, старалась отодвинуться от руки мальчика как можно дальше.
Сначала Хасиб не обращал на это никакого внимания, потом стал этому удивляться, а потом испугался. Конечно, в том, что тебя кусают пчелы или осы, нет ничего хорошего, но когда только вчера родившийся щенок старается уползти как можно дальше от тебя, поневоле задумаешься. Сначала Хасиб заметил столь удивительное поведение щенка, потом увидел, как из дома уходят пауки, потом… А потом Хасиба попытался укусить тарантул.
Огромный паук появился в доме вскоре после того, как домашние пауки покинули его. Матушка Хасиба, добрая душа, порадовалась тому, что исчезла паутина и теперь не нужно тратить все свободное время (да разве бывает такое у женщины и хозяйки?) на то, чтобы смести ее с потолка и вымести из углов. Но появившийся тарантул так сильно напугал ее, что она была бы только рада стенам, затканным паутиной до самого верха.
Хасиб прекрасно запомнил то утро, когда, перебирая своими бесчисленными ногами, страшный ядовитый паук приблизился к нему. Казалось бы, сейчас свершится неизбежное, но… Но паук, настоящее чудовище, лишь приблизился к мальчику. Ближе он не мог, казалось, ступить и шагу. Он словно наткнулся на стену. И… упал замертво, навсегда покинув мир, в котором обитал Хасиб.
Конечно, мальчишка с тех пор множество раз спорил с приятелями, что сможет напугать страшного дворового пса соседей или заставит коня стражника повернуть на полном скаку. Спорил и, кто бы сомневался в этом, выигрывал любой спор.
Но никогда и никому этой своей второй тайны не открывал.
Быть может, так бы все и продолжалось долгие и долгие годы, быть может, все бы забылось, если бы не желание мудрого Саддама учить Хасиба.
Свиток двадцать второй
– Вот таким была тайна моего детства, достойный Синдбад. Сейчас, повзрослев, я думаю, что ее одной было вполне достаточно, чтобы навсегда изменить мою судьбу. Но и я сам приложил к этому руку.
– Сам приложил руку, уважаемый?
– Да, ибо как-то утром, уже зная, что мой учитель знаком не только со знаниями обычными, но и со знаниями магическими, спросил его: «Скажи мне, мудрый мой наставник, а почему ты не учишь меня магии?»
– И что же твой наставник?
– Почтенный Саддам слегка оторопел: такой поворот разговора был более чем неожиданным. Но уважение к ученику взяло верх, и он ответил:
– В первую очередь потому, что твой отец желал бы сделать из тебя кузнеца, а не мага.
– Но разве ты не мечтаешь об ученике, который продолжит твое дело? – спросил его я.
– Это, мальчик мой, весьма трудный вопрос, – наставник ответил ученику честным и открытым взглядом.
– Но все же ответь мне, прошу!
– Ну что ж, тогда выйдем во двор и присядем в беседке – долгий и трудный разговор следует вести в покое.
Я, Хасиб, помог учителю поудобнее устроиться на груде подушек и опустился рядом с ним.
– Да, мой юный друг. Было бы неразумно утверждать, что я не мечтаю о преемнике. Более того – это было бы откровенной ложью. Конечно, я хочу дождаться того дня и того юноши, кому смогу передать все, что знаю и помню. Того, кому смогу поведать, где найти ответы на вопросы, которые беспокоят любого мага. Того, кто, точно так же, как и я, изберет для себя более чем высокую цель – избавить мир от порождений Иблиса Проклятого.
– О Аллах всесильный и всемилостивый, – прошептал потрясенный Хасиб, только сейчас поняв, что не утолением простого любопытства живет почтенный Саддам, что его устремления сколь высоки, столь и благородны.
– Да, мальчик мой. Всегда помни, что магу, да и не только ему, любому человеку следует ставить перед собой цели высокие, порой кажущиеся воистину невыполнимыми. Да, ясно, что твое заветнейшее желание исполнится не завтра, но это и прекрасно. Ибо в попытках добиться желаемого ты познаешь еще множество необходимых, просто нужных или сейчас представляющихся ненужными истин, которые окажутся к месту в нужное время.
– Это понятно, учитель. Ты повторяешь это мне по триста раз на дню. И, поверь, я понимаю, что так оно и есть. Но ведь можно поступить и иначе. Не ты ли только вчера мне цитировал удивительную фразу, что если долго сидеть на берегу реки, то мимо обязательно проплывет труп твоего врага?
– Увы, мой друг. Я не принадлежу к последователям этого учения. Тебе я рассказал о нем для того, чтобы ты понимал, что под рукой повелителя правоверных множество взглядов на мир и школ, которые эти взгляды считают краеугольными камнями своего учения.
– Но какого взгляда придерживаешься ты, учитель?
– Я считаю, мой друг, что надо избрать себе самую высокую цель и идти к ней так твердо, как это в принципе возможно. И когда твои знания станут достаточно обширными, когда о своем враге ты будешь знать почти все, он сам обратит на тебя свое внимание, вызывая на бой. И, поверь мне, этот бой будет единственным, но смертельным, ибо выжить в нем сможет только один.
– Так и произошло с тобой?
– О нет, друг мой. Так произошло бы со мной, если бы моя прекрасная жена, добрая Мадина, не отправилась в пески на прогулку. В том бою я был побежден. И, без сомнения, погиб бы, если бы не доброе сердце и умелые руки этой удивительной женщины. Но ты, должно быть, прекрасно знаешь эту историю.
– О да, учитель. Хотя ты сам ее мне никогда не рассказывал.
– Ну что ж, тогда я слегка дополню твои знания. Я избрал себе врага много лет назад – врага сильного, бессмертного и бесконечно опасного. Таким врагом стала Царица змей. Долгие годы посвятил я изучению змеиного языка – ибо таковой существует и с его помощью подданные этой ужасной владычицы могут общаться между собой. Кроме того, я изучал свойства ядов, строение тел этих подданных. Я собрал все мифы о ней, разыскивая в них зерно истины. И найдя (да и разве могло быть иначе), я стал готовиться к битве с Царицей, изобретая оружие, которое могло бы уничтожить ее сразу и навсегда. Я был весьма близок к успеху (вернее, я думал, что готов к любой битве) в тот день, когда получил вызов от Царицы на смертельный поединок.
Я, Хасиб, утвердительно качал головой. Ибо уже знал эту историю, в нашем уютном городке лишь Саддам не ведал, что его почитают не только за ум и знания, но и за удивительное мужество – ведь избрать такого врага может лишь человек воистину бесстрашный и решительный. Меж тем мой учитель завершал свой рассказ.
– Сколько длилось наше сражение, сказать я затрудняюсь. Ибо подданных Царицы оказалось необыкновенно много, а коварство ее – более чем бесконечно. Сотням и сотням смертельных укусов мог я противостоять, ибо создал и ежедневно принимал универсальное противоядие. Сотням и сотням бросков я противостоял с клинком, подобным тому, что ты держишь на коленях. Сколько подданных Царицы полегло в день той схватки, я не знаю. Думаю, что не одна тысяча. Но, увы, я мог противостоять всему, кроме коварства. Именно коварным смертельным укусом в затылок сразила меня сама Царица. И лишь женское упрямство оказалось сильнее ее яда, до того считавшегося непобедимым. Вот такая история, мой мальчик. И теперь, вновь возвращаясь к твоему вопросу, я могу честно ответить: увы, я не уверен, что желаю подобной участи любому из своих учеников.
– И потому ты не учишь своих учеников тому, что знаешь лучше всего?
– Скорее, мой мальчик, я знаю достаточно много для того, чтобы выучить своих учеников, сделав их достойными и сильными людьми, и при этом не погрузить их в мир бесконечных сражений с заведомо более сильными врагами.
– А если твои ученики… твой ученик изберет такую же высокую цель?
– Что ж, если это случится, я постараюсь дать ему столько, сколько будет в моих силах.
– Но, быть может, проще отговорить?
– Мальчик мой, конечно, я не самый умный человек в мире. Но я уже давно понял, что отговаривать кого-то от чего-то столь же бессмысленно, как избавляться от пустыни, складывая песчинки в мешок. Если человек что-то для себя решил, – учитель сделал ударение на последнем слове, – то решение это куда тверже скал. И потому я не стал бы отговаривать, как не отговаривал в свое время отец и меня, когда узнал о моем решении.
– Но если я тоже принял такое решение? Если я тоже мечтаю стать великим колдуном? Ты научишь меня?
Почтенный Саддам рассмеялся.
– Ох, Хасиб, это не то решение, о котором мы с тобой только что говорили. Но если ты твердо решил, что твой удел – магия, а не помощь отцу, я буду учить тебя вещам, о которых мы не говорили прежде. И не потому, что ты хочешь быть великим колдуном. А потому, что ты хочешь быть кем-то. Подобный выбор я тоже уважаю.
– Тогда, учитель, – собравшись с духом, сказал тогда я, – прошу тебя, сделай меня магом, ибо я хочу этого.
– Да будет так, – склонил почтенный Саддам черную чалму. И пески вокруг повторили: «Да будет так».
– И Саддам стал учить тебя магии?
– Да, стал. Должно быть, я был не самым лучшим учеником, хотя, определенно, весьма усердным. Быть может, я бы по сей день так и оставался магом в крошечном городке на краю пустыни, если бы не решился рассказать наставнику о своем сне и своей тайне.
– И что же на это сказал твой наставник? – Синдбад уже почти забыл о своей боли.
Враг страшен только тогда, когда ты стоишь перед ним, вооруженный лишь собственным одиночеством. Когда же рядом с тобой люди, также встретившие на пути свою боль, свой страх, своих врагов, начинаешь жить их жизнью – и судьба твоя не кажется тебе уже такой безнадежной. Всегда можно выдержать половину боли.
– Мой наставник покачал головой и положил руку мне на плечо. А потом проговорил: «Ох, мальчик мой, как хорошо, что ты мне рассказал о своем сне. И как плохо, что ты сделал это только сейчас!»
Я изумился этим его словам и переспросил:
– Хорошо, учитель? Плохо?
– Конечно. Плохо потому, что, знай я об этом раньше, я давно бы избавил тебя от такого навязчивого кошмара. А хорошо потому, что я единственный могу попытаться истолковать этот сон.
– Но я уже пытался растолковать его по соннику великого ибн Абу Талиб аль-Мурада. И у меня ничего не вышло. Когда же я решил взять в руки другие толкования сновидений, даже туманные слова этого, первого разъяснения показались мне вполне понятными. Но все равно я ничего не понял.
– Меня радует твоя попытка в одиночку добраться до истины. Но, увы, мальчик мой, твой сон не относится к сновидениям, которые сможет растолковать даже самый мудрый из мудрейших сонников. Хотя… Начнем с начала. Что же ты прочел?
– Великий ибн Абу Талиб говорит, что видеть во сне змею – это значит ожидать рождения ребенка. А видеть во сне множество змей – это, увы, не значит, что Аллах одарит тебя множеством любимых детей. Скорее это значит, что твои враги столь близки, что им уже ничего не стоит сговориться против тебя.
– Ну что ж… Насчет детей – это, конечно, глупости. А о врагах сказано достаточно разумно. Не зря многие животные опасаются змеиного племени. А человек ведь тоже животное. И потому нет ничего удивительного в восприятии змей как своих врагов. Но что сии мудрые книги сказали тебе о словах, которые ты слышишь в этом сне? И как эти страницы объясняют то, что ты свой сон видишь с раннего детства и по сю пору?
– Увы, ни одна из книг ни разу не упомянула ни о словах из моего сна, ни о том, что они сопутствуют мне уже годы и годы…
– Я так и думал, – печально кивнул мне тогда почтенный Саддам. – Да и где мудрым книгам взять ответы на вопросы, которые никогда не волновали их авторов? Ведь, думаю, столь страшного сна не видел никто в этом мире. Не видел и не увидит более…
– А я, учитель? Я увижу его еще раз? – спросил я тогда.
– К сожалению, мой друг, у меня нет ответа на твой вопрос. Не ведаю я, почему этот сон пришел к тебе и когда он тебя покинет…
И тут какая-то неведомая сила словно подбросила меня. Я выпрямился и единым рывком вскочил на ноги.
– Да что же ты в таком случае знаешь, глупый старик?! – вскричал сей недалекий отрок. – Что тебе «ведомо», кроме тех глупостей, которыми полны твои глупые толстые книги?
– Мальчик мой, что случилось? – спросил мой учитель. – Почему ты кричишь, словно торговец на базаре?
– Да потому, что твоя мудрость оказалась насквозь фальшивой, как полированные бронзовые скульптуры, которые бестолковые невежественные людишки могут принять за скульптуры золотые! Потому, что ты ничего не знаешь, не понимаешь и ответа ни на один по-настоящему важный вопрос у тебя нет! Потому, что я не желаю более называться твоим учеником, ибо это значит называться глупцом, учеником глупца!
Саддам лишь молча смотрел в мое лицо. Он видел, как наливается краснотой мое чело, и прекрасно различал, как черная лютая злоба заливает мой разум. Тогда я не понял того, что ощутил мой учитель: ибо его честность с учениками, которой он всегда гордился, сейчас сыграла с ним злую шутку, и его «не понимаю» отвратили от него, старого бессильного мага, самого лучшего из его учеников… Так, во всяком случае, он сам называл меня.
Я же, Хасиб, принял молчание наставника за выражение бессилия и потому умолк. Я ожидал каких-то возражений, быть может, оправданий… Да все равно чего, только не этого спокойного, пусть и наполненного глубоким смыслом молчания.
«Мальчику надо выкричаться… – полагаю, думал мой учитель. – Она, Царица, оказывается, уже давно добралась до него. А я так ничего и не знал. Утешает лишь, что Хасиб сам не понимает, что с ним происходит. Значит, свидания с владычицей еще не было. И, значит, живет еще надежда, что оно никогда не состоится. Надо лишь удержать его подле себя, дать ему столько знаний, чтобы искушения Царицы были неинтересны для него…»
– Ну, что ты молчишь, старик? Почему не ответишь ни словом? Почему даже глаза прячешь от меня? Должно быть, потому, что сказать-то тебе и вовсе нечего, что твоя «великая мудрость» оказалась пустым звуком, похожим на звук старой погремушки…
Саддам, мой учитель, молчал. Гнев ученика пугал его, но он понимал, что любые слова, сказанные сейчас в ответ на полубезумные мои выкрики, будут истолкованы неверно, а то и вовсе полностью извращены. Скорее я сейчас понимаю, что происходило в разуме моего учителя. Тогда же все было иначе.
– Ну что ж, – мой гнев волшебным образом угас. Или просто силы для ссоры иссякли. – Сказать тебе, глупцу, и вовсе нечего. Так что же в таком случае я делаю здесь, в доме глупости?
– Постой, друг мой, – негромко проговорил мой наставник. – Думаю, что здесь, в моем доме, ты изучаешь основы наук, которые в будущем смогут стать для тебя хлебом насущным. И изучение это столь же бесконечно, как бесконечна и сама жизнь.
– Да вот только учитель мне уже не нужен, старый ты глупец! – Отчаяние затопляло мой разум и лишало меня не только сил, но и крох терпения. – Если ты не смог найти ответ сейчас, зная, как я в нем нуждаюсь, то, думаю, более не станешь искать ни одного ответа на любой из моих вопросов. Увы, я понял, что все эти годы меня вел по миру знаний человек, который столь же далек от знаний и понимания мира, как наш прекрасный городок под рукой повелителя всех правоверных от прекрасного Багдада. А потому я просто покину этот убогий домишко и этого убогого человечишку и буду далее идти по жизни в одиночку, справляясь с бедами и самостоятельно находя ответы на собственные вопросы, неважно – легкие они будут или тяжелые.
Саддам лишь пожал плечами. Он был уверен, что это пустая сиюминутная блажь, увы, свойственная всем юным душам. Да, он увидел, что я разуверился в учителе. Но наступит завтра, и я пойму, что это было просто заблуждением, которое вызвали, может, черные пятна на далеком солнце или, быть может, пыльная буря, которая в этот час случилась на просторах далекой страны Кемет…
Однако я был совсем иного мнения. Ибо проговорил:
– Прощай, учитель! Годы, проведенные здесь, многому меня научили. Но сейчас я понял, что уже перерос твою младенческую науку, что более ничего она мне дать не может, а будет лишь красть мое время и иссушать душу.
– Ты уходишь, мальчик? Чем же ты станешь заниматься? Пойдешь к отцу в подмастерья?
Почтенный Саддам думал, что сможет этим простым вопросом удержать меня. Что я, задумавшись о будущем, пойму, что не готов еще в одиночку соперничать с судьбой. Но, увы, в этот раз мудрость изменила ему. А ответ мой, глупый, быть может, столь удивил его, что он просто лишился дара речи.
– О нет, бессильный старик. Зачем мне быть подмастерьем у какого-то глупого кузнеца, пусть он даже и мой родной отец? Зачем запирать себя в четырех стенах с клокочущим горном посредине, если мне открыт весь мир?
Почтенный Саддам поднял на юношу удивленный взгляд. «Должно быть, – подумал он, – я слишком давно живу на свете, чтобы понимать, что движет юными умами. Должно быть, моя мудрость и впрямь истончилась, как бумага, и прорвалась во многих местах, явив миру лишь отрепья глупости…»
– Я стану магом, мой глупый учитель. Я умею уже так много, что смогу этим ремеслом добыть себе и кров, и пропитание. Отцу, конечно, будет неприятно узнать, что я не считаю его ремесло своим, но… Но, думаю, он раньше или позже меня поймет. В этом унылом городке мне тесно и душно. А свобода, которую я избрал, станет для меня законной наградой за все годы, которые провел я в этих пыльных комнатах.
Саддам мог бы многое сказать и о свободе бродяги, и о глупости мага-полузнайки, и о том, каких бед может натворить с юным человеком решение, принятое второпях… Но он, почтенный учитель, промолчал. И сейчас я горько сожалею о том, что этому его молчанию придал совсем иное значение.
Молчал Саддам, разглядывая спину удалявшегося ученика, молчал, когда тот скрылся за поворотом улицы, молчал и тогда, когда собирал книги, разложенные в беседке для сегодняшнего урока. Урока, который немало дал бы магу и врагу Царицы змей, но оказался ненужным для бродячего фокусника, в которого превратился я, глупый Хасиб, всего за один миг.
Свиток двадцать третий
– Вот таким был мой наставник! Вот что мучит меня в этой жизни!
Хасиб наконец закончил свой рассказ.
– Аллах великий, мальчик!.. – Добрая Заидат опять утерла слезы, уж в который раз за сегодняшний день.
– Не надо плакать, почтенная! Это просто жизнь человеческая со всеми ее достоинствами и недостатками.
Хасиб поднялся.
– Скоро полночь, мой уважаемый хозяин. Я утомился, да и ты валишься с ног. Увы, я не смог развеять твоей печали, однако, думаю, подал тебе надежду, пусть и слабую. Если ты все же решишься прибегнуть к моей помощи – оставь калитку распахнутой, и мы пополудни придем к тебе в дом. Я попрошу, чтобы старуха Кара помогла мне. Она гадалка, что, должно быть, рассмешит тебя, но видела в этой жизни столько чудес, что, полагаю, поможет раскрыть нам всем глаза на твою тайну. А теперь прощай! И надейся – ибо миром правит надежда, а вовсе не сонм свирепых властителей.
Синдбад ответил на поклон Хасиба. Нельзя сказать, что его боль утихла – тут циркач оказался прав. Однако боль эта перестала мучить юношу, как ноющий зуб: она становилась привычной. Так привычной становится долгая, затяжная болезнь близкого человека, с которой надо бороться изо всех сил, не впадая в уныние. И лишь потом, когда беда уйдет, можно будет сему унынию предаться… ну, или забыть о нем, возрадовавшись здоровью каждого, кто дорог тебе под этим небом.
Нельзя сказать, что ночь для Синдбада прошла спокойно – о нет, странные сновидения мучили его: сотни и сотни змей, от крошечных до гигантских, виделись ему, сотни и сотни конников неслись через расщелину в скалах, стоны и боль чувствовал он так, будто переживал их сам.
Однако, к счастью, даже самое тягостное сновидение уходит, и потому у молодого кузнеца хватило сил встретить восход улыбкой, а полдень – радостной надеждой. Ибо калитка была распахнута – Синдбад и в самом деле чувствовал, что Хасиб, балаганный маг и чародей, поможет ему гораздо больше, чем даже целая сотня лживых лекарей или знахарей.
Полуденные тени коротки, как краток и сам этот миг. Однако ровно в полдень появился на пороге дома так долго ожидаемый хозяином Хасиб. Сегодня ему тоже сопутствовала женщина, но не сердобольная и тонкослезая Заидат, а куда более суровая и страшная незнакомка.
Старуха Кара на первый взгляд и впрямь выглядела пугающе: сухопарая, отягощенная заметным горбом, с каркающим гласом и длинными узловатыми пальцами. Лишь те, кто знал гадалку хорошо, видели, что у нее золотое сердце и поистине мужской разум, который позволяет без страха смотреть в день грядущий.
Кара вошла в калитку первой. Семеня, обошла дворик и уселась у самой печки.
– Холодная в этом году весна, холодная… Я знаю, мальчик, все, что знает и мой юный друг Хасиб. Я подожду вас здесь и спрошу у карт, чего же ждать вам. Идите, ваше дело не торопит. Хотя и не терпит промедления.
Синдбад пожал плечами – он был готов ко всему, даже к тому, что старуха-цыганка примется командовать у него в доме.
– Идем же, мудрый Хасиб.
Несколько шагов по лестнице не могли длиться бесконечно долго – с каждым днем Синдбад все больше боялся входить в опочивальню. Вот и сейчас он остался в дверях, позволив циркачу самому осматривать прибежище спящей Амали.
Тот же, не говоря ни слова, протянул руки вперед так, будто хотел погреться у несуществующего огня. Глаза его были полузакрыты, а короткие шаги бесшумны – Хасиб двигался по комнате неслышно и едва заметно. Наконец он приблизился к ложу. Однако на лицо спящей девушки не смотрел – руки его теперь шарили в воздухе куда решительнее, а дыхание стало шумным, будто он с трудом терпит нешуточную боль.
Наконец Хасиб повернулся к Синдбаду, все так же стоящему в дверях.
– Твоя жена, добрый друг, действительно околдована. Словно огромный ледяной купол окутывает ее от кончиков пальцев до темени. Рукам больно касаться сего могильного холода, а глазам страшно видеть переливы синего цвета, ибо они искажают черты лица твоей жены.
– Но она же жива? Она проснется?
В голосе Синдбада прозвучало куда больше отчаяния, чем надежды.
– О да, мой друг. Она жива и, думаю, когда-нибудь проснется! Более того, она хочет жить, хочет восстать ото сна. Иди сюда, прислушайся!
Хасиб поманил юношу.
– Возьми ее за руку, наклонись к самым устам. Вот так!
Маг сделал над головой Амали несколько движений, словно отгонял назойливую муху. И Синдбад разобрал едва слышное (хотя, быть может, ему сие лишь показалось):
– Жить… Хочу жить…
– О счастье, – пробормотал кузнец.
– Да, тебе тоже это слышно. Значит, так оно и есть. Осталась лишь самая малость – понять, как же даровать твоей жене жизнь, как сорвать с нее покрывало проклятия?
– Проклятия?
– Так ты ничего не понял, достойнейший? – Хасиб улыбнулся.
И вновь Синдбада поразила его улыбка – теплая, сочувствующая, дружеская.
– Пойдем вниз, к огню. Кара-то права – холодная в этом году весна…
Хасиб стал спускаться по лестнице. Синдбаду ничего не оставалось, как последовать за ним, хотя он отдал бы полжизни, чтобы опять взять в руку пальцы любимой и услышать или угадать ее шепот.
– Ты видел достаточно? – услышал юноша голос Кары.
– Да, добрейшая. Все обстоит именно так, как ты говорила. Проклятие, древнее родовое проклятие… Какие-то очень далекие предки повздорили с самим Иблисом Проклятым, вот он теперь и отыгрывается на дочери достойного кузнеца.
– Нет, малыш… Проклятие-то древнее, это верно. Однако никто из предков с самим Иблисом, пугалом всех недалеких трусов, не спорил – девчушка-то не дочь человеческого рода. Думаю, что ее уважаемые родители это прекрасно знают. Полагаю, что известно это и нашему перепуганному хозяину. Который от ужаса перезабыл все на свете.
– О чем ты, почтенная? Что я позабыл?
– Отвечай мне честно, кузнец. Кто твоя жена? К какому роду она принадлежит?
– Батюшка моей прекрасной Амали – кузнец. Он ифрит… А матушка джинния… Но почему ты спрашиваешь об этом?
О, как выразительны были лица его собеседников!
– И ты, дурачок, говоришь об этом столь спокойно?!
– Но как же мне еще говорить об этом? Мало ли кем рождается человек – важно, кем он становится…
– «Рождается человек», – со странным смешком повторила Кара. – А ты, глупенький, кем и где рожден?
– Я родился на полуночь отсюда, на туманном острове Альбион, а отец мой – купец и странник Ас-Синд – происходит из древнего рода. Некогда прапрадед его пришел вместе с румийскими ордами на зеленые берега острова, да так и остался. Отец, должно быть, жив и посейчас.
– М-да, он-то человек. А вот девочка…
– Скажи, добрый хозяин, – в разговор вступил Хасиб. – Далеко ли живут родители твоей жены? И знают ли они о том, что произошло с ней?
Все так же недоумевая, Синдбад ответил:
– Родители моей жены живут по соседству, в нескольких кварталах. Они сами дали согласие на наш брак.
– Но знают ли они о проклятии, что полонило твою Амаль?
– Не понимаю, почтенный, отчего ты так настойчив… Нет, они не знают о проклятии – я решил сам излечить прекраснейшую. Ведь именно мне она доверила право ежесекундно заботиться о себе.
– Глупенький, – пробормотала Кара, всматриваясь не в лицо Синдбада, а в разложенные перед ней карты с яркими рисунками. – Конечно, они согласились, не враги же они собственному ребенку. Но скажи мне, быть может, тебя о чем-то предупреждали эти удивительные существа? О чем-то просили?
– Существа? Да они самые обычные люди! Заботливые и доброжелательные. Просили ли… Нет, не просили…
– Припомни, мальчик. Это очень важно! Я вижу здесь, что ты сделал нечто, идущее вразрез с их волей. Но что?
Синдбад честно пытался вспомнить хоть об одном споре. Но не мог. «Что же могло идти вразрез с их повелениями?»
Однако стоило Синдбаду глубже погрузиться в воспоминания, как всплыла в его памяти фраза, которую проговорил вполголоса извинявшийся Дахнаш: «Об одном лишь прошу я, никчемный. Не приглашайте имама для совершения свадебного обряда. Не опускайтесь до того, чтобы просить помощи у Бога, в каком бы из обличий он ни выступал…»
– Ты права, мудрая кудесница. Почтенный отец моей прекрасной Амали просил, чтобы мы не приглашали имама для совершения свадебного обряда, чтобы не опускались до того, чтобы просить помощи у Бога, в каком бы из обличий он ни выступал. Но что сие значит?
– Так, значит, имам все-таки совершил обряд?!
– О да… Остался недоволен мздой и потому ретировался более чем быстро… – недоуменно ответил Синдбад.
– Аллах всесильный, какой же ты глупец! Вот из-за этого и страдает теперь твоя жена! Зачем?! Зачем, воистину, ты позвал этого старого болтуна? Зачем просил защиты у Бога?
– Защиты? – Синдбад по-прежнему ничего не понимал. Хотя настойчивость и даже грубость Кары его начала уже пугать. – Никакой защиты я не просил. Это же давняя традиция – вот я и решил не отступать от традиций родины ни на шаг…
– Воистину, нет глупости большей, чем слепое следование старым привычкам и традициям… Но теперь уже ничего не попишешь.
– О да, уважаемая, – кивнул Хасиб. – Теперь следует избавить несчастную от последствий глупого поступка ее мужа, пусть и совершенного из лучших побуждений.
– Знай же, Синдбад-кузнец, что именно тем, что ваш брак был освящен имамом, ты и вызвал к жизни давнее проклятие. Говорят, что Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими, творец всех чудес мира, призвал на головы ослушников все, что только мог придумать.
Твоей жене досталось проклятие вечного сна. И снять его сможет лишь тот, кто призвал его. Так что именно тебе придется потрудиться, дабы чары развеялись. Я не знаю, в чем будет состоять сей труд, знаю лишь, что может это продлиться бесконечно долго – ибо Сулейман ибн Дауд был настоящим волшебником и вполсилы ничего не делал.
– Я готов на все! И не потому, что сам виноват! А потому, что нет в мире женщины лучшей, чем моя Амаль!
– И да будет так! А теперь повтори-ка мне то, что нашаманил тебе этот глупый знахарь…
Синдбад опустился на подушки и, прикрыв глаза, постарался воспроизвести слова безумца как можно более точно.
– Он так и сказал? «Напоить деву водой жизни из колыбели жизни…»?
– О да, мудрейшая. Так и сказал.
– Не так уж он и безумен, как говорят… «Вода жизни», без сомнения, это молоко. Значит, надо будет напоить девочку теплым молоком. Сие нетрудно. Вот и коза уж который день недоенная… Колыбель… Колыбель жизни…
Кара начала осматриваться, пытаясь то ли найти разгадку, то ли просто отвлечься от раздумий.
– Это же яйцо! Должно быть, надо окропить губы твоей уснувшей супруги молоком, налитым в скорлупку яйца…
– Но это же так несложно, почтенные. Неужели избавление будет столь простым? Неужели моя любимая вот-вот откроет глаза?
– Так не медли же! Вот куриное яйцо. – Кара вытащила из корзинки это самое яйцо, не обращая ни малейшего внимания на громко возмутившуюся курицу. – Вот коза…
Теперь Синдбад поднимался в опочивальню совсем иначе – не с опасением, но с надеждой! Он и двигался иначе – не боясь потревожить жену, а пытаясь возвестить о своем появлении.
Вот капнуло молоко на чуть приоткрытые губы Амали… И та издала вздох, такой долгий и долгожданный… Вздох, прозвучавший громом в тиши. Всего один, но такой желанный и такой обнадеживающий вздох. И потом вновь пала тишина… Тишина неподвижности, тишина ускользнувшей мечты…
– Что ж, друг мой, мы попытались, верно? – Хасиб был обескуражен и, пожалуй, расстроен не менее, чем сам Синдбад.
– Смотри, мальчик, – карканье старой вороны цыганки в тот миг показалось Синдбаду слаще самого сладкоголосого пения. – А ведь девушка-то шевельнулась. Уста ее чуть заалели, да и дышит она теперь чуть чаще… Похоже, малыш Хасиб, ты на правильном пути.
– Должно быть, так, – пожал плечами Хасиб-чародей. – Но стоять на правильном пути и добиться победы – это несколько разные вещи. Ты не находишь, уважаемая?
– Самая большая победа начинается с маленького первого шага… – пожала плечами в ответ цыганка. – Теперь осталась малость – понять, чего мы не поняли…
Казалось, что Хасиб не слышит старухи – он отдал окаменевшему от разочарования Синдбаду чашу с молоком и опять стал руками производить движения над ложем.
– Воистину ты права, почтенная, и мы на верном пути. Полог ледяного холода стал куда тоньше. Хотя моих сил не хватит, чтобы пробить его.
– И это есть добрый знак, мальчик. Это добрый знак… А теперь попытайся вернуть себе силы – вечером представление. Боюсь, ты сможешь потерпеть неудачу, если сейчас же не перестанешь тратить свой дар.
– Но мы же вот-вот достигнем цели!
– О нет, юноша. Боюсь, что «вот-вот» мы ее не решим.
– Не спорьте, добрые мои спасители! – Синдбаду была приятна горячность Хасиба и суровая честность цыганки.
– Мы не спорим, почтеннейший. Мы так давно дружим, что скорее соглашаемся друг с другом. Но, увы, – тут Хасиб стал говорить тише, – я и в самом деле мечтаю тебе помочь не потому, что от этого зависит судьба прекрасной женщины, а потому, что глупое школярское нетерпение заставляет меня торопиться.
– Ты уже помог мне, умнейший. Ибо я знаю достаточно, чтобы, не впадая в отчаяние, искать вместе с тобой предмет, каким может быть сей «источник жизни».
– Ты не понял, достойный супруг, – в разговор вмешалась Кара. – Мы знаем, что это за предмет. Это яйцо. И осталось лишь понять, каким должно быть яйцо, чтобы все-таки разбудить твою жену и тем самым развеять тысячелетние чары.
– Быть может, – нерешительно пробормотал Синдбад, – оно тоже должно быть заколдованным?
Свиток двадцать четвертый
Уже давно минул закат, наступила полночь. Начали стираться в памяти события сегодняшнего дня, куда более обнадеживающие, чем целой череды прежних дней. Молодому Синдбаду не спалось. Да и как здесь было уснуть, если разгадка оказалась столь же близка, сколь и недоступна?!
Подниматься в опочивальню было выше его сил, а ночь была удивительно светлой от мириадов горящих звезд. Тишина обняла мир.
А потом в этой тиши раздались удивительно громкие звуки. Синдбад не сразу понял, что происходит. Звук повторился – то были удары костяшками пальцев в калитку.
– Маймуна, добрейшая! – шепотом воскликнул Синдбад, увидев в проеме двери свою тещу. За ее спиной возвышался кузнец Дахнаш, и лицо его было не просто обеспокоенным – оно выражало предчувствие настоящего бедствия.
– Мальчик мой, – джинния с непоказной нежностью обняла Синдбада.
– Уважаемый отец!
– Рассказывай уж, – пробурчал Дахнаш.
Он смотрел, как Маймуна припала губами к руке спящей дочери, и старался сдержать слезы.
И Синдбад, вздохнув, поведал о том, как не смог разбудить любимую, как отправился сначала к имаму, потом к лекарю, потом едва не задушил знахаря. Как разгадку нашли люди, от которых менее всего можно было бы ожидать сердечности и колдовских умений, – фокусник и гадалка из цирка.
– И ты, глупец, вместо того, чтобы побежать к нам, стал обивать пороги людей совсем посторонних?…
– Но что из этого? Ведь и вам, добрые мои тесть и теща, проклятия не одолеть.
– Что ж, робкий наш зять. Силу этого заклятия нам не одолеть, это верно. Как верно и то, что сказал тебе этот мальчик-маг: вода жизни из колыбели жизни сможет вернуть нашу дочь. Верно и то, на что указала тебе цыганка: только ты сам способен принести излечение Амали, избавить ее от проклятия. И для этого сам должен найти ту колыбель жизни…
– Так, значит, я все делал так, как должно?
– О да… В какой-то мере. Верной, замечу, оказалась и твоя догадка о том, что яйцо, из которого следует напоить молоком твою жену, должно было хранить жизнь куда более магического существа, чем обыкновенный цыпленок. Может быть, если ты принесешь яйцо птицы До-До, или яйцо, отложенное заботливой самкой текодонта, или чудовищной мамашей архозавра… Быть может, тебе улыбнется удача и ты найдешь яйцо птицы Рухх…
– Ох, – покачал головой Синдбад. – На нашем шумном базаре, думаю, не найти этих необычных существ. Боюсь, что поиски их даже заброшенных гнезд, равно как и поиски улыбающейся удачи, продлятся бесконечно долго… Вот только где мне, простому человеку, найти эти бесконечно долгие дни и годы, если срок моей жизни куда короче срока жизни любого из вас, детей магического народа?
– У тебя будет ровно столько времени, сынок, сколько нужно. Времени мы, дети колдовского народа, можем подарить тебе бесконечно много. А вот удачу, увы… Это выше наших сил.
– Однако, жена, мы можем даровать нашему зятю неуязвимость и бесконечное здоровье. Это-то в наших силах!
– Да, мой прекрасный, это в наших силах. Отныне, отважный Синдбад, тебе не грозят ни яд, ни меч, ни нож. Они не смогут причинить тебе сколько-нибудь серьезного ущерба. Никто злоумышляющий не добьется успеха!
– Но помни, сынок, – голос Дахнаша сейчас больше напоминал гром, чем речь человеческую. – Тебе не будет угрожать ничего, что некогда побывало в руках человека. Ни стрела, ни топор, ни яд, ибо некогда кто-то сделал их, приложив руку и умение. Но тебе следует, запомни это накрепко, избегать пожаров и наводнений, извержений вулканов и простых источников воды, если неизвестно, откуда сей источник берет свое начало. Одним словом, от природных бедствий не могут тебя защитить и все наши чары.
– Но где же мне искать сей удивительный предмет – яйцо, которое некогда было колыбелью жизни магического существа? Где искать следы птицы Рухх?
– Увы, мой мальчик, тут мы тебе помочь не в силах, ибо знаем лишь, что сама эта птица, как и много иных птиц из колдовских сказок, которые, по мнению человеческому, не больше чем призраки из сказки, существуют на самом деле. Где-то же в этом обитаемом мире ты отыщешь следы еще многих чудес.
– Ну что ж, если ее не найти на нашем шумном базаре, значит, следует отправиться на поиски. Времени теперь у меня ровно столько, сколько мне нужно – дело лишь за терпением. А уж терпения мне не занимать.
Маймуна пыталась вспомнить хоть одно магическое деяние, какое бы переносило ее зятя через горы и континенты, но не могла. Похоже, его и вовсе не было в колдовской книге. Быть может, его и вообще не было. Увы, долгая разлука лежала впереди – и тут Маймуна сделать ничего не могла.
– Я не знаю, чем тебе еще помочь, мальчик мой, – утерла слезу Маймуна. – Пытаюсь придумать и… не могу.
– Матушка, сберегите для меня мою любимую, защитите ее – о большем я и не прошу. Если она будет защищена, то мои поиски будут лишь простым странствием. А если я знаю, что все магические твари, описанные в сказках, существуют и в реальном мире, то я эту самую тварь найду. Сие лишь вопрос времени.
– Будь осторожен, сынок.
– О добрый Дахнаш! Конечно, я буду осторожен. Поверь, я не боюсь ни риска, ни даже самой смерти. Но если я не выживу, как же смогу вернуть к жизни свою возлюбленную?
Никогда еще Маймуна столько не плакала. Хотя где-то в самой глубине ее души жила уверенность в том, что все закончится хорошо. (О, как часто любого человека держит на плаву это самое, похожее на заклинание, такое простое «все будет хорошо»!) Но видеть свою непоседу дочь безмолвной, недвижимо лежащей, было выше ее сил.
– Не плачь, добрая моя Маймуна, поверь, я вернусь, ибо обязан это сделать. И вернусь, обретя искомое!
– Я знаю, мальчик. Твое слово верно, как и твое сердце. Но странствовать… Странствия человека всегда столь непредсказуемы.
– Мои странствия будут просты – я объявлю себя наемником и буду избирать самые необыкновенные экспедиции. Тогда уж наверняка попадется на моем пути чудо-птица, и, быть может, не одна…
– Мудрое решение, мальчик. Так тебе удастся не опасаться никаких разбойников, ибо сам будешь пострашнее любого из них…
Синдбад так и не понял, обидел его тесть или похвалил. Но больше Дахнаш ничего не сказал.
И значит, следовало отправляться в путь не медля – пока еще есть желание вернуться. Пока гонит в дорогу не только чувство долга, но и мечта о счастье.
Свиток двадцать пятый
Верный своему слову, Синдбад уже назавтра стал одним из солдат удачи. Он получил преизрядный кошель «на обмундирование и транспорт» и кивнул в ответ на приказание «завтра же на восходе выдвинуться за городскую стену и отправиться на лагерь». Ни слова угрозы, прозвучавшие из уст «капитана», ни соглядатай, которого юноша заметил почти сразу, не изменили ничего в решимости юноши. Его гнал вперед долг – а что есть у мужчины, кроме долга перед своей семьей? Только она, эта самая семья.
Да, уже первая экспедиция была достаточно необычной. Ибо немалое войско оказалось вооружено не копьями и мечами, а кирками и лопатами. И лица соратников были не суровы, а печальны.
– Ты не увидишь нашего кагана[5], малыш, – проговорил десятник в ответ на вопрос Синдбада. – Но увидишь, как он будет погребен. И запомнишь честь, которую этим тебе оказали.
И Синдбад понял, что сколь необыкновенными ни будут приключения, которые он предчувствовал, но реальность окажется удивительнее любого предчувствия.
На рассвете тронулись в путь. И уже к полудню дорога под ногами лошадей стала ýже, превратившись из тракта в едва заметную горную тропку. Горы зажали котловину, встав грозными серыми стражами с трех сторон. Сейчас, в мареве нестерпимого зноя, они казались каменными великанами, которые не выдержали испепеляющего внимания солнца и умерли в мгновение ока, окаменев там, где застал их летний жар.
Не лучше чувствовали себя и люди, застывшие с двух сторон огромного котлована. Ни им, ни их коням не приходилось еще ощущать такое нестерпимое пекло. Синдбаду даже показалось, что уздечка раскалилась, а стремена, которыми он время от времени останавливал своего скакуна, обжигают кожу того до костей.
Хрипели кони, между застывшими всадниками бегали с ведрами воды мальчишки-оруженосцы. Но плеск воды в кожаных ведрах и тяжкие вздохи скакунов были единственными звуками, нарушавшими тишину заповедного ущелья. Всадники молчали – горе, что свалилось на их плечи, нельзя было изъяснить словами, нельзя было даже представить, что такое вообще когда-либо могло случиться. Ибо сегодня хоронили того, кто встал рядом с богом, кто водил их в походы, кто даровал им семьи и мир. Сегодня хоронили Великого кагана.
Видел юноша, что нет в сем суровом мире слез, чтобы выплакать эту великую боль, не было в мире слов, чтобы описать горе каждого из его подданных, не было в мире места, более скорбного, чем это.
Подготовка к похоронам началась, по словам десятника, вчера на рассвете. Почти целый тумен, взяв в руки кирки и лопаты, дотемна сумел вырыть огромный котлован, глубиной в два человеческих роста, а шириной в десятки локтей. Здесь должны были упокоиться останки кагана. Но вместе с ним уходили в последний путь и сотни вещей, что должны были сопровождать его спокойную и сытную жизнь за Тем Порогом.
Упряжь и кони, меха и ткани, украшения и немалая казна. Ибо он, Великий каган, гордость и боль каждого из них, не должен был нуждаться ни в чем. И потому сотни сундуков, крошечных ящичков из драгоценных пород дерева и корзин, полных яств, всю ночь опускали в недра земли ближайшие сподвижники кагана.
Когда же забрезжил рассвет, показалась повозка, на которой покоился он сам. О, даже в смерти он был суров. Черты его лица не смогла разгладить Та, что дарует всем упокоение и вечный мир. В руках кагана был зажат эфес его бесценной сабли, а вдоль тела лежали колчан, полный стрел, и копье, увенчанное конским хвостом – символом тумена, который он сам возглавлял долгие годы.
Синдбад видел и повозку, и тело вождя. Да, ему не дано было почувствовать ту боль, что жила в душе сподвижников хана. Но поневоле, опуская взгляд к комьям земли под ногами скакуна, он поднимал глаза, полные слез. Смотрел и не мог позволить себе быть сейчас всего лишь печальным. Он чувствовал, что должен был быть таким, как каган – великий Цынгис, чье тело вместе с бесценным ложем опустили в глубины земли вслед за утварью и мехами, казной и коврами, яствами и оружием.
Горы отразили хриплое пение сотен труб и хриплый плач тысяч сильных мужчин, позволивших себе всего миг слабости.
Вновь в наступившей тишине замелькали лопаты. И вскоре на месте котлована стал расти холм. Скудная горная земля пылила, серые комья укрывали собой создателя «Ясы» и Орды, и вскоре остались лишь неаккуратная гора и они – последняя стража и последний караул у могилы великого воина и кагана.
Под все усиливающимся жаром небес те, кто лишь миг назад укрывали своего правителя последним покрывалом, отбросили кирки и лопаты и стали взбираться по только что насыпанному холму. Под их тяжестью земля оседала, все плотнее ложась на властителя, который своей волей избрал себе столь необыкновенный способ упокоения.
Пеший тумен трижды прошел по насыпи от одного склона гор до другого. Теперь холм стал куда ниже, но по-прежнему был отчетливо виден.
В горном воздухе, сером от поднявшейся пыли, зазвучала новая команда, и на помощь первому тумену пришел второй. Теперь воины стояли почти вплотную друг к другу. Они почти не двигались, но насыпь под тяжестью их тел едва заметно проседала.
Вскоре должна была дойти очередь и до конников, до этого мига стоявших последней, почетной стражей. Но не сейчас.
Ибо в тот миг, когда крошечное облачко на миг затмило пылающее светило, по месту, которое только что покинули пешие тумены, лавой пронесся тысячный табун лошадей. Крики погонщиков слились в один, и тогда табун пронесся обратно, почти сровняв с землей насыпь. Пыль поднялась до самых вершин, и тогда всадники, и Синдбад среди них, натянули на лицо тонкие шелковые платки, дабы защитить дыхание. Хрипящим от возбуждения коням тоже приходилось несладко, но в этот черный миг о них думали менее всего.
И вот пришел черед его сотни. Жар иссушил их глотки, горе заперло слезы в душах, но честь, оказанная ему и еще десятку сотен лучших воинов кагана, выпрямила их спины и заставила сверкать глаза под широкими кожаными налобниками.
Десятник всего в шаге поднял руку, и все вокруг затихло. Казалось, затих даже ветерок, до сих пор несмело трогавший хвосты на церемониальных копьях. Синдбад почувствовал, как напряглось за миг до скачки его тело, как в ожидании команды застыли в ожидании тела его новых друзей. И миг настал!
Повинуясь неслышной команде его шпор, бросился вперед конь. И следом за ним по насыпи загрохотали копыта коней его сотни.
Хриплые человеческие крики слились в один громовой крик, к которому почти сразу присоединился храп сотни коней. Боевые скакуны преодолели расстояние до противоположной стены почти мгновенно. Но не остановились, ибо всадники повернули их обратно.
Трижды пронеслась конная лава по месту, что еще утром было пустым котлованом, а позже стало могилой великого кагана. Но сделана была лишь половина дела. Ибо серая земля, дважды перемещенная с того места, где пролежала многие сотни лет, выдавала и место могилы, и ее гигантские размеры.
Вновь зазвучала команда и горы стократно отразили ее. И вновь пешие тумены трижды прошагали от одного края горной котловины до другого.
Теперь указать, где же был котлован, мог только тот, кто присутствовал при его возникновении и исчезновении. Пешим более нечего здесь было делать – и командиры увели их через расщелины в скалах вниз. Туда, откуда брала начало горная тропа.
Серела под копытами лошадей земля, многократно взрытая человеческими и конскими ногами. Через века ей предстояло стать такой же, какой пролежала она столетия до вчерашнего страшного дня, – спекшейся, каменистой, сухой.
И вновь трижды пронеслась конная лава по месту последнего приюта их богоравного кагана. Теперь уже никто не мог бы сказать точно, где заканчивались горы и находился край могилы.
Конники спешились. Каждый из них ступил на эту серую землю, многократно взрытую копытами коней, и преклонил колени. Нет, они не молились. Они прикасались к земле, в последний раз как будто дотрагиваясь до чела и тела великого кагана, забирая с собой частицу его воинского и человеческого гения, мысленно обещая сохранить память о великом человеке и создателе великого Эля.
Прикосновение к земле было успокаивающим. Осталось лишь одно, последнее деяние. Конники отвязали от пояса фляги, наполненные водой горного ручья, и вылили эту воду наземь. Они в последний раз делились водой и пищей со своим повелителем.
Вскоре на сырую землю могилы легли сухие ветки деревьев. В окрестных лесах, наверное, в этот день исчез весь сухостой. И запылал гигантский костер. Нет, он не был погребальным, ибо огонь не пожирал ничьего тела. То был огонь привала, огонь, над которым мог бы закипеть котелок с водой, огонь, который мог бы высушить платье, промокшее под бесконечным горным дождем, огонь, который испокон веку радовал душу и согревал тело усталого путника.
В последний раз делили конники привал со своим повелителем.
Более уже никогда не поведет он их в поход, более не увидят они его сурового лица, не понадеются на его справедливый суд. Но его дух, дух Великого кагана, пребудет с ними до их смертного часа.
Огромный костер горел всю ночь. За пылающей стеной огня растаяли в ночи конные сотни. И наступающий рассвет осветил лишь огромную поляну, сплошь покрытую теплыми еще угольями.
Последние почести владыке были отданы[6].
Свиток двадцать шестой
«Нет, так не найти мне заветной скорлупки… – думал Синдбад, отражая удар за ударом. Долгие годы странствий закалили его еще до того, как попал он в тихую кузню Дахнаша. И потому все эти учения и „игрушечные“ бои считал он делом недостойным, годным лишь для убивания времени. – Так тому и быть… Не стал я некогда корсаром. Не стану и наемным солдатом. Быть может, странствуя в одиночку, быстрее добьюсь я заветной цели…»
Ибо единственной целью его новой службы он считал возможность странствий. Но что толку упражняться в сабельном бое, если ты уже которую неделю не сдвинулся с места? Что толку заводить приятелей среди таких же наемников, если они рады прохудившейся крыше над головой и не мечтают о большем, чем добрая выпивка за счет капитана?
Да, гордые слезы его новых друзей еще помнились ему, но и он, не видевший великого Цынгиса, лишь слышавший о нем, горевал по-настоящему. Теперь же, когда империя Великого кагана дала трещину, поддерживать одну часть приближенных против другой части было… неразумно. Да и к цели не приближало ни на шаг. «Да будет так!» – Синдбад решительно сложил в переметную суму свое имущество, увязал действительно удобную кошму и, ведя коня в поводу, отправился на закат, не слыша окриков охраны.
– Пусть кричат себе, – пожал кузнец плечами, – пусть даже пытаются догнать… Посмотрим, кто в этой драке станет победителем…
Похоже, он уже недурно знал своих новых нанимателей – ибо в погоню за ним и в самом деле никто не торопился. Час проходил за часом, вот полдень сменился сумерками, вот наступила ночь… Синдбад был все так же на тракте один.
– Однако недурно было бы найти постоялый двор… Я голоден, устал мой конь…
Вокруг простиралась бесконечная степь. Изредка темнели деревья, которым повезло найти глубоко в земле живительную влагу.
– Похоже, придется укладываться спать прямо посреди дороги, – пробормотал Синдбад.
Он снял с седла скатанную кошму и примеривался, где бы поуютнее ее расстелить. И тут боковым зрением заметил мелькнувший огонек.
– Полагаю, мне все-таки повезет найти местечко поуютнее двух камней…
– Быть может, и повезет, – ответил из темноты голос. Миг – и показался его обладатель: мужчина, которому можно было бы дать и двадцать, и сорок, и пятьдесят лет, тащил охапку сухостоя. – Ну, помогай же, что застыл!
Все еще не придя в себя от удивления, Синдбад подхватил с земли сучья и поспешил следом за незнакомцем.
– Да ты, сдается, путешественник неопытный, – проговорил незнакомец.
– Скорее забывший о том, что значит странствие в одиночку… Я Синдбад, ловец зверей.
– Зверей? Ну что ж, пусть так. Я Матюрен Кербушар, сын пирата. Присаживайся, юный охотник.
Синдбад с удовольствием принял приглашение: как бы скупо оно ни звучало, но угрозы не таило. Напротив, закипающая в котелке вода свидетельствовала о том, что встреченный странник собрался ужинать. И теперь намеревается с ним, совершенно незнакомым человеком, свою трапезу разделить.
– Вот вяленое мясо, Кербушар. А вот лепешки из проса – думаю, лишними они не будут.
– Держу пари на собственного коня, юноша, что они более чем пригодятся!
Вскоре и лепешки и мясо были съедены, даже о кофе не осталось воспоминаний.
– Что ж, Синдбад, ловец зверей. Готов спорить, что ты полюбил охоту на малых сих самое позднее вчера, ибо более всего ты похож на наемника, солдата удачи…
– Ты прав, – усмехнулся Синдбад. – Хотя и наемником-то я стал для того, чтобы отыскать пару редких зверей. Или, правильнее было бы сказать, зверей, которых никто и никогда не видел…
– Вот это уже больше похоже на правду… Искать неведомых зверей – занятие как раз для нас с тобой.
– Поверь, Кербушар, будь моя воля, я бы с места не сдвинулся. Ибо только недавно обрел дом и любимую жену. Но…
Синдбад на миг замолчал – как же не хотелось ему опять рассказывать очередному незнакомцу историю последних нескольких месяцев своей жизни! Как не хотелось вспоминать о том миге, когда тщетность попыток встала перед ним в своей беззастенчивой ясности! Однако откровенность, пусть и частичная, должна стать платой за доверие.
И потому Синдбад, глубоко вздохнув, начал сагу о том, как некогда лишился семьи и родных стен, как бежал из рабства, как пространствовал годы, как добрый мастер-кузнец нанял его в свою кузню, как дочь мастера ответила на его, Синдбада, самые искренние чувства.
Чем дольше говорил бывший кузнец, тем чаще ловил на себе удивленный взгляд своего собеседника. Но до конца повествования так и не решился спросить, что же столь сильно изумило опытного в странствиях (о, сие сомнений не вызывало!) Кербушара в его, Синдбада, простом рассказе.
– Чем больше слушал я тебя, юный кузнец, – заговорил тот, – тем больше поражался схожести наших судеб. Удивлялся и немного завидовал: ибо ты все же обрел свое счастье. Мне же еще предстоит добраться до твердыни, где томится та, что мне всех милей на свете.
И в ночной тиши поведал Кербушар Синдбаду о своей жизни – так, как иногда делаем это все мы перед людьми незнакомыми, зная, что, наверное, никогда больше не встретим их на своем пути. И потому открыв им самые сокровенные тайны.
– Знай же, странник и ловец зверей, что моя судьба необыкновенно походит на твою. Точно так же, как ты, я потерял матушку после набега соседа, жестокого и коварного. Точно так же искал по миру, да и сейчас продолжаю искать своего отца, которого друзья зовут негоциантом и странником, а враги – пиратом и злодеем. Но ищу я свой путь не для того, чтобы когда-нибудь утонуть в отцовских объятиях, о нет. Гонит меня вперед, и тут мы тоже походим как братья, мечта обнять женщину и, если позволит Бог, навсегда удержать ее в своих объятиях.
Теперь уже настал черед Синдбада с удивлением взглянуть в глаза собеседника.
– Некогда в далекой Кордове, светоче подлинной мудрости, встретил я женщину, прекрасней которой нет на всем белом свете. Наша любовь была взаимной. Мы уже считали дни до того мига, когда станем венчанными супругами. Но тут…
Кербушар горестно покачал головой, и Синдбад увидел слезы, кипящие в глазах этого уверенного в себе силача.
– Тут мою любимую похитили. Более того, похитили наемные безумцы, дабы стала она пленницей и игрушкой в руках Хасана ибн Саббаха, Старца Горы, повелителя грозной армии ассасинов. Меня связали и оставили в старой крепости, лишив возможности броситься вслед за прекрасной Софией. И если бы не помощь подруги Софии, Азизы, девушки, которая не побоялась пересудов, которая попрала традиции лишь ради того, чтобы найти меня и освободить, быть может, я бы и сгнил там, на одном из холмов, под руинами обрушившейся башни.
В темноте голос Кербушара словно зажил своей собственной жизнью, и перед Синдбадом раскрылся мир, дотоле им никогда не виденный.
– Я очнулся на закате. Успел удивиться тому, что не связан, что рядом стоит мой конь и что по обе стороны седла по-прежнему висят переметные сумы, полные припасов. Ведь я собирался в долгую дорогу, собирался не один… И, если бы не коварное нападение, уже был бы с возлюбленной недостижим для любых врагов.
Местом моего заточения (как же мне иначе назвать тот приют, где я пришел в себя?) был заброшенный замок на холме, более напоминавший крепость. Я сделал несколько шагов по пустому коридору, пытаясь понять, как же выбраться отсюда.
– Матюрен!..
По коридору ко мне спешила Азиза, ее лицо было перепуганным, волосы в беспорядке, но никогда прежде зрелище испуганной женщины не казалось мне таким отрадным и успокаивающим.
– Я думала, что осталась непонятно где совсем одна…
– Я тоже думал, что вокруг на многие лиги никого. Где мы, Азиза? Ты знаешь, как отсюда выбраться?
Девушка пожала плечами и подняла глаза.
– Мне кажется, мы бывали здесь с твоей… с Софией. Почему-то вид из окон мне знаком. Хотя тогда бы я узнала и саму крепость, но…
– Сможешь ли ты продержаться здесь некоторое время?
– Я должна это сделать.
Мы вышли на стену и сели рядом, глядя сверху на равнину. Далеко-далеко, так далеко, что едва различали глаза, виднелось какое-то движение на большой дороге из Кордовы в Севилью. Редкие пушистые облачка лениво плыли по небу, отбрасывая тени на бурую равнину.
Мы спустились вниз и напились воды из фонтана. К счастью, он оказался обычным фонтанчиком, как в любом другом дворике любого другого замка. Я собрал под деревьями сухие ветки, чтобы сохранить в помещении на случай дождя, и Азиза, хоть и выросла в роскоши, собирала их рядом со мной. Мы расчистили небольшую комнату, в которой решили спать. Но становилось ясно, что продержаться сможем недолго. И потому надо искать не уюта долгой стоянки, а пути к бегству.
Оглядывая развалины, я раздумывал, сколько времени пройдет в поисках, сколько сил понадобится потратить – не столько мне, сколько красавице Азизе, которой никогда не случалось обходиться без привычных удобств, без слуг, являющихся по первому зову. Пока что новизна и необычность положения казались привлекательными, но надолго ли?…
Было и еще одно обстоятельство, о котором думал я и которое обязательно должно прийти в голову и ей. Если нас с ней найдут вместе, то оба будем убиты – по той единственной причине, что мы находились здесь наедине.
Вопросы не оставляли меня. Что сталось с Софией? О чем думают сейчас мои друзья и где они меня ищут?
Больше всего меня беспокоило, что какой-нибудь проходящей мимо шайке разбойников вздумается скоротать здесь ночь. Я прекрасно понимал, что произойдет, если они увидят Азизу. На этот счет у меня не было никаких иллюзий. Одного я могу убить, даже двоих или четверых, но в конце концов они убьют меня, и Азиза останется в руках грубой солдатни, привычной к насилию, к услугам случайных женщин в лагере.
На закате мне удалось подстрелить из лука кролика, и мы устроили небольшую трапезу из жареной крольчатины, нескольких абрикосов и виноградных гроздей, которые смогли найти в заброшенном и полупустом саду. Поев, мы забрались в цитадель и смотрели, как заходит солнце.
Почти в полумиле от замка росло несколько деревьев – местечко, куда вряд ли кто-то забредет по доброй воле, гораздо менее привлекательное, чем другие такие же рощицы неподалеку.
В разные стороны от этого места отходили неглубокие овраги. Там, прикинул я, и имеется, вероятно, выход из туннеля, непременного атрибута любого одинокого здания в этих недоброжелательных местах.
Более того, вход в такой туннель должен находиться в самой цитадели, может быть, в той самой комнате, где мы обосновались. Целый час усердных поисков, однако, не дал результатов.
Мне помогла Азиза.
– Вблизи Палермо, в замке гансграфа, – вспомнила она, – я видела качающийся камень в стенной нише главного зала. Так пытались скрыть вход в потайное место, укрытие.
Ну конечно! Какой же я недоумок, ведь и самому мне случалось видеть качающиеся камни-запоры!
В полуразрушенном зале, всего в шаге отсюда, я заметил такую нишу, невидимую от двери… Маленькая ниша с бойницей, но начиналась прорезь в стене необычно высоко, почти на уровне груди. А ниже – сплошная толща камня высотой в два локтя и шириной в три.
Присев рядом с камнем, я толкнул его верхнюю часть. Ничего не произошло, и я нажал снизу. Опять без толку. Только когда я нажал изо всех сил, теперь упершись спиной слева, – камень сдвинулся. Он был очень неподатлив из-за долгих лет бездействия, но все же двигался.
Глыба поворачивалась на оси из шлифованного камня, уходящей в толщу стены внизу и вверху. За глыбой оказалось отверстие размером едва в полтора локтя шириной, открывавшее доступ на крутую винтовую лестницу. Ступени шириной всего в локоть уходили вниз, в дыру, похожую на колодец. Я едва разглядел четвертую ступеньку, а дальше – полная тьма.
Один неверный шаг – и провалишься… глубоко ли?
Я бросил в колодец небольшой камешек и прислушался. Немало прошло времени, пока снизу долетел глухой звук удара.
Взяв свечу из ниши прямо над лестницей (ох, как же предусмотрителен был последний хозяин этого неприветливого местечка!), я зажег ее.
– Если кто-нибудь появится, закрой отверстие, но оставь небольшую щелочку.
– Я пойду с тобой. – Азиза была бледна и испуганна. – Не хочу оставаться одна.
– Ты должна остаться здесь. Ступенька может сломаться подо мной, или ход обвалится… Дай мне убедиться, что там безопасно.
– Пожалуйста, позволь мне идти! Если ты умрешь, я хочу умереть вместе с тобой!
– Я не умру, но ты пока следи. Если кто-нибудь появится… прячься.
Сказав это, я шагнул в отверстие и, цепляясь за стену, замер, собираясь с духом. О да! Я боялся. В древнем колодце стоял затхлый запах подземелья, куда давно не проникал свежий воздух, и я не был уверен, найду ли внизу выход, или он давно замурован под многолетним действием воды на камень. Можно было только гадать, насколько стар этот ход, ибо он находился в самой древней части крепости. Хотя и сама крепость изнутри выглядела достаточно древней.
Тьма была черная как смола, воздух просто жуткий. Полагалось бы оставить ход открытым на некоторое время, чтобы хоть немного проветрить его. Но выход наружу может нам понадобиться в любую минуту.
Проверяя ступеньку за ступенькой, я медленно пробирался вниз, по кругу, прижимаясь к стенке узкого колодца. Стояла мертвая тишина. В этот темный провал не доносилось ни звука, а свеча моя давала лишь маленький кружок света.
Несколько раз я останавливался передохнуть. Я жалел, что не начал сразу считать ступеньки – тогда хоть знал бы, когда спущусь ниже уровня земли. Колодец проходил внутри стены цитадели, но по мере спуска заметно расширялся.
В одном месте ступенька была наполовину обломана, в другом – камень раскрошился у меня под ногой, и обломки градом посыпались в черную глубину. Спуск этот представлял собой бесконечную череду каменных плит, закрепленных одним концом в стенке колодца по винтовой линии.
Пламя свечи стояло совершенно отвесно, потому что воздух был неподвижен. Не уменьшилось ли пламя? Правда ли, что там, где оно не горит, человек не может жить? Я где-то слышал об этом.
Внезапно я оказался на каменной площадке примерно шесть на шесть локтей и остановился передохнуть. Пот градом катился по телу, а воздух вокруг был спертый и жаркий. Дыхание стало хриплым, но я не знал, от усталости это или от дурного воздуха.
Начав снова спускаться, я вдруг обнаружил, что одна из ступенек сломана! Я осторожно коснулся ее носком ноги, потрогал. Оперся ногой на сломанную ступеньку, осторожно перенес на нее вес тела. Нога стояла твердо…
И вдруг ступенька подалась! Камень раскрошился, и нога резко пошла вниз. Я в страхе схватился за стену. Пальцы нашли трещину и вцепились в нее. Еле-еле удерживаясь, я прилип к стене, боясь даже дохнуть, чувствуя, как дрожит в теле каждая жилка. Лишь немного спустя постиг я весь ужас своего несчастья.
Моя свеча исчезла! Должно быть, когда я схватился за стену, свеча упала, и теперь я оказался в безвыходном положении: висел, вцепившись в трещину стены, в бездонной тьме, не в состоянии ни увидеть что-либо, ни даже шевельнуться. Сюда не доходил свет сверху, а глаза не могут привыкнуть к темноте там, где свет совершенно отсутствует. Я вцепился в стену, дрожа от страха, хрипло, натужно дыша.
Медленно, мало-помалу, ко мне возвратился здравый рассудок. Сколько времени я провисел так, цепляясь за камень, не имею представления; но мне показалось, что, прежде чем я осмелился шевельнуться, прошла целая вечность.
Большой палец одной ноги утвердился в тончайшей трещине, пальцы рук уцепились за вторую. Подо мной лежал этот черный, страшный провал, и тело покрылось холодным потом от страха. Если я попытаюсь поднять ногу, чтобы отыскать еще одну точку опоры, то вторая нога может соскользнуть…
Еще один камень сорвался где-то подо мной и падал долго-долго… Я ощутил в себе бесконечную пустоту, в которой страх превратил мои кишки в воду.
Я никогда не любил оставаться взаперти, ненавидел зарешеченные и замкнутые места. Ныли все мускулы, пальцы начали неметь, ход времени ощущался только по нарастающей усталости в мышцах. Может быть, прошло всего несколько минут или даже секунд, но мне они казались вечностью.
Выиграю я или проиграю, мне все равно нужно сделать какое-то усилие, ибо, если по-прежнему висеть так, то я наверняка упаду, а здесь никто не придет мне на помощь.
Где-то подо мной была следующая ступенька. Но что, если она тоже сломана? Что, если в этом и заключается цель, для которой сделаны эти ступени? Дать какому-нибудь обреченному узнику надежду на спасение, позволить ему погрузиться во тьму только для того, чтобы рухнуть в пропасть и найти жалкую смерть на дне?
Осторожно, чтобы не слишком напрягать пальцы, удерживающие меня на стене, я вытянул ногу, пытаясь нащупать новую опору.
Подо мной не было ничего, кроме пустоты. Осторожно продвигая носок ноги вдоль стены, я искал выемку или хотя бы трещину. Пальцы рук болели, а вторая нога, стоявшая на крошечном выступе, неудержимо тряслась. Я не представлял себе, сколько еще смогу висеть на отвесной стене, словно муха.
Ощупывая стену свободной ногой, я во что-то уперся. Препятствие находилось на некотором расстоянии от меня и немного ниже. Я осторожно вытянулся еще дальше и наконец ощутил под ногой твердый камень. Какой-то миг удерживался в таком положении, собирая силы и волю, потом, протянув правую руку, попытался найти, за что схватиться. Опора нашлась – крохотный выступ, торчащий из кладки край неаккуратно пригнанного камня. За него можно было уцепиться лишь кончиками пальцев. Двигаясь с величайшей осторожностью, я перенес вторую руку и вторую ногу – и наконец снова встал на ступень. Однако я оставался в кромешной тьме, и мне нечем было высечь огонь.
Без света я не мог подняться обратно, без света каждое движение сопряжено с риском для жизни, но у меня не было иного выхода, кроме как продолжать спуск. Если я буду отсутствовать слишком долго, Азиза может отправиться меня искать… Я представил ее на этих ступеньках, и мне стало страшно.
Так что остается лишь спускаться до дна на ощупь и надеяться, что все остальные ступеньки на месте. Воздух был спертый, и я обнаружил, что едва могу набрать полные легкие. Нельзя терять время попусту – я слышал, что в старых туннелях и башнях, долго остававшихся закрытыми, люди умирают.
Сколько времени это заняло, не имею понятия. Мне казалось, что я навечно прилип к этой стене, продвигаясь вниз буквально как муха и обливаясь потом. В этом темном колодце я не мог понять, длился ли спуск минуты, часы или дни.
Вдруг я нащупал ногой землю, но, шагнув, почувствовал, как под ногами что-то сломалось. Присел на корточки – и пальцы нащупали гладкую поверхность черепа и несколько сломанных костей. Неподалеку лежал еще один череп – пальцы попали в глазные орбиты. Я отдернул руку… Какой-то бедняга, вроде меня, пытался отыскать выход… и нашел здесь свою смерть.
Я был подавлен, удручен, меня словно что-то толкало в грудь. Руки мои шарили по стене. Выхода не было.
Еще дважды под ногами что-то хрустнуло, видимо, сломанные кости, но пальцы мои, обшаривая стену, не находили никакой трещины – всюду они натыкались на сплошной, не тронутый временем камень.
Я присел на корточки и начал вторично обследовать основание башни, пытаясь на этот раз внизу отыскать хоть какой-то намек на отверстие. Но не находил ничего.
Сама мысль о том, чтобы карабкаться наверх, вновь выдержать этот кошмар, была невыносима… У меня опустились веки, мышцы ослабли, и я сел. Разум предупреждал, что этот дурной воздух убивает меня. Скоро он отберет у меня сознание, и я свалюсь на пол, чтобы умереть, как умерли другие.
А Азиза? Она останется одна, в ожидании. Там, в золотистом солнечном свете, будет ждать неудачника, который не смог возвратиться.
Земля, думал я, земляной пол…
Может быть, копать? Но куда? В каком направлении? Назад, в глубину холма, или в сторону от него? И насколько глубоко под землю уходит фундамент?
С усилием, словно пьяный, я заставлял свой разум рассмотреть задачу. Моя воля к жизни боролась с затхлым воздухом и заманчивым желанием погрузиться в вечный покой. Я заставил себя еще раз обойти стену кругом. В самом худшем случае я смогу… по крайней мере, попробую взобраться обратно наверх. Чем ближе поднимусь к открытому входу, тем свежее станет воздух. Я не мог, я не хотел сдаваться!
Вдруг пальцы наткнулись на ступеньки. Я нащупал самую нижнюю и сел.
Думать… Надо думать. Разум неловко вертел эту мысль на все лады. Если выход есть, мой разум должен найти его. В голове у меня тяжело молотило, а я пытался напрячь мысли, чтобы решить задачу. Уперев локти в колени, я обхватил руками раскалывающуюся от боли голову…
И вдруг почувствовал, что у меня замерзает нога. Замерзает… холодно, потому что я весь мокрый. Но мне только что было жарко. Я обливался потом – так отчего же моей ноге мерзнуть?
Воздух! Это может быть только воздух! Прохладный, свежий, чудесный воздух! Я упал на колени, мои пальцы разрывали землю под стеной, отыскивая животворный глоток воздуха, отыскивая отверстие. Но не нашли ничего, кроме холодного камня.
Никакого отверстия… ничего!
И все же воздух был, струйка воздуха. Что-то я сделал, какое-то непроизвольное движение, где-то прижался телом, когда обследовал стену… может быть, это действие моего веса на нижнюю ступеньку… Распластавшись ничком, я поймал ртом холодную струйку воздуха и глубоко вдохнул.
Еще и еще… Мало-помалу я стал оживать. Вернулась энергия, прояснился разум.
В висках еще стучало, но теперь я мог думать, отупение прошло. Я впился пальцами в трещину и потянул. Ничего не произошло. Навалился всем телом на нижнюю ступеньку – опять ничего. Давил на стену, прощупывал каждый камень по отдельности. Без толку.
Потом… я едва поверил. Послышался звук, еле уловимый звук движения. За все это время, которое измерялось, наверное, многими часами, – первый звук, не считая моего собственного дыхания. И еще… звук был такой, словно кто-то скреб по камню!
Прижавшись ртом к отверстию, я спросил:
– Есть здесь кто-нибудь?
Мне ответил тихий возглас:
– Матюрен! Ты жив?
– У меня нет света. Потерял свечу на лестнице… Ты можешь найти дверь?
На несколько минут воцарилась тишина, потом я услышал снаружи слабый шорох. Азиза что-то делала, только нельзя было понять, что. Вдруг она снова заговорила:
– Здесь есть рычаг, в точности как тот, другой! Только он очень высоко, мне не дотянуться!
– Постучи камнем по стене! Покажи мне, где он!
Послышался неистовый стук. Действительно высоко, даже для меня. Очевидно, какая-то ступенька или площадка обвалилась или ушла в землю. Я едва мог дотянуться до этого места, даже встав на цыпочки.
Ничего не видя в темноте, я попытался представить себе положение рычага; потом прыгнул вверх, во тьму, с надеждой поймать что-то невидимое…
И ухватился за рычаг обеими руками!
Под тяжестью моего тела он подался вниз, и часть стены медленно отодвинулась. В колодец ворвался прохладный, свежий воздух…
Щель была слишком узка, и я не мог выбраться, но рука моя протиснулась в нее и встретилась с рукой Азизы. Какое-то время мы просто держались друг за друга.
Потом вернулся рассудок.
– Это низ двери уперся, – предположил я. – Ты не могла бы подкопаться, отбросить землю в сторону?…
Опустившись на колени, она отчаянно рыла, задыхаясь от напряжения. Я снова навалился на дверь и в этот раз сдвинул ее достаточно для того, чтобы вылезти наружу. Азиза ухватилась за меня, и на миг мы вцепились друг в друга, словно утопающие.
Прошло много времени, прежде чем я смог оторваться от девушки и закрыл дверь, навалившись плечом. Выход был просто трещиной в скале, хитроумно использованной и замаскированной кустами и корнями. Сам рычаг был утоплен в ней, и даже сейчас мне пришлось внимательно присмотреться, чтобы найти его. Я осторожно привел в порядок потревоженные нами виноградные лозы, мох и листья.
– Но как же ты отыскала это место?
Мы были в рощице – той самой, которую я рассматривал как возможное место выхода.
– Я заметила, как ты смотрел сюда, а мне пришлось жить в нескольких замках, не только в том, что в Палермо. И такие места везде используют. Оттуда, сверху, где мы прятались, не было видно, что часть рощи подходит прямо под стену; ты смотрел на более отдаленный участок. На каком-то протяжении деревьев нет, но дальше они опять стоят густой порослью… Тебя не было так долго, что я перепугалась. Начала спускаться по лестнице за тобой следом. Звала, звала, но ответа все не было, и я вернулась назад, пока не сошла слишком далеко. Я боялась, что ты придешь и увидишь, что меня нет… А потом, на следующее утро…
– Что-о?!
– Ох, Матюрен! Разве ты не знал? Ты провел там, внизу, два дня и ночь!
Там, внизу, во тьме, как можно было это узнать? Сколько я просидел на ступеньке в темноте? Может быть, я спал? Сколько времени я провел на лестнице, нащупывая путь вниз, иногда с долгими перерывами, когда ногами или руками отыскивал очередную опору?
Теперь голод убедил меня, что она говорит правду; голод, о котором я совершенно забыл, замирая от ужаса, что мне суждено умереть там, во мраке, как умерли другие, чьи кости с хрустом ломались у меня под ногами…
Крепость была такой же, какой мы ее оставили. Я стянул рубашку, подошел к фонтану и смыл с себя пыль и пот. Снова одевшись, отдыхал, пока Азиза не принесла мне поесть, а потом уснул.
Прошло много времени, пока я пробудился. Утро еще не наступило, хотя небо, кажется, уже посветлело. Я лежал тихо, глядя вверх и раздумывая о нашем положении. У нас почти кончилась еда, мы больше не могли оставаться здесь.
Единственным выходом, по-видимому, было уйти отсюда, но у нас всего одна лошадь. Нет ни гроша, лишь врагов в изобилии. Да и силы меня почти оставили – нелепое это странствие по каменным внутренностям цитадели оказалось совершенно напрасным.
И тогда мы расстались. Азиза почти вытолкала меня из заброшенной крепости и указала путь на восход, к Вратам, через которые можно было бежать без риска, что преследователи найдут твой след.
Сама же она осталась там, на холмах Андалусии, и я не знаю, смогла ли она вернуться в Толедо. Или путь ее пересекся с какой-то бандой… Что ж, тогда она пожертвовала собой ради того, чтобы я оставался жить. Чтобы нашел ту, ради которой отправился в бесконечный путь.
Свиток двадцать седьмой
Синдбад слушал рассказ Кербушара так, как малыши слушают волшебную сказку. Слушал и поражался, сколь сильна воля этого человека и сколь решительно идет он к своей цели.
Почти догорел костер, и теперь редкие красноватые блики падали на лица собеседников. Завтра поутру их пути должны были вновь разойтись. И от этого души обоих, столь похожих и столь разных мужчин, одинаково ныли. Быть может, поэтому решился Синдбад задать Кербушару вопрос.
– Быть может, ты мне сможешь что-то посоветовать? Быть может, тебе известно место, где следует искать птицу, о которой говорят лишь легенды, птицу, скорлупа яйца которой может стать той самой «колыбелью жизни»?
– Увы, брат мой, об этом я не знаю ничего. Могу сказать лишь, что твое решение стать наемным солдатом было более чем разумным. Хотя и решение удрать из-за нелепой муштры я тоже не могу назвать проявлением глупости. Полагаю, что следует искать владыку, который солдат держит для защиты своей страны, а не для завоевания страны чужой.
– Думаю, – горько усмехнулся Синдбад, который насмотрелся в своей жизни и владык, и повелителей, – что не родился еще на свет такой царь… Думаю, что и шейха такого не сыскать, равно как и короля…
– Быть может, вчера бы я с тобой согласился. Но вот сегодня могу и поспорить. Есть страна, которая не воюет, ибо сильна, есть владыка, который не мечтает расширить границы, а лишь хочет защитить свою землю… Его я встретил всего несколько дней назад.
– Наверное, повстречал ты, о Кербушар, сказочного принца, ибо никакому настоящему правителю не придет в голову быть столь… некровожадным, столь спокойным и независтливым.
– Такой правитель есть, повторяю тебе, упрямец! Это принц Гарун. Вскоре он примет регалии наследника и станет тем самым властелином, которого ты полагаешь принцем из сказки. Отправляйся к нему на службу. Не думаю, что она будет легкой, однако уверен, что это будет служба, достойная настоящего воина. Принц сам звал меня к нему в гвардию, но я отказался: мой долг – найти Софию. Потом же, когда мои поиски увенчаются успехом…
– Если увенчаются, уважаемый, хотел ты сказать?
– Нет, друг мой, когда я обрету любимую, я и сам напомню Гаруну о предложении, которое отклонил до времени.
– Ты столь уверен в себе и своем будущем, Кербушар?
– Уверен, и уверенность движет мной и уберегает от глупых поступков и коварных врагов. Чего бы я стоил, если бы боялся каждого шороха в темноте?…
Синдбад был вынужден в душе согласиться с каждым словом своего собеседника, ибо лишь уверенность в своих силах и цель, которую сам поставил перед собой, не дают сломаться и стать просто игрушкой в руках жестокой судьбы.
– Тебе же, Синдбад, следует задуматься о том, что ждет тебя впереди. Раньше или позже ты обретешь то, что ищешь. И вот тогда остановись, пусть всего на миг, и подумай: а хочется ли тебе оживлять ту, с которой тебя обручил Аллах великий. Или пусть она остается твоей мечтой, а ты в жизни будешь делать то, что сам считаешь нужным.
– Но тогда она будет спать вечно?!
– Передай эту несчастную скорлупку родителям, – пожал плечами Кербушар, – и отправляйся восвояси. Ибо твоя ли это цель – тихий дом, любящая супруга, орава ребятишек? Тебе придется задуматься об этом, дабы не винить потом ни в чем не повинную девушку или ее достойных родителей.
– Но и тебе, позволю заметить, тоже придется задуматься об этом.
– О да, Синдбад-охотник. Я в свое время задумался, для чего мечтаю найти Старца Горы и хочу ли в самом деле вытащить из его цепких лап свою любимую. Я стократно рисовал перед собой картины своего успеха и стократно поражался тому, что никакой радости от мига соединения со своей прекрасной не испытываю…
– Нет? Ты не радовался даже в своих мечтаниях? Отчего?
– Оттого, юноша, что, после того как я воссоединюсь с Софией, нам предстоит где-то обрести свой дом, наконец соединить свои жизни, найти источник пропитания, защититься от врагов и… Да еще тысячи тысяч задач, сейчас просто смехотворных, предстоит в этом случае решать.
– Так ты отказался от своих поисков?
– О нет, ведь кроме радости взаимного обладания мною движет еще и обещание. Ибо она, моя София, слышала, как я поклялся вновь сделать ее свободной. И потому, даже предвидя грядущие невзгоды, я продолжаю свой путь…
Наступил рассвет и безжалостно пробудил обоих путников. Пути их расходились. И сейчас, в ярком свете утра, они смогли лишь соединить ладони в крепком рукопожатии – ибо самые главные слова смогли сказать друг другу ночью.
Синдбад, как и советовал ему Кербушар, отправился в Багдад. Ему улыбнулась удача. Такой дюжий юноша не мог не попасть в охрану дворца халифа. Скрестив алебарды вместе с еще одним гигантом-охранником, наблюдал он за тем, как принц Гарун становится наследником Гаруном.
Потекли дни новой муштры. Но сейчас в ней Синдбад чувствовал и внутреннюю логику – его учили оборонять, а не нападать, что полностью совпадало с мирным нравом бывшего кузнеца. Быть может, жизнь показалась бы Синдбаду вошедшей в новую колею, быть может, он бы опять начал посматривать за порог, ибо череда дней не делала его ни на шаг ближе к цели. Но новый поворот колеса Фортуны указал Синдбаду, что он на своем месте и что не следует делать опрометчивых шагов.
Как-то на закате увидел Синдбад мчащегося во весь опор всадника, который буквально влетел на площадь перед дворцом. Серебряная байза мелькнула в его зажатом кулаке, и гонца, не медля ни секунды, провели к халифу, уже халифу Гаруну.
– Должно быть, скверные новости с границы, – пробурчал Исмет, стоящий по другую сторону дверей в главный зал церемоний.
– Отчего ты так думаешь?
– Ты у нас совсем недавно. А потому тебе дозволено не видеть ответов. Мы войн не ведем, верно?
– Да, это я знаю.
– Однако наши соседи, особенно восходные, завистливы и необыкновенно кровожадны. Городок, что лежит всего в пяти фарсахах от границы, они отчего-то считают своей исторической территорией. И упорно пытаются его отвоевать, хотя сами жители этого городка уже не раз выступали на свою защиту. Теперь, похоже, им понадобилась помощь армии – серебряная байза в руке гонца говорит об этом яснее ясного.
– Так что, быть войне?
Исмет усмехнулся.
– Ну нет, этим невежественным поедателям мышей не выстоять против нас и дня. Думаю, две фаланги отборных войск выдвинутся сегодня в ночь на восход, дабы завтра на рассвете принять бой. Так бывало уже пару раз… После этого варвары стихали, хоть и ненадолго.
Слова Исмета исполнились в точности. Не прошло и часа, как вся стража была снята со своих постов: ведь именно дворцовая стража была самой надежной и самой неуязвимой частью немалого войска халифа.
Вместе со всеми проверял снаряжение и Синдбад-воин. Не ведая, что ему предстоит, он надеялся лишь на то, что судьба поможет остаться в живых и показать себя, дабы поиски его хоть когда-нибудь, пусть и в далеком будущем, но все же увенчались успехом.
На закате войско, как и предвидел Исмет, выдвинулось к границе. Переход закончился задолго до рассвета. А вместе с рассветом началась и битва, первая в жизни Синдбада, но, как оказалось, решающая в его судьбе.
Взошло солнце, и варвары пошли. Будто со стороны наблюдал за всем происходящим Синдбад. То было пышное зрелище воинственной красоты в тишине утра: нападающие заставляли коней вытанцовывать мелкими шагами среди острых, как кинжалы, кольев, лавируя и меняя направление, словно на каких-то странных воинских учениях или под неслышную музыку. Войско халифа позволило им подойти.
Сотня лучников притаилась за завалом; сотня пращников растворилась среди них, а позади, за второй линией обороны, ждала своего часа в резерве сотня конников. На валу пристально следили за полем копейщики и мечники, самые крепкие бойцы вооружились остро заточенными топорами. Синдбад чувствовал, что среди войска страха не было, было лишь ожидание. Миг – и взметнулась вспышкой атака, кони внезапно набрали скорость, и противник бросился на баррикаду.
– Пора! – крикнул наместник, похожий на поседевшего в боях воина, и его поднятая рука опустилась.
И тогда как один встали лучники и выпустили стрелы в кишащую массу. Они стреляли во всадников, ведь ни один человек без необходимости не убивает лошадь.
– Давай! – прозвучала вторая команда, и поднялись пращники и метнули свои камни, а больше команд уже не требовалось – каждый сам знал, что делать.
Синдбад видел, как вокруг падали люди, мчались лошади, летели стрелы и камни, гремел над валом стук и лязг оружия. Заржала визгливо лошадь, пролетел по воздуху человек и напоролся на кол, словно жук на булавку: руки и ноги дергались, пытаясь отогнать смерть, которая пришла слишком быстро.
Темнолицый всадник бросил прыжком своего коня на вал и приземлился рядом с Синдбадом – тот наотмашь рубанул его по лицу клинком и почувствовал, как лезвие прошло сквозь переносицу, и человек этот рванулся вперед с кинжалом в руке. Отступив на шаг, Синдбад пронзил его.
Тут же его одежду пробила стрела, а потом все отдельные события слились воедино, и остались только страшные крики боя, хрип умирающих, лязг клинка о клинок и свист стрел, похожий на свист бича.
Они все шли и шли, и не было передышки. Воины халифа бились и бились. Клинок Синдбада скрещивался с дюжиной других клинков. Рядом свистели стрелы, одна воткнулась ему в бок, но не пробила кожаный нагрудник. Синдбад вырвал ее и продолжал биться, не замечая ничего.
Они нападали, отходили, потом снова нападали. Самые неистовые прорывались в круг воинов халифа – и умирали здесь. Многие пали у вала. Защитники отбрасывали их и посылали вдогонку стрелы, метали камни и греческий огонь, но варвары возвращались снова. Они дрались, как рычащие псы, и умирали с оскаленными зубами, и их клинки все еще двигались в страшных сокращениях мышц, управляемых уже умершим мозгом.
На Синдбада бросился с мечом человек:
– Йол болсун!
– Вот твоя дорога! – крикнул юноша, вогнав ему в грудь целый локоть булата, и глаза врага вспыхнули отчаянием. Он попытался нанести укол, взяв на себя меч, но Синдбад оттолкнул его.
Через миг его сбила лошадь, вспрыгнувшая на баррикаду, он упал на колени и мельком заметил, как один из воинов, невысокий, но умелый, словно акробат, взлетев в воздух, вскочил верхом на плечи всаднику, и они, кренясь набок, помчались через поле – всадник на лошади, а воин халифа сверху на всаднике; вцепившись ему в волосы, он осыпал его ударами клинка.
Исмет умер на глазах Синдбада, перед смертью убив варвара, который нанес ему огромную рану. Пал Ахмет, захлебываясь собственной кровью. Назир, угрюмый и страшный, отступил и дрался рядом с Синдбадом, и вдвоем они сбросили с завалов добрую дюжину всадников.
А потом атака захлебнулась, и все кончилось… до поры до времени.
Свиток двадцать восьмой
Кое-кто сел, где стоял, некоторые пошли за водой. Наконец появилась возможность перевязать раны. Синдбад взялся помогать самым тяжелым раненым.
Воины халифа потеряли убитыми дюжину, вдвое больше было раненых, погибло несколько лошадей.
Когда выдалась передышка, Синдбад склонился на баррикаду и положил голову на руки. Люди халифа убили многих, но они дорого отдавали свои жизни, и воины понимали: все, что уже успело произойти – всего лишь первая схватка, которая нанесла весьма малый ущерб, а потери варваров вчетверо превосходили потери халифа.
Над местом недавней схватки кружил степной орел. Видно, у него гнездо было где-то в зарослях.
Донесся голос наместника:
– Будьте готовы, дети мои. Они идут!
На этот раз степняки пришли со своими арканами, о которых люди халифа столько слышали, и с крюками на длинных шестах и выдернули часть заостренных кольев – самые дальние, за пределом полета стрел.
Сами они посылали стрелы из коротких, очень тугих луков, натягивать которые приходилось вдвоем, но стражники пригибались пониже – и ждали.
Внезапно варвары бросились в атаку, но теперь не в лоб, а наискось, ударили туда, где вал примыкал к лесу. Они думали отыскать там слабое место, и некоторые попытались даже прорваться через лес, но либо были остановлены скрытыми завалами, либо попали в ловушки и были убиты воинами халифа.
Вторая половина дня тянулась долго, и стражи дремали у баррикады, наслаждаясь солнечным теплом. До заката случилась еще одна атака, воины халифа потеряли еще двоих убитыми, а раненых было с дюжину.
Давно уже стемнело, когда Синдбад смог наконец подойти к костру и присесть. Для него нашлось немного подогретого вина, и вкус его был приятен. Он медленно выпил – и почти сразу заснул, но спал недолго.
Тьма лежала над лагерем, воины халифа слышали в ночи птичьи крики, а по временам какие-то шорохи в зарослях. Ни у кого не было охоты говорить. Всем хотелось только отдыха, ибо завтра, все чувствовали это, предстояло вынести новые тяжелые атаки. Лучники ходили вокруг, собирали стрелы, упавшие внутри баррикады.
– Аллах всесильный, – простонал рядом с Синдбадом Мехмет, уроженец здешних мест. – Но что будет, если варвары смогут пробиться через заводь, тем более что вода стоит чересчур низко… Они же увидят, как нас мало и насколько скудно защищен город!..
Варвары появились с первым светом: теперь это не был тот безумный натиск, который буквально сметал с лица земли многочисленных врагов. Теперь они были осторожны, избегали укреплений, и воины халифа встретили их на валу, зная, что эта встреча может оказаться последней.
На этот раз Синдбад тоже вооружился луком. Его первая стрела поразила врага в горло за сто пятьдесят локтей. Еще два раза он попал и один раз промахнулся, прежде чем варвары достигли вала.
Стража халифа встретила их у завалов с мечами в руках, и сеча разгорелась отчаянная. Потом где-то сзади поднялся крик, и, оглянувшись, Синдбад увидел, что варвары бросились на конях вплавь, чтобы захватить городок с тыла. Некоторым удалось даже найти брод.
Тогда воины халифа отступили, с боем отдавая каждый локоть пути. Падали люди, поднимались на дыбы и шарахались кони; крики боли, возгласы ярости… сплошное безумие. За спиной гремел походный барабан, отзывая обороняющихся назад.
На Синдбада насел варвар, размахивая фолшоном – одним из тех кривых мечей с широким лезвием, которые рассекают кость, будто сыр. Юноша отразил его удар, сделал выпад и парировал снова. Тот сделал ответный выпад, и бывшего кузнеца спасло только то, что под ногой у него покатился камень. Он упал, и тот самый страшный колющий удар снизу, который поразил Исмета, не смог нанести Синдбаду никакого вреда.
Поднявшись, он присоединился к общему отступлению внутрь островка обороны. Неприятель вновь и вновь атаковал, кружась с криками вокруг фортов, но стены из земли и плетней держались прочно, и воины халифа отбивали штурм за штурмом.
Синдбад опять схватил лук и, заняв место на стене, выпускал стрелу за стрелой в налетающих всадников. Обороняющиеся еще дважды отбросили врагов. Тела мертвецов устилали землю.
Сколько же было убитых? Сколько людей погибло в этих свирепых атаках?
В шлем Синдбада попала стрела, и он зазвенел от страшного удара. Оглушенный, он зашатался и на миг отступил. Однако булатная сталь была не какая-нибудь деревенская поделка, а лучший металл, выплавленный искуснейшим мастером, и она спасла ему жизнь – в который уж раз. Рана в боку снова открылась и кровоточила. Переносицу задело камнем, и от этого глаза Синдбада заплыли и едва открывались.
Атака захлебнулась, и враг отступил, разрушив при этом часть городской стены. Теперь он будет готовиться к заключительному штурму, который покончит с городом и с каждым, кто еще жив в нем.
И тут Синдбад вспомнил… О нет, не свою далекую любовь, ибо такому воспоминанию не может быть места в сече. Он вспомнил, как опрокинул когда-то чашу с маслом, в которой закалял клинки, как искры упали в это масло и как огонь едва не сожрал кузню.
– Масло! Выливай в воду масло! Факелы! Хватайте!
Воины халифа, привыкшие повиноваться, стали послушно выливать масло из чадящих плошек в протоки. Тонкая радужная пленка распространилась почти во всему зеркалу воды. И тут Синдбад опустил огонь вниз… Миг – и вокруг заплясали языки пламени, едва видимые в свете дня.
Страшный жар мгновенно отрезвил варваров – их лошади, храпя, понесли всадников прочь от огненной стены. А вслед за ними побежали и те, кто еще стоял на ногах.
Наступила звенящая тишина, какой негде было взяться на поле боя.
– И все? – с некоторым недоумением спросил наместник.
Он наконец снял шлем, полуседые волосы, слипшиеся от пота, рассыпались по плечам.
– Этим недоумкам достало огня от одного факела? Аллах всесильный, и этих бешеных собак мы считали своими врагами? Им хватило лишь плошки масла!..
Хохот наместника грозил перерасти в истерику. Но все вокруг молчали – враг оказался не умнее дикого пса. Да и был ли то настоящий враг?
Оставив караульных на стене и баррикадах, наместник увел всех вниз – за городскую стену, к мирным улицам, притихшим в ожидании исхода.
Свиток двадцать девятый
Город торжествовал. Хотя, быть может, куда мудрее было бы назвать его городком. Однако приграничное положение и гордый нрав его обитателей не позволяли столь невысоко оценить это гостеприимное место.
Воинов халифа разместили с почестями, о которых не может мечтать и иной посланник. Лекари поспешили к раненым и увечным, сговорчивые девы были не прочь развеять тоску солдат. Вечером ожидалась пышная церемония чествования – и не знали об этом лишь те, кого собирались чествовать благодарные и щедрые горожане.
Наставшее утро, казалось, тоже готово к празднику. Воины, которым было приказано собраться на главной площади, с удивлением наблюдали, как расцвели ее камни и стены. Поистине царская пышность царила вокруг.
Ночной дождь освежил воздух, пение птиц наполняло мир прозрачными серебряными трелями, в свете солнца сверкали шелковые ковры, устилающие парадную лестницу, сияли бесценные украшения горожан, заполнивших площадь и оставивших пустым лишь пятачок. Именно сюда и вытолкнули недоумевающих воинов халифа. Хотя разумнее было бы сказать, что их сюда проводили.
Все замерло, словно остановленное рукой могущественного волшебника. Лишь ветерок шевелил штандарты провинции и плавно покачивал в воздухе главный воинский штандарт халифа – вексиллиум со вставшим на задние лапы львом. Миг – и все пришло в движение. Заревели зурны, зарокотали барабаны. По изумрудно-зеленому ковру спускался наместник. Сейчас он ничем не напоминал вчерашнего измотанного воина, о нет! Настоящий властитель, доверенное лицо самого повелителя – вот кто сейчас с удовольствием рассматривал стражу халифа, защитников свободы его небольшого, но гордого владения.
– Воины! Не мне, смиренному слуге моего великого города, командовать вами. Однако я бы счел это за честь. Не мне и вести вас в бой, однако сражаться бок о бок с вами было для меня подлинной наградой. Мне дозволено поблагодарить вас за ту поистине львиную смелость, которую проявили вы в сем сражении. И именно мне дозволено вознаградить каждого из вас так, как считает это уместным наш прекрасный город.
О, награда всегда уместна и всегда почетна! Гордо выпрямился Фархад, отважный и меткий стрелок, улыбался во весь рот Мехмет, который лучше многих знал, что считает уместным его родной город. Да и Синдбад чувствовал, как поет его душа – ибо он смог хоть в чем-то помочь своим отчаянным друзьям и именно его сообразительность, возможно, сберегла жизнь кого-то из них.
– Каждого из тех, кто защитил нас от натиска варварских орд, ждет немалая награда. Однако мы выразим нашу радость и нашу благодарность не только звонким золотом: один из тех, кто сейчас стоит перед нами, своим разумом сберег и наши жизни, и самое существование нашего любимого города. Выйди вперед, юный воин Синдбад!
Юноша повиновался.
– Твоя сообразительность, мальчик, – проговорил наместник вполголоса, – сберегла жизнь сотням. Так пусть же она ведет по жизни тебя всегда так же, как вела до сего мига…
А потом, уже в полный голос, продолжил:
– Мне дарована честь наградить бесстрашного воина орденом Орла! И да пусть отныне наша благодарность всегда пребудет с этим силачом и храбрецом!
Как изменились лица друзей Синдбада! Ибо орден Орла – высшую награду страны – вручали крайне редко и только за воинские заслуги, сопоставимые с защитой жизни самого халифа.
– Помни, мальчик, ту отчаянную минуту, когда в голову тебе пришла сия светлая мысль. И помни свой запал – он еще не раз послужит тебе.
Синдбад молча кивнул. Следовало, наверное, что-то ответить, но слов не находилось. Да, похоже, ответа от него и не ждали – он, воин, сделал все что мог и без пышных слов.
Изумление, испытанное Синдбадом на главной городской площади, еще долго не отпускало его. Словно не он весело пировал с друзьями тем вечером, не он возвратился во дворец халифа и не он, становясь на стражу у дверей главного зала, поправлял горящий самоцветами орден Орла.
Быть может, какая-то часть его души и ликовала. Но лишь часть. Ибо само существо его жаждало поделиться радостью не с громкогласыми приятелями, а с любимой женой. Которая, увы, именно из-за его нерасторопности до сих пор оставалась недвижима и скована проклятием. Вызванным его же, Синдбада, глупостью.
Именно это воспоминание сковывало Синдбада, именно эта мысль не давала ему уснуть, именно она требовала: «Делай что-то, не медли!..»
Но дни проходили за днями, повторялся ритуал смены караула, как повторялись и сами дни – от восхода до заката.
«Должно быть, – думал уже Синдбад, – это и есть моя судьба. А проклятие было лишь ухмылкой фортуны, отправившей меня сюда, к высоким палисандровым дверям главного церемониального зала…»
Быть может, в чем-то Синдбад и был прав. Но если уж фортуна и решает кому-то улыбаться, то делает сие не единожды.
Ибо в тот же день вечером прослышал Синдбад о том, что готовится поход за чудесами, желание обладать которыми с некоторых пор не дает уснуть самому халифу.
– Это мой шанс, – пробормотал бывший кузнец, вызвав недовольный взгляд разводящего стражи.
«Да, и мне непременно следует им воспользоваться!»
Юноша уже готов был бежать с поста, броситься к ногам халифа и молить его отпустить в этот поход, но сделать этого не успел: тот самый, разводящий стражи, суровый воин, бившийся рядом с Синдбадом у границы, вечером сказал:
– Через два дня великий купец отправится в поход по велению халифа. Ты будешь в числе стражников, коим доверена жизнь этого человека. Будь же таким, как был на стенах форта, не подведи меня…
И уже на корабле, что качался на волнах в гавани, услышал Синдбад-воин имя странника. То был Синдбад-Мореход.
«К добру ли такое совпадение?… Стану ли я на миг ближе к своей заветной цели?…» – раз за разом спрашивал себя Синдбад. Но пока судьба молчала, видимо, время ее ответа еще не наступило.
В тот день черные облака затянули небо, казалось, с самого рассвета. Не прошло и часа, как свежий ветер, гнавший «Невесту бриза», превратился в ураган. Волны теперь не качали, а ломали корабль, заставляя путешественников молить Аллаха всесильного хотя бы о быстрой смерти.
– Земля! Впереди земля! – закричал марсовой. И в этот миг огромная волна, нет, скорее водяная гора, обрушилась на корабль.
Наступивший день неприятно поразил Повелительницу хмурым небом, сильным и холодным ветром. А срывающимся дождем он едва Анаис не оскорбил. И потому привычная долгая прогулка в компании верной Митгард закончилась, так и не начавшись.
– Это будет сильнейшая буря, – пробормотала Повелительница, укутываясь в меха по давней привычке, оставшейся у нее от тех дней, когда она, тогда всего лишь Царица змей, жила среди суетливого людского племени.
– Хорошо, что нас и наших крошек защищают скалы и пещеры!
– Да, моя красавица. Но, думаю, после бури следует быть готовым к новым сюрпризам. Быть может, нам повезет и это будут сюрпризы более приятные, чем давешний пиратский корабль.
Черная буря трепала листву деревьев, но в глубине пещеры царил уютный полумрак и спокойствие. Повелительница давно уже окружила себя уютом, весьма похожим на уют богатых домов. Полы пещер устилали драгоценные ковры, фрукты в вазах и на подносах всегда были свежи и источали дивные ароматы, а одежда, которую предпочитала Анаис, сочетала в себе роскошный бархат и прекрасный шелк, тончайший батист и переливающийся атлас. Одним словом, красавица Царица змей стала прекрасной Повелительницей гигантов. Она не хотела и не меняла ничего в своей жизни.
Однако предчувствие вновь не обмануло ее. Буря унеслась прочь, но в бухточке у островка появился потрепанный корабль. Были целы его мачты, но паруса сорвал свирепый ветер.
– Остался там хоть кто-то живой? – спросила Повелительница на следующее утро, любуясь бухтой.
– Твои подданные слышали человеческие голоса, прекраснейшая. Но никто не пытался оскорбить своими шагами берега твоего острова.
– Как жаль, – в голосе Анаис слышалась легкая досада. – Мне бы вновь хотелось развлечься. Да и твоим малышам новые игрушки пришлись бы по вкусу.
Чудовищная змея молча склонила голову.
Словно в ответ на желания Повелительницы на палубе истрепанного кораблика началась суета. Едва различимые отсюда человечки спустили на воду единственную уцелевшую лодочку и теперь погружались в нее.
– Да их всего пятеро, – с разочарованием в голосе проговорила Анаис.
– Но это не пираты, моя прекрасная госпожа, – отвечала Митгард. – Я вижу еще людей на кораблике. Они настороженно смотрят в сторону берега, а в руках у них не луки и не стрелы.
– Моя добрая подруга, – рассмеялась Анаис, – людишки давно уже изобрели оружие куда более страшное, чем лук или копье. Но от этого они не стали ни более сильными, ни более разумными. Смотри, лодочка пристала к берегу. Сейчас они высадятся… Этих я приму у себя внизу. Пусть твои друзья позаботятся, чтобы они добрались через скалы беспрепятственно. А тут уже вы сможете их изловить и доставить в мою клетку. Я же пока придумаю для них новый урок. Полагаю, он пойдет им на пользу…
Размышления Повелительницы прервал шум – люди бежали по коридору в глубины горы. Между собой они обменивались лишь самыми короткими словами.
– Ага, – проговорила, вставая, Анаис. – Вот и пожаловали мои гости.
Свиток тридцатый
Вот пятеро вбежали в зал и… И словно окаменели: в глубинах островка, населенного чудовищными монстрами, нашлась пещера, устланная коврами, освещенная самоцветами, висящими в воздухе, и напоенная ароматами фруктов. И царила в этой пещере необыкновенной красоты женщина, к тому же разодетая столь пышно, что ей бы могли позавидовать все богачки мира.
– Кто вы, воры, и зачем тревожите мой покой?
Голос этой удивительной женщины наполнил, кажется, всю пещеру, от пола до высокого сводчатого потолка.
– Мы – воины великого халифа Гарун аль-Рашида, непобедимые мамлюки его личной гвардии! – выступил вперед, вероятно, самый решительный из пятерки. – Великий халиф, да хранит его своей милостью Аллах всесильный во веки веков, приказал нам сопровождать прославленного путешественника Синдбада-Морехода в поисках диковин для сокровищницы халифа. Но буря застигла наше суденышко в виду твоего острова и его, Морехода, смыла в океан огромная волна. Мы не хотели тревожить ничьего покоя, просто мы ищем посланника нашего халифа.
Анаис готова была поклясться, что в словах этого воина нет ни слова лжи. Но это было бы столь скучно… Оказывается, как бы ни менялись в далеких странах правители, но диковины они собирали по-прежнему и по-прежнему самый главный посланник куда чаще своих сопровождающих погибал в высоких волнах океана.
– И вы отправились искать этого морехода… Нашли ли вы его, воин?
– О нет, прекрасная незнакомка!
– Зови меня Повелительницей Анаис…
– Нет, Повелительница Анаис, – вновь покачал головой смельчак. – Мы не нашли его. Думаю, мы просто не успели. Ибо нас очень быстро нашли твои, красавица, воины. И они загнали нас сюда так умело и стремительно, что мы не успели увидеть вокруг ничего вовсе.
– Вы не видели диковин моего мира, глупец?
– Нет, – смелый воин покачал головой. – Мы видели лишь берег, усыпанный самоцветным песком, да дорожку через расщелину, которая привела нас к коридору в скалах и потом к твоим ногам.
– И вы не взяли себе ни одного камешка из тех, что лежали под вашими ногами? – В голосе Анаис теперь слышалось не просто удивление, а настоящее изумление.
– О нет, Повелительница. Зачем нам камни?
– Они же стоят целого состояния, безумец! Ты бы стал богаче, чем твой недалекий халиф…
– Быть может, если бы я успел, я бы смог обогатиться. Но, говорю тебе, твое войско нас окружило настолько стремительно, что мы и сообразить ничего не успели…
– Ложь, – устало откинулась Повелительница на подушки. – Ложь от первого до последнего слова. Ты не мог не понять, что под ногами сокровища. А потому должен был бы мгновенно набить камнями все карманы своего платья. Но я не буду вас проверять. Пусть и ваши сокровища, и ваше никчемное оружие останутся при вас. Наказание я придумаю вам всем завтра. А сейчас…
Анаис сделала в воздухе сложный знак, и над головами незваных гостей соткалась из ничего огромная клетка, похожая на птичью, которая медленно накрыла всю пятерку смельчаков.
– Адригард, прошу тебя, позаботься о том, чтобы никто из них не смог сделать и шагу за пределы ловушки.
Старшина храбрецов поневоле вздрогнул, когда вокруг клетки обвилась одна из огромных змей, загнавших их сюда. Толщиной ее тело было по пояс взрослому мужчине, а длина его составляла, должно быть, более сотни локтей. В глазах чудовища незваный пришелец прочитал лишь несгибаемую решимость. И потому не пытался сделать ни единого движения, которое могло бы разозлить такого стража.
Текли неторопливые минуты. Повелительница, казалось, уснула на своем троне. В спокойной неподвижности застыли чудовищные кобры по сторонам престола. Тишина объяла все вокруг.
– Теперь мы здесь погибнем, – прошептал Фархад-стрелок. – И даже наши кости останутся непогребенными…
– Придержи язык, глупец, – ответил ему Синдбад. – Помни, что мы всегда сами хозяева своей жизни. Этой разряженной кукле, быть может, и под силу отобрать у нас жизни, но мы просто обязаны сделать что-то для собственного спасения. Не забывай – где-то неподалеку, быть может, умирает от удара или от укусов подобных созданий Синдбад-Мореход, которого нам следовало беречь как зеницу собственного ока. И мы обязаны найти его и спасти…
– Теперь мы уже ничего не сможем, глупый ты вояка! Нас ждет лишь смерть… И более ничего мы сделать не можем – только дожидаться решения этой скверной твари, которая прячется под человечьим обликом.
– Прежде всего, Фархад, мы должны оставаться теми, кто мы есть – мы гвардия и охрана. Мы будем сопротивляться и биться до последнего.
«Хотя я бы сейчас не отказался ни от палаша, ни от тесака, это правда… Не отказался бы и от умения, о котором говорил когда-то Хасиб-маг… Ни за что не отказался бы…» Однако этих слов мудрый Синдбад-воин не произнес.
– Мы не гвардия, глупец… Мы корм… Может быть, для вон того чудовища… а может быть – для вот этого. – Палец с обкусанным ногтем ткнулся сначала в одну кобру-стража, а потом в другую.
– Прекрати, стрелок! Я приказываю тебе замолчать!
– Ты? Приказываешь? Кто ты такой?… Все мы – лишь одушевленный кусок свежеприготовленного мяса, как и я. И потому я сам решу, что мне теперь делать.
«Ну вот, а я пыталась придумать, как же мне развлечься, – подумала Анаис, слушая эту склоку. – Да они сами все за меня придумают… Мне же остается только выбирать, кто станет первым…»
Синдбад бросил взгляд на своего бывшего товарища и замолчал. Более того, он отвернулся и сел к нему спиной. Так же поступили трое других пленников. Анаис молча удивилась, но ничего не поняла. Зато хорошо понял Фархад-стрелок. Этим простым движением друзья отреклись от него, отказались признавать его членом своей команды и человеком, за которого можно сражаться и нужно отдать жизнь. Теперь стрелок был предоставлен самому себе. И решение сие было неоспоримо.
Анаис села чуть прямее на своем троне и раскрыла глаза. Похоже, она готовилась произнести какие-то слова, но Фархад-стрелок, которому нечего было терять, заговорил первым.
– Позволишь ли ты мне задать вопрос, прекрасная Повелительница?
Анаис лишь молча склонила голову. Она даже не пыталась угадать, чего именно захочет воришка – она это просто знала. «Сейчас он начнет торговаться… Может быть, попытается сбежать на свободу…»
– Скажи мне, удивительная женщина, дозволено ли нам будет выкупить у тебя свободу?
– Выкупить? – Анаис рассмеялась. – У меня?! У женщины, владеющей неисчислимыми богатствами? На что мне ваши несчастные деньги? Или ты хочешь отдать мне за собственную свободу мои собственные камни?
– О нет, – Фархад приосанился. – Ты богата, сказочно и необыкновенно. Но я готов поспорить на половину твоего царства, что ты лишена любви и ласки… Что ты обделена страстью и нежностью, которые может подарить тебе только настоящий мужчина…
– Что ж, ты прав, – усмехнулась своим мыслям Анаис. – Этого я и впрямь лишена.
– Тогда, прекраснейшая, – теперь голос Фархада был сладким и теплым, словно мед, – быть может, я смогу подарить тебе их? Ведь негоже такой красавице оставаться без нежности и ласки…
«Глупый человечек думает, что ему под силу будет подарить мне подлинную страсть… Что ж, пусть попытается…»
«Безумец… Вот что он задумал… Хотя, быть может, это тоже выход. Как то, давнее воспоминание о горящем масле… Но посмотрим, насколько сильной окажется его мужская натура…»
– Ну что ж, стрелок, – проговорила Анаис. – В твоих словах слышна уверенность настоящего мужчины. Я подарю тебе свободу, если ты сможешь наполнить мою ночь любовью и нежностью.
В тот же миг Фархад почувствовал, что вихрь поднял его вверх и опустил уже перед помостом, на котором стоял трон Повелительницы. Он был свободен… Но на одно лишь сладкое мгновение. Ибо вокруг него встал шатер. Стрелок огляделся и увидел столики, уставленные подносами с яствами, источавшими головокружительные ароматы, и кувшинами, которые, без сомнения, могли содержать лишь вино. Увидел Фархад и огромное ложе, устланное роскошными шелками.
– Ну что ж, девчонка, – проговорил вполголоса он. – Я куплю свою свободу… А ты еще когда-нибудь вспомнишь о том, какие уроки смог тебе преподать Фархад-стрелок из рода аль-Захария!
Ни этих слов, ни ответа Повелительницы чудовищ, конечно, не слышали воины, оставшиеся в клетке под надежной стражей огромного змеиного тела. Более того, воины не обменялись ни единым словом – да и что им было говорить, о чем спорить?
Недобрые предчувствия терзали и душу Синдбада-воина. Он прислушивался к каждому звуку, пытаясь догадаться, сколь успешной стала попытка Фархада, меткого стрелка. О нет, сейчас не было места зависти: ибо как можно завидовать человеку, который столь низменным способом, воистину недостойным воина, пытается купить свободу, и лишь для себя самого…
В тиши текли минуты. Но полог шатра, сколь тонким бы ни был его шелк, не пропускал ни единого звука. Или, быть может, усилий Фархада недостало и для того, чтобы хоть один вздох удовольствия вырвался из уст красавицы, владычицы чудовищ.
Так оно и оказалось. Она, Анаис, почувствовала лишь прикосновение страсти. И теперь ощущения тускнели и она вновь становилась холодна. Нет, она вовсе не пыталась сопротивляться, более того, она старалась присоединиться к ощущениям этого человека. Но прикосновения его были столь же наполнены страстью, сколь наполнен медом дырявый кувшин. Он думал лишь о себе. О том, как завоевать свободу. И за это поплатился.
Анаис решительно встала с ложа и одним движением вернула себе платье. Диадема вновь увенчала сложную прическу, а стены шатра растаяли, будто их никогда и не существовало.
Фархад, кусая губы, сидел на полу. Он стал понимать, что проиграл. Ужас приковал его к месту. Ибо каким бы высоким ни было самомнение этого человека, разум все же не покинул его. И он отчетливо представлял себе, какова будет казнь.
– Ну что ж, человечек. Ты сдержал свое слово – попытался выкупить свою свободу. Увы, в твоем кошеле нашлось столь же мало монет, сколько огня в твоих чреслах. Теперь сдержу слово и я.
Растаяли шелка шатра. Нагота Фархада среди мехов огромного ложа открылась взорам каждого в невероятной пещере Повелительницы гигантов.
– Эй, малыши, я жду вас!
Анаис не повысила голоса. Но, повинуясь ее зову, с разных сторон пещеры послышались звуки, способные испугать и самого смелого человека. Фархада же они просто превратили в камень: то было оглушительное шуршание песка под огромными телами. Да, стрелок в последнем своем предположении не ошибся – в зал вползли четыре гигантских твари, вероятно, родившиеся змеями миллионы лет назад. И с тех пор они только росли и набирались сил.
– Вот, мои подданные. Этот человечек не сдержал слова, данного вашей Повелительнице. А потому я отдаю его вам. Думаю, вы примерно накажете наглеца…
Анаис договорила и отвернулась к спутникам Фархада. Она не произнесла ни звука, но ее взор был красноречивее любых слов. Повелительница лишь окинула взглядом лица затихших в ужасе воинов. Убедившись же, что никаких слов не требуется, она безмолвно оседлала свою верную Митгард и покинула пещеру, по-прежнему освещенную самоцветами, что висели на разной высоте и придавали каменным чертогам вид богатого дворца.
Цветное сияние не погасло и на миг. И потому Синдбаду-воину и его спутникам прекрасно было видно, как огромная змея подбросила вверх Фархада-стрелка, было слышно, как с последним своим криком упал он на камни.
– Аллах всесильный и всевидящий, – прошептал рядом старшина мамлюков. – Они играют с ним, словно щенки с игрушкой…
Да, это было именно так: огромные змеи были детенышами Митгард – и они просто играли с новой игрушкой. Не их вина была, что сила их оказалась слишком велика, а игрушка столь хрупка…
Не в состоянии наблюдать все это, Синдбад-воин вновь отвернулся, упершись взглядом в извивы и полосы на теле окружающей клетку чудовищной твари, поставленной охранять их. Но уши закрыть он не мог и потому услышал и последний крик стрелка, когда глупые малыши разрывали на части его тело, услышал и возню змеенышей, весело охотившихся за кусками одеяния Фархада.
Когда же все стихло, Синдбад вновь обернулся, дабы отдать своему глупому соратнику последние почести. И не увидел ровным счетом ничего – ни клочка одежды, ни клочка волос, ни пятна крови. Пещера вновь сияла подобно роскошному дворцу, ее ковры были чисты и упруги, помост высок, а трон блистал в лучах самоцветов, словно освещенный полуденным солнцем.
– Прощай, Фархад-стрелок, глупый, но отважный человек. Пусть Аллах всесильный позаботится о том, чтобы твой дух покоился с миром, – проговорил старшина мамлюков.
– А кто позаботится о нас, скажи? – спросил Синдбад.
– А нам придется понадеяться на собственную силу. И, быть может, на то, что Мореход, отважный купец, не погиб в волнах.
Свиток тридцать первый
К счастью, надежды Ингмара-варвара оправдались. Синдбад-Мореход остался жив. Один как перст, вымокший до нитки, он стоял на клочке суши посреди безбрежного океана. «Спасся ли кто еще так же, как спасся я? – вновь и вновь задавался он вопросом, на который не было ответа. – Или мне предстоит странствовать в одиночку?»[7]
Тучи тем временем быстро расходились. Поголубело небо, появилось солнце. И он смог наконец осмотреться. Первое впечатление оказалось обманчивым. Это был не крошечный клочок суши, а гигантская равнина. Вдали виднелись горы, за спиной простиралось море, а прямо перед Мореходом, насколько хватало глаз, колыхались травы. Что ж, надо было идти.
И он сделал несколько шагов вперед. Под ногой хрустнула веточка. В испуге странник остановился и начал оглядываться. И вдруг по правую сторону от себя увидел что-то огромное и белое, ослепительно блестевшее на солнце. «Что бы это ни было, я узнаю это очень скоро!» – подумал Мореход и отправился в сторону этого блеска.
Чем дальше уходил он от берега, тем выше становились деревья вокруг. Среди них не видно было ни одного знакомого листка, да и травы, что расстилались вокруг, были все до одной неизвестны. «Что ж, – подумал Синдбад. – Если так, то надо собирать и травы. Ведь халиф послал меня за диковинами, а вокруг одни диковины…»
Чем ближе подходил странник к этому белому и огромному, тем выше оно становилось. Наконец стало понятно, что это огромный купол. Белый как снег, он не имел ни входов, ни лазеек, а в высоту был так велик, что накрыл бы самый высокий минарет прекрасного, как сон, но сейчас неизмеримо далекого Багдада. Синдбад, стараясь ступать бесшумно, подошел к куполу как можно ближе, обошел вокруг… Никаких следов ворот или хотя бы высоких бойниц.
«Должно быть, – подумал Мореход, обходя белый купол, – это тоже цель моего путешествия – невероятная диковина!» Но, увы, он понимал, что никаких сил не хватит, чтобы доставить этот огромный и таинственный белый предмет в сокровищницу.
Синдбад все осматривался, пытаясь понять, что это за чудо и каково его предназначение, как вдруг солнце померкло, будто началось затмение. Мореход в испуге поднял голову и увидел невероятных размеров птицу, парившую высоко в голубом небе. Оба ее крыла были так велики, что она закрыла ослепительный солнечный диск. Птица плавно спускалась вниз, и тут Синдбада осенило: «Это не купол! Это гигантское яйцо чудовищной птицы!»
(О, если бы его тезка, Синдбад-воин, увидел сей предмет! Увидел бы осуществление своих самых смелых надежд! Слов не нашлось бы описать его ликование!)
– О Аллах всесильный и всевидящий! – прошептал Синдбад, хотя мог и громко закричать. – Это может быть только птица Рухх, о которой мне говорили на острове царя аль-Михрджана… Это птица Рухх, которая кормит новорожденных птенцов слонами… Горе мне, горе…
От страха Синдбад застыл, словно пригвожденный к месту. Сил его хватило лишь на то чтобы восхититься Аллахом всесильным, создавшим такое чудо.
Птица плавно опустилась рядом с гнездом. Когда она сложила крылья, сильный порыв ветра едва не сбил человечка с ног. Он упал в траву и затаился. Но птица не заметила столь ничтожного червя, она села на яйцо и уснула.
– Клянусь Аллахом всесильным и своими потерянными спутниками, что эта птица ничем не отличается от обычной курицы! В темноте, да рядом с этим гигантом я буду в безопасности…
С приходом сумерек все вокруг стало оживать. Послышались какие-то страшные звуки, будто огромные кошки крались по каменным полам и пищали мыши, за которыми охотились эти чудовищные кошки. От страха Синдбад был сам не свой. Чудовищные звуки, однако, внушили ему спасительную мысль. Он снял тюрбан, размотал его, а потом свил что-то подобное веревке, если, конечно, бывают веревки из синего шелка. Теперь он, Мореход, был вооружен. Пусть одной лишь веревкой… Но сие было куда лучше полного отсутствия любого оружия, пусть и пригодного лишь для защиты.
Подумав всего миг, Мореход обвязался этой веревкой, привязал себя к ногам чудовищной птицы и изо всех сил затянул узел, пробормотав: «Может быть, Рухх отнесет меня в обитаемую страну. Ведь ей же надо будет искать корм своим птенцам. А слоны родом из страны Хинд, пусть далекой, но все же вполне достижимой для любого подданного нашего любопытного халифа».
Конечно, понадеяться на птицу было вполне разумно, но это вовсе не успокаивало, и Синдбад провел без сна страшную ночь. Вокруг раздавались непонятные звуки, и он прижимался к яйцу, словно мышь к стене. Но и за толстенной скорлупой было неспокойно – там рос птенец, которому тоже предстояло превратиться в чудовище.
Наконец настал день. С первыми лучами солнца проснулся и гигантский Рухх. Испустив крик, от которого кровь стыла в жилах, птица расправила крылья и взлетела вверх. И Мореход (о, насмешка судьбы!), привязанный к ее лапе, взмыл над гнездом…
Полет длился совсем недолго, но на такой высоте, что под ногами странника видны были лишь облака да холод пронизал его почти до костей. Вскоре птица Рухх начала опускаться. Показалась зелень, потом скалы… И вот птица опустилась на возвышенное место. Сейчас или никогда! Другой возможности спастись может и не представиться, ибо неизвестно, куда в следующий раз отправится гигантская птица.
Синдбад в мгновение ока развязал узлы на веревке и отбежал как можно дальше. Чудовищная птица беглеца не увидела. Два хлопка огромных крыльев – и Рухх исчез в голубой дымке где-то у горизонта.
– О Аллах всесильный и всевидящий! – пробормотал отважный путешественник, впрочем, сейчас более похожий на оборванца. – Куда же я попал?
Холм, на котором стоял Синдбад, оказался просто огромным камнем. Внизу расстилалась широкая и глубокая долина, окаймленная горами, вершины которых скрывались в облаках.
Мореходом стало овладевать уныние, он переставал верить в свои силы, опустился наземь и стал причитать: «Зачем ты, глупый ишак, привязал себя к птице, зачем покинул то место, куда тебя вынесли волны? Быть может, туда вскоре пристанет корабль… Если б я остался на месте, я бы мог, наверное, уже возвращаться в дом, столь милый моему сердцу?»
– А если нет? – возразил сам себе Мореход. – Если бы на том островке оказались монстры более ужасные, чем глупый, пусть и огромный Рухх? И от тебя бы к утру не осталось и воспоминания… Ты просто трусишь, Мореход… Ты превратился в мальчишку, каким был в дни своего детства. Выбора у тебя нет – надо идти вперед. Может, живы твои спутники… Тогда следует их найти. Быть может, они пленены – тогда следует их освободить. А если они уже мертвы – то достойно похоронить, упокоив их так, как это повелел нам Аллах всесильный и всевидящий. Ты просто трусишь, глупец…
Звук собственного голоса успокоил Синдбада. Вновь он был человеком, облеченным невиданными полномочиями, данными самим халифом великого Багдада.
Усмехнувшись, он стал спускаться вниз. Теперь, после внушения, которое он прочитал сам себе, Мореход был полон сил, и никакие чудовища его более не пугали, хотя и задача перед ним стояла почти непосильная.
Спустившись в долину, он увидел, что под ногами его не простая земля, какой она бывает в иных местах и странах. Мелкий песок переливался всеми цветами радуги – это были мелкие драгоценные камни: изумруды, рубины, бериллы. Ослепительно блестели алмазы. Но вот этот чудесный песок сменился более крупными камешками. Вот они уже стали с голубиное яйцо… А теперь – с яблоко.
Чем ближе Синдбад подходил к скалам, тем крупнее становились камни. Наконец он увидел изумруд величиной с человеческую голову.
– О да, – проговорил Синдбад, наклонившись и покачивая необыкновенной красоты камень из стороны в сторону. – Это именно такая диковина, о которой мечтал халиф.
Вновь пригодилась уже не совсем синяя и почти не чалма – Мореход размотал ее и стал заворачивать камни побольше, а в обширных и многочисленных карманах кафтана и в складках шаровар разместил драгоценности поменьше.
– Теперь меня не поднимет и самая сильная птица в мире!
Под тяжестью удивительных находок Синдбад не шел, а едва плелся. Но все же достиг скал. И невольно вскричал от удивления и восхищения: скалы были тоже огромными драгоценными камнями! Чудовищно огромные рубины горели кровавыми огнями, изумруды разбрасывали ярко-зеленые лучи… Что ж, если не доставить в сокровищницу подобные чудеса, то хоть рассказать о них халифу он обязан.
И как ни прекрасны были картины, что окружали удивленного странника, но… среди драгоценных скал не было видно прохода.
«Неужели я попал в ловушку? – пронеслась в голове Синдбада паническая мысль. – Да за мной, таким маленьким и неповоротливым, сейчас может охотиться кто угодно. И он, увы, изловит меня в единый миг!»
Словно в ответ на эти мысли, послышалось оглушительное шуршание.
– Аллах всесильный и всевидящий, – пробормотал Синдбад, почувствовав, что звук собственного голоса ободряет его. – Это, должно быть, огромная змея ползет по камням, на ходу перетирая их своим невероятным весом в драгоценный песок.
Мореход представил себе эту ужасную картину и окаменел. Шуршание же становилось все ближе, все громче. И тогда Синдбад побежал. Так, как это позволяли ему набитые камнями карманы и чалма, по желанию далекого халифа сейчас превратившаяся в тюк.
Внезапно скалы раздвинулись – беззвучно, молниеносно, волшебно. Аллах дал Мореходу крошечный шанс. И он поспешил им воспользоваться.
Синдбад юркнул в открывшийся проход и побежал со всех ног. Страх, его подгонявший, был так велик, что он бежал, как не бежал никогда в своей жизни.
Бежал и не чувствовал ни веса камней, ни оглушительного биения собственного сердца.
Внезапно извилистый ход превратился в пещеру. Высота ее была неизмеримо, чудовищно велика, свод терялся в непроглядной тьме. Да и сама пещера была не узким коридором в скалах, а роскошным и к тому же ярко освещенным дворцом. Синдбад-Мореход замер от изумления и страха, оглядывая удивительные покои, вид которых мог поразить любого, даже самого опытного путешественника.
Каменный пол устилали дорожки из персидских ковров изумительной красоты. Освещали пещеру драгоценные камни. Неведомая сила держала их в воздухе на разной высоте, а свечение было таким ярким и радостным, словно летнее солнце подарило день своего сияния каждому из них.
Под стенами пещеры стражниками застыли громадные кобры, раздув свои чудовищные клобуки. Они были и живы и не живы – глаза их блестели, и головы слегка поворачивались, осматривая все вокруг, но приподнявшиеся мускулистые тела охватом более любой колонны оставались неподвижны. Посреди пещеры на помосте, устланном многими роскошными коврами, сидела женщина невероятной красоты. Обыкновенной ее не поворачивался назвать язык. Это была красавица обычного человеческого роста. Но что-то в ее движениях подсказывало Мореходу, что змеи – ее верные слуги и любимые существа.
Как далеко впереди был помост, Синдбад понять не мог, но отлично понял, что улыбка красавицы ослепительна, а сама она столь необыкновенно хороша, что в человеческом языке не найти слов, описывающих это совершенство.
И, конечно, Мореход почувствовал себя червем. Грязный, всклокоченный, с камнями везде, где можно их спрятать, весь в земле… Но то, что увидел он справа у дальней стены, просто пригвоздило его к месту. Огромная клетка, схожая с птичьей. А в ней… в ней заточены были спутники Морехода. Те отчаянные сорвиголовы, которые должны были стать охраной и защитой! Клетку оборачивала еще одна чудовищная змея – толщиной ее тело было в половину роста высокого мужчины. А голова, плоская и словно улыбающаяся, лежала рядом с помостом Повелительницы.
Свиток тридцать второй
За спиной Синдбада, всклокоченного и грязного, нарастало шуршание. Но он не мог сделать ни шага. Более того, он ждал, что эта картина станет последней картиной его удивительной жизни, и понимал, что она может внушить ужас любому, самому отчаянному смельчаку.
– Не бойся, незнакомец! – Голос красавицы, сильный и ласковый, прозвучал в тот миг, когда Синдбад уже простился с миром. – Мои слуги умны и послушны. Они никогда не причинят вреда никому без моего приказа. А Митгард просто недолго прогулялась и теперь возвращается к своим малышам. Верно, моя красавица?
Мимо Синдбада проползло чудовищное тело огромной змеи – каждая ее чешуйка была с ладонь взрослого мужчины. Но это страшилище даже не обернулось, чтобы посмотреть на какого-то невзрачного человечишку, о нет. Оно направилось прямо к Повелительнице, обернулось раз вокруг помоста и потекло куда-то в глубины скал за спиной у своей хозяйки.
– Входи, не бойся! Для друзей у меня всегда найдется и еда, и питье.
И тогда Синдбаду пришлось, собравшись с духом, подойти к помосту. Каждый шаг под насмешливым взглядом красавицы был невероятно тяжел, но выхода все равно не было. Когда до роскошных ковров Повелительницы оставалось совсем немного, он увидел, что его спутники наконец заметили его. Вернее, увидели, что это он, Мореход, а не иной безумец, чудом оказавшийся в этих удаленных от обитаемого мира местах.
«Аллах всесильный, какое счастье! – подумал Синдбад. – Значит, теперь я не один». Он понадеялся, что они смогут ему помочь – пусть не острым мечом, но хотя бы метким словом или советом.
Мореход взошел по ступеням, укрытым персидскими шелками, и опустился рядом с Повелительницей. Увы, она все же казалась обычной женщиной лишь издали. Кожа ее, нежная и бархатистая, была чуть зеленоватой. А глаза, насмешливые и мудрые, и в самом деле были глазами змеи – серо-зеленые и с вертикальным зрачком. Мореход почувствовал себя сейчас самым обычным человеком, игрушкой в руках насмешницы Судьбы. Как почувствовал и свой страх, нараставший, как та волна, что смыла его с надежной палубы «Невесты бриза».
Осторожно принял он из прекрасных лилейных рук Повелительницы пиалу. По вкусу неведомый напиток напоминал отвар из фруктов, но слегка кружил голову. На огромном золотом подносе высились горой самые обыкновенные плоды садов. Рядом, на золотых блюдцах, лежали орехи самых разных стран.
Как и подобает воспитанному человеку, Синдбад вкусил и фисташек, и орехов нут, и плодов далеких северных земель, которые, он знал, называются лесными орехами. И все они были вкусны и обыкновенны.
«Что ж, – пронеслось у голове у Морехода, – значит, я останусь жив. Значит, для чего-то другого подготавливает меня Повелительница».
Меж тем прекрасная хозяйка и госпожа начала разговор так, будто каждый день в ее покои вбегает, словно пойманный вор, взъерошенный незнакомец, все карманы которого набиты самоцветами.
– Что привело тебя в мои земли, чужеземец, и как зовут тебя?
– Я зовусь Синдбад-Мореход, а в путешествие меня отправило желание халифа обители правоверных, всесильного Гарун аль-Рашида.
Смелый путешественник рассказал, что повелитель узнал о невиданных диковинах и захотел иметь такие у себя в сокровищнице.
– Что ж, Синдбад, – проговорила Анаис. – Я вижу, что ты не лжешь. В награду за это я оставлю тебе все, что ты смог собрать вокруг моего скромного жилища. Завтра на рассвете я отпущу тебя. Не ведаю, как доберешься ты до своего повелителя. Но никто из моих подданных – ни птица, ни змея, ни зверь – тебя не тронет. Даю тебе слово Повелительницы гигантов, всесильной Анаис…
Счастье, что Синдбад не стал ничего утаивать, что он слово в слово повторил рассказ решительного старшины мамлюков и недалекого невезучего Фархада-стрелка.
Услышав эти отрадные для себя слова, Мореход поклонился и ответил:
– Благодарю тебя, Повелительница. Но мне этого недостаточно. Вот там, в дальнем углу, я вижу в клетке моих спутников. Это мои соплеменники, друзья и товарищи. Жизнь каждого из них так же дорога мне, как моя собственная. Чего ты хочешь за их свободу?
Повелительница разгневалась и бросила на говорящего всего один, но горящий и страшный взгляд. Теперь в ее голосе было куда больше гнева, чем насмешки.
– Ты не ведаешь, чего просишь! Свобода этих несчастных тебе не по карману. Нет ничего такого, что ты мог бы мне дать. Но ты меня удивил. Неужели твой страх не гонит тебя немедленно прочь? Ведь по моему слову ты свободен, повеление твоего владыки ты выполнил. И можешь, не медля ни секунды, бежать отсюда…
Однако Синдбад, к его чести, не показал, как он напуган всем происходящим и сколь устрашил его гнев колдуньи.
– Я уже сказал, о Повелительница. Это мои товарищи. Их жизнь не менее драгоценна, чем моя. И еще раз спрошу тебя: чего ты захочешь за их свободу?
Всесильная Анаис рассмеялась. Камни ее пещеры серебристым эхом повторили эти странные звуки.
– Что ж, чужеземец. Ты меня не только изумил, но и рассмешил. Пожалуй, я придумала цену свободы твоих спутников. – На миг Повелительница замолчала, а потом спросила: – Скажи мне, Синдбад, ведь ты мужчина? Сильный мужчина?
– Смею надеяться, о Повелительница.
Мореход ответил, сдерживая бешено бьющееся сердце. Что-то было здесь не чисто. Страшные предчувствия начали терзать его смелую душу. «Чего же она потребует взамен свободы? Чего мне придется лишиться?»
– Я решила. Чужеземец, ты сможешь купить свободу своих спутников.
«О Аллах всесильный и всемилостивый, какое счастье! Чего же ты хочешь, женщина-змея?»
И, отвечая на этот непрозвучавший вопрос, Анаис продолжила:
– Каждый из моих пленников станет свободным после того, как ты, Мореход, сможешь доставить мне своим телом невиданное мной ранее удовольствие. Сколько раз закричу я за ночь от сладости, столько твоих соплеменников выйдут утром из клетки.
Слова Повелительницы вселили ужас в разум Синдбада. Он представил себе эти страшные мгновения. Представил он и то, что с ним, нагим, сделают змеи, если не сможет он доставить того самого «невиданного удовольствия».
Его товарищи в клетке тоже слышали эти слова. От ужаса они закрыли лица руками.
Повелительница смотрела испытующе и насмешливо. И Мореход, набрав воздуха, ответил решительно:
– Что ж, прекрасная Анаис, я согласен. Сколько раз за ночь закричишь ты от страсти, столько моих спутников утром уйдут со мной! Но сейчас, пока ночь еще не наступила, позволь мне насытиться и отдохнуть. Мне предстоит тяжелое испытание, и сил понадобится много.
– Отдыхай, насыщайся, – кивнула Анаис. – Ночь наступит через несколько часов. Мои подданные сообщат нам об этом. Я разрешаю тебе прогуляться по пещере, пока буду осматривать свои владения. Жди меня!
Женщина два раза хлопнула в ладоши. Одна из кобр-стражниц, что стояли у стены, опустившись, заструилась к помосту. И вот уже Повелительница, оседлав огромную змею, покинула пещеру, оставив своих пленников одних.
– Не делай этого, Синдбад! – Голос Синдбада-воина был полон отчаяния, но тверд. – Ты не знаешь, как страшна эта женщина. Фархад-стрелок уже пытался купить свободу для одного себя. Он не смог разжечь в ней никакого огня. Разгневавшись, она отдала его на поживу вылупившимся детям одного из своих чудовищ, и они растерзали его тело так, что не осталось ни клочка ткани даже от его тюрбана.
Мореход вздохнул. Он понимал, что движет его товарищами, но надеялся, что и они понимают его резоны. И ответил просто:
– Я дал слово и потому сейчас прошу вас, мои верные спутники, быть утром готовыми бежать отсюда. Как бы ни распорядилась судьба, что бы ни произошло, будьте наготове. Держите свое оружие при себе. А я попытаюсь сдержать слово.
Впереди была ночь испытаний. Но, быть может, и ночь освобождения. Следовало и отдохнуть, и набраться сил. Но как совместить отдых с постоянной настороженностью и готовностью к внезапной смерти? Увы, людям в гостях у Повелительницы только такие вопросы и могли прийти в голову.
Но Мореход думал и о другом: «Ведь она всего лишь женщина. Неужели в моих чреслах не найдется жара, способного разжечь ее?» Быть может, это было самоуверенно, но ведь не только своими торговыми талантами гордился Синдбад-Мореход, а и несомненным искусством любви, каким обладал в совершенстве.
Незаметно для себя посланник халифа уснул, а когда проснулся, в зале раздалось шуршание многих громадных тел. Верхом на змее появилась и Анаис-Повелительница. Она спешилась и взошла на помост с троном. Ее подданные проползали мимо торжественной вереницей.
– Добрых снов вам, мои подданные, отдыхайте до утра! Да пребудет с вами спокойствие!
– Настал твой час, Синдбад, – просто проговорила Анаис. – Времени до утра много, но я вся в твоей власти. Тебе отдана самая могущественная женщина под этой луной.
И вот она подошла к Синдбаду. Миг испытания настал. По мановению руки Предводительницы вокруг них вырос шатер, прекрасный и уютный.
В тот миг, когда пали шелковые стены, старшина мамлюков прошептал:
– Проверьте же свое оружие, друзья! И дарует Аллах всесильный Синдбаду силы, каких не даровал ни одному мужчине под этой жестокой луной!
Можно не говорить, что оставшиеся в живых четверо пленников чудовищной клетки ловили каждый звук, раздававшийся в ночной тиши. Ловили его и считали, ибо каждый раздавшийся женский стон мог означать свободу одного из них.
Тишина, какой не бывать на земле, накрыла пещеру. Ни шороха, ни звука. Неподвижен был их чудовищный страж, как неподвижны были и спутники Синдбада-воина.
И тут плотное покрывало тишины разорвал женский крик – протяжный, прекрасный.
– О счастье, – прошептал старшина мамлюков, Ингмар-варвар. – Значит, Мореходу смерть не грозит.
– Как не грозит уже и одному из нас, – пробормотал Синдбад-воин.
И вновь глухое покрывало тишины обволокло мир вокруг. Но теперь у воинов халифа теплилась надежда, пусть и слабая.
Минуты слагались в часы, надежда таяла.
И вновь протяжный женской крик-стон сотряс стены пещеры.
– И да пребудет с Синдбадом вся сила Аллаха великого, творца всего и вся под этим небом!.. – прошептал Ингмар-варвар.
– Двое… Теперь избежать смерти смогут еще двое… «О, как же велико желание человека выжить! Если даже здесь, сейчас, мы считаем спасенные жизни, не думая о том, какой ценой достается эта самая жизнь…» – подумал Синдбад-воин. Он не надеялся на чудо, он его не ждал.
– Думаю, друг мой, – прошептал юноша, следует нам и самим поискать пути к спасению. Оружие при нас, так, быть может, мы будем полагаться не только на чудовищные силы достойного Морехода, но и на собственные?
– Ты что-то придумал, хитрец?
– Для начала, думаю, надо найти, где бьется сердце у той твари, что нас сторожит. Пусть это огромная змеюка, но она же просто зверь. И, значит, уязвима, как обычный червяк. Надо лишь найти ее слабое место.
Ингмар-варвар кивнул. «Должно быть, это и есть та самая плошка масла, – подумал Синдбад-воин. – Или просто ощущение бездны под ногами заставляет искать выход даже там, где его нет…»
Размышления юноши прервал третий долгий женский стон. Но теперь уже воины не молились лишь о мужской силе Синдбада-Морехода. Они, конечно, возрадовались, но продолжали всматриваться в разводы огромного тела вокруг клетки, не шевельнется ли где-то чешуйка, отразив свет и выдав биение чудовищного сердца.
Увы, тишина оглушала, и биения сердца чудовища все не обнаруживалось. Но тут от помоста раздались совсем иные звуки – кто-то босиком крался, стараясь, кажется, и дышать через раз.
То был Синдбад-Мореход. Он уже понял, что освободить своих спутников одной лишь страстью ему не удастся, что придется браться за меч.
Воины халифа уже ждали появления своего спасителя.
– Выхода нет, придется нам пробиваться на свободу. Вот только не знаю, где мы сможем найти оружие, – Мореход решил не тратить время на объяснение. Каково же было его удивление, когда Ингмар-воин сказал, что оружие осталось при них.
– Повелительница уверена, что наши кинжалы и мечи ничего не смогут сделать с ее чудовищными слугами. А потому, посмеявшись, оставила нам все.
Синдбад облегченно вздохнул.
– Это была ее ошибка. И мы воспользуемся ею. Киньте мне один из тех дамасских кинжалов, что видел я у вас в руках.
Судьба всегда милосердна к смельчакам, и потому сталь, блеснув, упала на мягкий ковер не зазвенев.
Выбора не оставалось. И стальной клинок вошел в тело сонной Повелительницы легко и бесшумно. Но все же она была великой колдуньей и потому прожила ровно столько, сколько понадобилось, чтобы страшным голосом, перешедшим в оглушительное шипение, закричать:
– Адригард, слуги мои, ко мне!
Змея, охранявшая пленников у клетки, распрямившись, мгновенно оказалась у помоста. Но пленники огромной клетки ждали этого и в тот же миг освободились. Синдбад по-прежнему стоял босиком, не в силах отвести глаз от поднимающейся над собой чудовищной головы. Вот еще секунда – и он останется здесь, в пещере, навсегда.
– Мореход, пригнись!
Голос Синдбада-воина вывел его из оцепенения. Огромный алмаз, выпущенный из пращи, ударил чудовище по голове. Удар оглушил его, и в тот же миг Мореход перепрыгнул через пятнистое тело. Острые грани камня разрезали кожу, и теперь потоки темной дымящейся жидкости окружали помост. Пора было уносить ноги.
Пленники Повелительницы бежали по боковому коридору вперед. Рассуждать сил не оставалось, и Мореход положился на своих товарищей – их боевой опыт должен был сослужить добрую службу.
Вот впереди посветлело, вот показались камни, освещенные ярким солнцем. Странники выскочили из каменного коридора. Дальше пути не было – все пространство от скал до самого берега моря было запружено чудовищами: змеи и птицы Рухх, звери с рогом на носу и ящерицы, огромные как дом… Что ж, смельчакам оставалось только как можно дороже отдать свои жизни.
– В бухте корабль, будем пробираться туда! – крикнул Синдбад-воин.
– Но как? Как нам преодолеть заслоны этих чудовищ?
И в этот миг к Синдбаду-Мореходу снизошло знание, которое может появиться лишь тогда, когда смерть подходит слишком близко.
– Бросай серебро! – закричал Мореход что было сил. – Это единственное спасение!
В глазах воинов халифа страх сменился изумлением, а изумление – отчаянной радостью. У Ингмара-варвара на поясе всегда висел кошель с серебряными монетами. Он не раз хвастался, что монеты были заговорены: от соприкосновения с волшебным серебром любое чудовище должно превратиться в камень.
Блеснув в лучах солнца, серебряные монеты упали на чудовищную охрану дороги. И, к счастью, озарение не подвело Морехода – подданные Повелительницы гигантов окаменели. Сзади слышались наводящие ужас звуки – беглецов догоняла армия чудовищ, живших в подземельях и гротах. Времени терять было нельзя!
Смельчаки бежали так, будто их несли на своих плечах самые быстрые ифриты. И вот показались берега бухты. А посреди нее, недвижимый на спокойной глади, стоял кораблик.
Пятеро беглецов решились плыть, но без помощи своих сильных товарищей Синдбад не добрался бы до спасительной палубы корабля.
Свиток последний
Берега страшного острова растаяли вдали. Умолк, закончив рассказ о своих странствиях и появлении в пещере, Синдбад-Мореход.
Сейчас он самодовольно улыбался. Ибо был чрезвычайно доволен тем, сколь успешно выполнил свою миссию – ведь в складках его платья все-таки прятались чудовищных размеров самоцветы, цель его странствия. Но этого мало – те, кто доверил ему свои жизни, не погибли. И они могут стать самым лучшим доказательством того, как усерден был он, Мореход, выполняя повеления великого халифа.
О, сему Синдбаду еще предстояло стать и мудрым и равнодушным, более всего мечтающим о дне, когда подойдет к концу его служение на благо жадного до знаний и чудес Гарун аль-Рашида. Нынешнего Морехода беспокоили мелочи – и как взглянет на его потери сей владыка, и что скажет прекрасная, но бесконечно далекая сейчас Лейла, хранительница очага и единственная любовь, и призовет ли еще раз его всесильный визирь повелителя, мудрейший Абу-Аллам Монте-Исума.
Совсем иные мысли сейчас овладели разумом Синдбада-воина, спасшегося вместе с Мореходом. Наконец остались позади и ужасы пещеры Повелительницы гигантов, и страшная ночь, и побег из распахнувшейся гигантской клетки через зал, где чудовищные детеныши огромной Митгард играли бездыханным телом их друга, Фархада-стрелка.
Наконец зашумел в парусах ветер, увлекая «Невесту бриза» к родным берегам. И в этот самый миг, расправляя для просушки насквозь промокшее платье, ощутил Синдбад-воин резкую боль – глубокий порез ладони сочился кровью.
– Аллах всесильный, что же это такое? – пробормотал он, вытаскивая из складок шаровар кусок непонятной субстанции: небольшой, размером с книгу, каменно-твердый осколок… но вот чего?
– Позволь, друг мой… – Голос Бунака, боцмана «Невесты бризов», мог распугать дюжину ифритов, однако не пугал воинов халифа. – Забавно… Если бы не размеры и не воистину сказочная крепость, я бы сказал, что это осколок скорлупы огромного яйца. Должно быть, ты немало дней валялся без памяти прямо в гнезде птицы Рухх.
– К счастью, уважаемый, эта милая птичка нам не встретилась, – проговорил Синдбад. Его сердце глухо стукнуло при словах «осколок скорлупы».
Точно так же оно стучало, когда он склонился перед спящей женой, пытаясь напоить ее молоком из скорлупки куриного яйца.
– Но тогда что же это? – пробурчал Бунак.
– Должно быть, осколок чего-то иного…
– Покажи-ка, юноша, – рядом с Бунаком появился Ахмед, капитан корабля.
Он вынул из рук Синдбада осколок с пятнами крови и зачем-то поднял его вверх, попытавшись через него взглянуть на солнце.
– Это осколок яйца, уважаемый, – проговорил он и передернул плечами. – Тут Бунак прав. Но это яйцо не птицы, а невероятной, чудовищной змеи… Мой разум не в силах представить размеры этого чудовища… Должно быть, в длину эта тварь не менее дюжины локтей…
– Увы, почтенный, куда более сотни дюжин локтей. Повелительница называла свою любимицу именем Митгард. И была сия любимица гигантской, чудовищной коброй, длины немереной, а в толщину ее тело почти равнялось росту взрослого мужчины…
– Аллах всесильный…
– Видели мы, поверь, и детей этого монстра. Малыши, вылупившиеся из яиц всего десяток дней назад, размерами не уступали матушке и играючи разорвали в клочки Фархада, посмевшего вызвать неудовольствие колдуньи, прекрасной, как сон, и жестокой, как сотня кровожадных варваров.
– Ну, не такие уж варвары и жестокие… – пробормотал Ингмар-варвар, старшина мамлюков. Он уже отказывался считать, сколько раз за это недолгое странствие ему помогли его далекие боги.
– Прости, мудрейший, конечно, нет. Ибо никакой ватаге варваров, пусть число их неисчислимо велико, не под силу проявить столь чудовищную жестокость. Так, значит, это осколок змеиного яйца…
– Осколок змеиного яйца… – со странным выражением лица повторил Синдбад-воин.
Предсказание неудачливого знахаря зазвучало в его голове вместе со словами странного факира, не менее его, Синдбада, пострадавшего от череды изматывающих чудес.
«Напоить сию деву водой жизни из колыбели жизни…» «Вода жизни, без сомнения, это молоко. Колыбель… Колыбель жизни… Это же яйцо! Должно быть, надо окропить губы твоей уснувшей супруги молоком, налитым в скорлупку яйца…»
Вспомнил Синдбад и вздох, громом прозвучавший в тиши опочивальни после того, как губ Амали коснулись капли этого молока. Всего один, но такой желанный и такой обнадеживающий вздох. И потом вновь тишина… Тишина неподвижности, тишина ускользнувшей мечты…
«Что ж, друг мой, мы попытались, верно?»
«Смотри, мальчик, – карканье старой вороны цыганки в тот миг показалось Синдбаду слаще самого сладкоголосого пения. – А ведь девушка-то шевельнулась. Уста ее чуть заалели, да и дышит она теперь чуть чаще… Похоже, малыш Хасиб, ты на правильном пути».
«Должно быть, так, – пожал тогда плечами Хасиб-чародей».
Перед мысленным взором Синдбада появилась новая картина – Маймуна-джинния припала губами к руке спящей дочери, а Дахнаш тайком утирает слезы.
«Что ж, добрый наш зять. Силу этого заклятия нам не одолеть, это верно. Как верно и то, что сказал тебе этот мальчик-маг: вода жизни из колыбели жизни сможет вернуть нашу дочь. Только, полагаю, колыбель эта, яйцо должно хранить куда более магическое существо, чем обыкновенный цыпленок… Может быть, если ты принесешь яйцо птицы До-До, или яйцо, отложенное заботливой самкой текодонта, или чудовищной мамашей архозавра… Быть может, тебе улыбнется удача и в далеких странствиях ты найдешь яйцо птицы Рухх…»
«Ох, матушка, – покачал тогда головой Синдбад, – боюсь, что поиски и этих необыкновенных существ, равно как и поиски улыбающейся удачи, продлятся бесконечно долго…»
«Времени у тебя будет ровно столько, сынок, сколько нужно. Его мы, дети колдовского народа, можем подарить тебе бесконечно много. А вот удачу, увы… Это выше наших сил».
«Однако, жена, мы можем даровать нашему зятю неуязвимость, воистину бесконечное здоровье. Это-то в наших силах!»
«Да, мой прекрасный, это в наших силах. Отныне, отважный Синдбад, тебе не грозят ни яд, ни меч, ни нож. Они не смогут причинить тебе сколько-нибудь серьезного ущерба. Никто злоумышляющий не добьется успеха!»
Увы, как любой магический дар, этот дар оказался с оговорками. Ибо действительно, Синдбад стал неуязвимым для всего, что некогда побывало в руках человека. Но ему по-прежнему следовало избегать пожаров и наводнений, извержений вулканов и простых источников воды, если было неизвестно, откуда сей источник берет свое начало. Одним словом, от природных бедствий не могли защитить и чары колдовского семейства.
Быть может, чары эти оказались бы бессильными и против страшных подданных умершей Анаис, Повелительницы гигантов. Ведь их-то смело можно было бы назвать бедствием более чем природным.
И еще одна картина встала сейчас перед глазами Синдбада-воина: огонек костра в горах, шалаш, укрытый сосновыми ветками, и суровое лицо Кербушара, готовящегося к новому переходу через суровые горы.
«Увы, Синдбад неуязвимый, я не знаю, где искать диковины, о которых ты мне поведал. Знаю лишь, что тот, кто одержим своей целью, ее обязательно добивается. И пусть пока для тебя и меня это лишь слова, но именно эти слова помогают в долгом пути к цели. Некогда Азиза, прекраснейшая из женщин, оказавшая мне честь своей дружбой, заставила меня в это поверить. Но сказала, что миг обретения цели всегда страшен. Ибо осуществленная мечта всегда вещественна, зрима, а ведет человека вперед лишь эфемерность…»
«Но, должно быть, – спросил тогда он, Синдбад-воин, – любому в этом случае следует ставить перед собой цели невыполнимые?»
«Это о тебе, мой друг-странник. Ибо никто не знает ни того, где найти осколки магических яиц, ни того, существуют ли они вообще… Но я говорил о другом – ты должен сейчас, в невероятной дали от исполнения мечты, трижды подумать, что будет, когда ты обретешь свою цель. Как я в свое время задумался, для чего мечтаю найти Старца Горы и хочу ли в самом деле вытащить из его цепких лап свою любимую. Я стократно рисовал перед собой картины своего успеха – и стократно поражался тому, что никакой радости от мига соединения со своей прекрасной не испытаю…»
«Нет? Ты не радовался даже в своих мечтаниях? Отчего?»
«Оттого, юноша, что после того, как я воссоединюсь с Софией, нам предстоит где-то обрести свой дом, наконец соединить свои жизни, найти источник пропитания, защититься от врагов и… Да еще тысячи тысяч задач, сейчас просто смехотворных, предстоит в этом случае решать».
«Так ты отказался от своих поисков?»
«О нет, ибо кроме радости взаимного обладания мною движет еще и обещание. Ибо она, моя София, слышала, как я поклялся вновь сделать ее свободной. И потому, даже предвидя грядущие невзгоды, я продолжаю свой путь…»
«Но ведь и моя любимая, моя Амаль, вверила мне свою судьбу! В тот самый миг, когда согласилась стать моей женой. Как же мне после этого быть? Как же я могу отказаться от поисков? Как могу оставить ее на тонкой грани между жизнью и смертью?…»
«Конечно, об отказе от поисков речь сейчас не идет. Но ведь, найдя ту самую, колдовскую скорлупку, ты можешь передать ее родителям своей жены, дабы они вернули дочь к жизни. Можешь попросить об этом кого-то из своих друзей, ведь так? Пусть она никогда не узнает, кому обязана своей жизнью».
Тогда, в тиши ночи, слушая хриплый голос Кербушара, он, Синдбад-воин, не смог до конца понять, о чем же толкует этот усталый странник. Но сейчас, обретя искомое, рассматривая на просвет извилистые узоры на внутренней стороне скорлупы, Синдбад задумался о грядущем.
Да, вернуть Амаль к жизни он обязан, ибо сам, пусть и по неосторожности, поставил ее на грань тьмы и света. Но что будет потом? Какой будет их жизнь? Что, если новая ночь любви погрузит девушку в новое беспамятство? Или дни совместной жизни, складываясь в месяцы, превратят прекрасную и сильную колдунью в невыносимую ведьму, могущую отравить каждый миг жизни? Что, если очнувшаяся греза станет прилипчивой ревнивицей?
Одним словом, сейчас, в шаге от осуществления своей мечты, Синдбад наконец задумался о том, какой станет его жизнь после того, как мечта станет явью.
Сейчас он задался вопросом, с каким некогда отправлялся в путь: что же гнало его через страны и преграды: чувство долга или мечта о счастье?
И ответа не находил…