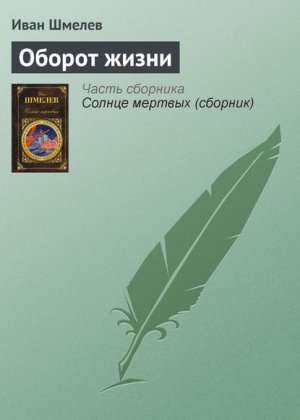
Осенние дни. Тихо и грустно. Еще стоят кое-где в просторе бурых пустых полей, как забытые маленькие шеренги крестцов нового хлеба. Золотятся по вечерам в косом солнце. Тихи и мягки проселочные дороги. Курятся золотой пылью за неслышной телегой. Тихи и осенние рощи в позолоте, мягки и теплы, строги и холодны за ними, на дальнем взгорье, сумрачные боры. И так покойно смотрит за ним вдаль, чистая-чистая, как глаза ребенка. Как вырезанные из золотой бумаги, четко стоят-идут большаком вольно раздавшиеся вековые березы. Идут и дремлют.
Всюду чуткий покой погожих осенних дней, забытых ветром. А налетит и перебудоражит скоро, закрутит и захлещет, и побегут в мутную даль придорожные березы, и заплачут рощи.
Мы сидим на голом бугре за селом. Отсюда далеко видно.
– А это Сутягино, крыша-то красная… – показывает за большак столяр Митрий. – Такое торжество было! Да свадьба. Женился сын, офицер… на неделю приехал с войны жениться. Откладать-то неудобно было… с гувернанткой жил. Ну понятно… Мамаша ихняя не дозволяла. А тут надо оформить по закону… Сегодня жив, а там… Разбирать нечего, крайность. Пожалела барыня за ребенка – женись! Все его владения будут, как папашу убьют! Уж и гордая барыня! А война. Она такого обороту даст, что и своих не узнаешь. Старики у нас разошлись… что-то такое и не понять. Три старика вот поженились… правда, богатые, вдовые… Таких-то ядреных девок себе повыбрали, не говори! Самую головку. Для народоселения… Крепкие старики, нельзя сказать… с детями будут. А девочки такие… Ничего не поделаешь, устраиваться-то надо. А у какой и природа требует, что твоя телка… Закон ещества! Одну у нас повенчали за трактирщика из Боркина… старухи Зеленовой Настюшку. Грудастая, мордастая… кровью горит! Ну трактирщик тоже мужик самостоятельный, чижолый… при капитале. Ревела все… а тут, гляжу, катают чуть не в обнимку… на Спаса были в гостях. «Он, гыть, мне вот-вот вилсипед купит!» С мошкинской учительницы в пример… И ку-упит! Так и козыряет за ней петухом. Тут у нас новостев есть. Война, брат… она зацепит. Еще какое будет!
Да. Крепко и глубоко зацепила невиданная война. Со стороны будто и не так заметно: тянется привычная жизнь, погромыхивают в базарные дни телеги, уходит и приходит в обычный час стадо, гнусаво покрикивает по округе хромой коновал Савелий: «Поросят лечить требуется ль кому!» – бродят лениво меднолицые татары с тележкой, ворожат бабьи глаза, раскидывая на травке под ветлами яркий ситец. Обычно по череду идут работы: возят навоз на пары, помаленьку запахивают, почокивают под сараями – отбивают косы, поскрипывают шумящие воза с сеном, в зажелтевших полях вытянулись крестцы нового хлеба. Неторопливо по ряду движется жизнь по накатанной колее. А если вглядеться…
Строится жизнь, поскрипывает, а прет по каким-то своим дорогам. Те же, как будто стоят тихие избы, а сколько новых узлов заплелось и запуталось за оконцами, за серенькими стенами. И сколько этих узлов придется разрывать, с болью или скорбно распутывать в долгие дни и ночи, что не устоять в неподвижно унылом однообразии этим нахмурившимся избам под ветлами и особенно пышными в это лето, как свежей кровью залитыми, рябинами. Не будут они стоять, как стояли века, раздадутся их стены, и заговорит в них иная жизнь. Да уж и теперь говорит…
– Эх, ми-лай! – говорит Митрий. – Так все перекувырнуло все у меня… чисто как выспался! Шабаш.
Да, ему, видно, скоро шабаш. Как будто у него желтуха: желтые белки, зелено под глазами, и осунувшееся лицо будто пропитано охрой в зелень, а беловатые десны обнажились. Он тяжело дышит, говорит, будто ворочает бревна, и все покрехтывает и потирает у печени.
– Только не поглядишь сам-то, чего изо всего этого выйдет… Пущено лачку здорово… заблестит! Так-то заблестит… А занятно бы поглядеть…
Что заблестит? Да все. Так он верит. И хорошо знает, что ему поглядеть не придется.
– Шабаш, попито-пожито. Давно бросил водошное занятие… желудок не принимает. А какая со мной на этот счет штука вышла! Как узнал о себе, чего у меня болит… еще до этого с месяц… маленько одеколоном прошибся. Чего они там в него напустили… а как отколдовали. Взял за рупь с четвертью, с картинкой… написано – Калибри… значит по-военному… калибр? Вот это-то калибр меня и саданул, выхлестало… И уж не желаю, никакой радости не признаю. И пошло, брат ты мой, у меня дело в маштаб!.. Сейчас, например, дело так мне и бегет… Заказ взял в городе… гроба да кресты. Госпиталю этого товара требуется несколько… Оборот пошел такой драгоценный по работе, – покрутил он желтыми узловатыми пальцами, – значит, одно цепляет-тащит, другое натекает… оборот! Да и везде теперь оборот, как ни промерь… Да-а… И тут у нас… – поглядел он с бугра на Большие Кресты, – всякого обороту есть… всего произошло! В маштаб!
А все те же, как будто, избы и ветлы, и рябины. Но в самой середине села, где зияла развороченной крышкой изба портного, – черное пятно пожарища в черных ветлах. Сгорел и самый портной, не попал в Москву шить сюртуки и фраки.
– Настигла судьба нашего Рыжего. Спирт перегонять изловчился… секрет открыл. Гонял да пробовал по вкусу. Догонялся до градусов… ке-эк всю его аптеку фукнет… готов! Прикрыл дело. Мальчишку его угольщику в лес баба отдала, а сама, слыхать, в Москве живет… к брату-ассенизатору поступила, на бочке ездит… Как фукнуло-то! Ежели тут поразобраться… такое движение всего, беда!
И еще новое. Красный попов дом теперь голубой, помолодевший, терраса в полотнах с фестонами, на беседке посажен на тычок золотенький шар – будто увеселительный сад. На балкончике в покрасневшем винограде что-то голубенькое вытряхивает белую скатерть.
– Ма-ша!.. – показывает на голубенькое Митрий и расплывается в болезненную, жуткую на его лице улыбку. – Вот гвоздь-то нам вко-ло-ти-ли! С веселым теперь попом живем. Музыка такая идет!.. Новый, как же. Тот-то, рыбак-то наш, помер на Масленице. То говорят – объелся, а то будто от расстройства. Три тыщи дал под хороший процент в городе мушнику под дом. На войне мушник… Срок подошел, давай деньги! Нету, муж на войне. Продам с торгу! Не продашь, военная защита у нас! Отсрочку имеем. Да еще за твои двадцать процентов засудим. Сразу его ударом… А этот новый, стрыженый, совсем мальчишка еще. Ему бы призываться скоро, ратник он… а он уюркнул – в попы. Только семинарию закончил, женился и – поп! Цельный день граммофон поет, а он все по террасе похаживает да Машу кличет. Маша да Маша! В саду целуются, друг за дружкой гоняются… Ма-ша! Тот-то, бывало, зачнет в церкви разносить… ку-да! А этот – Куцый. Мальчишки дразнют. И никто его не слушает. Еще и не обегались вдосталь, а службу правит. Теперь бы утешать, а ему веры нет, бабы и не глядят. Маша да Маша! Как поехала старая-то попадья… все наливку распродавала, шесть четвертей! Хорошие деньги взяла.
Рассказывает и рассказывает про округу. Да какая же жизнь кругом, упрятавшаяся в тихих полях, смешная и горькая! И какое движение всего. Только смотреть и смотреть и захватывать жадно, пока еще не рассыпалась. Жуткая и красивая пестрота, в дегте и сусали, в неслышных криках, в зажатых стонах и беззаботности. Быть!
– Крестами я теперь занимаюсь… Поглядите мою работу на кладбище! Губаниха наша померла-укрылась. Что говорить – горевая. Ей крест выстругал знаменитый, сосновый, в два аршина… в память. Соседи были. Максиму такой отде-лал… в городе не купить, нет. Барыня заказывала из березы, под светлый лак, а по рисуночку гвоздем прожег, как чирипаховый. Ему стоит, человек был смирный, а сила в нем такая была… под конец только объявилась. Стал людей утешать! Да. Так хоронили… трогательно смотреть. У него своих семеро осталось, все девчонки… да братниных четыре головы. Одиннадцать голов! Как встали они на кладбище, глядят на публику… беда! Трактирщик был, который вот винный-то погреб, фабрику искусственную завел! Ему Максим сон растолковал, что будет ему капитал. Ну, правда, брата его убили на войне, а ему хороший капитал достался… тыщ десять! Увидал детей, пожалел в благодарность… четвертной сунул. Потом говорит – приют! Насыпано там сирот, прямая обязанность! Мадам, положьте фундамент! Барыню с усадьбы подковырнул. А тут эти девчонки таращутся. Барыня сейчас: ах, ах… сто рублей! Землю даю! Трактирщик напротив ей – двести! Народ глядит, заваривай! Батюшка, стрыженый… тоже: давайте, пропитаем… из копейки рубли! А тут барынин студент сейчас – бумагу написал… лист! Собрал по местам за триста. Лесник с полустанку как узнал, что трактирщик барыню перешиб, обиделся: трактирщик за его сына дочь не отдал… хромой сын у него. На три сотни, говорит, лесу объявляю, а там еще от меня будет на покрышку, ежели трактирщик отделку примет. Гляди, как ковырнул! Принимаю отделку! Принимаешь? Так вот от меня еще палубнику тыщу штук, выше не перекинешь! Засерчал. Говорит: стекла беру, застеклю! Ей-богу! А, стекла? Печки мои, выше трубы не накроешь! Накрою!.. Накрыл! Что ты думаешь?.. Отопление принимаю! Значит, выше трубы – дым! Во как им Максим подложил! Ну, думаю, скоро, Митрий, помирать будешь… пропил ты свою душу… счет подаду-ут! После и тебе сироты будут! Пять дверей на себя записал, за работу… и еще скидка им от меня будет… С весны и двинуть. Какое дело-то! Так все загорячились – не понять.
И Максим помер. Сколько смертей за один этот год в малой округе. Какое движение всего! Помер чудной Максим, хмурый с маленькими глазами лесного человека, с маленьким лбом, заросшим до переносицы волосами, пугливо всматривавшийся в непонятное, чуявшееся его пугливой душе, тщетно старавшийся постигнуть и разгадать судьбу. Когда-то он говорил, что «все может себя оказать, только надо понять, в чем тут суть». Да, все может себя оказать и отыщется суть: вот уже приют строят. В чем же тут суть?
Рассказывает и рассказывает столяр про округу, и столько нового в незаметной жизни, столько перерыто и вывернуто за один год, что, пожалуй, и «заблестит»!
– Вот она, сила-то его, и объявилась. Максима-то! Бабы наши свое болтают: темная, будто, в нем сила жила, всего ему открывала. Правда, что вид у него дикой, чисто совиный… а вот через него-то у нас и сирот подберут. Вот-те си-ла!
Митрий пересчитывает по пальцам поставленные кресты на кладбище, заколоченные избы, пленных, убитых и воротившихся с чистой отставкой. Он знает законченные и назревающие драмы, плачущих вдов и иных, уже забывших и завязавших новые семьи. Пошатнувшиеся и подымающиеся дела. И опять говорит, что оборот пущен шибко, а что из этого выйдет – увидит кто доживет.
– Там… на войне-то лес рубят! – говорит он, и его жуткое желтое лицо покойника мудро и необычно вдумчиво словно вот-вот провидит. – А тут щепа да стружка летит. Будет чем топить. Вот приходи, потолкуем напоследок. Покажу, какой я и себе крест загнул… Нельзя, чище моего никто не уделает. А чего? Ничего не боюсь. Я вот когда с пятого етажу летел, на Молчановке дом строили… испугался раз. У меня и секрет есть… ничего не поделаешь. А вот. Прихожу в госпиталь, партию им привез… к дохтору попросился. Вот тут вот болит и болит, ноет. Так и так, жизнь моя вся во хмелю, боль ничего… как теперь лечиться? Поглядел на меня, сморщился и говорит: «Да, твои, говорит, доктора на стенках висят, по твоему лику прекрасному вижу! Однако, скинь рубаху!» Ве-селый барин, военный! Ну, проревзовал меня… дока! «Такой, говорит, у тебя рак во всем этом месте… даже в руке его держу… такой рак, что само лучшее тебе не резаться. Так доходишь». – А сколько, спрашиваю, можно с им доходить? – «От силы, говорит, два года. А будешь пить – больше года не выстоишь». – Такой веселый, и у меня страху нет. Будто так и нужно. Да еще подумал – кажному когда-нибудь а помереть нужно… да на войне теперь молодые смерть принимают… И совсем у меня страху нет! – «А как будут подходить боли… – а должны быть такие боли, что кричать буду, – так, говорит, я тебе на этот случай капель хороших пропишу, будешь принимать». – Во-енный, так прямо и говорит. Так, будто разговариваем, весело, по пустяку. И секрет дал. Значит, как и капли не станут помогать, тогда чтоб сразу полрюмки хватить и… «уснешь, как младенец!» И большой пузырек дал, беленькая. А потом и говорит: «Ты, говорит, не тужи, Митрий… от этой болезни и цари помирают, нельзя излечить – рак!» – Нельзя так нельзя. Только бы до конца войны дождаться, кто кого перемахнет… поглядеть, что будет.
Спокойно-грустно его лицо, грусть и в усталых глазах. Вся жизнь позади… а какая жизнь?! Вся она у него оставила черные следы свои на побитых, в синеватых шрамах и желтых мозолях, руках, в грустных глазах. И кругом грустно и тихо. Стоят крестцы нового хлеба. И они грустны. И грустны осенние рощи в позолоте. На западной стороне залегло в небе, в розовых тучках-подушках, червонное золото и умирает тихо. Видно с бугра, как у церкви псаломщик, в белой рубахе, приставил к рябине лесенку и взбирается – хочет снимать. Босая девочка стоит под рябиной в красной рубашке и смотрит на него, заложив руки за спинку. Подняла голову с белой косынкой и смотрит. Белая церковь – золотисто-розовая от заката.
– Яблока нонче мало… – задумчиво говорит Митрий, соскребывая с желтого ногтя лак. – Рекомендовал он мне еще яблока печеного, сахарком посыпать для вкуса… вкусу у меня, как будто нет, как трава все. А то горшит и горшит. У дяди Семена какие дерева, а ни яблочка нет. Сын у него по ним хлопотал, люби-тель! Теперь на войне… В город ходил, приценялся… сорок копеек! какая четверка… де-сяток! От яблока мне легшит, верно сказал. Вот сейчас пойду, сахарком посыплю, а ночь капельков…
Смотрю на него: трет правый бок, а в лице грусть и мука. Он уже умирает, умирает незаметно, тихо в этих тихих полях. Покоряется смерти, как покорился жизни. Кто его таким сделал? Почему не кричит, не жалуется, не проклинает жизнь, которую пропил? И как же он может, приговоренный, спокойно тесать кресты и сбивать гробы на последнем пороге? Что это – сила какая в нем или рабья покорность? А на него и смотреть жутко. Он облизывает синеватые измятые губы в насохших пленках, приставил руку к глазам и смотрит в поля к золотистым лесам за ними. И говорит спокойно:
– А вот пойду-ка я завтречком в лес за грыбами, покуда сила-то не ушла… И калинки бы хорошо попарить, кислого так хочу… беда. Значит, не могут его лечить, не дошли. Говорит, наскрозь проедает, потом вот дух может быть нехороший. Но только до этого не доводить чтобы. В больницу можно, говорит… только, тесно теперь… А давно я в лесу-то не был… Да, попито-пожито.
Нет, не рабья покорность, и не скажешь – что же? Откуда же в нем такое, чего достигают лишь избранные, глубоко проникшие в сокровенную тайну – жизнь-смерть? Или уж столяр Митрий так много понял нутром, много страдал, что поднялся над жизнью, философски посвистывая? Не умеет ее ценить. Нет, умеет. Он вон даже про канареек рассказывает любовно, водит их в своей убогой избушке, – вот на Полотняном Заводе кинарейки! – любит брать в руки и согревает дыханьем. Он шутливо рассказывает, что поет ласточка, прилетая и отлетая, и с азартом может еще представит, как вороны долбят запоздавшую сову на заре. Он столько расскажет про жизнь и в таких красках, что не описать в книгах. В садике у него всего-навсего одна бузина да рябина, но он такое расскажет про бузину, «американскую ягоду» и как дрозды подохли от его рябины, что подивишься и уже не расскажешь так. Расскажет он, и почему кривы проселочные дороги, сказку про трех кумов и бутылку водки, и как любился с его канарейкой щеголь-прохвост, красноголовый красавчик, и с чего это елки зимой зеленые. С полей, что ли, этих набрался ласковой грусти, смешка и тишины душевной.
– Теперь уж и кинареек перевожу. Без хозяйского глазу какой уход! Третья пузо показывает, потому кинарейка строгая птица… хворой руки не любит, так плешками и пойдет, перушки скидает… – грустно говорит Митрий. – И спариваться не дозволяю. А секрету свово не скажу… никак не доверяю. Пусть вот достигнут, как его голого узнать… кто он такой, самчик аль самчиха! А я на другой день докажу! Через это сколько неприятности бывает! Как мне чижом надули, я сколько капиталу положил, теперь знаю. Да-а… А то у меня один кенарь запойный был, ей-богу! Привык и привык. Как рюмку увидал – писк такой подымет, не дай бог! Перышки – так – ффу! А уж и пел! Голос такой… могучий… в учителя покупали на заводе – полсотни! Вот какая природа! Что ж ты думаешь! Пропал голос… пропал и пропал! Три года его держал, по старой памяти. Потом щегол этот у него отбил супругу, и стали они его рва-ать… Так и задолбили. Бабы одинаковы. Я про кинареек такое знаю… крой лаком!
Солнце покраснело, покраснели и рощи, и крестцы, и березы большой дороги. Куда моложе стали – розовые теперь идут, в розовое. И Митрий стал золотиться, яснеть, розоветь, словно совсем здоровый. А вот и не стало солнца – и все сереет и меркнет. Смотрит на меня сумрачное больное лицо человека, которому не дождаться иной поры, когда все заблестит, чтобы уже не меркнуть.
– Воюют-то там, что ли? – устало спрашивает Митрий, показывая на сизо-багровый закат в тучах. – Та-ак… Чисто кровь с дымом! Вот мы тут посидели по пустяку, а там уж… кресты тешут. Да, пустяком не обойдется.
– Заблестит?
– Заблестит, коль под лак пустят. И зябнуть стал все. Да и капелек принять надо…
Согнувшись на больной бок, медленно спускается он с бугра. И видно далеко в чистом воздухе, как у мостика присаживается и потирает бок, как опять подымается и подходит к своей избе. Там, на завалинке, розовая девчонка пестует его годовалого мальчика. Митрий подходит, топает на девчонку, грозит кулаком и присаживается на завалинку. Девчонка бежит в избу – самовар ставить: вьется уже темный дымок. А Митрий сидит и сидит. Должно быть, доняли его боли.