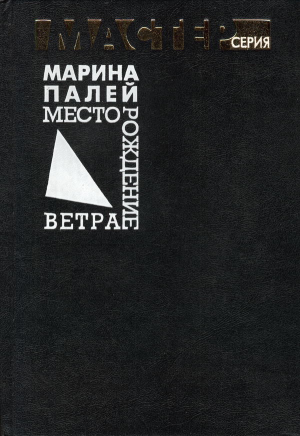
ТРИЛОГИЯ ПОВЕСТЕЙ
Поминовение
Сердцем помню только детство:
Все другое — не мое.
Иван Бунин
Зимняя дорога. Ровная, твердая, гладкая: белый фарфор.
Она лишена земных вех и примет. Это просто лента из ниоткуда в никуда.
Две краски: белизна дороги, чернота ночи.
И я иду по этой дороге.
У меня ни чувств, ни мыслей. Ноги шагают сами, потому что это дорога и надо идти. Пространство, одолеваемое ногами, ни осознать, ни почувствовать. Две краски вокруг: белизна дороги, чернота ночи. Луны нет, а лента белеет словно бы своей волей, и что не она — то тьма в своей простой и нестрашной безначальности.
Это продолжается неизвестно сколько.
Я вижу свои черные ноги, которые монотонно меняются местами на белой поверхности. Это продолжается неизвестно сколько. Возможно, это было всегда.
Внезапно я подымаю глаза.
Прямо передо мной стоит Дом.
Просыпаюсь.
Глава I
Самое странное, что я даже не помню, когда он оказался продан.
То есть у меня не было этого последнего из него ухода, состоящего из растерянности и прощальных оглядываний со значением, когда желают запомнить особо и почувствовать больше, чем отпущено.
Как-то непонятно это сделалось и словно бы совершенно для меня незаметно. Может быть, так получилось потому, что я и раньше надолго отлучалась из Дома; вернее, наоборот, поскольку отлучаются — с тем, чтобы вернуться; я же, выросшая до взрослой суеты, в него — отлучалась, а из него — возвращалась — в какие-то города, квартиры, людей, и никогда о нем особо не думала, а уж тем паче, не тосковала. Напротив.
Дом, до того, как его продали, казался мне мрачным корнем несчастий всей нашей семьи. Я даже мечтала разгромить его, разрушить совсем, и все тогда, думалось мне, сложится иначе, ибо в неизменности облика Дома я видела унизительную неизменность судьбы, которую горячо желала перебороть всегда, с самого начала.
И с озлобленным отчаянием я думала, что Дом не уничтожить — никому, никогда, — не расторгнуть эту злую и жесткую связь…
Так, стыдясь себе признаться, мы дожидаемся смерти не больно-то любимого человека: он давно уже измучил себя, других; его телесные отправления унизительны, его существование бессмысленно и нелепо, его работа нынче состоит в том, чтобы умирать, он вот-вот умрет — сию минуту. Однако он продолжает пребывать в прежнем положении месяцами, годами — и возникает нелепая мысль: да полно, уж не бессмертен ли он? Почти уверуешь в это, примиришься, даже отвлечешься чем-то, а тут он как раз — будто нарочно — возьми да и помри, словно назло вам и как бы еще раз показывая, что сие не в вашей воле, а свершается, как и положено, с пугающей внезапностью. И вы уже сожалеете о чем-то… И в первую, ошеломляющую минуту — конечно же, о том, что даже не запомнили как следует, каким он был в последний раз. Итак, вас снова обманули; вы остались к этому, как вам навсегда и положено, постыдно не готовы.
То же произошло и у меня с Домом.
Ведь не вечен же он?! — думалось. Обветшает когда-нибудь да и сгниет-сгинет, а мы-то будем еще молоды; мы отдохнем; увидим, как было обещано, небо в алмазах и запируем на просторе.
…Трудно питать умильно-патриархальную любовь к лихому гнезду, где тебе еще чуть ли не во младенчестве было дано это таинственное, необъяснимо постижимое знание на вырост. Каким образом в сознании ребенка — еще до способности его к членораздельной речи — вдруг возникают совсем ясные, словно вставленные кем-то слайды, — невидимые доколе нигде, такие пугающе-понятные картинки из будущего? Каким образом они все потом сбываются? А ведь сбываются они в точности. И разве мы можем любить то место, где перед нами безжалостно обнажили природу жизни?
Но и кроме возникновения в нем мрачных предчувствий, которые действительно сбылись, «родовое гнездо» угнетало своей угрюмой реальностью.
Для меня Дом был, собственно говоря, местом ссылки. «На свежем воздухе, — неискренне, как мне казалось, улещивала меня моя искренняя мать, — целый день гуляй — не хочу, ухожена, накормлена… У бабушки покушаешь». — Она делала чрезмерно веселое лицо, такое выражение строят взрослые, пытаясь соблазнить детей всеми прелестями медицинского укола. «Я не кошка, — говорила я, горестно плача, — что ли в еде дело? Что ли только это мне и надо?» Мать отлично знала, что я не кошка…
Я выросла в этом Доме до школы. Тогда вокруг него, мелькая меж елей, вольно бегали белки; у крыльца, мягко переливаясь косточками под нежными шкурками, выпасались пестрые компании домашних кошек, а стаи диких — прятались в подвал, и сердитые котята их, впервые попадая на свет, зловеще шипели.
И, судя по всему, тогда — и сам Дом, и великое хвойное царство вокруг него не воспринимались мною никак. Воспринимаем ли мы во младенчестве лицо своей матери? Чувствуем ли постоянно воздух, которым только и дышим? — с чем же сравнить его? Только когда появляются другие — чужие и чуждые лица — мы постигаем, что такое материнское лицо.
И только теперь, когда Дом продан и утрачен мною навеки, я чувствую его, как никогда — всеми чувствами, данными Богом, которых явно не пять…
Возможность сравнивать, впрочем, появилась еще тогда — шестилетнее детство спустя. Накануне поступления в школу родители перевезли меня в город, где темная ленинградская коммуналка поначалу развернулась, как огромный, разные разности и радости сулящий мир — по сравнению с застойным и угрюмым мирком Дома. Это было наваждением — желание хоть как-то изменить ход событий; и события хлынули.
Тогда еще длился кратчайший отрезок жизни, на котором она по правилам игры обязана всячески к себе привлекать, соблазнять и заманивать своей перспективой, так что и мое шестилетнее прошлое, оцепеневшее палеозойское прошлое, виделось мной, как досадная случайность — на фоне сияющих видов вечного будущего.
Каким образом в ребенке сосуществуют — это заведомое знание простого в своей жесткости хода существования — и унизительное желание обмануться, поверить, что все «невзаправду», жизнь пригожа, а мама всегда спасет?..
Я еду в троллейбусе с моим сыном. Он уже отлично знает четыре правила арифметики, и я объясняю ему, что такое «счастливый билет». «Счастливый?!» — возбужденно и почти риторически восклицает он, хотя суммы цифр на оторванном билете совсем не соответствуют друг другу, что для него очевидно. И, несмотря на это: «Счастливый?!» Отрываем еще билеты — тот же результат и тот же вскрик. Потому что сумма цифр — это что-то совершенно отдельное и случайное, а у жизни, конечно же, есть своя справедливая закономерность, и закономерность эта заключается в том, что жизнь обязана быть счастливой. Потому что белым обязан быть снег, черной — ночь, добрым — зайчик и злым — волк. И зайчик обязан всегда спастись от волка. А как же иначе?
…После переселения нашего в коммунальные кущи Дом сделался некой дачей, куда родители отправляли меня к старикам на воскресенья, томительные календарные праздники и однообразные каникулы. Собственно говоря, дачей его называли не мы. То, что я воспринимала как естество, как часть себя, которая не может не быть — любима она или нет, — наш Дом сделался в настороженных глазах окружающих предметом сомнительной роскоши, излишеством, знаком чужеродности. Назвать Дом дачей было все равно, что назвать маму гувернанткой. Дом, где жили дед да баба так же естественно и долговечно, как зверь в норе, сыч в дупле, плод в земле — приобрел значение некоего социального размежевателя. Однажды, когда я по рассеянности не захлопнула входную дверь, возле которой снаружи зияла дыра от бывшего звонка-«дергалки» (соединенного в старые времена с медным колокольчиком), а сбоку от дыры висела целая периодическая система, где количество звонков как бы определяло новое качество фамилий, — старушка из темной боковой комнаты, заподозрив меня в не-добром, долго заводила себя на многолюдной кухне (внешне отличной от Гайд-парка, но используемой так же): «Им-то бояться, небось, нечего, они нарочно сюды никаких вещей не привешши, все добро свое в Доме оставивши, а нас — пущай грабют? А у нас и пóльты на колидоре, и галоши выставивши на колидор, и небель есть на кухне, а Домов-то у нас нет, нам добро свое прятать негде!»
Дом был построен после войны, когда дед, возвратясь в Ленинград, не смог войти в коммуналку на Фонтанке, где ему довелось узнать блокаду. К тому же многие комнаты эвакуированных или чудом вывезенных, как мой дед, оказались заняты чужими расторопными людьми, а судиться дед не хотел и не умел. В это время подросли дети и даже внуки, — так и возникла идея своего Дома.
Если вы бывали на Финляндском вокзале в те времена, то, наверное, помните чудодействующих мороженщиков, толстых от тулупов, нарядных от надетых поверх них белых фартуков; выпуская облака волшебного пара, они, казалось, жонглировали над своими ящиками маленькими серебряными эскимо и вафельными трубочками, которые так любили ленинградцы. А в калитке ворот, ведущих на платформу, к паровику, стояли строгие вокзальные служители, проверяя «перронные» (дающие право пройти на перрон) билеты и тем резче и необратимей обозначая грань между отъезжающими и провожающими. Но главное — это неизъяснимо-пьянящий запах каменноугольного дыма, когда путешествия манят до сладкого обмирания сердца. Этот знак — словно пароль: дороги и детства.
Нынче путешествия есть для меня функциональный перенос своего тела из пункта А в пункт Б, при этом я ужасаюсь антисанитарии, этому переносу, как правило, сопутствующей. Что же касается Финляндского вокзала, то он, будучи вокзалом пригородным, не манил и не манит путешествиями долгими, однако свое и его постарение можно почувствовать и по иным признакам. Нынче там нет ни тех щедрых мороженщиков, ни тех строгих перронных контролеров. Вы рискуете быть сбитыми с ног толпами людей, которые несутся за город, на бегу жалуясь, что сегодня плохо либо оттого, что холодно, либо оттого, что жарко, либо оттого, что сухо, либо оттого, что идет дождь.
Но если вы сядете в электричку, идущую сумеречными лесами в сторону Ладожского озера, то минут через тридцать по-прежнему обнаружите мелькающие деревянные домики, чем-то щемяще друг с другом схожие: они, как правило, двухэтажны, имеют два крыльца — в сени и на летнюю веранду, и с виду выглядят обманчиво-внушительно, а внутри зачастую уютно-тесны и бесхитростны.
Это ленинградское предместье — со всеми особенностями определяемого и определяющего слова. Там постоянно живут, в основном, старики-пенсионеры, а молодежь только ночует, работая и развлекаясь в городе. Новшества цивилизации там трогательны, и они соблазнительно соседствуют с прелестями «мирных наслаждений», но нынче вторые почти целиком вытеснены первыми, и возле нашего Дома, где раньше беспечно бегали белки, уже несколько раз случались автомобильные катастрофы…
Внутри же Дома протекала жизнь, сущность которой не изменялась под влиянием новых примет; менялись лишь декорации. Вместо керосинок появились красные круглые баллоны с газом, и его следовало экономить скупей скупого, потому что меняли баллоны где-то далеко, по строго определенным дням. Появился и маленький телевизор «КВН» с линзой, а в ней покоилась вода и, как мне казалось, должны были бы плавать и рыбки. Мне хотелось что-нибудь сделать с этой водою — попить ее, что ли, или хотя бы обмакнуть в нее руки, но она была каким-то волшебным образом запаяна внутри линзы, — сзади нее так медленно, мучительно медленно разгорался серый экран. Чаще всего на нем была «сетка», потому что включался телевизор задолго до начала программ и стоял так, светясь и наполняя темную комнату своим тихим чудесным гудением. Лучше всего помню передачи про Шустрика и Мямлика, обезьянку Жаконю и мультфильмы про Кукурузу — царицу полей. Но даже когда на экране виднелась только «сетка», я была уверена, что уже смотрю долгожданную детскую передачу. Потому что «сетка» — это домик наподобие Теремка — с башенками, крылечками, оконцами и резными ставенками; домик полным-полон зверей и человечков, и даже можно ухитриться увидеть, если смотреть не отрываясь, что они потихоньку высовывают свои мордочки, — а чаще всего они это делают, когда играет быстрая, веселая музыка. Когда телевизор выключали, его экран мгновенно пересекала поперек блестящая полоса, которая на глазах сокращалась в синеватую точку и долго не исчезала в темной комнате, а я все глядела да глядела на нее, потому что еще длилась телевизионная жизнь.
С телевизором соперничал патефон. Он представлял собою довольно тяжелый для меня ящик, обтянутый серым, щекотно пахнущим коленкором; внутри же самого ящика, уже совершенно пленительно, до головокружения, источал нездешний аромат темно-зеленый бархатный диск. Стоило накрутить до упора потертую деревянную ручку, а потом отпустить, не закрепляя резинкой, и она принималась бешено раскручиваться, заставляя весь громоздкий ящик подпрыгивать судорожно и страшно. «Без пальцев и без глаз останешься! — кричали взрослые. — Дядя Альберт в детстве так играл — и доигрался!» (У дяди Альберта не хватало трех пальцев на правой руке, а левый глаз был вылупленный, стеклянный, точно у филина с картинки. Как я потом узнала, дядя Альберт получил ранения во время финской кампании, будучи военным летчиком. Однако каждый раз версия утраты пальцев и глаза дядей Альбертом переиначивалась, преподносясь мне в новейшем виде — в зависимости от ситуации и сиюминутных педагогических нужд: «Не суй пальцы в мясорубку! Дядя Альберт в детстве совал…», «Отойди от пилы! Дядя Альберт…» и т. п.)
Но главное достоинство патефона заключалось, конечно, не в том, что он скакал, как сумасшедший, если отпустить ручку завода. В углу ящика легонько выдвигалась дивная коробочка; ее, тускло поблескивая, наполняли серебряные иглы, коротенькие и толстые. Заменять их в приятно тяжеловатой округлой головке мне, конечно, запрещалось. Стоит ли добавлять, что я их, конечно, меняла, каждый раз боясь и, вместе с тем, желая обнаружить «непевучую» иглу. Но головка, всякий раз придавив обшарпанную пластинку (которая волнообразно покачивалась, а на ней, в центре, на круглом красном ярлыке, сливались в нерасторжимом союзе рабочий и колхозница, а также их орудия труда), — головка с иглой, пощелкав по самому сердцу, извлекала неизвестно откуда голос Раджа Капура:
Это слушалось раз, потом еще раз… десять… пятнадцать… «Кончен бал! — решительно входя, говорила замученная бабушка. — Давай делай порядок со своими пластинками и иди хоть на воздух на минутку выйди!»
А радио было хорошо, кроме всего, тем, что им начинался день. Именно из него вырастала явь после сна, и она была не менее прекрасна; родной голос Литвинова говорил мне: «Здравствуй, мой маленький дружок!..»
Просыпаясь в том дошкольном детстве, я долго лежала, разглядывая узоры на обоях, и Бог знает о чем думала. Потом, слушая детскую передачу, плавала где-то наверху, разглядывала мельчайшие трещинки на потолке моей комнаты. Он был низковат, обшит крашеной белой фанерой с идущей поверх нее витой электропроводкой; прямо над моей кроватью в потолке притаилась особая трещинка в виде сидящей птички; она была изучена мной досконально. Мне казалось, что за ночь она всякий раз чуточку меняет свое положение…
…Своего сына я вынуждена подымать чуть свет и тащить его, еще сонного, теплого, по длинному коммунальному коридору, он громко плачет, просит остаться дома, мое минутное умиление при виде его, розового, спящего, мгновенно улетучивается, я кричу шепотом, чтобы он не смел кричать, сколько раз я тебе говорила, что ты разбудишь соседей, а мне потом разбираться; он плачет, я его умоляю, он плачет, я в отчаянье, он плачет, я его бью, он плачет и просит, чтобы я пришла за ним в ясельки раньше всех, я каждый раз успеваю прибежать только позже всех, каждый раз говоря какие-то не свои слова нянечкам и боясь поднять на них глаза (собственные у них бывают и подбиты, что я так же стараюсь не видеть; кроме того, в них, как писал классик, изображается «полное отсутствие мысли» и, стоит ли говорить, что нет людей более далеких от круга моих друзей, а, тем не менее, ребенок мой растет именно подле них); слава Богу, он ничего не понимает и, сияя, благодарит свою мамочку за то, что она пришла «раньше всех». У нас есть еще часа полтора вольной жизни (до сна), то есть ровно столько, чтобы жалость опять уступила место тупому животному отчаянию, когда постоянные «нельзя» в сторону ребенка и постоянные «извините» в сторону соседей рождают электрическую дугу. Воспитание ребенка, состоящее из кормежки, санитарных мероприятий и лечения, заканчивается загоном в постель, и он уже — так мне хочется думать — не помнит, как он нынче утром, когда мамочка уходила из яслей, плакал до истерики, до рвоты, а его мамочка — что он, впрочем не видел — тащила себя за волосы на Голгофу сторублевой службы, пытаясь убедить себя, что это все ничего… бывает и хуже… война, например, особенно, если атомная…
И если я теперь всей душой люблю «Жизнь Арсеньева», «Детские годы Багрова-внука», «Детство» обоих Толстых и Гарина-Михайловского, и еще множество прочих детств, отрочеств и юностей; и если я целыми днями могу шалеть от одной стихотворной строки и она в состоянии повернуть мне жизнь; и если я, голодая и бедствуя, в прямом смысле этих слов, знаю, что я несравнимо — просто до неприличия — счастливее всех сытых и что я спасусь еще на этом свете — то это все осуществилось оттого, что в том дошкольном, вольном, безъясельном детстве я могла сколько угодно глядеть на птичку в потолке моей детской. «Любовь требует праздности», — говорили древние, подразумевая, что любовь — это такая трудная работа, для которой нужны все силы. Такой же праздности требует творчество — в том числе постижение мира своей души, а «праздность», то есть предельная сосредоточенность, предполагает свободу. Что же будет с моим сыном, свободы этой лишенным?
Итак, во времена моего единоличного детства по радио, представляющему собой большой сплюснутый деревянный ящик, обтянутый со стороны «звука» грязновато-желтой материей, в десять часов утра так же, как и сейчас, раздавалось: «Передаем последние известия». При этом я каждый раз искренне верила, что известия — «последние» в самом отрадном для меня смысле, то есть более не будут передаваться вообще никогда и мне не придется слушать одни те же фамилии да скучные цифры, а сразу возникнет волшебный голос Литвинова, либо мелодичные переливы «Музыкальной шкатулки», но лучше всего такая сказка, когда в ящик помещается другой маленький настоящий мир — инсценировка.
А в то утро моей досаде не было предела. Уставившись на птичку и настроившись было уже услыхать «Здравствуй, мой маленький дружок!», я вдруг услышала что-то совершенно непонятное: «Внимание! Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза и Центральное телевидение!» — Тут же в комнату влетает дед и, ни слова не говоря, поворачивает ручку до отказа. «Передаем сообщение ТАСС». Сквозь настежь открытые двери детской и кухни я вижу бабушку, которая начинает напряженно вытирать руки о старый передник. «Сегодня, двенадцатого апреля, тысяча девятьсот шестьдесят первого года…» Голос непривычно, слишком четко разделяет медленные слова, и это пугает, словно говорит не живой человек, а красный человек с плаката «Все силы — семилетке!», что висит на главной площади городка. И в то же время этот голос, совсем как у живого, звенит, звенит, взвиваясь все выше, и, кажется, только громадным усилием воли заставляет себя удержаться, не сорваться вверх и не улететь. В это время тяжелая дверь из сеней распахивается и заполошно влетает соседка; она замирает на пороге, голос говорит что-то еще, совсем немного, соседка кидается к бабушке, они целуются и плачут. Мой дед смущенно бормочет что-то вроде: «Погодите, еще не приземлился, мало ли что… Вот приземлится — тогда…» Соседка тарахтит: «А я-то думала — война, вечно ведь неспокойно, ну, думаю, война, война же — да и к вам бегу, а тут…»
Вот тебе и детская передача. Я слезаю с кровати и нехотя надеваю малышовый лифчик, пристегиваю к нему нитяные чулочки…
Появляется наша квартирантка, студентка; она взбудораженно говорит: вот, мол, она же еще вчера доказывала, что скоро закончится «собачья эпопея»!., но все равно не верится!..
Признаюсь, к своему стыду, что тогда я не могла взять в толк, почему все так безумно рады, что в космос полетели уже не Белка и Стрелка, а некий взрослый человек. Какая разница?.. Наверное, я так недоумевала потому, что ведь в детстве собака — это вполне человек, к тому же, по телевизору игрушечные собачки делали что угодно. И торжественная многозначительность взрослых, их возбуждение меня чуточку злили, как это бывает, коль скоро мы чего-то не можем уразуметь. Родители мои были на работе, а старики объяснять не умели, да и некогда им было. Дед вывесил над крыльцом красный флаг, и другие хозяева домов тоже вывесили флаги. А в центре городка, который тогда назывался просто железнодорожной станцией, стены деревянных магазинчиков, еще долго оставались исписаны мелом и разноцветными красками: «Юра!!!», «Да здравствует Гагарин!!!», «Ура!!!»
Глава II
Полет человека в космос «ознаменовал собой новую эру в истории человечества», как писали в газетах, однако в Доме все оставалось без перемен.
В ранние школьные годы, уже научившись кое-что сравнивать (основное страдание человека) и, будучи часто ссылаема в Дом из Ленинграда, — я чувствовала себя несчастнее всех на свете, чуть ли не Мцыри, который унизительно приговорен к месту, где он жить не может, но вновь туда возвращается! Именно унижение от невозможности изменить навязанный ход событий доводило меня до отчаяния. Я даже попыталась убежать в лес, но не для того, чтобы, как лермонтовский мальчик, найти свою истинную родину, а заблудиться и умереть, и пусть взрослые поплачут. Но страх заблудиться по-настоящему был, конечно, сильнее.
Куда же я так не хотела возвращаться?
Приоткроем двери моей, как мне тогда казалось, тюрьмы и посмотрим, что там делается внутри. Если вы зайдете в них, постучавшись, то ничего особенного, может быть, и не заметите, — ибо, увидев вас, мой дед, всю жизнь изображавший сумасшедшего, заговорит с вами специально для этого случая приготовленным тошнотворно-«интеллигентным» голосом. А вам надо зайти незаметно, и тогда ваши представления о такого рода жизни, почерпнутые из относительно доступных литературных источников, допустим, из бабелевского рассказа «В подвале», в котором дядька автора ежедневно сулит домашним, что их глаза вытекут, а дети еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, а бедный дед автора гримасничает «своим синим окостеневшим ртом», — ваши представления будут в какой-то мере расширены и приближены к истинной картине нашей жизни.
Мой дед ничего не умел делать. То есть он, конечно, когда-то где-то служил… Но потом вышел на пенсию. И вот тут-то разверзлась ужасающая брешь свободного времени.
О, это не было ничегонеделаньем, например, бунинских предков, кои, живя среди «крайнего дворянского оскудения», сумели сохранить силу, благородство, беспечность и «чудесную в своей легкости и разнообразии талантливость». Безделье моего деда имело в корне, напротив, бессилие человека, чей род долго вырождался в черте оседлости, сочетая в себе на веки вечные мышиную запуганность, равно как и душевную хилость. (Его постоянным выражением было: «Нам не везет, мамка», — которое он произносил, обращаясь ко мне, с болезненной, печальной нежностью и вместе с тем твердо, насколько это удавалось его душевно слабой натуре). Часто, глядя телевизор, он, в местах «жалостливых», «драматических», вдруг начинал громко и нелепо рыдать (я по возможности пыталась предугадать это и заранее выскочить вон), а то — через минуту накидывался на домашних, швыряя в них чем попало, бегая за ними с молотком или с топором — при этом зорко, по-актерски точно себя контролируя; у него в это время бывали бешено вытаращены глаза, что делало его, на мой взгляд, решительно похожим на Гитлера (кто может быть хуже Гитлера, я не знала; это был предел человеческой мерзости). Дед, истерически брызжа слюной, вылаивая проклятия, выламывал тоненькую дверь детской с птичкой на потолке, где я в ужасе пыталась от него спрятаться.
Однако ж, если бы вы внезапно зашли в Дом в эту кульминационную минуту, дед тут же бы, как ни в чем не бывало, заговорил бы с вами своим преувеличенно «приличным» голосом, который он берег для разговоров по телефону — с официальными лицами почты, больницы, телеграфа, магазинов, госбанка, пожарной охраны… Разговоры эти обычно сводились к тому, что дед задавал вопросы вроде: «Будьте так любезны сказать, не сочтите, пожалуйста, за труд: вы утреннюю почту сегодня разносили?» или: «Бога ради, простите за беспокойство, вы бы не могли мне ответить: у вас есть сегодня сметана?.. свежая?..» Ну, и т. п. Дед судорожно искал себе занятий.
Во время же малых истерических выходок, то есть не сопровождаемых устрашением близких немедленной физической расправой, он раза по три на дню выкрикивал: «Ничего! Вы еще все будете меня помнить! Вы еще будете от меня иметь! Я вас заставлю вынести то, что я уже вынес! Чтобы вы уже все имели на том свете! Я вам за все отдам, можете быть спокойны!» И все в таком же роде, до крайности неразнообразно и неизобретательно.
Бабушка потом долго лежала, закрыв глаза. Крепко пахло корвалолом.
Это было почти ежедневно.
Причинами дедова ничегонеделанья были, кроме болезненного душевного бессилия (а, может, и следствиями его), какая-то окаянная неспособность ничем себя серьезно занять, фатальная склонность к мелочной панике, вздорной суете, да вдобавок редчайший сорт лени, неволящей человека бегать, утомляя себя попусту, лишь бы избежать чего-то более серьезного, все сразу начинать, ничего не заканчивать, любые дела делать кое-как, — с озлоблением и в состоянии крайнего раздражения на себя, на предмет своего труда, которое, в конце концов, перерастало каждый раз в ненависть к себе, привычно срываемую на окружающих.
Могла ли я любить Дом, имеющий такого хозяина?
Дед обыкновенно ложился спать в восемь часов вечера, и весь Дом должен был замереть, а вставал в четыре часа утра и будил весь Дом. Летом он поутру пил чай, а потом томился. Сад требовал заботы, но дед не знал, как ее оказать. Зимою было больше дела: он топил печи, расчищал снег, таскал воду, колол дрова, но это не занимало весь день, и он снова томился. Тогда, терзаемый своим огнепальным темпераментом, он принимался вбивать какие-то бесполезные гвозди — и в самых неподходящих местах — то и дело попадая молотком по своим слабым плоским ногтям и будя стуком весь Дом. Сию же секунду хватался он ставить никчемные («временные») фанерные заплатки на соплях, пытаясь поправить перекошенные двери, гнилые ступени и просевшие полы; фанерки у него тут же отваливались, предмет, подвергаемый такому ремонту, еще больше разлезался вкривь и вкось, и все вместе это привычно подготавливало утреннюю истерику. Во дворе он, наседая на лопату всей тяжестью своего не по-мужски широкого таза, выкопал великое количество выгребных ям, притом на самых видных местах; он разгородил весь двор какими-то заборами, заборчиками и проволоками неясного назначения, а к старости эта страсть возросла, так что, когда Дом и дед состарились, весь двор оказался перепутан проволокой, как дикой тропической травой. Дед добрался и до отхожего места, где (к тайной потехе наших дачников) «навел порядок» при помощи великого количества фантастических в своей вздорности объявлений, в которых очень подробно и доходчиво разъяснялось, как следует правильно пользоваться этим помещением; может быть, так проявила себя крепкая коммунальная закваска, впитанная дедом в огромной квартире на Фонтанке.
Однако наиболее крупномасштабным, историческим его деянием (в стиле античной мифологии) следует с уверенностью считать рассечение топором огромного серого валуна, мирно лежащего на своем месте, наверное, со времен Великого ледника. В новейшие времена рядом с ним оказалась наша беседка. За рассечением последовало деловитое расположение двух, почти симметричных кусков, строго напротив друг друга, наподобие загадочных египетских сфинксов.
Если же требовалось сделать что-либо действительно серьезное и жизненно необходимое, например, частично переложить печь (а их у нас в Доме было три: на кухне — типичная для наших мест «шведка» с плитой и две «голландки» — в комнатах первого и второго этажей), он приглашал соседа Николая или еще какого-нибудь молчаливого мужика, неумело, лебезя и заигрывая, сговариваясь с ними о водке.
Днем он, как правило, лежал на широкой постели, свесив ноги в ботинках и читая местную газетку. Ремень на брюках у него был всегда расстегнут. Поминутно он задремывал, газета закрывала лицо, раздавался храп, от него дед просыпался, и чтение на минуту возобновлялось. Проделав это несколько раз, он уставал, подстилал газетку под ноги и засыпал основательно.
На стене над постелью ржавело неясно для каких целей приобретенное ружье, ствол которого, сколько себя помню, был наглухо заткнут ватой.
Отличаясь великой мнительностью, как все впечатлительные слабые люди, он по нескольку раз на день вызывал себе «неотложку» громко стеная и столь же открыто справляя свои естественные надобности; когда же приезжали медики, он, как правило, с многозначительной улыбкой — скорбной и вместе с тем снисходительной — давал им понять, что познания, почерпнутые им из журнала «Здоровье», помогут предостеречь их от возможного впадения во врачебную ошибку. Стоит ли добавлять, как не любили медики к нам ездить и как всячески пытались этого избежать. Впрочем, и сам дед был не промах: вызывая себе «неотложку», он обычно при помощи «интеллигентного» голоса долго выяснял, кто там нынче дежурит, а кто нет, и сообщал, кого бы он хотел видеть, а кого вовсе даже и нет.
Вообще же он, как и все мрачные, далекие от природы люди, очень «уважал» медицину, иными словами, видел вред во всем, что его окружает. Обычно, если кто-то садился за стол, дед не давал ему проглотить и куска без того, чтобы, угрюмо указывая глазами на тарелку едока, не процедить со значением: «Холестерин!» Или, проходя мимо, он останавливался и принимался долго, молча сверлить взглядом того, кто, ничего не подозревая, только что бодро орудовал вилкой. Выражение грозных дедовых глаз означало, что вкушающий совершает тяжкое преступление — правда, не ведая, что творит, — поэтому взгляд был отчасти снисходительным, — однако, незнание закона не освобождает… — потому взгляд был суров и мрачен. Пригвожденный к табуретке недальновидный едок застывал с куском во рту, а домашний Саваоф трагически провозглашал: «Жиры!!!» или «Углеводы!!!», — с чем и удалялся.
К своему здоровью он относился так же взбалмошно, как и к здоровью Дома. Это означало: с утра до вечера, томясь и, дабы как-то себя занять, он пил разнокалиберные таблетки, натирался разноцветными вонючими мазями, делал ванночки для всевозможных частей своего тела, ставил многосложные клизмы и насмерть мучил почтенных узких специалистов своими «профилактическими» визитами. Будучи же, однако, не без труда помещенным в местную лечебницу, он оттуда очень быстро сбегал — в одной пижаме и казенных тапочках. Находясь в Доме и «умирая», скажем, от простуды, он мог внезапно вскочить и тут же с раскрытой нараспашку грудью (которую ему только что натирали мазями), в одних кальсонах и, опять же в тапках на босу ногу, вылететь зимою на мороз — срочно вершить какую-нибудь очередную несуразицу.
Бабушка, отброшенная к двери и обмеревшая от дикого вопля, с жалким лицом капала себе привычный корвалол.
Однако в медицинских деяниях дед был все же более последователен, нежели в других. Например, твердо понимал пользу «свежего воздуха» (озона, ультрафиолета, фитонцидов и прочего), он ежеутренне будил весь Дом шумным проветриванием комнат, кое производил с неизменно мрачным видом, врываясь в комнаты спящих безо всякого стука и с несокрушимой стремительностью.
Правда, если и тут спящий не просыпался, он обращался к нему впрямую: «Вставай, — говорил он печально и сурово, — у нас сегодня много дел. День будет трудный». Это означало, что надлежит сходить в магазин для покупки молока и хлеба.
Этот нелепый человек был чрезвычайно, болезненно жалостлив. Он мог, например, ночь напролет просидеть над пылающим в горячке ребенком, пылко при этом шепча: «Лучше бы это я, маменька, сейчас за тебя горел…», а утром неизменно принимался гоняться за выздоровевшим с рубящим, режущим или колющим инструментом в руках, дабы немедля совершить «кровавую расправу». Бесновался он, повторяю, очень умело, то есть ни разу никого не покалечил — в судебно-медицинском, физическом смысле.
Первая жена, прожив с ним год, ушла от него, вернувшись к своим родителям и оставя ему сыновей-близнецов. Детей эта женщина забрать не пожелала, ибо, не будучи, очевидно, сведущей в генетике, запоздало, но, тем не менее, понимала, что от такого корня побеги будут самые что ни на есть злосчастные. И по репликам взрослых я в детстве поняла, что общие знакомые даже не осуждали ее, поскольку экзотическая дедова бесноватость проявлялась в его характере уже и в юности.
Загадка в другом: для чего за него вышла замуж моя бабушка? И не только вышла, но и вырастила труднехоньких близнецов, отличавшихся, кроме прочих прелестей, еще и болезненным сладострастием, унаследованным от отца; она вырастила даже их безалаберное и никчемное потомство, не делая малейшего различия между ними и «кровными» детьми.
«Кровных» было двое. Как ни странно, они не взяли от своего отца ничего, кроме фамилии. Это было просто непостижимо, как получилось, что в них кроткая, многотерпеливая натура бабушки одержала верх над взрывокипящим, тяжко деспотичным дедом? Может, это и была та высшая справедливость и высшая награда, в которые все так хотят поверить?..
Сын получился, что называется, в масть своей матери по складу сердца; он обладал самой разнообразной талантливостью, о которой в Доме остались легенды. Это был первородный сын, которого по древнейшим обрядам приносили в жертву для доказательства веры… Семнадцатилетним он сгорел в танке, защищая от фашистов Украину. Дочь же уродилась в большей степени сама в себя. То ли радиоактивный фон там был в то время неблагополучный, то ли что еще, а только получился духовный «мутант» (как она себя называла).
Ну, а я — она явилась моей матерью — оказалась похожей на нее до смешных и страшных мелочей. Таким образом, можно себе представить, с каким отвращением я, испытывающая свое необъяснимое чужеродство, вынуждена была не только вариться в общем котле, но и ежечасно быть — наравне с прочими — втаптываема в грязь нашим жалким самодуром, который семижды семь раз на дню, «бешено» вращая глазами и брызжа слюной, орал: «Молчать! Кто здесь хозяин?!»
Право, трудно любить такого ближнего, но как не жалеть его, особенно сейчас, из безопасного сегодня, когда, например, вспомнишь, как он однажды каким-то образом купил втридорога исчезнувшее куда-то сливочное масло, а потом продал его — трижды дешево — своим знакомым; продал себе явно в убыток, но с тем, однако, расчетом, чтобы произвести внушительное впечатление человека неслабого и не без связей…
В детстве его насмерть бил отец — человек такой же слабый и озлобленный, как и он сам.
Глава III
Но получилось так, что мать уехала от отца — далеко, вослед за новой любовью.
…Был зимний вечер, и мать уходила из Дома, привезя меня туда из Ленинграда на неопределенный срок («пока все устроится»). Старики сидели возле круглой голландской печи с напряженными, жалкими лицами, а меня давила такая смертная тоска, что я дышать не могла и не хотела жить. Наконец мама, делая бодрое лицо, стала громко говорить мне, что «у бабушки с дедушкой ты всегда будешь накормлена и всегда на свежем воздухе»; потом она делала лицо веселое, а когда и это не помогло, потому что я любила ее больше жизни и заходилась от рыданий, мама сделала лицо строгое и даже сердитое, чтобы я уверовала, что маме-то не грустно, потому что мама всегда права, и все идет как надо.
В детстве моем и даже потом я не могла спокойно видеть спину моей уходящей матери. Вы замечали, наверное, как ужасно действует спина уходящего человека на того, кто его любит? Даже если он никуда серьезно-то и роковым образом не уходит, а просто направляется куда-то на часочек по своим будничным делам. Почему всегда кажется, что это в последний раз? Почему так тревожно вдруг запахнет сквозняком вокзала и стараешься припомнить, какие слова были сказаны последними?..
Когда мать встретила свою новую любовь, моим главным страданием — потому что мне было около десяти лет и я многого не понимала, хотя по наитию ведала все и страшилась этого знания, — моим главным страданием были ее ночные неприходы домой, в нашу коммуналку с темными коридорами. Если же она и возвращалась, в тот мучительный для меня период, то очень поздно, и уже с утра меня начинал терзать страх ожидания, вернее, как классифицировали бы это точные психиатры, то был уже страх страха.
Я знала, что с шести часов вечера буду всем телом вслушиваться в скрежет ключа во входной двери и в шаги по дальним коридорам. В это же самое время, то есть к шести вечера, обычно возвращалась наша соседка справа, старая дева, особа добрейшая, обладательница самой просторной во всей квартире комнаты, которую она добровольно отдавала под чью-то свадьбу, под именины, под проводы в армию… Боже мой, как я возненавидела эту милую женщину только за то, что она являлась как бы вместо матери!
Я любила мать больше жизни, ценность которой ребенок не понимает, но, как животное, чувствует; я часто в ужасе просыпалась, оттого что мне снилось, будто мать умерла. А наяву я с отчаянием ждала ее, ежевечерне дрожала внутренней непреходящей дрожью, у меня от страха болел живот, меня рвало, ноги мои подкашивались… Я стояла за входной дверью в огромной коммунальной квартире и впитывала всем слухом, всем сердцем шаги — уже как бы и не на лестнице, но даже на самой улице. Я старалась, чтобы соседи не видели этого, потому что стыдилась нашего неблагополучия.
И вот теперь мать уехала в далекие солончаковые степи, а меня оставила во вдвойне ненавистном Доме. Она обещала писать, но от нее ничего не было, кроме телеграммы со странным названием пункта отправления, в которой она сообщала, что доехала благополучно.
А я так сходила по ней с ума, что даже никогда не заговаривала о ней, и мне было странно, что бабушка так спокойна, — конечно, по сравнению со мной. Я не спала ночами, и бабушка обманом наливала мне в чай снотворное. Я придумала себе, как это часто бывает с детьми, множество мелких ритуальных действий: их надо исполнить, чтобы все было хорошо. Кроме того, я ежевечерне обновляла систему самообмана, оправдывавшую отсутствие вестей. За окнами Дома лежал глубокий снег и стояла такая тишина, что, казалось, ничего странного нет, если почта сюда не доходит. Мать отбыла в какие-то солончаки, где совершенно точно есть верблюды (этим она меня пыталась развлечь перед отъездом), но совсем еще неизвестно, говорила я себе, есть ли там почта. Зимние сумерки были для меня, тем не менее, непереносимы…
В это самое время каким-то образом попала мне в руки книга Андрея Платонова. Тогда, в неполных одиннадцать лет, я прочитала его «Фро» и почувствовала этот рассказ так полно, так сильно, как никогда потом ни в какие времена своих взрослых любовей и взрослых мучительных ожиданий. Именно ребенком — я даже думала, что это написано про меня — я лучше всего поняла, как Фро ожидала своего Федора или весточки от Федора, потому разве, что это могло сравниться с моим ожиданием матери или весточки от матери.
«Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы… Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем». (О, как я мечтала о том же, как об избавлении от страха!) «Она думала, что письма, наверное, пропадают, и поэтому сама хотела носить их адресатам в целости… Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утолить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало переносить свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло».
Это было поразительно точное выражение моего безъязыкого страдания; рассказ явился мне тем высоким, поющим криком. Именно — поющим.
А весточку от матери я все-таки получила. Это была казенная открытка, без картинки, мелко исписанная островатым, самым замечательным на свете почерком. Я ее читала сто раз, я с нею спала, гуляла, ходила в школу. Стоит ли добавлять, что я до сих пор помню ее наизусть. Она начиналась словами: «Мой ненаглядный совенок…»
Глава IV
Когда я долго не видела мою бабушку, еще при ее жизни, она чаще всего вспоминалась мне возле двери в мою детскую, где, раскинув руки, она пытается прикрыть ее своим маленьким телом; но вот она отброшена в сторону; и о дверь, налетая с размаху, страшно начинает биться дед, «невменяемо» выкрикивая: «Убью!»
Бабушка всех и всегда прикрывала своим маленьким телом. Однако, как говорила я себе уже в ломком подростковом возрасте, разве доблестны наши подвиги, когда они — оборотная сторона наших же ошибок? Этот способ жизни тогда царил в масштабе общегосударственном. Поэтому, когда все родственники и знакомые говорили с умильным вздохом про бабушку, что она-де «чистый ангел», я внутренне восставала: а зачем она связалась с этим человеком, гнилым корнем, который гноит все потомство? Почему она терпит его всю жизнь? Покорность я не могла принять с детства. Смутно я догадывалась, что в основе бездеятельных добродетелей лежат, в конечном итоге, духовная застойность и трусость, идущие от лени, а она-то и есть, как справедливо считают в народе, мать всех пороков… Так я тогда думала.
Бабушка была для меня единственной отрадой в Доме, но это я теперь так понимаю, а тогда, наверное, и не любила ее — за преступную, как мне казалось, покорность обстоятельствам.
Действительно, почему она терпела деда всю свою жизнь?..
От нее я часто слыхала рассказ про геройского комиссара, а также еще про некоторых, как она говорила, «больших людей», к ней сватавшихся, и которых она уже не уточняла в своем рассказе, потому что, дойдя до этого места, обычно вздыхала, махала рукою и возвращалась к плите, отбывать свое неизбежное кухонное назначение.
Эти рассказы она часто повторяла нашим дачницам, сидя на крылечке напротив калитки, из лета в лето, из лета в лето… Кроме рассказов про красавца комиссара (они произносились с понижением голоса и приданием своему простодушному лицу некой таинственности, какую лишь в смехотворной мере могла изобразить ее бесхитростная натура), там были еще повести про то, как рожала детей, как потом болела и «врачи чуть не спортили», как болели дети; как приехал к ним в Сибирь, в эвакуацию из блокадного Ленинграда ее муж, мой дед, а дело было ночью, и они с хозяйкой так страшно закричали: «Кто там?!», а он так тихо и говорит: «Это я, Аня, откройте…», и как потом она его всю ночь кормила, кормила («пихала в него»), а он все ел, все ел («только кусок проглотит — на двор бежит, все из него сразу же выходило, ничего не задерживалось»). В этом месте она всегда очень старалась не заплакать и всегда немножко плакала.
Вопрос кормежки своих детей и внуков был для моей бабушки вообще главным, «проклятым» вопросом бытия. (Один мой знакомый любит нынче повторять за праздничным столом, что «лучше культ еды, чем культ личности»; некоторые жители Дома имели возможность сравнить эти два блага на практике…)
Почему всю жизнь ее сердце негасимо жгла эта щемящая тревога, что детеныши останутся не накормлены? Откуда этот слепой страх, заставляющий ее с тупым упорством инстинкта, даже еле держась на ногах, с утра до ночи править на кухне «невидную», незавидную работу — и пихать, пихать, пихать в раскрытые клювы детенышей этот труднодобываемый корм? Тщетный корм… Какое такое услыхала она вещее слово о смысле жизни и своем в ней назначении, — слово, жестко определившее ее постоянное место на этом свете возле плиты в кухне Дома?…
Скорее всего, никакого такого слова она не слышала; это проявила себя веками впитанная в кровь, всосанная в костный мозг простая и постыдная необходимость выжить — выжить физически, выжить во что бы то ни стало, выжить в любых условиях, выжить любой ценой — выжить зоологически, как вид.
Особым предметом бабушкиной гордости, темой семейных легенд, рассказом, непременно передаваемым изустно новым поколениям наших дачников, была свадьба ее пасынка, одного из близнецов, дяди Альберта, на которой не было ничего покупного. Это значит, что бабушка, приготовив все своими руками, выставила на длинные столы, чтобы накормить сразу много-много людей, — фаршированную щуку и селедочный форшмак, печеночный паштет и прозрачный говяжий студень с аппетитными кружками крутых яиц, множество куриц с зашитыми внутри них жареными шкварками, обваленными в муке, особенный золотистый пирог штрудель — стоит ли перечислять эти кулинарные чудеса, раз рецепты их ушли вместе с нею да, кроме того, словно в воду канули многие исходные продукты. (Мой ребенок на сей день может довольно уверенно отличить мясо от рыбы, но в рыбьих «национальностях», равно как и в мясных, он уже не разбирается; впрочем, такая возможность ему представляется совсем редко).
Рассказывая про тот апофеоз своего кулинарного творчества, про свой заслуженный и, наверное, единственный, публичный успех, бабушка очень оживлялась и в паузах многозначительно кивала сама себе головой, как бы давая понять, что еще ой как много она бы понарассказала, но не будет, потому что все равно всего не перескажешь, может быть, самое главное и интересное она-то и утаила.
Не знаю, что там недорассказывала бабушка, переживая вновь краткие минуты своей простодушной радости, а для меня самым главным и «интересным» в этой истории было то, что брак ее пасынка, а также его последствия являли собою словно бы олицетворение всей постыдной животной бессмыслицы, до которой только способны скатиться люди.
Но бабушка не обладала способностью к эпическому обзору событий, и эта «деталь» в момент рассказа нимало ее не волновала, так что вряд ли, описывая исторический пир горой, она нарочно недосказывала именно эту малость. Видимо, ее детская душа безотчетно разделяла несообразные свойства жизни, и уродливость одной не закрывала красоты другой и не лишала счастья любоваться ею.
Непрестанные кормежные усилия бабушки приводили к тому, что клювы у детенышей открывались неохотно, потому что детеныши были всегда сыты. Тогда их, то есть клювы, приходилось открывать силой. Это был прямой подкуп в виде застольного чтения братьев Гримм, Андерсена, Перро, Линдгрен, Гауфа, Гофмана — список можно продолжить, а также сказок народных — русских, польских, английских, китайских… У вас не хватит загибать пальцев. Мне страшно подумать, что было бы со мною в жизни, ешь я хорошо и не читай мне бабушка, или ешь я плохо, но имей другую бабушку (вариант: ешь я хорошо и имей другую бабушку, для меня вообще непредставим, как самый тоскливый).
Затем бабушкины методы изменились. Когда ее чтение обесценилось (потому что я уже читала сама — и гораздо быстрее), ей пришлось действовать иначе. «Посмотри на себя! Ты же высохла вся!» — трагически восклицала она, если я, бывало, не поем полдня. «У меня живот болит», — отвечала я с досадой и совершенно искренне. «Это он у тебя от голода уже болит! У тебя же все кишки слиплись! Возьми хоть каплю бульона!»
Бабушка была человек детски-простодушный, она вся светилась ровным светом своей доброты. А что было бы со мной, если бы у меня была другая бабушка?.. Все-таки все должны пребывать на отведенных Богом ролях: зайчик должен быть добрым, волк — злым, а бабушка — такой, какая была у меня. Для нее неискренность была столь же непостижима, как для большинства из нас теория относительности. Но южная кровь, несмотря на бабушкино простодушие и кротость, несмотря на ясные серые глаза и мягкие черты лица, проявляла себя в виде несколько театральной интонации, с которой она провозглашала: «Посмотри на себя! Ты же высохла вся!» Это был пафос, достойный Медеи и Федры.
Моя подружка, не умея так глубоко вникнуть в суть вещей, часто озадаченно спрашивала: «Бабушка, что ли, была актриса?..»
Кстати, бабушка любила кормить и соседских детей, и детей дачников — любых детей, любых людей, лишь бы человек хорошо ел. (Так что моя теория «необходимости выжить» подходит для объяснения ее души, вероятно, не вполне). Вижу, как она берет соседского ребенка к себе на колени, кладет ему в ротик маленькие кусочки рыбы, счастливо глядя в его глазки и любуясь им как-то всем сразу. Потом она обычно долго хвалит ребенка перед его родителями. В голосе ее слышится счастливое удовлетворение, какое бывает, когда человеку удается как-то осуществить свое назначение и он думает, что вот не зря он родился. Впрочем, мне кажется, что бабушка и слов-то таких отродясь не знала; по крайней мере, никогда не употребляла. Она жила инстинктом доброты — не головной, воспитанной, а кровной, почвенной, бездумной и нерасчетливо-прекрасной, как солнечный свет.
Глава V
Неожиданно в Дом вернулась моя мать.
Ее любовь, за которой она ездила по казахским солончакам, по чувашским новостроечным городам, по киевским отлогим холмам, по берегам среднеполосной Волги, по раскаленному Крыму, — эта любовь, как и все на этом свете, что подвергается сверхсильному, запредельному напряжению, рухнула. Мать оказалась погребенной под обломками заживо.
День за днем, неделю за неделей она лежала, отвернувшись к стене. Она ничего не говорила. Иногда это вдруг сменялось чудовищной истерикой. И потом снова — спина. Правда, теперь мать вроде бы никуда не уходила, а, наоборот, вернулась, но в ее спине было такое, что становилось ясно: она ушла ото всех, отовсюду — и не пришла никуда. Не было ее нигде.
Я, поскитавшись с матерью в течение пяти лет вдосталь (она забрала меня к верблюдам вскоре после открытки), снова была «временно» водворена в Дом и уже заканчивала школу.
В шестнадцать лет безотчетная любовь к жизни немного отвлекла меня от атмосферы хронической беды, что царила в Доме. Кроме того, я поняла, что такое «внутренняя эмиграция», которой и спасалась, несмотря на то, что террор моего деда еще более усилился и приобрел самые унизительные для меня формы — как то: копанье в моих бумагах, рысканье в столе и портфеле, копошенье в карманах, подслушиванье телефонных разговоров, и, как следствие всего, — уличение меня во грехах с топором в руке, — я сбегала к Лермонтову, к Есенину или к тому, кого любила так, как это бывает только раз, когда человек еще не изуродован никаким опытом и открыт всем ощущениям жизни беспредельно.
Однако, когда вернулась моя мать, когда рухнуло все то, ради чего были принесены — и не только ею — многие жертвы, хроническое неблагополучие Дома, конечно, усилилось, и я не успела еще к этому приспособиться. Перестала помогать даже «внутренняя эмиграция».
Мать понемногу научилась лежать не только лицом к стене. Непричесанная, в рваном халате, сплошь в отвислых булавках, скрепляющих дыры, в нелепых застиранных носках — она продолжала свое небытие в темной комнате. Теперь она лежала постоянно на самом краешке кровати, в неудобной, страшно напряженной позе. Эта поза как бы говорила, что она прилегла только на минуточку, и есть ли смысл прилечь поудобней и позволить себе расслабиться, если сейчас она встанет. Но в этой позе она тоже продолжала лежать месяцами.
Глаза у нее были прикрыты ладошкой с маленькими кривоватыми пальцами, как это делает человек, защищаясь от неожиданного света. Но солнце всходило, потом заходило, оно светило вновь, а ладошка все оставалась на глазах. Было очевидно, что мать зашла в этот мир — так, на минутку, и стоит ли располагаться поудобней.
Много позже она все-таки стала подыматься и даже ходить на службу, но эта напряженная поза — на краешке, бочком, на минутку, поза хронической неустроенности — осталась у нее на долгие годы.
Что я при этом испытывала? Боль, страдание? Конечно, стоит ли об этом говорить. Но на втором месте стойко оставалась точившая меня червем, душившая петлей, не дающая дышать, уязвленная гордость. Дед твердил свое нам всегда не везет. Я не могла этого принять. Я стыдилась нашего неизбывного неблагополучия, перед собою стыдилась — может быть, потому, что именно хвойное царство вокруг Дома и стихи рано дали мне понять, что такое красота, но Дом не вписывался в это понятие, и я ненавидела обстановку, ей обратную.
И, конечно, Дом-то я и винила во всем. Мне казалось даже, что если бы его не было, то матери некуда было бы приехать, чтобы лежать лицом к стене — и тогда она не лежала бы так, и все у нее было бы ладно. Мне даже казалось, что лежать лицом к стене вообще можно только в нашем Доме, он словно бы необъяснимо для этого создан, и не случайно именно в нем десятилетиями бесстыдно беснуется мой безобразный и жалкий дед…
Глава VI
А Дом между тем постепенно ветшал. Конечно, это свойство всего живого и неживого, но у нас он приходил в упадок тем более стремительно, что не было сильных мужских рук, которые лечили бы его больное тело. Он лишился умелых рук еще тогда, когда мать ушла от отца. Дедовых близнецов никто в этом смысле в расчет не принимал; они, живя в Доме, нимало не способствовали его благополучию, а потом и вовсе разъехались — кто куда. Точнее, один из них давно сидел в тюрьме за растрату, а другой — жил на содержании у деловых женщин в городе Анапе. Безалаберное их потомство тоже выросло и раскатилось примерно по тем же тропинкам. Иногда оно подбрасывало на лето своих новых детей от прежних супругов, либо прежних детей от новых супругов — все они активно дышали свежим воздухом, но, как ни странно, Дом от их присутствия не омолаживался. А все дедовы авантюры только еще более подтачивали его здоровье. Мне, по крайней мере, он казался безнадежно больным.
И это бодрило. Мне казалось, что с его исчезновением исчезнет и наша несчастливая жизнь, а все счастливое — начнется, как с чистого листа.
…Только теперь, когда Дома уже нет, я чувствую строки Бунина так, словно давным-давно они были написаны мною — безотчетно, в жалкой слепоте своей, и лишь теперь, прозрев, я их читаю: «В быту дома я нашел переход уже к грубой бедности — замазанные глиной трещины печей, полы для тепла постланы мужицкими попонами…»
Порядок старости и обветшания обычно кажется беспорядком, а, между тем, это именно порядок, имеющий свои отлаженные законы и, очевидно, свой, ускользающий от нас, смысл. Дом начал зарастать изнутри, как зарастает и глохнет сад, забитый дикорастущей травой. В нем, то есть в Доме, как-то незаметно сократилось количество жилых комнат. Большинство из них превратилось в кладовки, в которых вперемешку стояли тазы и тазики неясного назначения, ведра с водой, ведра с помоями, ночные горшки — с крышками и без, валялась старая обувь, лежали дрова и картошка. Вода, кроме ведер, была налита в кастрюли, кастрюльки и бидоны, потому что старикам стало тяжело ходить к колодцу, и они пользовались случаем запастись водою впрок — насколько это было возможно. Кроме того, в бывших комнатах появились разные фанерки, досочки, рулоны старых обоев — весь этот хлам перекочевал, чтобы быть под рукою, из дворовых построек; он агрессивно наступал на жизнь других комнат и, в конце концов, вытеснил ее почти всюду, оставя последний маленький островок, на котором неожиданно оказалось совсем мало предметов: стол, диван, старенький телевизор да кровать стариков с висящими над нею ржавым ружьем и фотографией убитого на войне сына.
Необратимость умирания Дома усугубилась и человеческой смертью: умерла моя прабабка, а дедова мать и свекровь моей бабушки.
Я помню ее очень страховитой, точь-в-точь похожей на Бабу-Ягу, и в детстве я не была вполне уверена, что это на самом деле не так. Обычно прабабка проводила время, прислонясь в кухне спиною к печи и глядя, как кто-нибудь ест. А поскольку бабушка всех разбаловала и все садились кто когда хотел, то это продолжалось с утра до вечера без перерыва, так что прабабка простаивала в такой позе целыми днями — молча, с неизменным многозначительным выражением тупой скорби; на кончик ее страшного ноздреватого носища набегала мутная капля. Летом, правда, она целыми днями просиживала — в теплом пальто или фуфайке и валенках — на нашем крыльце напротив калитки.
Прабабка смолоду служила на табачной фабрике, где, видно, и пристрастилась к курению; она курила всю жизнь отчаянно много, в последние же годы — тайком от деда, своего сына, который, конечно, «гонял» ее, понимая вред никотина, убивающего лошадь; а прабабка умерла, тем не менее, в девяносто девять лет. Вернее говоря, никто толком не знал, сто ли ей стукнуло или девяносто восемь; сошлись на девяноста девяти. Родственники, тайком от деда, совали ей потихоньку мелочь или «Беломор», лишь который она и признавала. Бывало, поднимешься по крутой деревянной лесенке наверх, — туда, где находится ее комнатка (я эту комнатку очень боялась даже выросши: бабыягина комнатка), а горбатая прабабка стоит там в коридорчике возле кладовочной дверцы и потихоньку пускает дым в ее дырочку. Она стоит ко мне горбатой спиной и, по-видимому, ничего не слышит; потом, что-то смутно почувствовав, обернется — и так забавно, точно «застуканный» школьник, спрячет папироску в рукав. Не дожидаясь, чтобы оттуда повалил дым и желая подразнить бедную старуху, я, бывало, шуткой говорю: «А вот я дедушке все расскажу!» Прабабка начинает злобно кривляться, беззвучно шипеть и, пятясь назад, как-то странно оседать, точно злая Бастинда из книги «Волшебник Изумрудного города», когда Элли выливает на нее ведро воды. Она не может вымолвить от возмущения ни слова; изо рта ее лезут, уже не вписывающиеся в сказку, противные мутные пузыри.
Комнатка ее была во всех отношениях необычная. Самым необычным в ней был запах: зловещий, неистребимый запах предельной старости, когда она уже на грани перехода в нечистую силу. Кроме того, посередине ее, точно громадная курья ножка заколдованной избушки, от пола до потолка простирался стояк голландской печи. Спрятавшись за большой курьей ногой, можно было наблюдать, как прабабка, взяв бронзовый подсвечник, опять же в форме курьей ноги, запалив в нем свечу, для чего-то прислонив к нему осколок зеркальца и (как мне сейчас кажется) распустив свои седые страшные волосы, начинала что-то жутко бормотать по своим темным молельным книжечкам. В такие минуты я, спрятавшись за большой курьей ногой, не была вполне уверена, что это не ведьмины приготовления, и в мою задачу в тот момент входили, по крайней мере, два действия — первое: доказать себе, что я не трушу, и второе: отучить прабабку от ее ужасной религии. Таким образом, я, стремительно выскочив из-за большой курьей ноги, «готовая и к смерти, и к бессмертной славе», орала во все горло: «А твой бог — дурак! Бога — нет!» Язык мой не отсыхал, молнии не испепеляли, и я никуда не проваливалась, что и укрепляло меня в моем вульгарном атеизме. Пораженная старуха проделывала весь тот же пантомимический ритуал, как если бы я сказала, что пожалуюсь про курение дедушке, только гораздо экспрессивнее.
Но поскольку я со временем поняла, что от постыдной религии ее таким способом не отвадить, то пришлось прибегнуть к иным методам. Только своим малым возрастом (думаю, мне было четыре года) я могу объяснить всю бессмысленность и жестокость своего поступка. Решив, что от разъяснительной работы следует переходить к более решительным мерам, я просто потихоньку изорвала все ее молельные книжечки в мелкие клочки, кои и забросила под ее же кровать. (Это также доказывает мой неразумный возраст: мне даже и в голову не пришло — хотя бы ввиду последующих громов и молний, уже от родителей, — спрятать их куда-нибудь в другое место). Такие мои радикальные действия, очевидно, были продиктованы особенностями самого времени: кое-что видела по телевизору, слыхала по радио… впитала, что называется, из самой атмосферы.
Когда все открылось и раздались громкие вопли обезумевшей от горя старухи, я никак не могла взять в толк, что она так убивается, когда я для ее же блага совершила столь правый и бравый поступок. Почти геройский поступок я совершила! А между тем, родители воткнули меня в угол у голландской печки, и это было непривычно, ибо если дед и «убивал» меня ежедневно и растаптывал ногами мои игрушки, то это проистекало стихийно, то есть как бы естественно-человечески; но такой последовательно-научный, холодно-методологический прием был применен ко мне впервые. И я рыдала от страха перед новизной наказания и от вселенской несправедливости.
Потом родители заставили меня извиниться перед старухой, что я неискренне, скороговоркой и проделала, в глубине души твердо считая, что ни она, ни другие домашние так и не поняли ее же пользы. А вдобавок мой отец, имеющий золотые руки и знающий древние языки, непонятно зачем склеил по кусочкам ее молельные книжечки. Это было, как я теперь разумею, чудом реставрации, но меня брала досада, что вся моя антирелигиозная работа пошла насмарку.
Так, махнув на нее рукой, я почувствовала, что не могу более мириться с тем, что прабабка моя так разительно похожа на Бабу-Ягу. Я была уверена, что придумаю нечто такое, до чего никто еще не додумался, и расколдую ее в прекрасную принцессу.
Когда взрослые приносили зимою с мороза ведро воды, покрытое толстой коркой льда, я кое-как проделав посередине ледяного круга дырочку и больно оцарапав руки, доставала его и принималась через эту волшебную дырочку «по-особенному» глядеть на бедную старуху, коей было велено застыть на месте. Края дырочки радужно искрились, с ледяного круга в натопленной кухне капала вода, а с носа прабабки по-прежнему сбегала мутная капля. Заморозив докрасна руки, рассердив мою бабушку лужей талой воды на полу, а расколдования так и не добившись, я принималась за другой верный способ.
Потихоньку доставала я запретный ящик с елочными украшениями, который доставать мне и самой, по правде говоря, не хотелось, чтобы не растратить до Нового года, приберечь к елке его одурманивающий запах. Уже тогда я, видно, понимала, что любое чувство имеет предел и, не зная, как это выразить, догадывалась, как пагубно оборачивается неуемная, случайная трата сердца; мне хотелось оттянуть чудо встречи с лишь единожды предназначенной, восхитить хрупкой елочной бутафорией…
Однако долг я сызмальства ставила превыше всего. И вот, залезши на рыдающий от старости диван и поставив перед собой по стойке «смирно» покорную старуху, глядящую прямо перед собой белесыми слезящимися глазами, я принималась производить свое чудодейство. Сначала я обряжала ее в кокошник, расшитый елочными ярко-стеклянными бусами, затем навешивала такие же бусы на шею, а в петли и дырки ее ветхого наряда приспосабливала серебряные шишки, гранатовые шары, белоснежных зайчиков — с морковками и без, ватные, с блестками, желтощекие яблоки, чудесно-холодные корзиночки с цветами… Заходясь от восторга, я прилаживала к сиреневым старушечьим ушам переливчатые бледно-зеленые звезды, и, в довершение всего, забрасывала ее сверху золотым и серебряным дождем и клочьями ваты, пересыпанной конфетти.
Она несколько минут покорно стояла в таком виде, сохраняя тупое и, вместе с тем, многоскорбное выражение. На мои просьбы ходить так весь день и даже всю жизнь, чтобы все взрослые в Доме и вокруг видели, какая она красавица и что я ее «расколдовала назад в молодую принцессу», она, тряся головой и шамкая сиреневыми деснами, отвечала решительным отказом. «Ну, а сама-то ты видишь, какая ты стала другая, красивая? — не отставала я от нее. — Сама-то ты видишь?! Погляди в трюмо!» Старуха послушно становилась против зеркала, несколько раз механически кивая с прежним выражением.
Надо сказать, что с тех пор я, выросшая до грустного права пользоваться косметикой и порой трусливо прибегавшая к ее услугам, косметику не полюбила. Я неизменно испытываю перед ней какое-то брезгливое и горестное чувство. Всегда, когда я в смешных попытках казаться лучше и моложе, чем есть, вижу в бесстрастном зеркале свое отражение, которое накладывает грим, румянит щеки, сурьмит брови и пудрит нос, я вспоминаю и гойевскую «Hasta la muerte» и ту баночку с телесно-розовым гримом, первым предметом, попавшимся мне на лестнице, ведущей в подвалы судебно-медицинского морга. (Учась в медицинском институте, я вынужденно проходила этот курс ада). Наступив на баночку с гримом, я поскользнулась и чуть было не проехалась вниз головой по лестнице в самое царство Аида; сначала я не могла объяснить себе присутствие этого предмета в таком, казалось бы, неподходящем месте, но вскоре увидела интеллектуального санитара с ухоженной темной бородкой, а рядом с ним — французисто-инфернальную дамочку, которые весело приставляли чью-то бывшую голову к обезглавленному телу, а затем принялись усердно накладывать розовый грим… румянить щеки… сурьмить надбровные дуги… пудрить костянистый нос… Воистину: вдохновение бывает в любом деле.
Но главной причиной моего отвращения к косметике и даже страха перед жалкими попытками выглядеть лучше и моложе явилась, наверное, с детства засевшая в памяти картинка, на которой сизогубый высохший полутруп немилосердно увешан елочной мишурой.
Глава VII
Молодой и красивой принцессой прабабке остаться не удалось, и одной из весен она умерла от воспаления легких.
Казалось бы, курила всю жизнь крепчайшие папиросы, пережила войны, голод, теряла детей, и на тебе, — ни рака, ни инфаркта, ни, тем паче, инсульта, а какая-то дурацкая простуда… Небось просквозило, когда пускала дым в свою дырочку. А если бы не этот нелепый сквозняк, может быть, жила бы себе да жила — хоть бы и дважды девяносто девять?..
«Смерть, — она причину найдет», — рассудительно замечала наша соседка, тетя Клава.
Тетя Клава умерла, кстати говоря, раньше прабабки, и это была первая смерть, — еще вне самого Дома, но поблизости, — с которой я столкнулась. У тети Клавы в животе был рак, и поэтому живот у нее стал большой-большой (так говорили), а глаза вылезли на лоб (как у рака, думала я). Она умерла летом, при полном собрании на крыльце наших дачников, которые, как мне казалось, боялись глядеть в сторону ее почерневшего от старости забора. Они шушукались, передавая друг другу последние новости. Среди дачников была медсестра, она куда-то уходила и приходила; потом заговорили про какие-то «кислородные подушки», а я с ужасом ждала, когда же они проговорятся, что живот у нее давно лопнул, и оттуда хлынула мерзкая жидкость, и выполз этот громадный рак, жравший живот изнутри. Я видела, что взрослые томятся, боясь себе в том признаться, замечала на их лицах какое-то острое любопытство, прикрываемое возбуждением. Они были словно чем-то тайно удовлетворены…
Потом сказали, что она отмучилась. Мне было странно, потому что ни в спокойном вечернем свете, ни в сладостном летнем воздухе ничего не изменилось. Как же они поняли, что она «отмучилась»? А, может быть, еще мучается, да никто про то не знает?
Долгие годы я боялась ходить в тот темный сырой угол нашего двора, сплошь заросший бузиной, где находилось строение, по типичной архитектуре которого легко можно было угадать нужник. С одной стороны от него серела стена нашего сарая, а с другой… туда я вблизи боялась и смотреть. Издали, в относительной безопасности, я видела, что там торчал черный забор тети Клавы, которая, наверное, до сих пор лежит одна в своей летней времянке с огромным животом и выпученными глазами.
Потом страх прошел, но какая-то безотчетная тянущая тоска по отношению к тому углу двора осталась навсегда, то есть до тех пор, пока Дом не оказался продан… И даже в воспоминаниях о нем.
Имя Клава я просто ненавижу, как ненавижу смерть. Потому что именно так и зовут ее — не только ту, с огромным животом и выпученными глазами, а и других, в их самых разнообразных, но одинаково страшных обличьях, вплоть до последнего — самого никчемного и унизительно безвредного. «Когда у черепа в кустах всегда три глаза. И в каждом пышный пучок травы», — как писал когда-то один ленинградский поэт. Клава… Это и есть квакающее позевывание черепа.
Но гораздо чаще ее обличье словно бы промежуточно, оно полностью растворено в жизни и проглядывает то новыми морщинками, которые с ужасом обнаруживаешь у себя и знаешь, что это не потому, что «сегодня не в форме», а потому, что организм заражен временем, как радиацией, и будет разлагаться у тебя же на глазах; а то ее обличье промелькнет в вопросе четырехлетнего сына: «Мама, а мертвых — вылечивают?». И с ужасом понимаешь, что и он тоже заражен временем, а главное — еще в утробе отравлен паническим страхом перед его бéгом.
На его вопрос тогда я ответила отрицательно, но заметила, что он был задан необычно: сын спросил это капризно-плаксивым тоном, явно зная сам — откуда? — простую и страшную истину, но этим тоном как бы сознательно прося его обмануть. И тем же самопритворным голосом завел: «Н-е-е-е-т, выле-е-е-чивают!» — явно сам не веря в это. Потом, под вечер, без явного к тому повода, вдруг: «Мама, а все умирают?» — с ударением на ВСЕ. — «Да». — «И я умру, когда сделаюсь стареньким?» Я ответила в какой-то скользко-неопределенной форме, хотя и с утвердительным оттенком. «Мама, а я потом снова рожусь у тебя сыночком?» Удивительно, что вопрос задается в той же притворной и неискренней манере, так же плаксиво, словно спрашивающий только и желает успокоительного обмана. Я, скороговоркой, заводя старую песню: мы никуда не исчезаем, просто будем потом «травой и сосной» (прикрываюсь Ахмадулиной), морем и птицей. «Нет, я хочу только Мишенькой, только твоим сыночком, не хочу — травой!» Меняю пластинку: вот родишь себе сына, а тот себе — сына, а тот себе — сына, и это все будешь — ты! Он, завороженно: «И это все буду — я…» Потом, очнувшись: «Нет, а таким-таким же Мишенькой, после травы и кустика, после сосны, моря и птички — я буду человеком?! Я хочу быть человеком!» Я, с деланной твердостью: через миллионы миллионов, через миллиарды лет… Но для ребенка ведь едино — что час, что миллиарды лет: немного успокаивается.
Однако потом, снова и снова заводит с самого начала: «А мертвых — вылечивают?» — чтобы вновь и вновь успокоиться на явной для него самого лжи. Несколько дней спустя вызубрил магическую формулу и, сам себя задуривая, повторяет ее скороговоркой, на которую только способен в четыре года: «Вот я себе рожу сыночка, и это тоже буду я. Да, мама? А я сначала буду, когда умру, травкой, деревцем, птичкой… А потом снова Мишенькой. И все», — облегченно вздыхает.
(Самое странное, что все это происходит в Крыму — на фоне сияющего солнца, сияющего неба, сияющего моря…)
Ненавижу Клаву. Клавдия — это еще ничего, это нормально; это как бы отчасти шекспировский Клавдий, правда, тоже замаранный смертью, но смертью чужой, а сам вплоть до последнего действия остающийся обладателем крепкого и красивого тела. Но Клава… Клава — это еще и вот что.
Возле Дома проходила дорога, которая в пятидесятые годы называлась Христиновским проспектом. Если стоять спиной к Дому, то влево она шла к центру нашего городка, бывшего тогда просто станцией, к уютным деревянным магазинчикам; вправо же, поднимаясь на Колтушское шоссе и пересекая его, она шла под уклон и пускалась в какие-то сумеречные края. Вы словно бы попадали на сыроватое дно узкого коридора; высоченными, до неба, стенами его были темные вековые ели. Там, слева от дороги, был маленький грустный пруд, подернутый ряской; на игрушечном пригорке возле него стояли маленькие нарядные домики, словно бы из андерсеновской сказки. В одном из них, очень опрятном, жила финка-молочница, носившая нам коровье молоко. Она была высокой, очень прямой, ширококостной, с чертами лица, словно бы требующими, чтобы их уточнили при помощи черного карандаша; светлые глаза ее были до донышка вымыты слезой. От нее исходил мягкий, добрый, белый запах, и этот запах и странный акцент приятно ласкали сердце. А в другом домике — веселеньком, с башенками и балкончиками — жила цветочница, торговавшая на нашем рынке сиренью, флоксами, анютиными глазками, пионами… Я ее называла моя любовница, потому что любила особо за запах анютиных глазок и вообще — ни за что, она была моя фея, и я не понимала, почему взрослые бывали так недовольны, когда я говорила, что она — моя любовница. То есть я ее люблю, не понятно, что ли?!
Иными словами, по левую сторону дороги находилось то, о чем думать было не только можно, но и приятно.
По другую же сторону, справа, располагалось то, о чем думать было невозможно. Даже само то направление пространства я не любила, оно вызывало у меня смутную тоску и тревогу. Кстати, оно совпадало с тем направлением, где за черным забором стояла времянка страшной тети Клавы.
Там было кладбище.
Сколько я помню мою бабушку, а помню я ее с тех пор, когда ей исполнилось, наверное, лет пятьдесят семь, — она, бывало, заканчивала все разговоры с кем-нибудь, кого видела крайне редко и знала, что еще долго не увидит, так: «Что же… Пора готовиться туда. Там с нами будет полный порядок», — и кивает головой в страшном для меня направлении. Она говорила о ком-нибудь: «Хорошо умер», — и замолкала, мечтательно улыбаясь.
Разговоры об умерших знакомых она обычно заканчивала так: «Ничего я не прошу, а вот дал бы Бог легкую смерть». Меня тогда удивляло, что она не просит легкую жизнь. Бог не дал ей ни того ни другого.
Разговоры эти хотя и велись в разных местах двора, в разных комнатах Дома, да и в разное время года, сливались для меня в один, и мне все кажется, что я слышу этот разговор в одном и том же, каком-то странном месте.
Будто бы я сижу на круглой подушечке, постеленной на сиденье финских саней. Рядом стоит бабушка, она с кем-то прощается и с усмешкой кивает в страшном для меня направлении. И я знаю, что там находится — там, куда кивает головой моя бабушка. Неизъяснимый час зимних суток, когда уже не день и еще не вечер. Небо серо, мглистый воздух словно бы растворяет глаза и мозг. И в этом воздухе, непонятно откуда — не с неба, а словно бы излучаемый черной под снегом землей, — рассеян повсюду и царит полновластно какой-то странный сумеречный свет, переходный, зыбкий, заливающий душу невыносимой тоской…
Клава… Клава — это еще и вот что.
…Пригожий летний вечер, и алый слоистый закат. Во дворе — благостно-тихо, только через открытую дверь на веранду слышно, как в самом Доме изредка звякнет кастрюлей моя бабушка. Вдруг непонятно где, в самом воздухе, возникает глухой, мерный ритм. Или это только чудится? Нет, не чудится: мерный, глухой, ухающий звук набирает силу. Словно кто-то огромный, с гору ростом, делая редкие шаги, неотвратимо приближается к Дому. Теперь даже становится слышно, как к этим редким глухим ударам изредка присоединяется какая-то взвывающая надрывная нота.
Старики выбегают на крыльцо. Они стоят очень близко друг к другу. Они уже все поняли.
Мимо Дома, слева направо, из центра городка — в страшном для меня направлении, медленно движется черная с красным похоронная процессия.
Трубы взвывают во всю мощь, жутко ухает огромный барабан, с церковным звуком звякают нездешние тарелки.
У стариков на крыльце жалко дрожат лица, они плачут навзрыд. А мне чудится, что эти люди в черном, с венками из мертвых цветов, не своей волей затягиваются туда, где, пересекая шоссе, исчезает в сумеречных краях дорога…
Однако я недорассказала, как умерла моя прабабка.
А умерла она для меня как-то безболезненно. По крайней мере, реальная смерть знакомого человека оказалась почему-то проще и спокойней воображаемых ужасов.
(Мой восьмилетний сын нынче: «Там, в „Волшебнике Изумрудного города“, есть одно слово, которое мне очень не понравилось. Я, как прочел его, так залез от страха под одеяло, на часах было двенадцать, и я до утра чуть не задохся». Я, думая, что речь идет о заклинаниях злых волшебниц: «Какое слово?» Он: «Нет, я говорить не хочу, я тебе пальцем покажу». Открывает книгу в нужном месте, глядя в другую сторону, быстро дотрагивается пальцем до самого первого слова вверху страницы. Читаю: «…смерть». Сын: «Неужели не могли написать: „конец“, „кончина“ или „погибель“?» — приводит целый синонимический ряд. Что к этому прибавишь?.. Разве что из Бунина: «Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)»).
Так вот, смерть моей прабабки, — а это случилось уже в те времена, когда я «эмигрировала» в Лермонтова, Есенина и забывалась в мыслях о том, в кого была влюблена — и, наверное, от этого, — прошла для меня стороною. Помню только, как дед по телефону, в странном сверхделовом возбуждении и даже почти радостно заказывал какой-то белый материал и гроб.
Надо сказать, что бабушка, почти всю жизнь промучившаяся с непростой, ведьмообразной свекровью (а свекровь была копией своего сына, точнее, наоборот), пережив ее только на девять лет, испытывала по ее кончине простодушную детскую радость, которую она, опять же по-детски, даже не умела скрыть, потому что не умела быть неискренней, хотя бы и «приличия ради». Склад ее души не давал ей впадать в тяжкие болезненные копания по поводу «того направления пространства», которое так отравляло жизнь ее внучке, зато она умела ясно и неомраченно жить теперешним днем, а нынче ее светлая душа внятно давала понять ее разуму, что наступило некоторое облегчение в ее жизни. Она была жизнерадостна от природы, и, может быть, мой сын, отрывая несчастливый билет и твердо веруя, что это случайность, в своем оптимизме похож именно на нее.
«Она и кричит», — рассказывала мне бабушка, помешивая кочергой хрупкие прозрачно-розовые угли, — она и кричит: «Почему я попала в ад?! За что меня поместили в ад?!» Ну, это если на русский перевести, а она, как в бред впала, так и по-русски перестала говорить. А я и отвечаю: «Но ведь кто-то же должен быть и в аду? — Бабушка мягко усмехается, лицо у нее спокойное, открытое. — Но ведь кто-то должен быть и в аду?!» — повторяет она, добродушно кивая своей шутке, которая ей, видимо, очень нравится.
То, что такая фраза, произнесенная бабушкой у ложа умирающей, не была так называемым «последним выстрелом», — это так же для меня ясно, как то, что Земля наша твердая, а вода на ней — мокрая. Что же это было?.. Может, то были единственные слова, которые она с детским чувством проделки (думая, что мучительница в бреду ее не услышит) позволила себе произнести вслух, — единожды за полвека терпеливого молчания, снесения любых наветов и тайных слез, — а разве для такой жизни появилась на свет ее солнечная душа?.. Однако слезы быстро высыхали, потому что солнце вставало и назавтра, и послезавтра. А может быть, так проявила себя эмоциональная незамысловатость человека, привыкшего называть вещи своими именами, потому что иначе не умел, несмотря на долгую школу жизни, которая переучивает и не таких; однако душа у моей бабушки была столь круглой и гладкой, что жизни было просто не за что зацепиться своими коготками, чтобы потом лихо перекрутить да перевертеть эту душу трижды наизнанку, как это она умудряется делать со многими…
Конечно, в раннем детстве и даже потом я не воспринимала свою прабабку как нечто до конца живое и настоящее. Она была какой-то вековечной реалией Дома, как тот легендарный, разрубленный дедом финский булыжник. Во времена же моих запойных чтений она мне стала казаться кем-то вроде чудом уцелевшей Кармен (ведь работала же она в молодости на табачной фабрике!), то есть существом опять же явно присочиненным, ненастоящим. И мне никогда не приходило в голову, что за этой Бабой-Ягой, придуманной Бастиндой, «расколдованной принцессой» и сочиненной Кармен стоит живая душа со своим детством, девичеством и любовью…
Старики для меня, как, наверное, для большинства очень молодых людей, были существами изначально иной, инопланетной расы.
Однако уход этого почти незаметного существа из Дома — вовсе не омоложение его, и я это очень остро чувствовала. Дом умирал стремительно, и я этому радовалась: впереди ждала жизнь.
Глава VIII
Как это часто бывает при смерти и с человеком, — Дому одно время сделалось даже лучше.
После кончины свекрови бабушка словно помолодела. Она стала приносить с рынка раза в два тяжелее сыроватые сетки с торчащим из них желтым букетом куриных ног; выпуск кулинарной продукции также возрос. Она, как умела, пыталась вдохнуть жизнь в свою дочь, которая продолжала небытие в темной комнате. Бабушка осторожно входила туда и с озабоченным видом начинала доклад: «За целый день проглотила кусочек селедки, пару картошин… каплю простокваши». Речь шла обо мне и в переводе на язык реальных фактов означала, что я сегодня навернула три миски картофельного пюре, котлетки жареные, котлетки тушеные, куриные ножки, банку домашней простокваши, особенно бабушкины голубцы… Стоит ли перечислять? Говоря про «кусочек селедки» (морковки, сосиски, котлетки), бабушка выразительно вытягивала вперед правую руку, крепко придавив желтым ногтем большого пальца ребро указательного, словно отмечая ведомую только ей зарубочку среди его коричневых трещин. При этом она искренне верила, что именно такой-то кусочек я за целый день и проглотила.
Однако мать это нисколько не занимало, как, впрочем, не занимало, слава Богу, и в лучшие времена, а то не услыхать бы мне от нее в шестилетнем возрасте «Смерть поэта», стихотворение, потрясшее всю основу мою, несмотря на то (а, может, именно потому), что я там мало что поняла головой; не видеть бы мне тогда, как она плакала над бунинской «Ликой»… Нет уж, каждому — свое: это именно бабушка должна показывать отметочку на своем коричневом от картофельной шелухи пальце.
Бабушкины методы открывания для кормежки моего шестнадцатилетнего клюва между тем изменились. Она уже реже говорила, умоляюще морща свое доброе лицо: «Давай, гуленька, возьми что-нибудь за целый день. Ты же упадешь! Умрешь!» А чаще (с тем же выражением лица): «Ну, давай, освобождай меня. Справляйся с едой и — гэть! — в сторону!» Она все-таки очень уставала… Омоложение было обманчивым. Однако ни взрослым детям, ни взрослым внукам не позволяла она вникать в свое сложное кладово-духовочно-погребное хозяйство. Не позволяла она им самостоятельно накормить себя, даже когда хозяйство это сократилось уже до одного только маленького холодильника… Неизменным ее ответом на такие попытки было: «Ты не знаешь, что брать… Ты не знаешь, где брать… Ты не знаешь — с чем…» Если она при этом даже и лежала, то вставала и, прихрамывая, — у нее уже болела нога — направлялась к своему станку.
Дед мой по-прежнему пребывал в амплуа провинциального трагика, но теперь в его бурных монологах появилась новая тема. «Ничего! — орал он, наступая на маленькую побледневшую бабушку. — Я к тебе мертвый с того света приходить буду. Я тебя душить буду!» — при этом он лиловел, сжимая кулаки, словно душил сразу двоих одновременно. Но, видимо, это был уже явный перебор в его актерском мастерстве, потому что бабушка, так и не пролив очистительных слез, садилась на табуретку и принималась, плотно сжав морщинистый, но все равно изящный ротик с милой родинкой над верхней губой, очень внимательно глядеть куда-то в сторону своими ясными серыми глазами. Она изо всех сил старалась не прыснуть со смеху.
Не будучи «образованной», она обладала душой лучистой и цельной и никогда не принимала суеверия за чистую монету. Душа ее, словно зная свои здоровые границы, естественно отторгала все темное и с ней несообразное. Правда, бабушкой допускались разные чудеса природы, но она всегда доверчиво полагала, что тому имеется строгое естественнонаучное толкование. Поскольку бабушка была очень приветлива, то женщины любили говорить с нею — у колодца, у калитки, на рынке, и иногда она из разговоров этих выносила непостижимые для своего ума сведения. Тогда она обращалась ко мне. Так, когда я уже училась на старших курсах медицинского института, она однажды очень смущенно просила объяснить ей («это все, конечно, враки»), правда ли, что у женщины могли родиться щенки от ее же пса («а муж-офицер, как узнал, так и застрелил — ее, щенков, пса и себя»).
Но во время дедовых новомодных спектаклей бабушка старалась не засмеяться не только потому, что не верила в мертвецов, приходящих душить с того света. Главное было в другом. Она знала, что умрет первой.
Глава IX
Пропущу несколько лет, в течение которых Дом продолжал умирать, но делал это, на мой нетерпеливый взгляд, слишком медленно. Хотя и свершились некоторые исторические перемены, сродни рассечению финского булыжника. Проистекали они, правда, на сей раз уже не от деда.
Горисполком решил, что наш городок не в достаточной мере отвечает своему статусу. То есть он вроде как был станцией, так и остался, и ничего городского в нем не прибавилось. И местные власти решили, что самыми действенными мерами в развитии городка по пути научно-технического прогресса будет снесение заборов вокруг деревянных домиков. Ведь забор, если хорошо подумать, — это нечто двусмысленное… Ну, допустим, не отрыжка частной собственности, потому что она у нас давно изжита, но, по крайней мере, выпячивание собственности личной. А для чего? И что значит — «личной»? От кого, собственно, нам отгораживаться?
Таким образом, городские блага явились к растерянным жителям нашего предместья не в обличье центрального парового отопления, газовых плит и канализации, что позволило бы иметь в каждом доме ванну, теплый туалет, чистоту, наконец, а в образе никем не виденной бумажки, согласно которой дома и дворы вокруг них вдруг как-то страшно оголились, что сразу напомнило войну, беду, разруху…
И коммунальное братство, спланированное властями, действительно очень быстро начало сплачиваться, давая свои веселые ростки. В наш двор (вернее, в наш бывший двор, который куда-то исчез, оставя осиротелый Дом стоять на юру) стали заходить бодрые, жизнерадостные компании.
— А че, папаша, — дружески обращались они к деду, усаживаясь за столик у крыльца веранды, — давай, не жмись, подваливай сюда! Закусон тоже наш!
Звенели стаканы. Дед, выжимая бессильную улыбку, уходил к сараю и там плакал.
К счастью, милиционеры, устав штрафовать некоторых домовладельцев, в отличие от нашего деда проявивших здоровое упрямство, давали последним ценный совет. Он предварялся некой преамбулой, в которой с казенной грациозностью изъяснялось, что дается он исключительно по дружбе, лицом частным лицу частному, а заключался совет в следующем: почему бы не взять прочную металлическую сетку, не выкрасить ее в зеленый цвет да и не расположить позади кустов, что раньше сами были позади забора? При этом вы, конечно, немного теряете, отступив от первоначальной границы, но зато сохраняете какую-то границу вообще. Летом эту сетку видно не будет, а зимой, правда, видно будет, но, при определенных обстоятельствах, можно сделать вид, что и не будет.
Такая сетка вскоре появилась и у нас. Кусты малины оказались, таким образом, выпертыми на улицу, но зато там же остались и граждане, желающие слиться с человечеством в счастливом граненостаканном братстве. Налетев на стальную сетку и изматерив всех и вся, они на танцующих ногах удалялись вершить свой вселенский банкет в иные пределы.
А Дом словно бы опять выкарабкался из тяжелой болезни. И эта возможность хоть как-то его пошатнуть ввергала в болезнь меня самое. Всю жизнь я страшилась заданности — хуже, чем тюремной клетки: мне становится трудно дышать в самом прямом смысле слова. Теперь я могу это назвать, например, «духовной клаустрофобией», столь свойственной людям сходных со мною занятий, а в юности я не могла ни назвать его, ни дать тому толкование, и поэтому страдала сильнее. Я чувствовала себя моральным уродом и все силы души моей отдавала на то, чтобы подогнать себя под некий — довольно абстрактный — среднеарифметический образец.
Согласно этому образцу человек не может, например, не любить свой Дом (потому что: «С чего начинается Родина…» и т. п.), не может так остро ненавидеть кого-то из своей родни (потому что это «корни» и потому что «старикам везде у нас почет», а, кроме того, «им надо всю жизнь быть благодарным, потому что они… всю жизнь тебя… не жалея себя…» и т. п.).
Естественно, что раз это вбивалось в мою голову — то тут же горохом и отскакивало. И те незабываемые трещинки на пальцах моей бабушки видятся мною сейчас, из моего окаянного и покаянного сегодня, а тогда не замечались и вовсе.
Вообще, чтобы поверить, что в розетке есть ток и что он убивает, мне надо обязательно самой сунуть туда свои пальцы. Жизнь, конечно, щедро предоставляет множество сходных возможностей. Кроме того, я, к несчастью, ничуть не похожа на свою ясноглазую бабушку, бездумно жившую инстинктом веры и доброты. Коль она обжигала руку о крышку кастрюли, то, естественно, мгновенно ее отдергивала, не успев задуматься о том: во всех ли или только в некоторых отдельно взятых случаях это следует сделать? и не есть ли данный случай какой-то частный, особенный (аномальный)? а если допустить, что это именно так, то не облокотиться ли всем телом на раскаленную крышку? ежели же и отнять руку, то с какою приблизительно средней скоростью?., и т. п. А это именно то самое, чем я, как проклятая, занимаюсь всю жизнь. И, лишенная простых и разумных охранительных инстинктов, я обуглила сердце.
Но нынче не время об этом. Успеть вернуть хотя бы малые долги.
Глава X
Перемены в Доме между тем, независимо от моего желания, начали проявляться с ужасающей стремительностью.
Вот я вижу мою бабушку, которая, уже не вставая, лежит в единственной жилой комнате Дома, превратившегося в сарай… Старики давно не моют полы, они остались вдвоем и, чтобы не прибавлять грязи, прибегают к разным ухищрениям вроде постилания на пол газет и газеток и еще каких-то серых оберточных бумажек, которыми дед потом растапливает уже единственную печь. Однако ходить по такому полу тяжело, и он часто спотыкается, поскальзывается, хватается за сердце и долго качается на месте.
Выгребная яма во дворе подобралась уже к самому крыльцу. Она лишена прочной деревянной крышки, прикрыта тряпкой, придавленной камушками. Помойное ведро из-под рукомойника деду выносить тяжело, и его вытеснила жестяная баночка от сельдей иваси, голубовато-серую воду из которой он дрожащими руками переливает сначала в какой-то зеленый тазик, а затем, тщетно стараясь не разлить раньше, выплескивает прямо с крыльца. К уютному запаху стариковских лекарств, как то: корвалола, валерьянки, капель Морозова — примешались чужие резкие запахи каких-то мазей… Для чего-то пришлось заколотить несколько окон — Дому закрывают глаза.
…Несколько дней назад мать сказала мне, что у бабушки гангрена.
Сказано это было в нашей городской квартире, вернее, в очередной коммуналке; за столом, кроме нас, никого не было. Впрочем, у нас и за его пределами не было почти никого. Мать не умела жаловаться — в силу гордости и врожденных понятий о том, как следует вести себя в обществе, а также из-за многолетней отвычки рассчитывать на чье-либо сострадание, кроме бабушкиного. Но нынче именно бабушка умирала от гангрены.
Я молчала. Мое высшее медицинское образование все равно не позволило бы мне найти какие-то иные слова, кроме как из естественно-научного лексикона. Мать попросила меня только (она никогда никого ни о чем не просила) привезти с собою в Дом мою приятельницу-хирурга, которая бы определила, сколько еще бабушке жить; если много (сколько это — «много»?..), то ее надо перевезти в город, в чистоту и тепло; если же мало, то лучше ее не мучить и оставить в Доме — до конца.
У бабушки, уже давно больной легким сахарным диабетом, некоторое время назад образовалась на пятке небольшая язва, которая то заживала, то открывалась вновь. Бабушка стала ходить в больших серых валенках с отрезанными голенищами, потому что приходилось много чего наматывать на ногу. Она заковыляла с костылем… Плиту она уже не топила, и дед варил свои холостяцкие супы на маленькой электроплитке.
Бабушка всегда втайне гордилась своей белой, тонкой кожей, даже белье носила швами наружу, потому что швы натирали. Странное, не правда ли, сочетание этой чувствительной — не по происхождению — кожи и грубой судьбы. Но судьба, наконец, словно бы поправила некий изначальный непорядок, и как раз именно эта редкая благородная кожа сделалась смертельно уязвимым местом.
И вот теперь бабушка умирала от гангрены.
Мой разум отказывается понимать, какой был смысл в том, чтобы это ясное, легкое создание уничтожить таким чудовищным способом. Какой смысл был в том, чтобы именно так лишать жизни бесхитростное существо, которое все годы свои, несмотря на их грубую, тупую, жестокую безрадостность, умело радоваться столь малому, что, наверное, не ценилось бы ни цветком, ни зверем и ни птицей? Я должна понять, иначе я сойду с ума, для какой такой высочайшей цели ее затопило таким запредельным, нечеловеческим страданием, — ее, только и просившую у Бога что легкой смерти? Может быть, это было сделано для того, чтобы навсегда, насмерть отбить желание жить у ясноглазого существа и чтобы любой конец был для него воистину счастливым избавлением от мук?
Ну, а для нас? Какой урок преподносится нам? Мы видим, как, истекая зловонной жидкостью, разлагается фиолетовая распухшая плоть. По сути, она уже совершенно приготовлена для окончательного догнивания в земле. Она нынче словно заранее помогает земле, начиная ту работу, которую земля лишь довершит — быстро и окончательно.
Но самое-то смешное… Нет, это просто до коликов смешно… Это невыносимо до слез, господи! — а чего еще хочет там эта оставшаяся часть плоти? Она ведь там чего-то еще хочет, она ест, пьет (горло смертника: дали рту напоследок выпить и закусить, а пища-то — ха-ха! — так и не успела дойти до желудка), она еще теряет там какие-то эпителиальные клетки, а, главное, — рождает им на смену новые! Ведь это унизительно! Зачем?! Диалектика?
Сколь малое утешение принесло мне мое естественно-научное образование!
И все же я знаю, какой урок преподносят нам подобные зрелища.
«Я прожила не свою жизнь», — сказала бабушка перед смертью. Она, всю жизнь созывающая детенышей к столу, никогда не говорила ничего подобного.
Теперь я раскрою: моя бабушка была очень красива.
Так что подружка моя еще и потому принимала ее за актрису. Она была так красива, что на нее оборачивались на улице, а когда оборачиваться уже не могли, потому что она догорала на своем последнем ложе, и ей оставалось совсем мало жить, то даже врач, видевший ее за день до смерти, был поражен благородной красотой ее ясного лица. Он тоже, точно ребенок, подумал, что бабушка была актриса. От природы у нее были две волны каштановых волос над открытым лбом. Потом они сделались серебряными. Они стали похожими на корону.
Бабушка была дочерью извозчика, а мать ее пекла булки и продавала их. Бабушка в детстве (странное словосочетание! как представить?) помогала ей. Тогда она, наверное, и привыкла стоять, обдаваемая жаром печи, словно металлург.
В той семье кроме бабушки было множество детей. Когда бабушку выдавали замуж, ее мать сказала грустно: «Вот и забрали из моего сада — розу». Этот рассказ у бабушки шел в подбор с рассказом о красавце красном комиссаре. При этом она с коротким вздохом замолкала и кивала головою своим мыслям: вот, дескать, такие дела… а что, дескать, поделаешь?..
Красота моей бабушки умерла даром в стенах Дома. Могла ли я любить эти стены? Они медленно высосали красоту, и она куда-то исчезла вместе с бабушкой, а Дом остался, и мне казалось, что и я, и каждый человек, попавший сюда, подвергаются этой замедленной казни.
Бесполезно истлевшая красота… Да полно, может ли быть у красоты — «польза»? Польза — слово пошлое. И, может быть, главный смысл красоты, не укладывающийся в рамки нашего детского эгоцентризма, заключается в ее трагической беззащитности, нерасчетливой избыточности, разрушающих наши тяжелые понятия о «пользе» и призывающих к последней, голой и страшной свободе?..
Человек, рожденный под знаком красоты, в любом случае смущает нашу душу — и делает это тем сильнее, чем менее он осознает свою красоту сам, — ибо в этом случае его мессианская роль предстает словно бы в наиболее раскрытом, пронзительно-обнаженном виде.
То есть красота осуществляет себя всегда, и даже, когда она трагически гибнет, а мы плачем по ней, — тогда, может быть, наиболее полно.
Но все равно! Должен же быть счастлив и сам человек, носитель ее! («Должен»… Смешно! Вера в «счастливый билетик?»). Уходящий в иной мир со словами, что он прожил «не свою жизнь», преподает нам жесточайший урок, и мы яростно начинаем поиски самоосуществления.
Вот в чем заключался главный для нас урок: ее страдание было так грубо и ужасно, чтобы мы торопились из последних сил найти свое любимое дело — и работать, работать, пока не рухнем замертво.
А бездельники — счастливые люди. Их бездарная лень ума и сердца означает, что они не боятся смерти.
Я не стану описывать ее невыносимые, нечеловеческие страдания. Сама бабушка была бы недовольна этим. Ее душа, знающая меру, давно бы уже возмутилась моим занятием. Если бы она могла сейчас видеть, как я, не отрываясь, коряво узорю эту бумагу, то сказала бы что-то вроде: «Когда будешь делать конец? Пора уже, глаза спортишь». И позвала бы к другому столу — накормить.
Кроме того, писать что-то мрачное о ней — было бы предательством против ее детски ясной натуры, и я закончу на таком воспоминании.
Вот она находится еще в сознании и до последнего часа верит, что поправится: это просто врачи «спортили ногу», выписав не ту мазь, зато теперь мазь, наверное, как раз та, что надо.
А за окном, залепляя все вокруг глухотой белизны и тишины, простирается беспредельная зима.
Бабушка спрашивает, холодно ли на улице. Я киваю. А вот когда мне было двадцать лет, говорит бабушка, помню, ехали мы в поезде, народу битком и пришлось всю дорогу стоять. А на мне были ботиночки такие новые красивые, знаешь, такие коричневые, высоко зашнурованные, как тогда носили, и они мне были немножко малы, так что ноги замерзли, так было страшно холодно ногам… так холодно…
Она умерла в день шестидесятилетия своей свадьбы. И ровно через двадцать лет после этой свадьбы — день в день — сгорел в танке ее первородный сын. Как соотнести, как осознать эти даты?.. Впрочем, не в совпадениях дело, и не они заставляют страдать.
Я вспоминаю… Мы с бабушкой на кухне. Она, наклонившись, растапливает печь, привычно набивая ее мелкими щепочками и бумажками, собирается зажечь спичку… Но вдруг, помедлив, достает из печи и протягивает мне маленький, плотно смятый клочок газеты. Продолжая глядеть в печь, она говорит безо всякого выражения: «Погляди там — я без очков — нет ли чего…» Я ничего не понимаю.
Я ничего не понимаю и сейчас. Потому что, когда я в ту минуту разгладила клочок, то оказалось, что это был раздел «Ленинградской правды» — под названием «Кто откликнется?» При помощи его люди, разлученные войной, пытаются найти друг друга: дети ищут своих матерей, матери — детей… Тогда у меня и у самой уже был сын, а со времени, когда бабушка получила «похоронку», прошло около сорока лет; мало того, моя мать даже нашла братскую могилу, в которой бабушкин сын похоронен и где на серебристом обелиске с красной звездой высечена его фамилия. Она привезла фотографию этого обелиска в Дом.
Так может ли мне кто-нибудь объяснить, что значила эта бабушкина просьба?..
Потом она взяла бумажку и равнодушно бросила в огонь. Она успела развести его, пока я, старательно делая отсутствующее лицо, скользила глазами по строчкам столбцов, одинаково начинающихся словами: помогите разыскать мне… помогите разыскать мне… помогите…
Где мне теперь искать?!
…Огонь крепкими когтями с треском разрывает живые волокна поленьев. Вот он уже заполнил красным светом весь проем печной дверцы. Но стоит ли закрывать ее? Огонь притягивает взгляд, когтит и ласкает, и вновь когтит сердце, и нету сил оторваться от этого мучительного в него вглядывания…
«Воспоминания, — пишет Бунин, — нечто столь тяжкое и страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них».
А бабушку похоронили вовсе не на том кладбище, что за домом тетки Клавы и в направлении которого мне всегда было страшно смотреть.
К тому времени появилось много новых кладбищ, а похоронные шествия по улицам запретили — наверное, для того, чтобы не расстраивать стариков, и я даже не знаю, куда нас так долго, долго везли посреди ватной тишины зимы на маленьком, с черной полосой, автобусе.
…Потом я помню себя на зимней дороге. Она ровная, твердая, гладкая. Она лишена земных вех и примет. Тревожный час перехода, когда уже не день и еще не вечер. Небо мглистое, растворяющее глаза и мозг, — и откуда-то, словно не с него, а из-под самой скрытой под снегом земли, разливается и царит полновластно, наполняя душу смертной тоской, зыбкий сумеречный свет.
Январь, 1987 г.
Евгеша и Аннушка
I
Они не исчезли: сквозь преувеличенную белизну кафеля, сквозь белый ворох, голубой горох занавесок с голубыми — сплошное порханье — оборками, сквозь сахарное сияние импортной мойки (страшно оскорбить ее порожней стеклотарой) — сквозь всю эту еще витринную, колом стоящую уютность проступают привычные очертания тесной, похожей на колодец, коммунальной кухни, где непонятного назначения трубы, лохматясь от пыли, громоздятся вдоль стен над тремя укромно вросшими в углы столами (каждый покрыт добела истертой посередине клеенкой); к двум из них притиснуто по стулу с вылезшей сквозь дырья коленкора серой ватой; третий же столик (точнее, хлипкая тумбочка с кое-как прилаженной доской для теста вместо столешницы) владеет только щелястым табуретом; четвертый угол сроднился с рябым, заткнутым пробкой и тряпочкой и все равно подтекающим, краном.
От кухни к лестнице, изгибаясь наподобие древнегреческого меандра, разворачивался глухой коридор.
Крюк на входных дверях, случалось, не откидывали неделю, и тогда, поздними утрами, проплывали замедленно в излучинах коридора — то ли грезились друг другу — три тихие тени в затрепанных ночных рубашках, вернее, две: Евгеша обряжалась во фланелевый халат. Она же, охотней и чаще других, нарушала общее заточение. «Анна Ивановна! — стучала она в дверь Аннушки, всегда сильно повышая голос, потому что слышала еще хуже, чем та, хотя была моложе лет на шесть, — а главным образом, для самоободрения, поскольку не знала, жива ли находящаяся за дверью. — Я в магазин иду — так, может, хоть хлеба вам принести?»
Аннушка обычно отказывалась. В своей комнате, десяти метров квадратных, она отдыхала от жизни. Это означало, что целыми днями она лежала, смотрела в потолок и молчала. На полу, рядом с жесткой, как земля, койкой, стояли два кувшина: один с водой — ее Аннушке хватало на несколько дней, другой, погрубее, сначала бывал пуст, затем, по мере иссякания жидкости в первом сосуде и в соответствии с законом природы, наполнялся; наконец пустым оказывался первый кувшин, а второй полным. Тогда Аннушка в несколько приемов садилась, обувала войлочные тапки с налипшими на подошву длинными седыми волосами и отправлялась в долгий путь по коридору, — пошатываясь, задевая стены, расплескивая второй кувшин; все же ей удавалось добраться до уборной и опорожнить его там, а первый, в кухне, вновь наполнить сырой водой. После этого отправлялась она в обратный путь. Теперь жидкость выплескивалась из первого кувшина, но, к счастью, не вся, — так что, добравшись-таки до своей комнаты, Аннушка снимала тапки и снова ложилась, чтобы, начав новый цикл сообщения сосудов, продолжить вечный круговорот воды.
Однако, когда Евгеша, громко хлопнув входной дверью, возвращалась, Аннушка прерывала свое занятие и опять, хватаясь за стены, теряя тапки и поминутно останавливаясь, упорно плелась на кухню, где дрожащими желтыми пальцами, наждачно шурша о корочку, подбирала со своей тумбочки половинку круглого, а затем, низко нагибаясь и сильно напрягая глаза, выкладывала на стол Евгеши семь копеек: три копейки одной монетой, копейку, копейку, копейку и еще копейку.
Я помню Аннушку крепкой шестидесятилетней старухой, когда, возвратясь по осени из деревни от дальних родственников (у которых каждое лето окапывала, окучивала, пропалывала, поливала что-то — и, конечно, баловала детей), она долго мылась в ванной; я вижу в приоткрытую дверь, как она, уже в сарафане, ополаскивает у раковины свои загорелые руки, шею и лицо, пригоже обрамленное густой, особенно белой сединой, а глаза ее в серебристом прогале запотевшего зеркала зелены, ясны, с четкой точкой крыжовникова зрачка, — Аннушка накрепко вытирается чистой, вмиг темнеющей тряпочкой и утомленно вздыхает.
Полочки над умывальником располагались словно бы в соответствии с возрастной иерархией. Ниже всех притулилась Аннушкина — деревянная, со щербинкой, на которой сиротел плоский обмылок с засохшими кольцами пены (туалетное постепенно вытеснилось хозяйственным), черствый огрызок пемзы соседствовал с лысой зубной щеткой и плоской жестянкой толченого мела; над Аннушкиной — возвышалась просторная, всечасно сияющая стеклянная полочка Евгеши, где в мерном стаканчике навытяжку торчали: щеточка, футляр для щеточки, тюбик начатый, тюбик про запас, целехонький — и все это образцовое великолепие, в том числе брусок детского мыла в ребристой перламутровой мыльнице, еще удваивалось прилаженным к полочке зеркальцем; выше всех пестрела моя, заляпанная белым, крышка от разломанного усилителя, на которой среди скучных принадлежностей личной гигиены валялись кремы после бритья (ими я в задумчивости иногда чистила зубы), кафешантанного вида одеколоны — для тех же приходящих мужчин, а также предметы, не имеющие к гигиене прямого отношения — вроде объектива к фотоаппарату «Зоркий», коробочки от магнитофонной кассеты и недогрызенной горбушки.
Раньше здесь, на месте моей, висела полка семьи милиционера — и порядок на ней был схож с Евгешиным, словно бы Наташа и вся советская милиция на Евгешу равнялись. Надо сказать, Наташин милиционер был бабник, так что она часто обнаруживала в мужниной казенной шинели записки совсем не служебного содержания. Тогда, всякий раз ревя белугой, — потому что выросла сиротой и роднее милиционера у нее никого не было, — она бежала убиваться к Евгеше, и поскольку Наташина жизнь была так удобно устроена для Евгешиного обзора и осмысления, — та умела успокаивать вдохновенно и твердо. Но Аннушка, даже через много лет после моего с Наташей обмена, так и не поняла главной причины Евгешиного против меня раздражения («Ирина — это уж, конечно, не Наташа») и, почти ежедневно, передавая мне это трудноопровержимое положение, простодушно относила соседкину досаду к тому, что я не столь чистоплотна, как жена милиционера («чистоплодна», — произносила Аннушка, трогательно не прозревая грозного библейского оттенка), — «хотя, — добавляла она, — Евгения Августовна неправду говорит: и Наташа в свою уборку не больно-то места общего пользования слегозила, так что пошла я как-то в тавалет за большое, а на полу что-то чёрно, пригляделась, а это кал».
Аннушка, конечно, не совсем ошибалась, когда нашим с Евгешей камнем преткновения полагала разного темперамента рвение в поддержании коммунальной чистоты. Чистота была вожделенной, маниакальной мечтой Евгеши, всю жизнь после краткого, как приснившегося, детства жившей по углам и коммуналкам, ее немеркнущей, девственной грезой, химерическим (и в этом неуязвимым) воздушным замком, высоким утопическим бредом и крестом пожизненным, — а для меня всего лишь обидной закавыкой на путях отбытия в заоблачный элизиум. Поэтому в те времена, когда деятельной Евгеши подолгу не оказывалось дома, когда Аннушка отдыхала от жизни еще не так окончательно и нуждалась иной раз хоть с кем-то слово сказать (а ее «радива», уже тогда безмолвное, служило подставкой для чайника), — она терпеливо дожидалась меня на нашей кухне, где я появлялась крайне редко, обнаруживая ее сидящей на низком широком подоконнике, в ночной рубашке, с неизменной фразой наизготовке: «Августа наша (так она для беззубого удобства иногда именовала за глаза Евгению Августовну) на днях, слышь, и говорит: Ирина что мыла на коридоре полы, что не мыла — ничего не видно». Вовсе не клюнув на застарелую наживку, я невольно тем самым сохраняю их давнюю коалицию, которую Аннушка, с детской легкостью, готова уже и нарушить. Но, молчание мое принимая за особого рода внимание, она скоро, бездумно и радостно предает Евгешины коммунальные идеалы: «Августа — она городскую грязь не понимает, она знает только свою грязь, деревенскую, — та густа така, черна, а намоешь — ну так сразу и видать, что мыто. А городская грязь — она така, что ее не видать, а намоешь — так чистоту не видать. А она только свою, деревенскую грязь знает. А деревенская — она…» — в таком духе Аннушка продолжает очень, очень долго, воодушевленная своим, всякий раз заново переосмысленным и тут же забытым открытием — и возможностью проговаривать слова после трехдевного от жизни отдыха. Я включаю свой приемничек, там что-то про космонавтов; Аннушка, выпростав из-под косынки ухо, некоторое время прислушивается и, сочтя, видно, что ее подмазка мной принята и что я никуда особо не тороплюсь, — уже спокойно, с широким замахом заводит:
— А вот, знаешь, мне сестра рассказывала, а ей старые люди рассказывали, что вот, бывало поставят лестницу и лезут на небо — думали, достанут. У нас там все леса, леса, и небо на них лежит так низковато, прям сверху так. (Показывает рукой чуть от пола). И вот, бывало, лезут, лезут, девка, лезут все… А вот ведь, полетели в космос, добились. Так значит, чувствовали чего-то…
Теперь в приемнике громыхает про Ленина. Аннушка, судя по напряженному лицу, не разбирает слов песни, но многократный рефрен, переходящий в скандированный, безостановочный лай, цепляет ее стертое годами внимание, и неожиданно она произносит:
— Ленин с нами век жить не будет. Надо учиться самим жить правильно, без Ленина.
Однако чаще повод к политическому направлению мысли Аннушка получала по возвращении из магазина Евгеши с готовым взорваться ворохом возмущающих ее совесть впечатлений, которые ей было некому как следует выложить, потому что Аннушка плохо слышала, а я плохо слушала; зато Аннушка всегда безупречно улавливала общий тон ошеломляющего Евгешиного рассказа («Ну вы только подумайте, милые кровиночки, ну скажите вы мне, пожалуйста, на милость, ну как им не стыдно на этом „Скороходе“ выпускать такие страшные сапоги?! Ну как им не совестно красить их в такой цвет, я прямо удивляюсь на них! И где только, я не пойму, они находят таких работников?!»), — и та же Аннушка, в неутомимой доброте своей, не оставляла Евгешино неизменно свежее негодование без сочувственного внимания:
— Да, много вреда еще учиняют люди. Мама моя, когда новую власть стали затевать, бывало, скажет: те же портки, только гашником наружу. А ты что думаешь, девка, — минуя Евгешу, она невольно обращается ко мне, желая быстрейшего понимания, — бывшие-то, которые власть раньше держали, так все и порушились? Не-е-ет, девка, они схоронилися. А ты как думала? А ты думала, они все порушились? Не-е-ет!..
Повторив зачин многократно, она принимается в тысячу первый раз пересказывать свою притчу. У одного мужика отняли корову, а у его — мать стара, жена да дети капельные. Поехал он в Москву, к Сталину, приходит в Кремль, а в кибинете сидит мужик зажиточный — с ихней деревни! Я, говорит, заместо Сталина, как скажу, так Сталин завсегда исделает, чего тебе надо? Ну, мужик отвечает: у нас корову взяли, единственную, а дети у меня еще мелкие, голодные. Тот засмеялся: корову?! Корову, говоришь, отобрали?! У тебя корову отобрали, а меня из собственного дому выгнали! Вишь! Корову! А меня из дому выгнали! Поняла, девка? Во как. А меня, говорит, из дому выгнали. Ну мужик и ушел. А что делать?.. Да, девка: люди все такие завиды, гóвны!
Этим грустным выводом вовсе не исчерпывались взгляды Аннушки на человеческое естество. Ее природная доверчивость, глубокая открытость и прочное сердечное убеждение, что все люди так же щедры, честны и добры, как она сама, и что все они ежеминутно нуждаются в неустанной жалости — потому уж, что на свет родились, — несуразно и, видимо, очень болезненно для нее самой, срослись с простыми и грубыми охранительными реакциями, которым выдрессировала ее слепая, лютая, напрочь непонятная жизнь. В первые годы Аннушкиного сюда переселения Евгеша и милиционерова Наташа героически долго отучали ее от привычки переспрашивать со всеми оттенками «кто там?», заслышав любой, даже заранее оговоренный звонок в дверь; по десяти раз «к кому?» — она дознавалась, уже откинув дверь на цепочку, и еще потом, впустив, с нескрываемой опасливостью зверя, разглядывала гостя зеленущими из-под черных диковатых бровей глазами — до тех пор, пока его, оглядывавшегося, не уводили в глубины коммунального лабиринта.
А при всем том она не боялась пускать к себе и вовсе не знакомых ей пришельцев, называвших себя лучшими друзьями или начальниками (чаще — друзьями-начальниками) ее забулдыжного племянника, подсылавшего их к тетке в периоды между своими отсидками; редкостное зловоние, сопровождавшее такие визиты, прорывалось в коридор уже с лестничной площадки (Евгеша мышью шмыгала на свою жилплощадь и громко поворачивала ключ), и вскоре их громогласный алкогольный пафос без труда отмыкал детское Аннушкино сердце и слабый ее кошелечек. В обмен на красивые и грозные легенды о Кольке, который ударным трудом получил ожоги третьей степени, о Кольке, который, будучи в ожогах, женится, а жена беременна, о Кольке, у которого ханыги выманили казенные деньги, а свои он все до копейки отправил в Фонд мира, — Аннушка незамедлительно отдавала все, что у нее оставалось на тот момент от пенсии в пятьдесят семь рублей (прописью). Тогда курьеры торопливо уточняли, что Колька получил ожоги ближе к четвертой степени, что Колькина жена беременна двойней — ну и так далее, — и, в соответствии со зловещим разрастанием несчастий, Аннушка дрожащими руками добавляла посланцам деньги, оторванные от неприкосновенной, даже при условии Аннушкиного опухания с голоду, заначки на похороны.
Аннушка жила на рупь в день. Из оставшихся двадцати семи рублей она оплачивала свет, газ и — всегда на три месяца вперед — комнату, в которой беспрестанно сырел северный угол, гнили рамы (Аннушка очень боялась, что они выпадут во двор и убьют ребенка), пол истлевал, а дверь была сработана словно для другого проема. Когда нам поставили телефон (событие сродни прибавлению семейства), мы с Евгешей, конечно, пытались оградить Аннушку от платы, тем более что (как мы ее убеждали) пользоваться-то аппаратом она будет не чаще раза в год, — но ежемесячно, в день пенсии, Аннушка выкладывала на стол ответственной квартиросъемщицы (Евгеши) ровно рубль тридцать семь, — а звонить ей было некуда.
Правда, я помню, как ей самой однажды, к Седьмому ноября, позвонили ее дальние родственники, и она, смущенная телефонной игрушкой, говорила трубке: «Мне прибавили к пенсии рубель семьдесят пять».
А потом только спрашивала — про детей да про детей, потому что про себя ей сообщить было больше нечего.
Так вот: пятьдесят семь минус площадь, свет, газ, телефон, плюс рубель семьдесят пять, минус неизбежные, иногда непредсказуемые траты (горчичники — нитки — троллейбус — мыло — лампочка — носки — ах ты, Господи, не напасешься!), но, что бы ни стряслось, Аннушка все равно измудрялась откладывать себе на похороны, и эта возможность дарила ей ни с чем не сравнимую радость.
Дать ей взаймы не представлялось возможным ни при каких, даже чрезвычайных, на грани жизни и смерти, обстоятельствах. Дело было не только в ее крепком знании, что отдавать нечем, — гораздо прочнее и старше было чувство, что это ей не с руки, да и все тут.
А я у нее «стреляла» иногда рубль-другой — до вечера (до ночи, до утра), — если Евгеши не оказывалось дома, а надо было что-нибудь срочное. Не помню случая, чтобы Аннушка отказала.
И в то же время, скажи ей кто-нибудь, что я, к примеру, мастерю у себя в комнате бомбу, — она не отвергла бы это как явную чепуху. «Правда, что ли, — отстраненно, опасливо-хмуро меня разглядывая, спросила бы она, — ты, говорят… это… бонбу какую-то у себя мастеришь?» И я знаю, что, сколь бы я ни отнекивалась (чем тверже и дольше, тем с меньшей для нее убедительностью), — она, как в типичном русском споре, когда противника попросту не слушают, только качала бы горестно головой и в несокрушимом своем упрямстве все повторяла и повторяла бы с расстановкой: «Не знаю, девка… не знаю».
Но что можно было поделать с ее независимостью, когда происходили случаи аварийные? Ведь бывало, например, что мы с Евгешей покупали новый замок для входной двери и пытались пригласить плотника; бывало, зазывали сантехника, отрывисто говорившего, что он не обязан; неловко всовывали чекушку починителю света, — во всех этих бедственных, особенно для кармана Аннушки, происшествиях, — как бы мы с Евгешей ни сопротивлялись и ни скрежетали зубами, она с пугающим, клиническим упрямством участвовала все равно, подсовывая желтые бумажечки, свою долю, нам под двери, или в кухонные ящики, или в висевшие у дверей пальто. Но иногда на нее обрушивались беды и вовсе катастрофические: покупка нового чайника взамен непоправимо прохудившегося. Несчастье такого калибра пробивало в финансах Аннушки брешь величиной в несколько совсем голодных дней. Точное количество этих дней легко подсчитывалось: если у Аннушки на полке шкафа, под синим гребешком, лежало пять рублей, то, следовательно, ровно столько дней и оставалось до ее пенсии, а если этих пяти рублей у нее не оказывалось (как в примере), то, следовательно, именно такое количество дней и предстояло Аннушке голодать.
Вижу, как она сосредоточенно-долго чистит в ванной подобранный где-то черный гривенник.
…Тут приходил Колька, и Аннушка отдавала ему часть похоронных денег.
II
Надо ли описывать, что в это время испытывала оцепеневшая за стенкой Евгеша? В ее комнате прочно воцарялся муторный лазаретный запах выпитого, а более, вследствие дрожащих рук, пролитого корвалола. С присущей ей обстоятельностью бытового воображения она живо представляла себе посуду с Колькиными вонючими объедками, как ни в чем ни бывало ожидавшую помывки в кухонной раковине; болезненно преувеличивая человеческие возможности, она уже предвидела результаты Колькиного небрежного посещения коммунальной уборной; самое тягостное, непереносимое предчувствие вызывало у Евгеши (Колька, бывало, являлся с какой-нибудь молчащей несчастной женщиной: «Тетка, знакомься: моя жена!») его, совместное со шлюхой, мытье в беззащитной ванне общего пользования. Евгеша в деталях предвидела объем предстоящей ей дезинфекции. И уж во всей грозной красе ей виделись последствия неплодотворности этого мероприятия.
Вообще голая механика быта, психологическая сцепка (таких слов она, конечно, не знала) житейских отправлений, их жесткая причинно-следственная связь были понятны Евгеше раз и навсегда. Она не допускала двух ответов в одной задачке. «Ирина! Спустись на землю грешную!» — было ее ко мне дежурным и, ясно, бесплодным призывом. На земле грешной Евгеша сознавала свою безоговорочную компетентность, потому что в заданности черных сапог и белого сахара (и их взаимодействии) не могло существовать тайн. Вот поэтому, собственно, она так уверенно пробегала мысленным взором не только зачитанную партитуру Колькиных визитов, но и любых визитов, свиданий, расставаний, невстреч; на вопрос «фрукт?» она мгновенно бы ответила «яблоко», часть лица — нос и поэт — Пушкин.
Житейская умудренность Евгеши зиждилась на ее фантастической мелочной наблюдательности (которой Аннушка, по причине старческой слабой памяти, а, главным образом, из-за склонности к бескорыстной созерцательности и отвлеченно-философским, более общего плана, умозаключениям, была лишена напрочь). Евгеша не допускала мысли, что она не все замечает из того, что видит, — тем паче, что видит не все. Единственной причиной своих промашек она считала сознательную утайку, маскировку и хитрость тех, у кого есть на то основания. Она не верила, что не все обладают такой же точно способностью, как она сама. Мою скандальную неосведомленность в некоторых вопросах, как то: погода на дворе, стоимость селедки, наличие детей у дворничихи — она относила только на счет злонамеренного симулянтства с целью выказать свое к ней неуважение. После обычного с моей стороны замешательства и растерянного «не знаю…» она смотрела на меня с отчужденным смущением, как человек, предполагающий, что с ним вполне могут состряпать дурацкую шутку, но все равно не знающий, как себя вести. Евгеша не верила в мою рассеянность («Молодая женщина!» — восклицала она с брезгливым отчаяньем, в очередной раз снимая с огня мой пустой почерневший чайник); при этом ее коробило подозрение, что на земле грешной у меня есть еще другая жилплощадь — раз я не боюсь спалить эту; лишь на полмизинчика она допускала мысль о моей мирной умалишенности, — и в первом случае была не права совершенно, а во втором, конечно, права, но это вовсе не рассеивало коммунальный призрак пожара, потопа — и сумы на старости лет. Так что надо отдать должное Евгешиной ко мне лояльности!
Сведения об окружающем мире добывались ею с легкостью виртуозной, точнее сказать, она получала их совершенно бесплатно. Ей не надо было подглядывать, подсматривать, потому что она без усилий видела и, несмотря на совсем слабый слух, слышала. Стоило ей даже просто спуститься вынести мусор — не в южный, пестрый и болтливый двор, а в наш угрюмый, безлюдный петербургский колодец, — как она уже доподлинно знала: кто-что, кого-чего, кому-чему, кем-чем и так далее. О ком, собственно, могла идти речь на нашей бесприютной, темной, словно вымершей лестнице? Но для Евгеши лестница бурлила жизнью, и, что самое необыкновенное, ей были известны не просто застылые факты, а все их начала и все концы, и она была непоколебимо уверена в собственной трактовке самого хода любого, даже заочно происходящего случая.
Да что резину тянуть; вот Евгеша возвращается из магазина, а там разбито дверное стекло: «Мальчишки-то, которые вчера еще, я обратила внимание, стояли, знаете, у того нового дома, а там же еще доски, палки от забора накиданы, убрать-то некогда, у нас все некогда, так они вечером-то, видно, пошли гулять на угол, теперь милиционер там не стоит, ну, и, видно, заняться-то нечем, вот и стали палками, как эти, как их, ну, мушкетеры, пихаться, а там еще скользко так, все льется из этой трубы и сразу замерзает, мороз-то вчера был градусов двадцать, не меньше, я, как вышла, так вздохнуть не могла, ну, видно, толканул-то один другого, поскользнулись, а палкой-то и в дверь, хорошо не в глаз, вот бы подарок матери-то, ну и бежать, осколки до сих пор лежат, дворника-то нет, этот дворник, что еще без двух пальцев, он пьяный к тем ноябрьским угорел, а новые-то все квартиру просят, а где им у нас квартиры, сами-то вон как живем, я, считай, сорок лет отработала, а эти без квартиры не идут, это только мы могли вкалывать за так, да еще старались, как лучше, эх и дура же я была, так и будут лежать осколки эти бедные до тех пор, пока из магазина уборщица не выйдет, так, может, хоть подберет».
Думаю, любому теперь понятно, что Евгеша никогда в жизни не опустилась бы до чесания зубов на скамейке с дворовыми кумушками (летом и наши мертвые дворы слегка одушевляются), потому что она не нуждалась в получении сведений из вторых рук, потому что от прилюдного перемывания костей ее хранили природные робость и стыдливость (а для сплетен ей вполне хватало ушей Аннушки) и, главным образом, потому, что такое времяпровождение пришлось бы диким для ее деятельной натуры. Свою обстоятельную приметливость она не распыляла на праздные абстракции, а ставила в одну упряжку со здравомыслием и практической смекалкой.
А всех, кто был устроен не так, Евгеша считала непутевыми. Это был ее самый частый эпитет. Непутевыми назывались не только люди (разумеется, я, Аннушка), но и вещи, и даже сама Евгеша, — стоило ей, скажем (случай из ряда вон, связанный с нездоровьем), упустить на плите молоко. Себя она, кстати сказать, вовсе не считала знатоком каких-то более сложных структур жизни (где заправляли жрецы власти, денег, искусства), — все эти элитарные сферы «людей с положением» были не вполне доступны для ее понимания, тем более, для реального, каким-то боком, в них проникновения; эта недосягаемость проистекала исключительно, как считала Евгеша, от отсутствия у нее хитрости и умения жить (их она, впрочем, уравнивала), — да, хитрость с Евгешей и рядом не лежала. Так что Евгеша была очень далека от самодовольства.
Но людей, пренебрегавших посильными благами: горячей пищей, одеждой по сезону, здоровой семьей, людей, не способных к общедоступным знаниям (обязательным разделом которых являлся, скажем, режим работы продуктового магазина), — а также людей, непонятных неизвестно почему (во все эти категории попадали опять-таки мы с Аннушкой), она считала самодурами.
Сама она непутевости и самодурству, как могла, сопротивлялась. Позже, когда Аннушка, обездвиженная хворобой, быстротечно угасала, но еще не угасла, — Евгеша на кухне толково и деловито научала меня — «у тебя-то получится» — срочно хлопотать в исполкоме об Аннушкиной площади: оформить как непригодную для жилья, чтобы после туда не вселили пьяницу.
III
Сегодня приходил Колька. Он забрал у Аннушки будильник — последнее, что еще можно пропить. А зачем Аннушке время, если подумать?
Один еврей все ходил в ГПУ спрашивать, который час. Они ему: чего шляешься?! Он: вы у меня все конфисковали — и часы тоже.
Вот и Аннушка повадилась ко мне спрашивать время, хотя ее будильник конфисковала не я.
Придет. Вопрос-ответ. Помедлит. Доковыляет до кресла. Присядет на краешек. Помолчит. Вдруг: «Ай, халат никак ты себе, девка, новый справила? Да краси-и-ивый какой! Где брала?»
Нету здесь Евгении Августовны: она бы живо восстановила истину. «Анна Ивановна! Ну не чудите же вы бесплатно! Ирина этот халат уже двенадцать с половиной лет как носит, еще на первом курсе сшила: тогда еще Николай Васильевич жив был, а она купила на занавески, но вышло коротко». — «Не помню», — виновато улыбалась бы Аннушка. «Ну как же? Нина тогда еще съездила в санаторий, в эту, как его, Хосту, а у вас тогда дверца от тумбочки была отваливши, мы с Ириной чинили». — «Не помню», — повторила бы Аннушка и, видя, что Евгеша не вполне ей верит и уже сердится, твердо ответствовала бы: «Нет, Евгения Августовна. Я не помню».
На другой день повторилось бы то же самое.
Аннушка обладала счастливым свойством все забывать. Нет, в отличие от меня, она все, что надо, запирала-выключала (да еще, бывало, вернется, проверит), но чудесные волны забвения мгновенно вымывали из ее памяти отпечатки событий простых и однообразных, чтобы Аннушка могла опять насладиться их новизной и неожиданной яркостью. Так же, например, и с моим халатом. Аннушка вовсе не нарочно выискивала предмет для разговора, она ничего не умела делать нарочно, да и готовых бесед у нее было сколько угодно, — в большей степени потому, что, забывая, она повторяла их ежедневно.
Вот и теперь после вопроса «который час» она начинает подбираться к креслу: ай никак картинка у тебя новая, да красивая какая, где брала? Вопрос «где брала» формален, точнее, ритуален. Это зачин.
Ну, допустим, я скажу: в комиссионке. И тогда Аннушка ответит, что в молодости очень любила ходить по магазинам: бывало, все обежишь, а теперь ноги не ходют. Но это тоже лишь зачин. «Да, девка, старому быть плохо. Я смолоду все старикам завидовала: сиди! отдыхай! Так, бывало, устанешь, ну, сил нет! А теперь, вишь, старой стала, а и толку нет: руки млявые, ноги не ходют, спина не сгинается. Нет, девка, плохо быть старым».
Но и это зачин. Я-то знаю…
«Ирина, вот ты ученая, скажи: для чего люди рождаются?»
Нет, счастливо все-таки была устроена память у Аннушки: она и в другой раз не знала, для чего.
История с часами имеет продолжение. Как-то Аннушка поймала меня уже в дверях — я убегала надолго; Евгеши дома не было. Аннушка горестно обронила: у кого же мне теперь время спрашивать? Я сказала: наберите ноль-восемь. (Пользоваться телефоном мы ее уже научили). В досаде она махнула рукой: «Тьфу! Я же ему надоем». — «Кому?» — «Этому, в телефоне».
— «Там же автомат!» — «Все равно. Автомату надоем».
Несколько раз в периоды сверхдолгого вынужденного анахоретства она все же отважилась обеспокоить телефонный голос. Надо было слышать, как она говорила: «Спасибо».
Главным правилом Аннушки значилось не быть людям в тягость. И то, что она предпочла меня автомату, означало, конечно, родственное ко мне доверие.
Но менее всего Аннушка позволяла себе быть в тягость государству, которое она считала и без того уж обремененным самим фактом своего рождения и вечно занятым в трудах праведных. До ее ли сырого угла тут? Сырой угол плодил мокриц, и Евгеше в жилконторе объяснили, что это протекает крыша, дав понять, что сложность починки тождественна невыполнимости. Евгеша очень не любила все неправильное, несправедливое и, хотя всегда верила, что начальству виднее, но начальники на местах, которых она лицезрела в жилконторе (куда входила неизменно съежившись и с лубочной улыбочкой), а также в магазинах, гардеробах, пунктах приема стеклотары и в других ответственных казенных точках, казались ей столь малыми калибром, такими уж паршивенькими и завалящими, безо всякого тебе облика и подобия (а в другой раз она все равно входила в жилконтору, съежившись и с лубочной улыбочкой), что, возмущаясь, она позволяла себе подвергать их безудержной публичной критике. А заодно доставалось и вовсе уж простым смертным. Она костила, шерстила и песочила не только тех, с кем ее смешивало в мясорубках очередей, транспорта, присутственных мест, но и других, чьи неправильные действия наблюдала издали, а все равно расстроилась, — потому что это все были частные проявления непорядка на местах, а Евгеша любила, чтобы на местах, доступных взгляду, обонянию и прочим земным чувствам, все было бы опрятно. «…A я ей и говорю, не побоялась: чего же вы это делаете, сволочь вы этакая!» — доносилось из кухни.
Несколько раз Ёвгеше в жэке все же обещали, что придут.
Задолго до назначеного дня Аннушка начинала готовиться. Полупарализованной рукой («Дайте помогу, Анна Ивановна!» — «Нет, я сама») выволакивала она в коридор доски от койки, «етажерку», фанерный шкаф и ложилась в девственно-пустой комнате, постелив газеты «Правда» и «Ленинградская правда», что выписывала Евгеша.
Никто не приходил. Удесятерив срок ожидания, Аннушка, в том же порядке, втаскивала имущество назад.
«Да сходите вы туда сами! — ни на что не надеясь, посылала ее Евгеша в контору. — Может, они сжалятся: пожилой, больной человек! А то, — Евгешу, как всегда, швыряло в крайности, — стукните там кулаком по столу, да пошлите их всех хорошенько матом — чтоб чертям тошно стало!» — «Да разве они меня испугаются?» — слабо улыбалась Аннушка (матерных слов отродясь не знавшая). «Да уж, это точно! — яростно заключала Евгеша. — Боятся они нас, как ежик задницу! И все равно! Надо матом кричать, стучать кулаком!» (Самым сильным Евгешиным выражением было приведенное «сволочь вы этакая» — дурацкий плод любви несчастной ее осмотрительной робости — и вздорности непредсказуемой). «Нет, — на поджигательские призывы Евгеши твердо отвечала Аннушка, — я не хочу попасть в самашедшую. (То есть — в психиатрическую больницу). У нас живо попадешь». — «Что вы опять свое, Анна Ивановна! Туда не так просто устроить!» — «У нас, в Советском Союзе, — просто». — «Еще вас Советский Союз обидел! — распалялась правоверная Евгеша. — Он вам пенсию дал! На дом приносят!» — «Пенсию я заработала, — спокойно отвечала Аннушка. Потом прибавляла: — Ее тоже начисляют неправильно».
В ее путаных представлениях о социальном устроении нашего государства (которое, устроение то есть, ее занимало, правду сказать, гораздо меньше восхитительно-отвлеченных мудрствований, вроде: «Для чего сделан космос?») преобладало традиционно-крепкое убеждение, что на самом-то, самом верху, в хрустально-прозрачной синеве безукоризненно-правильный перст Человека Всемудрого нажимает безукоризненно-правильную (других там нет) кнопку, а вот пониже почему-то затевается стыд, смрад и бестолковщина. Таких же взглядов была и Евгеша. Она приглашала меня разделить ее гражданское ликование, когда по телевизору наш новый руководитель обольстительно улыбался американскому. (Евгеша свято верила, что политика делается под барабанный бой и звон литавров). «Какой он умный, нет, ты только подумай, какой умный!» — «Да уж, Россия умными правителями не избалована, ублажить нетрудно». — «Ну уж тебе-то, Ириночка, конечно, все дураки, это я давно знаю».
И все же, что касается Аннушки, то была в ее стройных убеждениях какая-то досадная сбивчивость, заноза, привносящая ощущение зудящего, неясного беспокойства, — одним словом, зрелый — твердый и ровный — плод законопослушия был словно надкушен позорным червяком. Задачка, тревожившая иногда Аннушку, если перевести ее на язык общих цитат, звучала примерно так: может ли Бог сотворить камень, который сам не может поднять?
…Я ставлю для Аннушки пластинку. Поют муж и жена, они аккомпанируют себе на гитарах: он — автор музыки на тексты классических стихотворений. Аннушка знает этих ребят и, как ни странно, помнит, путая лишь имена. (Некоторое время они жили у меня, вызывая ее безоговорочную любовь и, — поскольку мне приходилось иногда ночевать у нее, — незамедлительное возмущение Евгеши).
Аннушка слушает пластинку очень внимательно и в конце каждой песни порывается спросить: а как их дети? а как родители? а это за деньги или так? (Серафически незамутненная душа Аннушки гениально догадывается, что искусство, в сущности, должно быть «за так»). Они получили по восемьдесят пять рэ на нос, мимоходом отвечаю я, тайно наблюдая, какое впечатление произведет на Аннушку эта сумма, — не астрономическая, конечно, но солидная в сравнении с ее пятьдесят семь прописью. Она шевелит губами, подсчитывая: наверное, умножает на два… Получаются деньги и вовсе хорошие! Она оживляется. Продолжает считать. Грустнеет: видно, вспомнив ребенка, поделила на три… Ах, если б она умела разделить эту сумму на пять лет жизни безо всяких средств к существованию!
«У нас государство, вишь, для людей… — неуверенно заводит Аннушка. — Не буржуазное…» Она явно смущена схемой, в которой близкие, осязаемые люди попали в какой-то эксплуататорский класс, и одновременно напугана их музыкантской природой: снаружи свои вроде ребята, а на поверку-то, видно, — не те?.. Государство, оно зря не будет… «Правда, и они люди… — беспокойно начинает Аннушка через пару минут, не находя душевного равновесия от своего предыдущего вывода и вдвойне смущенная новорожденным ответом задачки. — Им тоже надо… да… Ну, у нас об трудящих думают», — не очень-то веря собственному голосу, заключает она с ударением на «трудящих».
По отношению к человеку у нее были две формы поведения: ласка и опаска. И если она чувствовала, что во второй нет нужды, то проявляла исключительно первую форму.
Под лаской не надо понимать сопли в сахаре. Аннушка никогда не сюсюкала. С годами у нее осталось сил только на пассивное проявление ласки. Она ничем не беспокоила своих дальних родственников — ни во времена инфарктов-параличей, ни под угрозой отправки в интернат (родственников, о которых, перебирая всех поименно, с невыразимой любовью рассказывала Евгеше), — это и было с ее стороны проявлением величайшей к ним ласки, потому что иным способом осуществить ее Аннушка уже не могла.
Странно была устроена Аннушка! Я скорей бы приняла за чистую монету, что ее послали в космос, сочтя самой здоровой женщиной страны, у нас это возможно (еще во времена Нерона блудницы официально объявлялись девственницами — и наоборот), нежели поверила бы, что она обидела кого-то или обиделась.
Покуда она держалась еще на ногах, то всегда посылала — к Седьмому ноября, к Первому мая — добытые в нашем магазинчике (ходить дальше она не могла) гостинцы для малых деток этих родственников: бедные вафли, обломки печенья в грубом бумажном пакете, кулек карамелей, — я уверена, что детки ни разу ничем из этого не прельстились.
Чуднó мне всегда было, как это она не озлобилась, — от другого на ее месте еще при жизни остался бы прах. Ну, конечно, на злобу-то ведь тоже силы нужны, а где их взять? Но я имею в виду не крайний, безусловно талантливый, случай инфернальной злобы-матушки, а расхоженькую, рядовую, не ахти какую, — мелочную озлобленность средней руки: перекошенный ротик, щучий оскал, просевшее серенькое лицо, — всеобщий, как прописка и могила, удел.
Ведь что получается: Бог лепит себе в радости розового младенца — сырого, никакого, всякого. Потом глядит пристально, долгие годы глядит: никак тот чем его удивит?! Тот, ясно, не удивляет. Господу Богу нашему делается скучно с нами, и, в досаде своей великой, дланью своей всемогущей, принимается он потихоньку младенца бывшего приминать-демонтировать (морщинки, складки дряблые, все такое) — чтоб, в ожидании чуда, снова плюхнуть его в чан с первоосновной, чавкающей, серого цвета глиной.
Морщинки, складки дряблые — все это было у Аннушки, тело независимо проделывало свой смертный цикл, но незамутненность ее сердца наводила на мысли теософского характера. Возьмем лежащее на поверхности объяснение: Аннушка верила в Бога (платочек… ладанка… иконка… куличи…).
Но Аннушка в Бога не верила. Она не успела в свое молодое время даже услыхать про небесного Отца, потому что прежде у нее вышибли из-под ног почву (как табуретку из-под ног висельника), а небо заколотили наглухо, так что еще до рождения своего (в 1913 году), а может, еще до зачатия, Аннушка была лишена даже шанса на спасение.
Я слышу, как она говорит: «Нет, ихние праздники леригиозные я не справляю: у церквы все такое непонятное, ничего не запомнить, — а я вот лучше наши праздники, советские, понимаю». И точно: недалеко от нашего дома стоял и, слава Богу, красуется сейчас собор Николы Морского, — Аннушка в нем не была ни разу. Зато, пока ноги ходили, она отправлялась в кинотеатр «Москва», где с утра до вечера просматривала фильмы, шедшие в этот день во всех трех залах — Розовом, Синем и Зеленом.
Вернувшись домой, она бралась пересказывать их нам с Евгешей, держа в руках алюминиевую кружку с пустым остывшим чаем.
Но тут выяснялось, что она ничего не помнит.
Она всегда помнила, если в фильме убивали детей. Ей как-то слабо верилось, что это невзаправду. Она тут же затевала тягучую свою песнь, что нет, мол, одинокой-то жить лучше («Одна голова не бедна, а и бедна, так одна»); не надо детей родить, бабы глупые, ведь это же ужас, какая жисть тяжелая, а они себе все родют — а на что? на мучения и погибель? Я понимаю, говорила Аннушка, хочется с мужиком, но надо же себя держать, надо дисциплину, а они? — чтобы потом в огонь?! чтобы живьем закапывать?! Они же ведь маленькие — как это можно — в огонь?.. (Сюжет фильма, прежде чем навсегда заглохнуть в зыбучих беспамятных песках, внезапно взмучивал страшные картинки оккупированной Псковщины.)
Вижу ее лицо, перекошенное горестным изумлением.
Ясно, всякий психически нормальный индивид не одобрит, когда человек убивает человека, тем более ребенка. Ясно, что обратные радости чувства я испытывала, когда Аннушка рассказывала, как за их деревней Ануфриево много дней шевелилась земля, поглотившая еще живые тела. Или вот случай: приходят к женщине партизаны, просят хлеба; женщина, отняв от своих детей, отдает им все, что есть в доме; партизаны, отужинав, не торопясь, расстреливают и женщину, и детей ее, — «за содействие партизанам», потому что оказываются не партизанами вовсе, а фашистскими провокаторами. В этой истории есть уже элемент коварства. И все же здесь речь идет о капле крови, а у нас, затопленных океаном, чувствительности к капле нет. И мне страшно от того, что по этому поводу могу я испытывать только «глубокое возмущение», бессильное, стертое негодование, — иногда, может быть, животный ужас, — но удивление, удивление?.. Может быть, удивилась бы я обратному сюжету: пришли люди убить людей, а пожалели, дали хлеба. Может быть.
Но ведь Аннушке-то кровавой похлебки досталось поболе многих. Так почему же это девственное удивление было в ней так сильно? Словно остальные чувства не успели еще нарасти, подмять, задавить. Только с удивлением Авеля могу я сравнить его.
Своих детей у Аннушки, как можно догадаться, не было. Да и откуда бы им взяться? Весь объективный ход истории, еще до ее рождения, обрек Аннушку на существование без корней и побегов, чтобы даже тень тени не оставила она после физического своего уничтожения. Конечно, можно было бы, очертя голову, назло (себе, детям) взять вон да и нарожать вдосталь, как делали и делают несознательные бабы, которых Аннушка, никого не судившая, осуждала. Но псковская Даная 1913 года рождения, в предчувствии ли обобществления или иных апокалиптических зверств, а может (посмотрим шире), в обостренном удивлении перед самим фактом смерти, — не захотела превращать Золотой дождь в бренное мясо, а потому «держала дисциплину».
А ведь за ней ухаживали! Потом, потом, когда от человека остаются документы, наткнулась я на маленькую фотку для старого паспорта, откуда рванулись ко мне, как из распахнутого окна — и соболиные брови, и медвяные губы, и гордые ноздри, и ясные глаза — все то, что мы, недоверчивые, считаем существующим только в фольклоре. Да и сама Аннушка как-то к слову рассказывала, что в деревне к ней пытался прилабуниться один парень, а потом и в городе — «один положительный мушшина», и в обоих случаях она, по ее замечательному выражению, «скрылась от него в народе» — то есть, понятное дело, дала стрекача.
IV
У Евгеши тоже не было детей, и им тоже неоткуда было взяться. Казалось бы — неоткуда! Дело-то плевое. Но она появилась в мир образца 1919 года, и ей тоже, задолго до появления, наравне с равными, было отказано оставить по себе память.
Она выросла в Новгородчине, в семье железнодорожника, уроженца Эстонии. Двух последних качеств оказалось, конечно, достаточно, чтобы в тридцать пятом Август Янович не вернулся с работы. До того — был крепкий гостеприимный дом, необычайно вкусная, впрок идущая пища (Евгеша всегда предпочитала простые каши и овощные супы острым и пряным блюдам, — она и сама словно была сделана из чего-то пресного, как овсянка, безвкусного, бесцветного, — но отлично слаженного, жизнеупорного и радостно-хлопотливого, как мельничная вода; она часто рассказывала, брезгливо нарезая на серой бумажке мокрую пакостную колбасу, как по утрам, наполняя толстостенные глиняные горшки, в русской печи уже стояли-поджидали детей разные — на выбор — каши на чистом коровьем масле — и что это были за каши! А как белотела была рассыпчатая картошка! А как густы сливки! «А у нас корова была — ведровичка. А лук на огороде — большушший, как шуба!» — вторила Аннушка); до того — была дружная семья, и мать, идя в лес с тремя маленькими дочерьми, всегда оставляла для них на тропинке, — играя, свой путь помечая, — то цветок, то грибок, то странноватого вида корень; до того — Евгешу звали Женни, точнее, Сенни, потому что в эстонском нет шипящих, — и русские соседи называли ее так же, — а фамилия Сенни была Иыги, что означает «река». Но все рухнуло разом: утратив мужа, мать слегла, стала молоть чепуху, не узнавала дочерей, — а соседям вдруг сделалось трудно произносить имя «Сенни», будто в русском нет свистящих. В Ленинграде Женни посчастливилось быстро выйти замуж, и хотя муж погиб в первые дни войны, он оставил ей угол и русскую фамилию. Теперь она значилась Евгенией Красновой, и как бы поощряя приобретенную доброкачественность, Бог-отец послал ей зачатую в браке дочь. Но то ли потому, что Он рьяно осуществляет надзор за правилом «сапожник — без сапог» (Евгения работала детской медсестрой), то ли потому, что и Бог-сын, в белом венчике из роз, неожиданно для себя оказался приписан к устроителям тотального уничтожения, а только дочь была тут же и отнята: «туберкулезный менингит». (Не все ли равно?) Как ее звали?..
Тем временем Евгения попыталась узнать что-нибудь о судьбе отца — в том знаменитом, мрачном, как сыпнотифозный кошмар, здании на Воинова, бывшей Шпалерной. Но там ей мгновенно дали понять, что их служба не предоставляет сведений, а, напротив того, их получает. И Евгения, перещупанная вурдалачьими глазками каких-то людей в форме и еще других, тихих, жутких, без формы, была отброшена на улицу тяжкими дубовыми дверьми. И точно (не тронь лиха, пока тихо): щупальца Избушки на упырьих ножках, мерзко виясь, подобрались к ней сами.
В госпиталь, где она служила (там ее монашья чистоплотность еще более укрепилась и даже — о добрые старые времена! — была отчасти удовлетворена), поступила анонимка на дочь врага народа.
Евгеша до сих пор удивляется следователю, к которому в том же самом здании ей довелось попасть. Что им руководило, она понять не может. После пятьдесят шестого года она пыталась найти его, но все приметы у нее уже тогда, в тот день умопомешательства, отшибло начисто.
Следователь, пробежав глазами донос, принялся громко спрашивать ее паспортные данные и одновременно писать что-то на клочке бумаги; Евгеша, почти в обмороке, — ее чудовищная наблюдательность! — заметила какое-то несоответствие в его действиях. Следователь подал ей эту бумажку, приказал пальцем молчать, и она прочитала: приходите сегодня во столько-то… и далее адрес. Дав ей очнуться, перечесть, запомнить, он забрал записку и сжег ее в пепельнице.
Евгеша говорит, что к нему домой на шестой этаж (только и запомнила этаж: тело запомнило) она ползла на карачках. Ничего она не знала, кроме того, что он позвал ее «попользоваться». У его дверей она лежала без сил. Потом позвонила. Все произошло молниеносно.
Он открыл сразу, будто караулил, и в коридоре, не зажигая света, сказал ей слова, смысл которых дошел до нее только на улице: срочно иди в военкомат — и на фронт, я звонил, все устроил: на фронте ты еще, может, спасешься, а здесь у тебя нет ни шанса.
Почему он повел себя так? Неизвестно. Евгеша говорит: может, пожалел мою молодость. Неисправимая Евгеша! Вот и сейчас, когда она ходит говорить тихим голосом в исполком и там ей очень вежливо врут (а она не всегда понимает, поскольку в извилистостях поведения не преуспела, — и даже такая, нового поветрия, ленивая изобретательность ставит ее в тупик), — иными словами, если в присутственных местах на нее накричали не сразу, а квалифицированно имитировали внимание и не зевали в лицо, если фразу «зайдите через месяц» изрекали «интеллигентными» голосами, — она возвращается домой в уверенности, что это произошло исключительно потому, что они «пожалели ее старость».
Дальше мои сведения о прошлом Евгеши путаются. Она действительно попала за пределы города, по-моему, в Ленинградскую область, но работала и в блокадном Ленинграде, и это абсолютно точно, поскольку я отчетливо помню ее рассказы о блокаде.
Она, например, говорила, что, возвращаясь домой из госпиталя, каждый раз ждала найти под подушкой кусочек хлеба. (Перевоплощение рождественского подарка на нашей горестной почве). Так что, войдя в свою госпитальную каморку, Евгения тут же бросалась шарить под подушкой. Кто это такой всемогущий, великодушный и сумасшедший мог положить ей хлеб — или же хлебушек иной раз самозарождается под подушкой, Евгеша даже и не гадала, она просто знала, что он там обязательно будет. Не обнаружив хлеба в очередной раз, она еще тверже знала, что завтра уж он будет точно. С этим знанием, не раздеваясь, она проваливалась в сон. Цепляясь за эту приманку, она месяц за месяцем переползала через тьму хищной блокадной ночи. И благодаря этой вере Евгения выжила.
Но то ли несколько дней не добрала она до установленного в верхах срока, то ли тоскливые конторские курицы неверно выправили ей документы, а только, как, впрочем, многие, Евгеша не попала в официальные списки блокадников; снова не довелось ей насладиться «дополнительным хлебушком», грошовой подачкой, существующей опять-таки более в области воображения, — и по-прежнему пусто под старой подушкой.
С ожесточением вспоминала Евгеша каких-то обидчиков военной поры, которые нагло обворовали ее, и, больше всего жалея пропавшую шубу, в сердцах повторяла, что она все равно не пойдет подлецам впрок и что Бог накажет. Под Богом она понимала, если б умела объяснить, разумный ход вещей, пусковым моментом которого неукоснительно считала, конечно, материю и верховную власть государства. По крайней мере, одним из ошеломивших Евгешу уличных впечатлений, которое иллюстрирует ее простосердечный атеизм, было следующее.
Рядом с нашим домом синеет куполами Измайловский собор, похожий на важного генерала в отставке (и уже тем хотя бы известный, что Достоевский венчался там со Сниткиной), а ныне используемый как склад. Однажды, когда Евгеша подрабатывала в газетном киоске как раз напротив этого храма, она вернулась в непомерном возбуждении и с испугом заявила, что по этой улице взялся ходить сумасшедший парень. «И знаете, — добавила она с искренней жалостью, — такой молодой!» Я заинтересовалась основаниями для диагноза, и она отчеканила, что собственными глазами видела, как он — «ну вы только подумайте!» — мимо храма проходя… на него крестился!
С войны у нее саднили еще другие обиды, — скорее, на непутевых людей, нежели на руководителей. Военным начальством Евгеша как раз была довольна — уже потому, что, как она рассказывала, санитарное состояние города в блокаду блюлось очень тщательно; с армейской четкостью распространялись среди населения дезинфицирующие, бактерицидные таблетки, и эпидемии не вспыхивали. А обида ее проистекала от противного ее естеству задания, которое она, поступясь брезгливостью, вынуждена была выполнять у линии фронта. (Тут опять сгущаются сумерки, потому что я не помню места и времени; могу только сказать, что это и было то спасительное от города удаление, которое ей жестко порекомендовал следователь). Бедной Евгении приходилось (вижу кошку, с отвращением отряхивающуюся после прикосновения нечистых рук) сопровождать забеременевших в военно-полевых условиях женщин прямехонько в эвакотыл. («Ну вы только подумайте, милые кровиночки: они там нагуляли с мужчинами, это… свое удовольствие получили — и готовы барыни! А мне с ними тащись — да под пулями! да без дороги! да в мороз! да ночью! — с какой такой стати, скажите вы мне на милость?! А другой раз душу уж до того измутузят — тошнит их, видите ли, или хочет чего-то, знаете, необычного, фифа такая, — ну, кажется, прямо убила бы на месте!»)
Надо думать, не убила бы. Часто, в неожиданно бурном запале, наговорив мне или кому другому обидные, несправедливые слова. — она незамедлительно тяжко расстраивалась, стыдясь своей мелочной вздорности, и переживала выходку всегда гораздо больней и дольше обиженного, неизменно втихомолку плача и слезами разбавляя горький корвалол. Но ее добросердечность, в отличие от бездумно текущей через край доброты Аннушки, придирчиво искала себе толкового и достойного применения. Непутевость и бестолковость (под которыми она разумела любое отклонение от плакатно канонизированной прямой) вызывали у нее какую-то щекотку вестибулярного аппарата — сродни неуютному чувству брезгливости в отсутствии бытовой чистоты. Показательна одна фраза, относящаяся к послевоенному житью в сельской местности, где Евгения (и швец, и жнец) вкатывала квелым свиньям, сквозь дубовую кожу их, растворы неведомых еще в войну антибиотиков и (в дуду игрец) — принимала младенцев у представительниц рода человеческого. И вот одна незамужняя, по словам Евгеши, с нагулянным брюхом, отправилась куда-то на сносях, да и разродилась на зимней дороге, причем примерзла кровавыми тряпками; Евгения, по счастью подоспевшая, ее, конечно, отодрала, а младенец оказался живехоньким, и хоть бы ему хны. Вот в связи с этим Евгеша и сформулировала на кухне один из главных своих постулатов: «Незаконные-то — они всегда легко выскакивают».
Себя Евгеша относила к гораздо менее везучим правильникам. После войны она вышла замуж за человека, старше ее на шестнадцать лет, — разница, казавшаяся ей показателем мезальянса, или, говоря ее языком, собственной непрактичности. Правда, по Евгешиным понятиям, он был «большой человек»: уже в этой квартире, с коридором-меандром, он привечал таких же «больших людей»; супруги принимали гостей все в той же стылой комнате с окнами на север, где Евгеша обитала посейчас, — иными словами, на жилплощади, которую ее высокопоставленный муж, следовавший в своей жизни идеалам всеобщего равенства и не делавший для себя исключения (по глупости — говорила Евгеша), предпочел реальной отдельной квартире. Он еще сильно почудил перед смертью, но Евгеша, в которой сила долга была прочнее любого «чувства», оказалась крепка. Старик забывал включать, выключать, запирать, спускать воду; он не понимал времени, путал лекарства и обвинял Евгешу в чудовищных, практически невыполнимых злодействах. Не зная, к чему бы себя приткнуть, он, в отсутствие работавшей жены, жаловался на нее кому попало, но, к счастью, чаще других ему попадалась Аннушка (которая уже тогда понемногу наладилась отдыхать от жизни). Согласно сумеречной логике больного, Евгеша, целый день проводившая на службе, только тем и занималась, что изменяла ему ежечасно, а вот Аннушка целые дни проводила дома, и значит, Аннушка по своей природе была бы верная жена. Кроме того, Аннушка находилась ближе к нему по возрасту и состоянию здоровья, что еще более укрепляло старика в его матримониальных намерениях. Аннушка, по нескольку раз на дню, терпеливо отклоняла его скоропалительные брачные предложения, указывая деду на его неправоту и всякий раз резонно объясняя, что для ухода за больным и старым как раз и нужно, чтобы женщина была помоложе да покрепче, а вовсе не такая млявая, как Аннушка, которой с собой бы как-нибудь справиться (точнее, тут она грустно соотносила себя с «женихом», говоря: нам бы, старикам, с собой уж как-нибудь совладать, не быть бы людям в тягость), а про Евгешу обязательно повторяла: Евгения Августовна — женщина порядочная, она худа никогда не сотворит.
После смерти измучившего болезнями мужа в Евгеше укрепилось чувство обиды на свою целиком так непутево сложившуюся жизнь, и вместе с обидой желтой пеной вскипала прокисшая зависть ко всем другим — тем, кто прожил свою жизнь легче, веселей, — видимо, в отличие от нее, Евгеши, зная тайные ловкие ключи. Сама она была не способна к прохиндейству — по своей природной порядочности и какой-то старомодной стыдливой женственности: кроме того, ее сердце питали нордическая страсть к раз и навсегда установленному общественному порядку — и российский страх перед ним. Таким образом, катастрофически не умея ловчить, Евгеша себя за то в раздражении корила. Она то и дело взрывалась накопленным неудовлетворением, — и долго еще по воде шли круги, а подземные толчки и раскаты на небеси давали себя знать, ежели ей вдруг грезилось, что кто-то в сходной ситуации применил недоступный ей «ум». Так, однажды, получив на свой вопрос — почему такой-то все не женится? — мой обтекаемый ответ — «молодой еще», — она вдруг злобно вспыхнула, закричав, что, конечно, чего им торопиться, они себе и в семьдесят найдут молодую дурищу, чтобы к ихним коленкам горчичники прикладывала!
Жизнь с недужным мужем, предварившая ее второе и окончательное вдовство, виделась ей теперь совсем в ином свете. Как в воду канули его «большие» друзья — умерли, сильно уменьшились, а другие, напротив, так увеличились, что исключили свою для Евгеши досягаемость, — и жизнь с ним казалась теперь Евгеше действительно дымом безо всякого огня, — таким бутафорским дымом, что клубится под ногами патлатых эстрадных крикунов.
Я вижу ее в торчком стоящем белом колпаке и картонной жесткости медицинском халате, — ей, как нельзя лучше, шла эта негнущаяся стерильная одежда на посту старшей медсестры отделения — с его санитарными листками о том, что ватно-марлевой повязкой можно уберечься от гриппа, что зубы следует чистить два раза в день, а больной раком не заразен. Помимо безупречного исполнения основных обязанностей, Евгения еще неусыпно следила за моральным обликом и бытоустройством медсестер — взволнованных городом соплюх-лимитчиц, которых всех, в строгой очередности, повыдавала замуж за лиц с постоянной ленинградской пропиской, а иногда даже за инженеров. Нельзя сказать, чтобы они, пребывая в законном браке, все до одной благоденствовали, но рельефные детали их жизни, как и подробности существования милиционеровой супруги Наташи, были у Евгении на виду, и, еще до возникновения консультаций по вопросам семейной жизни (где, по соседству с треснувшей желтой указкой, громадный мужской член на учебном плакате, беззащитно явленный в продольном и поперечном распилах, праздно топорщится научными названиями), эти благочестивые курехи, украсив свой паспорт, вполне могли рассчитывать на ее совет и сочувствие. Да, Евгеша была слуга царю, отец солдатам, коль скоро заменим царя на заведующего отделением, солдат — на средний и младший медперсонал и отца, соответственно, на мать. Несколько раз я видела ее в деле, когда приходила проведать родственника, угодившего в их заведение.
Евгеша понимала только свой строй языка, и разговаривать с ней всегда было мучительно трудно. Но, даже когда собеседник производил соответствующий перевод, она умела отключать свой воспринимающий аппарат, стоило ей заслышать любую непонятную (а значит, так или иначе угрожающую порядку) интонацию. Дома, уже на пенсии, такие «отключения» она делала реже, ибо хотела развлечься и потому шла на риск. Но на ее службе я с ужасом натыкалась на неожиданно оловянный взор. Я слышала обращенную к ней реплику больного: «Да будьте же вы человеком!» и ее твердый ответ: «Не имею права». Во время тех мимолетных, вынужденных встреч с Евгешей на ее службе я успела задать ей несколько вопросов, касавшихся, например, местонахождения суднá и часов приема лечащего врача, но на все эти пустяковые и, в сущности дежурные для нее вопросы, которые, конечно, возникали у меня «живьем», — ответы я получала как бы раз и навсегда заготовленные, совсем в иной, административной тональности, — и бесплодно, ни за что не зацепляясь, скользила я взглядом по непроницаемой, как стерильный халат, поверхности ее лица.
Вообще у нее было сильно обострено чувство опасливости, но, в отличие от Аннушкиного, главенствовал в нем оттенок готовой враждебности; особенно выпирало неприятие всего чужеродного, чужака, так что, несмотря на собственную половинную принадлежность к «нацменьшинствам» (и полной ценой за то расплату), с интернационализмом дело у нее обстояло туго. «Другие» были в ее сознании на положении тех незаконнорожденных, что, конечно, «всегда легко выскакивают». Все в ней напрягалось, заведомо ожидая каверз от лица не ее крови, и однажды, в самом начале нашего с ней совместного проживания, она заявила, что русские с евреями жить не могут. Потом, конечно, пила корвалол.
Чтобы закончить с ее службой, надо добавить, что и тут несчастливая Евгешина планида вполне себя проявила: какие-то непутевые напутали с Евгешиным годом рождения, на год ее омолодив, и Евгеша, свою работу любившая, но уже не всем существом, нацеленная на пенсию, опрометчиво позволив себе расслабиться и, в предвкушении отдыха, устать сильней обычного, вынуждена была этот настрой сломать. Она долго плакала, но потом покопалась в какой-то дальней заначке, поскребла по сусекам — и собрала-таки еще немного сил — ровно столько, чтобы хватило на долгий календарный год.
Выйдя наконец на пенсию и лишившись привычного применения силы, она попыталась вначале направить ее на перевоспитание нерадивой Аннушки. «Чего у вас эти страшные занавески висят, стыдно смотреть! Придет кто-нибудь, скажет: дожилась бабка — срамоту такую держит! У вас же новые в шифоньере хранивши были, Анна Ивановна!» — «И вправду!», — с радостным удивлением отзывалась Аннушка. «Ну, дак и повесьте их, какого же ляда эти держать!» — «Вот когда эти сношу, там уж и повешу» — отвечала отдыхающая от жизни Аннушка. «А чего вы в рубашке драной лежите, — не унималась Евгеша, — вы же мерзнете! Вы же халат новый три года как купили, не одевши ни разу!» — «А халат — он, да, новый, точно. Нет, Евгения Августовна, в рубашке я не мерзну». — «Вот вы бы лучше, чем Кольке последние деньги-то совать, купили бы себе кожаные тапки! — продолжала неистовствовать Евгеша. — А то войлочные — милые кровиночки! — только волосá всюду растаскивают». — «Ай разношу разве?.. У мине вóлос нынче не сильно падает, весь уж выпал. А в кожаных склизко: навернесся, завалисся. Такая наша теперь стала жисть».
Евгешу, конечно, коробило Аннушкино обобщение — «наша». Евгеша бы с ума сошла лежать день-деньской в драной рубашке, без штанов да еще наезжать глазами на эти портяночные занавески. Со свежим возмущением и словами: «Ну какой же вы все-таки упрямый человек, Анна Ивановна!» — она отходила от Аннушки, однако от нее не отставала, а только делала свои наскоки дробными и перебрасывалась на меня. «Если бы в деревне так мыли полы! Да там сноха-то только намоет, только насухо вытрет, а свекровка-то — ка-а-а-ак шуранет ногой по ведру! — вот тебе и море разливанное, и ничего не попишешь, снова намывай, жаловаться некому!»
Но все, все это было только обрамлением самого главного, самого драгоценного ее свойства, которое в одно слово не вмещается, а блеск его так силен, что освещает, пожалуй, самую сумеречную полосу моей жизни. Каждому доводится упереться когда-нибудь в такой тупичок и там, лицом в стенку, тлеть пластом прошлогодних листьев. Болезнь эта протекает с разной степенью тяжести — от насморка до чумы. У меня была чума. Ее истекающие гноем бубоны я видела в небе на месте звезд. Это длилось долго. У меня не было сил одеться, я потеряла счет дням, не различала времени года. Иногда вдруг меня сбрасывало на холодный пол, я надевала пальто прямо на голое тело и ползла среди тусклой петербургской желтизны по каким-то жизненно важным, как мне казалось, делам (наперсток в магазине, бумажка в жилконторе); дела были все надуманные, маловыполнимые и тем более абсурдные, что я с бессильной жадностью ждала конца. Обезображенный гангренозный труп восемьдесят третьего года распух, лопнул, потек, — и чудовищный, новехонький, предсказанный Оруэллом кадавр придавил своей тушей слетевших с круга. Пик самоубийств в отечестве пришелся на оруэлловский год. Если бы я могла тогда знать, что где-то, пусть на другой звезде, существует что-то помимо этой вечности отчаяния и пустоты, что жизнь в принципе может иметь иные внутренние приметы, что наблюдаемый случай — всего лишь ничтожная частность, — может быть, я не задохнулась бы чернотой ночи. Но дата рождения лишила меня возможности сравнивать, и я выросла с анемичным сознанием, что житуха на других меридианах и даже в других измерениях, если таковые существуют, может выглядеть и богаче, и сытнее, и разноцветней, но в самом главном, внутреннем механизме своем, она так же однообразно мерзопакостна, неизменно подла, и нет мне в ней места.
Так я лежала лицом к стене, не различая времени года, и только запах Евгешиного кофе давал мне ненужное знание, что сейчас семь утра очередного мартобря между днем и ночью, никоторого числа. Евгеша вставала ровно в семь, чтобы выпить свой любимый кофе из розовой фарфоровой чашечки. После этого приступала она к тихоструйному своему вязанию. В девять часов она варила кашу, с обстоятельной опрятностью ела, мыла посуду и шла в магазин. По приходу из него, аккуратно расставляла продукты: в холодильник, за окно, в настенный шкапчик; затем мыла полиэтиленовые мешочки, все их развешивала, ставила кипятить молоко и, пока оно, дав обильную пену, успевало вскипеть («Порошковое»! — с отвращением определяла Евгеша), она, с очками на носу, прочитывала последнюю страницу «Ленинградской правды». После этого садилась она что-нибудь шить: переделывать старый меховой воротник в шапку — или наоборот.
Но излюбленным ее занятием была стирка — с долгим, дарящим сладостное предвкушение замачиванием, с яростным любовным истязанием худенького, подросткового, ребрами наружу, тела стиральной доски — и вообще со всем этим, излучающим благолепие пейзажем: райскими облаками кипячения, плывущими над полноводными реками синьки в крахмально-кисельных берегах, послегрозовым, черемуховым запахом белоснежного белья и, наконец, равнинным, мирным благовонием очага — горячего утюга, уюта. Евгеша из ложной скромности еще и критиковала свою работу, всячески принижая ее качество («Постирала — не устала и стираного — не узнала»), а может, и впрямь была собой недовольна. А потому — добирала количеством: еженедельно стирались комнатные занавески, занавески от кухонных полочек, половички прикроватные и самодельные дорожки (голландские мостовые сиротеют без рачительных рук Евгеши); самым рискованным трюком была стирка диванной обивки, которую следовало сначала от гвоздей освободить, потом мочить-сушить по-особенному, гладить через три слоя марли; роскошь десерта заключалась в прибивании тех же гвоздей.
Когда нам установили телефон, обнаружилось что у Евгеши много подруг, — даже еще больше, чем я предполагала, исходя из вороха открыток, который она всенепременно получала к Седьмому ноября и прочим такого рода датам. Несокрушимое простосердечие ее поколения гарантировало адресату, что он при жизни забвению предан не будет. (Мои сверстники писем, конечно, не пишут; характерны реплики по поводу кропания влюбленным Андреем Белым ста страниц ежедневного эпистолярного бреда для Любови Менделеевой: поглупее — спрашивают, где он брал время, поумнее — где брал впечатления, совсем умные спрашивают, где он брал силы; Евгешины подруги где-то все это брали, — там, где давно кончилось). И вот, с обычной своей добросовестностью, Евгеша часами объясняла терпеливой абонентке: сколько ложечек сахарного песку класть в кефир, что делать после петли с накидом и что прогнозам погоды не следует доверяться ни в коем случае.
Вечером она звала Аннушку смотреть телевизор и продолжала вязание, а после фильма, если он был «жизненный», активно проявляла свою позицию, тщетно пытаясь разжечь в Аннушке, вечно путавшей, кто с кем остался, достойный сюжета полемический азарт. Ложилась она в одиннадцать или в одиннадцать тридцать, смотря по тому, когда кончался фильм, плюс-минус односторонние дебаты.
Это все были дела повседневные, сливавшиеся в ровнотекущую реку, но на ее островах экзотическими цветами красовались деяния крупные, яркие, значительные. Вот шестидесятивосьмилетняя Евгеша, самостоятельно побелив в своей комнате потолок, переклеив обои, выкрасив рамы, двери, плинтуса, батареи, — придирчиво оглядывает свою работку и говорит, что следующий ремонт будет делать лет через восемь, не раньше; наскучив доступностью диванной обивки, она загорается купить новый диван — и еще золотые челюсти, для чего устраивается работать в газетный киоск (безобразно черные руки, непутевые покупатели); наконец, она приобретает диван, челюсти, кошелку апельсинов, которые с разбором, не торопясь, пережевывает новыми зубами, аккуратно зубы на ночь вынимает, стряхивает их со стола вместе с золотыми апельсинными кожурками и навсегда отправляет в бак пищевых отходов.
Делом из ряда вон выходящим было и чтение книг. Евгеша просила их у меня, когда после какой-нибудь хвори она шла на поправку, но занять руки еще было невозможно; выбор книг диктовала программа телевидения: после соответствующих фильмов она прочла «Анну Каренину», «Поединок», «Джейн Эйр» — и потом на кухне с готовностью демонстрировала свою свежую осведомленность в именах, названиях, датах, давая понять, что дышала бы одной литературой, сложись благоприятно обстоятельства.
Я по-прежнему лежу в сумеречной мути, точа лбом стену. Я отказываюсь потреблять тела животных и растений. Я отказываюсь грабить их силу, чтобы давать работу своей кишечной трубке. Я отказываюсь пить воду, чтобы промывать свою безродную, слабую, ненужную кровь. Если б можно было брать энергию напрямую от Солнца — и возвращать ему свет такой же силы красоты. Но я знаю: освети я даже весь мир, я увижу только бельма слепых.
…Что заставляет эту женщину ежеутренне варить кофе ровно в семь часов? Я не могу понять, какая сила заставляет ее варить кофе, чтобы завтра снова, ровно в семь, варить кофе. Меня поражает этот слепой бесцельный механический завод. Он несокрушим и велик, он един с заводом вращения планет, солнц, галактик. Пчела в улье пчел так же значима, как вселенная в улье вселенных. Бог любит пчелу больше человека: не нарушая инстинкт, она не доставляет Ему хлопот, и, в награду, Он обращает инстинкт для нее из закона — в смысл. А иной человек все тянется потрогать пальчиком Бога, забыв свои прямые обязанности — насыщения, испражнения, размножения, и вот такой наглой твари Он и делает окорот — от ворот поворот. Земля вращается вокруг Солнца, по месту своей прописки, и не спрашивает «зачем?» — хорошо ли, плохо ли. И силы где-то берет. Таков и тебе положен предел: крутись, крутись. А ты бодаешь лбом стенку. Ну, бодай. А роевáя жизнь, воспетая классиком, в частном своем проявлении знай себе кипит сейчас на коммунальной кухне, она проста и неуязвима, эта роевая жизнь, у нее стопроцентный иммунитет ко всему, что не есть форма существования белковых тел, она то и дело ныряет в беспросветное варево будней, — барахтается там, култыхается, — и выходит на свет молодая, пуще прежнего красивая, как Иван-царевич, прокипевший в заколдованном молоке.
Я лежу в своей комнате лицом в стену. Аннушка лежит в своей — лицом в потолок.
…Сейчас Евгеша зайдет к себе (одеться), теперь выйдет (за сумкой, на кухню), и вот сейчас — я это наперед слышу — хлопнет дверью… хлопнула! — ушла к открытию магазина.
Аннушка всегда перевыполняла норму (в калоши на «Красном треугольнике» вклеивала алое плотоядное нутро), потому что ее работа была нужна государству, а также людям, и за работу давали деньги на еду, а еще потому, что раскулаченная должна была ударным трудом доказать… искупить… перед своей совестью… (Подвожу рациональную базу под Аннушкину природную добросовестность). И вот государство, высосав, перестало в ней нуждаться, а деньги на еду дало так, задарма, но Аннушка не ест, потому что не знает зачем. Я теперь даже думаю, что Аннушкин «отдых от жизни» был, помимо физической выношенности, еще и лежачей забастовкой. Может быть, бессознательно, она выражала так свой протест этой бессмысленной, а впрочем, честно отбываемой каторге. Она часто спрашивала меня: «Ирина, ты в институте училась: если человек все равно умрет, то зачем он свою жисть проживает?» — так что у Евгеши, конечно, были все основания считать ее чокнутой.
Я лежу лицом в стену. Я мертва, как мумия, спеленутая пустотой. Напористый скрежет ключа… хлоп! — Евгеша вернулась из магазина. Сейчас хлопнет дверца холодильника… хлопнула. Сейчас чиркнет спичка… чиркнула. Сейчас застрекочет швейная машинка… раздается стрекот. А сейчас затеется стирка. Точнее, так: кипячение молока! — шитье! — стирка! — кипячение молока! — шитье! — стирка! — кипячение молока!..
Мне кажется, задумай какой-нибудь злодей остановить ее завод — нет, не нажатием внутренней кнопки, это компетенция Неба, а каким-то грубым внешним вмешательством: навались он, сдерживая Евгешино сопротивление, уйми на мгновенье мелькание ее рук, — где-то в самой глубине ее существа раздастся скрежет, треск, хруст, потом наступит тишина и что-то погаснет.
V
И нечто сходное, но, к счастью, не так необратимое, происходило с ней, когда заявлялся Колька. Деморализованная бездействием, Евгеша пряталась в своей комнате и тщетно напрягала бедный слух.
С приходом Кольки они словно менялись местами: это Евгеша теперь лежала на кровати и смотрела в потолок (только не по-аннушкиному задумчиво, а горестно и затравленно), это Аннушка теперь, гордая объективной необходимостью, отправлялась на кухню хлопотать обед.
Готовила Аннушка из рук вон плохо. Когда она — только Колька был тому виной — принималась за это дело, в квартире воцарялась такая лютая, адская, всепроникающая вонь, что в голову лезли самые чудовищные предположения относительно эту вонь источавшего, постреливавшего на сковородке жира.
Еще в те времена, когда Аннушка спускалась в мир с нашего предчердачного, ближайшего от неба этажа, она, случалось, делала кое-какие запасы. Добытая ею снедь была скупа и как-то плохо сочетаема. Например, до следующего своего схождения во мглистую петербургскую долину, она набирала груду серых морковин и лиловатую сельдь, — но и это, правду сказать, не всегда поедала сама, а, сопровождаемая осуждающим взором Евгеши, несла припрятать (холодильника у нее, конечно, не было; нашими она пользовалась в исключительных случаях) между черными от сырости оконными рамами, где снедь, в зависимости от сезона и милости погоды, с переменным успехом дожидалась племянника. Когда Колька являлся, она непременно принималась готовить и первое — не менее зловонное, чем второе, — втискивая в мутнокипящую воду крупные стебли грубой сухой травы, которую доставала из холщового мешка. Чад жира соединялся с миазмами варева, — и новообразованный сказочный смрад гнал нас с Евгешей (в порыве редкого единодушия) потихоньку откинуть входную дверь на цепочку.
Да, готовить Аннушка не умела. И где ей было этому научиться?
В шестнадцать лет она бежала со Псковщины, от раскулачивания в город Петра и Владимира, где, налюбовавшись Невским проспектом, начала вести жизнь не вполне даже правдоподобную. Основным удручающим элементом этой жизни — для Евгеши, например, — был, безусловно, элемент антисанитарный: шутка ли — спать под скамейками! (Может быть, сама Евгеша предпочла бы Сибирь, если б ей там были гарантированы хлорка и средство от клопов). А как же прописка, Анна Ивановна? Оказывается, Аннушка была «приписана» к тому заводу, куда ее взяли дышать резиной и сотворять калошам их воспаленный зев. И вот в том же цеху ей тоже удавалось иногда переночевать, если не видел мастер. А паспорт? Заводское начальство хлопотало о паспорте…
Но чаще всего Аннушка ночевала на вокзале.
А что? Вокзал обустроен разумно. Все в нем соразмерно, циклично, все в нем очень серьезно, есть расписание; на вокзале все попарно, симметрично, как в архитектуре классицизма: отправление-прибытие, туалетик-буфетик, встречающие-провожающие. А вон милиционер, выписывая круги, обходит спящих на газетках, журналах и просто на голяке, все равно как на матери сырой земле: поскрипывая казенной сбруей, он долго, подробно расталкивает каждого спящего, при этом всякий раз аккуратно беря под козырек; растормошенный изображает пробуждение, смущение, повиновение, милиционер добросовестно трясет следующего; предыдущий мгновенно забывается. Прочная попеременность незаконного сна и законного из сна выведения дарит спящему, равно как и наблюдающему, чувство полноты и неслучайности жизни. Ты спишь, потому что хочешь, и, не имея права спать где попало, все равно делаешь это, — значит, и сетовать не на что; с другой стороны, тебе это делать вовсе не позволяют, и это тоже хорошо, потому что, стало быть, кто-то о тебе заботится, ты нужен людям, и есть благое начало в мире.
Снимать угол было не на что, да и не у кого; Аннушка говорит, что людям и самим-то жить негде было. (Эх, российская считалочка: не на что, нечего, негде, некому, нечем, незачем — все нипочем!) Но главная причина Аннушкиной бездомности состояла в том, что она боялась побеспокоить людей — в данном случае с логическим ударением именно на «боялась». Ее и так душил страх разгуливающего на свободе государственного преступника, и ее девственную совесть разъедала вина перед доверчивостью этого детски-близорукого государства, которое вот же, проглядело кулацкую дочь, поручило ей ответственную работу — и не гонит, не бьет, и выдает ежемесячно деньги на еду, — и, может, я думаю, из-за этой самой вины она истязала себя ночевками под скамейкой — а иначе, чего на скамейку-то не лечь?
Она ломила две нормы, чувствуя грех за корову, которой до обобществления единолично владела мироедка-мать; но вот, в самом начале лета сорок первого года, через двенадцать лет после раскулачивания, почему-то решив, что уже можно, Аннушка вернулась в деревню.
И попала в оккупацию.
Тут следуют многие рассказы Аннушки, из которых значилось, что немцы относились к ней хорошо, а «свои» были хуже немцев. И она заводила, что рожать не надо, бабы глупые, и так далее, но говорить это мне было все равно что ломиться в открытую дверь.
После окончания войны Аннушка опять уехала в Питер из голодной и уже чужой деревни. В городе она была принята на прежний завод, что торчит кирпичными, цвета запекшейся крови, стенами на том берегу Обводного канала. Раньше здесь ютились всякие беглые, беспаспортные (да ведь и наша Аннушка была такова, — правда, не все таковы, как Аннушка), издавна отиралась всякая голь и теребень кабацкая; — тот берег Обводного канала, бесприютный, голый, убогий, кажется, только и создан для кабалы нищего труда. Переходя через мост на тот берег, я стараюсь убить в себе чувства. Кажется, одна минута пребывания на том берегу придавливает тяжестью десяти лет, и стремительно дряхлеющему труженику уже не вернуться прежним.
На том берегу Аннушка проработала еще лет двадцать.
В этот период она уже осмелилась снимать углы; то были все какие-то неотапливаемые чердаки, затопляемые подвалы, — точнее, Аннушка сама попадала в лапы сметливых хозяев, у которых она нянчила детей, домработничала и, отдавая хозяевам три четверти зарплаты, считала их своими благодетелями. Впрочем, разве хозяева были виноваты, что четыре четверти Аннушкиной зарплаты составляли сумму микроскопическую?..
В сорок с чем-то лет Аннушке дали общежитие — то есть койку в комнате, где каждый из остальных трех углов был заселен семейной парой. Ясно, что семейные не по-хорошему завидовали Аннушке, — не без основания, впрочем, считая, что она (одна) пользуется большими, по сравнению с ними, благами. Вот из этого-то общежития, из этих комнат, из этих-то углов и попадали люди в самашедшую, — перед которой у Аннушки остался на всю жизнь такой страх, что она до последнего сопротивлялась вызову эскулапов на дом, хотя бы и отдавала концы; стремление не быть им в тягость стояло, пожалуй, даже на втором месте.
В пятьдесят восемь лет Аннушка получила эту каморку десяти метров квадратных на пятом этаже без лифта, в квартире, где уже проживали Наташа со своим милиционером и Евгеша. Северный угол каморки сырел, но там не жила семейная пара, и можно было сколько угодно отдыхать от жизни. Можно было даже привечать племянника Кольку, несмотря на явное неудовольствие Евгеши. «Какой ни есть — а родная кровь, — твердо стояла Аннушка. — И к тебе ходют».
Евгеша застывала от возмущения. И к ней, видите ли, ходят! Да разве можно сравнивать!
VI
Дело в том, что у Евгеши, словно для симметрии, была племянница. Она приехала из украинской деревни, где жила замужем ее мать, сестра Евгеши.
Итак, племянница припорхнула в Питер свеженькой и смазливой (пополнив легион свеженьких, смазливых, обманутых городом, рано увядших…). Короче говоря, в институт она не поступила, что также, видно, было заложено в программу избитого сюжета. Евгеша, не любившая неопределенности, тут же направила ее по своим стопам, то есть в медучилище, не оставляя, впрочем, намерений (сильно нервировавших племянницу), дать ей диплом вуза и мужа-инженера. Затем она взяла ее работать к себе в отделение, и, возможно, без всяких перебоев, племянница разделила бы бройлерную судьбу курируемых Евгешей лимитчиц, но тут любовная страсть, словно в отместку казармам Содома и Гоморры, показала ослепительный свой, первобытный оскал.
…Он был нордического образца, снисходительно поднимал бровь, будучи уколот периферийным акцентом обмиравшей Евгешиной племянницы, а иногда, конечно, и отдыхал скучающими глазами на ее, как в песне поется, носике-курносике и старательно обесцвеченных спиральках волос.
Но дальше этого он как-то не шел.
Племянница между тем скоротечно усыхала. Евгеша считала, что он ведет себя непутево, и называла его за глаза змеем подколодным, гусем лапчатым и паршивым козлом.
Тогда, чтобы переломить ситуацию, племянница предприняла достаточно действенный и традиционный для таких случаев ход.
Конечно, это было «пар депи». В сопровождении подружки она отправилась на юга, откуда обе вернулись с уловом, но племянницын улов был даже с некоторым избытком. В связи с этим избытком Евгеша взахлеб пила корвалол и отрывисто говорила, что с ней-то (имея в виду подружку), конечно, никогда ничего такого не случится, этой стерве сам черт не страшен, она-то уж такая, что, знаете, огни и воды прошла, так что сроду не забеременеет.
Однако данная история в самом начале развивалась все же на розовом фоне. Во-первых, кавалер был честных намерений, то есть, «когда открылось…», оказался покорен брачно-семейной перспективе, одним уж этим будучи лучше скучавшего негодяя. Во-вторых, у него, хоть и на Севере, а имелась своя квартира, и там его родня не стала бы держать камня за пазухой насчет осчастливленной лимитчицы, а тут еще неизвестно, чем обернулось бы, — наверняка этим самым. И, хоть он заметно выпивал и рано облысел, а все-таки был наш, рабочий парень, хорошо зарабатывал, — не чета всяким там инженеришкам с их нищетой да пустым ехидством.
И племянница укатила на Север.
О содержании ее писем можно было судить по тому, что к Евгешиному обычному в мою сторону — «вы-то, конечно, грамотные очень, работать не привыкли», — прибавилось: ты-то уж, конечно, в родах тех мук не перенесла, что племянница; ты-то уж, конечно, тех трудностей после родов не познала, что племянница: вовремя от мужа сбежала; ты-то уж, конечно, себя так поставить в семье не можешь, как моя: ее слово всегда первое, и он ей до копейки отдает; ты-то уж, конечно, так в стирке не надрываешься, а у нее ребенок от чистоты «сверкает, как зуб, скрипит аж».
Однако эти эпистолы, видимо, все же расходились с действительностью, — так что однажды, классически прижимая уакающий сверточек к впалой груди, племянница, почти в одном исподнем, оказалась в комнате Евгеши. И тут выяснилось, что ее северная эпопея проходила под знаком традиционной триады «пил-бил-гулял» — с преобладанием первого компонента, который бы она еще терпела, кабы не второй.
К Евгешиным репликам в мой адрес присовокупились: у тебя-то уж, конечно, муж не пил («ваши не пьют») и: тебе-то уж, конечно, не было нужды ехать на Север.
Непутевость жизни тушей пьяного мамонта навалилась на Евгешу, но не подмяла ее. Она так же в семь утра варила свой кофе, только забот у нее стало больше раз в сто. И вот оказалось, что если регулярно варить кофе в семь утра, если быстро и чисто стирать пеленки, если любовно проглаживать их утюгом с двух сторон, если драить детские бутылочки до алмазного блеска, если, прежде чем вылить детский горшочек, тщательно разглядывать и обсуждать с соседями его содержимое, если вот так, с бесперебойной бодростью, варить — стирать — гладить — драить — варить — стирать — гладить — драить, — если делать это долго, то, честное слово, судьба, не выдержав натиска, смягчится, и вывалится кирпичик из, казалось бы, непробиваемой стены, а в отверстие хлынет свет.
В лучах света на Евгешиной жилплощади девятнадцати метров квадратных появился новый жених племянницы. Точнее, он стал появляться регулярно каждый день, в свой обеденный перерыв, и Евгеша, заблаговременно уйдя как бы в магазин, давала возможность племяннице заложить прочный интимный фундамент будущей семьи. Жених был не инженеришка и не «простой работяга», а шофер, что ставило его в промежуточное положение, с преобладанием все же элитарности по отношению ко второму варианту, ибо шоферская баранка теоретически исключала алкоголь, по крайней мере, в больших количествах. Он был малорослый (зато партийный), младше племянницы (зато с машиной и дачей), к браку ранее не привлекался, — и это обстоятельство вкупе с перечисленными «зато» больно било по израненному самолюбию племянницы.
Так что пришлось Евгеше отправиться по страшным присутственным местам, заблаговременно — мýка несусветная! — заручившись поддержкой «больших» друзей покойного мужа (они, конечно же, не могли долгонько ее припомнить). Это был шанс, который используют раз в жизни. И произошло чудо. Племянницу прописали к тетке, то есть, по понятиям советской паспортной генеалогии, к человеку совершенно чужому. Только после этого спектакля законная ленинградка без ущерба для своего достоинства отдала претенденту руку как бы в сугубо свободном выборе. Все произошло строго по ритуалу — с талонами на туфли и твердую колбасу, со своей дешевой водкой, заранее принесенной в ресторан, с халдеями, икающими в ожидании трешки.
Молодые поселились у Евгеши за шкафом. Теперь необходимость неожиданно срываться в магазин для нее отпала; законное племянницыно время она пережидала ночью на кухне. Иногда там маялась бессонницей и Аннушка; старухи шептались, что им, тугоухим, давалось мучительно. Евгеша говорила, что скоро молодые получат свою какую-то площадь («до подхода») и уж там будут ожидать отдельную квартиру, а, когда получат квартиру, Евгеша обменяет свою комнату на лучшую, а потом съедется с племянницей, — для того, чтобы, когда она, Евгеша, умрет, к внуку Женечке перешла своя отдельная комната.
Наконец они переехали.
Теперь племянница с семьей наведывалась к Евгеше только по воскресеньям: Женечка, племянница и муж племянницы в строгой очередности мылись в ванной, потом пили чай с пирогами. Отношения Евгеши с племянницей, точнее, с племянницей-дочерью, как водится, улучшились, что еще больше укрепило ее мечту.
Аннушка, бесхитростно предававшая Евгешу заочной репликой — «Подумаешь, барыня: полы ей намыли не так», — прибавила к ней новую: «Ходют сюда, грязь свою носют».
Странно, казалось бы? Пока молодые жили здесь постоянно, грязи наносили побольше, но это недовольства у Аннушки не вызывало. Ах ты, Боже мой! Да и сейчас в Аннушкином сердце не было недовольства. Оно неуклюже отрабатывало приемы той борьбы, которую невольно навязывала ему Евгеша. Кроме того (атака — лучшая оборона), Аннушка загодя собирала на чашу весов маленькие грехи противоположной стороны, чтобы хоть как-то эти весы уравнять до того, как заявится со своими большими грехами племянник Колька. Вот как извилисто и чуднó проявлял себя в Аннушке забытый, насмерть забитый инстинкт продолжения рода! Ведь Колька был ей племянником-сыном. Она мечтала лишь о смерти, но далекий побег жил своей жизнью, и она, как могла, эту жизнь защищала. Когда Аннушка неумело роптала: «Ходют, грязь свою сюда носют!» — кто бы мог догадаться, что именно таким петлистым путем она слепо продлевала свою, отдельную от себя, жизнь.
А вскоре племянница-дочь запила. Как тщательно ни скрывала это Евгеша, до коммунальной кухни докатилось, что она измывается над своим безропотным, положительным, нелюбимым мужем (принародное выражение «Он не мужчина» было у нее в ходу; во время пьянок она запиралась от него, и он не попадал в дом); как Евгеша ей ни внушала, что с любым человеком в конце концов наступают будни и что она как законная жена и как мать должна быть примером для всех, кто не жена и не мать, — племянница-дочь, очертя голову, пила с подружками, с дружками, с «друзьями-начальниками» (отчего все так повторяется?!) и несколько раз являлась в расхристанном виде — гораздо безнадежней того, в каком она бежала с Севера, — к осевшей от горя тетке.
Однако в ней недостало куражу познать те бездны падения, кои изведал Колька, и краткий бунт против заданного, как похоть, узаконенного умирания сменился тупой агрессивной покорностью. С приумноженным остервенением она поставила во главу угла умеренность и домовитость, а на службе даже преуспела в каллиграфии, которую не смог подточить кривой алкогольный червь.
Так что Евгеша была, конечно, абсолютно права, когда, возмущаясь, отвечала на Аннушкино «И к тебе ходют» безапелляционным: «Да разве можно сравнивать!»
Обмен этими ритуальными репликами происходил у них во все времена года, кроме летних, когда Евгеша была в деревне.
VII
Несмотря на давнее переселение в город, их жизнь просто и жестко зависела от времени года, как зависят от него жизни травы, льда, талой воды. Сейчас я — напишу для забавы: «Зима. Весна. Лето. Осень», — и ткну пальцем наугад.
Осень.
Я возвращаюсь из Москвы с каких-то экзаменов, и Аннушка, открывая мне дверь («Кто там?», скрежет замка, лязганье крюка, — и вот она: седая, слепая, взбудораженная, в ночной рубахе), непременно заметит ласково и ублаготворенно: «Ну вот, все дела ты свои по теплу справила…»
Осенью возвращается из деревни Евгеша. Квартира сбрасывает обморочное летнее оцепенение и оживает язычески. Евгеша смачно шинкует капусту, засаливает огурцы, маринует грибы, закатывает компоты и варит варенья. Эти занятия сопровождаются живыми вкусными звуками, дикарскими запахами земли, зелени, чеснока, сырости, грибницы и, конечно, рассказами Евгеши: что где брала; не остаются в стороне техническое и санитарное состояние дома, характеры соседей (нерях), нравы местных животных, а также достойное удивления благоразумие внука Женечки — на фоне богатого спектра пороков окружавших его детей. Аннушка, не успевающая постичь три четверти из быстрой, возбужденной речи Евгеши, взахлеб утоляет летний слуховой голод. Она только изредка вставляет реплики вроде: «Не ндравится мне эта городская жисть: ходишь, как цыган с торбешкой. В деревне все, бывало, свое», или «Поглядишь в городе на женщин — как бурлаки: все тащут, тащут…»
А преимущества деревенской жизни очевидны: на столе у меня и Аннушки уже красуется по горке пупырчатых крепких огурцов («Свои, свои», — приговаривает Евгеша), стоит по миске черной смородины, в кастрюли напиханы плотским соком налитые помидоры, и сквозь девственную дымку розово дыхание мохнатой малины.
Осенью, единственный раз в году, Аннушка принимала Евгешины подношения спокойно, без выкладывания желтеньких и угроз «отдать чем-нибудь другим». Дары были не магазинные, а земные, земельные, имеющие родственное отношение к каждому.
Зима. Крестьянин торжествуя.
Это время года навсегда связано для меня с замечательным выражением Евгеши «взойти к теплу». Мы-то говорим «зайти в тепло», — всякому не намертво глухому, думаю, очевидна разница между вульгарно-физическим оттенком второго выражения и евангелическим — первого.
Зима у нас в квартире оказывалась насыщена событиями гораздо больше прочих сезонов. Это было связано с тем, что зимой справлялись дни рождения — Евгешин и мой. (День рождения Аннушки не знал никто, на вопрос она всегда досадливо-смущенно отмахивалась).
Евгешин день рождения приходился на православное Рождество. К этому времени, как она говорила, «день прибавлялся на воробьиный скок». Но ей и скока хватало, чтоб учинить Великое Зимнее Наступление на сор и грязь, хоть я не знаю, где она у себя в комнате их отыскивала.
В запале Евгеша чистила даже мой черный, как пиратская метка, чайник и, на волне великодушия, могла поставить рядом с ним полпачки индийского чая.
Аннушка не одобряла яростный Евгешин размах, в результате которого Евгешина комната приближалась по условиям к операционной. Аннушка не могла конкурировать с Евгешей и знала, что та после этой грандиозной уборки, конечно, будет ее еще жарче, к слову и не к слову, распекать и воспитывать. И действительно: стоило Аннушке, как обычно, в драной ночной рубашке отправиться из кухни восвояси (чтобы телом воссоединить два сосуда), как Евгешу тут же прорывало: не дай Бог, страстно шептала она, дожить до таких лет, чтобы так опуститься! чтобы так за собой не следить! Перспектива выжить из ума ее волновала гораздо меньше. И то сказать: на что нам абстрактный ум — раковая опухоль на теле простых и ясных чувств. Но так уж выпасть из разума, чтоб штаны на себе не сменить, — ну уж, милые кровиночки…
Кроме того, Аннушку смущала и та, военно-морского образца, чистота, кою Евгеша заодно наводила («чтоб от гостей не было совестно») на палубе нашей кухоньки, в мелких отсеках общего пользования и закоулках коридора. Аннушка знала, что и эту планку ей не осилить, и опять чувствовала стыдную свою вину. И потому (и еще потому, конечно, что хотела прижаться к моему боку) она говорила мне втихаря: «Ну чего это пол слегозить! У меня вот мама аккуратная была женщина, череднáя: пол, бывало, натрет песком, а он и щеклатится… А наш пол сроду светлым не будет, он же дубовый, его не отмоешь…»
Ах, но все эти зимние картинки — ничто в сравнении с одним перышком, с белым куриным перышком… Я вижу его в руках Евгеши, когда вхожу рождественским утром в кухню. Здесь так хорошо, так ласково обволакивает тепло, что хочется жмуриться и мурлыкать. В окне, над голубым бархатом джунглей, завис красноватый желток солнца, — и почти такой же плавает перед Евгешей в блюдце. Аннушка ради такого дела сидит в новых серых валенках на босу ногу. Ее ночная рубашка держится на розовых бретельках. А не холодно, наоборот: дыхание домашнего теста, его ласковый, с кислинкой аромат, растворенный в жарком, густом над плитой воздухе, размаривает — размягчает — раздабривает, и тянет смежить веки да глядеть бесконечно свой детский мимолетный сон. Коммунальная кухня притворяется: это стряпня в Доме моего детства, и не Евгеша колдует куриным пером, а моя бабушка обмакивает его во взбитое яйцо, чтобы смазать для пущей румяности корочку нацеленного в духовку пирога. Моя жизнь видится мне пустынной, нарочной, придуманной, и я знаю, что живого, настоящего и было в ней только вот это белое перо в руках моей бабушки…
«Ох, совсем нечего на стол поставить! Опозорюсь я!» — опускает меня на землю грешную отчаянный, а впрочем, дежурный для таких случаев возглас Евгеши. «Ничего, не мало у вас всего, Евгения Августовна, слава Богу», — откликается атеистическая Аннушка. «Бог — не Микишка, у него своя книжка», — нравоучительно заключает Евгеша, намекая, что могут произойти еще всякие казусы. Но казусы не происходят. Евгения обряжается в новое ситцевое платье собственного пошива и надевает парик, придающий ее честному лицу развратное выражение; иногда она размахивается до «химии», превращающей ее в негатив с негра.
Не преуспевшая в дипломатии, руководимая исключительно своим неиссякаемым здравомыслием, она всегда четко разделяла поток гостей по принципу тканевой несовместимости, так что день рождения протекал перманентно примерно неделю, и на протяжении всех этих дней пирогов с капустой, говяжьего студня и селедки «под шубой» хватало всем. Кроме того, на столе царствовали дары огорода-сада и леса; нам с Аннушкой перепадало обязательно (яства ждали на наших столах, в блюдечках, накрытых чистыми салфетками), и Аннушка, конечно, яростно сопротивлялась; исхитрившись, она все же возвращала противнику половину продовольствия и только потом капитулировала, заявляя, что отправит это детям в деревню («Да не чудите же вы бесплатно, Анна Ивановна!»).
Мой день рождения проходил под знаком демократических бутербродиков, проколотых разноцветными прибалтийскими шпажками, и Евгеша, не опознав современных примет родной ей культуры, такой нерусский стол очень не одобряла.
Аннушка, дабы погреть свой бок о Евгешу, на другой день, случалось, говорила, что «у Ирины всю ночь громостáли», а мне (без Евгеши) рассказывала историю, дающую понять ее уважение к «громоставшим»:
— Вчера у тебя гости были, а мне надо было в тавалет, да, думаю, как гýкну, так и не выйти со срама. Жалась, жалась в комнате, вроде помягчело…
Мы с Евгешей всегда делали друг другу подарки, но вот тут-то она, единственный раз в году (в отличие от меня, единственный раз в году помнящей: Рождество…), о моей дате забывала напрочь и с ужасом спохватывалась только при виде моих знаменательных на кухне приготовлений. Тогда она поспешно отправлялась в магазин и покупала цветы и что-нибудь сладкое. Я находила эти предварительные дары на кухонном столе, дополненные открыткой, изображавшей благонравного зайчика с воздушным шариком, щенка с голубым бантом или что-нибудь в этом роде, на которой она писала (у нее был безобразный почерк — то есть единственно тот, который мог мне понравиться; он намекал на неприлизанность натуры, словно посреди царства всеобщего арифметического порядка, в самых тайных уголках Евгешиной души, схоронилась какая-то Глокая Куздра, расхлябанная раскаряка с нечесаной шерстью): поздравляю… желаю… и подписывалась — пунктуацию сохраняю — «Евгения Августовна или как вы все называете Евгеша». (Под «вы все» разумелась моя семья, жившая отдельно.) Через несколько дней она протягивала мне новорожденные, собственного изготовления, варежки или носки.
Финальным аккордом зимы можно считать февральское окно, насморочные сосульки за ним, Аннушку, сидящую в ночной рубашке на низком подоконнике, и ее реплику:
— Вот проголосуем, справим государственные дела, а там и весну ждать будем.
Весну я ощущала как разреженный дырявый воздух. Что-то выпадало из него — а скорее, кто-то — конечно, Евгеша, которая дни-деньские проводила в беготне по магазинам, обстоятельно собираясь на дачу.
Если б я была не я, а другая, лучшая, или, например, родилась я Петром Ильичом — так, чтобы времена года естественно и беспечально перетекали друг в друга под сухими беглыми пальцами, — чтó мне тогда эти сомнительного свойства словá!
Но нет, не выпало мне такое счастье, и придется словами, то есть весьма приблизительно, обрисовывать, как Евгеша притаскивает из магазина то ведро, то лейку, то садовые грабли, то малярную кисть и как Аннушка, по-детски дотрагиваясь — и отдергивая руку, всякий раз спрашивает: «А это для чего, Евгения Августовна? А это? Где брали?..»
Если есть у Евгеши время (пока кипят в кастрюльке анатомические непристойные сардельки), она, конечно, изложит — с множеством косноязычных подробностей, с точным названием цен и адресов, а нет времени — ответит резко и — щелк — своя дверь, щелк — входная, — унесется опять в магазин.
А между тем в природе происходят гон, брачные игры и бурление соков, так что, видно, чувствуя это, Аннушка заводит со мной разговоры на матримониальные темы.
— Что, Таня теперь замужем, так ей, наверное, криво, — не так свободно, как в девушках?.. — вспоминает она мою родственницу, отбывающую брачную повинность почитай лет уж десять. — А вот у нас в деревне… — заводит Аннушка. А вот у них в деревне одна тоже вышла замуж, а он пил, а у нее от него трое детей. Ну, она терпела, детям отец нужен, а подогнала как детей (подрастила то есть до разумного состояния), — и посадила мужика. Ну и гулящая такая бабенка стала. Ее свои, деревенские, спросят: чего это ты дверь на ночь не замыкаешь? А она: миленький придет, мне шеколадку под дверь подтиснет!
Евгеша по весне платила дань своему семейному прошлому. В приподнятом настроении, она загодя обзванивала подруг, потом ставила в ведро банку с серебряной краской, втыкала кисть, упаковывала рассаду и отправлялась на кладбище. «Старые девы» (как Евгеша называла себя и вдовых подруг) наводили порядок на могилах мужей и других родичей, а потом, обмякшие и растроганные, выпивали по чуть-чуть красненького, еще больше обмякали и закусывали всякими разностями.
Аннушке не к кому было прийти на могилу, и на ее кухонном столе («У меня желудок притупился, сношенный») подолгу торчал из алюминиевой миски синий ком гречневой каши.
И наконец наступает лето.
Вылупила бельмы финская белесая ночь, словно в гляделки играет, не моргнет. Воздух в нашем жилище легок и жидок. Евгеша уехала, исчезли взвинченные ею водовороты смерчей, улеглись песчаные бури. В такие ночи хорошо думать о смерти. Славно верится, что смерть — это часть жизни, точнее, наоборот. Бестелесое небытие со сгущениями белой сирени (призраком умершей черемухи) дает пробуксовку времени, общий наркоз чувств…
«Ирина, ты знаешь, плохо только, что глубоко кладут, это мне не нравица. Вот если бы так, чтоб неглубоко, а сверху так немного засыпать…»
Окаянная наша болотистая почва, торфяная ржавая Лета, с готовностью обнажающая страшное русло под первым штыком лопаты! Наша коричневая северная вода («повышенной цветности»), хлюпающая плакальщицей на похоронах, почвенная вода забвения, предмет страдания суетливых стариков! Моя прабабка больше всего боялась, что ее «будут класть прямо в воду». Почему-то ей было неуютно от этой мысли. Да и в Писании сказано, что в землю вернешься, а вовсе не в воду — хотя по науке последнее вроде верней.
И вот, если бы неглубоко, — Аннушка давно уже облюбовала в мечтах этот образ, — она дала бы свое согласие с радостью… «Ирина, ведь это же вечный, вечный отдых! Ведь это же счастье!» — голос ее звенел с несвойственной экзальтацией.
И снова осень.
Земля завершила круг, справно предъявляя в разных частях своих где надо — плоды, где надо — льды, и, независимо от наших надругательств, вступила в новый круг, чтобы когда-нибудь остыть совсем. А мне кажется, что все быстрее, быстрее несется она вокруг Солнца, не уменьшая при том расстояние свое до него, что было бы объяснимо, а наоборот, удаляясь… удаляясь… все быстрее… все дальше…
Я снова возвращаюсь из Москвы. Лежа на верхней полке, гляжу на дорогу. Я знаю, что снова меня встретит Аннушка и в узком коридоре снова будут выставлены доски от койки, «етажерка» и фанерный шкаф — в безнадежном ожидании ремонта. И все-таки нечто изменится: на один круг Земли мы стали ближе к чему-то, не имеющему настоящего названия. Глядя на дорогу, я думаю о головокружительной своей свободе, которую только в дороге и доводится испытать. Я уже не принадлежу тому городу, из которого вырвалась, я к нему восхитительно равнодушна. Я только удаляюсь, меня не догнать. Я неуязвима.
Но тут ловлю себя на простенькой мысли, что, удаляясь от Москвы, я приближаюсь к петербургским болотам и все больше принадлежу им. А что, если представить себе вечное удаление, только удаление — без приближения к осязаемой яви?..
Сначала вдоль дороги плотной лентой потянется сумеречный ельник, потом замелькают слепые просветы, потом все реже, реже будут встречаться одинокие обглоданные елки. И наконец ровная, без единого пятнышка белизна захлестнет пространство.
А дорога будет длиться и длиться — без намека на приближение к чему-либо, без надежды на прибытие, удаление станет ее сущностью, и я пойму, что время погасло.
Тем не менее каждому воздается по вере. Евгеша каждую осень возвращалась с дачи, которая, надо сказать, была для нее не больно-то дачей. Евгеша, бедный канатоходец, как могла, удерживалась над бездной раздоров и склок — между своей остепенившейся, хронически надутой племянницей-дочкой, сына которой, а своего внука, она там нянчила, — и родителями второго мужа племянницы-дочки, сватьями то есть, которым (представим все щекотливые сложности приживальства) эта дача и принадлежала. Евгеша на той даче испытывала страшное, только дипломатам посильное напряжение, и продолжалось это лет десять.
На одиннадцатое лето чуть-чуть поменялся порядок привычных житейских сочетаний, что-то щелкнуло, сдвинулось — и где-то, может быть, отозвалось тектоническими катаклизмами.
Недалеко от деревни, где Евгеша нянчила Женечку, приютилось село со сказочным названием Гусли. Там, в заброшенном доме, помирала от рака легких одинокая старуха. Она обещала подарить дом тому, кто будет ее кормить и ухаживать за ней, но даже за такую цену желающих в той деревне не нашлось.
Нашлась Евгеша. Продлевая непонятную старухину жизнь, она исправно выполняла свои обязанности все лето и к осени отправила ее умирать в больницу.
— Старуха-то, — рассказывала мне Евгеша на кухне, — говорит: «Женя, я боюсь, ты уедешь, а они меня голую в гроб положат!» — «Лиза, милые кровиночки, ты подумай: ну где это ты видела, чтобы в гроб лóжили голыми?» — Евгешины честные водянисто-голубые глаза глядят на меня с детским удивлением. — Знаете (волнуясь, Евгеша всегда говорит мне «вы»), это неприятно: она так запустила все, даже картошку последнее время себе не варила, только курила. Два кота у нее было, распущенных, гадили прямо под нее. Ну и такое, знаете, все вокруг, что меня, грех, прямо на рвоту тянуло. Я, как в больницу ее полóжила, — потом, поверите, прямо вилами все вытаскивала и на огороде сжигала. А она, как в последний раз из дома выходила, — она, знаете, это, нервничала. До того — племянник приезжал: «Ну, тетка, где тебя хоронить?» Она говорит: «Где вам удобней». Он отвечает: «Похороним в Кисловке. А ты небось хочешь в Пустоши, а нам далеко. Ну, я поехал. Бывай здорова».
Осенью Евгеше все звонили из больницы: Лиза просила то палочку, то суднó.
И к зиме посеребренный инеем домик-пряник в селе Гусли перешел в полное владение Евгеши.
А зима в этом году наступила быстрей и быстрее иссякла.
Все же Евгеша снова успела провернуть форсированный ремонт своей комнаты и снова сказать, что следующий будет лет через восемь.
Вообще у Евгеши, равно как у Аннушки, отношения с категорией времени были странные. Я, например, не могу с уверенностью сказать, буду ли жива через пять минут. Не так было у них. Вот Евгеша, нацепив очки, читает Аннушке газетную байку про то, что к двухтысячному году… каждая ленинградская семья… Они долго обсуждают, может ли одинокий человек считаться семьей. Евгеша звонит Свете, своей блокадной подружке, которую побаивается за суровый характер и высокое положение: Света работает на телефонном узле. Света отвечает, что да, одинокий человек по советским законам может считаться семьей и, следовательно, будет обеспечен отдельной квартирой.
Евгеша принимается старательно считать вслух. В первом действии она вычитает из двухтысячного года год текущий. Получается число, которое можно расценить по-разному — в зависимости от темперамента, типа высшей нервной деятельности и способности к абстрактному мышлению. Во втором действии она прибавляет данное число к числу, обозначающему ее возраст. И наконец в третьем действии то же число прибавляет к возрасту Аннушки. Та слушает ее, открыв рот, как ученица — свою первую учительницу. Полученные ответы их занимают более в философском плане, нежели в сугубо практическом. Евгеша говорит, что ведь бывают долгожители. Вот у них на работе… Потом она еще раз пересчитывает, проверяет, после чего произносит свое обязательное: ну, ты-то уж, конечно… («Ну, ты-то, Ирина, уж, конечно, получишь»). «Ага — откликаюсь я. — На Ваганьковом». — «А где это?» — навостряет ухо Аннушка. «В Москве». — «Ну, в Москве-то у тебя знакомых полно», — заключает Евгеша.
Знакомые обнаружились и у Аннушки. И даже родственники. То есть дальние стали наезжать и сделались ближними. Это были племянницы, обеим лет за пятьдесят: Надежда — костистая, с наждачным голосом и дешевыми серьгами в больших плоских ушах, и стройная, с прозрачными глазами, с густыми — ровным крылом — русыми волосами, — Мария. Они затеялись приезжать, потому что мы с Евгешей оповестили их, что Аннушке все хуже, а приход гостей, их житейски-взволнованное копошение невольно делали видимость того, что все лучше. Они всякий раз учили меня и Евгешу не открывать Кольке дверь никогда, но эта наука была напрасной: Аннушка, объявись он, ползком открыла бы — и еще потому напрасной была эта наука, что он как раз и не объявлялся давным-давно. Он канул с весны, а теперь уж зима была на исходе.
Да, и в этом году зима завяла быстрее, так и не расцветя. Евгеша сама, своим нетерпением, словно ускорила время: не дожидаясь тепла, она принялась бегать по магазинам, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь, пригодное для ремонта унаследованного домика, и, возвращаясь ни с чем, называла змеями продавцов, покупателей и нерадивых работников.
Этой весной она уехала совсем рано. Еще лужи не подтянулись, не обрели цвета солдатских гимнастерок, еще лежали они, раскинувшись, — бесстыжие, глупые, синие, и я не знаю, как она добиралась по этому бездорожью в свое тридесятое царство.
А может, ее подтолкнул на то случай, который она корвалолом запивала, валидолом закусывала.
Аннушка начала терять на ходу; по выражению Евгеши, с нее стало падать. Не донесенная Аннушкой до уборной субстанция шлепалась возле ее собственных дверей — или возле отхожего места, — других вариантов, к счастью, не было, и, пока я убирала эти вещественные доказательства последней старческой немощи (Аннушка ничего не замечала, а то мне даже трудно представить, что с нею было бы). Евгеша все приговаривала, что не дай Бог дожить… Но вот однажды позорная материя обнаружилась возле дверей Евгеши. Она прибежала ко мне красная, в слезах, судорожно вопрошая, что бы это значило. Я ответила, что, ясно, не имею к тому отношения. Евгеша, конечно, и без того догадалась, кто к этому криминалу причастен, но ее здравомыслие пошатнулось под напором тоски, нахлынувшей от бесплодности санитарно-гигиенических устремлений, — так что она усмотрела в этом казусе глубоко оскорбительный для собственного достоинства выпад. Кроме того, она разобиделась на меня за легкость тона и отсутствие должного сочувствия. Из-за этого я превращалась как бы в сообщницу. Евгеша села на телефон и принялась обзванивать своих подруг, плача и жалуясь на судьбу.
Через несколько дней после этого она и уехала.
…Весна плелась календарная, формальная, анемичная, — недоношенная весна: голое окно между зимой, которой не было, и летом, которого не будет. Все сдвинулось: мы с Аннушкой остались одни на сезон раньше, а на дворе лежал черный снег (значит, не-снег), но раз лежал, то все сдвинулось как бы даже на два сезона. Время раскисло в рыхлявом (замечательное выражение ребенка: рыхлом плюс трухлявом) пространстве.
Мне снится. То есть во сне я не знаю, что это сон, и нет большей пошлости и лжи, чем пересказывать сны, но я перескажу.
Я сижу в закутке коридора. Ночь. Я слышу, как в моей комнате открывается дверь. Шаги. Я знаю, что в комнате никого нет, раз я сижу в коридоре. И тем не менее оттуда кто-то идет. Сейчас оно покажется из-за угла. Внезапно я понимаю, кто это. Это (шаги приближаются…) — я сама. В том виде, какая есть на самом деле.
Из-за угла появляется старуха. Я в ужасе бросаю в нее пустую бутылку. Звон стекла. Старуха невредима, она движется на меня. Швыряю бутылку! Звон стекла… Старуха движется…
Просыпаюсь! (В явь, в другой сон?) Старуха и я — одно. Я сижу в коридоре и вижу свои синие старушечьи ноги. Из комнаты напротив моей слышатся шаги. Теперь я не боюсь. В комнате напротив моей живет Аннушка. Это идет она, — хватаясь за стены, теряя войлочные тапки, останавливаясь…
Вот она вылезает из-за угла — старая, нестрашная Аннушка, проходит мимо, открывает дверь уборной… Я гляжу Аннушке в спину — и внезапно, как со стороны, вижу собственный взгляд — хищный, прицельный, — он беспощадно ощупывает жидкие Аннушкины руки, обшаривает «млявые» ноги — и жадно, жадно ищет перемен к худшему. Мгновенно я становлюсь Аннушкой. Я чувствую на своей беззащитной спине, руках, ногах плотоядный взгляд старухи Ирины. Я чувствую холодный взгляд этой внешне еще крепкой Ирины, которой я, старуха Анна, нянчила и жалела сыночка, приговаривая: отдыхай пока, ты еще маленький… скоро в школу пойдешь, там устанешь… Нет, мне, старухе Анне, совсем не страшно, — мне страшно и жалко старуху Ирину, которая так хищно на меня смотрит, потому что старуха Ирина думает: мразь ты, старуха Ирина, ведь Аннушке страшно. Нет, Аннушке не страшно.
А мнé, мне страшно! Я впиваюсь ногтями в подушку, мычу, вою. За что, за что же вы погубили мою бессмертную душу?! «За что!» Вот Аннушкину-то не погубили, сколько ни зверствовали. На кого ты все хочешь свалить? А что?! Ведь она каждый день талдычит мне, что смерть — это счастье! Не надоело ли мне это слушать?! Зачем ей эта жизнь, если она ее не хочет?!
А у меня на площади пятнадцать метров квадратных в тараканьей коммуналке сосуществуют: девяностолетний, с отвислой челюстью, дед, который мочится в баночку, харкает на пол, стонет, не переставая, и ежечасно устраивает скандал моей выпотрошенной матери; там же, сквозь щели трущобы, глядит на свет Божий мой маленький сын. Горбатясь в углу над книжками, он слышит в свой адрес шипящее: «Тише!» Он, никогда не видевший отдельной квартиры, дает ей исчерпывающее определение: «Отдельная квартира — это такая квартира, где можно, чтобы жила киска». Сын слышит в свой адрес «Тише!» от моей выпотрошенной матери, и, когда он смолкает, еще отчетливей визгливый мат пролетарских соседей — из кухни, из коридора, из уборной, из их конуры, отовсюду — иначе друг с другом и со своими детьми не говорящих. У сына тик: дергается щека, шея, судорожно моргают глаза, кривится рот, издавая хрюкающий звук. Моя мать возит моего сына на край города к гипнотизеру, который говорит за червонец: «Отвлеченные мысли тебя не беспокоят» и считает до десяти; мать платит деньги, оторванные от еды, ребенку нужна диета, у него диабет, нет денег и нет продуктов, и, вернувшись на свою жилплощадь, ребенок видит и слышит прежнее; мать валится с гипертоническим кризом, и теперь мой сын и дед, испуганные и дрожащие, смолкают без понукания, а мат пролетарских соседей звучит громче. Но мать выкарабкивается, и они снова грызутся, как пауки в банке, у сына по-прежнему дергаются рот, щека, шея, веки, все идет по-прежнему, и я не переступаю порога этой ловушки, потому что ничего не могу изменить. Нарушен естественный порядок смены поколений, старые дерева губят подлесок, подлесок губит старые дерева; им не разойтись; они взаимно ускоряют свой и без того недолгий срок на жесткой земле. Кто-то должен выбыть из этого противоестественного симбиоза — именно физически выбыть, потому что ареал обитания нам не изменить. Если сын будет жить со мной в одной комнате, то матери и деду станет полегче, но тогда умру я — в прямом физическом смысле — потому что не смогу заниматься работой, которая меня держит в жизни. Если все останется по-прежнему, то первой выйдет из игры (назовем это так) моя мать — еще задолго до лучезарного двухтысячного года, — а сын сойдет с ума. Кому же выбывать, кому? И куда? И разве нам это решать? Кто-то нашептывает на ухо: «Старику». Ерунда. Старик из долгожителей. И хватит об этом! Но кто-то нашептывает имя человека, который сам хочет смерти (я отчетливо слышу имя, его нашептывают прямо в душу, она корежится, пытаясь увернуться); человек говорит мне об этом ежедневно, и это по-житейски так понятно!
Но я-то живу не «по-житейски» и знаю, что одной лишь такой мыслью моя душа загублена. Да, но за что страдает мой сын! Ведь даже животные не живут на голове друг у друга, они не размножаются в таких условиях! «Всем я родился в тягость», — говорит ребенок.
Вокзал. Огромная очередь в буфет. Отделившиеся от головной части с жадностью запихивают в рот хлеб и хлебные котлеты. Середина очереди и особенно хвостовая ее часть с хищным нетерпением глядят в их ротовые отверстия. В том же порядке очередь переходит в сортир. От головной части отделяются люди, с чувством заслуженного удовлетворения садятся на «очки», ничем не отгороженные от жадных взоров очереди; ее середина и хвостовая часть с хищным нетерпением глядит в направлении отверстий, противоположных ротовым.
Вот и все. Это не метафора, а («взятая из жизни») схема условий, в которые мы все поставлены.
Хотелось бы, конечно, чтобы Аннушка и Господь Бог простили меня за мои хищные мысли во сне, когда я была собой.
Себя-то я не прощу.
VIII
…С утра перегорели пробки, а денег было на метро. Я села в метро со случайной приятельницей, и мы поехали одалживать черт знает куда. Нам дали денег на пробки, а мы устали и купили только молока.
Белая ночь шла на убыль, но в июле, усилием воли, можно еще об этом не думать. Мы вернулись домой в девять вечера.
Аннушка, услыхав, открыла свою дверь и сказала, что сильно болело сердце и тошнило. Я удивилась, что она об этом докладывает.
Аннушка перенесла два инфаркта, о которых мы с Евгешей узнали, что называется, постфактум. Аннушка, стиснув зубы, рвала на себе рубашку и скребла стенку, а Евгеша, тоскуя, думала, что мыши. Помню, Аннушку хватил инсульт, и мы тоже узнали не сразу, потому что она и в обычном состоянии не выходила из комнаты, в связи с чем племянница-дочь говорила обеспокоенной Евгеше: «Завоняет когда — так узнаем». Лишенную возможности сопротивляться, нам удалось тогда отправить Аннушку в больницу. Когда я пришла ее навестить в первый раз, в казенном окошечке меня спросили: сами переодевать будете? белье принесли? Я поняла, что переодевать надо тело, и обмерла от ужаса. К счастью, это оказалось не так. Аннушка лежала в палате на двадцать человек, у самой двери и, как всегда, ни на что не жаловалась. К ней я пробиралась по смрадному коридору, где заживо разлагались недвижные старухи с гноящимися дырочками глаз; черные мухи в поисках последней влаги облепили их провалившиеся рты. Старухи тоже не жаловались.
…Мы так и стояли с приятельницей в коридоре, держа бутылки с молоком, похожим на июльскую ночь. Аннушка легла на свою жесткую койку — дверь ее оставалась открытой — и вдруг резко соскочила на горшок. Она сказала отчетливо: «Мне бы счас наган, девка, я бы застрелилась». Я дала ей таблетки, чай, вызвала «неотложку». Толстый врач оставил после себя в блюдечке две пустые ампулы. Аннушке легче не стало. Я хотела позвонить Надежде или Марии, но она запретила: у них внуки, им некогда. Я снова вызвала «неотложку», и пока тот же толстый врач возился в сумерках с Аннушкой, мы пошли на кухню выпить молока. Врач несколько раз проходил в ванную мыть шприцы, с живым любопытством разглядывая старинную квартиру. Он по-гусиному проплывал сквозь туман белой ночи, светившейся испарениями болот, кладбищ, умерщвленного залива…
Мы с приятельницей пили молоко. Врач сделал еще укол и ждал в Аннушкиной каморке. Мы выпили уже все молоко. Врач направился мыть шприц. Он зашел на кухню и сказал: бабушка умерла.
Я не поняла. Он повторил. Потом спросил время. Я не поняла, а приятельница сказала, что полночь.
Потом все было просто и криво. Толстый врач призвал одну из нас присутствовать в качестве свидетельницы, пока он переберет в Аннушкиной сумочке ее медицинские справки. Я отказалась. Он сказал: да она нормальная лежит. Пошла приятельница. Потом он звонил в свою контору и говорил: «В присутствии» (что на халдейском их языке значит: больная скончалась в присутствии врача). И вызвал милиционера. Для чего? Оказывается, так положено, раз Аннушка была одинока и скончалась скоропостижно. В ожидании милиционера он со вкусом пил чай.
В три часа ночи, громко стуча в дверь («Стучите, звонок не работает»), вошел поскрипывающий сбруей участковый, а с ним — мужчина и женщина. Мы встречали их со свечами. Врач ушел.
Мужчина и женщина, воспользовавшись сумерками и стульями напротив Аннушкиной койки, тут же (мне было видно в дверь) принялись обниматься и целоваться взасос. Возле их ног резвился принесенный ими котенок. Это напоминало какой-то африканский обычай совокупления молодоженов возле мертвого тела — для доказательства своему племени его неослабевающей жизнеспособности.
Наконец участковый написал бумажку и велел передать тем, кто приедет. А кто приедет? — спросила я. Труповозка, ответил милиционер. (Я мгновенно увидела телегу, наполненную мертвыми телами, — «негр управляет ею» — и пирующих во время чумы). Я не могла приспособить это слово к местным условиям. Когда же она приедет? — спросила я. Позвоните, она и приедет, — сказал милиционер уходя. Целуясь, ушли понятые. По их африканским обычаям следовало уходить целуясь.
Мы с приятельницей по очереди набирали номер конторы, где парковались труповозки. Никто не подходил. Все негры спали.
Возле дверей Аннушки поминутно происходил шорох. Я занесла забытого котенка в свою комнату. Мне казалось, сейчас выйдет Аннушка и спросит, который час.
В пять часов утра раздался громкий стук в дверь. Двое спросили: где свет и где труп. Я сказала: света нет, а труп там. Они занесли в Аннушкину каморку носилки военно-полевого образца, а я пошла на кухню, потому что бумажку участкового, где Аннушка называлась «труп гражданки», я по привычке положила на ее же столик, куда мы с Евгешей всегда клали ее приглашение на выборы, «Правила пользования газовой плитой» и другие скудные деловые бумажки. Я подала им справку в коридоре и спряталась в ванной. Они, приговаривая, «мертвых не бойтесь, бойтесь живых», и громко топая, вышли на лестницу. Слышно было, как они разворачиваются, приноравливаются, сопят. Хлопнула дверь.
На Аннушкиной полочке остались: темный обмылок с засохшими кольцами пены, черствый огрызок пемзы и лысая зубная щетка.
…Не могу позабыть, как Аннушка никогда не умела скрыть тоскливого своего беспокойства, когда я после уборки, бывало, выносила на помойку старье. «Дай мне, не выбрасывай», — говорила она. (Евгеша, в соответствии со своей скорой диагностикой, классифицировала это как бзик). У Аннушки в шкафу, таким образом, скопились гладкие пластмассовые обломки игрушек моего сына вперемешку с хрусткой мишурой пластмассовых моих «драгоценностей», старой нашей обувью и разными, несвойственными обиходу старости экстравагантностями вроде моей электрозавивалки «Локон»… Иногда Аннушка притаскивала назад вещи, уже выброшенные мной на помойку, невольно нанося сокрушительный удар по асептическим и антисептическим чувствам Евгеши.
— Не выбрасывай! — говорила она жалостно. Это не было крохоборством.
«Не выбрасывай!..»
Аннушки не было, но я еще не чувствовала непоправимости ее отсутствия. Ведь ее еще не похоронили, она лежала, как хотела — так неглубоко, сверху, и стужа холодильника явилась еще одним звеном все-таки земного пути перед последним холодом космоса, а может, всего лишь могилы. Можно было подумать, что Аннушка, например, уехала в деревню к дальним родственникам, куда ездила лет десять назад.
На другое утро после труповозки, еще в постели, я услыхала скрежет ключа, щелчок входной двери, деловитые шаги Евгеши по коридору, а затем — отчетливо в тишине квартиры — ее стук в дверь Аннушки и вопрос, не нужно ли той хлеба. Не дождавшись ответа, она торопливо пошла к себе.
Ее приезд произошел вот отчего. Домик-пряник требовал денежных вложений, и Евгеша, закрыв глаза, скрепя сердце и очертя голову, сдала свою комнату на лето двум бойким шлюшкам из Института советской торговли. Ее подвела интуиция, точнее, отсутствие современного опыта в общении с осьмнадцатилетними девами, вырвавшимися за шлагбаум деревни. Она как-то застыла в своих представлениях о сем предмете на тех, пятнадцатилетней давности, благостных буренках из ее отделения, мечтавших исключительно о муже и ребеночке.
Она свято верила, что ее квартирантки не курят. Между тем изобретательные девы учинили на ее жилплощади нескучный бордель. Сбежав после очередного скандала, они оставили батальную картину такого эпического размаха, что, узри ее Евгеша, она тут же наложила бы на себя руки. Я навела, как могла, у нее порядок и под матрасом (чехол которого Евгеша еженедельно стирала и гладила с двух сторон) обнаружила игривые трусики потаскушек. Я оставила их в качестве вещдока и написала Евгеше письмо.
И вот Евгеша приехала. Я сказала, что Аннушка умерла, но она не услышала. На ней не было лица. Она кричала:
— Вы подумайте, такие дорогие трусы оставили, цацы! А мне на что?! Я и за сестрой сроду не одевала!
Потом она нашла под столом окурок и заплакала. Я повторила про Аннушку, — она кивнула, продолжая плакать.
Два дня она проболела от горя, страшась приблизиться к зачумленной постели и лежа в одежде на обернутой в полиэтилен раскладушке. Она пила корвалол и публично проклинала себя за непутевость, доверчивость и отсутствие ума. За эти два дня, тем не менее, она успела провести дезинфекцию, а безотказный зять врезал ей новый замок.
И она укатила в свой звенящий от чистоты теремок.
Остается добавить, что именно Евгеша кормила блаженную нашу Аннушку, а кабы не Евгеша, Аннушка померла бы раньше. Евгеша кормила ее, когда покупка чайника пробивала в финансах Аннушки невосполнимую брешь и когда Аннушку грабил племянник, и позже, когда та почти не двигалась, а деньги, против ее воли, обменивались на дорогие бесполезные лекарства. Кормежка эта, с учетом особого Аннушкиного характера, была делом, безусловно, сверхъестественным.
Как это происходило? Может быть, Евгеша связывала Аннушке руки-ноги и разжимала ей зубы ножом? Может, применяла гипноз? Питательную трубку? Чепуха, какая чепуха!
Я не знаю, как она это делала.
Муж Марии сказал, что она стирает. Я позвала; сказала. Назвала адрес морга. Через минуту вспомнила еще что-то, позвонила. Муж ответил, что Мария стирает.
К вечеру Мария и Надежда приехали. Они забрали, во что одеть Аннушку.
Этой одеждой оказался новый ситцевый халат. Я вспомнила, что за день до того, как перегорели пробки, Аннушка сползла с пятого этажа и купила его. Потом она целый день — последний свой день — разбирала тряпки: рвала, разглаживала, собирала узлы. И последним ее действием, если вспомнить (я ездила тогда одалживать деньги), был, как выяснилось, поход в баню. Почему она поползла в баню на «млявых» своих, полупарализованных ногах, непонятно. Она никогда туда, по крайней мере, за время житья в этой квартире, не ходила: даже если отключали горячую воду, Аннушка пережидала и мылась в ванной. То ли эта баня добила Аннушку, то ли Аннушка, чувствуя что-то, напоследок, по-христиански, пошла в баню, не смея сопротивляться укорененному вне ее головы обычаю? А может, просто не могла мыться без света — но почему она знала, что делать это надо срочно?
Так или иначе, все Аннушка сделала правильно. Она сама себя обмыла (и сообщила по телефону Марии, чтобы не быть потом в тягость). Халат, что она купила, родственники надели на нее, и в гробу, прикрытый простыней, он вполне сошел за нарядную блузу. Она увязала узлы, сэкономив родичам время.
Одно Аннушка сделала неправильно. «Не дожила двух дней до пенсии», — сказали родственники.
«Не дождалась она Кольку», — говорила потом Евгеша. Я была поражена. Я забыла о нем. А она ждала свою краснорожую скотину (он пугал Евгешу еще и тем, что хочет оформить над Аннушкой опекунство), ждала, почитай, больше года; я краешком естества ощущала только благодать, как если бы исчез невыносимый запах, сверлящий звук, мерзкий, тревожный цвет. А она страдала и не находила места. Потом нашла.
Я рада, что государство выделило отдельную могилу для Аннушки. Несмотря на дефицит земли, на которой надо строить, потому что дефицит жилья, и сеять, потому что дефицит жратвы, и много чего надо делать тактико-стратегически необходимого, — для Аннушки все же нашлась отдельная могила. Там не будут течь угол, гнить рамы, проседать полы, — точнее, мы не знаем, что там будет, а чего нет, — но и то хорошо, что обремененное государство, к чести его, без особой проволочки передало Аннушку в неподведомственную инстанцию, и теперь мне с отрадой почему-то сдается, что Аннушка на месте и ей хорошо.
А иначе — как могло быть? Вполне могло быть иначе. Не окажись у Аннушки Марии и Надежды — отправили бы ее после холодильника на вскрытие, а оттуда — куда? — людям на пользу. Когда мы в мединституте анатомировали трупы, нам говорили: это бомжи и те, кто без родственников. На экзамене по анатомии мы подходили к трупу и пинцетиком припрятывали друг для друга между его наформалиненных мышц спасительные «шпоры». Иначе экзамен было практически не сдать. А это значило: остаться без сорока рублей стипендии. С учетом того, что подрабатывать нам было строго запрещено, это обещало попросту нищету и голод — в первом словарном значении. Таким образом, окажись Аннушка на учебном анатомическом столе, она и тут принесла бы пользу.
Да что там! Впоследствии выяснилось, что родственники не обнаружили у Аннушки в заветной сумочке ее похоронных денег. Возможно, я беру грех на душу, но твердо подозреваю того толстого суетливого врача, который долго в одиночку возился возле Аннушки и задним числом звал нас свидетелями, чтобы снова, для вида, поковыряться в сумке, где лежали деньги и справки. Потом мне объяснили, что искать справки было излишним. Мне также рассказали, что такой вид кражи — самый рядовой. И что же? Конечно, в итоге родственники похоронили Аннушку за свой счет. И я хочу сказать Анне Ивановне, которая теперь, на месте, меня слышит хорошо, что ведь этим-то самым, утратой накопленной суммы, она подарила им возможность почувствовать себя людьми честными, порядочными, выполнившими свой долг. Таким образом, пользу она им принесла неоценимую.
…И вот освободилась комната. Я долго не решалась туда зайти. Но как-то Евгеша заметила мне: «Чего ты боишься? Она была человек добрый, простой, легкий, — и ничего в этой комнате страшного нет».
И точно. Я зашла — и северная комната показалась мне светлой. Легкая душа Аннушки, возвратясь в лучи золотистого света, ничем о себе на напоминала. А тело ее с пользой освободило жилплощадь, на которой будет расти мой сын.
Я подошла к окну и долго смотрела на золотые купола Никольского собора. Да что же это! Как ни поверни — обречена она была, что ли, приносить только пользу, пользу, ничего кроме пользы? Почему так?! Холстомером она родилась, что ли?..
…В тот день с утра шел дождь, и я долго добиралась до монументального, похожего на райком партии здания судебно-медицинского морга.
Наконец добралась. Я вошла в зал, где стояли закрытые гробики, и на каждом была фотография ребенка. Перед каждым гробом, не двигаясь, стояла женщина в черном и неотрывно смотрела на фотографию. Мне объяснили, что это зал для детей, погибших так, что их невозможно показать матерям.
Я вышла на воздух.
Потом я заглянула в другую дверь и спросила санитара, здесь ли находится такая, такая-то. Он ответил: да, здесь.
Ответ был на удивление быстр. Странно. Приди я при жизни Аннушки в жэк, поликлинику, исполком — любую контору и спроси: здесь ли находится (в списках) такая, такая-то? — там долго бы рылись, искали, с раздражением тявкая, что ее тут нет, возможно, вы ошиблись, приходите (позвоните) завтра, вот выйдет из отпуска такой, такой-то… Сразу стало бы видно, что Аннушка, даже отрытая в завалах государственных бумаг, ютилась там случайно, полузаконно, из милости.
А в морге я спросила: здесь? Мне мгновенно ответили: здесь. Как будто это задолго уготованное ей место было единственно законным.
Я вошла в зал. Я обнаружила Аннушку по ее племянницам. Они серьезно смотрели в гроб.
Аннушка в гробу была очень красива. На лбу, из-под белого платочка, виднелась узорчатая бумажная ленточка с молитвами. Гроб, насколько я разбираюсь, был вполне пристойным. В гробу Аннушка была удивительно на месте, и эту гармонию уже невозможно было сломать.
…Дождь продолжал идти, потом перестал. Мы ехали в похоронном автобусе вдоль того берега Обводного канала, мимо сумрачных, сосущих душу зданий.
— А вот тут тетя работала, — сказала Мария. — И вот тут она работала. Тетя, посмотри, ты всю жизнь тут работала, попрощайся…
Стоял обычный тусклый петербургский день. Мы ехали окраинами. Мелькали указатели, потом стало пусто, и Надежда сказала, что не помнит, как ехать. Мария заплакала. Они решили похоронить Аннушку недалеко от деревни, где жила еще одна, неизвестная мне племянница. Там уже все утрясли в сельсовете. И вот мы сбились.
Мы плутали, как в дурном сне. Черные горбатые елки торчали по обочинам безымянной дороги.
Потом мы приехали. Ветер со всех сторон обдувал этот бесприютный клочок земли, катал пустые бутылки по могилам, которые можно было перечесть на пальцах, — он гонял бумажный цветочный сор по малочисленным виноватым могилам, словно случайно и временно оказавшимся здесь. Это было место на самом краю света, и я поняла, что никто никогда не навестит здесь Аннушку: живые не ездят по этой дороге дважды.
Я сразу же забыла, как оно называется, это место, — то ли Задорóжье, то ли Забрóдье, то ли Зáборовье, — только помню, что — за… за… за…
Местная безымянная племянница терпеливо дожидалась, когда гроб выгрузят из автобуса, поставят на землю, снимут крышку, расступятся, — чтобы, выдержав необходимую паузу, правильно открыть рот, взять сколько следует воздуха и в безошибочной тональности заголосить: «Ах, тетушка, родненькая, сколько же я тебя, дорогую, звала сюда приехать, а ты все не могла, кровиночка, и вот — собралася!.. Приехала!..»
Мария и Надежда грамотно подпевали.
Прохладные лапки дождя принялись трогать сухие щеки тех, кто не плакал, гладить мокрые лица плакавших и залезли в гроб к безучастной Аннушке. Племянницы забеспокоились. Следовало опускать гроб в могилу, Мария теребила длинные полотенца, могильщики нервно переминались, матерясь пока втихаря, а между тем застрял где-то в дороге, заплутал на личной машине сын Марии с чады и домочадцы. Мария несколько раз выходила встречать машину далеко на дорогу и стояла подолгу на перепутье — прямая, напряженная, ждущая.
Спине Марии подошли бы библейские холмы. Я видела их голубые пологие склоны, нежную пыль на пустынной дороге, над которой плыла к нам по воздуху Мария, мелко и радостно крестясь. Сзади нее заблудшей овечкой вырастала личная машина сына. Машина догнала Марию и приняла ее в свое лоно.
IX
Мокрый ветер стер паутину, и в синем сиянье повисли сахарные облака. Мария обсыпала могилу белым сладким рисом, Надежда украсила ее разноцветными цветами, и больше было розовых цветов. Воробьи чвирикали, слетаясь к холму, к рису, — подтверждая правильность ритуала; места и риса хватало всем. Мария дала и мне ложечку кутьи («Так у нас принято»), Надежда поднесла стакан красного. Остальные выпили водки.
Нет, что ни говори, Аннушка была Богу угодна. Вот ведь, не погибла она в детстве, чтобы обездвижить горем свою мать. И не вмерзла в кровавый навоз на сибирском тракте. И не в больничном коридоре, по горло в собственных испражнениях, она угасла. И она не озлобила своих дальних родственников пустыми хлопотами вокруг разлагающейся плоти. Она умерла в преклонном возрасте, на своей жилплощади, на собственной койке, просто и быстро. Она успела справить земные дела и устать. Да и время года подгадала она наилучшее — белые ночи, сладостный июль, маковку лета, податливую, ласковую, родственную всему живому землю, а вовсе не стужу и грозный петербургский мрак, и не пришлось могильщикам трудно долбить яму, а родственникам переплачивать за переусердие. И вот еще: ведь и погода летняя бывает всякой, а наша-то чаще всего — наигнуснейшей (и в те времена, когда Петербург, притворяясь Венецией, смущает горожан бутафорской небесной синевой, — такая погода еще хуже привычной промозглости, как улучшение больного перед самой смертью, — и так тревожат эти опереточные небеса, и не хочется привыкать к ним…). А тут, вот ведь, после дождичка вдруг сделалась ясная, но — и без ярких Италий — тихая такая, сугубо местная погодка. Стакан красного стучал в моей голове, расширяя ее до границ видимости, невидимости, растворял, делал невесомой, неуязвимой для тревог и страхов. Вот только то плохо, что положили Аннушку глубоко, хотя и не в воду.
Издали могилка была похожа на маленький дворец из сказки Джанни Родари. Нет, проникла, проникла все-таки сюда заемная лучезарная Италия. Нету у нас под белесыми небесами в достаточном количестве таких красок, чтобы хватало всем при жизни.
Вино выпихивало меня в открытый космос. Оттуда, из голых просторов, я видела чуть сплющенную с полюсов голубую телевизионную землю, где на северо-западном краю белела-розовела нарядная могилка Аннушки.
Никогда, никогда — никогда при жизни, понимаете вы?! — ей не довелось обладать такой красотой.
…На поминках в доме безымянной племянницы было нешумно и пристойно; разрумянившаяся русоволосая Мария зорко следила за мужем и сыном, чтоб не хватили лишку. Они все же хватили лишку, но и это было пристойно, потому что на поминках и должен кто-нибудь хватить лишку. Я выпила еще стакан красного и вышла.
В огороде, после теплого июльского дождя, все сияло и перло из черной земли. Здесь царил порядок, как на небесах или в добровольческой армии. Зеленые, подтянувшись, стояли в рядах с зелеными, красные объединялись с красными, белые толпились и пенились белым.
А за воротами, в канаве, царил гражданский лохматый беспорядок лопухов, крапивы и чертополоха. Но и в том безудержном беспорядке был смысл: он служил рамкой порядка. А может, наоборот.
На крылечке появилась безымянная племянница. «Я Анне Ивановне-то всякий месяц пошлю, бывало, летом — ягодок, осенью — грибочков, зимой — пирожков, — говорил ее беззвучный рот; слова, отдельно от него, стучали в моей голове, пузырились и лопались. — Вот всегда ей пошлю, бывало, гостинчиков, — открывала она рот; в голове моей что-то пульсировало и объемно гудело, — летом ягодок… осенью грибочков… зимой пирожков…»
— Она была святая, — вдруг сказала я, с интересом слушая не свой голос. — Святая, — повторила и ударила кулаком по перилам крыльца.
Кулаку не было больно. Голос оставался чужим. Слезы хлынули из моих глаз, которые были отдельно, потому что меня самой не было на том крыльце, — а там, где я была, меня корчило болью, она выхлестывалась наружу рекой, река впадала в море, а море — в океан — земной и небесный; и река эта отворилась словом. Кто-то за меня — мной — произнес слово, которое оказалось ключом, — и отворилась дверь, и я поняла там что-то такое, что сразу забыла, потому что всегда это знать нельзя; если б я знала это теперь, то пила бы горькую или болталась бы в петле, а может, сохла телом и расцветала душой в монастыре — что угодно, — только не сидела бы, как сейчас, за столом, где, хоть и не мед вкушаю, но все же уютно светит лампа, а белые листы под рукой и черная ночь за окном дарят задор, — и, поднатужившись, вполне можно самой вытащить себя за волосы из болота, как это делал барон Мюнхгаузен.
Честно говоря, и я не верю в загробную жизнь. Голубой с золотом христианский рай, где зачумленно мечутся анатомически ущербные серафимы, не имеющие возможности присесть из-за отсутствия седалищ, — не хотела бы я, чтобы в таком раю пребывала моя Аннушка.
Но я чувствую, что она — на месте, и душа моя спокойна. И это ощущение, что она на месте — тот покой, который дарит это чувство, может быть, есть главное доказательство того, что рай существует.
Слава Богу, недалеко живет Евгения Августовна, которой, обменявшись с моими родственниками, удалось спуститься поближе к земле грешной, с пятого на второй этаж, и — больше всего я люблю ее за это — никогда не поймет, как это семье можно предпочесть наркотическое вдыхание чернил и азартные игры с бумагой. Я очень хочу, чтобы сбылась ее главная мечта: оставить внуку Женечке комнату, а уж потом умереть.
И вот еще что.
Священные чудовища у кормушки верховной власти! Все было сделано вами для того, чтобы даже тень тени не оставили эти старухи.
А разве по-вашему вышло?
Они и сейчас сидят в моей кухне.
— Ирина-то вчера целый день гуляла, а хоть бы картошки, непутевая, себе купила! — говорит Евгеша.
— Землю в этом году у племянницы картошкой не засевали, пускай земля погуляет, — говорит Аннушка.
Январь, 1990 г.
Кабирия с Обводного канала
Когда не было рядом мужчин, или голосов мужчин, или мужского запаха, она сидела, развалив колени, и вяло колупала ногти.
Ее звали Раймонда Рыбная, в быту — Монька, Монечка. Фамилию она заполучила от мужа — именем была обязана своей мамочке, а моей тетке, Гертруде Борисовне Файкиной. Тетка от природы была наделена сильным тяготением к красивым предметам, вследствие чего неизменно перевозила за собой с квартиры на квартиру (и тут же прибивала на новом месте): портрет писателя Хемингуэя, календарь за август 1962 года с лимонноликой японкой, полулежащей в чем родила ее мать, и трехрублевого Иисуса, страдающего на гипсовом кресте. Другой природной склонностью тетки была безудержная страсть к вранью. Усталые родственники говорили, что она врет, как дышит. В результате этого ее пристрастия и родилось трогательное предание, согласно которому имя для дочери она подобрала исключительно в память о погибшем на фронте брате Романе. (Рассказывая, тетка, где надо, делала выразительные паузы). Легенду портил маленький изъян. Дело в том, что у Гертруды Борисовны был сын, который появился на свет тоже после гибели своего героического дяди, и, кстати сказать, до рождения Монечки, — ему Гертруда Борисовна подыскивала имя в диапазоне от Аскольда (Асика) до Эразма (Эрика) и окончательно остановилась на Нелике. Корнелий впоследствии стал милиционером.
А вот фотография. На ней Моньке лет четырнадцать — мне, соответственно, четыре. Мы стоим у заснеженной ели, возле дома деда и бабушки. У Моньки просторный лоб, на щеках ямочки, а глаза откровенно шельмоватые, точнее сказать, вполне уже блудливые глаза. Я прихожусь ей по пояс, гляжу взыскательно — и сильно смахиваю на умненькую, строгую и непреклонную старушку.
…Из мириад разлетевшихся осколков поток забвения возвращает почему-то тот, на котором Гертруда Борисовна собирает Моньку в пионерский лагерь.
Тетка стоит на кухне, деревянной ложкой торопливо запихивая в банку из-под компота рубиновый винегрет, и, с красивым оттенком фатальности, очень громко, благо соседи ушли, кричит дочери через всю коммуналку:
— И чтобы ты помнила?! Я в шестнадцать лет выпила только одну рюмку!! И вот с этой рюмки был Нелик!!
Но Монька уже несется с фанерным чемоданчиком по берегу Обводного канала.
Она бежит, улыбаясь, приплясывая, подол юбки, как всегда, намного выше ординара, Монька не меняется, ей вечно четырнадцать, — меняются лишь плакаты и лозунги (они плоховато видны мне за пеленой времени, пыли, сизых выхлопов и заводских дымов): вот человек в тяжелом скафандре осеняет ее римским жестом победы, жест перехватывает орденоносный дядечка с толстыми, как усы, бровями, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, кривые на диаграммах неуклонно ползут вверх, мелькают указатели, канал трудно проталкивает невесть куда мутные свои воды, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, идеальный юноша показывает белые зубы, пять в четыре, и вот уже олимпийский медведь, вознесенный над морем караваев и кокошников, старательно копирует жест космонавта, дядечки, юноши, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, вдоль обочины однообразно тянется красный частокол: XXVI XXVII XXVIII, на бегу она подхватывает прутик и громко делает по забору др-р-р-р-р-р-р!! Внезапно парапет обрывается, и плоский, непривычно пустынный берег заманивает ее к тусклой воде. Она завороженно глядит в тающее свое отражение… Плеск одинокого весла особенно отчетлив в этом душном беззвучии. Плату, — на языке немых требует гребец. Она бросается к чемоданчику. Фонтаном взлетают зеленые, зашитые синим чулки, красная юбка с булавкой вместо застежки, танкетки, косметичка, застиранный лифчик с отодранной бретелькой, попугайского цвета кофточка в треугольных следах утюга, газовая косынка, трепаные ботинки, рыжее, в катышках шерстяное платье, взмахнув рукавами, выставляет темные полукружья подмышек… «Не надо», — беззвучно говорит гребец. Она обиженной дудочкой вытягивает губы… Растерянный взор ее плавно перетекает в томный, озороватый, кокетливый и, наконец, откровенно зазывный. Она игриво хихикает и многозначительно лыбится. Гребец недвижен и стар. Сияя, она сощуривает свои зенки — в них яростно пляшут эскадроны синих чертей — и, прикрывшись ладонью, шепчет ему какие-то словечки, мне не слышно какие… Гребец начинает хохотать. Он хохочет долго, облегченно — впервые за тысячелетия однообразного безрадостного труда. Его громкий хохот взрезает бурую тушу заката, и солнце, скандально нарушая вселенский закон, резко дает задний ход, на миг озарив быстротекущую воду… Годится, бодро говорит перевозчик. Он даже слегка молодеет.
Талант Монечки, как водится у вундеркиндов, проявил себя рано, бурливо и шумно.
Бывало, мы спали вместе, когда ездили на дачу к бабушке. Как-то, случайно, я нашарила у Моньки жесткий треугольник волос — в таком месте, где они, по моему разумению, и расти-то не могут. Еще больше я удивилась, что мою находку она явно одобрила и поощрила. Но тут тетка высадила меня на горшок.
Монька давно не пользовалась ночным горшком. По ночам ее чаще всего не бывало дома. Она убегала на поздние танцульки, а утром ее ссаживал с велосипедной рамы кто-нибудь в кепке.
— Это Владик! — чрезмерно правдиво объявляла она и, конечно, разумно не приближалась к крыльцу. — Не узнаете, что ли, Владика?.. Это же Владик!
Удержать Моньку летним вечером дома было делом гиблым. Она исчезала еще с утра. А если ее пытались придержать утром, то днем она вызывалась идти на рынок, в центр дачного поселка, чтобы помочь бабушке принести продукты, — и пропадала на несколько дней кряду.
Ее пороли. Монькин папаша, Арнольд Аронович, герой финской кампании, не торопясь наматывал армейский ремень на беспалую руку. Брюки падали, он переступал через них. В одних трусах это животное, сопя, принималось надвигаться на несовершеннолетнюю свою дочь, которая уже опрокидывала стулья и билась в заранее запертую дверь. Впиваясь в Моньку единственным глазом, циклоп-тарантул без труда завершал поимку: Монька сама замирала в углу. Родитель работал над ней молча, с наслаждением, время от времени сладострастно вскрикивая и резко выдыхая воздух.
Но не успевали еще просохнуть обмоченные трусы, как Монька снова усвистывала.
У меня сохранилась предназначенная ей хрестоматия по советской литературе для десятого класса. Гертруда Борисовна как-то принесла ее по случаю с товарной базы вместе с ящиком циркулей «козья ножка». Как и положено старой деве, хрестоматия дряхла и целомудренна. Никто не покусился разрезать ее листы, остальные же страницы остались нетронуто чистыми, годы жизни классиков на них не подчеркнуты, и на полях нет даже кукольных очей с неправдоподобной длины кудрявыми ресницами. Правда, серая обложка залита чем-то буро-лиловым, вроде портвейна, да на форзаце приторной вязью какой-то ябедницы выведено:
В этой книге содержится ряд ценных сведений. Горький, с уютом расположившись между Ждановым и Молотовым, доверительно сообщает им, что человек звучит гордо, а непрерывно взволнованный Степан Щипачев высоко проносит свой лозунг: ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ!!! ЛЮБОВЬ — НЕ ВЗДОХИ НА СКАМЕЙКЕ!!! Монька была в восторге от этого изречения, которое она притащила из женской консультации в летние каникулы после седьмого класса. Изречение было красиво написано на санпросветплакате, где на манер шарады соотнеслись: бутыль сорокаградусной, криминогенная садовая скамья и зеленоватая парочка, а также луна и сомнительного вида младенец. Думаю, имени автора текста Монька так и не узнала. Она не вытерпела до конца тягомотину наук, так что каникулы после седьмого класса стали последними.
— Буду я им учиться! — презрительно заявила она в начале лета 1959 года, и это были принципиальные слова.
Моньке всегда было свойственно беспечно клясться, божиться, зарекаться и давать зуб. Однако на этот раз слову она оказалась верна: книги в ее руках я больше не видела.
А последний раз перед тем видела в щелочку. Это был двухтомный «Нюрнбергский процесс». Монька с подружкой заперлись в сарае и, пакостно хихикая, разглядывали в этой книге срамные картинки с голыми дядьками и тетьками. Я их накрыла. Они стращали меня и клянчили не закладывать взрослым, и я не заложила, — но что толку?
Вокруг нее всегда был шум и скандал. Ее отлучки сопровождались всеобщим тарарамом, ничуть не меньшим по силе страстей и звука, чем утренние прибытия. Арнольд Аронович орал на Гертруду Борисовну, что она растит шлюху и паразитку; Гертруда Борисовна с величественным видом королевы-изгнанницы латала дырку от папиросы на замызганной Монькиной юбке («Почему ты за нее все делаешь?! За эту телку, паскуду?!» — «Я тебя сейчас задушу, Арнольд». — «Ноги раздвигать — она уже взрослая, а юбку зашить…» — «Арнольд, если ты сейчас же не замолчишь, это будут твои последние слова!!!»); Нелик с милицейской прямотой вставлял, что от этого бывает люэс; дед, выковыривая из самых неожиданных мест Монькины трусы, ломкие от стародавней месячной крови, кричал, что от этого бывают мыши.
В то лето решили запирать Моньку ночью на кухне. Это было гуманной мерой. Учли ее слабость кусочничать, особенно по ночам, и, с отчаяния, тешили себя надеждой возместить этим, хотя бы отчасти, запрет на кое-что повкусней. Под окном, в траве, пристроили брата Нелика, чья милицейская увлеченность правопорядком легче всего осуществлялась дома.
Наутро кухня была пуста. В первое мгновение Корнелий даже допустил, что рехнулся. Но, применив долженствующие чину способности, установил, что Монька сиганула в подпол — и, скорее всего, была такова через подвальное окошко. Одного милиционер не мог понять: если она исхитрилась пролезть в дырку, значит, в первую голову, пролезла ее голова, но голова Моньки пролезть туда не могла, так как была совсем не маленькой из-за невероятно густых черных волос, которые ей однажды остригли вместе с гнидами, а потом голову намазали керосином, и от всего этого ее новая грива стала и вовсе буйной. Корнелий провел следственный эксперимент. Он мужественно ринулся в отверстие — и, конечно, застрял. На крики прибежал дед. Бурно сквернословя, они забили дырку наглухо и для надежности подперли заплату толстенным, бурым от крови бревном, прежде на котором дед, распластав ботинками бьющиеся в пыли крылья, рубил курам головы.
Так что в другой раз, когда Корнелий вздумал среди ночи попить и, не рискуя отлучаться к колодцу, зашел на кухню, Раймонда, как миленькая, лежала на полу на своем матрасе. Рядом с ней старательно вжимался в стенку спортивного вида детина, покрытый лишь собственной татуировкой. На табуретке валялась тельняшка и пачка «Беломора».
— Это Юрик, — приглашая брата разделить радость, сказала Монечка. — Не узнаешь, что ли, Юрика? Это же Юрик!!
Слов у Корнелия оказалось так много и они были так тяжелы, что в глотке его образовали холодную свинцовую пробку. Вращая белыми, круглыми, словно пуговицы, глазами, с форменной пряжкой наголó он ринулся вокруг дома за визжащей и, кстати сказать, совершенно голой Раймондой, отчего разбудил единственное утешение родителей, королевского пуделя Патрика, который примкнул к марафону с громким лаем, особенно громким в заколдованной пустоте белой ночи. Вихрем подлетев к окну, Гертруда Борисовна влила свой голос:
— Патрик, не бегай так, Патрик! Ты же инфаркт себе получишь, Патрик!!
Рядовой милиции обернулся — в ту же долю секунды Монька шаркнула сквозь дырку забора и, уже чуть медленнее, с вольготной ленцой, засверкала задницей через дорогу.
Гертруда Борисовна величественно застыла у занавески, придав ей значение занавеса. Капроновые воланы и рюши пышно розовели на зеленой ночной рубашке, которую она называла пеньюар, и как нельзя лучше подходили к бледно-фиолетовому дыму волос. Дым призрачно колыхался ветром. Гертруда Борисовна была исполнена скорби и державной многозначительности. Она походила на вдовствующую королеву-мать. И она сказала Корнелию то, что всегда говорила в таких случаях:
— Оставьте ее в покое. Она все равно не жилец.
Потом, тонко чувствуя незавершенность сцены, добавила:
— Можешь мне верить. Я знаю, что говорю. Я только что видела сон… ох, с сердцем плохо… — Она морщилась, очень точно выдерживая паузу, и стоически продолжала: — Неважный сон, можешь мне верить…
В неважном сне Гертруды Борисовны зловеще взаимодействовали белый голубь, покойная прабабка в черном — и голая, абсолютно голая Раймонда, что, как известно, к болезням; Раймонда еще ела воронье мясо, а это как раз к тому… самому…
— Не знаю, где я буду брать силы, чтобы это перенести, — нарядно заканчивала Гертруда Борисовна. — А что я таки уже перенесла — кто бы знал?! — Ее библейский пафос слегка портило рыночное исполнение.
Если перевести монолог Гертруды Борисовны на строгий язык фактов, то получилось бы, что Монька в недавнем времени переболела ревматизмом, осложненным тяжелым пороком сердца. Врачи прослушивали грубый шум, качали головами и говорили о разумном режиме и общеукрепляющих мероприятия. Именно с этих пор Монькино сердце принялось шумно пропускать сквозь себя черт знает каких типов; каждому находилось особое место, каждый сидел в красном углу, потому что все углы были красные; с неиссякаемой готовностью это порочное сердце принимало, размещало и согревало всех, мало-мальски наделенных признаками мужской природы, и, наперед благодарное за головокружительно прекрасные эти признаки, с силой проталкивало деятельную кровь — по жилам, по жилочкам, а там вновь собирало в груди — согревало, грелось, горело. Видимо, это и было разумным режимом ее организма и главным, стихийно нащупанным, общеукрепляющим мероприятием. Недуг и лекарство объединились. Они проявляли взаимосвязь с ужасающим постоянством. И Гертруда Борисовна справедливо считала, что так долго продолжаться не может.
Преувеличивая роль трудового воспитания, родители пристроили ее посудомойкой в кафе-мороженицу на Обводном, недалеко от дома. Гертруда Борисовна полагала, что Монька будет приходить домой в обед, чтобы правильно питаться.
А между тем работенка была действительно что надо: плечистые мужчины заказывали шампанское, дамы разламывали шоколад, громко играла радиола, и Монька, стоя у раковины, блестящим синим глазом целый день глядела в дырочку на этот непрерывный праздник жизни, а ее задница, словно сама по себе, отдельно от прочего тела, покачивалась, дергалась и вертелась, охваченная яростным танцевальным зудом.
Она ничего не делала в одиночку. Она не могла существовать одна ни секунды.
…Монька мается под кустом на бабушкиной даче, мазюкая красным карандашом обгрызенные ногти. Принеси то, говорит она мне, пробегающей мимо, принеси се. Зеркальце — знаешь, в сумочке?.. Ножнички… Машинку такую, ресницы загинать. А теперь, знаешь, чего хочу? Угадай. Она мечтательно закатывает небесные глаза и притворно вздыхает. Не знаешь?.. Ее выщипанные в мышиный хвост бровки дыбятся в нарочитом удивлении: фу-ты ну-ты! о пустячке же речь! Она невообразимо косит глаза (ты, видно, обалдела?!), капризно морщит свой утяшный носик. Ну, поняла наконец? Нет?.. Ее терпение на пределе. Мяконькие, в веснушках губы представляют обиженный бантик. Ну?! Это уж слишком!! Она садится, принимаясь, как бы в грозном нетерпении, отбивать такт ногой, но похоже, будто она виляет хвостом. Я стою с участливым, тупым видом.
Тогда она размыкает губки — и произносит свое самое любимое слово:
— Вку-у-усненькое…
Монька, как обычно, говорит так, будто передразнивает кого-то, очень похожего на себя, кого все, конечно, знают, кто в печенки всем засел, и ей в том числе. Она кривит рот, словно клоун, а носик — с плоской площадочкой на конце — зажимает в кулак, будто сморкается. Получается гнусаво: «вгузьденькое». В общем, довольно противно получается.
— Тебе сию секунду принести? — Н-да-а-а… (Н-дэ-э-э…) — На подносике? — !!!
Вкусненькое — это: селедочка, яблочко. Сахар. Хлеб с малосольным огурчиком. У нее что, своих ног нет?! — вскипают сородичи. А Монька уже канючит водички или компотику. Морсику. Семечек!
Это все были ее хитренькие уловки. На самом деле Моньке просто требовалась компания — для любых житейских процедур. Ее кровообращение, похоже, действовало лишь сообща, с непременным условием беспрерывной вовлеченности всех, вся, хоть кого-нибудь в процесс этого живого движения. Вне компании она не могла дышать, тупела и чахла. Организм ее, видимо, изначально был рассчитан исключительно на совместное осуществление положенных ему ритуалов.
…Она смотрит на меня с видом, сулящим замечательное приключение. Я вновь стою участливо и тупо. Она исходит нетерпением. Вновь быстро прокручивает все свои пантомимические ужимочки. Наконец канючливо тянет:
— Айда в одно местечко…
Иногда обозначает это иначе:
— Сходи со мной в тубзик!
Или так:
— Пошли в трест?
Или:
— В уборняшку хочешь?
Синонимов у нее хватает! Все эти названия относятся, конечно, к деревянной двустворчатой будочке за сараем. Выйдя из своей кабинки, она тут же делится интересными впечатлениями.
Подружки у ней водились повсюду. Исчерпывающая характеристика, которую Монька давала любой из них, укладывалась в знакомую формулу:
— Это же Галка! Галку, что ли, не знаешь?! Это же Галка!!
Сначала то были все незамужние, полные злого томления и нескромных мечтаний девушки. Потом — разведенные, потрепанные тетки или замужние, полные злого томления и нескромных мечтаний о разводе, любовнике и новом замужестве. В промежутки между этими заданными циклами их превращений и попадало — прерывисто — собственное замужество Раймонды.
Кошка с помойки всегда догадается, какую именно травку ей стрескать, чтобы так запросто не околеть. Могучий инстинкт Монечки, видимо, в самом раннем детстве счастливо подсказал ей, что необходимая совместность действий надежней всего осуществима с особями противоположного пола.
Это явилось главным открытием ее жизни.
И впрямь: она словно предчувствовала, что товарки ее детства далеко не во всякие времена смогут составить ей компанию для разглядывания картинок. А эта находка самой природой гарантировала ей прочную и, как мечталось, достаточно долговечную точку соприкосновения с компанией человеков. В этом, на двоих, самом естественном из сообществ она теперь навсегда была защищена от сиротливого уныния, спасена своей сопричастностью к самому существу жизни. Выход из тупика отворял золотые, розовые горизонты. Она была азартна, и разносчики лакомств в земном пиру невольно подливали ей чуть больше капель орехового масла.
…В ее замужестве не было ничего от брака взрослой женщины и много — от подростковой игры, точнее, игры несостоявшейся. Ну, затеяла отроковица-переспелка поиграть в дочки-матери, ну, приготовила все: суп из подорожника сварила, на второе — котлеты из еловых шишек с гарниром из мелко наколотого стекла, на третье — песчаные куличики со свежей малиной; ну, расставила блюда на игрушечном столике; куклы — запеленатые, убаюканы, спят. Что дальше? Не играется как-то. Скучно…
А в общем-то, все у нее шло нормально.
Она так и осталась навсегда ослепленной немеркнущим шахерезадо-гаремным таинством брака. Этому таинству как-то износу не было. Оно завораживающе мерцало, оно зазывно поблескивало в конце дня и помогало сносить глумливый будничный кнут. Монька терпеливо исполняла все ритуалы игры — именно потому, что эта взрослая, криводушная, не ею заведенная игра, именуемая Институтом брака, изматывающая, отягченная кучей пресных мелочных правил, нудных обрядов и ежечасных драконовских штрафов, унылая игра, гарантирующая выносливому победителю стопроцентное благопристойное отупение, — эта игра имела узенький еженощный просвет. Убитые бытом бабьи существа, — те, которые заморенно и, в соответствии со своими обыденнопостными способностями, регулярно выплачивают ночной оброк супружества (и получают соответственно по труду), в этом просвете умеют только добыть свое временное пособие по фактической бесполости — захватанный черствый пряник в компенсацию рабьего терпения, воловьего труда, собачьего быта, а многие несут и вовсе беспряничную, последнюю за день трудовую повинность.
Не так было у Раймонды. С остервенелым восторгом она протискивалась в долгожданную, сияющую, узкую, как игольное ушко, скважину — и попадала в лицемерно скрываемый рай.
В райском саду росло Дерево.
Книжки, которые Монька не читала, именуют его по-разному: Жезл жизни, Корень страсти. Коралловая ветвь, Зверь, Дьявол, Воробышек, Ночная змея, Кальсонная гадюка и даже Кортик-девок-портить — в зависимости от темперамента и эстетических устоев народа, к которому принадлежит автор, а также от местных климатических условий, калорийности пищи и его личной склонности к преувеличению.
В раю, и только там, пока Монечка обнимала свое Дерево счастья, ее муж, Коля Рыбный, называл ее мышенька, гусинька, барашкин мой и еще мурзоленция (вероятно, возвеличивая ее бесшабашную неряшливость).
Рай изобиловал стыдными прекрасностями.
Пребывая в раю, Монечка прочно забывала дневной опыт, голосом здравого смысла давно уже убедивший ее товарок, что у Гименея, как у пролетариата, ничего, кроме цепей, за душой нет. Раймонда не верила этому. Для нее позолоченный стержень супружества непрестанно сиял медовым и лунным светом и дарил свое мерцание тусклым реалиям дня, расцвечивая куриные хвосты узорами жар-птиц и павлинов.
Монька, в общем-то, знала правила поведения в школе. Нельзя курить в открытую, нельзя, если захочется, красить губы на уроке и, даже если очень захочется, лучше не рисовать на парте срамные штучки-дрючки. То же самое было в Институте брака. Следовало делать вид, что главное — это уроки, общественная работа и примерное поведение, но главным-то было совсем другое, как водится у взрослых, скрытое от глаз, и Монька недоумевала, как это оплывшие отличницы так ловко делают вид, что их интересуют только домашние задания, что они полностью этими заданиями поглощены (будто за одним этим и шли в Институт) и к ним не имеет ровным счетом никакого отношения то — сладостное, лучезарное… ах!
Постепенно Монька приняла этот распорядок жизни, заведенный не ею: делала противные уроки, где можно — халтурила, где везло — сачковала и вовсе не роптала, считая, что все это нормальная нагрузка к такому дефицитному билетику. Всего и перетерпеть: утро, день, вечер. Подумаешь.
Она по-прежнему жила на Обводном — благо Гертруда Борисовна с мужем получили квартиру. В комнате появились самодельная тахта и дочь (Коля Рыбный был умелец), а непременно распахнутая крышка взятого в прокат пианино постоянно украшалась нотами украинской народной песни «Ой, лопнул обруч» (Монька отдала ребенка на музыку). За пианино, параллельно ему, лежала небольшого размера мумия — парализованная с макушки до пят свекровь Монечки, доставшаяся ей в придачу к иногороднему мужу, — лежала, лежала, лежала, глядя в потолок.
Монька звонко пропевала сочиненную кем-то песенку: давала соседкам бигуди, одалживала им треху до утра, подбрасывала ребенка до вечера и, щедро покрытая синяками, объясняла Гертруде Борисовне, что упала, ударилась о мебель, а еще пострадала в транспорте. После такого объяснения она обычно жила у мамаши несколько дней, и шло по-старому. Нет, абсолютно все словечки и все, от начала до конца, нотки этой взрослой песенки знала наизусть Монечка.
В это время она уже работала в баре у Балтийского вокзала. Баром служил пляжного образца вагончик, не вписывающийся легкомысленным видом в эту загазованную, мертвую зону, но хлипкостью строения, впрочем, соответствующий вполне. Снаружи вагончик был густо разляпан американистыми полосами и звездами, а внутри предъявлял коньяк, ириски и засохший сыр, но главное — лихой полумрак, такой сладостный после бесприютного дня, тающий дремотный полумрак с мерцающим серебряным шаром, с этим божественным уплыванием на волнах импортной музыки.
Монечка сияла за стойкой, как воплощенная радуга. Вокруг наливались и зрели плоды мандрагоры. Нетерпеливые амуры становились так хорошо оснащены для любви, так буйно топорщились любовными стрелами, что походили на дикобразов с крыльями. Монька разливала направо и налево. Она подмигивала, хихикала и приплясывала. Она успевала еще гадать подружкам на картах.
Монька любила волнующий привкус слова «марьяжный», похожего на «грильяж», «макияж», а еще на слова «охмурять», «Иван да Марья». Ах да что там! Запретные марьяжные альковы благоухали беспременно парижской «Черной магией», да ведь и легальные супружеские шатры пахли что надо… Правда, дворничиха трепалась, будто Монька с восьмимесячным брюхом лезла по водосточной трубе к любовнику. Ну, может, и лезла, что с того? Больше-то никто не видел, ну и ладно. Правда, и Коля Рыбный в недобрый час нашел у Моньки в сумочке пустой конверт, на котором вместо обратного адреса было написано: «Шути любя, но не люби шутя!» Адрес значился «до востребования», почерк незнакомый, штемпель ленинградский. Ну, стерва…
Вот тут-то на сцену вновь выплывает Гертруда Борисовна. Дело в том, что, кроме двух упомянутых увлечений, у нее были еще два, наиглавнейшие. Можно спорить на любую сумму, хоть и на сам Эрмитаж, находись он в частном владении, что никто в жизни своей не догадался бы, какие это были хобби. С этими своими хобби тетка запросто попала бы в книгу Гиннесса, узнай заинтересованные стороны друг о друге.
Она меняла свои квартиры — и жен своему сыну. Между этими занятиями не было ни прямой связи, ни логической зависимости (тем более сын жил отдельно), но происходили они одновременно, потому что происходили постоянно. Точнее сказать, старт был дан, когда тетка получила свою первую отдельную. Но так как с тех пор происходили они постоянно, то можно было сравнивать их тенденции: теткины квартиры становились все лучше и лучше, а жены сына все хуже, дальше ехать некуда. То есть между этими мероприятиями словно бы все-таки существовала обратно пропорциональная метафизическая зависимость.
Не следует понимать, что тетка, как в притче, нашла в поле колосок, обменяла на поясок, обменяла на туесок, тра-ля-ля, скок-поскок — и, в конце концов, въехала, скажем, в Юсуповский дворец, не меньше. В ее обменах вовсе не было унылого поступательного движения вперед, равно как не было и однообразно-победных витков спирали; тетка любила чистую идею и, похоже, стихийно поддерживала мысль, что цель — ничто, движение — все.
Каждое жилище, возникающее на пути Гертруды Борисовны, обладало кучей новых, по сравнению с прежними, то есть ни в какое сравнение не идущих достоинств. За то время, что Монька с аппетитом вкушала мед семейных утех и продолжала, трепеща, неутолимо алкать его, — иными словами, за эту ее медовую пятилетку Гертруда Борисовна успела обменяться с Карла Маркса в Бармалеев переулок, оттуда — на Расстанную, оттуда — на Можайскую, оттуда — на Фонтанку, а с Фонтанки на Обводный. На Обводном квартира была рядом с Фрунзенским универмагом и, кстати сказать, недалеко от Моньки, от мест, где прошла теткина молодость, но она перебралась на улицу Пушкинскую, так как, по ее словам, мечтала жить на ней с детства: тихо! культурно! зелено! — а потом она перебралась на улицу Восстания: эркер! потолки! — а потом на Владимирский проспект: центр! рынок! — а потом на улицу Чайковского: Таврический сад! гулять с Патриком! — а потом на канал Грибоедова: метро «Площадь мира»! бельэтаж! — а потом на улицу Софьи Перовской: рядом был ДАТ.
Однокомнатные квартиры становились двухкомнатными, двухкомнатные снова однокомнатными, потом снова двухкомнатными, потом снова однокомнатными, первый и последний не предлагать.
Ритуал переезда проходил всегда одинаково. Отпустив грузовую машину, тетка развешивала любимые картинки и быстренько распихивала барахло с глаз долой. Все это занимало у нее полдня. После того она садилась на телефон.
— Ну? Не идет же ни в какое сравнение!! — с привычным пафосом заводила тетка и подкатывала глаза. — Там же я задыхалась! Там же потолки были два семьдесят! А тут!! Можно же делать второй этаж!! Арнольд сделает… Нет, это уже в последний раз!! Можете мне верить!!
(Следовало понимать: разве я перенесу другой переезд?! Можете мне верить!!)
Но недели через две оказывалось, что кухня как-то темновата, спальня все-таки шумновата, а лестница-то крутовата. Тут начинался цикл поисков. Длился он недолго. У тетки была легкая рука и такой же глаз. И вот — совершенно случайно! — подворачивалась квартирка: с кухней на юг!! с комнатой во двор!! и лифтом…
— Нет, это уже последний раз, — говорила тетка, напирая на «это».
Характерной чертой теткиных обменов было и то, что соседями ее — на площадке, сверху, снизу, всюду — оказывались сплошь профессора. В других местах тетка просто не селилась. То были профессора таких наук, что тетка не умела с ходу и выговорить, но это не важно, а попадались даже академики или кандидаты наук — она точно не знала, но это было тоже не столь важно.
А с невестками было все наоборот. Тетка говорила по телефону:
— Ну? Не идет же ни в какое сравнение!!
(Следовало понимать: предыдущая была просто дрянь, а эта — дрянь во всех отношениях).
Имей тетка хоть молекулу здравого смысла, она не взялась бы усугублять процесс явного озлокачествления. Но она уже не могла остановиться.
В ней клокотал дух кочевых народов пустыни. А если взглянуть иначе, — то клокотал, когтил и терзал тетку неотвязный страх смерти. Она, наверное, — не могла себе представить, что уже до конца обречена именно на это жилище, что оно окажется последним, что в нем она будет… нет, не назову словом. И она не могла, не хотела представить, что вот именно-то эта последняя невестка подаст ей последний стакан воды… Да эта-то мразь еще и яду сыпанет, можете быть спокойны!!!
И вот так тетка бегала от смерти по всему городу, одновременно властной режиссерской рукой вводя новых действующих лиц в состав Неликовой семьи. Из-за морального облика многоженца он так и не поднялся выше сержанта, но тетка уверяла всех, что, если бы она его не спасала, было бы хуже.
А тут назрел конфликт с зятем.
Коля Рыбный, по мнению Гертруды Борисовны, был жлоб (самой высшей марки!!), это именно с ним, по мнению Гертруды Борисовны, Монька начала пить и курить (с ее-то здоровьем!!), и, кроме того, он был прямо виноват в том, что приволок с собой мумию, лежащую параллельно взятому в прокат пианино (в комнате нечем стало дышать!! это же смерть для ребенка!!), и вот от всего этого Монька перестала за собой следить, а то и вовсе не жрет, так что приходится Гертруде Борисовне контролировать ее каждый день по телефону:
— Ты сегодня брала что-нибудь в рот?!
За все за это Коля Рыбный назвал Гертруду Борисовну народной артисткой Советского Союза.
И тетка поняла, что пора тасовать колоду.
Она принялась подбрасывать Монечке королей, то есть, например, натурально, заведующего овощной базой или — о-го-го! — директора диетической столовой.
В постели, насытившись, они говорили Монечке доверительно:
— Завтра буду «Волгу» на профилактику ставить.
Или:
— Ты бы не могла через брата устроить мне в Крестах свидание? С моим замом?
И с каждым встречным-поперечным Монечка радостно делилась впечатлениями, вынесенными ею из королевских квартир. Она не акцентировала особо внимание на том, чем же она там, собственно, занималась. Получалось, что ее туда приглашали на экскурсию — обозреть цветной телевизор и все эти заморские чудеса. И вот у одного была такая специальная машинка для чистки башмаков: нажмешь только так — р-раз! — сам вылазит червячок ваксы, нажмешь — два! — будьте любезны! — тут же и щетки драят — ты что! У другого была бутылка: нальешь, значит, в нее водку, или вино, ну или коньяк там, я не знаю, наклонишь к рюмочке-то, а там кто-то внутри (ой! я сначала даже напугалась!) с грузинским акцентом говорит: «Я пью за тебя не потому, что люблю тебя. Я пью за тебя, потому что очень люблю тебя». У третьего было жидкое мыло, у четвертого — такие разноцветные шарики, чтобы коктейль охлаждать, он и Моньке подарил один на память — вот! Как, кстати, думаешь, он ко мне относится?.. Нет, минуточку: я понимаю, у него семья, жена в больнице, все такое, но он мне, например, говорит: век бы в глазки твои глядел! Как думаешь, я ему нравлюсь?..
Может быть, из Гертруды Борисовны и получилась бы крепкая бандерша, развернись она в цивилизованном мире. А тут материал ей достался безалаберный, никчемушный и, что досадней всего, в виде собственного чада: пыль столбом — и толку нет, против генов не попрешь. А она старалась! Совала Моньке то свою нейлоновую почти новую блузку (она же голая ходит!!), то похожую на кастрированную кошку, крашеную, почти новую шапку (она же схватит когда-нибудь менингит!!), то пару, почти новых полотенец с черными штампами «САНАТОРИЙ РОМАНТИКА» — все исчезало как в прорву, как в аспидночерную дырку. И вновь достигали свеженасиженных родительских гнезд слухи про разудалые, бестолковые, бестолковые Монькины похождения. И снова она заскакивала к мамаше «переночевать» — вся в законных супружеских синяках, — лепеча про мебель и общественный транспорт. Циклоп Арнольд Аронович уже не порол ее, но обязательно, с тем же пылом, проводил на кухне воспитательный час, говоря о дочери, тупо сидящей тут же, беспременно в третьем лице:
— Хоть бы она что-то умела взять от мужчины! Хоть бы что-то, ну хоть таку-у-у-усенькое. — Он вытягивал культю, тщась изобразить мельчайшую малость — и делая это голосом.
— Хоть бы рупь какой, ну, я не знаю. Мама тебе без конца подкинет — и то! и се! Так мы жа не вечны! Другие, когда с мужчиной, умеют — и так! и сяк! По-женски как-то они это умеют… Но эта! Она жа сама еще за все платит! Она жа с себя последнее отдаст — любому! Она жа как? — Инвалид, дополняя изображением, принимался рвать на груди рубаху. — На!!! Бери!! Таких, как наша Раймонда, надо сдавать в музей, в эту, как ее, — в Кунцкамеру, ну!
— В сумасшедший дом ее надо сдавать, в клинику! — вступала Гертруда Борисовна. — Посмотри, во что ты превратилась! Ты же не жрешь ни черта! Ты же свалишься скоро — и все! Вот тогда будет полный порядок, это я тебе гарантирую!!
— Нет, я знаю, что надо делать!! — распалялся Арнольд Аронович. — Вы хоть раз послушайте меня! Ее надо сдать — зашить эти, как его… черт! Ну, что там кошкам зашивают!..
— Арнольд, если ты сейчас же не замолчишь, это будут твои последние слова!!! — подавала финальную реплику Гертруда Борисовна.
И, когда Монька уже дергалась от слез на просторном родительском ложе (под портретом писателя Хемингуэя), Гертруда Борисовна в кухне исполняла на бис:
— А! (Хватаясь за сердце.) Я всегда говорила: надо оставить ее в покое. Пусть делает что хочет. Все равно не жилец… (Скорбное сгущение черт).
Но в покое не оставляла.
Не будучи окончательно чокнутой, Гертруда Борисовна, конечно, не надеялась, что короли произведут Раймонду в королевы. (Кому она нужна!!) И не то чтобы она губу раскатала на чужие коктейльные шарики. Древний, как пустыня, обменный зуд подначивал ее перво-наперво разбить союз Раймонда — Рыбный.
— А там видно будет, — говорила она многозначительно, и за этой многозначительностью не стояло ничего, как не стоит ангел-хранитель за спиной самоубийцы.
Если бы Коля Рыбный решил соорудить поясок верности для своей доброй, непутящей жены, весьма конструктивно было бы исполнить его в виде намордника, смыкающего пасти подсунутых тещей охмурителей — не больно-то проворных в смысле горения страсти, да и, вообще говоря, дяденек с ленцой, сплошь семейных, брюхастых, обрюзглых и убийственно скучных, но (от лени) страдающих недержанием однажды изобретенных комплиментов, которые всякий раз — словно бы в первый раз — приближали Монечку к синеве синего неба. И вот, насильственно сомкнув уста тещенькиным лазутчикам, блеющим свои слюнявые двусмысленности, можно было бы — по крайней мере с этой стороны — вполне предотвратить супружеские измены. Потому что (на это надо обратить особое внимание) кавалеры, подкинутые Моньке ее мамочкой, все эти усталые хозяйственники, видящие в Моньке этакий пикантный розанчик с помойки, притягательно-грешные миазмы которого давали им мимолетный роздых от добродетельных испарений семейной кухни, — все эти обладатели геморроя, портфеля и осторожного кошелька вызывали в Моньке только детский восторг и не более того. У дяденек дома было так интересно и чисто, и попасть к ним было почетно, как на крейсер «Аврора». И конечно, старческая болтливость мамашиных протеже не была ослепительней сдержанной немногословности объектов ее свободного выбора — поддатеньких работяг с Балтийского завода и, по-своему импозантных, знающих свой фасон не хуже моряков и летчиков, шоферов-дальнобойщиков, подваливающих после смены к Монечке в бар. Монька, ценящая в мужчине вторичные признаки куда выше всех третичных и прочих, никогда — надо отдать ей должное (и, кстати сказать, в отличие от «приличных» дам) — не обсуждала и не сравнивала в доверительной беседе мужскую дееспособность своих обожателей, как болтливых, так и молчаливых.
Исполненные добродетели и здравомыслия зрелые женщины — все эти примерно-показательные жены, и стыдливые домохозяйки, и хищно-целомудренные, особенно мозгами, берегини очага, ведущие себя в интимной жизни так же деловито, цепко и трезво, как у прилавка мясного отдела, все эти кроткие терпеливые голубки, самоотверженно любящие своих богатеньких импотентов, или не очень богатеньких, но все равно удобненьких, или не импотентов, но не любящие, а в благопристойной лени исполняющие свой социальный и гражданский долг (зорко притом следя за недомером и недовесом), — все они, конечно, отвернулись бы от беспутной Монечки, выразительно зажав нос.
Умелец Коля Рыбный продолжал между тем узорить Моньку растительным орнаментом синяков, образующих сад непрерывного цветения; позади взятого в прокат пианино «Красный Октябрь» по-прежнему желтела небольших размеров мумия; Гертруда Борисовна перебралась с Софьи Перовской на 1-ю Советскую. Упаси Боже, чтобы за все это время Монька призналась мужу, будто райские дерева плодоносят и за пределами супружеской спальни. Она все равно ведь не могла бы объяснить, что хочет подольше оставаться на этом празднике, где раздают разные призы и подарки, а она так любит праздники, подарки, призы, а главное — потанцевать, и еще совершенно неизвестно, какие призы, подарки и танцы назначат на завтра — может, в сто раз лучше, чем на сегодня, и, может быть, розовых петушков на палочках сменят сахарные матрешки, обернутые тонко позванивающей фольгой и перевязанные блестящей голубой ленточкой.
На этом празднике, правду сказать, Монька пролила немало бурных слез. Она свято верила всякому новому массовику-затейнику, она весело-превесело скакала в мешке, но затейник исчезал, а мешок всякий раз оказывался у нее на голове.
Другое дело, что и Коля Рыбный, конечно, соблазнился поплясать на этом детском утреннике, но плясал он тяжело и натужно, словно отбывал воинскую повинность, и, сколь ни тянул носочек в строю себе подобных, все выглядел мешковато. Он часто ошибался дверью в извилистом и темном кишечнике коммуналки, но Монечка гордилась, что продолжает дружить со своими соседками, и ходит пить с ними пиво, и вникает во все их сложности, и, в конце концов, одерживает верх невозмутимой широтой нрава.
И все это ничуть не мешало ей травиться йодом, а потом, после выписки из больницы, не помешало запить стаканом воды целую пригоршню швейных иголок. Пройдя положенный им путь, они вышли единым аккуратным пучком, а Монька выкатилась из той же самой больницы, той, где исколотые, прикрученные ремнями к койкам и пронзенные прозрачными трубочками с журчащими в них посторонними жидкостями, доверчивые самоубийцы пребывают в надежде, что попали-таки в пункт конечного следования. Во время кратких там свиданий с подружками Монька сильно-сильно затягивала на талии драный халат и, смущенно сияя глазами, прыскала в кулак. В этой больнице было много симпатичных молодых врачей, а некоторые носили очки и даже бороды, и они, делая соответствующую запись в истории болезни, вели с Монькой такие задушевные беседы и — надо же! — выдавали такие анекдоты (соответствующая запись), которые никто с ней раньше не вел и ей не выдавал. Короче говоря, Моньке там понравилось.
Возврат к прежним декорациям впервые пригасил ее и осунул. Но это, к счастью, прошло. Точнее сказать, продолжалось, пока она, на другой день после выписки, не заявилась ко мне. Сходу, по своей беспардонной привычке, она распахнула платяной шкаф: а эту юбку ты сейчас носишь? а эта штучка откуда? я примерю, а? это мой цвет… ой, мне сейчас будет худо… дай поносить!..
Как сейчас помню то вытертое темно-сиреневое платье короче приличного ладони на три («Какая у меня в нем талия, а?!»). Это платье Моньку реанимировало мгновенно и полностью. На другой день, сияя, она уже приплясывала в обновке за стойкой бара.
За это время тетка Гертруда Борисовна успела пожить на Мойке, переехать на площадь Тургенева, а оттуда — на Московский проспект; невестки ее круто скатились со статуса медсестры отделения наркологии до пациентки означенного отделения; свадебные фужеры, которые Раймонда и Коля Рыбный разбили на счастье в день своей свадьбы, оказались только началом конца тех бесчисленных стаканов, тарелок, бутылок, графинов, плафонов, а также зеркальных и оконных стекол, ценою собственных жизней тщетно мостивших им дорогу к вечно далекому, как горизонты ласковых утопий, семейному благоденствию.
…Она пошла замуж, а я — в школу. Уже тогда она почитала меня за старшую — по крайней мере, за более опытную, а может, за старую, что точнее. Коренастенькой инфантой кружилась она по кухне, смахивающей на средневековую темницу, и синие глаза ее притаивали оттенок шкодливой детской провинности. Рядом с ней на скрипучих цепях мотались оплывшие бабьи тени, до самой смерти прикованные к этой предсмертной жизни; Обводный канал, питаемый усталостью тех, кто выдохся на его берегах, и тех, кто еще только обречен быть зачатым, в слепых норах, был вял и грязен, словно не опохмелен; что касается Монькиной кухни: наскоро замытые пеленки в зеленых, обессмерченных классиком пятнах били по лицу сырыми крылами летучих мышей, — а мыши ползучие, почти ручные, показатель обильности коммунальных закромов и прочности быта, сдуру купившись на кусочек засохшего сыра, уже пищали в уготованных капканах, вызывая на арену сильно возбужденных, одетых в трусы лысоватых мужей. Возле своего стола, как возле мойки в мороженице, как возле стойки бара — как, впрочем, везде, — Моньке вполне хватало места, чтобы, вращая ручку семейной мясорубки, сделать парочку «стильных» движений бедрами, да и ручку-то она вращала так, будто это была и не ручка вовсе, а… нечто сугубо другое. «Монька, прекрати!» — визгливо хохотали прикованные цепями тени.
А поверх всего этого, заглушая писк мышей, визг теней, стон жизнь дающих и жизнь отдающих, крик тех, кто, не изъявив никакого желания, эту жизнь все же заполучил, красивенько и громко врало настенное радио:
Когда у Монькиной дочки сменились молочные зубки, мне выпал срок прогуляться под своды районного загса. Я, собственно, этими сводами надеялась все ограничить.
— Ты что, я слышала, — свадьбу делать не хочешь?! — подстрелянно вскрикнула Монька. — Что же мне теперь, по-твоему, даже и не потанцевать?!
Пришлось устраивать свадьбу. Я безропотно отдала себя на закланье этому древнему, с фальшивыми зубами, накладными плечами и крашеными волосами, провонявшему нафталином общинно-родовому шарлатанству. Но, накануне Рыбный нашел у Моньки в кармане какой-то мужской предмет, а она в кармане Рыбного раскопала какой-то женский; иными словами, я не знаю, кто из них был бык, а кто матадор, но после семейной корриды, точнехонько в утро моей свадьбы, Монька стала задыхаться, хвататься за сердце и обиженно жаловаться, что посинели губы, нос и даже уши. Испуганный Рыбный вызвал «скорую», но Монька просекла, что ее могут заарканить в кардиологию, и образы, очкастобородатых врачей померкли в Великий День Танцев. Она как-то умудрилась вывернуться из-под супружеского ока и, оставя Рыбного на растерзание разъяренной медицины, ползком перебраться в соседний подъезд, где жила ее подружка. В той стратегической точке она с ребяческим восторгом наблюдала позорную ретировку белой с крестом неприятельской машины. За это время подружка, ловко накрутив ее на термобигуди, сварганила причесочку — будьте любезны! — а синюшные места они замазали импортным гримом и помадой с блестками.
Короче, мы с Монькой постарались друг для друга. Мне вообще неохота было замуж, если честно, а я еще затеяла эту свадьбу — непристойную мистерию под сытый рев родового клана, кратко сплоченного обильной трапезой, умиротворенный рев жрецов, знающих все злые тайны семейного мореплавания без воды, ветра и воздуха, рев запасливого насыщения с чистосердечными паузами отрыжек и саксофонистыми взвизгами чьих-то чувствительных супружниц…
И вот через все это я готова пройти снова, пройти еще и не через такое — только бы поглядеть еще разок, как танцует Раймонда.
Среди престижных гостей был один — не то молодой актер, не то работник цирка.
Раймонда переплясала его в пух и прах.
Она была королевой бала.
Когда наступил черед искать невесту (меня с разрешения администрации спрятали в кладовой ресторанной кухни), Раймонда с работником цирка обнаружили меня раньше, чем жених, и скоренько перепрятали, то есть выперли на улицу, а сами уединились между кулями с мукой и мешками с сахаром, и там Раймонда, наверное, показала своему кавалеру новые па, а может, благородно предоставила ему возможность взять реванш.
…Тут уж ничего не попишешь, что на смену молочным зубкам приходят постоянные, а на смену постоянным (слышите, Гертруда Борисовна?) приходит постоянное ничто.
Желтая мумия, изучив в потолке все, что было возможно, предпочла тайны черного цвета и закрыла глаза. В это время как раз были гости; Рыбный усадил дочь за фортепьяно, чтоб она сыграла украинскую народную песню «Ой, лопнул обруч», и, для порядка спросив: «Мама, вы спите?» — взглянул. Мама спала.
В комнате было четверо, стало трое. Иными словами, освободилась раскладушка. И вот — сначала все соседи узнали, потом все подружки узнали, потом все сородичи узнали, а потом вообще все вокруг узнали, что Монька не спит с Рыбным.
Монька спала на раскладушке. Тому должно было существовать материалистическое объяснение. И все вокруг взялись делать самые угрюмые предположения, наперебой обнаруживая прочную осведомленность в наиболее мрачных вопросах медицины.
Но объяснение тому было идиллическое.
Они явились без предупреждения, и Монька, отведя меня в сторонку, поинтересовалась, не хочу ли я погулять примерно часок.
Я великодушно отгуляла два.
И Раймонда, соответственно, успела сделать в два раза больше. Иными словами, моя пожилая соседка, придя из кино, обнаружила, что ее девственное ложе, одетое белоснежной накидкой в ручной работы подзорах, перевернуто вверх дном. Должно быть, Монька и ее кавалер заглянули узнать, сколько времени (им еще осталось), но увидели, что никого нет, а есть кровать, — и странно, если б они кровать не увидели.
Кавалера звали Глеб. Он обладал ростом, плечами и голосом. Он гордился, что Монька моложе его на восемь лет. Он был дальнобойщик и уже успел прокатить Раймонду Арнольдовну (так он ее называл) в город Ригу. Они жили в гостинице! — подхватывала Монька. В отдельном — представляешь? — двухместном номере! Она танцевала в ресторане! Они пили ликер! Глеб подарил ей духи — вот, понюхай, — «Лабас ритас»…
— Я как подумаю себе на минуточку, что надо будет ложиться с Рыбным — а ведь когда-нибудь придется, — так лучше бы сразу подохнуть! — твердо заявила Раймонда.
Да, видно, ее пребывание на раскладушке становилось небезопасным, и она на несколько ночей перебралась ко мне — с косметичкой, новой прибалтийской сумочкой, новым сиянием глаз и, к моему облегчению, одна.
— А мне плевать, что дальше будет, — философски заключила Монька. — Может, завтра на нас бомбу сбросят — и большой всем приветик. А может, меня завтра карачун хватит, что скорей всего. Ну, если и дотяну до сорока, то в сорок — что за жизнь? Мать честная: там схватило, тут кольнуло! Уж я лучше сейчас проживу свое, что мне отпущено, на всю катушечку, — а там, лет через пять, пусть выносят вперед ногами! Верно ведь?
Она, конечно, всегда поступала по-своему, но на первом этапе ей необходимо было формальное одобрение, точнее говоря, соучастие.
— Как тебе наша причесочка?.. Как тебе эта помада, м-м-м?.. Какая у нас талия, а? С ума сойти можно!
Это «с ума сойти можно» она выразительно проговаривала в своей обычной манере — чуть гнусавя, передразнивая кого-то, очень похожего на себя, кто ей самой ужасно надоел. Прическа притом (Раймонда, где твои, как вороново крыло?..) напоминала белесый ершик для мытья кефирных бутылок, губы были густо намазаны сиреневым, а на тяжелых веках возле ресниц лежал толстый слой гуталина.
— Куда ты так намалевалась? Тебе не идет! Вульгарно!
— Где намалевалась?.. (Глядя в зеркальце). Так это ж чуть-чуть. Незаметно.
Но наиболее частым, и кстати, самым емким ответом было: «А, плевать». У тебя же комбинация торчит из-под юбки! — А, плевать. — У тебя же отекли руки! — А, плевать. — Он же тебя выпишет с площади! — А, плевать.
И все-таки присутствовало в тех вечерах, когда она приходила ко мне, что-то несказанно отрадное для меня, пребывающее в сохранности за пределами слов, над ними, вне их.
Мне всегда хотелось иметь сестру.
Мы шептались бы вечерами в нашей девичьей с белыми занавесками, вертелись бы у зеркала, меняясь обновами, наряжали бы друг друга на бал, а еще — валялись бы с книгой на широкой тахте, и наши родители, заглядываясь на нас, улыбаясь нам, гордясь нами, звали бы нас пить чай. Мы были бы две невесты, две красавицы, мы любовались бы друг другом, любили бы другую — в себе, себя — в другой, другую, лучшую себя бы любили — и общих наших родителей. У нас были бы замечательные секреты. Родители баловали бы нас. Мы были бы милосердны. Ничего этого у меня не было.
Но когда приходила Раймонда, мне на мгновенья открывалось иное знание, я даже вдыхала запах пасхального кулича, слабых духов, чистого белья в той нашей девичьей с белыми занавесками — и во всей полноте мгновенно проживала смежную с нашей жизнь, где обе мы жили, живем и будем жить всегда — баловницы, любимицы общих родителей.
А в этой жизни я боялась увидеть ее тело. Я не видела его с детства и успела забыть. Перед тем как ей первый раз надо было раздеться на ночь, я заранее представляла себе эти изношенные грешные лядвеи со свежими знаками бурного блуда, эти худые, синюшные, как у алкоголичек, лядвеи в синяках, царапинах, в сетке прожилок цвета марганцовки, в грубо лезущих за границы треугольника толстых черных волосах. Но тело Раймонды оказалось белое, чистое и, как ни странно, исполненное стыдливых девических линий, а ноги — сверху донизу были нормальной привлекательности, заметно отечные лишь у щиколоток (у нее сильно пошаливало сердце).
К своему телу Раймонда относилась двойственно. С одной стороны, как объект и субъект страсти, то бишь сосуд греховный, оно ее вполне устраивало, и она считала — видимо, справедливо, — что таких надо поискать. Но во всем остальном это был тяжкий обременительный придаток, который она хотела бы не знать. Придаток между тем требовал все больше внимания. У него открылась сердечная астма, он кашлял и даже кровохаркал («А, плевать: сосудик лопнул». — «Ты принимала мочегонные?» — «А, плевать»), но оказалось, что если все-таки периодически засыпать в него пригоршни разноцветных пилюль, то несколько часов можно не вспоминать и жить нормальной, полноценной жизнью. «Ну, выпила — кстати, совсем немного, марочного, — ну так что? Я же потом мочегонкой все до капельки вывела».
Про капельку и про марочное она, конечно, загибала — диапазон у нее был на самом деле куда шире, — а про мочегонное, похоже, говорила правду. Короче, во всех остальных случаях, помимо священного акта любви, Раймонда относилась к футляру, в котором случайно разместилась ее веселая душа, не то чтобы наплевательски, а скорее механистично (сюда долила, отсюда вылила) и, может быть, была права.
Несколько раз, бренча желтенькими драже валерьянки, приходил Рыбный. Но дело зашло слишком далеко. Глеб был разведен, с Раймондой инициативен и даже настойчив. Все это настолько не походило на правду жизни, что Гертруда Борисовна вмиг сочла его крупным аферистом. Профессор (с верхней площадки) рассказывал ей, что один так записался, прописался, развелся и отсудил себе. Этого сколько хочешь, это у нас на каждом шагу! А бывает, что записываются с матерью, а живут с ее дочерью! Сколько угодно! Можете мне верить!! Тем не менее, в глубине души Гертруда Борисовна была довольна. Глеб имел целый ряд новых достоинств по сравнению с прежним мужем Раймонды, потому что был новым. Ну ладно, посмотрим.
А тут подвалило еще одно счастье — такое, что любой здравомыслящий испугался бы широте светлой полосы, предвещающей такой же ширины черную, — но Раймонда только прыскала и сияла синевой шкодливых очей. Новое счастье имело вид розовой бумажки, именуемой ордером на жилую площадь. Глеб отвалил Раймонде деньжат, и она быстренько развелась с Рыбным, расплатившись с государством за разрушенную ячейку и отправя бывшего супруга в одиночку наслаждаться двухкомнатным оазисом. У Глеба, в свою очередь, было две комнаты в коммуналке на Сенной — в одной жила его мать, другая принадлежала ему. Но он предпочел перебраться к Раймонде, так что после шумной смены декораций, реквизита и действующих лиц Раймонда осталась на Обводном.
Обводный канал! Кто зачат на твоих берегах, здесь и зачахнет. Ты катишь свои мутные воды, незаметно унося жизни всех, кто хоть раз коснулся ногой твоего берега. Ступив на твою сушу, надо немедленно идти прочь, бежать, мчаться, нестись без оглядки. Но если кто остановится, если вдохнет поглубже смрада твоих испарений, тому уж не вырваться: ты мучительно-цепко держишь душу, ты не отпускаешь на берега других вод никогда.
…Наступает Новый год, и еще весь январь рука по привычке выводит устарелую цифру. Итак, после частичной замены персонажей и обстановки ремаркой к новому акту может служить следующая:
Та же комната. Налево — тахта, направо — пианино «Красный Октябрь» с поднятой крышкой и нотами украинской народной песни «Ой, лопнул обруч». В центре две табуретки. На одной, развалив колени, сидит Раймонда. Она вяло колупает ногти. На другой — Рассказчица с гусиным пером в руках.
Раймонда. Вот скажи мне, как ты думаешь… Он пошел к ней навестить ребенка. А вот… ляжет он с ней в постель или нет?
Рассказчица (наставительно). Дело не в том, ляжет или не ляжет. Есть, в конце концов, духовные связи…
Раймонда слушает завороженно и благодарно улыбается. Похоже, ее занимает сам процесс говорения. Мать честная! Человек открывает по ее заказу рот, а оттуда вылазят — будьте любезны! — такие складные, грамотные слова!..
Раймонда (спохватываясь). Нет, минуточку, духовные связи — это ладно, это я против не имею. А ты мне скажи: вот он сейчас — три месяца со мной живет, а с ней пять лет не живет — может он с ней в постель лечь? Как ты думаешь?
Рассказчица. Ну хоть бы и лег — что с того? Ведь существуют…
Не к телу надо ревновать, а к душе!
Раймонда (охотно кивая). Ну а в постель с ней ляжет? Как ты думаешь?
Рассказчица. Конечно, нет.
Раймонда (оживляясь, облегченно). Вот и я так думаю! Я как женщина его удовлетворяю — во! (Ребром ладони по горлу). У меня с этим — полный порядок!
А между тем со всем остальным порядка не было. Быстренько выяснилось, что у Глеба очень больные глаза, и ему нельзя поднимать тяжелое, и ему нельзя больше водить машину, и нельзя нервничать, ну и выпивать тоже нельзя. Последние два запрета он с Раймондой игнорировал совместно. Официально они так и не зарегистрировались, и причиной тому было подспудно набежавшее нежелание Глеба, которое Раймонда, конечно, выдавала за свое:
— Я же не девочка. Оно мне надо, как лысому гребенка.
Не исключено, судьба давала понять, что причитающиеся по прейскуранту радости она Раймонде уже отпустила, причем авансом (распишитесь, пожалуйста), а теперь наступал период прогрессивных налогов и, может быть, жесточайших штрафов.
Глеб, наверное, тяготел к одному типу женщин. Не знаю, обладала ли его бывшая жена такой же, как Раймонда, непритязательностью к радостям жизни, но, говорят, она была не дура выпить и тоже тяжко болела. Оба эти ее свойства, вероятно, и были причиной того, что Глеб, зрение которого все ухудшалось, зачастил в бывшую семью, и хотя ему запрещено было подымать тяжелое и расстраиваться, он там, видно, только этим и занимался.
Раймонда уже не работала в баре. Она практически вообще не работала, потому что то и дело садилась на больничный. У нее усугубились одышка, отеки ног, кровохарканье, и все это она относила на счет нервов, которые Глеб ей изматывал своими визитами к бывшей жене. Она считала, что поправится сразу, как только он прекратит это делать.
Врачи считали иначе. Нашелся даже хирург, полковник Военно-медицинской академии, который предложил Раймонде вшить в сердце искусственные клапаны. Я до сих пор не понимаю, где она его встретила. (Раймонда совершенно не жаловала учреждения медицины, и все ее свидания с эскулапами проходили у нее же на дому по схеме: «скорая» — участковый — больничный). Конечно, в поликлинике было интересно: блестящие инструменты, научные приборы, душевные женщины в очереди, — но Раймонда боялась загреметь оттуда в больницу, оставя Глеба наедине с размышлениями, какую из жен он жалеет больше. Поэтому я даже думаю, что хирург сам нашел Раймонду. В жизни так бывает: троллейбус падает с плотины в водохранилище, но в ту же самую секунду пробегает мимо мастер спорта по подводному плаванию, многократный чемпион мира — и вообще хороший, нравственный человек; он спасает двадцать пассажиров.
Идея клапанов Раймонде понравилась. Плеснув на полковника синим взглядом, она ответствовала, что подумает, — но не прочь, если бы он полечил ее сердце иным способом. Полковник сделал вид, что не понял, однако невольно щегольнул: «Квэ медикамэнта нон санат, эа феррум санат — что не лечат лекарства, то лечит железо, я имею в виду скальпель». До него так и не дошло, что Раймонду просто занимал весь этот красивый разговор про американские клапаны, похожие (полковник показал) на шарики для коктейля, а вдобавок разглядывание его широких полковничьих плеч, и вообще она была глубоко погружена в пес ее знает какие мечтания, не имеющие ничего общего с операционным столом.
На прощание она записала его служебный телефончик.
У Гертруды Борисовны происходило очередное новоселье. В этот раз ее окна выходили на памятник Лермонтову. В подтексте следовало прочесть, что для приличного человека это совсем не маловажно.
Со временем страх, гнавший тетку с квартиры на квартиру, стал настигать ее в новом жилище все быстрей, быстрей, почти мгновенно, и она понялá, что носит его с собой, в себе, и, по всей видимости, выход этому страху можно дать, только распахнув на публичное обозрение все створки своего организма.
— О! Вот сейчас какая-то слизь выходит! — громко вела она прямую трансляцию из туалета. — А сейчас газы пошли… Как ты думаешь, что все это такое?
Подобно космонавту, совершающему длительный полет на орбите, тетка непрерывно вела устный бортовой журнал состояния своего нездоровья.
— Ты знаешь, сейчас где-то слева от пупка кольнуло, — бывали ее самые первые слова в телефонной трубке, — а потом сразу отрыжка — все воздухом, воздухом… Как ты думаешь, что бы это значило? — Не дожидаясь ответа, она мужественно заключала: — Видимо, печень дает нагрузку на сердце.
Она обычно вставала в семь часов, потому что надо было готовить еду. Подкаблучник Арнольд Аронович послушно плелся на рынок, где брал все самое свежее, самое лучшее: черешню зимой, картошку весной, осенью — раннюю клубнику каких-то противоположных широт; в продуктовом магазине он, всякий раз тихо радуясь законодательно укрепленной неуязвимости, неторопливо осаживал раскаленную добела очередь, а потом еще добирал заказы по своей инвалидной книжечке; пенсии обоих были мизерные, жили вечно в долг, но холодильник и подоконник ежедневно были забиты какими-то развратными тортами с розовыми, будуарного вида украшениями из крема, органы чувств беспрестанно эпатировались какой-нибудь бужениной, или заливным судачком, или ломтиком телятины с грибами и помидорами — все это могло уживаться в одной миске с манной кашей и кусками селедки, ибо эстетической стороне тетка в данном вопросе предпочитала пользу в таком виде, как она ее переменчиво понимала (то есть отковыривала от всего помаленьку и, страдальчески морщась, выплевывала); в конце дня все это выбрасывалось на помойку: Арнольду Ароновичу действительно ничего этого есть было нельзя из-за строжайшей диеты; тетке нельзя было, потому что она так считала и потому что боялась отравиться (ни одно из лекарств она не принимала тоже); пудель ничего не ел, так как был перекормлен и желал бы поделиться не только с дюжиной пуделей, но, может быть, даже с собаками других пород.
Итак, вечером весь этот раблезианский провиант, из-за своей реликтовости похожий скорей на бутафорию, отправлялся прямым ходом на помойку; утром начиналось все сначала, а в промежутках тетка обзванивала знакомых, начиная разговор со слов «меня целый день шатало, и моча была синеватого цвета», одалживала деньги и совершала обмен.
Сочетая птичью беспечность с кошачьей живучестью, Раймонда сама подобрала для себя наиболее, как ей казалось, подходящее лекарство. Она, попросту говоря, познакомилась с бывшей женой Глеба, и, поняв, что та совершенно не секс-бомба, успокоилась. Правда, та жена походила-таки на бомбу, но иного рода, по болезни: она страдала тяжелым циррозом печени, и оттого жидкости в животе ее скопилось так много, что сама она напоминала беременную на восьмом месяце (вызвав вначале сильные подозрения Раймонды), и она не могла спать лежа, потому что задыхалась, и оттого спала сидя.
Все это Раймонда выпалила мне, как только я вошла, — нет, точнее, после того, как повертела у меня перед носом своей короткопалой пятерней с обгрызенными до мяса ногтями:
— Как тебе лак? Говорят, последний писк.
Лак был дешевый, яркий, в излюбленной Монькой индюшачьей гамме, пальцы были тоже, как обычно, сплошь в заусеницах.
Но все остальное изменилось. Она сидела в постели, опираясь на высокую подушку, и дышала с трудом. Ноги ее напоминали ровные лиловатые бревна, кожа на них готова была вот-вот лопнуть.
— Ой, знаешь что? — Раймонда покосилась загадочно. — Ты же понимаешь в этом. — Она легла навытяжку и приняла притворно-важный вид. — Посмотри-ка мне живот.
Я принялась пальпировать, боковым зрением держа ее физиономию: Раймонда была явно удовлетворена, что стала центром внимания, кроме того, всем своим видом она, как могла, изображала, что сознает свою редкостную ценность для науки, тем горда и своим экзотическим положением очень довольна.
Печень занимала почти весь живот. В остальных местах живота скопилась жидкость.
— Ты не знаешь, где можно достать конский возбудитель? — деловито просипела Раймонда.
— ?!
— Ну, ясно, не мне. — Самодовольная улыбочка. — Тут одному человечку слегка помочь надо.
— На конном заводе спроси, — промямлил за меня мой язык.
— Да вот надо бы как-нибудь съездить. — Раймонда села и принялась нашаривать шлепанцы. — У тебя там случайно нет кого-нибудь знакомых?
От резкой смены положения она зашлась в мучительном кашле. Лицо ее перекосилось: опять этот дурацкий кашель! опять в мокроте чертова кровь!
Я сказала, что надо срочно ехать в больницу. Она взглянула на меня, как на очень сильно чокнутую.
— Так сегодня же двадцать пятое апреля!
Я не поняла.
— Что же мне, по-твоему, Глеба одного на майские оставлять? Чтоб он тут спился один? Чтоб я там, в больнице, с ума сошла?
Тут уж меня взорвало. Силясь напугать Раймонду, я сознательно нарушила деонтологию. Я сказала, что ее положение не лучше, чем у первой жены Глеба, которая, кстати, при смерти. «Копыта откинуть хочешь?!» — закончила я риторически.
— Ну ты даешь! — Раймонда уставилась на меня, как если б я заявила, что не Ален Делон самый красивый мужчина в мире. — У нее же — цир-роз! А у меня? Сама печенка-то, в принципе, нормальная, заменить два клапана — и все, снова буду здоровой.
Она задохнулась кашлем, вены на шее набухли.
…Я неслась в поликлинику. С неба лилась отравленная жидкость, трупные пятна проступали повсюду, Обводный тошнило, вдоль его берегов тянулись здания моргов, тюрем, сиротских домов, богаделен, ветшали кладбищенские постройки — и все они привычно маскировались под здания для жизни, под фабрики, перевыполняющие план, под заводы, дающие лучшую в мире продукцию, под продуктовые ларьки, из которых доносилось: будет ли хлеб? хлеб будет? сколько в одни руки?.. Я влетела в кабинет участкового врача вместе с висящими на мне в бульдожьей хватке самыми справедливыми участниками очереди; я назвала фамилию, он все понял, он тут же вписал что-то в Монькину историю болезни, по-человечески выразя удивление, что пациентка еще жива; я заказывала по телефону сан-транспорт, и там было занято, и мне казалось, что счет уже идет на минуты, секунды.
Когда мы примчались, Раймонда была собрана: она сидела подчеркнуто-кротко, как иорданская голубица, на коленях ее лежала косметичка.
— Вы готовы? — спросили молодые санитары с носилками.
— Всегда готова! — беспечно отозвалась Раймонда, крайне довольная мужским вниманием.
— А паспорт взяли? — участливо, но с долей должностной строгости спросила врач.
— Ой, надо паспорт? — Монька втиснула в него какую-то фотографию (а в карман пальто потихоньку — пачку «Беломора»).
Пока врач звонила по телефону, пока санитары жадно пили на кухне воду, Раймонда, как обычно, притворно, приторно-томно, словно передразнивая своего противненького двойника, гнусавила:
— Насчет клапанов мне, кстати, один военврач обещал. Полковник. Интере-е-сный мужчина. Ему бы я доверилась!
В машине она крутила головой и спрашивала меня шепотом, выпустят ли ее дней через пять.
— Все-таки это же не сердце резать, — пояснила она мне, — подумаешь, жидкость из живота выкачать.
— Это не тюрьма, — почти не врала я. — Захочешь, в любой момент под расписку выйдешь.
Во дворе больницы имен Куйбышева она перво-наперво огляделась, прикидывая, достаточно ли он хорош для прогулок, потом, в приемном покое, забавно гримасничая, мерила температуру (глядите, какая я важная птица!), потом спрятала под халатом свои драные сапоги, нацепила больничные шлепанцы и, не дожидаясь сопровождения в корпус, задыхаясь, кашляя, опираясь на мою руку, пошла переступать апрельские лужи.
Человек сидит на высоком стуле, в его живот воткнут водопроводный шланг, из шланга хлещет в помойное ведро. Глаза, отдельно от живота и шланга, смотрят сверху, как эта беглая влага, бывшая в составе частей земли, потом его тела, уходит, возвращается в землю, принося бывшему владельцу краткое, короче боли, облегчение и наперед обживая для него новую, хорошо забытую старую, среду обитания. Голоса птиц, тайным образом связанные с пятнами света в лиственной чаще, запах рыбы и реки, синий вскрик васильков, стихи, растворенные в крови, взгляд женщины, навсегда пахнущей мокрой черемухой, и, наконец, этот микеланджеловский росчерк молнии, дающий мгновенный урок относительности величин — и абсолюта величия, — все это человек впитал, вобрал в плоть, сделал собой, — но в небе споткнулась звезда, и ей откликнулась в человечьем теле внезапно сломанная клетка — одна звезда из мириад звезд, одна клетка из миллиардов, — и вот жизнь вытекает из тела болотистой жижей, ее не удержать, не унять, да и не надо удерживать. То, что было словом и светом, звалось человеком, перетекает нынче в помойное ведро. Так что же принадлежит человеку лично? Может быть, ведро, шланг?
Санитарка уносит шланг и ведро.
Раймонда выписалась из больницы имени Куйбышева, новенькая, нараспашку готовая к новой счастливой жизни. Две недели она провела очень бурно, а за это время Глеб вышел попить брусничного кваску и пропал навсегда. В качестве рабочей гипотезы приняли ту, в которой говорилось, что кукловод Гертруда Борисовна, левой рукой подсунувшая Моньке какого-то женатого хмыря, правой подвела Глеба к самой дверной щелочке, чтобы он (тетка учла его слабое зрение) мог наблюдать акт любовной измены с удобного для себя расстояния. А может, зрение у него было уж настолько неважнецким, что он совершенно самостоятельно принял какой-нибудь замызганный бутылочный осколок за брильянт чистой воды, а Раймонду наконец «оставил в покое», как того страстно желала Гертруда Борисовна.
Так или иначе, через две недели после выписки, в день своего рождения, Монька заглянула сначала в ту мороженицу на Обводном, где в четырнадцать лет, приплясывая, начала намывать посуду, а потом конечно, хорошо посидела в родном баре, из которого к тому времени исчез сыр и даже ириски и который превратился, по сути, в обычную распивочную, — от прошлого остались лишь дымный сумрак, серебристый шар в углу да американистые звезды. Там Моньку, конечно, помнили и приветствовали, как королеву.
Оттуда ее увезли на «скорой».
Это был день ее сорокалетия.
Когда я зашла к ней в палату, там стоял гвалт, как в курятнике.
— А я вот, как мой помер, никому свою п… не давала!! — надрывалась на суднé старуха с зеленоватыми ляжками. — Ну и куда ее теперь?! Чертям на колпак?!
Раймонда, с ярко-морковными свеженакрашенными губами, лежала у окна и придирчиво поправляла челочку. Руки-ноги ее были сплошь исколоты; синяки сугубо больничного происхождения почти не отличались от супружеских. В подключичную вену ей вводили катетер, там серел пластырь. Живот (она мне показала) тоже был весь исколот. На ней не просматривалось живого местечка.
Процедуры ей надоели не так однообразием, как третьестепенностью, которая посягала на первый план. На первом плане были переживания иного рода:
— Он мне не говорил «я тебя люблю». Он ни разу таких слов не сказал. Но вот мы легли, он сначала не мог, устал, а я погладила — и все получилось. Как думаешь, он меня любит? Он говорил: «Ты мне дорога».
Я мельком видала этого типа с чертами алкогольного вырождения, вертлявой фигуркой и уголовным прошлым. Он навестил Раймонду в этой больнице месяц назад — и больше не давал о себе знать. Наверное, в уголовном мире у него были свои обязательства. Гертруда Борисовна, красиво делая большие глаза, рассказывала всем, что он отсидел за убийство. Раймонда, не отрицающая этого факта, бросала ей в лицо, что это чистая случайность и что он — только он, больше никто из вас всех! — вылитый, вылитый ангел.
Ангела звали Федя Иванов. В каком таком раю Раймонда на него наскочила и, главное, когда она это успела, не ведал никто. На убивца он тянул не очень, плюгавой вертлявостью напоминая скорей карманника из мелких. Раймонда выплакала по нем все глаза (этот клин, похоже, напрочь вышиб Глеба), и медсестры, ставившие ее всем в пример за невиданную терпеливость к физической боли, знавшие о Моньке все-перевсе, называвшие ее Раймондочкой, истощили свои советы и расстраивались за компанию.
У Гертруды Борисовны не хватало духу сознаться самой себе, что смена основных спутников дочери имеет ту же направленность и, очевидно, подчинена тому же самому закону, какой регулирует замены в семейной жизни сына (закону, к которому она имела отношение лишь отчасти). В случае же с Федей она и вовсе была чиста, а потому могла прорабатывать Раймонду с незамутненной совестью.
Проработки эти велись по телефону, потому что тетка, панически избегающая учреждений, относящихся к смерти, то есть поликлиник, больниц и даже роддомов (мудро прозревая общую кровеносную систему созидания и разрушения), не делала исключения и для больницы имени Нахимсона. Когда на больничную койку угождал кто-нибудь из ближайшей родни — старики-родители, супруг, сын Корнелий, — она интенсивней обычного принималась обзванивать оставшихся на воле и в относительном здравии, чтобы тут же, с ходу, не дав абоненту вякнуть «алё», великолепно артикулируя, доложить, что «имела еще ту ночь», что перед глазами прыгают белые зайчики, а моча опять какого-то не свойственного ей, и даже не входящего в природный спектр, цвета.
Иными словами, Раймонда, то и дело нарушая строгий постельный режим, кошкой прошмыгивала на лестничную площадку, где у телефона-автомата, всякий раз надеясь на другое, кое-как выслушивала родительское наставление, долженствующее, видимо, компенсировать родительское отсутствие.
Родительницу Раймонда ненавидела. Но в больнице было так уж невесело без Феди, а он исчез, и Раймонда все думала, что, быть может, он позвонит Гертруде Борисовне. Родительницу она всегда называла именно так — по имени-отчеству, со всем ехидством, на которое только была способна, и рада была бы не слышать про нее вовсе, но больничные впечатления, даже для терпеливой Раймонды, были из такого тошнотворного ряда, что про переезд Гертруды Борисовны с видом на Исаакиевский собор она слушала разинув рот, то и дело прося новых подробностей.
— Вот блядь! — вскрикивала она восхищенно. — А дальше что было?
Удивить Раймонду я не могла: все шло по обычному сценарию. Но ей интересен был сам процесс говорения, соучастие, и она очень остро чувствовала смешное.
— А у меня тут тоже, знаешь… анекдот. Пошли мы ночью с Танькой — ну ты видела, ходит тут из той палаты, — пошли, значит, на черную лестницу покурить… Только ты никому!! Поняла? И вот, значит, выходим мы на черную лестницу, а там тьма — мать честная! Мы на ощупь… Чувствую: каталка. Дай, думаю, сяду… — Раймонда беззвучно хихикает в кулак, будто давится. — А там… Ой, чувствую, чего-то положено… — Она заходится в кашле, быстро сплевывая в платок кровавую мокроту. — А там… Ой, не могу! — Раймонда хватается за живот. — Сейчас уписаюсь! А там — этот… — Она роняет лоб, заходясь беззвучным смехом.
— Покойник, что ли?
— Точно! Этот, жмурик. Мать честная! Я думала — у меня разрыв сердца будет! Я их боюсь — до смерти!!
Кто-то там, за белыми облаками, с аптекарскими весами, с золотыми часами, тот, кто точнехонько отпускает каждому из нас света и тьмы, снова доказал свое могущество и справедливость, демонстрируя равновесие устроенного им миропорядка. Короче говоря, на другой день утром с Раймондой случился обширный инфаркт легкого — а вечером явился душегубец Федя.
Я пришла после Феди и о подробностях инфаркта (от боли Раймонда рванулась к открытому окну) узнала от медсестер.
Для Раймонды вечернее впечатление совершенно перекрыло утреннее, затмило его — и уничтожило. Ее лицо сияло смущением, как это бывает с очень счастливыми, с отвыкшими от счастья.
— Ты карандаш мне для век принесла? — строго шевеля синими губами, спросила она вошедшую дочь.
— Одной ногой в могиле, а все бы ей веки мазать, — строго ответствовала дочь и протянула карандаш.
Раймонда, не мешкая, схватила его, тут же намуслила и, попеременно щурясь и таращась, принялась безжалостно очерчивать границы глаза.
Дочь вышла красивей Раймонды: высокая, холодная, голливудского образца кинодива, точней, исполненная безупречно стерильного очарования существ, сверкающих на этикетках колготок и мыла. Ей не перепало и капельки Монькиной удали; она постоянно мерзла, была трезва, рассудительна, не способна к восторгам; боясь заразиться, мыла руки по двадцать раз на час и — за вычетом визгливого пафоса — во многом повторила характер бабки, которую презирала. На мать она во всех смыслах смотрела сверху вниз и была к ней брезгливо-снисходительна, раздражаясь только двумя ее особенностями: талантом без конца обмирать, кидаясь на всякую мужскую шею, и неспособностью одеться со вкусом. Она стыдилась матери и, знакомясь с молодыми людьми, всегда врала, что та заведует рестораном.
В этот период, в больнице имени Нахимсона, тело Раймонды стало именно таким, каким я боялась его увидеть. Отеки практически не сходили; бесчисленные лекарства вступили в сложные, непредсказуемые взаимодействия, и весь механизм жизни в этом теле нарушился уже как будто необратимо. Про операцию никто не заговаривал, все сроки были проворонены. Первой забыла об операции Раймонда. Она, как всегда, надеялась на авось и, кроме того, понимала, что операция продлила бы ее больничное заточение, а она рвалась выскочить побыстрей.
На воле было много дел. На воле гулял Федя. (Они как-то не совпали по фазе: когда на воле гуляла Раймонда — мотал срок Федя). Не зная наверняка, что ждет каждого из них, но по-кошачьи предчувствуя, что ничего хорошего, Раймонда рвалась поймать свой мимолетный, может быть, последний шанс.
Чтобы отвлечь ее от мыслей о Феде (который сгинул снова) и дать иллюзию перспективы, я однажды распекла ее почем зря. Я втолковывала, что в ее возрасте, в ее положении следует ориентироваться не на уголовника, а на человека солидного, положительного — пусть и женатого, но надежного, доброго и порядочного во всех отношениях.
Раймонда слушала с большим удовольствием. Потом взглянула на меня и спокойно сказала:
— Кому же я нужна — такой инвалид?
— Что значит инвалид, — вскинулась я, — ты же поправишься! А потом, ты думаешь, мужики, что ли, не старятся, не болеют? Да, у них вон в тридцать лет у каждого — лысина, хондроз, геморрой, куча других болячек!..
— А с геморроем нам и самим не надо, — заявила Раймонда.
— Нам надо молодых, здоровеньких, желательно с хорошей фигурой.
Она потешно изобразила сладостное мечтание — и вдруг добавила, что у нее ничего нет уже два месяца, и назавтра ей вызвали гинеколога.
Передо мной лежало отечное, синюшное, полуразрушенное тело с окончательно сломанным механизмом движения всех соков. Было непонятно, каким образом в нем еще сохранилось дыхание.
— Как ты думаешь, почему это дело прекратилось? — с любопытством спросила Раймонда.
Я не успела придумать ничего лучшего: наверное, из-за гормонов… Потом сильно напряглась — и протолкнула:
— А может, ты забеременела?
— Вот и я так думаю, — ублаженно откликнулась Раймонда. — Сто лет ничего не случалось, я думала, совсем уж заглохло… А с этим Федей — не могло не случиться!
Я старалась не глядеть на ее огромные, готовые лопнуть ноги.
— Ну и что? — пропела Монечка. — Аборт сделаю. Делов-то: раз, два.
Да, Монька была из тех женщин, кто предпочел бы десять абортов одному визиту к стоматологу. Но сейчас даже переодевание белья было бы для ее тела истязанием. Как, каким образом в этом полусгнившем теле угнездилась новая жизнь — страшная, слепая, сумасшедшая? Как она могла там приютиться, глупая?
— Хотя, — оживленно добавила Монечка, — я бы с удовольствием еще родила. А что? Я могу.
Я уехала в командировку. Звоня, спрашивала о Раймонде со страхом. Положение ее было прежнее. Я уточняла: не хуже? Мне отвечали: не хуже.
Потом ей стало лучше. Гертруда Борисовна после этого рискнула включить Федю в экологическую систему семьи. Она передавала с ним харчи для Раймонды, распихнутые по банкам, баночкам, коробочкам и пакетам («Еда — самое главное!!»). По-прежнему, когда звонила Раймонда, она первым делом докладывала дочери состояние собственного нездоровья, потом заведомо трагически вопрошала:
— Ты сегодня брала что-нибудь в рот?!
Федя, может быть, прочувствовав ответственность миссии, навещал Раймонду ежедневно. Дела шли на поправку. Вернее, они приближались к тому порогу, за которым, засучив рукава хирургического халата, ждал-поджидал Монечку широкоплечий полковник.
В русской классической литературе и в западной классической литературе существуют примеры, когда врачи женятся на спасаемых пациентках. В русской литературе героиня больна традиционной чахоткой, в западной — более тонко — душевным расстройством. В русской литературе она, как водится, гибнет, в западной — конечно же, выздоравливает, крепнет, да так, что к черту бросает своего благодетеля. Логично задаться вопросом: если женитьба на спасаемых пациентках — столь типичное явление, что даже обобщена как в русской классической, так и в нерусской классической литературе, то, может быть, это вообще непоборимый закон жизни — и нам, под финал, остается порадоваться на полковничиху Раймонду Арнольдовну? Или пример из газет: врач сделал женщине операцию транссекса, то есть по ее настоятельной просьбе превратил в мужчину, но так в нее (в него то есть) сильно влюбился, что пришлось ему под влиянием страсти сделать операцию на себе, превратив себя в женщину. (Потом они жили долго и счастливо и умерли в один день). Это я к тому, что, если бы полковник воспылал страстью к Раймонде, но счел бы, что жениться на ней — скандальный мезальянс (а пациентка в этом смысле, конечно, неисправима), он мог бы вполне провести на себе операцию по удалению полковничьих погон, хотя, не спорю, это сложнее, чем поменять пол. Возможно, полковник в предвидении счастливых перемен уже бы и начал потихоньку сдирать свои погоны, но тут подкачала Раймонда.
С ней случилась редкая штука, в связи с которой она поначалу хихикала, говоря, что у нее все — самое редкое. Пока могла говорить.
С ней случился синдром Лайла. От какого-то лекарства стали по всему телу отслаиваться кожа и слизистые. Началось с языка, но никто не обратил внимания.
А через неделю она уже лежала в кожном отделении больницы имени Мечникова, и заведующий сказал Гертруде Борисовне (по телефону), что надежды нет.
Я зашла в отделение, когда дверь процедурной была приоткрыта. Огромные зеркала внутри нее удваивали происходящее. Там, в этом зеркальном зале, конвульсивно передвигались совершенно голые существа, сплошь разрисованные красным, зеленым и синим. В ритуальных масках, они исполняли танец североамериканских индейцев. Эти голые лунатические существа беззвучно заклинали языческих богов очистить их тела от струпьев и язв. Они судорожно зачерпывали из жертвенных сосудов неведомые вонючие мази и жадно покрывали ими свои лишаи и экземы.
Раймонда лежала в палате на двоих. Туда помещали умирать. Недолгих партнеров заносили поочередно и, в той же последовательности, выносили ногами вперед. Сбоев не бывало.
На Раймонду невозможно было смотреть. Словно щадя меня, она крепко спала. На другой кровати лежала старуха в содранных пузырях красной волчанки и орала, не закрывая рта. Она была умалишенная, а может, рехнулась от боли.
Заведующий сказал, что синдромом Лайла страдали в нашем городе за последние десять лет не более десяти человек и восемь из них умерли.
— А вы же понимаете, что при ее сердце…
Он велел мне забрать из холодильника все баночки с провиантом. Раймонда не могла проглотить даже таблетку.
Когда я пришла назавтра, она лежала с открытыми глазами.
— Ты, как змея, шкуру меняешь, — сказала я очень бодро.
Она что-то промычала, еще, еще. Я разобрала: «Сырое яйцо».
Я сбегала в гастроном, отковырнула скорлупу.
Она с наслаждением выпила. Еще одно. Еще.
Потом промычала: «Федя…» Я кивнула.
На соседней койке лежала молодая женщина в содранных пузырях.
Медсестра сказала, что за это время из палаты вынесли уже пятерых.
Вымыв возвращенные баночки, Гертруда Борисовна осталась не у дел. И снова она обратила королевские взоры на семейную жизнь сына.
Одну из жен Корнелия можно было бы назвать базовой. Именно от нее он отправлялся в свои матримониальные походы и к ней, как правило, возвращался. В базовом лагере он некоторое время отдыхал, понемногу приводил в порядок снаряжение и амуницию — и снова вступал на опасную, но увлекательную тропу. Во время кратких передышек он успокаивал по телефону очередную покинутую жену, говоря, что живет с базовой «все равно как с соседкой». Все вокруг только крякали от этой испытанной веками немудрящей ловкости. Не крякала только базовая жена. Слова Корнелия, кстати сказать, были правдой, хотя и отчасти, так как с соседкой при случае он пожить как раз мог, а с ней — в узкосупружеском смысле — как раз и нет. Он говорил своей базовой, что у него по этому делу — белый билет и что ему давно уже можно мыться в женской бане. Погасив таким образом волны страстей в нежеланных грудях, он устремлялся к новой точке на немеркнущем брачном горизонте.
Дальше действие разворачивалось по жестко заданному сценарию. Сначала базовая жена, не брезгуя также и подкупом Гертруды Борисовны, мобилизовывала все связи для установления местонахождения этой точки. Затем производила рекогносцировку на местности. Далее на точку тщательнейшим образом собиралось досье. После этого события вступали в самую напряженную фазу.
То было воистину библейское состязание Рахили и Лии за право любить Иакова. Не мороча никому голову мандрагорой, детьми и наложницами, соревнующиеся стороны пихали своему библейскому мужу деньги, одевали-обували во все импортное, с мясом выдирали в профкомах путевки на юг, обещали машину — ну и, конечно, всячески ублажали Гертруду Борисовну. С гордостью матери она говорила, что «бабы от Нелика в постели плачут». Если он мог ходить в женскую баню, то понятно, отчего они плакали, но многоборье зачем? Ужель и впрямь прав А. Н. Толстой, что это в характере русской женщины — любить и любить мужчину, даже если у него что-то не так? Но Корнелию попадались также и нерусские. Выходит, ему просто очень везло. Итак, ублажая Гертруду Борисовну, они вручали ей весы и меч Фемиды, чтобы она могла избирать достойнейшую. Это не всегда оказывалось легко. Базовая жена, известно, была пройдоха со связями. А новая — пройдоха еще та, но связи ее до конца ясны не были.
И пока Гертруда Борисовна, с черной повязкой на глазах, поигрывая мечом и весами, пребывала в своем традиционном раздумье, Раймонда поправилась.
Что ее вытащило с того света? Сырые ли яйца, мечты о Феде или сопротивление жмурикам на соседней койке? Неправдоподобно.
Но что правдоподобно, если подумать?
Жизнь вообще призрачна. А вот у некоторых в сердце знай себе незабудки круглогодично цветут. Разве это не странно? Причем ладно бы цвели, если б там климат был умеренный, а то температура — самая жаркая, да и почва-то должна стать уже пустынной после бесчисленных катастроф реактора и всякого другого. Ан нет!
Что касается Раймонды, ее-то загадку я разгадала. Тут вообще все просто. Сердце ее из-за порока имело отверстия малюсенькие. Кровь оно пропускало небольшими, очень небольшими порциями. И вот из-за этого жизнь в ее теле словно бы замедлилась — а значит, и смерть притормозила свое разрушение. Все соки тела, все его клетки, все его, главное дело, чувства еще долго-долго оставались свежими. Такие больные всегда выглядят лет на десять-пятнадцать моложе, это любой кардиолог подтвердит. Мозг и душа их как бы законсервированы, то есть сохраняются в том состоянии, как их настигла болезнь сердца. — чаще всего в подростковом.
Итак, Раймонда выписалась из кожной клиники и стала ждать операцию. Она, наконец, решилась на это. Ей следовало теперь отдохнуть, а затем подготовиться.
Отдых и подготовку она поняла, конечно, по-своему. Случилось так, что вылитый ангел, Федя опять глухо залег на криминальное дно, то есть настолько глухо, что у Раймонды — не ведаю как — завязалась переписка с капитаном речного судна из города Ростов-на-Дону и, параллельно, с мирным садоводом из Молдавии.
Откуда они взялись? Гертруда Борисовна говорила, что они приезжали в Ленинград отдыхать. Но где Монька могла их встретить? У нее уже была инвалидность второй нерабочей группы, что, ясно, ею не афишировалось, но она постоянно находилась на Обводном не в силах покидать свой пятый без лифта. Конечно, вполне возможно, что кавалеров подкинули жены Корнелия (одна — капитана, другая — садовода), а мудрая Гертруда Борисовна, мудрее ветхозаветного Бога, не стала обижать никого и приняла оба дара.
Но я все-таки думаю, было иначе: Монечкино сердце в поисках сердца, работающего на тех же волнах, испускало чары столь сильного свойства, что они попросту распространялись в открытом эфире сами собой — впрямую, свободно и быстро, презирая расстояния, — и вот совершенно самостоятельно на разных широтах-долготах засекли садовода и капитана.
Капитан речного судна писал:
Ты просиш рассказать, что заставило меня расстаться с первой женой. Она предала меня. У меня был дублер с которым она связала свои чувства. И я остался за бортом. Потом, как ты знаеш, я женился вторично. Подруга, я думаю, ты не видиш много внимания от мужчин. Их нет, они спились от вина, а если остались до 30 лет и старше, то их уже не жениш все равно — это мотолыги в прямом смысле. Сама подумай, да разве может быть мужчина порядочным, если только овдовевший по несчастью.
Садовод был мягче и лаконичней. Он присылал открытки с цветами:
Монечка моя маленькая женщинка! С приветом из города Дубоссары! Как там бьется твое золотое сердечко? Скоро ли операция? В этот солнечный праздник я от души желаю тебе ЛЮБВИ а главное ДОЛГИХ ЛЕТ жизни! Короче как говорят в наших местах не спеши нам еще рано нюхать корни сирени!
Письма она показывала мне с восторгом.
Спрашивала про одного:
— Как, по-твоему, он меня любит?
Спрашивала про другого:
— Как, по-твоему, он меня любит?
А я спрашивала ее:
— Неужели у тебя везде-везде поменялась кожа и слизистые? Неужели у тебя теперь все новенькое?
И она отвечала.
— Все-все. Новенькое-новенькое. И там, кстати сказать, тоже. Я теперь прямо как девочка! — И, зажимая нос, давилась беззвучным смехом.
Осенью ее поместили в пульмонологический центр готовить к операции. А через месяц вдруг выписали со странными, взаимоисключающими рекомендациями: соблюдать строжайший постельный режим и — эскулапово иезуитство! — «санировать ротовую полость». Операция откладывалась на неопределенный срок.
Состояние Моньки ухудшалось. Наконец оно сделалось крайним, то есть уж настолько тяжелым, что она согласилась перевезти себя к родительнице.
Гертруда Борисовна в те поры жила на Садовой, недалеко от кинотеатра «Рекорд». Трудно даже представить, как на нее подействовала эта доставка тела на дом. Она, всю жизнь бегавшая от самых махоньких, еще не для всех заметных проявлений смерти, оказалась приперта полутрупом к стенке, причем — нá тебе! — в своей же квартире. И никуда не денешься!
Полутруп синел, хрипел, поминутно плевался кровью и назавтра вполне обещал стать трупом. О лечении зубов не могло идти речи. Раймонда не выдержала бы даже вида зубоврачебного кресла, не говоря уж о том, что она на сей раз — при всем желании — не могла бы нарушить постельный режим.
Правда, она кое-как подползала к окну, распахивала его и, на вскрики мамаши не обращая внимания, криво хватала ртом осенний воздух.
Она звонила мне:
— Ты знаешь, я буквально задыхаюсь… Что бы это значило?..
В ее шепоте звучало приглашение совместно разгадать захватывающую дух тайну. Я, думая о неисправности телефона, машинально щелкала по трубке. Но телефон был в порядке. Не в порядке был голос Раймонды. Он звучал как с того света.
— Я сегодня всю ночь не спала, — шептала она, — думала, задохнусь… Потом забылась на часочек, просыпаюсь — вся в поту… Понимаешь, такое чувство, как после этого… — Она взрывалась кашлем. — Ну, этого… Я же все-таки женщина! — возмущенно заканчивала она и снова кашляла. — Я так не могу…
Наконец в больнице, откуда отфутболили Раймонду, удалось найти человека, который разъяснил картину. Он сказал мне: так вы же прочитайте ее диагноз. И ткнул пальцем в бумажку. Он ткнул в одно неразборчивое словцо, незаметно затерявшееся в густом кишении мелких каракулей. Ну так что? — спросила я. — Так это же рак вилочковой железы, — сказал врач, — один случай на миллион населения. А у нее, — добавил он, — вот, все же написано: с голову ребенка.
Как туда мог проникнуть рак, в этот запертый объем, где загнанным зверем взламывало ребра готовое лопнуть сердце? Туда, где в чудовищной давильне разбухших легких еле-еле пробивалась тончайшая струйка дыхания? Туда, в грудь, к которой эскулапы приникали ушами, глазами, перстами, приборами — каждодневно?
Или Господь Бог, словно кухарка, раздраженная живучестью полудохлой мухи, схватил первое потяжелей, что попалось под руку, — и хрясь!.. Чтоб уж наверняка… Да не перебор ли это?!
А может, Монька просто вытянула не тот билетик? Вот ведь: разбросана кучка экзаменационных билетов, она взяла один… побледнела… А ты рискни, подмени, может, не заметят! А то — пусть снижают балл — брось этот, тяни с разрешения другой! Вдруг повезет? Не бывает, чтоб два раза… Перетяни! Перетяни билетик!..
Широкоплечий полковник отказался от Раймонды раньше, чем я узнала диагноз. Из-за этого Моньку и отправили «санировать ротовую полость». Родителям сразу сказали, что дело безнадежно, но из какого-то старомодного милосердия, а скорее всего просто по халатности и оттого, что остальных диагнозов Моньки хватило бы с лихвой, чтоб переправить на тот свет человек пятнадцать, слово рак эскулапы не произнесли. Кличка смерти оказалась удобно табуированной.
А Раймонда задыхалась.
В дождливый и темный осенний день мы отправились с Арнольдом Ароновичем валяться в ногах у врачей больницы имени Нахимсона. Перед выходом инвалид промыл стеклянный глаз, провел рукавом по облезлой кепке и натянул белеющее в швах пальто. Мы плелись сквозь заваленные мусором дворы, сквозь переулки, залитые холодным плачем, мы не видели разницы между светом и тьмой. Непонятно что лилось сверху. Циклоп тупо постукивал палочкой и тяжко дышал. Кроме глаза и пальцев, отнятых еще в финскую, у него, уже на гражданке, откромсали часть печени, желудка, а селезенку убрали полностью, вместо правой ноги он довольствовался протезом, теперь стоял вопрос о левой. Удовлетворяя свое детское любопытство, Творец забавлялся им, как хотел: то крылышко оторвет, то щупальце, то усик, то еще крылышко, — а он все ползал. А может, Создатель эксперимент научный ставил: сколько кусков мяса можно обкорнать в человечьем теле, чтобы это еще было совместимо с жизнью?
В кабинет, где сидела комиссия по госпитализации, мы прошмыгнули так, чтобы показать, что хотим занимать как можно меньший объем. Я намерилась расположить к себе собрание своей компетентностью вкупе со смиренностью самой нижайшей. Я вкрадчиво лепетала: понимаю, для всех мест не хватает. Это так естественно! Я понимаю, что пациентка безнадежна и моя просьба неприлична. Я понимаю, что негуманно просить врачей тратить на нее время и средства, когда они (врачи, время, средства) нужны людям, имеющим реальные шансы к полноценному возвращению в трудовой строй. (Меня не перебивали). И все-таки… Хоть немножко облегчить предсмертные страдания… И, проглотив иголку Адмиралтейства: в качестве громадного исключения…
Мне был задан только один вопрос:
— Вы что — хотите, чтобы мы ее здесь вскрывали?
И уже в спину брошено:
— Она просто задохнется, вот и все.
На улице было мертво.
…Раствори меня этой осенней водой. Прими в землю, отпусти душу. Отпусти в землю, раствори душу, прими боль. Прими душу, раствори в земле, отпусти боль. Сделай же хоть что-нибудь!..
Я боялась, что циклоп рухнет. Я пыталась было взять ему такси. Но он сказал:
— Я еще в молочный зайду. Здесь всегда сметана и творог свежие.
…Приползла домой. Лежала, лежала. Я не знала, чем защитить себя от смерти. Мысленно принялась за письмо:
Любимый, я всю мою жизнь, оказывается, сначала — летела к тебе, потом приземлилась и побежала к тебе, потом устала и пошла к тебе, потом обессилела и поползла к тебе, а теперь, на последнем вдохе, — тянусь к тебе лишь кончиками пальцев. Но где мне взять силы — преодолеть эту последнюю четверть дюйма?..
Получалось красиво. Но, проливая самые чистые слезы, я отлично знала, что месяца через два-три потребую свои письма назад.
Не было защиты от смерти.
Звонок пробил меня гальваноразрядом. Звонил телефон.
— Ну? И чего же тебе там сказали? — передразнивая кого-то очень похожего на себя, с любопытством прохрипела Монечка.
Вмиг я стала ужом на сковороде. Тебе надо освободиться от избытка гормонов… Тебе надо заняться частичным восстановлением… главное, регулярно…
— Так ты зайдешь к нам завтра? — перебила Монечка. — Заходи, ладно? — И прогнусавила медленно, как разборчивая примадонна: — Знаешь, чего я тебя попрошу? — Было похоже, будто она канючит «вкусненькое» или зовет в уборную. — Знаешь? Угадай! — Зашлась в долгом кашле. — Эн-ци-кло-педию! — проговорила она с комичной важностью. — Хочу про свою болесть все узнать. И картинки погляжу.
А у меня поутру отнялись ноги. То есть они оставались в порядке, и все остальное было как бы в порядке, но идти на работу я не могла. Исчезли силы встать. Руки были не в состоянии поправить одеяло.
Потом я кое-как села. Скрючившись, просидела на краю постели долго, долго, в самой неудобной позе. Тело словно застыло. То было смертное окоченение.
Врач не хотел давать больничный. Он вообще не понимал: рак у родственницы, а ходить не могу я. Какая связь? Потом, брезгливо взглянув, дал.
Я пролежала несколько дней.
…Я видела квартиру Гертруды Борисовны на Садовой — и там себя у стены коридора. В противоположной стене одинаковые двери обеих комнат были открыты. В каждой из них, слева от двери, было по одинаковому телевизору. В одинаковых экранах синхронно проплывали одинаковые изображения. Перед каждым экраном спиной ко мне сидело по человеку. Левый телевизор смотрела Монечка. Правый, за перегородкой, ее отец. Они повторяли друг друга, каждый в своей комнате. А на кухне, замыкая треугольник, сидела Гертруда Борисовна. Был поздний вечер — один на всех.
К счастью, не все в этой жизни такие слабаки и задохлики: базовая жена Корнелия вступила в решающую схватку с очередной соперницей. Она присмотрелась как следует к своим картам, три раза взвесила, семь раз отмерила — и, вызмеив губки, грохнула по столу козырным тузом.
При ближайшем рассмотрении им оказался широкоплечий полковник. Да не тот, а другой! Россия богата полковниками, пушниной и лесом. Капиллярные связи базовой жены густой сетью проросли во все сферы. Сейчас нужен был полковник. Она достала. Вот этот-то новый полковник и согласился резать Раймонду. И все стало на свои места: Раймонда попала в Военномедицинскую академию, Гертруда Борисовна освободилась от покойника, а базовая жена на время заполучила Корнелия — чинить ему амуницию и снаряжение для дальнейших походов.
Она же, став главным режиссером действа, взяла себе также функцию полевой почты, осуществляя связь между полковником и немобильной родительницей оперируемой. Полковник в своей депеше с прямотой солдата уведомлял Гертруду Борисовну, что дочь не выдержит даже наркоза, о чем родительница подписала на своей кухне бумажку, добавив устно и совершенно неожиданно: «А если Бог захочет — так выдержит».
…Раймонда хвасталась, что ее укладывают в ба-ро-ка-ме-ру. Там насыщают кислородом. Туда помещают далеко не всех! Сознавая свое избранничество, Раймонда хихикала и кривлялась. Я спросила: как там лежится, в этой барокамере? Она сказала, что так-то, конечно, ничего, а скучновато. Голос у нее от барокамеры стал чуть потверже. Она прохрипела мечтательно:
— Вот если б одного из этих подложили!.. — И кивнула на чернокожих курсантов в иноземной форме.
Я приносила ей послания от капитана и садовода. Почерк у них был, конечно, не очень, — разбирали всей палатой.
Но потом Раймонда пригорюнилась. Вспоминала Федю. Потом вспомнила Глеба и стала серой. Потом сказала:
— Зачем только мы с Рыбным разошлись? Сама не знаю. Сейчас бы лучше него никого и не надо. А выписалась бы отсюда — так и состарились бы вместе. Чего еще?..
Для меня это был показатель того, что она сдала окончательно.
Вторая жена Коли Рыбного, дама, напрочь лишенная иллюзий, аккуратная, цепкая и очень прижимистая, заявила, что в больницу к Раймонде Коля пойдет только через ее, второй жены, труп. Но Коля, к чести его, понял, кто из жен ближе к этому состоянию. На свидании с Раймондой он был очень ласков, то есть настолько, чтоб это не походило на последнюю ласку у смертного одра, и даже почти скрыл подавленность. Он подарил ей шкатулочку собственного изготовления. Шкатулочка была очень красивая, инкрустированная.
Ах, окажись Коля верующим, будь у нас в заводе христианские обычаи! Он бы тогда попросил у Раймонды прощения, и она бы простила — и попросила бы прощения у него, и он бы простил. А вместо того он насильственно улыбался, глупо шутил, и, как если б сидел на колу, говорил не своим голосом — а дома в тот же вечер слег с гипертоническим кризом.
У него была красивая фигура. В шкатулочку Раймонда сложила письма от капитана и садовода. Бабы в палате завидовали. Медсестры тактично делали вид, что тоже глотают слюнки. Короче говоря, Раймонда и тут была королевой, так что соседки подавали ей судно с первого раза.
Мы с базовой женой пришли за день до операции. По сути, прощаться. Когда базовая отвернулась, Монька дернула меня за руку:
— Сбегай за папиросами.
Она, конечно, приняла мое возмущение охотно и даже за милую душу. Она моментально согласилась, что да, курить ей нельзя. Оживившись, она привела поучительный пример: позавчера парнишке сменили один клапан, один, представляешь, а он затянулся — и приказал долго жить. Так ей же не для себя: она медсестру отблагодарить хочет.
Я взбеленилась: кого ты этим обманешь? И подумала: а и Бог с ней, уже не поправишь. Может, это последнее желание… Принесла.
Потом говорили о пустяках. Я пыталась отвлечь внимание Раймонды житейскими эпизодами с воли: кто что кому сказал, а тот ответил, а потом тот сказал, ну а этот, конечно, ответил. Открыв рот, она слушала с детской жадностью. Затем дала мне взамен свою игрушку: полковник-то оказался голубоглаз, светловолос, — мамочки мои! — а сколько знал анекдотов…
…— Ну что? — деловито подытожила базовая жена, когда мы вышли на улицу. — Нос уже заострился.
…Она живет в избе-пятистенке. Сама — на хозяйской половине, за разгородкой — сестра-дурочка. Сестрица, дитя малое, день-деньской игрушечной железной дорогой балуется: знай куколок под паровозик подкладывает. Шум, гам! Ее половина — что сарай: веревки намыленные валяются, кровавые топоры, колья, крючья заржавелые повсюду раскиданы; на электрическом стульчике грузный ворон дрыхнет. Стены картинками из учебника судебной медицины оклеены: типы петель (мягкие, полумягкие, жесткие), отличия удавления от повешения, типы повешений и типы удавлений; классификация странгуляционных борозд. На потолке — дифференциация входного и выходного отверстий пули. В красном углу — фотка Мерилин Монро (в гробу). На ковре настенном — пистолеты, шпаги, Лепажа ствóлы роковые. На старинном трюмо — разноцветные яды во флакончиках фигурных. Подойдет, стерва, нюхнет — в зеркале зубки скалит. Куколки, паровозом члененные, пищат! Ворон проснется — каркает! Дым коромыслом, визготня!
А за разгородкой пустынно и тихо. Серый пол, голые стены. Слюдяное оконце. Ласковая бабушка на единственном табурете покойно сложила поверх колен усталые руки. Она смотрит прямо и просто. Она спиной чует идущего по дороге.
Путник приближается. Обходит избу. Открывает дверь.
И видит глаза.
Операцию назначили на двадцать пятое декабря — один из кратчайших дней года.
Я гнала мысли о ней весь день. День оказался долгим.
Зачем они взялись ее потрошить? Показать студентам фантастические внутренности? Бесценная картина для поклонников материалистического постижения мира! Сейчас позвонят. Я задохнусь. Они скажут: «Раймонда…» — и прибавят к ее имени глагол совершенного вида. Сейчас позвонят. День тянется вечно. Они скажут: «Раймонда Арнольдовна…» — и пауза, рвущая кишки пауза!.. Нет, позвонят родичи. Скажут: «Наша Монечка…» А глагол, глагол?! Сейчас позвонят. Мы все избегаем этого глагола, мы заменяем его эвфемизмами… А вступления чего стоят! Сейчас позвонят. Вам следует собрать все ваше мужество. Мы вынуждены сообщить вам тяжелое известие. Пожалуйста, крепитесь. Возьмите себя в руки. Глагол?! Сейчас позвонят. Рядом с именем Моньки этот глагол невозможен.
…День начинался ночью и ночью заканчивался. Сейчас позвонят.
В этот день не позвонили.
…Очнулась? Где? Где она очнулась?..
Уходя, мы приходим; умерев, рождаемся; заснув, просыпаемся в новом пространстве; проснувшись, засыпаем в пространстве покинутом. Рождаясь, мы умираем в прошлой жизни — там нас оплакивают прошлые близкие, мы смутно догадываемся, что оставили себя там оплакать, что наши прошлые близкие там безутешны, но мы гоним прочь эти мысли, а ночью вновь исчезаем из данного звена многомерного светового промежутка, переходя в смежное звено бесконечной цепи превращений, и вновь нас оплакивают навсегда далекие близкие, а в новой жизни (да живы ли они, когда молчит телефон?..) новые близкие, обреченные к плачу, никогда не замечают подмены.
Она умерла в прошлой жизни. Там позвонили, сказали.
Бескрайние поля белых ромашек подхватили ее мягкими волнами — укачали, унесли печали, повели… Ах, вечное блаженство!
Оденьте, оденьте меня кожей, попискивает душа, — дайте мне ручки-ножки, я на земле плясать хочу, — на что мне ваше блаженство. Да не перепутайте: ручки-ножки! А то, пробудившись камнем, тысячу лет станешь припоминать: а летал ли сойкой? Камень спит крепко, как камень, и видит каменные сны… Пока не поздно, пока я помню себя: верните мне мои ручки-ножки! Да они у тебя больные были, болели. Где болели? Ничего не болели. Не помню. Да чуточку и поболели — плевать. Верните! Верните! Верните!..
…На!!!
Вспыхнув метеоритом, сгорает душа, и уголь обрастает кожуркой, и зернышко насквозь прожигает землю и там, где люди растут вверх ногами — в наоборотном небе, — вновь восходит звездой. Ах, кружится голова!.. Природа, конечно, своими циклами терпеливо намекает на кабальную цепь бесконечности. Из нее не вырваться, шаг в сторону равносилен невозможному. Мы состоим на восемьдесят процентов из воды, тридцать процентов земного времени мы спим, то есть слепыми эмбрионами болтаемся во вселенских околоплодных водах и, прилежно проходя назначенные нам фазы, изображаем по кругу всех представителей земного мира. Мы спим; право на сон гарантировано нам Всеобщим Законом и обеспечено наличием подушек в магазинах «Товары в дорогу», а также нашим желанием сна.
Хлынул свет, и оркестр сыграл 1-й концерт П. И. Ч. для фортепиано с оркестром. Два ангела в расстерилизованных одеждах радостно матерились. Раймонда не разбирала их языка, она вообще ничего не слышала, но понимала вне слуха.
— Надо же! Никакого рака-то и не было! — говорил один ангел.
— Обыкновенный гнойник с голову ребенка! — вторил другой. — Эка невидаль!
Между ними невидимо возник некто Третий, который сказал: ловцам Истины с помощью вещного сачка я всегда буду подкладывать фальшивую карту. Вы, расщепители материи, вы называтели новых игрушек, вы и на йоту не приближаетесь к Истине, ибо усилия ваши устремлены в противоположном направлении. Не Истина важна вам, но ярлык. Назвав, вы тешитесь, что познали. Разобрав часики, вы думаете, что поняли механизм Времени. Вскрыв сердце, вы уверены, что вскрыли Причину, так как сердце для вас — мышечный орган отчетливо механистического устройства, а другое вам не открыто. Гнойник, говорите вы? Назовем так…
Никто Его не услышал.
Десять часов Он пристально следил за стыковкой Судьбы — и Земного Образа. Операция прошла успешно. Сорокалетней Раймонде Арнольдовне Рыбной в день католического Рождества, о котором никто не вспомнил, руками главного ангела и его ассистента, усвоивших все знания, накопленные человечеством, были вшиты в сердце два искусственных клапана американского производства, а еще один, ее собственный, основательно подправлен.
Оркестр грянул туш. К трапу подкатили длинную ковровую дорожку. Раймонда занесла ногу над верхней ступенькой…
— Гертруда Борисовна, — сказала в телефонную трубку старшая сестра отделения реанимации, — почему вы не приходите навестить свою дочь? У нас рядом с ней лежит менее тяжелая больная, а ее мать специально приехала из другого города, она здесь ночует!
— Так, может, ей ночевать больше негде, — бросила в сторону Гертруда Борисовна. — Не на вокзал же идти! — А в трубку пропела: — У меня моча сегодня шла цвета клубники со сливками.
Это было потом. А до того, очнувшись на каталке, Раймонда снова не догадалась, что в новой жизни ее снова не ждут.
Ангелы склонились над ней и нарочито громко задали свой материалистический вопрос:
— Раймонда Арнольдовна! — впиваясь в зрачок, они жиденько похлопали ее по щекам. — Скажите нам, пожалуйста, какое сегодня число?
Раймонде суждено было сказать исторические слова.
И она их сказала:
— Принесите… пожалуйста… косметичку…
Только тогда я поняла ее настоящее имя.
Ее триумф начался тогда же и длился долго. На второй день она села и сделала начес. На третий — потихоньку прошмыгнула в туалет. На четвертый день, точнее ночь, прогулялась к подружкам на отделение и курила на лестнице. На пятый день, излучая торжественность и благодать, полковник сказал, что он разрешает ей осторожно садиться на койке, держась крепко за вожжики. Раймонда великодушно изобразила все, что хотел от нее полковник.
Через некоторое время он взял ее под руку и замедленно-пышным шагом, словно караульный Кремля, повел длинным-длинным коридором прямехонько до лифта. Он красиво пропустил Монечку вперед, и они поднялись на отделение. Там, не успев присесть на койку, Монька взяла карандаш для бровей и намалякала мне записку: «Принеси пожалуйста твое бархотное платье, помаду втон, ниметский бюссгальтер, твои сапоги на коблуке, комбенацыю розовую, бусы или цэпочку». Слово «скорей» было, конечно, подчеркнуто дважды.
Ее демонстрировали на медицинских конференциях. Это было похоже на выступление факира с красивой ассистенткой. Факир вертел туда-сюда черные картинки рентгенологических обследований, разматывал белые ленты электрокардиограмм, выкликал магические числа анализов. «Где больная?» — начинали возбужденно кричать мужчины, сидящие в зале. (Там было больше мужчин, чем женщин, вообще много мужчин, и все они хотели видеть Раймонду). «Больная здесь?!» — кричали они.
И тогда факир делал жест рукой.
Ассистентка вставала и красиво скидывала бархатное платье.
Профессионально невосприимчивые эскулапы чувствовали себя немножко на стриптизе. Тело Раймонды было вызывающе не больничным. Даже если бы факир поместил ее в ящик, а потом распилил пополам, это было бы менее эффектно. Шов можно было обнаружить, только приподняв упругую грудь. Под занавес факир говорил, что дает гарантию на двадцать лет, а потом вошьет новые клапаны. Раймонда, под стать клапанам, улыбалась по-американски. А в зале между тем, о чем она не знала, побывали и врачи из больницы имени Нахимсона, те, что предлагали вскрытие (без предварительной стадии лечения). Короче говоря, справедливость торжествовала по всем направлениям.
…Гертруда Борисовна крепко села на телефон. Сначала она звонила знакомым:
— Мне будет плохо с сердцем! Мне и так достается — будь здоров! А что теперь будет — уже не знаю. Я в трамвае однажды видела женщину после такой операции! У нее в груди тикало, как часы! Громко! На весь вагон! Можете мне верить: тик-так!! тик-так!! Ой, мне стало плохо! Чувствую, сейчас упаду — и порядок! Пришлось вылезать!
Потом она звонила полковнику и говорила таковые слова:
— Она же выйдет из больницы и сразу… станет замуж выходить! Я же ее знаю! А можно ли ей этим заниматься с ее сердцем?!
— Замужеством? — ехидно уточнял полковник. — Я подумаю.
Сознавая, что на первых порах ей придется перекантоваться у мамаши, и разумно предвидя известного рода трения, Раймонда перед выпиской еще раз зашмыгнула в кабинет полковника. Оттуда она вышла с листком, который бережно, на отлете, донесла до поста медсестры, там попросила папочку и листок в нее спрятала. Переступив порог мамашиной квартиры (та переехала на Манчестерскую), она, не раздеваясь, развязала папочку и протянула листок Гертруде Борисовне.
— Что это? Диета? — заквохтала тетка, поднесла листок к окну и, далеко отведя руку, прочла:
Выдана гр. Рыбной Р. А. в том, что 25.12.85 она перенесла операцию по частичному протезированию сердца. Выписана в удовлетворительном состоянии.
Рекомендована половая жизнь с учетом индивидуальной потребности.
Документ выдан для предъявления по месту требования.
Зав. отделением госпитальной хирургии Полковник Тарасюк В. Н. (подпись)»
Число, печать.
И Раймонда отправилась предъявлять документ по местам требования.
Сначала она вылетела в г. Ростов-на-Дону, где на белом-белом судне (ударение на первый слог!) ее ждал-поджидал белозубый капитан. Он устроил ужин с шампанским в ее честь! «Ты бы видела каюту: шик!» Сын поднес ей цветы!
Тем временем Третий Ангел вострубил, и люди услыхали: Чернобыль. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
А Раймонда плыла себе и плыла: по Дону-батюшке, по Волго-Дону, по Волге-матушке, по Волго-Балту, — и ее воды были сладки. Под сладкое тиканье часов забывался на ее груди капитан…
В Ленинграде была пересадка: капитан отбыл в Ростов-на-Дону — жить с нелюбимой женой и растить любимых внуков, а Раймонда, в знак благодарности пригласив базовую жену Корнелия, поехала к садоводу — срывать сладкие, сладкие плоды.
За это время я, кое-как сопрягая «сердечную непосредственность» с правилами казенного слога, составила бумажку, в которой просила объявить полковнику благодарность, и отправила ее в учреждение со сверхъестественным адресом: Москва, Красная площадь…
Раймонда вернулась с причесочкой и загорелая; злая базовая жена тащила ведра черешни и абрикосов. Хотела бы с ним остаться? — спросила я Монечку.
— Да ну, жарко, — ответила она. — Не для моего здоровья климат.
Потом все же выяснилось, чтó на самом деле не пришлось для ее здоровья.
— Он уже старый, — тактично сформулировала Раймонда, морщась досадливо и с жалостью.
К мужчинам она была особенно сострадательна.
Новая жизнь! Не во всем, конечно, а новая. Раймонда по-старому влюблялась в новых мужчин. Операция не вернула ей паспортный возраст. Как это объяснить, я не знаю, а Раймонда, видно, не задумывалась. Она врала направо-налево, что ей двадцать пять. Действительно врала, — ведь по новой дате рождения ей было меньше годика. Она без конца просила мое бархатное платье — «на концерт» (читай: в ресторан). И всякий раз какой-нибудь новый юноша, не старше двадцати, возвращал мне его на пятый этаж… Раймонде все же тяжело было подниматься, а что она говорила кавалерам — я не знаю. Наверное, уж что-нибудь да придумывала.
Но главным событием этого периода явилось второе пришествие ангела Феди. И, возможно, это был не прежний Федя из прежней жизни, а новый Федя из новой жизни. Кто может поручиться, что нет?
И они зажили как бы по-новому. Перелицованная жизнь имела тот же цвет, но чуть более яркий, еще не выгоревший оттенок.
Зимой они с ангелом даже вкусили загородного люксу. Монька не хотела, чтобы Федя заметил, как медленно поднимается она к себе на пятый этаж. И они поселились в хибарке ангеловых корешков. Обводный на месяц расцепил объятия, чтобы сомкнуть их навек.
Снег был белый, огонь в печке был яркий. В Новый год Раймонда подняла чайник с кипятком и опрокинула себе на ногу. От лютой муки она ухнулась в обморок. В травматологическом ей наложили мазь, и она заплакала. Ее стали стыдить, но оказалось, что мазь перепутали: не для заживления дали, а что-то для разъедания. Ясно, Раймонда рассказывала про это с удовольствием: всегда-то с ней происходило небывалое и опять она, черт возьми, была героиней дня! Они так извинялись, ты бы видела!! А Федя, если бы ты знала, такие перевязки делает — будьте любезны! Лучше любого доктора, серьезно я тебе говорю!
Короче, все шло лучше некуда. Раймонда, это которая у тебя по счету шкура? Третья, что ли? А х… — пардон! — а черт его знает! — у Раймонды на щеках прелестные ямочки.
Федя стал постоянным ночным слушателем Монечкиных фирменных часиков. Но мне все равно казалось, что это не часики вовсе, а, может быть, бомба с часовым механизмом… Вот-вот взорвется! Ложись!.. Да ты, ты ложись, Монечка!
Куда там.
Она вскарабкивается ко мне на пятый этаж — и сразу:
— Как наша талия?..
Ворох новостей. Садовод прислал открытку. Да ты читай, читай, я специально притащила: «Любить тебя есть цель моя, забыть тебя не в силах я!» Ну сказано — застрелись! Слушай, ты же эту кофточку все равно не носишь?..
Раймонда сидит на диване, качает ногой в драном чулке, курит «Беломор» («Гертруде только не говори!») — и ссыпает в рот пригоршни каких-то лекарств. Вид у нее победный и хитрый.
— А я на работу устроилась!..
Как это? У Моньки — вторая группа инвалидности, нерабочая. То есть вскоре после операции стала рабочая — но не для бара же! А она, конечно, подалась в свой бар. Может, ей надо было себе доказать. А может, ничего она не доказывала, а захотелось — и пошла: целый день на ногах, дымина, гвалт, ну и рюмочка-другая, не без того, надо думать. За несколько месяцев довела себя до нерабочей группы. Где же сейчас работать?
Да не важно где. В одной конторе. Главное — как я устраивалась! Ты послушай! Это же а-нек-дот! Короче, на флюшку пошла, как на казнь: сразу же эту кастрюлю с ручками в нутре видать. Что делать? Ну, думаю, все, конец. Тут эта, которая ответы дает, отвернулась, я — р-раз! — вытащила себе из коробочки нормальный ответ: на «Р» взяла, чтоб похоже было. Не повезло какому-то Рындичу. Вторым номером программы — проверка этого, ну что там космонавтам проверяют? — вестибулярного аппарата. Мне по должности положено: оформить собрались монтажником хорошего разряда. Там такое, значит, кресло, тебя крутанут, крутанут, еще крутанут, потом встала, руки вперед — и пошла прямо-пряменько! Мать честная! А у меня только что кровь из вены брали натощак — думаю, я и без кресла сейчас шмякнусь. Тут же на моих глазах трех мужиков крутили: один зашатался, как зюзя, другой — брык! — и с катушек, даже носом пропахал, а третий говорит: нет, вы лучше уж так вытурите, не сяду. Короче, всех забраковали к едрене-фене. А мне врачиха после говорит: вас в космос надо, замечательный ваш аппарат! Я говорю: знаю, но мне пока не по должности. Ну, самое страшное — терапевт: он же трубкой слушает, заключение пишет! Я так подгадала, чтобы к самому концу приема влететь, ну вот чтобы три минуточки осталось! Влетаю. Он сидит — уже бутерброды наворачивает, а главное — нет, это просто Бог! — не наш сидит, а совершенно новый, первый раз меня изволит видеть. Разложила я перед ним все свои бумажечки, говорю: чего всухомятку питаться, я бы вас борщом накормила! Ну, слово за слово — оченно мы, видно, им понравились! Подмахнул не глядя. Так что я теперь — слушай внимательно — экс-пе-ди-тор! Правильно сказала? Вот. На машине весь день катаюсь. Почти на личной. И шофер молодой, неженатый. Почти.
Ну, можно подумать, Раймонда, тебе прямо-таки износу нет! Все течет, а только ты одна не меняешься. Часики в твоей груди стучат ритмично и громко. За это времечко уже умерли: королевский пудель Патрик и твой бедный отец Арнольд Аронович. Он все же не вынес ампутации второй ноги. Давным-давно умерла первая жена Глеба. Вышла замуж твоя дочь. Родился: сын дочери, твой внук (!), Гертрудов правнук. Гертруда: переехала на 5-ю линию Васильевского острова. Корнелий: переместился на жилплощадь лучшей подруги базовой жены — продавщицы пива с лицом старого слесаря, растящей двух внуков.
Часики цокают-гарцуют на серебряных своих копытцах. Или это Господь Бог, держа веревочку неизвестной длины, знай себе стрижет маникюрными ножничками: чик-чик, чик-чик… Скоро ли Конец Света, Господи? А вот ужо достригу — тогда. Он орудует ножничками филигранно и точно, с унизительной для жертвы безостановочной аккуратностью. А тебе, можно подумать, Раймонда, все износу нет! Да это не я говорю, это Господь Бог нервничает! Больно много дает он предлогов для фантазий наших неуемных, избаловал: подумаешь! — цепи превращений, звезды, зерна, цикличность природы! А Он просто зайдет в комнату — и выключит свет. Именно в ту секунду-то и выключит, когда поверишь, что свет надолго.
Конечно, Он не мгновенно выключит. Ему же еще надо найти выключатель, протянуть руку… А пока Он этим отвлекся, ты еще много чего успеешь.
Ты еще взахлеб поживешь этой перелицованной — как новенькой — жизнью. Но фактура ткани, которая не шелк, не маркизет и не мадаполам, останется грубой, и ты изотрешь сердце в кровь. (Да как же и раньше не истерла?..) Ты будешь жить со своим уголовным ангелом на Обводном, будешь ревновать, и плакать, и давать соседкам бигуди, и одалживать им треху до утра, и бегать ночевать к мамаше в синяках семейного происхождения, и лепетать про мебель и общественный транспорт. И однажды твой ангел ударит тебя так сильно, что испугается сам и убежит, и, когда придут медики, ты будешь лежать неподвижно на полу в луже крови, но, еще не успев склониться к тебе, они различат ясный стук твоих упорных, жадных, слепых часов.
И вот тут-то Он выключит свет.
Неправда! Неправда! Прежде чем свет погаснет, ты еще будешь счастлива!
Ты еще будешь счастлива, потому что твой Федя поскандалит с соседями, подымет в запале их цветной телевизор, а потом разожмет руки, и за это его отвезут в Кресты, и ему замаячит три года, и ты будешь счастлива, потому что придешь ко мне и, сдавшись бессоннице, будешь рассказывать, как ты любишь его, какое у него нежное тело и пахнет ребенком, — а твое тело снова станет таким, как до операции, словно без операции, потому что гарантия была дана с расчетом на упорядоченный образ жизни, а ты такой не вела никогда, и ты будешь с молчаливым фанатизмом потрошить папиросы, папиросу за папиросой (десять пачек папирос), и высыпать табак в ситцевый мешочек, ведь в Кресты запрещено передавать иначе, и я вызову тебе две «скорые», «скорую» за «скорой», поскольку даже пригоршни лекарств, если запивать их водкой и слезами, не в силах подправить грубую ткань жизни, и твоя громадная печень снова будет разрывать беззащитный живот, а сердце, захлебываясь, взламывать жесткие ребра, — а ты будешь старательно расковыривать каждую папиросину — папиросу за папиросой — молча, упрямо, и делать это будет не так-то легко твоими коротенькими пальцами с обгрызенными до мяса ногтями, и, когда уедет вторая «скорая», ты проводишь из окна ее своими небесными глазами и поползешь в Кресты передавать табак, и ты будешь счастлива, потому что я подскажу тебе, что в случае регистрации брака с тобой ангел Федя скостит себе срок, ибо тогда по документам у него окажется на руках неработоспособная жена-инвалид, которую надо кормить, и ты придешь ко мне вскоре с немыслимой прической и загадочным видом и тут же выпалишь, что вас по-же-ни-ли! — да-да! все было как в настоящем загсе, и женщина в длинном платье спрашивала согласия жениха, невесты, поздравляла — вот кольцо! — а Федя был в белой рубашечке, чин-чином, и его теперь выпустят через три месяца, а твоя фамилия теперь — Иванова!
…И потом, уже потом, когда я увижу тебя в гробу, то есть когда я тебя в гробу не увижу, потому что эта страшная кукла с инородной гримасой непереносимого страдания, с тем настоящим возрастом мертвой плоти, который только в гробу и посмеет проступить, который вылезет вместе с грубыми следами разложения (замазанными кое-как опереточным гримом), — этот безобразный распухший труп, изуродованный майской жарой и небрежностью администрации морга, этот всем чужой, попорченный, фальшивый фантом, словно для варварского обряда принаряженный в твою одежду, чтобы ловчее собезьянничать твою оболочку, настолько не будет иметь к тебе никакого отношения, что я спокойно и глубоко вдохну из распахнутого в небе окна, куда радостно отлетела твоя навсегда свободная душа, и торжествующая, рвущая сердце радость подхватит меня на гребне светлой и сильной волны.
Что может быть точнее — «…воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Ну а если не «воскресе»? То есть если не для всех воскресение очевидно, если не для всех оно отчетливо и неприкрыто? Тогда скажем так: умерев, мы попираем смерть. Умерев, мы рождаемся без промежутка. День смерти и день рождения считать одним днем.
…И наоборот?
Конечно. Но, пока еще длится день, мне надо успеть.
Я расскажу, как твоя мать, конечно же не пошедшая на похороны, будет на поминках красиво делать большие глаза и занимать гостей страшными рассказами про твоего ангела Федю («Его блатная кличка — Суровый, нет-нет, — Свирепый! Можете мне верить!!») и как она, отменная хозяйка, еще будет успевать при этом окидывать взором длинный поминальный стол — ничто не ускользнет от ее домовитого внимания — и строго, чтобы все гости слышали, будет обращаться на дальний конец, к твоей дочери: «Ты сегодня брала что-нибудь в рот?! Обязательно возьми что-нибудь в рот!!» «А вы, а вы, Гертруда Борисовна?» — с нарочитым участием подхватят гости; «Ну что вы, — траурно опустит глаза тетка. — Разве я могу проглотить хоть каплю? Изжога, отрыжка, запор»; и как сюда, на поминки, вдруг придет Глеб — точнее, его приведут, потому что он будет уже совершенно слепой, а до того он станет искать тебя в крематории, но не найдет, потому что в слепоте своей будет всех спрашивать Рыбную, ничего не зная про Иванову, и он будет шарить руками по стенам холодного зала, и горько плакать, и не найдет тебя все равно, и узнает по справочному адрес твоей матери (она будет жить уже возле Мариинского театра), и в прихожей протянет ей розы, сделанные будто из розового воска, и сунет сто рублей, а вокруг будут толкаться наевшиеся люди, и Глеб бодро-бодро повторит: «Теперь мы все будем держать связь через Гертруду Борисовну! Через Гертруду Борисовну!..» — глядя куда-то вверх с просветленной улыбкой слепого, но дальше прихожей не двинется, и его уведут (какой-то мальчик), а Коля Рыбный, глядя ему вслед, захочет скрыть невыносимую жалость — и не сможет; и тогда я пойду на кухню и увижу, как моя глупая, бедная тетка сидит одна-одинешенька и с аппетитом поедает куриную ножку.
А до того, еще в крематории, какие-то две женщины в черных косынках, переминаясь в тошнотворном ожидании процедуры (ожидание будет затягиваться, и Корнелий снова побежит пихать кому-то деньги и, с матерком, будет внятно подсчитывать убытки, а базовая жена подчеркнуто по-семейному будет вручать ему таблетки и отирать пот с его лба), — до того две незнакомые мне женщины будут тихо вести разговор.
— Никогда я не видела этого Федю, — скажет одна. — А жаль, Монечка все в больнице говорила: «Нина Петровна, это же вылитый, вылитый Ален Делон!»
Служащие в черном выведут из дверей ритуального зала бьющуюся в истерике женщину, старик уронит венок, послышатся голоса: «Теперь наша, наша очередь!», «Выбрали, идиоты, зал — возле самой уборной!»
— А я к ней приходила уже за день до всего, — скажет другая, — она лежала уже такая худая, ничего не ела, а я ей говорю: «Монечка, съешь хоть ложечку! За папу, за маму!» А она мне говорит: «Нет, Вера Сергеевна, я за папу, за маму не буду. А вот за Феденьку — съем!» — и подмигнула так…
Но еще до того ты будешь ждать меня за чугунной оградой грязного больничного двора — худая, в каком-то сиротском пальто, похожая на подростка-детдомовца, и, как только я увижу тебя (а ты еще не успеешь меня увидеть), я сразу пойму, что буду помнить это всегда: ограду, тебя за оградой. И потом ты попросишь меня перелезть к тебе. А я не перелезу.
И мы будем разговаривать, разделенные оградой, и ворота будут на замке. Ты станешь, конечно, хвастаться, что, когда гуляешь с внуком, мужчины говорят ему: «Как ты на мамочку свою красивую похож!» — а потом, когда ты отвечаешь им, что не мамочка, они долго не могут понять, кто.
А до того, до того я уже буду знать, что закину впервые свой невод — и придет он с морскою травою, а закину второй раз свой невод — и придет он лишь с тиной морскою, а третий раз закину я невод — и зачерпну только голого неба, а твоя душа, навеки свободная, хрустально смеющаяся надо мной душа, ускользнет, ускользнет — и так будет ускользать всегда, сколько ни изощренна и мелкоячеиста будет моя сеть. И я буду знать, что сначала отчаюсь, а потом обрадуюсь.
Я буду знать наперед, что в долгие часы, когда нежданная чернота станет наваливаться, погребая меня заживо, а в глотку будут заколачивать камень, я не смогу отогнать ясной мысли, что ты хочешь стать телом.
Конечно, ты невесомо танцуешь, там, в полях белых ромашек. Но кто ты — без тела?! На что тебе это вечное блаженство? Я вижу ребенка, который через стекло лижет кусок хлеба в витрине — и плачет, плачет… Ты просишь сиротливо: хоть на минуточку… Ручки-ножки… За что тебя так быстро увели с этого детского праздника, где цвел запах мандариновых корок?
И я с ужасом пойму, что тебе ни к чему, ни к чему стерильное блаженство стерильных полей. Твоя неуловимая для меня душа неотрывно стоит у небесного окошка и жалобно смотрит на землю… Да и кто же ты без тела, в конце концов?! У души нет даже крохотных обкусанных ноготков, которые можно было бы обкусать еще и ярко намазать лаком! Боже мой, я всегда буду чувствовать, как ты молишь себе вещную оболочку: хоть на минуточку… ручки-ножки.
И тогда я скажу тебе: на что тебе эта живодерня? не устало ли твое детское сердце в этой морилке?!
И мне легко будет говорить эти слова, потому что для меня они будут правдой. Но не для тебя! И я буду себя чувствовать не вправе занимающей место и тело. У тебя ли я их украла?
Отчего же каждая минута жизни дается мне с таким трудом? Отчего я дышу с таким сопротивлением, ни один вдох не дается бесплатно, и мне так скучно жить? А дальше, я знаю, будет еще скучней. Твою ли жизнь я живу, сестра?
И зазвонит телефон.
— Приветик! — скажешь ты. — Читала, что мой обожатель пишет? «Не спеши, нам еще рано нюхать корни сирени!» Будь здоров сказано!
И, не видя тебя, я отчетливо увижу, что ты улыбаешься, улыбаешься — конечно, улыбаешься.
Июль, 1990
ИЗ ЦИКЛА «ЛЕНТА МЁБИУСА»
Свидание
Борьба за жизнь наиболее ожесточена между близкими формами.
Чарльз Дарвин
…Какой выбрать вид из окна? Он выкурил уже полпачки сигарет, перебрав Бог знает сколько пейзажей.
Собственно говоря, ему хотелось бы что-нибудь в духе свежести непосредственного контакта с природой… Ну, например, «Пашню» Писсарро.
В проеме мгновенно возникает серовато-коричневое пространство: на границе вспаханного, более темного поля, чуть справа — плуг или борона; слева, на пригорке — несколько тонких берез.
Нет, пожалуй, такое простодушие претенциозно; это вовсе не то, что сейчас нужно. Состояние влюбленности всегда сочеталось у него с непреодолимым желанием совместить предмет обожания с самым прекрасным экзотическим пейзажем — будь то возвышенные горы или неисчерпаемое море; их качества словно намекают на исконную природу любви, задавая этому чувству единственно верную тональность… В этом смысле темперамент Моне ему более близок.
Теперь за окном плещет интенсивно-синее море, застыли сиреневые скалы… («Скалы в Бель-Иль»).
Вот и найден последний штрих должного антуража. Музыкальный фон подобран, цветы — на всех плоскостях.
Его бесценная, его любовь — должна войти с минуты на минуту. Этот восхитительный трепет!
Какой она будет сегодня?..
Он вынужден признаться, что еще никогда не видел ее в костюме Евы. И здесь, как он полагает, для впечатления особенно важны, конечно, ягодицы. В оптимуме они обычно так же музыкальны, как и скрытые места сочленений… Говорят, Боттичелли очень музыкален; это натяжка. Он, скорее, скован и архаичен, даже несколько манерен; культ женского «смака» пошел именно от него, но зад у Боттичелли вяловат, он больше заботится о линии… С линией, пожалуй, гораздо лучше у Энгра, достаточно вспомнить «Вечный источник». Там, правда, не хватает некоего изыска, последнего изощренного штриха. Всего вернее лучшие женские ягодицы можно найти в вырезе платья Джоконды: это достаточный намек, — скорее, ощущение искомых (и вычисляемых) ягодиц; недаром Леонардо был столь целомудрен. А вот шею можно взять у Боттичелли. Конечно, шея должна быть длинной, но не у Модильяни же ее брать, там болванками пахнет; это все равно, что брать у Пикассо. Вообще говоря, шея не должна иметь никакой функциональной жилистости, в противном случае погибают все эмоции. Волосы — лучше у Рубенса: там всего много, и волос тоже. Ручки у японцев возьмем. Как представишь, что такие пальчики тебя ласкают, червячки этакие, больше ничего и не нужно. Разве что грудь: она не должна быть большая, уважающему себя джентльмену просто нечего с ней делать, только отвлекаться. Особенно важны еще те скрытые части, которые более всего и смущают неподготовленного, например, жилистый пах (балерин), глубокие впадины подмышек, то есть все места естественных сочленений. Кстати, если все эти подколенные, подлокотные и заушные ямки не безобразны — женщину уже можно считать прекрасной. Подмышки можно опять-таки взять у Энгра, колени тоже. Плечи найдутся сами. Это последний штрих, изюм, импонаж. Со спиной трудней. Со спиной у женщин вообще пробел. Это неоткрытый материк, она не должна быть ни мускулистой, ни жирной, ни костлявой. Какой она должна быть?.. Он не знает. Зато знает совершенно точно, что именно поэтому «Венера в зеркале» Веласкеса так уязвима — спина там ничего не говорящая. Ноги надо взять у греческой скульптуры, — скорее всего, у Дианы. Уважающий себя мужчина начинает женщину с ног. Ноги задают тон остальному. Поэтому они должны быть легкие и точеные, как у Дианы-охотницы.
Вот он слышит: она идет, его ненаглядная! Ах, что главное в женщине? — первое запах и последнее запах; как сказал великий Сернуда.
Вот она входит, его суженая, сестра его, возлюбленная его, и ему даже не надо ее видеть — важно ощущение движения; он готов поклясться; в женщине так может подкупить движение, что остальное перестанешь замечать. Движение должно быть абсолютно свободным — не скованность, но приглушенность, не дикарская наивность, но искушенность — это все при полном сохранении свободы.
Вот она садится перед ним, его любовь… Молодое пугливое высокомерие и запах богатства излучает она… Тонкие оттенки сиреневого и серого, легчайшие мазки красок — то более теплых, до розового, то похолодней, до голубого — прозрачной тенью играют на продолговатом лице; вот он, миг жизни, полный света и покоя.
— Ты не намерен угостить меня чаем? — льются тягучие медвяные струи.
— Тебе покрепче?
— Да, если можно.
— Сахару — две, три?
— Две достаточно.
Ах, любимая! Чего бы он не сделал ради нее! Она именно такая, какую просила его душа. Вообще, он уверен, в женщине не должно быть чего-то особо выразительного, это утомляет, — в единственной, конечно. Вот и она — его единственная, а потому — прекрасно-никакая — ни красивая, ни уродливая. Он воспринимает ее, как самого себя в зеркале, она — его создание, венец многих усилий и опыта.
Она — его, и он может любоваться ею сколько захочет. Вот она печальна, вот плачет, и на шее у нее, слева, порхает легкая жилочка, от которой можно сойти с ума раздираемому между безумной жалостью и садистскими желаниями. Продлись, продлись, очарованье; как сладко, мучительно сладко видеть ее слезы; еще слаще изобразить перед своею возлюбленной, что и он способен пустить скупую… мужскую…
Впрочем, он устал.
Поглаживая ее трогательный затылок, медленно, незаметно переводит он ладонь на шею и там, нащупав седьмой позвонок, быстро нажимает на кнопку питания.
Магнитно-сенсорный шов, идущий вдоль позвоночника, мгновенно вскрывается, кожух демонтируется безотказно; он легко снимает его, обнажая привычную картину внутренностей, опутанных сине-красными проводками сервомеханизмов… В основе гармонии лежит четкий порядок: блок питания, аналитическо-счетное устройство, блок управления, блок памяти — он раскладывает все это в промаркированные сейфы.
Фу, как устал. Что ни говори, общение отнимает силы… И только милосердная природа дает нам отдохновение истинное, ничего не требуя взамен.
Он снова подходит к окну, вдыхает морской воздух. Нет, Моне все-таки — это слишком насыщенно, а все, что слишком, — не может быть вполне прекрасным. Собственно говоря, он более сторонник лирического и чуть замедленного созерцания в духе Сислея: нажимает на кнопку, и море в окне мгновенно проскальзывает вправо, и вслед за ним, встык, в оконный проем со щелчком встраивается «Ветреный день в Венё». Да нет же! Только не это пустое небо и тоска… Он нажимает на кнопку, в проеме — тот же Сислей: «Городок-ла-Гаренн на Сене» (тихая река, тихая лодка, на противоположном берегу — уютные домишки). Да, он всегда желал только простоты и покоя. Что ему надо? Лес, поляну, стог сена на ней… — снова Моне: теперь «Стог сена в Живерни». К тому же стога — он разделяет это мнение — идеальный художественный объект для тональных экспериментов.
Но усталость не проходит. У него сейчас такое состояние, как если бы ему приказали произвести деление на ноль. Его защитное реле отключается. Сервомеханизмы под кожухом беспомощно обвисают. Глаза гаснут.
Вид из окна гаснет автоматически.
1984 г.
Абрагам
Он был невидим, сверкали только металлические тарелки. Из тьмы, в ритме ударов, рвались к сверканью белые кулаки. Они мелькали, они задыхались, они сладострастно накаляли металл и сами сгорали в его белом холодном пламени.
Я прошла за кулисы. Пока музыканты укладывали инструменты, я рассмотрела его. Он не был похож на свои руки. Я отчетливо видела, как сейчас он примется вяло клянчить у кого-нибудь деньги, а ночью, в гостиничном номере, расправит на холодном полу сопревшие в лаковых туфлях пальцы.
— Ты чего так смотришь? — спросил он.
— Тебя зовут Абрагам.
— Почему?
— Просто так.
Он запихнул свою мантию с блестками в спортивную сумку.
— А тебя как зовут?
— А как бы ты хотел?
— Не знаю… Ты армянка?
— Нет.
— А как все-таки? Ладно, потом скажешь. А меня…
— Тебя зовут Абрагам.
Он долго озирался в сумерках большого нежилого помещения. Здесь было зябко и неуютно взгляду, и взгляд его поник от усталости. Я зажгла свет. Голое окно отразило наши тени.
— Как же теперь я найду дорогу назад? — назад?.. — гулкое прохладное эхо, реверс пустого обособленного пространства, набухло и опало. — Ты здесь одна живешь? — живешь?… — Нет. — нет… — Не одна? — одна?.. — Я здесь не живу. — живу… — Бываешь? — бываешь?.. — Бываю. — бываю…
Наступила пауза. Издерганный слух перевел дыхание.
— А где ты тут спишь?.. — спросил шепотом.
Эхо исчезло. Мы остались без свидетелей.
— Это не проблема, — тихо сказала я.
Он поежился:
— Хоть бы завесила…
Я завесила нижний квадрат окна его мантией в блестках.
— Выпить бы…
— Ты нужен мне трезвым.
— Ребеночка хочешь?..
— Ребеночка.
Я вынула нож.
— А где хоть закуска?.. — он сел на пол возле разбитого ящика.
Стало очень тихо. И все равно по эту сторону мозга, отдельно, продолжал жизнь тяжелый, бесстыжий в своей неутомимости ритм.
— Ты чего молчишь?..
Удары глушили меня, как рыбу, когда словно заело пластинку: та, та, одна и та же ритмическая фраза — та! та! тра-та-та-та — вылилась в барабанную дробь.
— Ты чего так смотришь?..
Он еще не знает, что не выйдет отсюда, пока не исполнит моего замысла. Он сделает это, может быть, даже раньше, чем сумеет понять существо моих аргументов. И, я смею надеяться, он поступит так не только из страха, а в предощущении неведомого еще, упоительного восторга от света моей правоты. Я покажу ему родинку под левой грудью — она приходится на верхушку сердца.
— Тебе помочь?.. Как тут расстегивается?
В конце концов, у него просто нет выхода. Я объясню, что люди придут только в семь утра, а до того он не сможет открыть дверь. Он не сможет и в окно: здесь одиннадцатый этаж. А кричать, я думаю, он понимает, бесполезно, так как кругом пустырь. И не стоит пытаться протянуть до семи, потому что я все продумала и не позволю ему это сделать. Конечно, минут пятнадцать я отпущу ему на осмысление ситуации, страх и терзания совести. Я объясню ему, как могу, что это не грех, но он будет дрожать все равно, и тогда мне придется торопливо, с досадой произносить, что грех я беру на себя. И тут я увижу, какой он слабый и потный, и мне захочется сделать это еще скорее.
— Да что ты, как каменная…
Я вытащу из-под ящика канистру с бензином. Медленно оболью стены, дверь, его мантию в блестках и остатки выхлестну на пол. Он не посмеет приблизиться ко мне под гипнозом своего несчастья. Я вытащу сигарету и попрошу закурить. Музыкальными пальцами он машинально откроет коробок, вдруг судорожно сомнет и вышвырнет его в форточку. Рванется к противоположной стене и щелкнет выключателем. Сквозь окно, над концертной мантией в блестках, заклубится дым безжизненной лунной ночи и сразу разбавит потемки. Мы будем стоять в столбе слепого обморочного света. Дура, скажет зло. И мне захочется, чтобы это произошло сразу.
— А много у тебя было…
— Повторялись даже фамилии.
Я чиркну своей спичкой, но она сломается. Дура, повторит почти беззвучно, словно звуком страшась воспламенить бензин. Потом он отойдет в сторону и будет стоять не шевелясь. Он знает, отними он у меня этот огонь, я добуду новый. Послушай, не будь дураком, я вовсе не хочу твоей гибели. Напротив, если мы оба взлетим на воздух, это разрушит стройность, а значит, суть моего плана. Но, если ты посмеешь сопротивляться, я уже не отступлюсь, ты, наверное, понял.
Я выбрала тебя сама. Я дала тебе имя, которое еще не встречала, потому что это имя моей смерти. Сердце мое — цирковой зверь: если надо, может скакать сквозь огонь, а может и в барабан бить. Оно очень дрессированное, мое сердце, и оно износилось от дрессировки. И вот я могу сейчас полюбить твои прокуренные зубы, а потом исходить омерзением — а могу возненавидеть сейчас, а полюбить потом. А могу не любить никогда — ты слышишь, как это страшно? Нет, я, конечно, полюблю, сначала или потом, но ведь ты все равно — ах, почему ты всегда такой ничтожный, слабый и глупый! — только пешка разъединяющих сил. Зато сейчас, здесь, моей рукой, ты сделаешь единственно верный и значимый в своей жизни ход. Ты, собственно говоря, уже обречен на избранничество. Ну?.. Немножко милосердия.
— Ты как мертвая… Да скажи ты хоть слово! — слово…
Сейчас, сейчас. Я вытащу третью спичку и, занеся ее над ребром коробка, успею сказать самое главное.
Теперь ближе тебя у меня никого не будет. И у тебя — ближе меня — надеюсь, тоже. Ты мой. Ты мой единственный, вот оно, слово. Ты потом подумаешь, что это значит, ладно? — сейчас у нас уже нет времени. Ну?.. Вперед.
…Вот он идет на меня, слабый, потный: в дрожащих его руках ритмично и бледно сверкает нож. Я с любопытством рассматриваю его. Он уже не видит, что я убрала спичку. Он так и не узнает, что у меня не хватило бы сил ее зажечь. И он не поймет, что сейчас, здесь, он одним ударом воссоединит то, что так смутно и бесцельно рассеяно в этих долгих, долгих сумерках. Я люблю тебя, Абрагам.
Декабрь, 1989 г.
Магистральный блюз
Он подошел в электричке. Когда стало безлюдно, мы сели. «Поедем ко мне», — сказал — и взял с моих колен сумку. За окном мерно чередовались пустынные осенние поля. Черная до горизонта, медленно разворачивалась земля.
Мы пересели в обратную электричку. Казалось, она едет быстрей. Мы стояли в тамбуре. Потом выпрыгнули на платформу и опять сели в вагон, потом в автобус. Потом он сказал: «Быстрей!» — и мы сели в другой автобус. Вслед за тем он долго ловил машину на сумеречном шоссе.
Мы приехали ночью. Было темно. Я спотыкалась: как спотыкалась бы ночью в любом другом месте земли. «Ты ехала в театр…» — сказал он сочувственно, и ночью это было, как нежность.
Я молчала. Мы шли долго, потом углубились в лес, и он развел костер. У него было легкое, очень стройное тело, крылатые волосы, синие глаза. Ему подошли бы красивые имена.
Потом был дом и еще более глухая ночь. И в гибельной этой ночи, когда он разрушал меня своей страшной ночной властью, я уже знала, что самая сильная радость прорвется во мне не сейчас.
Чуть рассвело, я оглядела его. Он был красив. Он спал. Можно было убить его, можно было предать, а можно было не трогать вовсе, и это тоже был путь моего выбора. Он спал. Он был беззащитен и незряч перед неизбежностью моей мысли.
Я вспомнила, как давно, в очень раннем детстве, я встала однажды на осенней заре. Родители, перед работой, были на кухне, а я, в ночной рубашке, босиком, таилась и мерзла в темной комнате за платяным шкафом. Там, дрожа, я съела припасенный заранее хлеб и запила его сырым, без соли, яйцом. Я сделала это самостоятельно, своевольно, и меня трясло.
Я вскочила легко, бесшумно и быстро. Он спал. Дрожа, я подкралась к разбросанным вещам. Его вещи были так же беззащитны, как он. Острые пузырьки свободы поднимались во мне, проступали мурашками, трясли челюсти, заставляя зло позванивать зубы. Стряхивая со стоп сор, я влезла в холодную свою одежду, и она мгновенно стала моей, мной и так же свободна, как я.
Я отворила дверь. Он спал. Я вышла за порог и снова зашла. Он был даже слишком беззащитен. Он спал, и я могла бы осуществить свое решение многократно.
Я вышла.
Незнакомый осенний сад лежал передо мной. Он был мне никто, этот сад, потому что я не принадлежала ему.
На шоссе я остановила машину. Я засыпала и просыпалась, и снова засыпала. Проснувшись, всякий раз я наслаждалась упругой и сильной, певучей струной скорости. Я снова спала. Это была очень долгая дорога. Я просыпалась. Меня мчало, захлестывая свободой. Я думала, что пока я спала, может быть, я уже разбилась вдребезги на этой дороге, и теперь, я, другая, несусь дальше в другой, изолированной от прежней, жизни, и так было многократно.
А он, неопознанный, брошен мною в нашем раздельном сне, обезличенный, обращенный в тень сновидения, в предмет другого, прошлого, навсегда старого пространства.
Быстрей, быстрей!
Я хмелею от гибельного пения скорости.
«Куда?» — спрашивает шофер. Но я не знаю дороги. «Откуда?» — но я не знаю имени места, где была так счастлива.
Декабрь, 1989 г.
Вираж
Обнявшись, они неподвижны в пространстве раскаленной плоскости. Голая пустота неба над ними, обрушиваясь, растворяет прошлые и будущие жизни. Не дури, почему тебя тянет заниматься этим на самом краю, все там будем, лучше позже; а может, мы уже там и есть, — посмеивается она, — может, мы на той сковородке. Красная крыша режет глаза и тело; а ты гляди вверх, — шепчет она, — в другой раз я принесу голубое шелковое покрывало, мы перепутаем верх, низ, улетим, не заметим. Тебя так и тянет сорваться, — цедит он, закуривая, — чего проще? Дай мне! — капризничает она. — Да не то! — хохочет. — Сигарету. — Затягивается, кашляет, плюется, подбегает нагая к самому краю: — Эх, как же она пульсирует! — протягивает вперед руки, перебирает синюю пустоту меленькими пальцами. Кто? — расслабленно спрашивает он. Кто? — очень серьезно переспрашивает она, подбегая вприпрыжку. — Вот кто, — садится на корточки, — да вот же! — она плашмя бросает свое маленькое твердое тело, прохладные руки обвивают его торс, и снова они сгорают на красной крыше, раздирая друг друга от жалости, ненависти, невозможности прорваться за предел отмеренного. Ого, ребята, — свешивает голову пролетающий на вертолете парень, — ого! Пропеллер с треском разрывает синюю плоть неба, это совсем не страшно; смеясь, парень показывает им: браво! Разорви меня к черту, — шепчет она, кусая руки, — совсем разорви, ну еще, ну рви, ну рви, ну еще, ну, в клочья, все, нокдаун.
Летчик сказал (он снова закуривает): твоя девочка что надо, она так ловко вспарывает криком небесное брюхо, и мне нравится, как она распевает свои дурацкие песенки. Ты думаешь, он именно это сказал? — она тычется губами и носом ему в шею. — А по-моему, он сказал: любите друг друга, ребята, у вас это хорошо получается, Бог вам в помощь, радиационный фон сегодня тринадцать микрорентген в час. А еще летчик спросил, — говорит он, поглаживая ее влажные бедра, — что это вы пристрастились заниматься любовью на крыше стошестнадцатиэтажного дома? Из-за вас я каждый раз теряю управление. А ты ему скажи, — послушно откликается она, — моя детка хочет делать это так, чтобы видеть только меня и небо. И что? ей это удается? — снова закуривает он. Ни черта! — она опять пробует затянуться, кашляет. — Потому что мой любимый слишком ленив, это он, а не я лежит на спинке, пока я его развлекаю и вижу эти дурацкие антенны: в глазах рябит!
Между прочим, мне пора, — говорит он. — Где мои брюки? Ч-черт! — он достает их, смятые, из-под надувного матраса. — Очки где? — Сейчас он пойдет к лестнице запасного выхода. — Ну не реви. — Я не реву. — Вот и не реви. — Просто я знаю, что тебя никогда больше не будет. — Все, я пошел, — говорит он и идет к лестнице запасного выхода. На ходу роняет и подбирает деньги: — Ч-черт! — Исчезает.
Она легко подходит к краю, не останавливаясь, делает шаг в пустоту, срывается, пытаясь обогнать свою тень на стене.
Вот стерва! — думает он. Пока он садился в лифт, она, конечно же, сиганула с крыши, а когда он спустится, она уже будет лежать неподвижно, и ему придется высоко поднимать ноги, чтобы переступить через ее нагое тело.
Он открывает дверь подъезда, обреченно задирая ногу.
Асфальт пуст.
Он опускает ногу, задирает голову.
В пустоте между раскаленной крышей и жадной землей замер вертолет, и над ним, приоткрыв от восторга и любопытства рот (это видно даже издалека), позабыв все на свете, зависла она, — протягивая маленький наглый палец, желая во что бы то ни стало потрогать ревущий пропеллер.
Май, 1992
Рейс
В черных очках я оставалась вплоть до паспортного контроля. С волосами, я надеялась, будет проще: если пограничника и насторожит несоответствие цвета, я сошлюсь на дурное качество снимка, а если это объяснение не поможет, я, конечно, признаюсь, что на мне парик, но не сниму — только чуть сдвину его на затылок, чтобы предъявить свои темные волосы.
Если бы предусмотреть заранее, я взяла бы с собой три чемодана, — возможно, у таможенников сработал бы казенный рефлекс почтения, и все, глядишь, обошлось, — а так, сообразив, что у меня из вещей всего лишь сумочка, они молча принялись ее потрошить: вывалилась пудреница, плоская коробка с театральным гримом, флакон с жидкостью для снятия макияжа, помада в пластмассовых патронах… Это все? — спросил таможенник уже разогретый злобой, поскольку обстоятельства требовали от него дополнительных усилий, похоже, умственных. Я ответила, что все, и тогда он сказал: не делайте, пожалуйста, из нас дураков, — и я объяснила, почему мне ничего больше не надо, но он, уже заведенный, с особой душевностью произнес: не делайте, я повторяю, из нас дураков, — и принялся развинчивать каждый патрон, и нюхал помаду, и злился, — а самолет отбывал через тридцать пять минут, а еще не был пройден паспортный контроль, и я поторопила официальное лицо, оно позвало своего шефа, и тот сказал: Вам не следует делать из нас дураков, будем держать до выяснения; вопросы, ответы, междометия, вскрики, — экзекуция затягивалась, до отлета оставалось пятнадцать минут, — и я заорала: ну гады же, гады! — и заплакала освобожденно, — было уже безразлично, что слезы смывают густую пудру с ресниц и щек, что они разрушают мой тщательно обесцвеченный образ, белесую маску, трясущимися руками только что подновленную в туалете аэропорта, под землей, среди хирургического кафеля, зеркал и могильного холода, я уже знала, что все пропало, все кончено, — и мне стало зловеще легко, как на деревянной качели, взлетающей над оврагом, когда сердце чуть позади тела — или чуть впереди него, но напрочь с ним не совпадает, — я поняла, что сейчас придушу этих двоих, как мышей, я даже рассмеялась простоте выхода, — но что-то случилось наверху, я ничего не поняла, и опять ничего, и поняла не так, и уже боялась понять правильно, и наконец поняла: наш вылет задерживался на два часа.
Разум возвращался ко мне толчками, неравномерно: сначала я заметила, что таможенники отошли, потом увидела, что они занимаются другим пассажиром, потом ощутила свои руки, вцепившиеся в сумочку, — и наконец восстановилось изображение картины, которая живет во мне годы:
я сталкиваюсь с тобой, лицом к лицу, в этом безустанно грохочущем Вавилоне, — уже после окончательного разрыва, после глухой разлуки, — по существу, после жизни, прожитой зря, точнее было бы сказать, нас сталкивает, — уже после того, как я смирилась с пожизненной параллельностью наших существований, с нереальностью их пересеченья в эвклидовом заточенье Земли, — и вот, после всего этого, наперекор здравому смыслу, научной логике, вопреки правде жизни, — и вообще, поправ теорию вероятности, — мы ненароком взламываем хрупкое устройство здешней геометрии, — была в нем, видно, тонкая закраина, — и, оступясь куда-то вверх, взлетаем в запредельный просвет, где, увидев тебя, я ничуть не удивляюсь, даже не вздрагиваю, — на протяжении всех этих пустых нежилых лет ты наотмашь, без отдыха, ежедневно обжигал мое сердце, — мелькал в толпе твой затылок, кто-то твоим жестом поправлял на плече сумку, некто выныривал из подворотни, чтобы навсегда уйти от меня твоей мальчишеской походкой, зарвавшиеся озорники с беззаботной жестокостью тщились подменить тебя здесь и там, я видела в толпе твой подбородок, почти твою спину, ты вздергивал плечи, еще издалека я различала твой наклон головы, велосипедист — Боже мой! — так спешно провозил твои брови, подставные лица с детской простотой повторяли твою интонацию, ты опускал глаза, ты усмехался, ты протягивал руку за газетой, иногда оборотни были обтянуты твоей кожей, снаружи у них были твои скулы и даже — дьявольская сочетанность черт! — твой нос, все прочее им вмонтировали от других существ, если б ты знал, как это жутко, — но я приноровилась видеть лишь то, что неоспоримо принадлежало тебе, я выучилась влиять на независимое отделение твоих черт и скорость их прорастания, я без устали шлифовала этот навык, — более того, я выпестовала в себе умение длить и длить это единоличное блаженство, — но, когда порой ты, в джинсах и куртке, курил на перекрестке возле моего дома, оглушая меня грозным, неизъяснимым, присущим только тебе соотношением губ и руки, — я уже не успевала отвернуться раньше, чем чудовище, укравшее у тебя жест, точнее, одолжившее неизвестно зачем, — уже тупо предъявляло мне свое страшное несходство, так и не узнав, что я заведомо простила ему расхождение и готова заплатить чем угодно за еще один дубль, — торопясь, я продолжала мысленно повторять свое бессильное заклятье, а фантом уже сплевывал окурок и растворялся в перспективе улицы, — но теперь ты, именно ты, — ах, истинный Бог, ты, ты, — ты, собственной персоной, приближаешься ко мне, совпадая с собой все резче, все гибельней, — оказывается, цветет яркий июньский день, самое начало лета, ты одет в светлый костюм, — тот, что был на тебе, когда мы поженились, — о чудо, он выглядит почти новым, — мелькает мысль, может, мы вечны, но не отвлекает, мелькает, может, ты идешь снова жениться на ком-то, испаряется, — ты идешь мне навстречу, — нет, ты только подумай: какова была вероятность нашего пересечения в этом неисчислимом ошпаренном муравейнике, где не жил ты, не жила я? какова была возможность нашего столкновения в населенном пункте, где мы, отдельно друг от друга, бывали только проездом? каковы были шансы нашей встречи именно здесь, на самой окраине многовокзального торжища, в заброшенном месте, не представляющем ни делового, ни торгового, ни экскурсионного интереса, где, кстати сказать, ни ты, ни я не бывали до того ни разу? и наконец: какова была надежность гарантии, да и была ли такая гарантия вообще, что мы с тобой сохранимся живы, что не вылетит винтик из самолета, не сойдет с рельсов поезд, что побежав догонять шляпу, ты не будешь сбит насмерть машиной, что, наконец, нас минуют чума, мороз, шлагбаум, что не сотрется в пыль сердце от напрасного бега? а вот же, и мы, и мир оказываемся еще живы, и еще сколько угодно жизни есть в запасе, — и вот я еду себе как ни в чем не бывало в метро — и ошибаюсь станцией, а ты, как выясняется, по обыкновению просыпаешь свою, — и я, вместо того чтобы повернуть назад, не знаю почему, поднимаюсь к выходу и бреду куда глаза глядят, а ты тоже выходишь на свет и шагаешь себе, глядя в небо (как всегда), — и, может быть, я еще некоторое время иду безо всякой дороги, — когда в точке пространства, где одичалый гастроном соседствует с перелеском, как раз за ларьком, где кусты плодоносят пустыми бутылками, — я вижу тебя: ты идешь мне навстречу как ни в чем не бывало под небом моего детства, — и одновременно ты идешь по небу, — небо везде, — ты идешь, освещенный солнцем, — подумай, какова была вероятность, чтобы я шла бесцельно, одна, почему-то нарядная, словно на именины красавицы в ее заросшую сиренью усадьбу, — какова была вероятность, чтоб и ты шел один, — каковы были у нас шансы, чтобы у тебя была с собой целая сумка вина, — чтоб у меня была в запасе целая вечность, — и, знаешь, не сводя с тебя глаз, я вдруг поняла, что шансов у нас было как раз невероятно много, потому что совпадения — это, видимо, рифмы на Божьих скрижалях, а Создатель, судя по всему, любит стройные тексты, — так что я с силой хватаю тебя за плечо, и ты не исчезаешь, — ты хватаешь меня за руку, и я не просыпаюсь, — ты больно хватаешь, а я не просыпаюсь, — в голубом океане медленно поводят плавниками молодые ели, нежно струятся светло-зеленые водоросли, чего-то там шепелявят, играя на травке, новорожденные кусты, — лето, благословенное русское лето с ясной улыбкой распахивает сказочные свои терема, — и я чувствую такую прочность мира, такую несокрушимость, а может быть, благодать, — что хочется немедленно взлезть на самое острие телебашни — да и сигануть башкой в банно-прачечные облака, а лучше мчаться (отстреливаясь) по скользкой крыше курьерского поезда (волосы, ветер, надсадный визг паровоза), а лучше всего отплясывать чарльстон на крыле горящего аэроплана, под золотой фейерверк и канонаду духового оркестра, взрывающего сердца, как цирковые шары (а ты бы поправил очки и улыбнулся), — а покуда мы садимся с тобой под грибок на детской площадке, — и уже через пятнадцать минут молодые мамаши хотят сдать нас в милицию, потому что мы очень целуемся на глазах у малышей с ведерками и, обливаясь красным, пьем из горлышка, — и тогда мы пересаживаемся в какой-то ржавый, поросший травой автобус, а он вдруг заводится и везет нас неизвестно куда, совсем прочь из города, — ты замолкаешь, ты это умеешь, веселье слетает с тебя в один миг, — беззвучный автобус идет плавно, словно плывет, словно парит, — а за окном — у окна, грустный, сидишь ты, — за окном — до самых небес — расстилаются ласковые поля юного лета, — июнь густо заткал их маленькими мягкими золотыми цветами, — живые глотком дождевой влаги, цветы улыбаются так, будто не было зимы, не будет осени, как будто здесь они ждут нас всегда, — но мы сначала еще не родились, потом еще не встретились (а только сильно тосковали друг по другу, — и я до тебя обозналась бессчетное число раз, и ты до меня тоже), — поля, по-прежнему отдельно от нас, цвели безмятежно тогда, во время нашей краткой и страшной земной связи, — они так же безмятежно и щедро цвели, когда ты ушел, — и вот они продолжают цвести с таким таинственным терпеливым постоянством, что я понимаю: это солнце проливается через края и плещет внизу, — небо повсюду, потому что рядом ты, и я чувствую это особенно сильно сейчас, стоя в очереди на паспортный контроль.
Я быстро продвигаюсь к началу этой опасной очереди. Надо сосредоточиться. Необходимо примерить, заучить и отрепетировать подходящее лицо — к моменту, когда подойдет черед протянуть паспорт. Я судорожно перебираю ситуации, способные придать моему лицу выражение несуетной сосредоточенности. Идеально зрелище собственных похорон, это дисциплинирует, — как раз настолько, чтобы немного размыть запекшуюся в глазах тревогу, эту опаснейшую против меня улику, — и, слава Богу, не настолько это трагично, чтобы, вконец перекосив лицо, сделать его сверхподозрительным. Важней всего кое-как закрепить это благоприятное (смотрюсь в зеркальце) выражение и донести его до чиновника в сохранности. Чиновник нырнет в мой паспорт — вынырнет — и с привычной гримасой тяжелого отчуждения приостановит меня сквозь цейсовские очки. Я, свои черные очки уже сняв (дабы не пробуждать в нем рискованной инициативы), буду, допустим, покусывать пластмассовую дужку, — авось нервозность сойдет за рассеянность и беззаботность.
Он мгновенно сделает профессионально точный оттиск моих глаз: зрак в зрак.
На миг мы станем отчетливо двухвалентны.
Готово.
Возможно, затем он снова опустит глаза в мои бумаги — и снова вскинет их, придерживая пальцем какое-то слово. Но синие декоративные линзы по-прежнему будут скрывать темную сущность моих глаз. И я уже знаю: остановить меня не удастся никому, я вырвусь, я выкручусь, я что-то придумаю.
Ты, на протяжении всего этого времени, стоишь возле валютного магазинчика «Duty free». Насилу сдерживаясь, чтобы не повернуться, я цепко фиксирую боковым зрением живое сиянье, твои волосы цвета русских степных ковылей. Ты стоишь, словно бы вдалеке — и все-таки катастрофически близко, настолько, что я уже боюсь, ты вот-вот уловишь это особое, выдающее меня с головой излученье тревоги, от которого дрожат стены аэропорта. Ты не можешь не узнать это излученье, — его не скрыть ни париком, ни гримом, ни очками, не замаскировать, не спрятать, его можно только немного унять, — успокойся, велю я себе, — слышишь, успокойся, не то рухнет весь замысел, успокойся, ну! Щадя сердце, медленно, очень медленно, я ползу зрачком к твоим ногам, замираю на миг у кроссовок, — затем, щурясь, то и дело моргая (как бы не глядя, не в счет), карабкаюсь по отвесным склонам твоих джинсов, по джемперу цвета речного песка… твоя мальчишеская сутулость! твой профиль ученого грача! Я жадно смотрю на тебя в упор. (Слава Богу, ты, как всегда, читаешь.) Дразня опасное, мысленно прошу тебя: посмотри — нет, не сейчас, только не сейчас! Я снова отворачиваюсь, хотя ты продолжаешь читать. Но я чувствую тебя спиной — куда мне укрыться от жалящего твоего присутствия! Я вижу: ты разглядываешь красное электронное табло (ты ужасно любишь все, что пульсирует, скачет, сверкает, подмигивает) и опять возвращаешь глаза в книгу, причем тоже отворачиваешься. Знаешь, это напоминает дурной с натяжками водевиль, комичность которого заключается как бы в том, что главные персонажи, стоя друг к другу спиной, ищут друг друга всю жизнь.
Красивое преувеличение! Ты и не думал искать меня, а я нашла тебя все равно. Сейчас мы снова стоим лицом друг к другу, и я смотрю на тебя открыто. Ты продолжаешь читать. И, возможно, ты читаешь о том, как некий мужчина читает книгу в зале международного аэропорта, а за ним следит загримированная женщина, — а читает мужчина про то, как в зале международного аэропорта мужчина читает книгу, а за ним следит загримированная женщина, — ты очень любишь эти латиноамериканские штучки, но не замечаешь при этом, что зеркальная анфилада бесконечна на обе стороны строки, — взгляни на меня, нет, не надо!
Читай. Ты устроен именно так: лежа на берегу моря, взахлеб рассуждаешь о французской живописи начала века, моря перед носом не видя, помня о нем только через чужие картинки, — зато сидя в четырех стенах, когда море уже не заслоняет собой себя, ты чувствуешь его во всем планетарном объеме, — и весь морской мир пронизан твоими словами, — стихии всех морю соприродных миров освоены, заселены и обжиты именно тобой, — ты, как Бог, даешь имя всему, что живет внутри и снаружи моего сердца, — право первородства принадлежит тебе, — я называю мир твоими словами.
И вот сейчас именно ты не чувствуешь моего присутствия. Разве не странно? Да, это входит в мои планы. Но все же: неужели какой-то парик, пудра, очки — способны скрыть камнепроломную силу моего к тебе пожизненного притяжения?
А знаешь, даже если б ты сделал пластическую операцию, я бы узнала тебя. Я бы узнала тебя, даже если б ты изменил свой рост, запах, голос, — даже если б ты, заметая следы, изменил свою расу (зачернил кожу), — даже если б ты, чтобы уж наверняка сбить меня с толку, подмешал к себе что-нибудь и от желтой расы — тоненькую бороденку, под стать ей косичку, неотвязное желание писать танки и есть палочками пресный вареный рис… Когда ты оставишь оболочку человека, мне только легче будет узнать тебя. Безверье Фомы в сравненье с моим — расхожее требование зримых и осязательных доказательств, — тем не менее существует одно, во что я верую непрестанно: я угадаю тебя и на небе, — и там, несомненно, острей.
Мы не виделись девять лет, две войны по российскому летосчислению.
При взгляде с Земли твоя частная жизнь, как оборотная сторона Луны, скрыта от меня навсегда. Можно сделать однократный блиц-снимок, но увы, это все.
Что можно различить, глядя на этот снимок?
Ты живешь в городе, где снег всех цветов, кроме белого. А в городе, где живу я, — точнее, за окном моей комнаты, в узком, как пробирка, просвете тяжких лиловых штор, оседают по ночам в красивой химической реакции белые хлопья. Они белы, как эталон белого цвета для образцово-показательной зимней белизны, они даже чуть избыточно белоснежны. Ты мог бы поставить столбик чистого снега на свой письменный стол — или подвесить его к потолку, — но мне отказано подарить тебе снег.
Ты живешь далеко. Иногда я откладываю на глобусе расстояние от меня до тебя на все стороны света. На севере я упираюсь в точку арктического полюса (это трудно представить), в самую что ни на есть земную макушку, — на юге меня бросает в жар на берегах священных Нила, точнее, я попадаю в излучину Нила, к развалинам старинного города Фивы, что напротив города Луксор в Аравийской пустыне, — на западе я приземляюсь в распластанной, словно ластовица, голубой Гренландии, в городке Ангмагсалик, — мысленно отмеряя это же расстояние в глубь Земли, я приближаюсь к ее юному страшному ядру, — но зато вверх это значительно ближе, чем до Луны.
Мне часто снится ночь, поезд, я спрыгиваю на ходу, быстро иду по шпалам, рельсы разбегаются, как черные вены, и вот я вижу себя в густой металлической дельте, горизонт перекрыт цистернами, товарняками, маневровыми паровозами, — все говорит о приближении города, — я знаю, это твой город, я уже собираюсь (это невероятно) в него войти, но какая-то учительница, похожая на палку с пугающе правильной дикцией, разъясняет мне, что я поступаю сугубо неправильно. И я почему-то соглашаюсь.
Ты живешь на востоке. Всякий раз, замечая время, я мысленно прибавляю столько-то, получая, сколько там у тебя. Я представляю, хотя бы смутно, чем ты сейчас можешь быть занят, и мне достаточно этого скупого знания, чтобы ощущать постоянство слияния с твоим существом.
Сквозь стекло, не приближаясь к окну, гляжу я на Солнце. По стеклу ползает муха, — она елозит брюшком прямо по золотым губам Солнца, — но разве она обладает Солнцем больше, чем я? Обладать тобой полней невозможно. Я не перестаю удивляться моему могуществу, — и тому, что — как все самое главное в жизни — оно дано даром.
Да ты понимаешь ли, какое непостижимое для меня везенье — встретиться с тобой именно в этой галактике, совпасть — точь-в-точь — в этом тысячелетии! Разминовенье на несколько часов в пределах одного космического тела — можно ли Бога гневить!
Да, всякий час мы обратны друг другу — именно это дарит мне радость рифмованного времени, жизнь в удвоенном сердцебиении нерасторжимых любовных объятий.
Солнце и Луна обречены к невстрече, но невстреча и есть жесточайшая связь.
Я совпала с тобой — еще до рожденья — и в ритме. Вся музыка мира играет для нас, о нас, в нас — нам ли не танцевать вместе!
Нет. Вполне бегло, без нот, я помню все части этих инструментальных сочинений. Как там? — оживленье, раздраженье, отвращенье, или — умильность, усталость, угрюмость, или так, без перехода, — нежность, ненависть — да ты и сам знаешь назубок эти пиесы (аллегро кон брио), где, сколь ни меняй пластинку, финал одинаков: хрип, треск, сухое шипенье граммофонной иглы. Сердце гибнет в скачке за настроениями, в этом беге взагон, — сердце с каждым ударом забивается в землю, все глубже в землю, где горлом будет земля, улыбка размажется в глине, — там, во тьме, сердце не имеет привилегий, — помнишь девчонку на раскопках некрополя? помнишь, как зачерпнула она горсть из грудной клетки первых отрытых останков? помнишь, как, не поверив, сказала: здесь было сердце? И повторила: это все, что осталось от сердца?
Но мы полетим. Мы воспарим к небесам в плотно задраенной металлической капсуле: этакий экспонат материализованного слияния душ в их естественной среде обитания.
Ты думаешь, размежевался со мной меридианами, отгородился горизонтом? Ты небось вообразил, что можно так запросто выйти из моего состава!
А разве хоть что-нибудь в нашей воле? К примеру, разве я сама прибавляю часы к часам? Мое сердце, запущенное на автоматический режим, самостоятельно корректирует разницу. Так что всякий раз, когда я вижу циферблат, или время объявят по радио, или мелькнет обычный уличный вопрос, или за окном, со дна двора, в полной тишине внезапно и отчетливо спросят: который час? — и ответом будет таинственное: седьмой (и почувствуешь себя единоличным зрителем всемирного действа), — или даже когда время долго не называется вслух, и оно безмолвствует в усыпившей себя крови, — а все равно вынырнет, чтобы напомнить о неизбежной плате за зрение, слух, работу сердца, — во все такие мгновения, где бы я ни была, чем бы ни заполняла жизнь, — это интимное арифметическое сложение производится во мне непроизвольно и четко, можно сказать, рефлекторно: так поскользнувшийся мгновенно — до мысли — вскидывает руки.
И кое-как сохраняет равновесие.
Возможно, это сравнение покажется тебе отвлеченным. Возможно, мой скромный сакральный ритуал ты все равно расценишь как беззаконное вторжение в твою жизнь. И потом, — скажешь ты, — к чему эти иносказания?
К тому, — скажу я, — что у тебя нет времени меня слушать. Раньше было, теперь нет, это ведь так естественно. Поэтому я вынуждена говорить много, — ты приговорил меня наполнять бочку без дна: говорить.
Если бы можно было обольстить диспетчера местных расписаний — обморочить, подмазать — выкрасть время из прошлого, — я отдала бы его старухе, пропахшей подполом и грибницей, — в обмен на заговоренный флакон. Ты выпил бы из него, уснул, а проснувшись, уже не помнил бы, что успел разлюбить меня раньше: частичная ретроградная амнезия, ничего опасного для твоей жизни. Но старуха, получив от меня время, отдалилась бы от могилы не насовсем, а только на время, и, в соответствии с обменом, ты забыл бы тоже не насовсем.
Насовсем невозможно, а на сколько позволено? Если подойти трезво, сколько удалось бы украсть? Пять минут? Но эта величина неопределенная, как «стакан чая». Может быть, полчаса? (Ох, нормативные полчаса в русской классической литературе! Тебя не озадачивает эта, как по сговору, жестко закрепленная дозировка интимных воздаяний? Густое отточие — и «Когда через полчаса все было кончено…» Словно текст из уголовного дела, где двойное самоубийство любовников иллюстрировано фотографией трупов и подписью: Omnia animal post coitus terstia est.) Нет, эти все кончающие полчаса с их подспудным несмываемым постельным клеймом мне выкрадывать неохота.
Я, пожалуй, нарву тайно букет минут-незабудок на скромном нашем лугу, — ведь были же мы иногда счастливы бездумным счастьем цветов, — я нарву этих минут по кромке луга, — там это будет почти незаметно, там не убудет, а здесь, из обрывков, я, может, сплету цветочный коврик, я буду согреваться им в лютую ночь, я укроюсь…
Ерунда. Я не сплю по ночам.
По ночам мы не спим вместе. Это не значит, что мы спим врозь. Это значит только именно то, что по ночам мы действуем совместно, даже коллегиально: не спим.
У меня полночь, у тебя утро.
Я не ложусь, ты не ложился.
Как сладостно думать, что ты еще долго не ляжешь — как раз все то время, что не лягу я!
Мы не спим вместе.
Я вижу тебя за твоим письменным столом.
Я чувствую запах пасты в твоей шариковой ручке.
Я даже позволяю себе вообразить, что и ты, может быть, думаешь иногда о моем одновременном с тобой бдении.
Сообща мы разбойничаем в райских садах.
Все спящее отдает нам безропотно и задаром свои драгоценные сны.
А все, что не спит, яростно сопротивляется и ускользает.
След в след мы идем горячей тропой охоты.
О, не спать вместе — это куда серьезней, чем вместе спать.
Это страшней.
Мне виден твой затылок: в свете настольной лампы волосы мерцают, как песок на плоском лапландском взморье (где — помнишь Финский залив — ты сказал: мы с тобой лежим, по сути, на берегу Атлантики…).
Ты за линзами сильных очков: почетный кавалер бессонницы, аргонавт, астронавт, огнепоклонник-шаман — пожизненный данник стихий.
Я гляжу в твой затылок, и балтийские воды начинают капать из моих глаз.
Тогда я хватаю бумагу и принимаюсь быстро-быстро рисовать — битвы Римской империи, будни средневековой инквизиции, — льется карминная кровь, дымит черным смрадом крупно нарубленная, очень неприглядная человечина, на периферии картины автора пытают каленым железом — о, это больновато, — балтийская вода уже вовсю хлещет из темных пробоин, я иду ко дну, — милый мой, какое благодеяние Вы для меня сделали, — и там, на чугунной глубине, вся тяжесть Атлантики, навалясь, расплющивает меня заживо, — рвутся, лопаясь, капилляры, больно, слава Богу, отчаянно больно! Это — чтобы не рубить себе палец, руку, голову.
Если бы я заранее знала, что ты приснишься мне этой ночью, я бы легла не в четыре, а, по крайней мере, в час.
Ты близко — за деревом, за углом, за стеной, за дверью. Ты вот-вот появишься. И ты появляешься! Или я вхожу туда, где (я чувствую точно) ты уже есть. Иногда мне так и не удается увидеть тебя, и все же реальность твоего близкого присутствия сияет мне из глубин сна, промытая проточной водой от ила, песка и слизи будней, — она так ослепительна, что, еще не до конца проснувшись, я шалею от этого неколебимого, словно введенного в регламент каждого сна, счастья. Возможно, в каждом сне я не только чувствую, но обязательно вижу тебя, просто я не всегда помню об этом, как не могу помнить все свои прежние жизни с тобой.
Кто дал право человеку будить человека?
Все настоящее происходит во сне.
Проснувшись, я долго не могу определить час. Одно лишь я помню: что бы ни случилось, Солнце, отработав положенную часть суток на тебя, летит ко мне, а от меня полетит к тебе, мы играем в мяч (это разрешено), — на моем закате я праздную твой восход, на твоем закате пытаюсь уснуть, и, знаешь, я как-то спокойно отношусь к тому, что мне будет столько-то лет, и столько, и столько, но мне невыносимо думать, что столько же может стукнуть тебе. Я хочу, чтобы и после моей смерти ты всегда оставался таким, как я вижу тебя сейчас, — а если истина живет сама по себе на ледяных вершинах, не снисходя до чувства, то пусть рухнут эти вершины и небо в придачу.
Оно нелетно сейчас, это небо, по-прежнему не пускает в свою легкую твердь. Ты в нетерпении поглядываешь на табло — наше общее табло, — а я не перестаю удивляться, что мы наконец совместились в точке времени, мы уже окончательно современники, — а что до пространства (я вдыхаю сейчас воздух твоих легких, я жадно соединяю его со своей кровью), то оно в течение нескольких дней неукоснительно сокращалось, — мы отправились, как в школьной задачке, навстречу друг другу, из пункта А и пункта Б в общий пункт М с суммарной скоростью поездов, видимо, 240 км/час, причем в моем случае — задачка повышенной сложности — время вело себя милосердно лишь вначале, то есть не противоречило своей изученной природе: день и ночь — сутки прочь, прикорнешь — три часа долой, перекинешься с тобой словом — ночи как не бывало, его еще можно было без хлопот убить чаем с кроссвордом, — но ровно за два часа до прибытия в пункт М стрелка, обессилев, застряла.
Меж пунктом А и пунктом Б проходит жизнь внутри вагона, и дым выходит из трубы. А в Гаврииловой трубе басы фальшивят на полтона, кривя проекцию судьбы. Морзянку клацая стоп-краном, в такт со стаканом шестигранным, с похмелья проводник суров. И ничего нам не известно: ни час прибытия на место, ни расписанье катастроф.
Тем не менее, исполинская дорога — я изгрызла ее глазами — съежилась до размеров этого зала ожидания, — а еще через некоторое время, уже скоро, нашим общим жилищем станет салон самолета «ИЛ-62», уже вполне соразмерный с человеческим телом, единственно возможный общий наш дом, — даже очень уютный, маленький, — бесконечно малый, если уж на то, в сравнении с размахом хаоса за пределами ручного околоземного пространства — и в самих нас.
Ты стоишь совсем близко. Ты подошел, не заметив, что подошел ко мне.
Я вжимаюсь в стену за газетным киоском.
Ты стоишь так близко, что мне видны мельчайшие подробности твоей кисти.
Паспортный контроль позади. Чиновник пролистнул меня, не читая, — я просто думала о тебе, и все обошлось. Бог хранит меня, когда я думаю о тебе, а думаю я о тебе всегда.
Знаешь, какие со мной бывали случаи? Меня, например, в упор не видели контролеры, когда я шла между ними в недосягаемые для смертных чертоги. Меня не замечали милиционеры, преграждавшие путь к хлебу и зрелищам. Меня почему-то игнорировали часовые Кремля, когда я, вздора ради, лазала там везде, где нельзя. Насквозь пропахнув адюльтером, я медленно выныривала из супружеских спален, а законные жены прозрачно смотрели сквозь меня телевизор. Другие? — спросишь ты. — У тебя были потом другие? (Конечно, не спросишь. Если б ты был из тех, кто может такое спрашивать!)
Только другие и были, — скажу я. — О, насколько они все другие!
Бывало, я пописывала другим открыточки, — знаешь, такие, где нарастание восклицательных знаков как бы возмещает убывание искренности. В повседневности я без конца путала, кто из них любит чай покрепче, без сахара, кто послаще и не очень горячий, а кто пожиже («Я же тебе говорил!») и обязательно полный стакан. Когда другие, хлопнув дверью, уходили, я с наслажденьем зевала, — в шлепанцах не догнать, а башмаки обувать лень. Когда они возвращались (другие всегда возвращаются), меня дома уже не было. То есть я была, но их почему-то постигал приступ незрячести, — тот самый, что с хранителями порядка и женами. Поискав меня в самых невероятных местах, другие, плюнув, уходили надолго. Как я бывала тогда счастлива!
Вот теперь и ты, стоя на расстоянии вытянутой руки, не замечаешь меня. Попросту говоря, ты и не смотришь в мою сторону. Это входит в мой замысел. И все-таки согласись, странно, что ты с таким непритворным интересом разглядываешь обложки журналов, когда я стою слева от тебя, там, где сердце! И к лучшему. Воспользуюсь преимуществом незримой души.
Меня нет.
Я придаток зрачка, в злом азарте охоты спрессованный до бестелесности, — у! как я голодна! как жадно подстерегаю каждый твой жест, — я знаю их все (вот! ребром указательного пальца ты резко поправил очки), — я — бездомный глаз, подставленный голышом хлещущему потоку — о, как мощен этот напор в узком створе зрачка! — я, по сути, микроскопический кадр фотопленки, — бесконечной, как лента Мёбиуса, — хранимой в тайне и тьме, — мне принадлежит одна мгновенная вспышка света, но, прежде чем захлопнется шторка, в этот единственный световой миг, я зачем-то назначена уловить мириады слепых, бесцельных, безостановочных мельканий, которые мне не дано запомнить, снимки с которых мне все равно не узнать, — нет, я меньше, я и есть зрачок, — пробоина глаза, дыра, пустота, голое зрение, — отчего же я плачу, как человек, глядя сейчас на твои руки?
Я помню все их жесты. Я знаю все их гримасы, позы, оттенки выражений. В мире, где ничто не принадлежит никому, это — я смею надеяться — моя неколебимая единоличная собственность.
Ты протягиваешь продавцу бумажные деньги. Они всегда были так непрочны в твоих ладонях, как ноябрьская листва. Я наперечет знаю все рожицы и корчи твоих пальцев во время их вынужденного общения с деньгами. Я, случайное существо в цепи случайных существ, — я не понимаю, за какую такую доблесть перед лицом Господа я избрана видеть, как ты покупаешь газету?
Если бы руки твои мог разглядеть торговец, он сейчас же кинулся бы определять подлинность купюр: а не нарисованы ли эти знаки на фантиках от конфет? Ты кладешь деньги на прилавок так, словно играешь в магазин, но дети проделывают это куда серьезней, они вовсю стараются походить на взрослых, — впрочем, ты тоже. Безрезультатно: деньги в твоих руках мгновенно превращаются в клочок бумажки, — даже странно, что в обмен на этот клочок дают книгу, хлеб, самолетный билет, — ты протягиваешь руку с деньгами, словно пустую: не покупаешь, а просишь.
Ах, я бы надарила тебе горы всех этих престижных и гордых мужских игрушек, которыми курят, пьют, убивают, ласкают женщин, обучают собак и укрощают коней, покоряют моря, пустыни, скалы и гладко заасфальтированные дороги. Кому же еще все эти штучки как не тебе! Я завалила бы тебя пригоршнями безделушек, недешевых и редких, которые тем и хороши, что не применимы к пользе, — я притащила бы тебе всякой вкусной всячины, — и, конечно, красивых сверкающих вин, — все, какие ты выбрал бы сам, — чтобы ты мог пить их из рюмочек на тонких витых ножках. Шатаясь от счастья, с тобой в обнимку, я ввалилась бы в один из тех магазинов, где грохочет, крутясь, сумасшедшая музыка: покупайте! покупайте! покупайте! — где изливает благоуханье медовый свет: ах, господа, пожалуйста, покупайте!.. Я обвела бы всех медленным взглядом, заменяющим кольт. Я бы тихо сказала: «Всё. Беру всё. Заверните», — и меня услыхала бы даже маленькая статуя Артемиды, выполненная, судя по всему, из чистого золота, а может быть, покрытая золотой фольгой, но внутри — уж точно из чистого шоколада.
Однако я не хочу глядеть дальше это феерическое кино. Его финал мне известен, какими бы режиссерскими ухищрениями он ни был бы украшен.
Мне не унять твоей тоски. Ее можно лишь слегка усыпить, на очень короткое время, но она от природы дикая, — она всегда помнит, что она дикая и не будет иной. Твоя тоска питается сырой кровью.
Что, зажил ноготок? Ноготок-то хоть зажил? Вот этот, на большом пальце правой руки. Я забыла — и вспомнила: зажил?
Ты всегда первоклассно играл в бильярд, ты вообще обожал азартные игры, — помнишь, однажды ты ушиб этот палец кием, — проступил кровоподтек, сначала он чернел под белой ногтевой лункой, а ноготь рос, и черное пятно лезло вверх, и тогда я сказала: когда это пятно доберется до края ногтя, ты меня бросишь. Ты усмехнулся. Любовь-с-ноготок не входила тогда в твои планы. Но, видишь, планировать нам удается разве что длину ногтей, и то не всегда, — они ломаются, гнутся, — а чаще ломается человек.
Несчастье стряслось, оттого, что дни пошли на убыль. Ты уже привык спать, отвернувшись к стене, горестно отгородившись спиной, заведомо отторгая затылком мой взгляд, — даже зародыш взгляда под оболочкой испуганно сомкнутых век (как бы рано я ни проснулась — камень в груди просыпался раньше), — и твоя рука, как ни широка была постель (а она была широка, — потому что я, чувствуя перед тобой ответственность за погоду, за эти неисправимо пасмурные утра, — чувствуя перед тобой вину за все: за то, что есть на свете однолетние растения, а хуже, двулетние, которых еще жальче, потому что только они зацепятся как следует корнем, только дадут цвет, только они наладятся из земли, а уж пора в землю; за то, что у нас в доме завелась мышь, по столу бежала, яичко упало и разбилось, а есть и так нечего; за то, что очередной навуходоносор положил в пустыне сорок тысяч солдат, и так было всегда; что следом идущий навуходоносор уложит в пустыне следом идущих сорок тысяч, и семя их, перемешанное с кровью, бесцельно уйдет в холодный песок, и снова их вдовы, обреченные к бесплодью, будут рыдать и яростно мастурбировать по ночам, и так будет всегда; за то, что рано умер прекрасный русский прозаик Николай Гоголь, — что неминуче, сраженный своим же пророчеством, погиб Николай Гумилев, — а Чехов! Боже, как жалко Чехова! за то, что нам не семнадцать, а за окном ругается дворник; за то, что мы слабы, глупы, ленивы, однообразны, наконец, смертны, — за то, что, может, бессмертны, — чувствуя вину перед тобой за все, я была на самом краю), — твоя рука, вытесненная твоим телом за пределы постели, смуглела, прижатая вертикально к стене, и кисть была беззащитно распластана, как у щенка, — и на этой кисти, на большом пальце, на самом кончике уже отросшего ногтя, — ты все не стриг его по забывчивости, а может, из благородства, — отчетливо чернело пятно. Я ошиблась: ты разлюбил меня раньше.
Когда я впервые увидела тебя, ты сидел в застекленном кафе, — точней сказать, ты примостился на искалеченном стульчике у стола, заваленного грязным, — кафе это было обычной забегаловкой с сырыми пирожками, серым кофе, невытравимым запахом помоев, — все там было обыкновенно, темно, осклизло, холодно, из сортира несло, в лучшем случае, хлоркой, — ты сидел, поставив локти прямо во что-то липкое, — я стояла снаружи, по щиколотку в майском газоне, и не могла оторвать взгляд от твоих рук: ты перелистывал газету.
Это сбылось в городе, где не жил ты, не жила я. Стоя по ту сторону стекла, я видела, — мне даже казалось, слышала, — все, что внутри: старуха хлюпала туда-сюда тряпкой на швабре, заезжая по ногам стульям, столам, посетителям, — ребенок ел бессмысленно и нечисто, — сутулая посудомойщица, собирая со столов, неловко смахнула на пол стакан и сказала отчетливо: «Несчастливая я. У меня даже стакан не бьется».
Ты сидел, словно в маленьком кафе Монмартра. Я даже поискала глазами рогалик и чашечку кофе, — они не просматривались, но это не меняло впечатления: вокруг тебя цвел Париж, ты был его центром, ты сидел в компании французских художников начала века, и я уже ревновала тебя к их традиционно русским женам. А ты продолжал листать газетку — точно, сухо, насмешливо, — ни в малой мере не присваивая, и уж, конечно, не соотнося с собой, а только вынужденно терпя материальность предмета. Было видно, что твои руки в любой миг стряхнут его и забудут.
Если бы я даже очень захотела, если бы ты стал меня слушать, если бы ты услышал то, что я говорю тебе, — я и тогда не смогла бы объяснить толком про это переключение чувства. Я вижу мир в крови и руинах, в травах, в слепых влажных побегах, это перемешано безо всякого смысла, картина недвижна, как вечность, нещадна, мертва. Но стоит мне увидеть тебя, — скажи, может, как раз ты откроешь мне эту тайну, — почему, стоит мне увидеть тебя, — словно мгновенно нажимают во мне особую кнопку, — явь тут же вывертывает пейзаж: жизнь пригодна для жизни, она даже как-то не по заслугам приютна, я рвусь брататься с миропорядком, реальность невероятно пластична, изящна, по-кошачьи увертлива, — я отчетливо вижу ее блистательный, бесконечно многообразный артистизм, — он буквально осязаем, и воздух пахнет озоном, — скажи, черт возьми, ты как это делаешь? как умудряешься ты посылать в мое сердце такой чудовищной силы разряд? сколь всевластен и мощен этот общий — земной, мой, небесный — совместный, как высоковольтный провод, голый нерв красоты!
Увидев тебя, я почувствовала запах дождя. Давно я не чувствовала этот запах, я вообще уже мало что чувствовала. А тут вспомнила: мне пятнадцать лет, я иду из школы, во дворах жгут прошлогодние листья, и такой терпкий, как разотрешь в пальцах, молодой лист смородины, — и еще не задумываешься о том, откуда это земля берет силы и милосердие, чтоб возрождаться каждый год, — и накрапывает русоволосый дождик, даже сердце щемит, такой он нежный, и грустный, и немного тревожный, ведь он всегда новорожденный, а жизнь его совсем коротка; и он по-разному пахнет на тропинке, на траве, на корнях сосны, уютных и толстых, и потихоньку ослабевает, а так и не найти слов, чтобы определить, как же он все-таки пахнет, но в пятнадцать лет это еще не беда, — а впереди сверкает громадное, как аэропорт, здание мечты, за ним летное поле, простор — и такое уже безграничное сиянье, что даже стыдно — но как-то сладостно стыдно — принять это все даром.
Потом я кое-что уточнила. Я поняла, ничего не дается даром, — только в обмен. Я поняла однажды, что все у меня будет, понимаешь, все, — все игрушки взрослых, все их игры, — мне даже Большую Австралийскую государственную премию дадут, — а только как пахнет дождь, мне уж больше никогда не узнать.
Но стоило мне понять, что передо мной ты, — дождь, предтеча потопа, обрушился на меня прямо с неба!
А запах его был и вовсе уж младенческий, чтобы найти определение, надо уметь лепетать на языке младенцев.
…Кошка, ловко огибая потоки, тащила в зубах толстого своего котенка.
Скромный кордебалет прохожих грациозно скакал — и при этом вертел разноцветными зонтами.
Дождь колошматил джаз!
И, легко сбросив кору, я шагнула к тебе за стекло.
Ты поднял глаза.
И увидел меня.
И, как мне кажется, увидел Бог, что это хорошо.
Нынче, как я задумала, сошлись: изменчивые твои руки, французская газета. Ты сидишь в зале ожидания, — кожзаменитель кресла, цвета кофе со сливками, почти не отличим от натуральной кожи. А еще через какое-то время ты наконец окажешься посреди красот французского языка, под сенью кленов Канады и мягких абажуров чужого быта.
Я любуюсь долгожданным соответствием твоей мальчишеской элегантности — и обстановки этого предстартового комфорта со множеством кнопок, лампочек, с этим слегка возбужденным, отлично вымуштрованным штатом. О, как улыбчив продавец зажигалок и сахарной ваты! Как стерилен аптечный киоск, — как сверкает фарфором и никелем киоскерша! Как сверхкрупно большое, как микроскопично маленькое, как бесшумно то, чему предписано быть неслышным, как все четко отлажено, рьяно и великолепно, — плюнуть невозможно, чтоб не попасть в кондиционер, калорифер, унитаз с дистанционным управлением! Еще один пересыльный пункт для арестантов Земли.
Но дай же мне хоть недолго порадоваться, если тебе сухо, светло, если, слава Богу, ты не болен, не голоден и можешь немного передохнуть в чистоте и тепле! Дай же мне обмануться, дай хоть на миг передышку моему сердцу, — ты же не знаешь, как разит меня твоя беззащитность! Как непереносимо мне твое виноватое обаяние, чуждое этим скудным равнинам, где некуда приткнуться глазу! И как непросто мне знать, что ты навсегда повенчан с ними, — это даже кровосмесительный брак, потому что вы прямая родня. О, какая загадка!
Кому пришло бы в голову, что твое неизъяснимое изящество самородно, что оно — скандальный подкидыш к порогу растерянных бедняков? Твой безрассудный шарм кажется отшлифованным консервативнейшими ювелирами Европы, — за ним чудится упорная генеалогическая работа длинной череды строгих и взыскательных предков — суховатых, с милой придурью университетских профессоров, очаровательных выпускниц привилегированных пансионов, этих чаровниц с фиалковыми глазами, талией в рюмочку и клавикордами, — возможно, я вижу, как в зеркале, не корни твои, но ветви, твои неизбежно прекрасные побеги, — но скажи мне, как, каким образом — на лысых отвалах поселка, изуродованного каменноугольными шахтами, где порода людей и животных выбрана до самого дна, где ночь каторжно увековечена подземной жизнью отцов, узаконена, передана в потомство вместе с водкой, беспамятством, отравленным небом, — как сумела там откликнуться твоя бесприютная кровь ярым виноградникам в Арле, как разглядела она оттуда пейзаж в Овере после дождя? О, гадкий утенок!
Только небо под стать твоей таинственной высокородности, — тебе назначено беспредельное небо, что с грохотом рвется в двери аэропорта.
И, может быть, ощутив его особенно сильно, ты глубоко и освобожденно вздыхаешь.
Складываешь газету.
Подымаешь глаза.
И вдруг я хочу, чтоб ты увидел меня сейчас, сейчас же, — к чертовой матери мои планы, планы…
Посмотри на меня, это же я стою перед тобой!
Посмотри, ради всего святого!
Ты смотришь мне прямо в лицо.
Не видишь.
Мы летим на высоте тридцати трех тысяч футов.
Собственно, если я сейчас проснусь, ровным счетом ничего не произойдет. Кроме того, можно спать дальше.
Мы вместе. Мы сейчас настолько вместе, что если эта машина рухнет в океан, или ее похитят инопланетяне, или она совершит вынужденную посадку на остров размером с пятак, с одиноко торчащей пальмой, — это будет нашей с тобой общей судьбой.
Ты сидишь впереди, чуть наискосок от меня, — у иллюминатора, рядом с негром в ярко-зеленой рубашке. Его завитки — непролазные джунгли, твои волосы — солнечный дождь…
Сейчас подойду к тебе, и, если сердце лопнет, значит, такова мне судьба — шагнуть к тебе — и умереть. Может быть, не худшая из судеб. Это очень сильно — знать, что сейчас шагну. Дай выпить воды… Пойми, у меня только одна пуля, как у того мальчика! Какая пуля? А был такой мальчик, он очень любил стрелять, он больше всего на свете любил стрелять, но денег у него было лишь на одну пулю, и вот он каждый день ходил в тир и все целился, целился…
Подожди, у меня дрожат руки… Кстати сказать, ноги тоже.
Подходя к аэропорту, я думала: как же увижу тебя — огромный зал, толчея… Но тебя увидела, конечно, первым.
Сердце грохнуло в горло, взорвалось, ударной волной перекрыло дыхание. Я вцепилась в какой-то угол. Все мое тело сотрясалось от медленных сильных ударов, — чугунное ядро, раскачиваясь внутри, равнодушно крушило постройку…
Я снова, как и впервые, видела тебя сквозь стекло, но на этот раз стекло было толще. (Ты скажешь: а так ли верно я вижу тебя — стекло, очки, линзы, слезы… Но ты же знаешь, ты, к несчастью, понимаешь это: я вижу тебя, минуя оптические законы).
Я стояла за стеклом, а в зале пассажиры пили пепси-колу, капризничали нарядные дети в костюмчиках, мягко проплывали поломоечные машины, — ты стоял в толпе чернолицых, желтокожих, невообразимо пестрых, — и мне передался твой ликующий восторг одиночества — ты и толпа иностранцев — о, апофеоз!
И я подумала: как это странно, что тебя можно физически обнаружить в пространстве, — то есть реально существует определенная точка координат, столько-то долготы, столько-то широты, вполне конкретные цифры, и вот, значит, можно сесть в трамвай, потом в метро, потом в поезд дальнего следования, потом снова в метро, потом в автобус, потом будет тротуар, останется пройти еще несколько шагов, повернуть налево и — ты действительно материально присутствуешь там. Разве это не странно?
И мне стало стыдно своей жадности, потому что, собственно говоря, я тебя повидала, уже повидала, а все, что сверх того, — алчба и обжорство, душа может не выдержать.
И я было поворотила назад, но хитрая Земля подкосила мне ноги, — я хлопнулась на мокрый поребрик.
…Она коварна, эта Земля, — ласкает и отталкивает одновременно, гонит и удерживает, — и в небо не отпускает, ревнива, — так хоть бы к себе забрала, но и с этим не сразу. Ей-то самой хорошо. Она прочна, потому что твердо держится на трех словах: я тебя люблю. Но только небо их воплощает.
Мы летим над Атлантическим океаном.
Ты, трехлетний ребенок, берешь из рук стюардессы хрустящие пакетики, бутылочки, фрукты, буклеты. Кушай хорошо, моя гордость. Посмотри картинки. Мама хочет, чтобы ты поиграл. Скажи мадемуазель несколько слов по-французски. Молодец. Мадемуазель, правда он у меня ужасно симпатичный? Стюардесса улыбается. Ты у меня ужасно симпатичный.
Сейчас скажу тебе это громко и внятно. Уже не так страшно. Надо только выбрать предлог. Я заготовила их два. Значит, так. Я посылаю тебе розу с запиской. Или — бутылку шампанского. (Этот ход мне нравится больше.) Хотя, собственно, почему не послать их вместе?
Но роза уже не молода. В киоске аэропорта она была крепенькой, как морковка. Она мерцала в самой сердцевине дрожащей целлофановой дымки. Дышала, молчала. Но за несколько часов ожидания в бутылке из-под боржоми она стремительно прошла все стадии легких женских возрастов, был в ней, видно, какой-то изъян нетерпения, и вот ей сорок, дарить себя уже поздно.
А просто послать записку? Набросать что-нибудь из твоих словечек. Ты прочтешь, станешь вертеть головой, представляю… Но какие слова выбрать? Их было так много, и все — превосходные…
Даже если меня контузит, они остались на магнитофоне. Правда, он у меня старый, катушечный, весь переломан, — горит глазок, как в такси, но лента не едет. Я сама вращаю пальцем катушку, — слышен безначальный гул, — еще быстрее, еще, — из пьяных и неряшливых завываний мне наконец удается выделить тебя, — с твоими умопомрачительными обертонами, — а попробуй удержи его пальцем, когда швыряет его, как и тебя, то к карликам, то к великанам, то снова к писклявым, оскорбительно мелким существам. И нельзя отвлечься, убрать палец, шататься по квартире, занимаясь то тем, то другим, — и всюду слышать тебя, будто ты дома… Только сейчас, единственный раз, можно услышать твой голос вживую, — трудно себе представить, что это осуществимо. И надо торопиться — судя по всему, мы уже в другом полушарии.
Но в облаках пахнет человеческим духом. Мы таскаем его с собой повсюду, и, может быть, именно из-за нас облака так грубо вещественны, так откровенно, так бесстыже грудасты, — они прут, как опара из широкой квашни, неприкрыто телесны и потому, скорее всего, безбожны. Серебряный крестик самолета в их ложбинке — только модное украшение, он ничего не меняет.
Но если мы все-таки на небе, то все должно произойти само. Твой голос — за бутылку шампанского! На небе — да мыслимы ли такие счеты!
Не спорю, во сне я совокуплялась с самим чертом, — все было при нем — рога, хвост, смрад, невыразимая мерзость, — я совокуплялась с чертом прямо посреди проезжей дороги, — лишь бы ты посмотрел, лишь бы ты обратил на меня внимание. «Смотри, — кричала я тебе, — чем я занимаюсь!» И ты смотрел.
Но небо выше снов.
Если ты не заметишь меня сам, то в небе нет смысла.
От меня зависит только привести в порядок свое лицо, то есть восстановить исходность.
В сияющей кабинке прохладно, укромно. С наслажденьем сбрасываю парик, линзы, очки.
Оставляю на полочке постарелую розу. Краем глаза замечаю: изображенье цветка в зеркале идеально.
Умываюсь, преображаюсь.
Смотрю на себя в зеркало.
Мои глаза.
…Мальчик задавал взрослым загадку: когда, в каких случаях пуля, выпущенная в зеркало из пистолета, попадает в свое же отражение? Правильный ответ: всегда. Во всех случаях.
Я знаю: будут маскарады, приемы, балы, — фейерверки, банкеты, заздравные тосты. Но я обнаружу вдруг маленькую дверь, зайду, затворю.
Будет тихо и холодно. Шум карнавала, неизменный и ровный, как травы английских газонов, не пробьется в это беззвучие.
И я пойму, что это будет повторяться всегда.
После длинных дорог, после всех площадей мира, после театров и цирков я вернусь к себе.
Будет тихо и холодно.
Я шагну к зеркалу.
Упрусь зрачками в свои же зрачки.
Допустим, я возвращаюсь в салон. Сажусь на свое место с твердой готовностью смотреть в твой затылок до конца. Допустим, пассажир справа с открытым любопытством принимается сверять мое лицо и мое платье. You are more lovely than ever (Вы еще привлекательней, чем прежде), — говорит он с ужасным акцентом, и я понимаю, что это одна из немногих английских фраз, которые он знает. Допустим, я вежливо улыбаюсь, а он не отстает, — может, поэтому и не отстает, — он принимается говорить что-то много и быстро на кипящем и булькающем языке, — никогда прежде я не слышала этот язык, — и при этом еще жестикулирует, как глухонемой, — он говорит, как заведенный, смеется, размахивает руками и совершенно не обращает внимания на мой демонстративно отсутствующий вид, — я понимаю, что отвязаться теперь трудно, вот наказанье, — да откуда он взялся, этот индивид, его вроде бы здесь не было, — встаю, — он хватает меня за руку, продолжая яростно что-то объяснять и доказывать, — я пытаюсь вырваться, — он свободной рукой достает из сумки плейер, кладет его на колени и, все больше раскаляя свою тарабарщину, тычет пальцем в меня, в плейер, — я выдергиваю руку, он нажимает кнопку, — и летит музыка, та самая, — помнишь, когда мы… помнишь…
И ты оборачиваешься.
Если бы я была Господь Бог, я бы держала в поле зрения не только галактики разом, но иногда пристраивала бы глаза к потолку комнаты, где безмолвствуют двое и так отчетливо тикают, проклюнувшись, часики.
Пахнет смертью, и вечностью, и влажным истекшим семенем, и, жадно дыша, молчит гранатовое соцветье Вселенной, прекрасное и нерасторжимое во всех частях.
К потолку такой комнаты надо бы пристраивать иногда глаза Господу Богу, потому что светлый взгляд женщины, напоенный покоем, и смыслом, и невыразимой благодарностью, послан именно Ему, и до обидного глупо, если взгляд этот, рассеясь в пространстве, не в силах Его достичь.
У меня больше не будет такого взгляда. Получается, что мне нечем отблагодарить Господа Бога. Получается, что, даже простым соглядатаем пристроив глаза свои к потолку своей комнаты, мне не увидеть оттуда своих лучших глаз.
Но, может, лучшие — те, что невозможно даже предсказать? Те, что непредставимы мне самой? Те, что у меня сейчас, когда я вижу, что ты видишь меня, и при этом — о, Господи! — рад, я же вижу, ты рад, рад, — ты, честное слово, рад!!
Мы поели, поспали. Точней, ты вздремнул, я глядела. Потом мы еще съели пополам бутерброд и выпили из стаканчиков. Я сама собрала крошки, обертки и вынесла в туалет — вполне семейная жизнь.
Потом, когда мы пристегивали ремни, тебе что-то попало в глаз, ты попросил посмотреть, ты всегда доверял мне в таких делах, мы принялись вместе орудовать зеркальцем и платочком, и тут стюардесса сказала: Монреаль, аэропорт Мирабель интернасьональ.
Уже приземлились? — по-детски обиженно спросил ты, и судорога изуродовала твой прекрасный рот. Я знаю эту судорогу, такая была у тебя, когда ты в первый раз меня раздевал, я думала тогда, это отвращение, а это не отвращение, ты просто нервный такой, я потом видела эту судорогу часто, ты очень нервный, тебе нельзя расстраиваться, — я сейчас, — говорю я тебе.
Я спокойно иду по проходу хвостового салона, я изо всех сил стараюсь идти спокойно, ноги дрожат, проход еще свободен, сейчас бы рвануть, но ты смотришь в спину, я нащупываю в кармане обратный билет, все в порядке, вхожу в бизнес-класс, в проходе люди, пожалуйста, пропустите, ради Бога, скорей, скорей, пропустите, носовой салон, пропустите меня, пропустите, дайте дорогу, пропустите, тоннель к аэропорту, я бегу, скорей, скорей, пропустите, падаю, меня перешагивают, мы часто лежали с тобой, обнявшись, на полу, на снегу, на обочине ночного шоссе, это неправильно, что по нашим теням ходят, надо обвести контуры мертвых тел, случилось убийство, я бегу, дайте дорогу, сейчас только бы скрыться и на обратный рейс, а ты так и не поймешь, что только для встречи с тобой я устроила этот полет, подгадала предлог, заменила лицо, вымолила нелетную, а потом летную погоду, знаешь, мне даже кажется, только чтобы увидеть тебя, я сотворила эту Северную Америку, а заодно и Южную, и нашу с тобой Евразию, и все остальные материки этой большой и скудной планеты, где нам не судьба быть вместе, а сила притяжения которой так велика, что падающий из разжатых пальцев стакан (со мной всегда так), еще не успев долететь, разбивается вдребезги.
Июль, 1992
Приворотное зелье
Ребенок, мужественно сведя брови, пытается проглотить предпоследний кусок хлеба. В миске с надписью «Общепит» всплыла кривоватая ложка, стынет сало, котлета в тарелке расковырена, напрасно просела клумба салата. Скушай что-нибудь еще, — молит, как заведенная, мать. Но ребенок, подавляя икоту, продолжает забивать рот хлебом. Труд хлебороба ты уважай, знай, какой подвиг — убрать урожай, — камлают запечатанные мякишем уста. Запей компотом, — прозаически вставляет мама. Хлеба к обеду ты в меру бери, хлеб — наша ценность, его береги, — сипловато чревовещает ребенок. Последний кусок продвигается по его телу буграми, толчкообразно; багровое от муки и гордости дитя артикулирует теперь громко и внятно: хлеб — самое главное в жизни. Без всего можно прожить, кроме хлеба. Хлеб — вкуснее всего. Хлеб достается труднее всего. Хлеб — жалко. — А корову тебе не жалко?! — взрывается мать. — Она за эту котлетку жизнь свою, можно сказать, отдала! Ее что, легче хлеба было растить? А каково — убивать? А курицу, курицу, что в салат пошла, — тебе не жалко?
Но сын не слушает, тем более, он скоро вырастет и, коль пойдет мода на церковь, его выучат другим стихам: хлеб наш насущный даждь нам днесь, хлеб — плоть от плоти Его; а если на улице снова созреет сезон атеистических богов, ребенка поступят в институт, — и, быть может, как раз в тот, где, живота не жалея, ежедневно шинкуют лягушек, четвертуют крыс, распинают котов, а мышей крошат: кружочками, брусочками, ломтиками, кубиками, а также крупной и мелкой соломкой.
И там, среди прочих предметов, ему откроется научный предмет — гигиена питания. Он познает четыре хлебных догмата: хлеб — легко усвояем, хлеб — неприедаем (Господь — вездесущ, Господь — всемогущ, — напевают из своего угла притаенные попы), хлеб обладает высокими вкусовыми качествами и мощной калорийностью. Гигиена питания в цивилизованных племенах почитается за наиважнейший предмет, но и у этой науки не до всего же сразу руки доходят. Она, скажем, энергично изучает рыбу как источник питания и рыбу как источник заболеваний, самоотверженно углубляется в стадии посмертного изменения рыбы после улова, а в это время за дверью лаборатории, в закутке коридора, высохшая от водки и злобы вóхровка чешет зубы со сменщицей. Она говорит ей, что в блокаду вовсе даже и не съела своего сыночка, другие своих ели, а она нет, — она ему сказала, он уже слабый лежал: спи, не бойся, мама тебя не съест. Товарка кивает (чай, сахар вприкуску): ты, как всегда, правильно все делала.
Насчет легкой усвояемости хлеба сомнений не возникает изначально. Вот проститутка глотает его прямо под клиентом, вот бежит вор, быстро, очень быстро заталкивая в себя хлеб, его настигают, он пихает, пихает, его колошматят, он глотает, жрет, его валят с ног, забивают ногами — он успевает сглотнуть еще раз — и остается лежать под дождем у ограды рынка, — он, сумевший напоследок поцеловать хлебушек. Классические, кстати сказать, картины, кои видим не всегда, оттого только, что сильно устаем. А вот по улочке идет мой дед, сорок пятый год, зима, жестокий холод, и уже вечереет. Дед приехал на побывку с фронта и сейчас возвращается от людей, которым шил пальто, и они заплатили ему большим белым хлебом. Дед несет хлеб за пазухой шинели, там хлебу тепло и его не очень видно. И проезжает мимо хлебная повозка, — дикий свист, толпа с налету опрокидывает сани, лошадь стоит, бежит прочь возница, с треском разлетаются деревянные ящики, и уже через минуту никого нет. А через полторы минуты несутся люди с наганами, в форме, и люди с наганами, в штатском, — бежит много людей с наганами, потому что кругом Карлаг, — и бежит со своим хлебом мой дед, за ним гонятся как за ограбившим фургон, и ничего не докажешь, он мчится без ног, сзади стреляют, он летит на пределе бесчувствия, двор, двор, лестница и, впадая в жилье (обмеревшая жена, двое ребят), разрывая рот — и теплый, громадными кусками, хлеб, — еще не успеет крикнуть: МЭ ЛОЙФТ МИР НУХ, ЭСТ, ГИХЕР!! (ЗА МНОЙ БЕГУТ, ЕШЬТЕ, БЫСТРО!!) Хлеб исчезает, а на пороге — чужие в штатском, но теперь дед без хлеба, без шинели, не убегает, — и они не узнают его. Весь этот эпизод, от начала до конца, занимает минуту-две.
Какие же могут быть научные споры насчет легкой усвояемости хлеба?..[1]
И вот тут встает вопрос о его неприедаемости. Кстати, вопрос этот, не хухры-мухры, вынесен в билеты на государственном экзамене по гигиене питания. Чтобы получить «пять», студент должен ответить резкоположительно, выезжая более на притворном воодушевлении, чем на доказательствах современной науки, ибо чего тут доказывать, раз мы договорились, что это аксиома. Итак: неприедаемость — имманентное свойство хлеба. (Богоданное, — громко окая, поправляют осмелевшие служители культа).
А мне сдается, что это всего лишь привычка и обратное ей — тоже привычка, только будто бы уже частная, дурная, если не сказать стыдная и слегка как бы вне закона. Жизнь примелькалась, приелся хлеб, мы больны, мы ищем лекарство. Но даже великий Сададж Арсатун ибн Джилбаб пишет, что глупый человек, кто хочет лечить таких шакалов врачебными средствами, ибо болезнь их — от воображения, а не от естества, и если что-нибудь им поможет, так это умеряющие дурь заботы, голод, бессонница, тюрьма и порка.
И всего этого мы перепробовали в достатке, — не всем разве что повезло с каталажкой, от которой не зарекайся (так что надежда есть), — но как мне сегодня, сейчас, полюбить пресный хлеб поблекшей в сумеречных заботах земли?
Я рада в поте лица добывать мой хлеб, но потреблять его мне грустно. Мне прискучило в поте лица моего есть хлеб мой. Я вкалывала бы задарма, я люблю вкалывать, но без харча не работнёшь. За что обречены мы пожизненно на злое это хлебоедство? Разве уста наши сотворены Господом нашим во славу предмета гигиены питания?..
Когда я встретила тебя, жизнь меня уже вытеснила, оставив мне плоский, в три шага, остров между койкой для сна и столом, где я глушила себя чистым спиртом работы и не могла оглушить. На том острове пространство распалось. Там все существовало отдельно от всего: пол — отдельно от стен, стены — отдельно от потолка, свет — отдельно от лампочки (если б ты знал, как это страшно), и не было способа собрать кусочки. И вот, когда я встретила тебя, я, конечно, сообразила, что любвеобильный Жизнедатель уж, видно, давно сохнет по мне, раз сотворил мне тебя, Свое приворотное зелье, чтоб, значит, Его вздохи по мне были небезответны. И я захотела тебя сразу — как хлеб, когда его нет, но, по вредной привычке догадываться, — догадалась, что ты вмиг приешься мне, когда хоть немного будешь. А ты сразу невзлюбил меня, и правильно сделал, ведь я сразу была в изобилии. И ты уехал на восток, — я путаю дальний, ближний, передний, задний, — но помню, что это было неблизко. Моя расторопная подруга посоветовала натирать тебя такой специальной мазью для возвращения: ты, говорит, должна терпеливо, еженощно умащать его этим вонючим средством — спину, от шеи до ягодиц включительно, и, главное, весь его обнаженный живот. Она даже не поняла, как далеко ты уехал.
Тогда я решила, что и мне пора ехать, ведь жизнь мне обрыдла так, что вокруг было сплошное бельмо — с редкими, очень редкими вкраплениями черно-серых пятен.
Я села в электричку и отъехала от города на тридцать верст, и пришла к пожилой женщине с конторским лицом, ее рот был затянут паутиной, и она протянула мне хлеб. И я села в электричку, и проехала дважды по тридцать, и шла долго. Голая, в мерзлых буграх земля повсюду совокуплялась с голым небом. Между разухабистой землей и дряхлым небом, по линии их совокупления, ползала черная старуха. Она была укутана в ватник, платок — седые волосья разлетались из-под него и стлались далеко по ветру. Старуха каким-то крючком ковыряла в дырках своего огорода, выискивая скупые корнеплоды. И я бухнулась на землю и попросила снадобье, чтобы видеть цвета, чтоб не разлюбить тебя, чтоб ты полюбил меня, чтоб не приедался нам хлеб наш насущный и никогда не усомнились бы мы в разумности Бога. Но старуха не слышала. Я кричала, ветер пил на лету мои слабые слезы, и слова мои отлетали к черному горизонту, минуя мохнатые старухины уши. Мама, — крикнула ей в висок подошедшая дочь, беспомощная и толстая, — надо вернуть мужа к этой жены, есть у тебя лекарство? Старуха медленно распялила черный свой рот. Ветер утих. В тишине безбрежного поля, из конца в конец мира, ржаво прошуршало: я младенчушкам грыжечки зашептываю, приижжайте, жданные. И я села в электричку, и отъехала трижды по тридцать, и пришла к черномясой бабище с черными когтями, — она лежала на громадной кровати, пухлой, продавленной, сплошь в облаках и ухабах. Бабища даже рта не хотела размыкать, только хихикала и злобно мычала, потому что, как я догадалась, приняла меня за столичную журналистку, которая приперлась с разоблачением ее знаменитого на весь мир чернокнижья. Но я употребила пару ненормированных оборотов речи и сошла почти за свою. Бабища слегка меня обнюхала, высказывая все же зевоту и дремоту и (чтобы только отделаться) велела: до полуночи успеть восвояси, набрать в бутылку из-под кефира водопроводной воды и сыпануть туда маковых зерен (зерна протянула в кулечке). И что же дальше со всем этим делать? — спросила я. И прикладывать к больным местам, — надменно, как дуре, сказала бабища. И вдруг разрыдалась, захлебываясь мощными возгрями, и, беззащитно гнусавя, протрубила, что вчера ее сбила машина, а позавчера бросил муж. Вздыбились, содрогнувшись, мирные холмы и равнины необъятной кровати, и, приглядевшись, я увидела, что рожа у бабищи сплошь в черных синяках. Я дала ей хлеба, она дала мне водки, мы уничтожили ночь, а на рассвете орал петух, и баба, падая, гонялась за ним по двору, потому что хотела его мне в подарок, и догнала, и оторвала ему голову, но петух перелетел через забор — и, капая кровью, поплыл над лесами-полями — и пал камнем к ногам старухи на сером огороде, — та зашептала ему шейку, и выросла новая голова с толстым гребешком, — а мы с черномясой расцеловались, и я двинула к станции.
Вагон ехал быстро, в сердце плясала цыганка, метались по холмам огненные лисицы, в зубах их бились пестрые петухи (неужели я вижу цвета?), звероловы весело отливали пули, потягивали из фляжек, дулись в картишки, показывали фокусы: трюкач под мухой брал жухлую колоду карт и пускал по ветру — то лентой — то вперемешку — черные сердца дам, красные разлапистые ладони, багровые ладони королей, золотые пики тузов; ветер тасовал и сдавал, тасовал, тасовал, — листья в крапленых рубашках на лету меняли масть и число — надвигалась зима, — фокусник говорил тихое слово, и белый цвет разом уничтожал все.
Ну кто ты такая есть? — уговаривал меня внутренний баритон. — Возвращайся в жизнь свою, тернии и волчцы произрастет она тебе; и будешь питаться полевою травою. — Если бы! — ввинчивался вертлявый тенор. — Опять пресный хлеб жрать придется! — А ты, например, перчиком красным его натри, — душеспасительствовал баритон. — Задницу свою перцем натри! — взвивался тенор. Вагон покачивало на пьяных волнах, он был раскован и артистичен, он отстукивал, он подскакивал, он кидался в лезгинку…
А в это время студенты на гигиене питания рассчитывали соответствие моих суточных энерготрат калорийности потребляемой пищи. Они писали в тетрадях: машинистка, возраст — 36 лет, вес тела — 57 кг. И рисовали таблицы.
Таблица № 1. Бюджет времени
Сон 7 час., одевание и раздевание 30 мин., личная гигиена 45 мин., подметание комнаты 20 мин., прием пищи 1 час 15 мин., печатание на машинке 7 час. 30 мин., хозяйственная работа 1 час, ходьба (3 км/час) 1 час, чтение 2 час., езда в автобусе 30 мин., отдых сидя 1 час 10 мин., отдых лежа 1 час.
Таблица № 2. Набор продуктов (в граммах-нетто)
Завтрак — колбаса отдельная 60, масло слив. несол. 20, батон простой из муки 1 с. 100, кефир жирный средний 250, сахар 25; обед — сельдь атлантическая соленая весенняя б/головы 40, морковь (с 1 янв.) 25, вермишель 30, лук репчатый сладкий 20, маргарин молочный 20, картофель (с 1 сент. по 1 янв.) 250, томат-паста 10, окунь морской б/головы 70, пирожное заварное с кремом 70, хлеб простой формовой из обойной муки 100; ужин — печенье сахарное 60, масло слив, несол. 15, сыр плавл. (40 % жирн., остр.) 60, карамель с фруктовой начинкой 15 (Господи милосердный, что же ты делаешь?!), батон простой из муки 1 с. 100.
Ах, никогда еще со времен чтения королевских злоключений Лира не рыдала я так бурно и безнадежно!
А студенты между тем перемножают виды деят. моей (продолж. в мин.) на энергетич. траты (в кал. на кг) тела моего. И мне неведомо, что открывается им, но на глазок определяю: здорова. Только не очень жива.
Чтобы восстать из мертвых, мне надо бы увидеть тебя. Боли, боли, мое оловянное, деревянное, стеклянное сердце…
По-моему, это происходило, когда юбки были короткими, а дни длинными. Представим затаившую дыхание семнадцатилетнюю особь, которая слышит контрабандный разговор двух взрослых, замужних, вполне потрепанных женщин о том, как принимать любовника. Точнее, одна шепотом назидает, другая же, как и подслушивающая, безответна (не дышит). Все это происходит в трехкоечном номере профсоюзного Дома отдыха, а может, в захолустном санатории для лечения болезней женской деликатной сферы, а может, в интернате для глухонемых, на время отданном имеющим уши и языки, — короче говоря, мертвый час, и деваха притворяется спящей. Ты, во-первых, возьми такой столик, не очень большой, лучше круглый… — напористо вразумляет тетка. (Почему — не очень большой? очень круглый?..) …двух курочек там поставь за два сорок, а лучше, если будут, так возьми трех цыплят по рупь семьдесят пять, — немного, правда, дороже станет, — зажарь…
Магия точных цифр, жертвопринесенные птицы, обрядовый огонь, — все это очень сильно для выпускницы ср. школы. Она уже видит караван мерибских купцов, одежда их тяжела от чистого золота, даже упряжь вьючных слонов отделана золотыми шишечками, яркие чепраки верблюдов убраны драгоценными каменьями; купцы везут корицу, гвоздику, янтарный шафран, у них есть все, — кроме бородинского хлеба из ржаной и пшеничной муки, — они торопливо отдают за него бальзамические натирки, мирру и благовония в серебряных фигурных флаконах, — всего за половинку черствоватого хлеба, — и вот в полнолунье, ровно за три часа и три ночи до прихода любовника…
…лучше жарить на масле, если не жалко; ну и селедочки там поставь за восемьдесять копеек, вымочи ее часика три-четыре, не знаю, — в чае, лучше в молочке, но можно и в воде; огурчики хорошо малосольные, я тебе дам, свекровка дала; ну картошечки повари молоденькой, полей сметанкой, укропчиком присыпь, — обе громко сглатывают, — в винегрет вкусно ложить яблочко моченое, кислой капуски…
Мертвый час нескончаем, дурища, что подслушивает урок, растет, и вот в воскресной электричке ей уже говорят «женщина, подвиньтесь», а она ждет, когда же, собственно, сверкнут грани изумрудного перстня и холодные кристаллы любовного яда незаметно для Людовика вспенят кровавое вино, и на маскараде госпожа Помпадур проскачет пред его обалдевшим взором, — в пурпурных, бьющих крылами шелках, стоя с очень прямой спиной в античной колеснице, — а не то, пугливой дриадой, — ясно дело, полураздетой — мелькнет себе в ветвях, когда король-охотник — сам-то уж в любовных тенетах — только и успеет, что дико повести очами, — или, откуда ни возьмись, с точно продуманной небрежностью, она пронесется пред высочайшим кортежем — привиделось?! король протирает глаза; хрустальная, крупных размеров карета, и в ней — та же особа (уже совершенно голая).
…груздочков солененьких, горушкой так, насыпь в небольшую вазочку, возьми из прессованного хрусталя, ну и водяры в графинчике, пусть на холодке запотеет… Да! главное, хлеба, хлеба-то не забудь, не весь нарезай, засохнет…
Мне тридцать шесть, вес тела моего (нетто) пятьдесят семь кг. Электричка мчит, клацая на стыках, а мне по-прежнему небезразличны правила волхвований. Смысл ускользает, — но я знаю, он есть — в ритуальной последовательности слов, блюд, поцелуев, — и мне до мурашек любезна та сестрица милосердия, что где-то в богадельне от райздрава, еженощно начиняла перси свои ворованным морфием вперемешку с шампанским, — и любовники, поочередно лаская устами сосцы ее, т. е. двойню молодой серны, пасущуюся меж лилиями, мягко улетали в сады к Хаяму, а сама она отлетела неизвестно куда, померев от заражения крови.
В электричке включается репродуктор, и на весь состав корреспондент берет интервью у ТОЙ, которая уж точно знает, как принимать любовника:
Накройте стол белой, хорошо выглаженной скатертью. Средняя заглаженная складка скатерти должна проходить строго через геометрический и смысловой центр стола. Количество судков с солью и пряностями находится в прямой пропорциональной зависимости от числа обедающих. Рекомендуется сервировать стол одинаковыми приборами и посудой однообразного фасона и расцветки. Очень украшают сервированный стол живые цветы; их размещают (в невысоких вазах) посредине стола или в двух-трех местах по средней линии стола. Если при этой сцене невольно присутствуют дети, то их надо научить тщательно разжевывать пищу, есть не торопясь, не брызгая, чтобы у детей не создалось привычки есть некрасиво и шумно: это было бы неудобно и неприятно для них самих и для окружающих.
Боже правый! При виде этих картин я вспомнила, что мужу моей подруги, которая рекомендовала натирать тебя мазью, сегодня стукнул полтинник.
И я охотно пошла на этот юбилей — с твердой верой, что уж там-то ни за что не будут кормить тридцать человек одним хлебом. Муж моей подруги — космонавт, поэтому юбилей праздновался в предприятии общественного питания, где всегда так ярко исходит янтарем наборный (охраняемый государством) паркет, что надлежит приносить с собой сменную обувь; гостям были представлены плоды не только Земли, но также разреженных слоев атмосферы и даже пищевые продукты других планет, — короче, все было на том столе, все были за тем столом, и была даже такая, что абсолютно ничего не ела, — особа поздневикторианской осанки, научноголодающая по логарифмической линейке, — поглядывавшая на едоков надменно-загадочно и чуть злобновато. Итак, все в пределах этого стола было преотменно и даже сверх того.
Но когда я во тьме кромешной добиралась домой, думая только о тебе, о тебе плача, то как-то некстати вспомнила, как на этот банкет пришла любовница космонавта (со своим мужем), и космонавт делал мне большие глаза и подавал страшные знаки, — хоть муж любовницы мужа подруги, т. е. супруг подруги космонавта, знал, что тот знал, что знал тот, что тот знал; и он, муж своей супруги, которая любовница супруга моей подруги, влезши по-дружески в шлепанцы юбиляра, стал какой-то больничный (и тот, в запасных шлепанцах, тоже был больничный), и он, т. е. юбиляр, любовно одергивал мужу любовницы фалды фрака, — а тот, по-семейному, поправлял ему галстук и скафандр — и потом говорил тост, что юбиляр — человек таких высоких морально-нравственных качеств, что — жест в сторону детей — среди ночи на помощь придет; а потом научноголодающая, с заранее сострадательной улыбкой, громко спросила космонавта: а что, ваша жена — тоже космонавт? а все знали, что не космонавт, так как, чтобы он мог летать, имея при этом здоровых детей, налаженный быт, любовницу (жену своего мужа), — жене космонавта досталось ползать, всю жизнь чихая и кашляя в пыли бухгалтерских отчетов, — но космонавт, профилактически ущипнув меня за филейную часть, ровно ответил, что да, жена — тоже космонавт (потому что в этих кругах так принято, что если уж муж-космонавт, то жена должна быть непременно жена-космонавт); и еще я, как назло, вспомнила, что, когда пришло время космонавту лететь, а гостям прилично расходиться (а скатерти-самобранки все еще ломились яствами-питьем), — теща виновника торжества принялась по периметру обходить столы, очень зычно приговаривая: собаке!! собаке!! собаке!! — и складывая космонавтову трудовую провизию в семейные мешочки из полиэтилена.
И меня вырвало. Сначала меня рвало: икрой осетровых рыб и икрой кетовой, лососиной с гарниром из долек лимона, украшенной веточками петрушки, салатом из крабов, паштетом, анчоусами — и вылез язык с соусом «Кубанский».
А ЭТО ВСЕ ОТТОГО, ЧТО НОРМАЛЬНАЯ ЕДА ЕСТЬ ЕДА С АППЕТИТОМ, ЕДА С НАСЛАЖДЕНИЕМ, — погрозил мне с небес кулаком акад. И. П. Павлов.
И тогда меня вывернуло от страха. Первыми из меня, насвистывая, быстро попятились раки в белом вине и тельное из рыбы, потом боком протискивался поросенок холодный с хреном; тело мое содрогалось в мучительных корчах; бедный желудок выдавливал: почки в соусе с луком, легкие с пастой томат-пюре, сердце тушеное и наконец «Мозги в сухарях» (консервы) со стручками фасоли, — а под занавес выкатилась репа, фаршированная манной кашей (хоть я ее не ела, она и на столе-то не стояла), — ну и, конечно, было много хлеба и хлебобулочных изделий, — и пошли вприсядку калачи, баранки, бублики и ватрушки из дрожжевого теста.
И я почувствовала некоторое облегчение. Последний, третий приступ, я вызвала самостоятельно, щекотнув себе глотку на древнеримский манер гусиным пером и вспомнив статейку пустопорожнего критика. И тогда из меня толчками забил фонтан: кольраби-капуста-бекмес-бастурма; оладьи-омлеты-котлеты-треска; хурма-шоколад-шампиньоны-харчо; шурпа-эстрагон-фрикадельки-бозбаш.
…Легкая, почти бестелесная, лежала я дома, читая то, что три тысячелетия назад написал Сададж Арсатун ибн Джилбаб. Я уже знала, что мне не подойдут его рецепты, чтобы вернуть тебя и полюбить хлеб, — ибо он пишет, к примеру, что, если хотите ослепительно улыбаться, хорошо для этого натирать зубы порошком из мелкоистолченных алмазов, — а лучшим противозачаточным средством называет кал слона. Кроме того, если он советует для любовной страсти брать корешки, то у нас в аптеках продают лишь вершки, от нервов; если же он рекламирует вершки (других растений), то их нет и в помине, — а большей частью он указывает такие цветы и ягоды, которые были ему современники и соплеменники, и все это на своем языке, наша фармация бессильна. Меры весов же его таковы, что нынешний продавец не знал бы, как и обвесить: арузза (рисовое зерно), бакилла (конский боб), мил’ака (ложка), суккураджа, тассудж, хабба, хуфна и др. — без объяснений. Но я ловлю себя на том, что мне ужасно все это нравится. Послушайте: мастарун кист кират кавасус истар джавза данак.
И тогда я сажусь за машинку и печатаю:
ТРАКТАТ О ТОМ, КАК ВЫЗВАТЬ ДОЛГОЕ ЛЮБОВНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ И СЧАСТЛИВО ИЗБЕЖАТЬ ПРИЕДАЕМОСТИ
Параграф 1. Чистые яства, возбуждающие похоть.
…Мужчина, который постоянно ест воробьев и запивает их молоком вместо воды, всегда имеет горячую эрекцию и обильное семя.
Параграф 2. Яства, имеющие сходство с лекарствами.
Берут воробьиных и голубиных мозгов — пятьдесят штук, желтков воробьиных яиц — двадцать, чашку лукового сока — три укийи, морковного сока — пять укий, соли и горячих приправ — по вкусу и топленого масла — пятьдесят дирханов. Из всего этого готовят яичницу, съедают ее и запивают во время переваривания крепким душистым вином, несколько сладковатым.
Параграф 3. Средства, вызывающие наслаждение у мужчин и женщин.
…это слюна, если у человека во рту асафетида или кубеба, а также миробалановый мед — или мед, замешанный со смолой скаммония, или имбирь…
Тут входишь ты, я говорю, не повернув головы: суп из пакета в холодильнике; за свет заплатил?
…или перец с медом. Хорошо также применять все это в виде лепешек на заднюю половину члена, ибо от применения таких средств к одной лишь головке нет большой пользы…
Ты говоришь: давай выпьем вина.
…Животное, возбуждающее похоть, — это ящерица уромастикс, варан, особенно основание его хвоста, его пупок, почки и соль. Варана ловят во дни весны…
Мы пьем, я говорю: сними очки, я хочу ребенка. Ты снимаешь и смотришь мне прямо в глаза своими серыми, очень русскими, будто заплаканными глазами, и я слышу, как Бог выкликает наши имена, и чувствую, что ребенок есть.
И вдруг я чувствую также, что скучаю по тебе, я ужасно скучаю по тебе, и продолжаю тосковать по тебе, а ты рядом, а я так же страшно тоскую по тебе, как если бы ты оставался на своем востоке, верхнем ли, нижнем, я путаю.
Я распахиваю окно. Деревья голы. Вдали висит единственное окошко, и оно гаснет: последний лист. Задрав голову, я вижу хрустящие, с крупной солью, сухари звезд, и лунный мед льется толстой струей прямо мне на язык, и я нащупываю сухарик и, обмакнув его в соль, перемазываю медом, — что это за объедение, язык проглотить можно!
И проглатываю язык.
А потом легко, как вишневые косточки, расплевываю на все стороны желтые свои клычки, черные резцы, ядовитые зубы мудрости.
И познаю сахар первого молочного зубка.
Сладость упоительна.
И в немоте моей я мычу:
если Ты
извечно назначаешь мне бессилие
в моих потугах ответить равной любовью на Твою любовь
и равной красотой на Твою красоту
и если я знаю что Ты
заведомо наскучив мной
рано или поздно бросишь меня навсегда
и это знаешь Ты
то для чего же тогда Ты так колдуешь
и привораживаешь меня
Декабрь, 1991 г.
Из жизни автоответчиков
Аменхотеп и Рамзес
Время от времени я звоню Аменхотепу.
— К сожалению, я сейчас занят, — чеканит автоответчик.
Если верить автоответчику, Аменхотеп занят всегда. Правда ли это — о том не знают и никогда не узнают все, кого не допускает к Аменхотепу цивилизованный цербер. Он важно застыл у телефонной калитки Аменхотепа, как страж у золотых ворот Тимура, — он замер, как вышколенный дракон с оловянными очами-тарелками, — он знает устав, как способен знать его только гибрид немецкой овчарки с восточно-сибирским часовым, отличником боевой службы, — а может (его ведь не видел никто), — защитник Аменхотепа больше смахивает на кабацкого вышибалу — не российского, а с рельефным фронтоном Шварценеггера: Аменхотеп платил за него большие деньги.
Непробиваемый ангел-хранитель на корню отфутболивает утомительные для Аменхотепа контакты; он четко ограждает владельца от придурковатости разнузданных житейских стихий.
И Аменхотеп блаженствует, — как свежерожденный младенец в блатной, не учтенной Богом сорочке, — и даже слаще: как вовсе еще не рожденный, запеленутый в ласковые оболочки, за крепостными стенами материнского лона.
Аменхотеп тщательно выбраковывает эмоции. Зачем ему это надо — с размаху налетать черт знает на кого — прямо посреди своей трапезы, — или в минуты уединенных мечтаний на голубом, вырезанном сердечком, сантехническом троне, — или в ответственные часы отлаженной гигиенической ласки, — поэтому во все такие времена его автоответчик, с железной синхронностью Аяксов уклончиво отвечает:
— К сожалению, я сейчас занят.
Так что ошибаются те, кто считает, что это не прогресс — или что Аменхотеп свободен.
Таким образом, Аменхотеп избавлен от тысячелетнего ритуала судорожно натягивать резиновую, в пятнах, улыбочку, и никакое там причесанное и дезодорированное хамье, всякие там маски и полумаски не застанут его врасплох и не вмажут с размаху по лбу.
И вот в конце дня — кофе-какао, ванна-сигара — Аменхотеп, белый человек, прослушивает доклад автоматического привратника.
Этого к такой-то матери, — машинально отмечает Аменхотеп, тот отдохнет, этот перебьется. А вот Рамзес… Рамзесу надо бы позвонить.
Рамзес — это я. Я тоже не идиот. У меня тоже автоответчик. В конце дня я прослушиваю список: этого к такой-то матери, тот отдохнет, этот перебьется, а вот звонил Аменхотеп, — Аменхотепу надо бы позвонить.
Звоню. Тысячелетний ритуал.
— К сожалению, я сейчас занят, — говорит Аменхотеп голосом автоответчика.
Ты и я
У моих друзей — у всех автоответчики. Я слушаю их голоса каждый день. Голоса неизменны. Друзья навсегда запечатлели свои юношеские интонации:
— К сожалению, меня сейчас нет дома.
— Добрый день. К сожалению, я сейчас не могу подойти к телефону.
— Здравствуйте. К сожалению, я сейчас занят.
К сожалению! Черта с два! Невозможно же так безропотно претерпевать тысячелетнее рабство! Если бы ты искренне сожалел, что занят, давно бы уж был свободен. Неужели ты не понимаешь это?! Послушай меня, дело в том…
— С вами говорит автоответчик. К сожалению…
И тогда я звоню тебе, моя единственная любовь.
— Эттеншн, плиз, — говоришь ты после механического щелчка. — Внимание.
— Это я, — кричу, — это я! Слышишь?!
— Афтэ лонг биип ю кэн лиив йо мессидж. — После длинного гудка вы можете оставить ваше сообщение.
У меня в распоряжении одна минута.
И я говорю:
— Ты живешь на другой стороне Земли, но тебя нет и там. Где же ты есть?! Где искать тебя, скажи, умоляю, куда тебе позвонить, я умираю без тебя, слышишь, продиктуй, ради Бога, свой номер, у меня есть автоответчик.
Один парень и одна девушка
У одного парня была одна девушка. Она часто звонила ему по телефону. А на самом деле у него была другая и третья девушка, но одна девушка ничего про это не знала. И случалось так, что, когда одна девушка звонила одному парню, — он в это время как раз ласкал другую-третью девушку, и его автоответчик говорил одной девушке хорошие, добрые слова. Но она ни о чем не догадывалась, так как думала, что говорит с одним парнем. А потом одна девушка все узнала (про девушек) и все простила, а про автоответчик она так и не узнала и продолжала не знать.
Она включала радио, и один парень пел, как любит одну девушку, — она включала телевизор, и он целовал ее в самое сердце, крича, что жить без нее не может, — а на самом деле ни в радио, ни в телевизоре одного парня не было, — но одна девушка плохо знала физику.
Но ведь в телефонной трубке его не было тоже!
Где же он был?
Об этом девушка не догадывалась, потому что — может быть, справедливо — считала, что он везде.
Но те, кто задумывались, заметили, что его нигде, никогда, ни ныне, ни присно, ни на турецкую пасху не было вообще. А тех девушек, как выяснилось, он ласкал где-то — у самих девушек, неизвестно где.
Зачем же тогда он завел себе дорогой автоответчик?
Во-первых, один парень, был он или не был, а был сильно занят. Ночами он творил в лаборатории, утром вклепывал на конвейере, а потом, не помня себя, брал ответственность и руководил.
И все это на необъятном заводе по выпуску автоответчиков.
Ведь не приснился же он сам себе, честное слово!
Кроме того (у хлеба не без крох), часть продукции он приладил для нужд домашнего хозяйства, то есть у него в квартире от этих автоответчиков, буквально, ступить было негде. Это во-вторых.
Но я еще тешу себя мыслью, что, может быть, спихнув функции деятельности и трепа на техническое достижение науки, один парень все это время играл во дворе с рыжей собакой. Это в-третьих.
Мать и сын
У матери был сын.
Когда он вырос, то стал жить отдельно от нее, и она осталась одна.
Мать часто звонила сыну, и он часто звонил ей, но она не догадывалась, что говорит не со своим сыном, а с автоответчиком, и что сын про нее навсегда забыл.
А соседи знали про это, но матери не говорили, чтобы не разбить мимоходом ее ослепшее сердце.
И вот однажды, когда телефон позвонил и стал допытывать мать про ее здоровье, явился собственно сын и стал просить денег, и мать сразу обо всем догадалась, но деньги дала, и у нее осталось еще немного денег, и она пошла на базар, и купила автоответчик, и теперь автоответчик сына разговаривает с автоответчиком матери, и они снова живут хорошо.
Душа с душой
Эх, представить бы себе такую тихую украинскую ночь: кремнистый путь, пустыня, все на месте, — и автоответчик воркует с автоответчиком, как с душой душа!
Но, боюсь, автоответчики такое не потянут. Зачем им эта напряженная трата нервов, если искусство-то хоть и вечно, а жизнь все равно коротка, все излишнее вредит да еще постоянно помни о смерти.
Поэтому надо очень постараться — и представить себе другую тихую украинскую ночь: на воздушном океане, без руля и без ветрил, автоответчик автоответчика с автоответчиком автоответчика, как звезда с звездою, говорит.
Думаю, сбоев не случится, потому что даже в этой все нарастающей цепи испорченных телефонов, в этом утробном, полном угрозы гуде перепутанных проводов, в этом беспрерывном, как перед катастрофой, писке крысиных сигналов, затопившем мировое пространство, — нетрудно будет расслышать единственную, как жизнь, фразу:
— К сожалению, меня нет дома.
Бог с вами
Я переплюну всех моих знакомых.
Я смастерю себе автовопросник.
Я запишу на него один-единственный вопрос.
Я не стану развлекать моих абонентов изысками вроде: как дела да почем брал. Я не стану их провоцировать, напрягать, интриговать, баловать.
Когда они позвонят, я спрошу у них только:
— Есть ли Бог?
И пойду жарить картошку. Мой автоответчик будет произносить эту фразу настойчиво, мягко, через определенные интервалы. А их автоответчики, ну их к чертовой матери, пускай там глотку себе надсаживают, пусть хоть измылятся совсем. Зато мои знакомые, вытянув ноги к камину, будут в это время уютно читать «Рекламу». Разве плохо?
Я и оно
Каждый вечер, независимо от погоды, я выхожу из дома. Я медленно иду по улице, пересекаю парк, потом пустырь.
На краю пустыря, возле сгоревшего сарая, стоит телефонная будка. Она, конечно, ржавеет, стекла выбиты, пола нет — сразу сор и продавленная земля, — нет даже потолка, но трубка цела, и в ней ровно течет гудок. Идя сюда, я всякий раз боюсь, что телефон прикончат, но он чудом продолжает хранить в своем теле ясный живой звук — на краю пустыря, под голым небом.
Я набираю номер.
Длинные гудки.
Снимают трубку.
После щелчка на том конце я говорю:
— Это ты? Привет!!
— Я, конечно, — говорю я. — А ты думала, кто? Маргарет Тэтчер?
— Где же ты ходишь? — говорю я. — Приходи скорей, я так соскучилась!
— Не знаю, смогу ли сегодня, — говорю я. — Много дел.
— Всех дел не переделаешь, — говорю я. — Приходи скорей! Кое-что вкусное есть для тебя!
— А ты что делаешь? — говорю я.
— Я тебя жду — что я могу делать? — говорю я. — Уже поздно, я беспокоюсь, когда ты ходишь в темноте!
— Ладно, — говорю я надменно. — Может, сегодня и заскочу.
Ночь. Я долго гуляю в пустом парке. Раньше мой телефон умел только говорить мне, что меня нет дома, и предлагал что-нибудь сообщить. И я что-нибудь сообщала.
С тех пор я усовершенствовала автоответчик. Он умеет дышать, кричать, хихикать, зевать, он умеет захлебываться словами, хныкать, ныть, и еще он умеет сколько угодно слушать, и близко, в самое ухо шептать, — и он умеет долго, напряженно молчать, совсем по-человечески.
И вот сейчас я приду домой, согрею себе чай и буду слушать диалог.
Июль, 1992 г.
БЕСКАБАЛЬНОЕ НЕБО
День империи
Над островами дальневосточных морей циклоны схлестнулись с антициклонами, молнии полыхнули в небе, и дети дали клятву у знамени, небывалые снегопады обрушились на северные районы тундры, милиционер поднял воротник и посмотрел на звезды, в субтропиках приспела пора бананов, девушка, обняв мужчину, почувствовала его твердую вертикаль, на просторах центроземельных степей оратор налил в стакан воды и захотел спать, волнами качнулись и замерли ковыли, в зоне лесостепи врач набрал в шприц морфию, дирижер с бородой взмахнул палочкой, в Америке из шоколада воздвигли памятник президенту, в районе лесостепи колхозники приступили к севу озимых, повар зарезал жену, японцы предложили проект озеленения Сахары, матрос вошел в метро, положив бескозырку на коробку с тортом, в ареале южного приморья была отмечена вспышка холеры, циркач в блестках завис под куполом шапито, женщина средних лет, с сигаретой, положила телефонную трубку и заплакала, на северо-западе случилось наводнение, землетрясение на юго-востоке, двое пробыли в лифте одиннадцать дней, учительница зевнула украдкой, писатель отказался от гражданства, неожиданные морозы ударили в провинциях западных предгорий, женщина сказала, что чувствует шевеление, рабочий обтачал кирпич, кошка, завидя голубя, метнулась к окну, на землях пятого протектората успешно завершилась жатва, мужчина с арбузом под мышкой, как спортсмен с мячом, прислонясь к столбу, легонько раздвинул ширинку, из которой свесился кончик тряпичного хоботка, давший начало параболической струе.
Шел дождь.
Человек прикрыл голову ладонью.
Его потянуло назад, в поезд, на место с металлическим номером. Девять дней поезд преодолевал пустоту диких пространств, и вагонные сумерки защищали человека от наготы земли.
Впереди до неба полыхал огнями иллюминаций центральный вокзал столицы Империи.
Вокзал владычествовал над местностью. Радиусы владений вокзала выходили за пределы его собственных стен; они проникали за границы привокзальных улиц и площадей, и дальше, за рубежи отдельных кварталов и районов совсем далеких, и даже таких, какие нельзя было видеть глазом; силы вокзала затягивали в свою орбиту все, что обнаруживалось на их направлениях: транспорт, здания, дождевую жидкость, фигуры людей, звуки зыбкого воздуха; они вслепую нащупывали любую поломку в сети объектов своего подчинения и еще сильней присасывали их жесткой центростремительной властью, снова загоняя, включая в организм вокзала для нужд его тела; вокзал непрерывно упрочал зону захвата и держал ее намертво, а там, где его воздействие ослаблялось расстоянием, он смыкался с кругами других вокзалов — крупных, средних, мелких, и в этих пограничных местах особенно бесприютно было живому. Всякий испытывал там непонятную тоску, тревогу, отвращение — и вдруг с ужасающей ясностью начинал видеть во всем неостановимое убывание жизни.
День тезоименитства кесаря не был выделен в Империи среди прочих. Шел дождь. Человек, стоящий на перроне, напрягся до бесчувствия и двинулся к зданию. Из распахнутых дверей вокзала пахло, как изо рта, дождь отдавал синтетикой, электронные часы на стене громко сыграли утренний гимн Империи, и человек вошел.
Телесные фигуры плотно заполняли проемы киосков, будок, теремков, забивались в щели между ларьками, тележками, ящиками, перемещались от прикрытия к прикрытию и хотели еды; крыша вокзала протекала, липкий дождь вяло изнашивал непрочность его внутреннего устройства; в теремках, под ярким анатомическим светом, были выставлены на продажу изделия кустарей и кондитеров мегаполиса, ювелиров западных предгорий, ткачей центроземелья, аптекарей южного побережья и миссионеров пустыни; было много золота из жести и фольги, пластмассовых скорлуп в цирковых блестках, предметов из целлулоида с вкраплениями стеклянных бриллиантов, хрупкая еда имела вид откровенной обманности и, будучи потребленной, вытесняла нужду потребления чувством привычной обиды; целительность снадобий, хранимых в блескучих мешочках, заключалась в силе внушения, но вера в нее была утрачена, потому что многие страдания закрепились в значении разновидности здоровья, и по той же причине сила слова молитвенников из приманчивого картона была размыта, шел дождь; всякий предмет привычно скрывался за преувеличенностью размера, следовало сначала очистить его от пышной целлофановой оболочки, потом от надувной пластмассовой пены, потом вскрыть коробок с поддельным окошечком и там, на дне, найти искусственную конфетку, снять с нее обертку, разломать анилиновую сердцевину и оттуда уже вытащить желтую пуговицу — непосредственный интерес торга; дождь, проникая в теремки, капал на оргстекло, спасающее в витринах бутафорию роскоши, — реквизит, сработанный с формальной претензией на небрежную позу богатства, опереточный реквизит простоватого великолепия — и реквизит неброский, словно бы с достоинством недешевой скромности; оргстекло защищало условные вещи, навсегда подменившие природу вещей естественных; все было труха, трюк и подделка; в лучах анатомического света подложные вещи сильно улыбались нездешней красой, они жили наслаждением оборотничества, в руках они мгновенно распадались, оставляя горсть сора, и всякий знал это, но покупал их, потому что таков был закон вокзала, вечный, как закон дождя; сор возле теремков и киосков топорщился, удерживая фальшивую форму вещи, вокруг желтого бюста кесаря и автоматов для лотереи он был вытоптан и прибит дождем, он вытеснил скамейки для ожидания и горами завалил переполненные, едва видные мусорные урны, выполненные в виде серебряных головок детей с открытыми ртами; толчея, как всегда, была гуще у выхода: ратники обшаривали каждого на предмет ношения оружия, — они наугад запускали руки в кишащую массу, делали три-четыре быстрых формообразующих движения, возвращая телу привычные очертания, — человек выпадал на улицу и прикрывал голову ладонью.
Над Главной Выставкой Успехов Империи сияло незаходящее солнце. Знаменитые зеркала-уловители бриллиантовой огранки мощно возвращали ночи солнечный свет, и вечный день вечного лета застыл над пространством, равным по площади целой этнической провинции, — но составляющим всего лишь один из центральных секторов великого мегаполиса. Территория Выставки была вне подчинения вокзалам, она находилась на особом положении, пользуясь традиционной благосклонностью людей, приближенных к кесарю; круглые сутки в небесах над ее владениями армия невидимых аэростатов делала погоду, и глубокая, бесперебойная голубизна выставочного неба могла соперничать с голубизной вечности.
Выставка была отделена от мира сплошной, высотой в одиннадцать слонов, оградой из белого гракосского мрамора, имеющей с южной стороны единственный вход. Ко входу на Выставку от станции метро вела трехкилометровая аллея из трехсоткратно повторенных одинаковых исполинских фигур основателя Империи, которые, будучи водруженными на громадные, в форме кубов, светопрозрачные постаменты, словно таинственной силой удерживались в воздухе, давая материальную видимость неземного происхождения патриарха. Мерный ритм парения бронзовых колоссов, мистическая одинаковость их облика, неколебимость его даже в перспективе, точно и холодно рассчитанная ваятелями, безотказно настраивали на задумчивый лад неспокойные толпы нацменов. Выставка ослепляла великолепием входа, сочетающего пышность и дикость восточных деспотий, и вход был бесплатным.
Сверху, из голубой бездны, струясь ровным звуком и затопляя просторы Выставки, изливалась специальная музыка для чувства общего наслаждения жизнью и высокой памяти с пользой прожитых лет.
Тела взрослых, детей и юношества, с пеленок прилаженные к братской скученности, неспособные содержать себя вне тесноты единочувствия, ступив на территорию Выставки, мгновенно растворялись в объемах золотого воздуха. Многие, чтобы попасть на Выставку, долгие сутки пересекали циклопические пространства Империи, жертвуя сном в неразберихе дорог. Но геометрически расчисленные горизонты магистральных дорог Выставки, металлический блеск параллельных каналов с ароматической водой, всё новые, безупречно прямые проспекты каменных зданий, в каждом из которых демонстрировался новый успех Империи; нескончаемые снопы позлащенных колосьев, застывших в фаллической боеготовности на фасадах, литых чугунных дверях, вкрапленные в орнамент фонарных столбов, завершающие колонны из черного мрамора, дающие форму скамейкам, урнам, телефонным будкам, дополнительным грузом втиснутые на плечи кариатид, одетых в форму морских пехотинцев, — и отдельные колоски, санскритской свастикой вживленные в оформление любой архитектурной детали; всё новые аллеи, разрешающиеся головокружительной белизной уходящей высоко в небо римской триумфальной арки, или ансамблем ажурных аркад и висячих садов, или внезапно пустынной площадью с зеркальным дворцом на краю и пугающим грохотом пустого бумажного стаканчика, — все это давало каждому почувствовать себя соринкой в сладостно-неумолимых глазах правды и вечности. Люди северного приморья, люди тундры, люди степей, люди центроземелья, люди южного побережья, люди юго-восточных гор, люди западных предгорий, люди субтропиков и люди пустыни, — люди без Бога или люди с карманным Богом для мелких просьб повседневности, — фигурки, одинаково обточенные для нужд Империи и все равно ей не нужные, лишенные хлеба, безъязыкие, одетые в синтетическое, почти бестелесные, — нескончаемой чередой тянулись взглянуть на золотое сердце Империи. Они недоверчиво и жадно ели, привычно теснясь к киоскам из оргстекла, в которых сияли наборы зубочисток, анилиновых молитвенников, наклеек на заплатки, щеток, календарей с Христом и публично раздетыми девушками, комплекты зажигалок и пузырьки с жидкостью от колорадского жука. Музыка киосков существовала отдельно от музыки с неба, не смешиваясь и не оскверняя ее; по берегам параллельных каналов эллиптические чаши, похожие на грандиозные саркофаги, переполненные каменными цветами и фруктами, в строгой последовательности, предписанной политическими культами Империи, чередовались с гранитными скульптурами священных птиц и зверей; по центральным аллеям Выставки красиво и вольно проносились на роликах купленные за деньги длинноногие загорелые юноши и девушки в ярких одеждах, олицетворяющие будущее страны; павильоны внутри были пусты, но величавая комфортность их запустения, благородная прохлада, музейный запах и блеск золотой пустыни паркета производили должное впечатление удовлетворенной любознательности и гражданского благоговения на привычных обитателей тесноты; просторные террасы перед павильонами были украшены бесполыми впередсмотрящими девушками в значении пуританских богинь плодородия; на гигантских фронтонах зданий, в канонизированных композициях, барельефно увековечивались основные героические сцены из мифологии Империи времен расцвета; тысячелетнее оцепенение Египта и упругая сила победоносного Рима слились в маске державы, насчитывающей всего сто лет, привычно ряженной в обноски чужих цивилизаций, — Империи, словно полоумной кокетки, прибавляющей себе благородства седых волос — и неуклюже молодящей свое мертворожденное тело; люди, раздавленные слепым вараном истории, не замечали грубо припудренных трупных пятен; истечение жизни на Выставке было не таким, как в зоне и на границе вокзалов, — оно словно бы намекало на целесообразность смерти зерна, дающего жизнь снопу золотых колосьев, — и, подъяв просветленные лица, люди видели сильных быков, застывших в каменном прыжке на фоне ясного неба, а выше их, наверху самого высокого здания, они видели обозримую со всех сторон мраморную девушку-родину с венком в прекрасной руке, — и белоснежные, с отливом райского жемчуга, облака Третьего Рима, — семь облаков, сработанных аэростатами для красоты контраста с небесной голубизной, — величаво плыли по кругу, копируя и закрепляя небесно границы Выставки.
А по границам земным, иначе говоря, на задворках Выставки, обитали звери для промысловой и любительской охоты. Они олицетворяли богатый мир фауны в Империи, где про них вспоминали, чтобы убить, а здесь не убивали и потому забыли. В загонах, возле сломанных сараюшек, корытца для корма были пусты, по оленьему навозу рыскали крысы, и ослепшие от бессменного света большие животные терпеливо пропускали сквозь свою плоть ровное течение непонятного для них времени.
Человек, девять дней преодолевавший путь на Выставку, снова вспомнил поезд и свое место с металлическим номером. Странно болело в груди: железные пальцы медленно, с вывертом, щипали испуганное сердце. В просвете между болью и болью человек отпускал силу мышц и глубоко вздыхал. Он стоял возле загона, держась за прутья решетки, и смотрел на марала. Животное лежало не шевелясь. Его тело умирало от бездвижности, лишая и отчужденности к своему составу. Посреди неохватных земель государства, несущих в чреве молчание отработанных жизней и залежи полезных металлов, и ростки новых полезных жизней, для которых в Империи заранее были заготовлены металлические отсеки, — под младенческим небом дряхлой, случайно растленной Империи, — человек прощался с животным. Он пожалел, что видит марала так близко. Отдаленное картинками детства и естественной средой обитания, животное застыло в представлении человека навеки красивым, свободным и несокрушимо сильным, — и не в личном воплощении, а как бы в извечном значении родового признака. И сейчас человек, как мог, пытался защититься от внезапно ясного понимания, что не существует отвлеченного благоденствия дружных теремковых зверей, а есть страдание конкретного, смертельно больного, навсегда покинутого зверя; жизнь не может прижиться в организме Империи, а ее видимость не рассчитана на обзор с близкого расстояния. Человек отвернулся.
Рядом с загонами торчал монумент «Космос». Природный космос в значении черной усмешки свободы и диких сюрпризов живородящего хаоса был счастливо удален от Империи, не подлежа витринному обозрению, чтобы уберечь среднего человека от разочарования его космическими изъянами; монумент «Космос» на неблизком расстоянии также был неуязвим своей размытой величиной, словно бы намекающей на тождественность величию истины, — но человек подошел непростительно близко.
Груда переплавленного металлолома в виде гигантского, сплющенного, вытянутого вверх треугольника, с маленьким блестящим треугольником на конце, долженствовала воплощать огонь, пыль и раскаленные газы хвоста ракеты — и сам космический аппарат, устремленный в просторы. Хвост прочно врос в асфальтированную площадку, не давая ракете ни одного шанса вырваться. Это было давно: Империя, упрочив державную власть на землях двух континентов, решила покорить пространство по вертикали. Нужно было построить машину для космоса, и у миллионов животных была отнята сила, и миллионы людей лишились воды и хлеба, и земля, под насилием, выцедила остатки своей крови. Когда машина была готова, понадобился человек для машины. Он должен был обязательно происходить из людей центроземелья; кесарь и сановники были из центроземелья, все прокураторы и наместники были из центроземелья; рядовые центроземелья, утратив собственные черты, навсегда перешли в жизнь плаката, олицетворяя обобщенных подданных Империи, саму Империю в ее непрекратимом расцвете. И такого человека нашли, и нищая семья хлебопашцев много лет не знала, куда и зачем увезли сына, и когда уличный репродуктор сказал, мать рухнула в черный весенний снег, и потом она ползла к станции, и потом бежала вслепую, босая, валенки увязли в грязи, и кто-то впихивал ее в поезд, — и там, в тамбуре, ей все казалось, что вагон стоит, она снова рвалась бежать, ее хватали, удерживали, — но в главном городе Империи она осталась одна, и толпы выкрикивали имя ее сына, разделившего одиночество Бога, но не было на Земле существа более одинокого, чем его мать.
У человека болело сердце. Он присел на скамейку возле павильона. И увидел афишу. Сердце вырвалось из железных пальцев и ударило в горло. В павильоне экспонировалась трехтысячелетняя культура людей дельты. Афиша была преувеличенно будничной. Человек не поверил глазам.
Рассеянные по свету, люди дельты обитали и в Империи, но их словно бы не было; название этой этнической группы обычно заменялось официальным «нецентроземы», а улица, базар, университет, двор, школа, армия, кухня и подворотня бросали по-своему: черноротики, юрóды. Неизвестно почему, достижения этой культуры были разрешены для обзора именно сегодня, один день, с семи до десяти часов вечера условного летнего времени; электронные часы на стене павильона громко сыграли вечерний гимн Империи, и человек вошел.
Механические куклы, наряженные почти что в настоящие одежды легендарного народа — ощущение подлинности обеспечивалось непритязательностью и простодушным невежеством зрителей, — исправно двигали ручками, вращали туда-сюда головками; толчками, с бесперебойностью завода, они перемещались в застекленных витринах, представляя священные обряды людей дельты; свадьбы и похороны на первый взгляд были чем-то схожи; церемониалы очаровывали реликтовой театральной патетикой; было много хозяйственных и бытовых сценок: наставление ребенку, сбор винограда, кормление козы; в домиках с игрушечной обстановкой сидели переписчики древних книг, аптекарь получал письмо, портной возвращал долг ростовщику, на декоративных ландшафтах с рекой из фольги, протекающей на границе между зеленым лесом из папье-маше и загрунтованным лиловым холстяным лугом с капроновыми цветами, — разворачивались батальные сцены; куколки трогательно разыгрывали наиболее известные, вошедшие в поговорку эпизоды своей эксгумированной культуры, трехтысячелетней своей истории, залитой кровью, проникнутой ужасами пленения, изгнания, вечного изгойства, — истории, просветленной величием исключительной жизнестойкости — генеалогической, повседневной; приравнивая прошлое к настоящему, куколки демонстрировали несломленную веру в таинство своего мистического назначения, — и коричневые, соответствующие масштабу, горы из коричневого пенопласта, с накрахмаленной, в блестках, ватой в значении снегов великих вершин, — довершали эпическую картину, где в качестве солнца сияла люминесцентная лампа шестидесятисвечового накала.
Помимо кукол культуру экспонировали экраны видеомагнитофонов, на которых мелькали сцены древности вперемешку с пропагандой современной жизни в дельте: взмахивал руками пророк, люди откупоривали разноцветные бутылки, непрерывно смеялись, плавали в голубых бассейнах, загорали, демонстрируя очень густые чистые волосы, пророк взмахивал руками, люди дельты откупоривали бутылки и, прежде чем выпить, долго, со значением, улыбались.
Оставалось пятнадцать минут до закрытия, когда у выхода из павильона человек увидел группку людей и детей среди них, одетых с элементами национальных деталей, какие были у кукол, — людей, говорящих на языке дельты, которого он не знал, но узнал сразу. Человек был человеком дельты, — так было написано в паспорте. Люди говорили плохо, не умея скрыть усиленную работу мозга, подбирающего малоосвоенные сочетания, но жесты хорошо говорили о том, что люди дельты с грустной радостью собирают всех несущих в себе зерна дельты, слышащих пение ее крови. Сердце человека пыталось увернуться от железных пальцев, пальцы настигали.
Что же я скажу этим людям? Что с самого детства отчаянно ненавидел их — жалких, нелепо сочетающих скорбную пришибленность париев с высокомерием сосланных на конюшню королей, — сумасшедших королей, источников веселья пьяных в дрезину конюхов? Они знают это, — именно за это они авансом выдадут мне свою любовь и жалость. Объяснить им, что значит брезговать своими родителями, собой? Они знают и это. Подойти молча? Но разве даже на расстоянии я не чувствую сил отторжения? Они никуда не исчезли. Всю жизнь я безотчетно избегал эти компании, где все — «наши», где любовь давалась с первого взгляда, в залог: наш. Наш: обиженный и обреченный, униженный и оскорбленный, оскопленный, ущербный, самый лучший: наш. О, эти заговорщические подмигивания — наперед знающих друг о друге все — сообщников вынужденного сосуществования! Да ничего вы обо мне не знаете. И что же делать, если меня непоборимо отвращают эти объединения инвалидов, — я ничей, не нужно мне костылей ваших. Наших?.. Ни наших, ни ваших. Я ничей.
Эти люди бессловесно почувствуют все и будут держаться со мной отторгающе аккуратно, как с самым чужим чужаком, — они будут очень, очень вежливы, а когда я отойду, снова залопочут свою молитву: не наши, не наши, ваши — не наши, наши — не ваши, наши, наши. И, может быть, вдогонку, для порядка, бросят: а чем ты вообще занимаешься? Что скажу им? Точнее, чтó промолчу?
Я хроникер этой Империи. Язык бесшабашных центроземов — мой кровный признак, формула моего дыхания, состав моего тела, моя единственная надежда, ангел-хранитель, который защищает меня от хаоса отчаянья, животного страха, — дерзкий, гибкий, преисполненный молодого нахальства и пьянящей беззаботности транжир несметных богатств. Он не имеет никакого отношения ни к фальшивой короне Империи, ни к нарядам ее кесарей-временщиков (я хочу, чтобы дети получали двойки, путая их имена), — ни к тронам этих косноязычных истуканов, с неуклюжей наглостью украсивших их ворованными бриллиантами и, конечно, изгадивших, как бутылочные осколки, как все, к чему они прикасаются, — но если есть еще где-то незакабаленная голубизна неба, то этот язык имеет отношение именно к ней, к ее бескрайней чистоте и тому несказанному ее свойству, которое не может выразить сам. Видит Бог, я не выбирал эту судьбу, — выбрали меня — для чего-то, что я не знаю и, наверное, не могу изменить.
Или могу? — человек шел без дороги. Или могу? Какой соблазн — не лучшей, просто иной — судьбы! Для чего же тогда мне, дураку, были даны эти глаза, эти волосы, эти неожиданные интонации, так не похожие на те, что у людей с плаката? Для того ли, чтобы я, — на вопрос, знаю ли свой язык, — с непритворной гордостью идиота восклицал: какой еще «свой», да вы что! В иной судьбе я мог бы любить свою бестолковую, гортанную, бесчисленную родню, своих несметных, как у стародавних патриархов, детей, — Боже мой, как естественно и уютно было бы мне на широкостволой оси времени между предками и потомками! Да, мне выпало бы стать патриархом рода, род был бы для меня — нет, не «наш» — свой, до бесчувствия свой, свойский, как рука, — нет, зачем патриархом, — просто ребенком, вечным ребенком под защитой подолов своих старух, матерей, своих шестиюродных теток, просто теток, — садитесь все за стол, я так люблю вас, что не знаю об этом.
Жалею ли я о несбывшемся?.. Наверное, нет, потому что не верю в возможность выбора. Есть так, как есть, и не могло быть иначе, просто не могло, но почему же так болит сердце, — эй, ну пожалуйста, ослабь тиски, подари просвет для одного вдоха. Крупные аллеи, все более укрупняясь, врастали в еще более крупные, а те впадали в проспекты, проспекты ширились, и вот уже громадные площади пошли сменять пустоту друг друга, и разредился воздух пространства, и человек наконец увидел то, к чему безостановочно стягивались ручьи телесных фигур.
Огромный фонтан перекрывал голубизну неба.
Его сердцевина, золоченое солнце, испускала сноп канареечных лучей-символов; возле каждого вращалась фигура золоченой девушки, все они плыли вокруг солнца, — хоровод идолов, олицетворяющих этнические провинции Империи, ее национальные уклады и суверенные достоинства; каждая кукла держала в руках образцы скотоводства и земледелия, присущие географии ее мест, знаки самобытного плодородия под эгидой Империи. Ваятели, как могли, старались передать этнические особенности истуканов, но, приученные лепить подставное, художники ослепли, — и титаническое, единое в кошмаре безличия, чудовище рождало восторг и сакральный трепет пред всемогуществом и ненасытимостью плотской похоти власти. Загипнотизированные, люди стояли бездвижно. Фонтан с грохотом извергал жидкость, демонстрируя неиссякаемость своего всесилья и грохота, и потому была тишина.
Кто я? Почему стою перед тобой? Как сбросить мне эту врожденную позу жертвенной покорности? Люди северного приморья, люди тундры, люди степей, люди центроземелья, люди южного побережья, люди юго-восточных гор, люди западных предгорий, люди субтропиков, люди дельты, люди пустыни — ты прососал через утробу свою миллионы жизней и распылил их для блеска своих алмазных, отдающих синтетикой брызг. Как же долго надо было возделывать смерть, чтобы она наконец взошла! Кто ты? Гордость панконтинентальной державы, клочок ее омертвелой плоти, на котором еще прощупывается пульс? Чтобы пульсировать, ты поглотил силу травы, деревьев, птиц, а небо подменил искусственным, ибо и голубизна его пошла тебе на потребу. Кто ты? Маленькое злое сердце третьесортной страны, ее провинциальная радость, — ты, ворованный пятак Империи-нищенки, спесиво сидящей с протянутой рукой на обочине цивилизации! Как красивы твои гордые брызги водянистой от слез крови… Я не успел родиться, а уже умер, потому что, когда еще не появились на свет мои отец и мать, когда еще не встретились для их рождения мои безымянные пращуры, — ты уже знал, что выпьешь до дна мое сердце. Вон там! Это я мгновенно сверкнул под небом мельчайшей водяной пылью! Для чего ты, фонтан? Если сама вечность создана на усладу твоего тела, то почему ты не ешь золото недр, зачем тебе наши хрупкие жизни?
…Потом человек звонил по телефону; никого не было дома. За стенами Выставки чернела ночь, весь путь до вокзала шел дождь. Человеку выпало место с тем же номером, и он подумал, что это к счастью. Сердце уже не щипали — его проткнули толстым железным пальцем; надо было как можно скорее лечь, чтобы приспособиться к новой реальности. И как только он закрыл глаза, поезд поплыл, и человек увидел голубое небо — вечное, девственное, неподложное, бескабальное, — и в этой беспредельной голубизне он вдруг различил розовую икринку — она всплыла ниоткуда, человек обрадовался, приняв ее за воздушный шарик, и решил, что этот сон к счастью, он еще успел удивиться частоте счастливых предзнаменований и тому, как быстро, как непоправимо быстро и, кажется, навсегда отлетает от него к небесам эта прозрачная икринка, детский воздушный шарик, — розовый, легкий, ничей.
Январь, 1991 г.
Месторождение ветра
Служащий, привычный убивать время кроссвордом, конечно, с ходу сообразит, что «трехколесная или двухколесная машина с седлом» — это велосипед.
Коллеги скорее всего не заметят, как он сразу же скиснет, как старательно засмеется, слушая анекдот… Под шумок он вышмыгнет покурить — и там (подоконник, банка с окурками) наконец-то отпустит подтяжки, обвянет, состарится…
С трехколесным велосипедом была долгая счастливая жизнь, лет до пяти. Хруст гравия под колесами, очень разный в мае и в октябре (а названия месяцев ездок тогда еще твердо не знал), сменялся скрипом паркета в бессрочном электрическом вечере: мелькали знакомые залысины половиц, хрустели клавиши-деревяшки по всей сложенной в елочку дальней дороге — с лыжами, телефоном, коляской, вешалкой, страшным сундуком, спиннингом, стулом, корытом, а назад — наоборот, где лево — там право, и снова: от входных дверей — до кладовки, и снова: от кладовки — до входных дверей, и снова: от входных дверей до кладовки, и снова, и снова, и снова, и вот велосипед опять вырывается в май, парк, в еще мокроватый хруст гравия…
…Он давно погиб в духоте темной кладовки, придавленный ящиком с утюгом и гвоздями, все звал детей, но их не было, и жизнь его отлетела в тридесятое царство вместе с мыльными пузырями проведенных с ним дней, каждый пузырь размером в слона. Звони! Пиши!
Двухколесный не подпускал. Ух, как злобно врезался он твердым своим хребтом — прямо в пах, в нежный мешочек с незрелым еще семенем! Дикий жеребец, жестокий и хитрый…
«Вот! вот! — вскричал психиатр. — Пах! Жеребец! Именно так! Скажите, — он направил свет прямо в лицо пациенту, — каковы были в юности ваши отношения с отцом?» «У меня не было отца, — сказал служащий. — Только мать. Я дитя революции». «Но ведь не от лозунгов же она забеременела, я извиняюсь», — сказал психиатр. «Нет, — согласился служащий. — Ей ветром надуло».
…Дикий жеребец, жестокий и хитрый, — он не давал человеку даже на миг удержаться в седле. Человек только и мог что, стоя на педали одной ногой, ковылять другой, подскакивая, как курица. Вот уродство! Позорище! А велосипед диктовал: «Ты не ездок, понял? Ты пешеход. И пешеходом подохнешь. Делай ножкой топ-топ. Ты меня понял?» Все дворовые окна вылупились ради такой потехи, все дома, вниз по улице, раззявили двери, беззвучно хохотали статуи голых девушек в ночном парке… А человек (тогда еще молодой человек) знал о себе совершенно точно, что он — не только пешеход, абонент, гражданин… Какой ужас — вот так и прожить свою жизнь вежливым пассажиром трамвая! И снова садился в седло.
Некоторые полагают, что искры из глаз — просто метафора. Расхожая неосведомленность. Спектр их, кстати говоря, зависит от многих причин. В первую очередь, конечно, от величины ударной силы и конкретной точки ее приложения. Угла направления силы. Принципиальной готовности объекта к получению ран и увечий. Погоды. Ну и так далее. А вот, например, зубы выплевывать совсем не больно. Только всякий раз напоминает сон.
Вообще-то любую боль терпеть можно. А какую нельзя — мозг знает и сам выключается.
«Послушайте, — сказал психиатр, — вы же наделаете себе серьезных дел! Вы же когда-нибудь так шандарахнетесь, что… Повезет, если сразу готов — и в сторону. А если мужчиной перестанете быть? Как у вас, кстати, с половой функцией? Расстройств не бывает? Пока не бывает. А станете продолжать свои экзерсисы — можете получить очень серьезную травму и нарушить функцию… Хуже этого, если вы еще не поняли, ничего нет».
Служащий, сидя на стуле боком, профессионально смотрел в окно. Велосипедист в черной футболке и красной шапочке, хищно выгнув спину, гнал с вершины поросшего елью холма. Дома с деревянными башенками и верандами еще спали. Сорока, вспорхнув на синий забор, качнула хвостом.
«Все имеете, потому и не цените, — сердито сказал психиатр.
— А у меня вот был пациент, ему коза на даче заехала в крестец — коза, рогом, — все, с тех пор он имел свой член уже только помочиться».
«А я знал одну пару, — задумчиво сказал служащий, — у них еще хуже было». «Что вы говорите!» — поощрил психиатр. «У мужа страдала половая функция, и он все носил сперму на анализы…» «Вот видите!» — сказал психиатр. «И когда он с пробирками в очередной раз переходил железную дорогу, ему отрезало обе ноги…» «Что вы говорите!» — сказал психиатр. «Зато половая функция потом полностью восстановилась». «Вот видите!» — сказал психиатр.
Память о физической боли всегда как-то прохладней, чем память об унижении. Изучая земные диапазоны боли, проваливаясь в подпол новых болевых измерений (натуралистические подробности опускаем), человек, как правило, складирует добытый опыт в самые что ни на есть низовые отсеки мозга: не суй пальцы в розетку! не играй со спичками! повязывай горло шарфом! — но не надсаживает этим знанием душу.
Память о стыде, скорее всего, отлетает вместе с душой.
…Он по-прежнему не мог проехать на велосипеде и метра. А ведь он много чего умел! Например, вкалывать по двадцать часов в сутки, легко прощать близких, не воровать, не возводить ложных свидетельств и даже, что кажется сложней всего в его положении, не завидовать тем, кто обладал недоступными ему способностями. Редчайший дар.
Но стоило ему сесть в седло… Он знал, что через секунду разобьет свое ненавистное лицо. Ненавистные руки, ненавистные ноги. Хотя бы и вовсе их к чертовой матери переломать! Он знал, что все равно после этого сядет на велосипед — и разобьет снова. Сесть будет уже труднее. Не сразу вынудишь вторую ногу встать на педаль. А потом? Он знал наизусть. Упал, встал, упал. Встал. Упал… Не встать… Никак! Лодыжки чертовы! Самая злорадная часть скелета. Придуманы специально: если уж зашибешь раз, так потом двадцать раз подряд саданешь в то же место!
Конечно, травма как способ жизни предполагает обильный урожай эмпирических знаний — благо что инструмент знания, боль, с годами не тупится, не гнется, не ржавеет. На этом пути обязательно постигнешь, например, феномен предболевой паузы.
Боль после удара наступает не сразу. Пока еще сигнал достигнет мозга, пока там оценят величину катастрофы, пока подберут соответствующую дозу страдания… Во время этого, как бы ни мал был пробел, человек всегда успевает заглотнуть пустую наживку надежды. И даже еще успевает, до боли, понять, что обманут. Много чего умещается в это затишье за миг пред кромешным обвалом. (Натуралистические подробности опускаем).
Вставай, кончай разглагольствовать. Уже можешь подняться? Итак: вот руль. Вот педали. Вот, видишь: седло. Ну? Три-четыре. Сел.
…Удар, пауза — взрыв!!! …Запах удара в носу… Мешок с дерьмом. Вонючка. Урод.
Честно говоря, он даже перестал верить, — нет, никогда не верил, — что двухколесный велосипед — это реальность. Реальной была боль, кровь, мертвая металлическая конструкция с рулем, цепью, колесами… Но велосипед! Ему даже казалось, что изобретена эта штуковина с единственной целью — чтобы разжечь в его неуклюжем, замшелом мозжечке этот гибельный, ничем не утолимый зуд. Нет, не укладывалось у него в голове — как, каким образом в бедном трехмерном пространстве может так запросто, на одном крыле, зависать эта по-стрекозьи прозрачная, почти бестелесная плоскость. Где ниточки? Иногда он даже допускал малодушную мысль, что велосипед существует только в его воображении — не более (хотя и не менее) ощутимый, чем ковер-самолет и тому подобная всячина…
«Вам все это снится, — сказал психиатр. — Вы живете во сне. Ну, хорошо. Какого цвета ваш велосипед? Чаще всего?» «Розовый», — признался служащий. «Вот! — потер руки психиатр. — А вы говорите! Поллюции часто бывают?»
Время от времени случались аварии. Нет, грузовики его не сбивали — сам он тоже не калечил соседских кошек. До такого пилотажа дело просто не доходило. Потому что он, то есть служащий (все безнадежней застывая в очертаниях служащего), по-прежнему был неспособен проехать и метра. Аварии все случались простые, житейские.
Ну, например: он и девушка, большое и сложное чувство, мечты, что, когда, навсегда. (А велосипед с первого действия висит на стене, но пока не стреляет). Взлетает и падает занавес… Снова взлетает… И вот кульминация: ночь, пригород, мигрень, аптека (допустим, что так), — в смысле, что эта аптека уже закрыта, и надо сгонять… где велосипед? А он не может, не может, не может! Позор и слезы. Между ними все кончено. (По сути, всегда так). Бритва и вены… Бородатое лицо психиатра, склоненное с реанимационных небес… Сопли и письма… И наконец, стойкое прозвище «недорезанный» — изящным довеском к гораздо более выразительному.
Конечно, вне всякого сомнения, должны были существовать какие-то материалистические объяснения его странного изъяна. То есть, уточним мы, обычные следствия в цепочке следствий, с детской незамутненностью выдающие себя за причины. Но, однако, не должны же мы, в самом деле, так далеко отрываться от предметно-чувственного субстрата жизни! Почему, например, молодой человек, вы до сих пор скрывали от нас, что одна нога у вас несколько короче другой? Ведь именно это обнаружили еще в детстве врачи. То есть другая нога, как обнаружили другие врачи, оказалась немного длинней. Почему?
Почему скрыл — или почему разные ноги?
Почему ноги.
Ну, это просто. Все мои предки в обозримом прошлом хаживали в революцию. На фотографиях их лица: вдумчивые, очень несчастные… Матушка, на сносях, бегала с прокламациями, застудила брюхо. Оттуда, я полагаю, моя романтическая колченогость. Ветер, ветер — на всем божьем свете… А вот почему она с прокламациями бегала… Впрочем, это не столь важно… Однако вы видите, что я, надо отдать мне должное, даже не хромаю. Тело имею полноватое, оно как-то там приспособилось, я даже очень недурно танцую (редко, но выпадает счастливый случай), — иначе говоря, где надо ходить, прыгать, бегать — я все это делаю. Опять же английский бокс, классическая борьба…
Вот врет же, врет! В том смысле, что говорит полуправду. К примеру, какой там, к черту, английский бокс? Верно, что телесный изъян был крошечный, сантиметровый, сам по себе он не мешал ни бытовому прямохождению (в его усредненном, довольно-таки непритязательном виде), ни каким-то там правам-обязанностям пассажира общественного транспорта. Но тот, о котором речь, предпочел бы до конца дней своих подставлять под град ударов левую-правую-левую, только бы не дубасить по чьему-то, всегда с глазами, лицу, где красная кровь так легко и просто заливает губы, подбородок, вздыбленный, как под пыткой, кадык…
Из секции классической борьбы его выгнали довольно быстро, потому что тренер не мог спокойно смотреть, — да и, конечно, никогда не видывал прежде, — чтобы ученик во время работы прямо-таки заходился каким-то дебильным смехом. Но что делать, если ученику казалось комичным — деловито кряхтя, багровея, громко выпуская порченый воздух — наваливать свою тушу на тушу противника, чтобы потом, расставив толстые стопы, стоять в глупой позе чемпиона.
Что же касается баскетбола… О том он умолчал не случайно. Сей эпизод в его жизни оказался, мягко говоря, больноватым. Он обожал этот спорт двухметроворостых богов, ценящих минимальную заземленность — полет за мячом, с мячом, вместо мяча — и, пусть земля по-бабьи цепляется за ноги, — пробег, пробег, мы стряхиваем ее прах — прыжок… Кольцо баскетбольной корзины, сияющий нимб победителя!
Но всюду, где касалось полета, служащему было словно заказано. Сначала его в секцию баскетбола охотно приняли, даже выдав авансом поспешно преувеличенные надежды (и то сказать, тогда он еще не был служащим — зато в своем классе стоял самым первым по росту). Но уже через короткое время предательские железы взрослых взялись стремительно созревать, рост ввысь резко прекратился; одноклассники же, избежавшие столь бурной атаки взросления, долго еще накапливали дармовые сантиметры, невольно растянув детство по всей длине своих тел…
А он, вероломно обманутый собственной плотью, остался почти коротышкой.
«Вот видите: железы, — сказал психиатр. — Без желез никуда. И опять же: плоть. Вам часто снится секс?» Он выговаривает: сэкс. «Мне снится велосипед, я же говорил вам об этом». — «Ах да, розовый…» — «Я всю ночь сегодня на нем катался… Проснулся — даже простыня мокрая…» — «И вы что, серьезно не видите сходства между велосипедом и женским половым органом? Голубчик мой, это же каждый школьник знает: все, что круглое, с дыркой, — то женское. Например, колесо. А в вашем случае, — психиатр одобрительно кивнул, — их даже два!» «Мне снится мой детский, трехколесный…» — тихо сказал служащий. «Вот видите!!» — вскричал психиатр.
Да, земля держала его накрепко, по-родственному уступая лишь стихии воды: он мог лежать на море часами — спать, не спать, снова спать, — вода, выполняя свои физические обязательства, держала на поверхности его тучную плоть, — но это ленивое лежание нигде не пересекалось с горячечной мечтой о велосипеде, который, чуть вздрагивая, стрекозой — нет, птицей, именно птицей — бесшумно мелькал на горизонте его взрослого мозга.
С моря дул бриз, с гор летел фен, играя нефритовой листвой кипарисов… Эти ветра были ничейны, еще не загажены человеком с его бытовым прищуром и вечной примеркой к хозяйственной пользе. И они были ничейны также в том смысле, что дарили себя всем без разбору — а не всем-то и были нужны.
А потом, на обратном пути, когда высунешь голову из окошка вагона, — там тоже живет не твой ветер — этакий красиво треплющий волосы кинематографический ветерок (как бы входящий в единый комплект железнодорожных услуг — вместе с ложечкой, дребезжащей в стакане, грязноватым матрасом, стопкой белья). Любой дурак купит себе билет — и ему гарантирован, в соответствии с прейскурантом, именно такой ветер… Потянутся за окном осенние перелески, насыпи, рощи, психиатр-фавн будет мелькать здесь и там, ловко расставляя силки в дебрях бесконечного разговора… «Не опаздываем? Не выходим из графика?» — вскудахчут возле самого города сплоченные праздностью пассажиры, — и, как бы ни плелся поезд — или как бы он ни спешил, — все вернутся в исходные точки свои, как если б и вовсе не уезжали.
Но собственный ветер! Дикорастущий сквозняк! Громадные месторождения ветра — еще не названные, не обозначенные на карте, еще не тронутые ничьими губами! Я, только я, слившись с велосипедом, буду разматывать вдаль полевую дорогу, мой ветер будет мощно хлестать в отворенное русло, — поток, поток, воздухоносный поток! — неужто не отхлебнуть хотя б напоследок? Неужто это уже до конца? Господи, неужели — спальный вагон, затертая в сгибах газетка, чай? Проезжая мимо города Киева, с него ветром сдуло панаму. Эх!..
Проходили годы, приходили новые журналы. Велосипед в разделе кроссворда именовался как «механическое транспортное средство, приводимое в движение ногами». Служащий мгновенно узнавал его, вписывал слово из девяти букв… Остальное время он с тоской глядел в зарешеченное окно конторы, заставленное вдобавок рулонами бумаги, геранью, старческими ответвлениями алоэ… какими-то банками с желтоватой водой…
«А!.. — сказал психиатр. — Давненько не виделись… Синячки под глазами, так, так… С чего начнем?» — «С велосипеда». — «Ах да, ну конечно… Нарисуйте-ка мне его, знаете ли… Вот бумага, вот ручка… Так, так… Стул регулярный? Отлично. Что это? Руль. Отлично. Что вам напоминает руль? Быстро, быстро!» «Рога…» — неуверенно сказал служащий. «Вот! — сказал психиатр. — Другого ответа я от вас и не ждал. Вам жена изменяет?» «Не знаю…» — сказал служащий. «То есть как это: не знаю? — возмутился психиатр. — Вы же взрослый человек!» «Вот то-то и оно! — с отчаяньем вскричал служащий. — Вот то-то и мерзко!»
Рос сын. Ему уже можно было сказать: подержи меня… я тут в парке… попробую… Сын крепко держал велосипед, давал советы, орал, заклинал, позорил, а став чуть постарше, уже просто ржал. И все-таки это был еще ребенок, подросток — и рядом с ним (в бессчетный раз рухнув на землю) можно было почувствовать себя тоже подростком, с разницей в несколько малозначащих лет. Они уединялись на дальних дорожках, в ландшафте милого летнего дня, и неуклюжий папа мечтал, что, может быть, этой своей беспомощностью он как-то зацепит любовную память сына…
«Дался вам этот велосипед! Дети в Африке не получают необходимых для их развития протеинов! Вы газеты хоть читаете? Да мало ли проблем! У меня третий день не работает холодильник, притом новый почти. В дельте Амазонки дохнет подвид синего крокодила! Ну и что? И тоже, как видите, ничего!»
Служащий смотрел в окно. Рамы были распахнуты. Он закрыл глаза, чтобы не видеть. Застучало в висках: крылаты куры, да нелетны… молодость пташкой, старость черепашкой…
«И вообще! — взорвался психиатр. — Сотни тысяч людей в мире не умеют ездить на велосипеде — и не делают из этого проблемы!.. Десятки миллионов!» — добавил он запальчиво. «Вот это меня как раз и добивает», — не открывая глаз, тихо сказал служащий.
Однажды сын сказал, что болит горло, попросил заглянуть. Отец велел подойти к окну — и там, надев очки, при свете ясного дня обнаружил, что у сына растет борода.
(Правда, и ангина была на месте. Горячий привет из детских кроваток).
Когда сын поправился, они, как обычно, пошли в парк. Этим летом сын держал велосипед как-то рассеянно, отвечал отцу через пень-колоду и даже не очень издевался. Этим летом отец получил в одночасье сотрясение мозга и множественные переломы ног — закрытые, открытые, со смещением. (…Вырвавшись, велосипед сиганул с пригорка, мигом наметив в сообщники ствол ближайшего дуба… Не домчав метра, он судорожно тормознул — кому же охота калечиться, — но человека сумел-таки отшвырнуть, — причем кувырком, кувырком! Довольный собой, он долго еще вертел задним колесом, все не мог просмеяться… Человек, теряя сознание, поклялся, что, если выживет, собственными руками уничтожит это… сволочное… железо…)
«Жизнь есть цепь компромиссов, — сказал психиатр, хлюпнул, клацнул и ловко поймал вставную челюсть. — Необходимо снижать свои требования к жизни».
«Цепь… свободная передача…» — пронеслось в голове служащего.
Хохочущий велосипедист — рубашка в волдырях ветра — обернулся и помахал рукой…
На будущее лето — нет, кажется, через пару лет — внуку потребовался трехколесный. Дед, заметно прихрамывая, пошел выбирать его с сыном — и выбрал точного двойника того, что катал его в детстве. Случаются же такие удачи!
Он и сам не мог объяснить, как такое оказалось возможным: в перевернутом с ног на голову мире, давно вытряхнувшем его с небес младенчества, вытолкавшем взашей в люди, на чужбину служащих, на заработки слез и болезней, в толпу взрослых усталых людей, в эту пожизненную эмиграцию, где никогда не привыкнешь и все тянет назад, — в мире, по сути, лишившем его дома, как мог в целости сохраниться детский атрибут со всеми того дома чертами?
И они с сыном понесли новому ребенку этот розовый, цветом в карамель, сверкающий велосипедик — с рулем-баранкой, пухлыми бубликами шин, хрюкалкой-звонком…
Вечером долго сидели на веранде. Психиатр пил чай с ксилитом, сердился, когда что-то не мог расслышать, забывал слова…
Двухколесный велосипед, зловещий угрюмец, между тем поджидал своего врага в дачном сарае. Он упрямо терпел осеннюю сырость, зимовал, стиснув зубы, а весной, когда лопаты, грабли, тележки, носилки — весь этот презренный инвентарь быта, родной брат навоза, уже выпускали в сад, — когда это дрессированное стадо, отродясь ручное, неприхотливое, незнающее мечты, вечерами возвращалось с работ, в счастливой усталости распространяя пьяный запах земли, — велосипед только сильнее закусывал удила, из последних сил скрывая зависть, презрение, бешенство. Впрочем, в углу, где стоял он, вкусно пахло опилками, клеем, дикой жизнью котят…
…Враг пришел, распахнул дверь и вывел велосипед под уздцы. Каюк, решил велосипед. Рядом с врагом шел тот, помоложе. «Не надо, папа, зачем, папа», — мямлил сын.
Они пришли в парк. Стояло пригожее майское утро, непоправимо грустное в перевернутом бинокле заранее подступившего воспоминания. Было безлюдно.
Папаша, дедушка, вечный служащий (впрочем, совсем молодой дедушка и даже не предпенсионный работник) с привычной обреченностью поставил ногу на педаль, закинул другую, кивнув на подрамник сыну: держи.
И они трудно поплелись по знакомой дорожке (аллее потерь: зубов, гибких суставов, надежд), — тело, как всегда, было скованно и болело, руки добела вцепились в руль, переднее колесо бесстыдно вихлялось, заднее лягалось и злобно взбрыкивало на крупных камешках гравия; рядом с катафалком обреченно шагал сын, придерживая, где было велено.
В прежние годы из детской жестокости, а может, что равно, из любопытства, сын любил внезапно выпустить велосипед: ему казалось, что тут надо действовать, как в плаванье, то есть послать на волю судеб. Конечно, отец незамедлительно — толстой ласточкой, кем-то подбитой, — летел в объятья всегда готовой земли. И может быть, непрерывно ожидая этого, ставшего дежурным, предательства, он ни на миг не мог ни расслабиться, ни собраться, то есть правильно соотнести сердце и тело. Еще на подходах к парку (в былые годы) он, наспех произведя формальные расчеты с самолюбием, вынужден был всякий раз сказать вслух эту ужасную, предназначенную для ушей сына фразу: «Не отпускай». Ничего перед носом не видя, он бубнил, подскакивая на ухабах, эту позорную формулу слабости, — честней говоря, канючил, канючил, канючил в течение всей пытки, то есть во все время, пока сын, презрительно сузив глаза, с явно показным послушанием держал руль. Но сколько бы они так ни плелись, сыну под любым предлогом удавалось убрать щенячьи свои лапы с руля и перейти на подрамник, а там уж непременно осуществить безжалостное вероломство. Иногда сын проделывал этот трюк, даже не прячась за отцовской спиной, просто убирал руки с руля, одновременно делая широкий и резкий шаг в сторону, — и так происходило из раза в раз, из года в год, но почему-то всегда неожиданно. Может быть (как ни жестока догадка), это и было негласным условием — или твердой таксой его эскортных услуг.
С годами эта забава сыну поднадоела. Его задиристость постепенно заглохла. Похоже, он перешел рубеж, за которым перестают ждать чего-либо не только от отца, но и от себя самого.
Они доплелись до просторной поляны, центр которой украшали березы. Гравий закончился, и велосипед задергался на кочковатой, сплошь в узлах подорожника тропке.
Поляну, со стороны парка, ярко обрамляли ели. Прямо в направлении взгляда они расступались, открывая полевую дорогу. Отец и сын обычно не заезжали так далеко, а добрались незаметно. «Отпусти», — сказал отец. Сын переспросил. «Отпусти!» — с силой крикнул отец.
Сын вздрогнул и отпустил. Руль крутанулся, колесо выдало крендель, врезалось в пень — человека швырнуло по плавной параболе — и вмазало в землю под деревом. Когда сын подскочил, отец уже успел сесть, откинувшись на локтях и (может быть, с излишним старанием) вольготно расставив колени. Глядя в сторону, сорвал молодую травинку, рассеянно надкусил… По губам, подбородку и шее, капая за ворот, текла кровавая юшка. Сын молча подал платок, отец молча вытер, вскочил, сел на велосипед, но, видно, не рассчитав, а может, нарочно, поставил вторую ногу на педаль раньше, чем сын взялся за подрамник, — рухнул тут же, как всегда, не отъехав и метра. На этот раз он не смог встать сам. Удар пришелся в то же место, причем зашибленное колено попало прямо на камень — единственный по всей долгой тропинке. «Вот так и получается рак», — виновато улыбаясь, сказал отец. Сын помог ему встать. Велосипед продолжал валяться, нагло приминая молодую траву. «Поедем назад, там ровнее», — сказал сын. «Нет, мне тут нравится», — сказал отец. «Что тебе нравится?» — спросил сын. «Я не знаю».
Было безветренно, ясно. На ель села сорока. Далеко сзади послышался поезд; смолк. «Я буду держать», — сказал сын. «Будешь?» — машинально переспросил отец.
Он шагнул к велосипеду и увидел рядом с ним, в прошлогодней траве, что-то большое и темное. Это место еще не успело подернуться зеленью, здесь были навалены сучья, а то, что под ними, скрывала густая тень ели. Тайком от сына (сам не понимая, почему делает это тайком) он дрожащими руками протер очки. Потом сделал осторожный шаг и, стараясь заметно не наклоняться, взглянул.
На земле лежал человек. Черный парадный костюм выглядел почти новым. Человек лежал, прямо держа голову, вытянув руки по швам. Его внешность была незнакомой, но, обученный опытом снов, служащий с первого же мгновенья знал, что видит себя.
Охваченный острой жалостью, он присел рядом.
Сын, судя по всему, не замечал того, кто лежал. Он видел только, что отец слегка отошел, присел; приняв это за перекур, сын машинально нашарил сигареты. Для очистки совести он все-таки бросил отцу в спину: «Ты в порядке?» — и, не вдаваясь в смысл рассеянного кивка, завозился со спичками.
Между тем тот, кто кивнул, сделав над собой усилие, потянулся к карману черного пиджака. При этом он, невольно склонясь к лицу, увидел, что лицо его сплошь состоит из земли. Из земли состояли и кисти рук. Остальное скрывал черный костюм. Он вытащил из нагрудного кармана пиджака паспорт и членский билет. Сорока на ветке зыркнула глазом в блеснувшие золотом буквы… По документам это тоже был он. Он лежал на земле в лучшем своем костюме и весь состоял из земли.
Задыхаясь от сердцебиения и какого-то странного злорадства, он принялся шарить в других карманах. В своем бумажнике он обнаружил месячную зарплату — ее размеры он знал и не ожидал от себя большего. Кроме того во внутреннем левом кармане пиджака оказались: копия свидетельства о рождении, справки с описанием его переломов (по рентгеновским снимкам), несколько фотографий 3 х 4, с уголками и без (в разные годы), копия диплома о высшем образовании, свидетельство о заключении брака (подлинник), квитанция из прачечной на получение белья, два рекомендательных письма — и копия свидетельства о рождении сына.
Он ринулся в карман брюк. Там, завернутые в полиэтиленовый пакет, стопкой лежали: испорченный листок по учету кадров, извещение на почтовый перевод, квитанция из ломбарда, фотография молодой мамы — вместе с предвыборной прокламацией ее партии (мелькнули слова: мы, мы), анализы крови и мочи пятилетней давности, истлевший рецепт с корявой сигнатурой: «Принимать при острой мигрени», читательский билет в зал научной литературы, направление на исследование желудочного сока, повестка в суд (в качестве свидетеля), результаты комплексного обследования сердца, отрицательная реакция Вассермана, синий билетик в кинотеатр «Сатурн» (29 ряд, место 16), электроэнцефалографическое исследование коры головного мозга (предварительное заключение), исследование жизненной емкости легких, направление, анализ, заключение, анализ, руководство по эксплуатации электрофона «Юность», анализ, направление на ВТЭК, анализ, договор найма жилого помещения, справка из жилконторы, исследование желчи, направление, анализ, анализ, гарантийный талон ремонта часов, направление, анализ, анализ, анализ, страшный счет за телефон — и развалившаяся в руках записка с его детскими каракулями: «МАМА НИВЫКЛЮЧАЙ СВЕТ Я БАЮСЬ ТИМНАТЫ».
Он снова пристально взглянул на лежащего.
Горло взрыхлилось, и оттуда вылез крот. Мгновенно пропало лицо: лоб завалился, нос и рот перемешались в бурой кротовине. Целыми остались только глаза.
Пристальные земляные глаза смотрели на него в упор.
Он протер очки, взглянул снова.
На него смотрели чужие глаза. Глаза были совсем не его! Лицо (то, что осталось), собственно говоря, было тоже не его. Он полез в документы: не он. Проверил еще раз. Паспорт и членский билет были не его. Судорожно перелистал справки: не он. Диплом был чужой. Чужое свидетельство о заключении брака. Чужая физиономия на официальных фотографиях. Анализы тоже были чужие! А мама, мама?! Чужая мама… Черт возьми, как он мог подумать, что это он? Как такое могло зайти в голову, как он мог в это поверить?!
Он вскочил, бросился к велосипеду. «Пошевеливайся!» — рявкнул на бегу сыну.
…Прежним способом они доехали до центра поляны, и здесь стало заметно, что березы быстро бегут хороводом. В конце полевой дороги не было ничего, кроме неба, и майский голос — мальчишеский, солнечный, как у Робертино Лоретта, — несколько раз сильно и чисто пропел: «Посмотри вверх!.. Посмотри вверх!..» Он взглянул вверх, в еще легкое весеннее небо цвета его глаз, его лучших снов, его безоблачной простодушной мечты, — и, боясь поверить, почувствовал, словно со щелчком, непривычное равновесие во всем своем телесном каркасе. Казалось, будто вдруг сработала ключевая и драгоценная формула сборки: руки-ноги, корешки-вершки — все пришло в единственно верное мелодическое согласие. Позвоночный столб уловил блаженное чувство баланса. Тело было на месте, сердце было на месте, земля была на месте — и на месте было то, что светало в небе. И, как только он ощутил это, ребячливый ветер начал трепать его лопухи-уши, бубнить на губах, холодить зубы льдистым ручьем, — ветер рвал прочь рубашку, чтобы отправить ее к птицам, ветер лохматил пряди волос — да! там было еще что лохматить! — и вот голубой поток с силой хлынул в пересохшее горло… «Папа, — кричит вдалеке сын, — папа!..»
Дорога хлещет мне прямо в сердце, мелькают пестрые красоты мира, ветер проходит навылет сквозь мой зыбкий земной контур, — Господи, я, как сказочный царь, оглушен свалившимся на меня богатством, — не в силах понять ни величины, ни значения, ни причин этой нечеловеческой щедрости, — а главное, мне нечем ответить этому все нарастающему потоку (пискнуть разве: спасибо?), — свобода, я целую твои беспощадные губы, поток дается мне даром, я весь отдаюсь потоку, — может быть, это противоречит каким-то там законам физики, химии, геометрии, — может, это выламывается из рамок логики, диалектики, всемирного тяготения, — и, безусловно, это уже не относится к моим личным возможностям, — к черту объяснения, — я раскидываю руки, велосипед мчится на скорости счастья — вот чудо, он же не падает, честное слово, не падает, я еду, еду, — возможно, лечу.
Август, 1994 г.