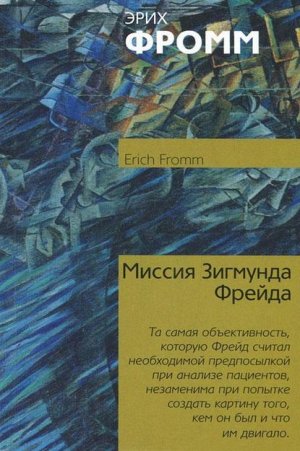
Erich Fromm
SIGMUND FREUD`S MISSION
GREATNESS AND LIMITATIONS OF FREUD`S THOUGHT
First published by Harper & Brothers, New York, in the «World Perspectives» Series edited by Ruth Nanda Anshen.
Печатается с разрешения The Estate of Erich Fromm and of Annis Fromm и литературного агентства Liepman AG, Literary Agency.
© Erich Fromm, 1959, 1980
© Перевод. А.В. Александрова, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2012
Миссия Зигмунда Фрейда. Анализ его личности и влияния
I
Страсть Фрейда к истине и его мужество
Психоанализ, как любил подчеркивать сам Фрейд, был его созданием. И великие достижения, и недостатки этого учения несут отпечаток личности своего основателя. Не приходится сомневаться, что истоки психоанализа следует искать в личности Фрейда.
Что он был за человек? Какие движущие силы заставляли его действовать, думать и чувствовать именно так, как он это делал? Был ли он, как утверждали его враги, венцем-декадентом, погруженным в чувственную и распущенную атмосферу, типичную, как принято думать, для Вены, или великим мастером, лишенным личных недостатков, тщеславия и себялюбия, бесстрашным и бескомпромиссным в своем поиске истины, любящим свою семью, добрым к ученикам и справедливым к врагам, каким считают его самые верные последователи? Несомненно, и обличения, и героизация мало что дадут для понимания сложной личности Фрейда; не помогут они и оценить воздействие его личности на структуру психоанализа. Та самая объективность, которую Фрейд считал необходимой предпосылкой при анализе пациентов, незаменима при попытке создать картину того, кем он был и что им двигало.
Наиболее заметными и, возможно, самыми мощными эмоциональными силами Фрейда были его страсть к поиску истины и бескомпромиссная вера в разум. Для него разум был единственной человеческой способностью, которая могла помочь разрешить проблему существования или по крайней мере облегчить страдания, неизбежные в человеческой жизни.
На взгляд Фрейда, только разум был тем инструментом – или оружием, – с помощью которого можно понять смысл жизни, избавиться от иллюзий (религиозные догмы Фрейд считал лишь одной из них), сделаться независимым от сковывающей власти авторитетов и тем самым стать хозяином себе. Эта вера в разум была основой его непреклонного поиска истины, стоило ему только обнаружить теоретическую закономерность в сложности и многообразии наблюдаемых феноменов. Даже если с точки зрения здравого смысла результаты казались абсурдными, это Фрейда не беспокоило. Напротив, насмешки толпы, чье мышление определялось стремлением к удобству и спокойному сну, только подчеркивали различие между убеждением и мнением, разумом и здравым смыслом, истиной и рационализацией.
В своей вере в силу разума Фрейд был сыном века просвещения. Его девизом – Sapere aude («Смей знать») – Фрейд руководствовался и в жизни, и в работе. Эта вера исходно порождалась освобождением европейского среднего класса от ограничений и предрассудков феодального общества. Спиноза и Кант, Руссо и Вольтер, как бы ни различалась их философия, разделяли эту страстную веру в разум; все они боролись за новый, истинно просвещенный, свободный и гуманный мир. В XIX веке это стремление продолжало существовать среди представителей среднего класса Западной и Центральной Европы, в особенности среди ученых, посвятивших себя прогрессу естественных наук. Еврейское происхождение Фрейда[1] только способствовало его приверженности духу просвещения. Сама еврейская традиция основывалась на разуме и интеллектуальной дисциплине; кроме того, подавляемое и презираемое меньшинство испытывало сильное эмоциональное стремление к поражению сил тьмы, иррациональности, суеверий, которые препятствовали его освобождению и прогрессу.
В дополнение к общей тенденции, свойственной европейской интеллигенции конца XIX века, в жизни Фрейда существовали особые обстоятельства, возможно, усилившие его стремление полагаться на разум, а не на общественное мнение.
В отличие от других западных держав Австро-Венгерская монархия при жизни Фрейда была разлагающимся трупом. Она не имела будущего, и разные части страны удерживались вместе исключительно силой инерции, несмотря на то что национальные меньшинства яростно стремились к независимости. Это состояние политического упадка и развала не могло не вызвать у интеллигентного подростка подозрений и не разбудить его ищущий ум. Противоречие между официальной идеологией и фактами политической реальности неизбежно должно было вызвать сомнения в словах, лозунгах, заявлениях властей и укрепить его критическое отношение к действительности. В случае Фрейда этому способствовало и еще одно обстоятельство. Его отец, преуспевающий мелкий предприниматель из Фрейберга (Богемия), потерял свое дело из-за общих перемен в экономике Австрии, которые разорили его и привели к обнищанию Фрейберга. Подростком на собственном горьком опыте Фрейд узнал, что экономической стабильности доверять следует так же мало, как и политической, что никакая традиция или общественное устройство не обеспечивает безопасности и не заслуживает доверия. К чему же все это могло привести необыкновенно одаренного мальчика, кроме как к выводу о том, что полагаться можно только на себя и на свой разум как на единственное надежное оружие?
Такими же были обстоятельства, в которых росли многие другие мальчики, однако они не стали Фрейдами; не возникло у них и страстной жажды истины. В личности Фрейда должны были присутствовать особые качества, которые отвечали за необыкновенную интенсивность этой жажды.
Что это были за качества?
Несомненно, в первую очередь следует подумать об интеллектуальной одаренности и жизненной силе, далеко превосходящих средний уровень, которые были присущи Фрейду от природы. Такой необыкновенный дар в сочетании с философией Просвещения и отказом от обычного доверия к словам и идеологиям – одного этого могло бы хватить для объяснения стремления Фрейда полагаться на разум. Могли наличествовать и чисто личные факторы: например, желание добиться успеха, что тоже предполагало опору на разум, поскольку никаких других преимуществ, будь то деньги, высокое социальное положение или физическая сила, в распоряжении Фрейда не имелось. Если присмотреться к еще более глубоким чертам характера Фрейда, которые, возможно, объясняли его страсть к истине, необходимо отметить некоторые отрицательные элементы: отсутствие эмоционального тепла, привязанностей, любви и наслаждения жизнью. Это может звучать как неожиданное утверждение применительно к человеку, который открыл «принцип удовольствия» и считался поборником сексуальных наслаждений, однако факты говорят о таких качествах Фрейда достаточно ясно, чтобы не осталось никаких сомнений. Позднее я приведу некоторые доказательства этих заключений; здесь достаточно сказать, что, учитывая дарования Фрейда, культурный климат, специфически европейские, австрийские и еврейские элементы его окружения, молодой человек с его жаждой славы и признания, лишенный радостей жизни, должен был искать приключений в сфере знания, если хотел осуществить желание всей своей жизни. Могли существовать и другие обстоятельства, объясняющие эту сторону личности Фрейда. Он был очень неуверенным в себе человеком, легко пугался, чувствовал себя преследуемым, преданным; поэтому, как и следовало ожидать, он испытывал огромное стремление к надежности. Фрейду, учитывая его характер, любовь этого принести не могла; единственную надежную опору ему давало знание, и он должен был завоевать мир интеллектуально, если хотел избавиться от сомнений и чувства неполноценности.
Джонс, рассматривая страсть Фрейда к истине как «глубочайший и сильнейший мотив в его натуре, тот, который двигал его к пионерским открытиям», предлагает объяснение, соответствующее ортодоксальной психоаналитической теории. В соответствии с ней Джонс указывает, что стремление к знанию «вскормлено мощными мотивами, проистекающими из детского любопытства к первичным фактам жизни» [7; Vol. 2; 433] (рождению и тому, что к нему привело). На мой взгляд, в таком заключении допущена огорчительная путаница: между любопытством и верой в разум. Ранняя и сильная сексуальная любознательность может быть обнаружена у людей с выраженным личностным любопытством, однако представляется, что между этим фактором и страстной жаждой истины связь незначительна. Другой фактор, упоминаемый Джонсом, также не намного более убедителен. Сводный брат Фрейда Филип был шутником, и «Фрейд подозревал его в связи со своей матерью; он со слезами умолял его не сделать мать снова беременной. Можно ли верить в то, что такой человек, который, очевидно, знал все секреты, скажет правду? Судьба странно пошутила бы, если бы этот незначительный человечек – говорят, он кончил тем, что стал разносчиком, – одним фактом своего существования высек счастливую искру, зажегшую в будущем Фрейде решимость доверять только себе одному и подавлять стремление доверять другим больше, чем себе, и тем самым сделать имя Фрейда бессмертным» [7; Vol. 2; 434]. Действительно, странная шутка судьбы, если бы Джонс был прав. Но не является ли это чрезмерным упрощением – объяснять «искру», зажегшуюся во Фрейде, существованием недостойного сводного брата и его сомнительными шуточками?
Говоря о страсти Фрейда к истине и разуму, необходимо упомянуть (хотя это будет обсуждаться ниже, когда мы дойдем до более полного рассмотрения характера Фрейда), что для него разум ограничивался понятием «мысль». Чувства и эмоции per se были для него иррациональны и тем самым уступали мысли. Философы века Просвещения в целом разделяли это осуждение чувства и эмоции. Мысль была для них единственным способом достичь прогресса, а разум проявлялся лишь в мысли. В отличие от Спинозы, они не видели, что аффекты, как и мысль, могут быть и рациональными, и иррациональными и что полное развитие человека требует рациональной эволюции того и другого. Они не видели того, что если мысль и чувства разъединены, то и мышление, и чувства искажаются, и что представление о человеке, основанное на таком разъединении, оказывается искаженным тоже.
Эти рационалистические мыслители полагали, что если человек разумом понимает причины своего несчастья, то это интеллектуальное знание даст ему силы изменить обстоятельства, которые вызывают его страдание. Фрейд находился под сильным влиянием такого подхода, и понадобились годы, чтобы преодолеть ожидания того, что одного знания причин невротических симптомов хватит для того, чтобы их излечить.
Описание страсти Фрейда к истине сделало бы его портрет неполным, если бы не дополнялось указанием на одно из его самых необыкновенных качеств – его мужество. Многие люди потенциально обладают стремлением к истине, к правде. Трудным реализацию этого потенциала делает то, что она требует мужества, а мужество встречается редко. Мужество, о котором идет речь применительно к Фрейду, – это мужество особого типа. Доверие к разуму требует готовности рисковать тем, что окажешься в изоляции, в одиночестве, а такая угроза для многих страшнее, чем угроза для жизни. Однако поиски истины неизбежно подвергают того, кто ищет, именно опасности изоляции. Истине и разуму противостоят здравый смысл и общественное мнение. Большинство держится за удобные рационализации и за поверхностный взгляд на вещи. Функция разума – проникнуть глубже этой поверхности и добраться до сути, скрытой за ней; объективно – то есть без оглядки на свои желания и страхи – показать силы, движущие материей и человеком. Такая попытка требует мужества, чтобы вынести изоляцию, а то и презрение и насмешки со стороны тех, кого истина тревожит и кто ненавидит нарушителя собственного спокойствия. Фрейд обладал такой способностью в высочайшей степени. Его огорчала изоляция, он страдал от нее, однако никогда не проявил даже малейшего желания пойти на компромисс, который облегчил бы его положение. Это мужество было предметом его величайшей гордости; он никогда не думал о себе как о гении, но ценил свое мужество как самое выдающееся качество своей личности. Такая гордость могла даже иногда оказывать негативное влияние на его теоретические формулировки. Он с подозрением относился к любому теоретическому положению, которое могло показаться примирительным и, как Маркс, находил определенное удовлетворение в том, чтобы говорить вещи, pour épater le bourgeois (шокирующие буржуа). Определить источники мужества нелегко. В какой степени это был врожденный дар Фрейда? В какой степени он – результат чувства своей исторической миссии, в какой степени – внутренняя сила, связанная с его положением несомненно любимого сына матери? Скорее всего все три источника внесли свой вклад в развитие необыкновенного мужества Фрейда, однако дальнейшее обсуждение этого, как и других черт личности Фрейда, следует отложить до тех пор, пока мы не придем к более глубокому пониманию его характера.
II
Отношения Фрейда с матерью; уверенность в себе и уязвимость
Понимание факторов (не считая конституциональных), которые определяют развитие характера любого человека, должно начинаться с изучения его отношений с матерью. Однако в случае Фрейда мы знаем об этом относительно мало. Впрочем, этот факт сам по себе знаменателен, потому что Фрейд в своих автобиографических трудах о матери почти не упоминал. Среди более чем тридцати собственных снов, которые он приводит в «Толковании сновидений», лишь два касаются его матери (усердный сновидец, Фрейд наверняка видел гораздо больше снов, в которых она фигурировала, но сообщать об этом не захотел). Те два, о которых идет речь в «Толковании сновидений», выражают глубокую привязанность. Ниже приводится «сон о трех судьбах».
«Я вошел в кухню в поисках пудинга. Там оказалось три женщины; одна из них была хозяйкой гостиницы и что-то мяла в руках, как будто лепила клецки. Она ответила мне, что нужно подождать, пока она будет готова (определенных слов при этом не произносилось). Я ощутил нетерпение и вышел, чувствуя себя обиженным. Я надел пальто. Однако первое, которое я померил, оказалось мне длинно. Я его снял, удивившись тому, что оно отделано мехом. Второе, которое я надел, имело длинную полосу вышивки в турецком стиле. Ко мне подошел незнакомец с длинным лицом и короткой торчащей бородой и стал мне мешать, говоря, что это его пальто. Тогда я ему показал, что оно все покрыто турецкой вышивкой. Он спросил: «Какое отношение турецкий узор имеет к вам?» Но потом мы разговаривали друг с другом вполне по-дружески» [4; 204].
В этом сновидении мы узнаем желание Фрейда быть накормленным матерью (то, что хозяйка, а может быть, и все три женщины представляли мать Фрейда, становится ясно из ассоциаций, которые у Фрейда возникли в связи со сновидением). Специфическим элементом сна является нетерпение сновидца. Когда ему было сказано, что нужно подождать, «он вышел, чувствуя себя обиженным». Что же он делает после этого? Он надевает отделанное мехом пальто, которое ему слишком длинно, потом другое, принадлежащее кому-то еще. Мы видим в этом сновидении типичную реакцию мальчика – любимца матери; он настаивает на том, чтобы мать его накормила («кормление» следует понимать символически: как заботу, любовь, защиту, обожание). Он нетерпелив и обижен, если его не «кормят» немедленно, поскольку чувствует, что имеет право на немедленное и полное внимание. В гневе он выходит и принимает на себя роль большого мужчины-отца (что символизирует слишком длинное пальто, принадлежащее кому-то другому).
Другое сновидение, касающееся матери, относится к детству Фрейда, когда ему было семь-восемь лет; он его все еще помнил и подверг толкованию тридцатью годами позже. «Я видел мою любимую мамочку с особенно мирным, сонным выражением лица. Ее внесли в комнату два или три человека с птичьими клювами и положили на постель» [4; 583]. Фрейд помнил, что проснулся в слезах, с криком, – это понятно, если учесть, что ему снилась смерть его матери. Тот факт, что он так живо помнил этот сон после тридцати с лишним лет, показывает его значение. Рассматривая оба сна вместе, мы видим мальчика, ожидающего, что мать исполнит все его желания, и глубоко испуганного мыслью о том, что она может умереть. Впрочем, то обстоятельство, что Фрейд сообщает только о двух сновидениях, если рассматривать его с психоаналитических позиций, возможно, доказывает предположение Эрнеста Джонса, «что в самые ранние годы Фрейд имел чрезвычайно сильную мотивацию скрыть некую важную фазу своего развития – возможно, даже от самого себя. Я рискнул бы предположить, что это была его глубокая любовь к матери» [7; Vol. 2; 409]. Другие факты, которые нам известны, указывают в том же направлении. Может быть, то, что Фрейд испытывал сильную ревность к своему брату Джулиусу, родившемуся, когда самому Фрейду было одиннадцать месяцев, и что он никогда не любил сестру Анну, которая была на два с половиной года его младше, и не дает особых подтверждений этой гипотезе, но существуют другие, более специфичные и более яркие факты. В первую очередь это его положение любимого сына, которое было подчеркнуто очень драматично событием, случившимся, когда сестре Фрейда было восемь лет. Их мать, «которая была очень музыкальна, заставляла девочку практиковаться на фортепьяно, но хотя это было на некотором расстоянии от «кабинета», звуки так беспокоили юного Фрейда, что он настоял на том, чтобы с фортепьяно расстались; так оно и произошло. В результате никто в семье не получил музыкального образования, как впоследствии и дети самого Фрейда» [7; Vol. 1; 17]. Нетрудно представить себе, какое положение занимал десятилетний Фрейд в глазах матери, если он мог помешать музыкальному образованию членов семьи потому, что ему не нравился «шум» музыки[2].
Глубокая привязанность к матери нашла выражение в позднейшей жизни Фрейда. Он, который, помимо партнеров по игре в тарок и коллег, мало на кого тратил свое свободное время (включая собственную жену), каждое воскресное утро посещал свою мать и до старости приглашал ее каждое воскресенье к обеду.
Эта привязанность к матери и роль обожаемого любимого сына имели важные следствия для развития характера Фрейда, которые он осознавал и отразил в автобиографических записях: «Человек, который был безусловным фаворитом своей матери, на всю жизнь сохраняет чувство победителя, ту уверенность в успехе, которая часто настоящий успех и приносит» [2; Vol. 4; 367]. Материнская любовь по определению безусловна. Мать любит своего ребенка, в отличие от отца, не за его достоинства, не за его достижения, но потому, что это ее ребенок. Восхищение матери сыном также безусловно. Она преклоняется перед ним и обожает его не за то или иное деяние, а потому, что он – это он и он – ее сын. Такое отношение оказывается особенно выраженным, если сын – любимец матери и к тому же мать обладает большей жизненной силой и воображением, чем отец, и поэтому управляет семьей, как, по-видимому, случилось в семье Фрейда [10; 272]. Обожание матери в детстве приносит то ощущение победы и успеха, о котором говорил Фрейд. Его не нужно приобретать, оно не подлежит сомнению. Подобная уверенность в себе рассматривается как нечто само собой разумеющееся, ребенок ожидает уважения и восхищения, она дает ему ощущение превосходства над средним человеком. Естественно, такой тип выпестованной матерью высочайшей уверенности в себе встречается как у чрезвычайно одаренных людей, так и у посредственностей. В последнем случае мы часто наблюдаем трагикомическое несоответствие между запросами и дарованиями; таланту же бывает обеспечена мощная поддержка для развития его дара. Мнение о том, что Фрейд обладал таким типом уверенности в себе и что она основывалась на привязанности к матери, высказывает и Джонс: «Эта уверенность в себе, – пишет он, – которая была одной из выдающихся черт Фрейда, лишь редко изменяла ему, и Фрейд был, несомненно, прав, относя ее за счет надежности материнской любви» [7; Vol. 1; 5].
Такая сильная привязанность Фрейда к матери, которую он по большей части скрывал от других, а может быть, и от себя самого, имеет величайшую важность не только для понимания характера Фрейда, но и для оценки одного из его фундаментальных открытий – Эдипова комплекса. Фрейд объяснял привязанность к матери вполне рационалистически: как основанную на сексуальном влечении маленького мальчика к женщине, с которой он более всего близок. Однако, учитывая интенсивность его любви к собственной матери и тот факт, что он пытался ее подавить, вполне понятно, что он интерпретировал одно из самых мощных побуждений человека – жажду заботы, защиты, всеобъемлющей любви и поддержки матери – как более ограниченное желание маленького мальчика удовлетворить через мать свои инстинктивные потребности. Фрейд открыл одно из самых фундаментальных устремлений человека – желание оставаться связанным с матерью и тем самым с ее лоном, с природой, с до-индивидуальным, до-сознательным состоянием, – и в то же время противоречил своему открытию тем, что ограничил его небольшой частью инстинктивных побуждений. Его собственная привязанность к матери была основой и его открытия, и его сопротивления осознанию того, что его привязанность привела к ограничению и искажению этого открытия[3].
Однако привязанность к матери, даже очень благополучная, предполагающая неоспоримую уверенность в материнской любви, имеет не только позитивную сторону, давая абсолютную уверенность в себе; она имеет и негативную сторону, выражающуюся в создании чувства зависимости и в возникновении депрессии, если эйфорическое наслаждение безусловной любовью и восхищением отсутствует. Представляется, что эти зависимость и незащищенность и были центральными элементами в структуре и характера Фрейда, и его невроза.
Незащищенность Фрейда проявилась в виде, очень характерном для орально-рецептивной личности, – в боязни голода. Поскольку безопасность такого человека основывается на уверенности в том, что мать накормит, будет заботиться, любить и восхищаться, его страхи связаны именно с возможностью того, что эта любовь иссякнет.
В письме Флиссу от 21 декабря 1899 года Фрейд пишет: «Моя фобия, если угодно, заключалась в боязни нищеты или скорее голода; она возникла из моей инфантильной прожорливости и была усилена тем обстоятельством, что у моей жены не было приданого» [5; 305]. Ту же тему Фрейд затрагивает в другом письме, от 7 мая 1900 года: «В целом – за исключением одной слабости, моего страха перед бедностью, – у меня слишком много здравого смысла, чтобы жаловаться» [5; 318. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Этот страх перед обнищанием проявился в один из самых драматичных моментов карьеры Фрейда, когда он уговаривал своих венских коллег, по большей части евреев, принять лидерство цюрихских (в основном неевреев) аналитиков. Когда венцы не захотели принять это предложение, Фрейд заявил: «Мои враги хотели бы видеть меня голодающим; они готовы лишить меня последней рубашки» (цит. по [7; Vol. 2; 69–70]). Это утверждение, даже если учитывать, что оно предназначалось для воздействия на колеблющихся венцев, является совершенно нереалистичным и служит симптомом того же страха перед голодом, о котором Фрейд упоминает в своих письмах Флиссу.
Незащищенность Фрейда нашла и другие выражения. Одним из самых очевидных является его страх перед поездками по железной дороге. Он должен был приехать на станцию за час до отправления поезда, чтобы не опоздать. Как всегда, анализируя подобный симптом, нужно понять его символическое значение. Путешествие часто оказывается символом лишения уверенности, связанной с матерью и домом, символом обретения независимости, отказа от корней. Таким образом, для человека с сильной привязанностью к матери путешествие часто представляется опасным делом, требующим особых предосторожностей. По этой же причине Фрейд избегал путешествовать в одиночку. В своих длительных поездках во время летних каникул он всегда имел спутника, на которого мог положиться, обычно одного из своих учеников, а иногда – сестру жены. Этому же паттерну боязни лишиться корней соответствует и то, что Фрейд жил в одном и том же доме на Берггассе со времени женитьбы до вынужденной эмиграции из Австрии. Ниже мы увидим, как эта зависимость от матери проявилась в отношениях Фрейда с женой, а также с другими людьми – старшими по возрасту, ровесниками, последователями, на которых он распространял ту же потребность в безусловной любви, преданности, восхищении, защите.
III
Отношение Фрейда к женщинам; любовь
Неудивительно обнаружить, что зависимость Фрейда от матери проявилась и в его отношениях с женой. Самым поразительным является контраст между поведением Фрейда до и после женитьбы. В те годы, когда они были только помолвлены, Фрейд проявлял пылкость, страсть и чрезвычайную ревность. Это показывает цитата из письма к Марте от 2 июня 1884 года: «Горе тебе, моя принцесса, когда я явлюсь. Я зацелую тебя, пока ты не покраснеешь, и закормлю, пока ты не потолстеешь. А если ты проявишь строптивость, ты увидишь, кто из нас сильнее: нежная маленькая девочка, которая ест недостаточно, или большой яростный мужчина с кокаином в теле» (цит. по [7; Vol. 1; 84]).
Шутливое упоминание того, кто сильнее, имеет очень серьезное значение. Пока они были помолвлены, Фрейда преследовало страстное желание иметь полный контроль над Мартой; это желание, естественно, сопровождалось сильной ревностью к любому, кто, кроме него самого, мог вызвать интерес и симпатию Марты. Марта, например, проявляла ранее склонность к своему кузену, Максу Майеру. «Наступило время, когда Марте было запрещено называть его Максом, – только герром Майером» [7; Vol. 1; 100]. В отношении другого молодого человека, влюбленного в Марту, Фрейд писал: «Когда ко мне возвращается воспоминание о твоем письме Фрицу и о дне, проведенном нами в горах Каленберг, я теряю всякий контроль над собой, и будь в моей власти уничтожить весь мир, включая нас, чтобы позволить ему начать все заново, даже несмотря на риск, что ни Марта, ни я не будем созданы, я сделал бы это без колебаний» [7; Vol. 1; 114–115].
Однако ревнивые чувства Фрейда совсем не ограничивались другими молодыми людьми; в равной мере распространялись они и на привязанность Марты к членам ее семьи. Фрейд требовал от Марты, «чтобы она не просто была способна объективно критиковать свою мать и брата и отвергать их «глупые предрассудки» – все это она делала, – но также отказать им во всякой симпатии на том основании, что они – его враги, и ей следует разделять его ненависть к ним» [7; Vol. 1; 123].
Тот же дух виден в реакции Фрейда на брата Марты Эли. Марта доверила ему имевшиеся у нее деньги, которые они с женихом хотели использовать для приобретения мебели в свою квартиру. По-видимому, Эли вложил деньги в дело и не очень хотел возвращать всю сумму немедленно; он предложил, чтобы они купили мебель в рассрочку. В ответ Фрейд предъявил Марте ультиматум, первым пунктом которого было требование, чтобы она написала брату сердитое письмо и назвала того «негодяем». Даже после того как Эли выплатил все деньги, Фрейд потребовал, чтобы «она не писала ему [Фрейду] снова, пока не пообещает порвать все отношения с Эли» [7; Vol. 1; 137].
Эта уверенность в естественном праве мужчины контролировать жизнь своей жены была частью убеждения Фрейда в превосходстве мужчины. Типичным примером такого отношения является его критика в адрес Джона Стюарта Милля. Фрейд превозносит Милля за то, что тот «возможно, лучше всех своих современников сумел освободиться от власти общепринятых предубеждений. С другой стороны, он во многих отношениях оказался лишен чувства абсурдного» [7; Vol. 1; 176]. Что же такого абсурдного было в идеях Милля? Согласно Фрейду, это был его взгляд на «женскую эмансипацию… и вообще женский вопрос». По поводу того факта, что Милль считал возможным для замужней женщины зарабатывать столько же, сколько ее супруг, Фрейд говорит:
«Вообще эту позицию Милля просто нельзя назвать гуманной. На самом деле мысль о том, чтобы послать женщин бороться за существование, как это делают мужчины, мертворожденная. Если бы, например, я представил мою нежную милую девочку в роли соперницы, это только привело бы к тому, что я сказал бы ей, как и сделал семнадцать месяцев назад, что я ее люблю и умоляю отказаться от борьбы в пользу спокойной, лишенной конкуренции деятельности у меня в доме. Я полагаю, что все реформы в области законодательства и образования будут разрушены тем фактом, что природа определила судьбу женщины – стать красивой, очаровательной и милой задолго до того возраста, когда мужчина может заслужить положение в обществе. Закон и обычай должны дать женщинам многое, чего они были лишены, однако положение женщины наверняка останется таким же, как и теперь: в юности быть обожаемой возлюбленной, в зрелости – любимой женой» (цит. по [7; Vol. 1; 177]).
Взгляды Фрейда на эмансипацию женщин, несомненно, не отличались от взглядов, которых придерживался средний европеец в 80-е годы XIX века. Фрейд средним человеком не был: он восстал против некоторых самых глубоко укорененных предубеждений своего времени, однако в женском вопросе он придерживался традиционной линии и называл Милля «абсурдным» и «негуманным» за взгляды, которые всего лишь через пятьдесят лет стали общепринятыми. Такое отношение ясно показывает, насколько сильной и непреодолимой была потребность Фрейда поставить женщин в подчиненное положение. Тот факт, что его теоретические воззрения отражали именно такую установку, очевиден. Видеть в женщине кастрированного мужчину, отказывать ей в собственной подлинной сексуальности, приписывать ей зависть к мужчине, слабо развитое Суперэго, считать женщину тщеславной и ненадежной – все это лишь слегка рационализированная версия патриархальных предрассудков его времени. Человек, подобный Фрейду, способный видеть глубже поверхности и критиковать традиционные предубеждения, должен был быть движим могучими внутренними силами, чтобы не заметить рационализирующий характер этих якобы научных утверждений [7; Vol. 2; 421].
Тех же взглядов Фрейд придерживался и пятьюдесятью годами позже. Когда он критиковал американскую культуру за ее «матриархальный» характер, его гость и последователь доктор Уортис возразил: «Но не думаете ли вы, что было бы лучше всего, если бы оба партнера были равны?» На это Фрейд ответил: «Это практически невозможно. Должно существовать неравенство, и верховенство мужчины – меньшее из двух зол» [11; 98. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Хотя годы помолвки Фрейда были полны пламенного ухаживания и ревнивых уговоров, его жизнь в супружестве представляется в значительной мере лишенной активной любви и страсти. Как и при многих традиционных браках, завоевание волновало, но как только оно свершилось, источник страстного чувства иссяк. В ухаживании участвует мужская гордыня; после свадьбы для нее не находится особого повода. В браке такого типа жена должна выполнять единственную функцию – функцию матери. Она должна быть безусловно предана мужу, заботиться о его материальном благополучии, всегда подчиняться его потребностям и желаниям, всегда оставаться ничего для себя не желающей и услужливой – быть, другими словами, матерью. Фрейд был пламенно влюблен до женитьбы – ему нужно было доказать свою мужественность, завоевав девушку, которую он выбрал. Как только завоевание было скреплено печатью брака, «обожаемая возлюбленная» превратилась в любящую мать, на чью заботу и преданность можно было положиться, не проявляя к ней активной, страстной любви.
Насколько потребительской и лишенной эротики была любовь Фрейда к жене, ярко показывают многие выразительные детали. Наибольшее впечатление в этом отношении производят письма Фрейда к Флиссу. Фрейд почти никогда не упоминает о жене, кроме как в совершенно бытовом контексте. Учитывая тот факт, что он в подробностях описывает свои идеи, своих пациентов, свои профессиональные достижения и разочарования, это само по себе весьма показательно, но еще более важно то, что Фрейд, пребывая в депрессии, часто описывает пустоту своей жизни, которая оказывается для него полной, только когда ему сопутствует успех в работе. Он никогда не упоминает о своих отношениях с женой как об источнике счастья. Та же картина видна в том, как Фрейд проводил время дома или во время отпуска. В будние дни Фрейд принимал пациентов с восьми до часа, потом обедал, прогуливался в одиночестве, работал в своей приемной с трех до девяти или десяти, потом совершал прогулку с женой, невесткой или дочерью, и наконец, до часа ночи занимался корреспонденцией и написанием статей, если только в тот вечер не бывало назначено какой-либо встречи. За обедом, как правило, члены семьи друг с другом общались мало. Хорошим примером этого служит привычка Фрейда «приносить свое последнее антикварное приобретение, обычно небольшую статуэтку, и ставить ее на обеденном столе перед собой как собеседницу. Потом статуэтка возвращалась на его письменный стол, но приносилась к обеду еще день или два» [7; Vol. 2; 393]. По воскресеньям утром Фрейд навещал свою мать, среди дня встречался с коллегами-аналитиками, к обеду приглашал свою мать и сестер, а затем работал над своими рукописями [7; Vol. 2; 384]. Его жена обычно во второй половине дня принимала своих друзей, и об интересе Фрейда к жене красноречиво говорит тот сообщаемый Джонсом факт, что, если среди ее посетителей оказывался «кто-то, кем Фрейд интересовался, он на несколько минут появлялся в гостиной» [там же. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Фрейд много времени посвящал летним путешествиям. Период каникул был великолепной возможностью компенсировать тяжелую непрерывную работу в остальную часть года. Фрейд обожал путешествовать, а делать это в одиночку не любил. Однако время отпуска использовалось лишь отчасти для того, чтобы восполнить те немногие часы, которые он проводил с женой дома. Как уже говорилось, он странствовал за границей со своими друзьями-психоаналитиками или с сестрой жены – но не с женой. Этому факту дается несколько объяснений – одно самим Фрейдом, другое – Джонсом. Последний пишет: «Его жена, имевшая другие заботы, редко оказывалась достаточно свободной, чтобы путешествовать; она не могла равняться с Фрейдом в стремлении к перемене мест и в пожирающей страсти к осмотру достопримечательностей. Однако почти каждый день во время своих странствий Фрейд посылал ей открытку или телеграмму и раз в несколько дней – длинное письмо» [7; Vol. 2; 15]. Опять хочется отметить, как традиционно и неаналитически мыслит Джонс, когда дело касается его любимого героя. Любой человек, получающий удовольствие от общества своей жены на отдыхе, просто умерил бы свою страсть к осмотру достопримечательностей, чтобы сделать возможным ее участие. Рационализирующее качество этих объяснений делается еще более ясным в связи с тем, что Фрейд приводит другое основание тому, что он не путешествовал вместе с женой. В письме из Палермо, где он был вместе с Ференци, он писал жене 15 сентября 1910 года: «Мне ужасно жаль, что я не могу показать вам всем здешние красоты. Чтобы иметь возможность наслаждаться этим в компании семи или девяти или даже троих, мне следовало бы быть не психиатром и не основателем предположительно нового направления в психологии, а предпринимателем, производящим что-то полезное вроде туалетной бумаги, спичек или шнурков для ботинок. Учиться этому теперь уже поздно, так что придется мне наслаждаться путешествием эгоистически, но с постоянным чувством раскаяния» (цит. по [7; Vol. 2; 394]).
Нет нужды говорить, что Фрейд здесь прибегает к типичной рационализации – практически такой же, какие используют другие мужья, получающие больше удовольствия от отпуска в мужской компании. Здесь самое замечательное опять же – слепота Фрейда, несмотря на весь его самоанализ, в отношении проблемы собственного брака, и то, как он рационализирует ее без малейшего осознания этого факта. Он говорит о семи или девяти или хотя бы троих членах семьи, которых хотел бы взять с собой, когда речь идет о том, чтобы взять с собой жену – то есть о двоих; он даже принимает позу бедного, но значительного ученого, а не богатого производителя туалетной бумаги – все только для того, чтобы объяснить, почему он не захотел взять за границу жену.
Может быть, самое ясное выражение сомнительной природы любви Фрейда содержится в «Толковании сновидений». Вот каково его сновидение: «Я написал монографию об одном растении. Книга лежит передо мной, и я в этот момент разворачиваю сложенную цветную иллюстрацию. В каждый экземпляр книги вложено засушенное растение, как будто взятое из гербария» [4; 169ff]. Из ассоциаций Фрейда я упомяну следующую: «Утром накануне я видел в витрине книжной лавки новую книгу, называвшуюся «Род цикламена», – несомненно, монографию об этом растении. Цикламены, подумал я, любимые цветы моей жены, и я упрекнул себя за то, что так редко вспоминаю о том, чтобы принести ей цветы, которые ей очень нравятся».
Другая цепь ассоциаций уводит Фрейда от цветка к совершенно другой теме: к его амбициям. «Однажды, вспомнил я, я действительно написал что-то вроде монографии о растении, а именно – диссертацию о растении кока (1884), которая привлекла внимание Карла Коллера к обезболивающим свойствам кокаина». Затем Фрейд размышляет о сборнике, выпущенном в честь Коллера, одного из редакторов которого он встретил накануне. Ассоциация с кокаином отражает амбиции Фрейда. Он выражает сожаление о том, что оставил изучение проблемы коки и тем самым потерял шанс сделать великое открытие. Это также упоминается в другом месте в связи с тем фактом, что ему пришлось оставить чисто исследовательскую деятельность, чтобы жениться.
Значение сновидения совершенно ясно (хотя Фрейд и не видит этого при собственном его толковании). Центральное место занимает высушенное растение, выражающее внутренний конфликт Фрейда. Цветок – символ любви и радости, особенно если этот цветок – любимый цветок его жены, а он часто забывает его ей принести. Однако его научные интересы и амбиции символизирует растение кока. Что Фрейд делает с цветами, с любовью? Он засушивает их и помещает в гербарий. Другими словами, он позволяет любви высохнуть и делает ее предметом научного изучения. Именно это Фрейд и сделал. Он сделал любовь объектом науки, но в его жизни она осталась сухой и стерильной. Научные интеллектуальные интересы были сильнее его Эроса; они задушили его и в то же время сделались заменой опыта любви.
Обнищание любви, выраженное в этом сновидении, также совершенно ясно показывает эротические и сексуальные желания и возможности Фрейда. Как ни парадоксально это может показаться, Фрейд питал относительно слабый интерес к женщинам и испытывал немного сексуальных побуждений. Несомненно, как утверждает Джонс, «его жена была безусловно единственной женщиной в жизни Фрейда» и «она всегда оказывалась на первом месте по сравнению с другими смертными» [7; Vol. 2; 386]. Однако Джонс также указывает на то, что «возможно, страстная сторона жизни померкла для него раньше, чем для многих других мужчин» [там же]. Верность этого утверждения подтверждается несколькими фактами. В возрасте сорока одного года Фрейд писал Флиссу, жалуясь на угнетенное настроение и добавляя: «Сексуальное возбуждение также бесполезно для такого человека, как я» [5; 227]. Ясно, что в этом возрасте его сексуальная жизнь более или менее закончилась. Другой случай указывает на тот же факт. Фрейд пишет в «Толковании сновидений», что однажды, когда ему было немногим больше сорока, он почувствовал физическое влечение к молодой женщине и почти невольно слегка коснулся ее. Он отмечает, что был удивлен тем, что возможность такого чувства «все еще» существует. В возрасте сорока шести лет он писал Бинсвангеру: «Сегодня, естественно, либидо старика выражается лишь в трате денег». Даже в этом возрасте лишь человек, интенсивность сексуальной жизни которого невелика, счел бы само собой разумеющимся, что его либидо утратило сексуальную направленность.
Если позволить себе определенную спекуляцию, я был бы склонен предположить, что некоторые теории Фрейда также являются доказательством его пониженной сексуальности. Он неоднократно подчеркивал, что половой акт может дать лишь ограниченное удовлетворение цивилизованному человеку, «что сексуальная жизнь цивилизованного человека серьезно ограничена», что «возможно, верно предположение о существенном снижении важности сексуальности как источника приятных ощущений, т. е. способа достижения цели жизни» [1; 76]. Фрейд объясняет этот факт, выдвигая гипотезу о том, что полное удовлетворение возможно, только если прегенитальные, обонятельные и другие «извращенные» побуждения не подавлены, и даже высказывает мысль, что «не только давление культуры, но что-то в природе самой сексуальной функции отрицает полное удовлетворение и побуждает нас обратиться в другом направлении» [1; 76–77].
Более того, Фрейд полагал, что после «трех, четырех или пяти лет супружество перестает доставлять удовлетворение сексуальных потребностей, обещанное ранее, поскольку все доступные противозачаточные средства мешают сексуальному удовольствию, оскорбляют тонкие чувства обоих участников и даже оказываются непосредственной причиной болезни» [2; Vol. 2; 421].
Рассматривая замечания Фрейда о его сексуальной жизни, можно предположить, что его взгляды на секс были рационализацией его собственной пониженной сексуальности. Несомненно, было много мужчин его социального положения, возраста и культуры, которые в возрасте около сорока лет не чувствовали, что период счастья, получаемого от сексуальных отношений, для них закончен, и которые не разделяли его взгляд на то, что после нескольких лет брака сексуальное благополучие переставало существовать, даже учитывая необходимость использования контрацептивов.
Сделав шаг дальше, можно также предположить, что и еще одна теория Фрейда имела функцию рационализации: а именно что цивилизация и культура являются результатом подавления инстинктов. Суть этой теории такова: поскольку я увлечен мышлением и поиском истины, я неизбежно испытываю мало интереса к сексу. Здесь Фрейд, как часто и в других случаях, обобщает собственный личный опыт. Он страдал снижением сексуальности по другим причинам, но вовсе не потому, что был так увлечен творческим мышлением. Сексуальная заторможенность Фрейда может рассматриваться как находящаяся в противоречии с тем, что в своих теориях он отводил центральное место сексуальным побуждениям. Однако это противоречие скорее видимое, чем реальное. Многие мыслители пишут о том, чего лишены и что хотели бы обрести для себя или для других. Более того, Фрейд, человек пуританских взглядов, едва ли был бы способен так откровенно писать о сексе, если бы не был так уверен в собственной добродетели в этом отношении.
Отсутствие у Фрейда эмоциональной близости с женщиной также выражается в том, как мало он понимал женщин. Его теории о них представляют собой наивные рационализации мужских предубеждений, в особенности касающихся потребности мужчины властвовать над женщиной, чтобы скрыть свой страх перед ней. Однако не следует делать заключение о непонимании Фрейдом женщин только на основании его теорий. Однажды он высказал его с удивительной откровенностью: «Великий вопрос, на который никогда не было дано ответа и на который я не смог ответить, несмотря на тридцать лет изучения женской души: чего женщина хочет? [Was will das Weib?]» (письмо к М. Бонапарт, цит. по [7; Vol. 2; 421]).
Однако, говоря о способности Фрейда любить, мы не должны ограничиваться проблемой эротической любви. Фрейд не особенно любил людей в целом, когда отсутствовал эротический элемент. Его отношение к жене, после того как первый жар завоевания угас, было, несомненно, отношением верного, но довольно отстраненного мужа. Его отношение к друзьям-мужчинам – Брейеру, Флиссу, Юнгу и к верным последователям – тоже было далеким. Несмотря на апологетические описания Джонса и Закса, на основании писем к Флиссу, реакции на поведение Юнга, а со временем и Ференци, приходится признать, что Фрейду было не дано испытывать сильную любовь. Его собственные теоретические взгляды только подтверждают это. Говоря о возможности братской любви, он писал:
«Мы можем найти ключ в одном из так называемых идеальных стандартов цивилизованного общества: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Он общепризнан и несомненно старше христианства, которое горделиво предъявляет его как свою заповедь, но все же не очень древен: в исторические времена человек еще ничего о нем не знал. Отнесемся к нему наивно, словно встретились с ним впервые. В этом случае окажется, что мы не сможем подавить чувства удивления им как чем-то неестественным. С какой стати нам так поступать? Что хорошего это нам даст? А главное, как можно совершить нечто подобное? Как это вообще возможно? Моя любовь представляется мне ценностью, которой я не имею права разбрасываться без размышления. Она налагает на меня обязательства, и я должен быть готов принести жертвы, чтобы их выполнить. Если я кого-то люблю, этот кто-то должен так или иначе заслужить мою любовь. (Я оставляю в стороне вопрос о том, какую пользу он может мне принести, а также его возможное значение для меня как объекта сексуального интереса: ни один из этих двух видов взаимоотношений не рассматривается, если речь идет о любви к ближнему.) Он будет достоин любви, если он так схож со мной в важных аспектах, что я могу любить в нем себя; достоин, если он настолько совершеннее меня, что я могу любить в нем свой идеал; я должен любить его, если он сын моего друга, потому что боль, которую испытает мой друг, если с ним что-то случится, будет и моей болью – я должен буду ее разделить. Однако если он мне не знаком и не может привлечь каким-либо своим достоинством или каким-либо значением, которое уже приобрел в моей эмоциональной жизни, мне будет трудно полюбить его. Я даже поступлю неправильно, если полюблю его, потому что моя любовь расценивается как ценность теми, кто мне близок; было бы несправедливо в их отношении, если бы я поставил незнакомца вровень с ними. Но если я должен любить его (именно той самой универсальной любовью) просто потому, что он тоже житель мира, как насекомое, дождевой червь или уж, тогда, боюсь, ему достанется лишь небольшое количество любви и для меня будет невозможно дать ему столько же любви, сколько я по всем законам разума должен сохранить к себе. Какой же смысл в столь торжественно провозглашенном предписании, если разум не советует нам ему следовать?» [1; 81–82].
Фрейд, величайший глашатай секса, был тем не менее типичным пуританином. Для него целью жизни цивилизованной личности являлось подавление эмоциональных и сексуальных импульсов и ценой этого достижение цивилизованности. Только нецивилизованная толпа не способна на подобную жертву. К интеллектуальной элите принадлежат те, кто, в отличие от толпы, способен не поддаваться импульсам и тем самым сублимировать их ради более высоких целей. Цивилизация в целом есть результат подобной неудовлетворенности инстинктивных импульсов.
Примечательно, насколько идеи, выраженные Фрейдом в его позднейших теориях, уже были свойственны ему в молодости, когда он еще не занимался проблемами истории и сублимацией. В письме к невесте от 29 августа 1883 года он излагает мысли, возникшие у него во время представления «Кармен». «Толпа, – пишет он, – потворствует своим импульсам [sich ausleben], а мы сдерживаем себя. Мы делаем это с целью сохранения своей целостности. Мы жертвуем здоровьем, способностью наслаждаться, своими силами; мы экономим их для чего-то, сами не зная для чего. И эта привычка к постоянному подавлению природных инстинктов дает нам утонченность. Мы также чувствуем более глубоко и потому смеем не требовать от себя многого. Почему мы не напиваемся? Потому что неприятности и стыд похмелья [Katzenjammer] превосходят удовольствие от обильной выпивки. Почему мы не дружим со всеми вокруг? Потому что потеря друга или случившееся с ним несчастье были бы для нас горьки. Таким образом, наши устремления в большей мере зависят от желания избегнуть боли, чем получить удовольствие. Когда такое усилие оказывается успешным, те, кто сдерживает себя, оказываются подобны нам, кто связал себя друг с другом на жизнь и на смерть, кто терпит лишения и тоскует, чтобы сохранить помолвку, и кто наверняка не пережил бы удара, лишившего нас любимого существа: такие люди, как Эзра, могут любить только раз. Все наше жизненное устройство предполагает, что мы будем ограждены от полной нищеты, что для нас всегда открыт путь к освобождению от зол нашей социальной структуры. Бедные и необразованные не могли бы существовать без своей толстокожести и беззаботности. С какой стати им глубоко чувствовать, если все несчастья природы и общества выпадают тем, кого они любят; почему им отказываться от мимолетного удовольствия, когда никакое другое их не ожидает? Бедняки слишком бессильны, слишком беззащитны, чтобы вести себя так же, как мы. Когда я вижу развлекающихся людей, отбросивших всякую серьезность, это заставляет меня думать, что такова компенсация за то, что они так беззащитны перед налогами, эпидемиями, болезнями, ужасными условиями нашей социальной организации. Я не стану развивать эту мысль дальше, но можно показать, что das Volk [народ] судит, верит, надеется совсем не так, как мы. Психология обывателя несколько отличается от нашей. Такие люди также более наделены чувством общности, чем мы: только они осознают, что одна жизнь продолжается в другой, в то время как для каждого из нас мир исчезает с нашей смертью» (цит. по [7; Vol. 1; 190–192. – Курсив мой. – Э.Ф.]).
Это письмо молодого Фрейда – ему тогда было 27 лет – интересно во многих отношениях. Словно предвидя свои позднейшие теории, Фрейд выражает в нем свою пуритански-аристократическую ориентацию, которую мы только что обсуждали: ограничение, экономия своей способности наслаждаться – это условие сублимации, основа, на которой формируется элита. Однако кроме того Фрейд демонстрирует тут взгляд, долженствующий стать фундаментом одной из его самых важных теорий, которой предстояло сложиться многими годами позднее. Он описывает свой страх перед эмоциональной раной. Мы не любим каждого встречного, потому что разлука была бы очень болезненной; мы не дружим со всеми вокруг, потому что потеря друга причинила бы нам горе. Жизнь ориентирована в сторону избегания печали и боли, а не получения радости, как ясно говорит сам Фрейд: «Таким образом, наши устремления в большей мере зависят от желания избегнуть боли, чем получить удовольствие». Здесь мы находим формулировку того, что Фрейд позднее назвал принципом удовольствия; идея того, что удовольствие на самом деле есть освобождение от неудовольствия, от болезненного напряжения, а не позитивное наслаждение, в последующие годы сделалась для Фрейда валидной как самый общий и основополагающий принцип человеческой мотивации. Однако можно увидеть, что та же идея имелась у Фрейда задолго до ее теоретического оформления; она возникла у него как следствие его собственных викторианских взглядов, боязни потери собственности (в данном случае объекта любви и чувства любви) – в определенном смысле потери жизни. Такая позиция была характерной для среднего класса в XIX веке, более озабоченного тем, чтобы «иметь», чем чтобы «быть». Психология Фрейда насквозь пронизана этой ориентацией «иметь», и поэтому его глубочайший страх – это всегда страх потерять что-то, что он «имеет», будь то объект любви, чувство или половой орган. (В этом отношении Фрейд не разделял протест против собственнических устремлений среднего класса, который можно найти, например, в философии Гёте.)
Следует подчеркнуть и еще одну мысль из этого письма. Фрейд говорит о том, что простые люди обладают бо́льшим чувством общности, чем «мы»: «Только они осознают, что одна жизнь продолжается в другой, в то время как для каждого из нас мир исчезает с нашей смертью». Наблюдение Фрейда, согласно которому буржуазия испытывает меньшее чувство солидарности, чем рабочий класс, совершенно верно, но не следует забывать, что в среднем и высшем классах было немало людей – социалистов, анархистов и истинно верующих, – обладавших глубоким чувством человеческой солидарности. Фрейд был этого практически лишен. Его занимала его личность, его семья, его идеи, как это типично для среднего класса. В этом же ключе семнадцатью годами позже, по случаю Нового, 1900 года, он пишет своему другу Флиссу: «Новое столетие – и самое интересное в нем, смею сказать, то, что оно содержит дату нашей смерти, – не принесло мне ничего, кроме глупой рецензии» [5; 307]. Здесь снова мы находим лишь эгоцентрическую озабоченность собственной смертью и никакого чувства универсальности и солидарности, которое он приписывает только низшим классам.
IV
Его зависимость от мужчин
Зависимость Фрейда от лица, обладающего качествами матери, не ограничивалась зависимостью от матери и жены. Она распространялась и на мужчин – старших, как, например, Брейер, ровесников, как, например, Флисс, и учеников, как, например, Юнг. Однако Фрейд яростно гордился своей независимостью и испытывал сильное отвращение к тому, чтобы быть чьим-то протеже. Гордость заставляла его подавлять осознание зависимости и полностью ее отрицать, разрывая дружеские связи, когда другу не удавалось полностью соответствовать материнской роли. Таким образом, его дружба всегда развивалась по одному сценарию: тесная связь в течение нескольких лет, потом полный разрыв, обычно доходящий до ненависти. Такова была участь дружеских отношений с Брейером, Флиссом, Юнгом, Адлером, Ранком и даже Ференци, преданным учеником, который никогда и не думал об отстранении от Фрейда и возглавляемого им движения.
Брейер, старший и успешный коллега, подарил Фрейду семя идеи, которой предстояло развиться в психоанализ. Брейер лечил пациентку, Анну О., и обнаружил, что, когда он вводил ее в гипнотическое состояние и заставлял рассказывать о том, что ее беспокоит, она избавлялась от болезненных симптомов (депрессии и растерянности). Брейер понял, что эти симптомы были вызваны эмоциональным потрясением, связанным с уходом пациентки за больным отцом; более того, он пришел к выводу, что иррациональные симптомы приобретают смысл, когда удается понять их причину. Таким образом, Брейер дал Фрейду самую важную подсказку, какую тот только получал в жизни, подсказку, на которой была основана центральная идея психоанализа. Кроме того, Брейер питал к Фрейду дружеские и отеческие чувства и оказывал ему существенную материальную поддержку. Как же закончились эти отношения? Конечно, постепенно между ними развились теоретические разногласия, поскольку Брейер соглашался с Фрейдом не во всем, что касалось роли сексуальных побуждений. Однако подобные теоретические расхождения не должны были бы нормально привести к личному разрыву, не говоря уже о ненависти, которую Фрейд испытывал к прежнему другу и благодетелю. Как считал Джонс, «одни только различия научных позиций не могут объяснить горечь, с которой Фрейд в девяностые годы писал о Брейере Флиссу. Если вспомнить, что́ Брейер значил для Фрейда в восьмидесятые годы, его щедрость, его понимание и симпатию, сочетание жизнерадостности и интеллектуальной стимуляции, исходившее от него, позднейшая перемена представляется поистине поразительной» [7; Vol. 1; 254–255].
Замечания, которые Фрейд делает в адрес Брейера, цитируются Джонсом по неопубликованным письмам к Флиссу. 6 февраля 1896 года Фрейд писал: «Было невозможно продолжать отношения с Брейером», а через год, 29 марта 1897 года: «Одного вида Брейера было достаточно, чтобы вызвать желание эмигрировать»[4]. Джонс комментирует: «Это сильные выражения, есть и более сильные, которые не стоит воспроизводить» [7; Vol. 1; 255]. Что Брейер не отвечал Фрейду в том же духе, видно из того факта, что, когда Фрейд захотел вернуть долги, Брейер предложил засчитать ту сумму, которая причиталась Фрейду за лечение родственника Брейера.
Как можно объяснить этот переход от любви к отвращению? По словам самого Фрейда (и Джонс следует за ним в этой типично ортодоксальной интерпретации), такая амбивалентность была продолжением и повторением противоречивого отношения Фрейда к его племяннику (который был немного старше Фрейда) в детстве. Однако здесь, как часто случается, когда Фрейд толкует позднейшие события в качестве всего лишь повторений паттернов детства, игнорируется действительное значение такой двойственности. В начале этой главы была уже кратко упомянута тенденция Фрейда испытывать зависимость и одновременно стыдиться ее и ненавидеть. Приняв от другого человека помощь и симпатию, Фрейд отрицает зависимость, прекращая с этим человеком всякие отношения и исключая его из своей жизни. Джонс замечает и подчеркивает это горячее стремление Фрейда к независимости, однако отчасти из-за тенденции идеализировать Фрейда, а отчасти из-за недостаточности ортодоксальных теоретических построений не обращает внимания на склонность к зависимости в характере Фрейда и на конфликт между гордым стремлением к независимости и рецептивной зависимостью.
Нечто очень похожее случилось и с отношением Фрейда к Флиссу. Самой поразительной чертой этой начавшейся в 1897 году дружбы опять же была зависимость Фрейда от Флисса. Пока дружба длилась, Фрейд выплескивал на Флисса свои мысли, надежды и печали, всегда ожидая, что тот будет сочувствующим и заинтересованным слушателем.
Вот очень характерные примеры такого отношения к Флиссу. 3 января 1899 года Фрейд пишет: «Я живу в мрачной темноте, пока ты не придешь, и тогда изливаю на тебя все свои жалобы, зажигаю свой мигающий светильник от твоего надежного огня и снова чувствую себя хорошо» [5; 272]. В письме от 30 июня 1896 года говорится: «Я в довольно угнетенном настроении, и все, что могу сказать, – это что предвкушаю наш конгресс [так Фрейд называет их встречи] как утоление голода и жажды. Я не привезу с собой ничего, кроме пары открытых ушей и разинутого рта. Я также ожидаю великих вещей – такой уж я эгоист – ради собственных целей. У меня возникли некоторые сомнения насчет моей теории подавления, которые твоими соображениями – вроде того, что мужская и женская менструация может иметь место у одного и того же человека – могли бы быть разрешены. Тревога, химические факторы и т. д. – может быть, ты сможешь снабдить меня солидным основанием для того, чтобы прекратить объяснять явления психологически и перейти на твердую физиологическую почву» [5; 169].
Это письмо особенно интересно в данном контексте тем, каким языком пользуется Фрейд: Флисс должен утолить его «голод и жажду» – это характерное выражение неосознанной орально-рецептивной зависимости. Также любопытно и то, что Фрейд высказывает надежду на обнаружение основы для понимания неврозов в физиологии, а не в психологии. Такая надежда в определенной степени говорит о старой любви Фрейда к физиологии, но в то же время ее не следует воспринимать слишком серьезно. Фрейд на самом деле не нуждался в получении от Флисса новых идей, хотя в этом письме он, по-видимому, подобное желание выражает. Фрейд уже доказал такие свои необыкновенные творческие дарования, что нам следует рассматривать высказанные в этом письме мысли исключительно как стремление к удовлетворению чисто эмоциональной зависимости. Фрейду был нужен кто-то, кто поддержал бы его, успокоил, ободрил, выслушал и даже насытил – и многие годы Флисс был именно тем, кто выполнял эту функцию.
Общей картине вполне соответствует то, что отношения были выраженно односторонними, когда дело касалось интереса к другому участнику. Нельзя не заметить, что Фрейд за все годы переписки пишет почти исключительно о себе и своих идеях и почти не интересуется Флиссом. Встречаются выражения вежливого внимания к личным обстоятельствам Флисса, но они по большей части носят поверхностный характер. Фрейд сам заметил это; в письме от 12 февраля 1900 года он признается: «Мне даже немного стыдно писать тебе только о себе» [5; 309]. По-видимому, Флисс жаловался на отсутствие отклика со стороны Фрейда, потому что в письме Фрейда от 3 октября 1897 года говорится: «Но ты не должен ожидать ответа на все; надеюсь, ты сделаешь скидку на то, что отсутствие ответа связано с ограниченностью моих знаний в твоей области, которая лежит вне сферы моих интересов» [5; 278].
Как и в случае с Брейером, разрыв произошел после нескольких лет самой тесной дружбы, и причины этого укладываются в общую картину орально-рецептивной зависимости. Согласно Джонсу, «мы в точности не знаем», как произошло столкновение. «Опубликованная впоследствии версия Флисса заключалась в том, что Фрейд неожиданно яростно напал на него, что представляется весьма маловероятным» [7; Vol. 1; 314]. (Учитывая амбивалентность Фрейда в дружеских отношениях, признаваемую самим Фрейдом и даже Джонсом, представляется, что ничего невероятного в этом не было.) Однако каково бы ни было столкновение, в переписке можно обнаружить две совершенно очевидные его причины. Одной была критика Флиссом метода Фрейда: Флисс говорил, что Фрейд вчитывает пациентам собственные мысли. Фрейд, который никогда добродушно не воспринимал критику, в наименьшей мере принял бы ее от друга, чьей функцией было поддерживать, поощрять и восхищаться.
Другая причина разрыва может быть найдена в реакции Фрейда на притязания Флисса на идею бисексуальности, что опять же позволяет нам увидеть его рецептивные устремления. Главное открытие Флисса заключалось в том, что бисексуальность может быть обнаружена как у мужчин, так и у женщин.
«На последней встрече в Ахензее летом 1900 года Фрейд объявил об этом [о том, что все человеческие существа бисексуальны] своему другу как о новой идее, на что изумленный Флисс ответил: «Но я говорил тебе о том же во время наших вечерних прогулок в Бреслау [в 1897 году], а ты отказался принять эту идею». Фрейд совершенно забыл тот разговор и отрицал всякое знание о нем; только неделей позже к нему вернулось воспоминание» [7; Vol. 1; 314–315].
В примечании Джонс комментирует: «Случай тяжелой амнезии! Только за год до того Фрейд писал: «Ты, несомненно, прав насчет бисексуальности. Я также привыкаю рассматривать каждый половой акт как происходящий с участием четырех индивидов» (письмо от 1 августа 1899 года). А еще годом раньше он выражал свой энтузиазм в следующих словах: «Я подчеркиваю важность концепции бисексуальности и рассматриваю твою идею об этом как самую значительную для моей работы после идеи защиты» (письмо от 4 января 1898 года)».
Джонс не делает попытки объяснить эту «амнезию» психоаналитически. Однако ответ совершенно ясен: Фрейд имел тенденцию получать и поглощать, а поэтому был склонен, особенно в отношении самых близких друзей, считать, что всякая идея принадлежит ему, хотя прекрасно знал, что ее высказал друг. Этот механизм освещается еще более ярко письмом, которое Фрейд написал Флиссу 7 августа 1901 года, через год после той злополучной встречи в Ахензее: «Нельзя скрыть тот факт, что мы в какой-то мере отдалились друг от друга. Я вижу это по многим признакам. Ты дошел до предела своего непонимания, ты выступаешь против меня и говоришь, что «чтец мыслей просто вчитывает свои мысли в других людей», что лишает мою работу всякой ценности». Показав таким образом свое возмущение критическим замечанием Флисса, Фрейд делает поразительное заявление:
«А теперь о самом важном. Моя следующая книга, наверное, будет называться «Бисексуальность человека». Она будет касаться корня проблемы и содержать последнее слово на эту тему, которое мне удастся сказать, – последнее и самое глубокое. Сама идея принадлежит тебе. Ты помнишь, как я годы назад говорил тебе, когда ты все еще оставался специалистом по носоглотке и хирургом-отоларингологом, что решение проблемы лежит в сексуальности. Через несколько лет ты поправил меня и сказал: в бисексуальности; я увидел, что ты прав. Так что, может быть, мне придется еще больше позаимствовать у тебя; может быть, мне по чести следовало бы просить тебя добавить свое имя к моему на моей книге. Это означало бы расширение анатомо-биологической части, которая в моих руках оказалась бы совсем мизерной. Мне следовало бы сделать своей целью рассмотрение психического аспекта бисексуальности и раскрытие невротической стороны. Таков следующий проект, который, надеюсь, успешно соединит нас в научных вопросах снова» [5; 334–335].
Это письмо заслуживает детального анализа. Почему Фрейд объявляет о книге с названием, не вписывающимся в контекст его изучения неврозов, но содержащим ядро теории Флисса? Почему Фрейд, всегда проявлявший скромность, хвастает тем, что новая книга будет содержать «последнее и самое глубокое слово»? Совершенно ясно, что ответ на эти вопросы содержится в тех же обстоятельствах, по которым он в 1896 году хотел с помощью Флисса найти «солидное основание в физиологии» и по которым в 1900 году забыл об открытии Флиссом бисексуальности. Фрейд бессознательно стремился присвоить открытие своего друга не потому, что он в нем нуждался, но из-за глубокой рецептивной потребности в кормилице. Совершенно очевидно, что Фрейд, когда писал это письмо, осознавал конфликт с Флиссом и в особенности конфликт из-за авторства. Однако он хитро рационализирует собственные притязания. Признав, что сама идея принадлежит Флиссу, он напоминает ему, что в то время, когда Флисс «все еще оставался специалистом по носоглотке и хирургом-отоларингологом», он, Фрейд, уже открыл, что «решение проблемы лежит в сексуальности» и тем самым открытие Флисса является всего лишь «поправкой». Однако даже такая рационализация, по-видимому, самого Фрейда не удовлетворила, потому что он добавляет: ему по чести следовало бы просить Флисса добавить свое имя к его имени. Это высказано в форме предположения, но «таков следующий проект, который, надеюсь, успешно соединит нас в научных вопросах снова». Действительно, Фрейд никогда не написал такой книги, поскольку она совершенно не соответствовала главному направлению его мыслей. Вся идея заключалась в последней попытке заставить Флисса вернуться к роли кормилицы и в то же время в подготовке к полному разрыву, если Флисс окажется не готов принять эту функцию.
За этим последовало совсем немного писем. По-видимому, Флисс критиковал Фрейда за намерение написать «Бисексуальность человека». 19 сентября 1901 года Фрейд отвечал: «Я не понимаю твоего ответа по поводу бисексуальности. Несомненно, понимать друг друга очень трудно. Я, безусловно, не имел другого намерения, кроме обсуждения вопроса, поскольку мой взнос в теорию бисексуальности, включая тезис о подавлении и неврозе и тем самым зависимости от бессознательного, бисексуальность предполагает» [5; 377]. На самом деле объявление Фрейда о книге «Бисексуальность человека» производило совсем иное впечатление, чем объяснение в данном письме.
После этого было написано несколько довольно безличных писем, по большей части касавшихся пациентов, которых Флисс направлял к Фрейду; два последних письма содержат подробное описание назначения Фрейда профессором Венского университета. Они обозначили конец восьмилетней очень тесной дружбы.
Третьим человеком, которого с Фрейдом связывала дружба, хотя и гораздо менее близкая и интимная, был Юнг. Здесь мы находим такое же развитие: великие надежды, огромный энтузиазм, разрыв. Во взаимоотношениях Фрейда с Брейером, Флиссом и Юнгом обнаруживаются очевидные различия. Брейер был учителем Фрейда и дал ему главную новую идею, Флисс был равным, а Юнг – учеником. На поверхностный взгляд эти различия вступают в противоречие с предположением о том, что во всех трех случаях проявлялась зависимость Фрейда. Если это можно признать в отношении Брейера и даже Флисса, то как можно говорить о зависимости учителя от собственного ученика? Однако при использовании динамического подхода видно, что настоящее противоречие отсутствует. Существует очевидная осознанная зависимость от человека, обладающего качествами отца, от «волшебного помощника», от руководителя. Однако существует и неосознанная зависимость, когда доминирующая личность зависит от тех, кто зависит от нее. При таких симбиотических отношениях существует взаимная зависимость, только с одной стороны – осознанная, а с другой – бессознательная.
Такой характер зависимости становится совершенно ясным, если рассмотреть начало отношений Фрейда с Юнгом. Фрейду очень польстило то, что группа швейцарских психиатров, в том числе Блейлер, директор Бюргольцли[5], и его первый помощник Карл Густав Юнг активно заинтересовались психоанализом. «Фрейд, со своей стороны, – пишет Джонс, – испытывал не только благодарность за поддержку, пришедшую к нему издалека, но и нашел личность Юнга очень привлекательной. Он вскоре решил, что Юнгу предстоит сделаться его преемником, и иногда называл его «своим сыном и наследником». Фрейд высказывал мнение, что среди его последователей только Юнг и Гросс обладали истинно оригинальными умами. Юнгу предстояло стать Иисусом Навином, призванным исследовать землю обетованную психиатрии, в то время как самому Фрейду, подобно Моисею, было дано лишь глянуть на нее издалека» [7; Vol. 2; 32–34]. Однако в отношении Фрейда к Юнгу была и еще одна важная составляющая. До тех пор последователями Фрейда были в основном венцы и евреи. Фрейд чувствовал, что для окончательного успеха психоаналитического движения в мире необходимо, чтобы его возглавили «арийцы». Эту идею он ясно высказывал уже в 1908 году в письме к Карлу Абрахаму: Фрейд упрекал Абрахама за неуместную ссору с Юнгом и заканчивал письмо словами: «В конце концов, наши товарищи-арийцы совершенно для нас незаменимы; в противном случае психоанализ станет жертвой антисемитизма» [7; Vol. 2; 51].
За последующие два года это убеждение Фрейда только укрепилось. Во время Психоаналитического конгресса в Нюрнберге в 1910 году Фрейд «понял, что нужно воспользоваться возможностью создать более широкий базис для своей работы, чем тот, который мог быть обеспечен венскими евреями, и что нужно убедить в этом венских коллег. Узнав, что некоторые из них собрались для выражения протеста в номере Штекеля, он отправился к ним и обратился к собравшимся со страстным призывом к согласию. Он подчеркнул окружающую их патологическую враждебность и нужду во внешней поддержке для ее преодоления. Драматическим жестом сбросив пиджак, он воскликнул: «Мои враги хотели бы видеть меня голодающим; они готовы лишить меня последней рубашки!» [7; Vol. 2; 69–70].
Совершенно ясно, что происходило в уме Фрейда. Боязнь не только личного голода, но и голодной смерти психоаналитического движения заставляла его видеть в Юнге спасителя от этой напасти.
Фрейд стремился полностью привлечь Юнга на свою сторону, сделать из него своего наследника и лидера движения. Очень типичным проявлением этого желания стал эпизод во время отбытия Фрейда в Соединенные Штаты вместе с Юнгом и Ференци. Они вместе обедали, и Ференци при поддержке Фрейда убедил Юнга отказаться от принципа абстиненции и выпить с ними бокал вина. Принцип абстиненции связывал Юнга с его учителем Блейлером и многими другими швейцарскими коллегами. Бокал вина стал символом того, что Юнг отказывает в преданности Блейлеру и делается последователем Фрейда. Эта перемена установки привела к серьезным последствиям в отношениях Юнга и Блейлера. Насколько глубоко сам Фрейд прочувствовал символическое значение питейного ритуала, свидетельствует то, что немедленно после него Фрейд упал в обморок [7; Vol. 2; 55]. Если бы и были сомнения в психической причине обморока, они рассеялись бы тем фактом, что Фрейд и в другой раз упал в обморок при очень сходных обстоятельствах[6]. На протяжении 1912 года отношения между Фрейдом и Юнгом стали ухудшаться. Фрейд узнал о лекциях Юнга в Нью-Йорке, на которых проявился антагонизм Юнга к теориям Фрейда и самому Фрейду. Более того, Юнг сообщил Фрейду, что кровосмесительные желания следует понимать не буквально, а как символ других устремлений. В ноябре 1912 года они встретились в Мюнхене. Фрейд упрекал Юнга в нелояльности, Юнг «чрезвычайно раскаивался», признал все ошибки и обещал исправиться. На следующий день за обедом Фрейд «начал упрекать двоих швейцарцев, Юнга и Риклина, в том, что они опубликовали в швейцарской печати статьи, проповедующие психоанализ, не упомянув его имени. Юнг ответил, что они сочли это излишним, поскольку имя Фрейда хорошо известно». Фрейд настаивал, и «я помню, – пишет Джонс, – что подумал: он принимает происшествие слишком близко к сердцу. Неожиданно, к нашему ужасу, он упал на пол, потеряв сознание. Физически крепкий Юнг быстро перенес его на кушетку в холле, где он скоро пришел в себя» [7; Vol. 1; 317]. Фрейд сам проанализировал случаи своих обмороков и выразил мнение, что они прослеживаются к воздействию, которое оказала на него смерть его маленького брата, когда ему было год и семь месяцев. Джонс добавляет: «Представляется, что Фрейд сам принадлежал к типу, представителей которого он описывал как «пострадавших от собственного успеха», в данном случае успеха в поражении соперника, самым ранним примером которого было осуществившееся желание смерти маленькому Джулиусу» [7; Vol. 2; 146]. Возможно, такая интерпретация и правильна, но нужно также учесть возможность того, что обморок стал символом беспомощности ребенка и его зависимости от матери. Такую возможность подтверждает тот факт, что несколькими годами ранее, когда Фрейд находился в том же городе и в том же отеле со своим другом Флиссом, он уже падал в обморок. Фрейд описывает этот инцидент в письме Джонсу и говорит: «В корне этого кроется что-то от неуправляемого гомосексуального чувства» [7; Vol. 1; 317]. Представляется гораздо более вероятным, что обмороки в присутствии Юнга и Флисса имеют одну и ту же причину: глубокую, хотя и неосознанную зависимость, находящую драматическое выражение в психосоматических симптомах.
Следует добавить, что Фрейд сам осознавал подобную склонность к зависимости, которую называл Schnorrer (нищенскими) фантазиями. В качестве одного примера он упоминает, что Рикетти в Париже, не имевшие детей и симпатизировавшие ему, вызвали у него мечту о наследовании части их богатства. Другая подобная фантазия была описана Фрейдом многими годами позднее. Он представил себе, что останавливает взбесившуюся лошадь, из экипажа выходит очень важная персона и говорит: «Вы мой спаситель, я обязан вам жизнью! Что я могу для вас сделать?» Собственная реакция Фрейда на эту фантазию весьма показательна: тогда он быстро подавил подобные мысли, но через несколько лет они вернулись к нему довольно забавным путем – оказалось, что он по ошибке приписал ситуацию рассказу Альфонса Доде. Это было неприятное воспоминание, поскольку к тому времени он преодолел свою раннюю нужду в покровительстве и яростно отвергал его. «Однако самая досадная часть этого всего – писал Фрейд – заключается в том факте, что мало есть такого, что я ненавидел бы сильнее, чем мысль о том, чтобы быть чьим-то протеже. Те примеры подобных явлений, которые мы видим в своей стране, отвращают от любого желания чего-то такого, а мой характер мало располагает к роли опекаемого ребенка. Я всегда испытывал сильное желание самому быть сильным» [7; Vol. 1; 188–189. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Это одно из странно наивных высказываний Фрейда, совершенно явный знак сопротивления, тем не менее принимаемое им вполне серьезно. Именно в этом и заключался его конфликт: он хотел быть независимым, он ненавидел положение протеже – и одновременно желал защиты, восхищения, заботы; разрешить этот конфликт Фрейду так никогда и не удалось.
Если вернуться к дружбе Фрейда с Юнгом, то мы увидим, что она развивалась тем же путем, что и дружба с Брейером и Флиссом. Несмотря на непрестанные заверения Юнга в лояльности, их личные отношения и научные взгляды расходились все дальше, пока дело не дошло до окончательного и необратимого разрыва в 1914 году. Несомненно, это был тяжелый удар для Фрейда; он снова открыл свое сердце человеку, в котором видел того, кто обеспечит будущее психоаналитическому движению, поведал о своих тревогах и надеждах, – и снова оказался вынужден порвать отношения с ним. Впрочем, существовало одно отличие разрыва с Юнгом от прекращения отношений с Брейером, Флиссом, Адлером, Ранком, Штекелем и Ференци: научные расхождения с Юнгом были более фундаментальными. Фрейд был рационалистом, и его интерес к пониманию бессознательного основывался на желании контролировать и подчинять. Юнг, с другой стороны, принадлежал к сторонникам романтической, антирационалистической традиции. Он с подозрением относился к разуму и интеллекту, и бессознательное, представляющее нерациональную часть психики, для него было источником глубочайшей мудрости; для Юнга аналитическая терапия выполняла функцию помощи пациенту в установлении контакта с этим источником нерациональной мудрости и извлечении из него пользы. Интерес Юнга к бессознательному был восхищением романтика; отношение Фрейда было критическим отношением рационалиста. Они могли ненадолго встретиться на ходу, но шли в разных направлениях; разрыв был неизбежен.
Отношения Фрейда с некоторыми из тех его последователей, на которых он больше всего полагался, особенно с Адлером, Ранком и Ференци, развивались по тому же пути, что и отношения с Брейером, Флиссом и Юнгом: пылкая дружба, доверие, зависимость, которые рано или поздно сменялись подозрительностью и ненавистью. Некоторые из этих взаимоотношений будут обсуждаться ниже.
V
Отношения с отцом
Отношения Фрейда с отцом были прямой противоположностью его отношениям с матерью. Мать его обожала и баловала, позволяя царить среди братьев и сестер, отец же был более беспристрастным, хотя и неагрессивным человеком. Характерным является такой факт: когда Фрейд в двухлетнем возрасте все еще мочился в постель, именно отец, а не мать, делал ему замечания. И что же ответил маленький мальчик? «Не тревожься, папа, я куплю тебе прекрасную новую красную кровать в Нойтитшайне» (цит. по [7; Vol. 1; 7]). Здесь уже заметна черта, которая будет характеризовать Фрейда в позднейшей жизни: неприятие критики, совершенная уверенность в себе, бунт против отца, а также, можно утверждать, против отцовского авторитета. В возрасте двух лет Фрейд не обращает внимания на упреки отца и принимает на себя отцовскую роль – роль того, кто может позднее сделать подарок в виде кровати (для сравнения: см. сновидение о пальто с турецкой вышивкой [7; Vol. 1; 10–11]).
Более резкое выражение бунтарства Фрейда против отца можно увидеть в том факте, что в возрасте семи или восьми лет Фрейд намеренно помочился в спальне родителей. Это был символический акт захвата, проявление агрессии, явно направленной против отца. Отец рассердился, что совершенно понятно, и воскликнул: «Из этого мальчишки никогда ничего не получится!» Фрейд, комментируя то событие, писал: «Это, должно быть, оказался ужасный удар по моим амбициям, потому что намеки на ту сцену снова и снова появляются в моих снах, постоянно сопровождаясь перечислением моих заслуг и успехов, как если бы я хотел сказать: «Видишь, что-то из меня все-таки получилось!» [4; 216].
Данное Фрейдом объяснение сводилось к тому, что замечание его отца было причиной его амбиций; таково часто встречающееся ошибочное ортодоксальное аналитическое толкование. Хотя, несомненно, верно, что ранний опыт – одна из самых важных причин последующего развития, не так уж редко случается, что приобретенная или унаследованная ребенком манера поведения может спровоцировать реакцию родителя, которая впоследствии часто ошибочно принимается за причину проявления той самой предрасположенности в последующей жизни ребенка.
В данном случае ясно, что двухлетний ребенок Фрейд уже обладал чувством собственной значимости и превосходства над отцом. Имеем ли мы здесь дело с конституциональным фактором или с результатом того, что из двух родителей сильнее была мать, провокационное действие Фрейда в семилетнем возрасте является лишь еще одним выражением полной уверенности в себе, которая сохранилась у Фрейда на всю жизнь; замечание отца было весьма умеренной реакцией совершенно неагрессивного человека, который, по словам Джонса, обычно очень гордился сыном и не имел привычки критиковать или принижать его. Замечание – к тому же единичное – едва ли могло быть причиной амбициозности Фрейда.
Чувство превосходства по отношению к отцу, должно быть, получило подкрепление, когда отец рассказал двенадцатилетнему Фрейду о следующем происшествии. Однажды, когда отец Фрейда был еще молод, прохожий сбил с него шапку и крикнул: «Еврей, прочь с тротуара!» Когда мальчик Фрейд возмущенно спросил: «И что же ты сделал?», отец ответил: «Сошел на мостовую и поднял шапку». Пересказывая этот случай, Фрейд добавлял: «Такое поведение большого сильного мужчины, державшего за руку маленького мальчика, показалось мне совсем не героическим. Я противопоставил его ситуации, которая нравилась мне больше: сцене, когда отец Ганнибала, Гамилькар Барка, заставляет сына поклясться перед домашним алтарем отомстить римлянам. С тех пор Ганнибал занял прочное место в моих фантазиях» [4; 197]. Трудно усомниться в том, что негероическое поведение отца не вызвало бы такого отвращения со стороны Фрейда, если бы тот с детства не идентифицировал себя с Ганнибалом; мальчику хотелось, чтобы отец был его достоин. Однако не следует забывать, что амбиции Фрейда, как это часто случается, были составной частью его необыкновенного дара – несгибаемого мужества и гордости. Такое мужество формировало у Фрейда еще в детстве качества – и идеал – героя, а герой не мог не стыдиться столь слабого отца.
Фрейд сам намекает на свое возмущение тем, что его отец не был более значительным человеком, при толковании одного из своих снов: «Тот факт, что в этой сцене своего сновидения я могу использовать своего отца, чтобы заслонить профессора психиатрии из Венского университета Мейнерта, объясняется не обнаруженной аналогией между этими двумя людьми, но тем обстоятельством, что это краткое, но адекватное представление условного предложения в мыслях во время сна, которое в полной форме читалось бы так: «Конечно, если бы я принадлежал ко второму поколению, если бы я был сыном профессора или тайного советника, я быстрее добился бы успеха». Во сне я сделал отца профессором и тайным советником» [4; 438].
Амбивалентность Фрейда в отношении фигуры отца отразилась и в его теоретических работах. Реконструируя начало истории человечества в «Тотеме и табу», он изображает доисторического отца, убитого сыновьями, а в своей последней работе, «Моисей и монотеизм», отрицает то, что Моисей был евреем, и делает его сыном египетского вельможи, тем самым бессознательно утверждая: «Как Моисей не был потомком смиренных евреев, так и я – не еврей, а человек королевских кровей»[7]. Наиболее значимое выражение амбивалентного отношения Фрейда к отцу имеет место, конечно, в одной из центральных концепций всей системы Фрейда, – в Эдиповом комплексе: сын ненавидит отца как соперника, претендующего на любовь его матери. Однако здесь, как и в случае привязанности к матери, сексуальная интерпретация заслоняет истинные и фундаментальные причины. Желание неограниченной любви и обожания со стороны матери и в то же время стремление оказаться победоносным героем приводит к утверждению превосходства как над отцом, так и над братьями и сестрами. (Это наиболее ясно отражено в библейской истории Иосифа и его братьев; возникает даже соблазн назвать этот комплекс «Иосифовым комплексом».) Такое отношение часто подкрепляется почитанием сына матерью в сочетании с ее амбивалентным, принижающим отношением к мужу.
Так что же мы находим? Фрейд был глубоко привязан к матери, убежден в ее любви и восхищении, чувствовал себя высшим, уникальным, обожаемым существом, королем среди других отпрысков. Он оставался зависимым от материнской любви и восхищения – и ощущал тревогу, беспокойство и депрессию, когда ему в них бывало отказано. Хотя мать оставалась для Фрейда центральной фигурой до ее смерти, когда ей было за девяносто, и хотя жена должна была исполнять материнские функции, заботясь о материальных потребностях Фрейда, его нужда в обожании и защите обращалась на новые объекты, главным образом на мужчин, а не на женщин. Такие люди, как Брейер, Флисс, Юнг, а позднее верные последователи обеспечивали Фрейду то восхищение и поддержку, в которых он нуждался, чтобы чувствовать себя защищенным. Как это часто случается с привязанными к матери мужчинами, отец был для него соперником; Фрейд-сын желал быть отцом и героем сам. Может быть, будь его отец великим человеком, Фрейд признал бы его верховенство или проявлял меньше бунтарства. Однако Фрейд, идентифицируя себя с героями, должен был восстать против отца, который годился бы только для обыкновенного человека.
Бунтарство Фрейда против отца имело отношение к одному из самых важных аспектов личности Фрейда в том, что касалось его работы. Во Фрейде вообще видят мятежника. Он восставал против общественного мнения и медицинских авторитетов; без способности к такому противостоянию он никогда не пришел бы к своим взглядам на бессознательное, детскую сексуальность и прочее и не объявил бы о них. Однако Фрейд был бунтовщиком, но не революционером. Под бунтовщиком я понимаю человека, который борется против существующих властей, но хочет прийти к власти сам (и подчинить себе других), который не отрицает зависимости от власти и уважения к ней per se[8]. Его бунтарство направлено в основном против тех представителей власти, которые не признают его; он дружелюбен по отношению к авторитетам, которых выбрал сам, особенно в том случае, если становится одним из них. Мятежники такого типа в психологическом смысле могут быть найдены среди многих радикальных политиков, которые восстают, пока не придут к власти, а обретя ее, делаются консервативными. «Революционер» в психологическом смысле – это человек, преодолевший свою амбивалентность в отношении власти, освободившийся от ее притягательности и желания доминировать. Он обретает подлинную независимость и избавляется от стремления управлять другими. В психологическом смысле Фрейд был именно бунтовщиком, а не революционером. Хотя он бросал вызов авторитетам и наслаждался этим, он одновременно глубоко почитал установившийся социальный порядок и представителей власти. Получить звание профессора и добиться признания от существующих авторитетов было для него чрезвычайно важно, хотя из-за странного непонимания собственных желаний он это отрицал [4; 192]. Во время Первой мировой войны он был яростным патриотом, гордившимся сначала австрийской, а затем немецкой агрессивностью; почти четыре года ему не приходило в голову критически взглянуть на военную идеологию и цели воюющих сторон.
VI
Авторитаризм Фрейда
Проблема авторитаризма Фрейда была предметом многочисленных дискуссий. Часто утверждается, что Фрейд проявлял жесткий авторитаризм и был нетерпим к другим мнениям или к пересмотру его теорий. Трудно игнорировать обилие свидетельств, подтверждающих этот взгляд. Фрейд никогда не принимал существенных предложений по изменению высказанных им концепций. Нужно было или полностью поддерживать его теорию – то есть его, – или быть его противником. Даже Закс в своей откровенно апологетической биографии Фрейда это признает: «Я знал, что ему было всегда чрезвычайно трудно принимать мнения других после того, как в результате долгого и трудного процесса он вырабатывал собственное» [9; 14]. Насчет своих расхождений с Фрейдом Закс пишет: «Если мое мнение противоречило его мнению, я откровенно об этом заявлял. Он всегда позволял мне в полной мере высказать свои взгляды и охотно выслушивал мои аргументы, но почти никогда не менял в результате своей позиции» [9; 13. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Наиболее показательный пример нетерпимости и авторитаризма Фрейда может быть обнаружен в его отношениях с Ференци. Ференци, который много лет был самым лояльным, ни на что не претендующим учеником и другом, под конец жизни высказал предположение, что пациент нуждается в любви, той любви, в которой нуждался и которую не получил в детстве. Это вело к определенным изменениям техники, гуманному и любящему отношению к пациенту, отказу от полностью безличной, схожей с зеркальным отражением позицией, предложенной Фрейдом (нет необходимости говорить, что под любовью Ференци понимал материнскую или родительскую любовь, а не эротическую или сексуальную).
«Когда я посетил профессора, – отмечал Ференци в разговоре с доверенным другом и последователем, – я сообщил ему о моих последних технических идеях. Они основывались на опыте моей работы с пациентами. Я пытался выяснить из их рассказов, из их ассоциаций, из их поведения – во всех подробностях и особенно в отношении меня, из фрустраций, вызывающих у них гнев или депрессию, из содержания, как осознанного, так и бессознательного, их желаний и стремлений, то, как они страдали от отвержения матерью, родителями или теми лицами, которые их заменяли. Я также пытался благодаря эмпатии представить себе, в какой любовной заботе, в каких специфических деталях поведения на самом деле пациент нуждался в детстве – заботе и поддержке, которые позволили бы ему обрести уверенность в себе, радость жизни, достичь полного развития. Каждый пациент нуждается в особой теплоте и поддержке. Это нелегко выяснить, поскольку обычно осознанно он этого не знает и часто думает прямо противоположное. Бывает возможно ощутить, когда я оказываюсь на правильном пути, потому что пациент немедленно неосознанно подает сигнал в виде легких изменений настроения и поведения. Даже его сны показывают отклик на новое благотворное лечение. Все это должно быть сообщено пациенту – новое понимание аналитиком его потребностей, вытекающее из этого изменение отношения к пациенту и его выражение, собственная очевидная реакция пациента. Если аналитик совершает ошибки, пациент также подает об этом сигнал, проявляя гнев или растерянность. Его сновидения делают ясными ошибки аналитика. Все это может быть извлечено из работы с пациентом и объяснено ему. Аналитик должен продолжать поиск благотворного лечения, в котором так глубоко нуждается пациент. Это процесс проб и ошибок, и аналитик должен производить его со всем умением, тактом и любовной добротой, ничего не боясь. Все должно быть абсолютно честно и искренне.
Профессор выслушал мои объяснения с растущим нетерпением и наконец предупредил меня, что я вступил на опасную почву и отхожу от традиций и техники психоанализа. Такое потворство стремлениям и желаниям пациента, какими бы подлинными они ни были, лишь усилит его зависимость от аналитика. Подобная зависимость может быть уничтожена только эмоциональным отстранением аналитика. В руках неумелого аналитика мой метод, сказал профессор, может с легкостью привести к сексуальному потворству, а не выражению родительской преданности.
Это предупреждение завершило интервью. Я протянул руку, чтобы тепло попрощаться. Профессор повернулся ко мне спиной и вышел из комнаты»[9].
Другим выражением нетерпимости Фрейда служит его отношение к тем членам Интернациональной ассоциации, которые оказывались не полностью лояльны к линии партии. Характерна фраза в письме к Джонсу от 18 февраля 1919 года: «Ваше намерение очистить Лондонское общество от юнгианцев превосходно» [7; Vol. 2; 254].
Тем же духом непримиримости по отношению к несогласным с ним друзьям проникнут отклик Фрейда на смерть Альфреда Адлера. В ответе на письмо Арнольда Цвейга, выражавшего свою печаль по поводу этого события, Фрейд писал: «Я не понимаю вашей симпатии к Адлеру. Для еврейского мальчика из венского предместья умереть в Абердине – само по себе неслыханная карьера и доказательство того, как далеко он продвинулся. На самом деле мир богато наградил его за услуги по противодействию психоанализу» (цит. по [7; Vol. 3; 208]).
Несмотря на все эти свидетельства, верные обожатели Фрейда упорно отрицают авторитарные тенденции у Фрейда. Джонс снова и снова подчеркивает это. Так, например, он говорит, что люди обвиняют «Фрейда в тиранстве и догматических настояниях, чтобы каждый из его последователей придерживался в точности тех же взглядов, что и он сам. Что подобные обвинения смешны и далеки от истины, ясно из его переписки, его работ и прежде всего из воспоминаний тех, кто с ним работал» [7; Vol. 2; 127–128]. Или: «Мне было бы трудно представить себе кого-то, по темпераменту менее годного к роли диктатора, каким его иногда изображают» [7; Vol. 2; 129].
Джонс в этих утверждениях проявляет психологическую наивность, которая не к лицу психоаналитику. Он просто не обращает внимания на тот факт, что Фрейд был нетерпим к тем, кто задавался вопросами или хоть в малейшей мере его критиковал. С теми, кто поклонялся ему и никогда не выражал несогласия, Фрейд был добр и терпим просто потому, что, как я уже подчеркивал, он был так зависим от безусловной поддержки и согласия других; он был любящим отцом для покорных сыновей и суровым и авторитарным в отношении тех, кто смел не соглашаться.
Закс более откровенен, чем Джонс. В то время как Джонс полагает, что, как и положено биографу, рисует объективную картину, Закс честно признает свое «полное отсутствие объективности, о чем я заявляю по доброй воле и с веселым сердцем. В целом обожествление, если оно совершенно искренне, скорее добавляет истинности, чем мешает ей» [9; 8–9]. Насколько далеко заходила эта симбиотическая, квазирелигиозная привязанность к Фрейду, следует из утверждения Закса о том, что, когда он кончил читать «Толкование сновидений», он «нашел то, ради чего стоило жить; многими годами позже [он] обнаружил, что это единственное, чем [он] может жить» [9; 3–4]. Легко себе представить, как человек может сказать, что живет Библией, Бхагават-Гитой, философией Спинозы или Канта, но жить книгой о толковании сновидений можно, только если предположить, что автор стал Моисеем, а наука – новой религией. То, что Закс никогда не восставал и никогда не критиковал Фрейда, трогательно видно из его описания единственного случая, когда он «по доброй воле и настойчиво» делал что-то, чего Фрейд не одобрял. «Он заговорил со мной об этом, когда все было уже почти закончено, сказал три или четыре слова, словно между прочим. Эти слова, единственные недружелюбные, какие я только от него слышал, остаются глубоко отпечатавшимися в моей памяти. Впрочем, когда все миновало, эпизод был забыт, хоть и не прощен, и не оказал длительного влияния на его отношение ко мне. Если я теперь не могу думать о случившемся без некоторого стыда, это чувство умеряется мыслью о том, что такое произошло раз в жизни, один раз за тридцать пять лет. Не такой уж плохой результат» [9; 16–17].
VII
Фрейд – реформатор мира
В детстве Фрейд испытывал восхищение перед великими военачальниками. Самыми ранними его героями были великий карфагенянин Ганнибал и наполеоновский маршал предположительно еврейского происхождения Массена [7; Vol. 1; 8]. Фрейд испытывал страстный интерес к наполеоновским войнам и приклеивал бумажки с именами наполеоновских маршалов к своим деревянным солдатикам. В возрасте четырнадцати лет он начал интересоваться франко-прусской войной. В своей комнате он хранил карты с отмеченными флажками позициями воюющих сторон и обсуждал стратегические проблемы с сестрами [7; Vol. 1; 23]. Этот энтузиазм и интересы имели двойной эффект: с одной стороны, породили интерес к истории и политике, с другой – восхищение великими вождями, оказывающими влияние на историю и меняющими судьбы мира. То, что энтузиазм Фрейда по поводу побед Ганнибала и Массены и его интерес к франко-прусской войне мотивировались его озабоченностью историей и политическим прогрессом, а не просто мальчишеской страстью к мундирам и сражениям, подтверждается последующим развитием политических интересов Фрейда. Когда ему было семнадцать лет, он всерьез подумывал о том, чтобы изучать юриспруденцию; это было время «буржуазного министерства».
«Незадолго до этого, – сообщает Фрейд, – мой отец принес портреты добившихся успеха представителей среднего класса – Хербста, Гиски, Унгера, Гергера, – и мы украсили в их честь наш дом. Среди них было даже несколько евреев; с тех пор каждый трудолюбивый еврейский мальчик носил в своем ранце министерский портфель. События того времени, несомненно, оказали влияние на тот факт, что почти до самого поступления в университет я собирался изучать юриспруденцию; только в последний момент я передумал» [4; 193].
То, что у семнадцатилетнего Фрейда имелась идея стать политическим лидером, подтверждается его школьной дружбой с Генрихом Брауном, его одноклассником, который впоследствии стал одним из ведущих немецких социалистов. Через много лет Фрейд сам описывал эту дружбу в письме к вдове Генриха Брауна: «В гимназии мы были неразлучными друзьями. Все свободные часы после занятий я проводил с ним… Ни цели, ни способы осуществления наших амбиций не были для нас ясны. С тех пор я пришел к выводу, что его цели были в основном негативными. Однако одна вещь была несомненна: что я буду работать с ним и что я никогда не изменю его партии. Под его влиянием я также в то время определенно намеревался изучать в университете юриспруденцию»[10].
Неудивительно, что в силу этого возможного интереса к социализму в юности у Фрейда возникла неосознанная идентификация с Виктором Адлером, пользовавшимся успехом вождем австрийской социал-демократической партии. Госпожа Бернфельд привлекла к этому факту внимание в дискуссии об обстоятельствах, при которых Фрейд арендовал квартиру на Берггассе. До 1891 года Фрейд с семьей жил на Шоттенринг; ожидалось появление ребенка, и семья решила переехать.
«Переезд был тщательно спланирован профессором и госпожой Фрейд. Они составили список своих самых важных требований. Они посвятили планированию своего нового местожительства много времени. Однажды днем, закончив визиты к пациентам, он [Фрейд] отправился на прогулку. Полюбовавшись садами, мимо которых он проходил, Фрейд оказался перед домом, на котором имелось объявление «Сдается». Этот дом неожиданно сильно его привлек. Он вошел и осмотрел квартиру, которую для него открыли; обнаружилось, что она соответствует всем требованиям, и Фрейд немедленно подписал договор. Это и был дом на Берггассе, 19. Фрейд вернулся домой, сообщил жене, что нашел идеальное жилище, и тем же вечером отвел ее для осмотра. Госпожа Фрейд сразу увидела все недостатки, но с типичной для нее интуицией поняла, что Фрейду нужен именно этот дом и никакой другой не подойдет. Поэтому она сказала, что квартира ей нравится и она думает, что они сумеют там устроиться. Они и устроились в мрачном и неудобном доме и прожили в нем сорок семь лет»[11].
«Что могло привести, – задается вопросом госпожа Бернфельд, – такого осторожного и вдумчивого человека, каким был Фрейд, к столь импульсивному и неразумному решению и что могло удерживать его в этом доме столько лет?» [Там же]. Ответ, который госпожа Бернфельд дает на этот весьма обоснованный вопрос, основывается на том, что Виктор Адлер, впоследствии ставший неоспоримым вождем австрийского социализма, жил в той же квартире, и что на Фрейда, который раньше бывал у Адлера, произвело огромное впечатление его жилище. Некоторые намеки на даты, связанные с домом на Берггассе, также интерпретируются автором как указание на значение связи с Адлером. Хотя я совершенно согласен с предположением госпожи Бернфельд, думаю, что она упустила одно обстоятельство, важное в данном контексте: гуманитарные идеалы Фрейда и его амбицию сделаться великим политическим лидером.
Существовал еще один вождь социалистов, с которым Фрейд, должно быть, себя идентифицировал. На это, вероятно, указывает эпиграф, который Фрейд предпослал «Толкованию сновидений»: Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo (Если небесных богов не склоню – Ахеронт я подвигну)[12]; он использовался выдающимся немецким социалистом Лассалем в книге «Итальянская война и задачи Пруссии» (1859). Под влиянием Лассаля Фрейд использовал ту же цитату. Доказательство этого можно обнаружить в письме Фрейда Флиссу от 17 июля 1899 года, где он пишет: «Кроме своей рукописи я беру в Берхтесгаден Лассаля и несколько работ по бессознательному. После того как ты отверг сентиментальную цитату из Гёте, мне пришел в голову новый эпиграф для «Толкования сновидений». В нем содержится намек на подавление: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo» [5; 286][13]. Забавно то, что хотя Лассаль использовал фразу Вергилия в одной из своих книг, она не содержится в той, которая упомянута в письме Фрейда. Тот факт, что Фрейд не пишет ясно, что использует эпиграф Лассаля, можно было бы рассматривать как указание на бессознательный характер идентификации Фрейда с этим социалистическим деятелем.
Прежде чем более детально обсудить другие случаи идентификации, хочется упомянуть некоторые факты, которые показывают, как глубоко Фрейд интересовался не только медициной, но и философией, политикой и этикой. Джонс сообщает, что в 1910 году Фрейд со вздохом выражал «желание отказаться от медицинской практики и посвятить себя исследованию культурных и исторических проблем – в первую очередь величайшей проблемы: как человек стал тем, что он есть» [7; Vol. 1; 27]. Сам Фрейд говорит об этом так: «В юности я чувствовал всепоглощающее желание понять что-то в загадках того мира, в котором мы живем, и, может быть, даже внести что-то в их разгадку» [7; Vol. 1; 28].
В соответствии с этим гуманитарным взглядом на политику в 1910 году Фрейд заинтересовался Международным братством этики и культуры, основателем которого был аптекарь Кнапп, а президентом – Форель. Фрейд рекомендовал Кнаппу связаться с Юнгом и спрашивал у Юнга совета по поводу присоединения к этой организации. Фрейд писал: «Меня привлекли практические, агрессивные, но в то же время и протекционистские черты программы: обязательство бороться против власти государства и церкви в случае, если они совершают откровенную несправедливость» [7; Vol. 2; 68]. Из этого ничего не вышло и, как отмечает Джонс, «эта затея скоро была вытеснена образованием чисто психоаналитической ассоциации». Хотя идея присоединения к Международному братству показывает, насколько еще в 1910 году Фрейд был привержен к старым идеалам прогрессивного исправления мира, как только он организовал психоаналитическое движение, его явный интерес к этике, культуре и т. д. исчез и преобразовался, как я постараюсь показать, в цели движения. Фрейд видел себя его вождем и в этой роли бессознательно идентифицировал себя со своим старым героем, Ганнибалом, и с Моисеем, великим вождем его предков.
«Ганнибал, – пишет он, – был моим любимым героем в старших классах школы. Как многие мальчики этого возраста, я симпатизировал не римлянам во время Пунических войн, а карфагенянам. В старших классах я впервые начал понимать, что значит принадлежать к иной расе; антисемитские настроения других мальчиков предупредили меня о том, что я должен занять определенную позицию, и образ полководца-семита еще более вырос в моих глазах… Желание побывать в Риме стало в моих мечтах символом других страстных желаний. Их осуществление должно было достигаться со всем трудолюбием и целеустремленностью карфагенянина, хотя в то время представлялось, что это так же не суждено мне, как Ганнибалу – войти в Рим» [4; 196–197].
Для Фрейда идентификация с Ганнибалом не ограничилась подростковым возрастом. Уже взрослым он страстно стремился отправиться в Рим; об иррациональном характере этого желания он писал Флиссу 3 декабря 1897 года: «Несомненно, моя жажда побывать в Риме глубоко невротична. Она связана с моим юношеским почитанием героя – полководца-семита, и в этом году я так же не достиг Рима, как Ганнибал с Тразименского озера» [5; 141]. Действительно, бывая в Италии, Фрейд многие годы избегал Рима. Во время одного из своих путешествий он побывал на Тразименском озере и наконец, увидев Тибр, печально вернулся, когда от Рима его отделяло всего пятьдесят миль (для сравнения: [4; 196]). Фрейд планировал побывать в Италии и на следующий год – но только снова миновал Рим. Лишь в 1901 году он позволил себе туда отправиться.
Какова же была причина этой странной нерешительности, если он многие годы мечтал увидеть Рим? Фрейд полагал, что дело в следующем: «В то время года, когда я могу путешествовать, пребывания в Риме следует избегать, чтобы не повредить здоровью» [4; 194]. Тем не менее в 1909 году Фрейд писал, что для исполнения этого желания потребовалось «всего немного смелости», и с тех пор он стал постоянным посетителем Рима (см. примечание там же). Совершенно очевидно, что «опасность для здоровья» была рационализацией. Так что же заставляло Фрейда избегать Рима? Единственная правдоподобная причина подавления желания Фрейда посетить Рим может быть обнаружена в его бессознательном.
Вероятно, посещение Рима для его бессознательного означало завоевание вражеского города, завоевание мира. Рим был целью Ганнибала, целью Наполеона; он был столицей Католической церкви, к которой Фрейд питал глубокую неприязнь. В своей идентификации с Ганнибалом Фрейд не мог зайти дальше своего героя до тех пор, пока через много лет не сделал последнего шага и не прибыл в Рим, что, совершенно очевидно, было символической победой и самоутверждением после появления его шедевра – «Толкования сновидений».
В том, что Фрейд так долго не бывал в Риме, проявилась и еще одна его идентификация – идентификация с Моисеем. Об одном своем сне Фрейд писал: «Кто-то привел меня на вершину холма и показал Рим, полускрытый в тумане; он был так далек, что я удивился тому, насколько ясно его вижу, но тема «обетованной земли, увиденной издалека», в этом сновидении очевидна» [4; 194].
Фрейд сам чувствовал такую идентификацию, отчасти осознанно, отчасти бессознательно. Осознанная идея была выражена в письмах к Юнгу (от 28 февраля 1908 года и от 17 января 1909). Заявив, что Юнг и Отто Гросс были единственными истинно оригинальными мыслителями среди его последователей, Фрейд писал, что Юнгу суждено стать Иисусом Навином, исследовавшим обетованную землю психиатрии, в то время как Фрейду, подобно Моисею, позволено увидеть ее лишь издали [7; Vol. 2; 33]. Джонс добавляет: «Это замечание интересно как указание на самоидентификацию Фрейда с Моисеем, которая с годами стала очень заметной».
Бессознательная идентификация Фрейда с Моисеем нашла выражение в двух его работах: в «Моисее Микеланджело» (1914) и в его последней книге – «Моисей и монотеизм». «Моисей Микеланджело» уникален тем, что это единственная из статей Фрейда, опубликованная анонимно в журнале «Имаго» (1914, т. III). Статье предшествовала следующая редакционная заметка: «Хотя данная статья, строго говоря, не соответствует условиям публикации в нашем журнале, было решено ее напечатать, поскольку автор, лично известный редакторам, принадлежит к психоаналитическим кругам и поскольку его образ мыслей в определенной мере напоминает методологию психоанализа».
Почему Фрейд написал эту статью, в которой не пользуется психоаналитическим методом, и почему ему пришлось опубликовать ее анонимно, хотя вполне уместно было бы предпослать ей информацию о том, что, поскольку статья принадлежит перу Фрейда, она печатается несмотря на то, что не носит строго психоаналитического характера? Ответ на оба эти вопроса, должно быть, лежит в том факте, что фигура Моисея имела для Фрейда огромное эмоциональное значение, однако это значение не было ясно им осознано и против его осознания существовало существенное сопротивление.
Каков главный результат тщательного исследования Фрейдом статуи Микеланджело? Фрейд предполагает, что статуя изображает Моисея не перед тем, как он в припадке гнева разбил скрижали с заповедями, как полагало большинство исследователей, а, напротив: Фрейд старается изобретательно и усердно доказать, что Микеланджело изменил характер Моисея. «Моисей, традиционно изображаемый в легенде, имел взрывной темперамент и впадал в ярость… Однако Микеланджело поместил на надгробии папы другого Моисея, превосходящего исторического, традиционного Моисея». Таким образом, согласно Фрейду, Микеланджело изменил тему разбитых скрижалей: он заставил Моисея сдержать свой гнев из заботы о своем народе и сострадания. Таким образом он добавил фигуре Моисея нечто новое и сверхчеловеческое, так что «огромная скульптура, изображающая чрезвычайную физическую силу, становится лишь конкретным выражением высочайшего духовного достижения, какое только доступно человеку: успешной борьбы с внутренней страстью ради дела, которому он себя посвятил» [2; Vol. 4; 283]. Если принять во внимание, что это было написано во время «измены» Юнга, если, кроме того, вспомнить, что Фрейд считал себя частью элиты, характеризуемой способностью контролировать свои порывы, то остается мало сомнений в том, что Фрейд так страстно заинтересовался своей интерпретацией скульптуры Моисея, потому что видел себя в роли Моисея, не понятого своим народом и все же способного укротить свой гнев и продолжать работать. Этот вывод подтверждается реакцией Фрейда на попытки Джонса и Ференци побудить его напечатать статью под собственным именем. «Основания, которые он приводил для своего решения, – сообщает Джонс, – казались довольно неубедительными. «Зачем позорить Моисея, – говорил Фрейд, – ставя мое имя на статье? Это шутка, но, может быть, не такая уж плохая»» [7; Vol. 2; 366]. На поверхностный взгляд в мысли о том, что Моисей будет опозорен, если на статье появится имя Фрейда, нет большого смысла. Это замечание, впрочем, становится понятным, если рассматривать его как сконфуженную реакцию на бессознательную идентификацию с Моисеем, которая и побудила Фрейда написать статью.
Важность для Фрейда этой темы еще ярче показывает то, сколько времени в последние годы жизни он уделял личности Моисея. Во времена правления Гитлера (первая и вторая части книги о Моисее были опубликованы в 1937-м, а третья часть – в 1939 году) Фрейд пытался доказать, что Моисей был не евреем, а египтянином. Что могло побудить Фрейда лишить евреев их величайшего героя как раз в тот момент, когда могущественный варвар старался их уничтожить? Что могло спровоцировать Фрейда на написание книги, далекой от его области, и на попытку доказать что-то на основании аналогий и довольно неубедительных рассуждений? Ответ представляется очевидным: та же одержимость и идентификация с Моисеем, которые вызвали появление его статьи о статуе Микеланджело двадцатью годами раньше. На сей раз, по-видимому, это уже была не «плохая шутка», и Фрейд не боялся опозорить Моисея, соединяя свое имя с его именем. Однако ущерб Фрейд нанес не Моисею, а евреям: он лишил их не только героя, но и притязаний на оригинальность монотеистической идеи[14]. Будь это область, в которой специализировался Фрейд, или будь его доказательства исчерпывающими, не пришлось бы задаваться психологическими вопросами по поводу того, какой мотив побудил Фрейда опубликовать «Моисея и монотеизм». Однако поскольку это не так, остается сделать вывод: одержимость Фрейда Моисеем коренилась в глубокой бессознательной идентификации с ним. Фрейд, как и великий вождь евреев, вел свой народ к земле обетованной, но не вошел в нее; он испытал неблагодарность и насмешки, но не отказался от своей миссии.
Можно упомянуть еще одну идентификацию, хотя и имеющую гораздо меньший вес по сравнению с Ганнибалом и Моисеем: идентификацию с Колумбом. После того как Юнг покинул движение, Фрейд заметил: «Знает ли кто-нибудь теперь, с кем отплыл Колумб, когда открыл Америку?» [7; Vol. 2; 127]. Сон, который Фрейд видел в конце жизни, показывает, какой глубокой была идентификация с героями-победителями: в поезде, доставившем его из Парижа в Лондон во время бегства из Вены, Фрейду приснилось, что он высаживается в Пивенси, где в 1066 году высадился Вильгельм Завоеватель (см. [7; Vol. 3; 228]). Какое поразительное выражение гордости и уверенности в себе, которые ничто не могло сломить! В конце жизни, прибыв в Англию старым больным беженцем, Фрейд бессознательно полагал, что прибывает туда как герой и завоеватель.
Учитывая очевидное постоянство идентификации Фрейда с великими вождями, от маршалов Наполеона до Ганнибала и Моисея, совершенно удивителен вывод Джонса о том, что все это осталось в прошлом. «Что имеет значение, – пишет Джонс, – так это необыкновенные перемены, которые должны были произойти с Фрейдом в возрасте шестнадцати или семнадцати лет. Исчез драчливый мальчишка, яростно сражавшийся со сверстниками, полный воинственного духа подросток, юноша, который мечтал стать министром и править нацией. Было ли таким уж судьбоносным двухдневное случайное знакомство с крестьянской девушкой?» [7; Vol. 1; 53]).
Нет, конечно, знакомство было не таким уж судьбоносным (речь идет о девушке, в которую Фрейд был недолго влюблен). Ничто из этого не было судьбоносным, поскольку Джонс просто ошибается, делая вывод о том, будто все юношеские фантазии и желания исчезли. Они приняли новые формы и стали отчасти менее осознанными. Мальчик, мечтавший стать министром, превратился в человека, стремившего стать подобным Моисею и принести человечеству новое знание, знание, которое станет последним словом в понимании человека. Ни национализм, ни социализм, ни религия не могли указать путь к лучшей жизни; полное понимание человеческого разума должно было показать иррациональность всех этих ответов и повести человека так далеко, как он только способен пойти: к трезвой, скептичной, рациональной оценке прошлого и настоящего, к принятию фундаментально трагической природы своего существования.
Фрейд видел себя в роли вождя интеллектуальной революции, который совершил последний шаг, доступный рационализму. Только понимая это стремление Фрейда принести человечеству новую весть – не благую, а реалистичную, – можно понять его творение: психоаналитическое движение.
Что за странный феномен – это психоаналитическое движение! Психоанализ представляет собой лечение невроза и одновременно является психологической теорией, общей теорией человеческой природы и конкретно – существования бессознательного и его проявлений в снах, симптомах, характере и всех символических произведениях искусства. Существует ли другой пример терапии или научной теории, преобразовавшейся в движение, руководимое тайным комитетом, изгоняющее отступников, ставшее международной организацией, имеющей местные отделения? Никакой вид медицинского лечения никогда не превращался в такое движение. Если рассматривать психоанализ как теорию, ближайшим аналогом был бы дарвинизм – революционное учение, проливавшее свет на историю человечества и менявшее представление о мире более фундаментально, чем какое-либо другое в XIX веке, – однако дарвиновского движения не существует, не существует директории, которая бы его возглавляла, нет чисток, когда определялось бы, кто имеет право называть себя дарвинистом, а кто утратил эту привилегию.
Почему психоаналитическое движение приобрело такую уникальную роль? Ответ отчасти заключается в приведенном выше анализе личности Фрейда. Он был действительно великим ученым, но, как и Маркс, великий социолог и экономист, Фрейд имел и другую цель, не свойственную людям, подобным Дарвину: он хотел преобразовать мир. Под маской врача и ученого Фрейд был одним из великих реформаторов мира начала XX века.
VIII
Квазиполитический характер психоаналитического движения
На следующих страницах я постараюсь показать странный квазиполитический характер психоаналитического движения. Едва ли можно найти лучшее вступление к этой теме, чем привести оглавление первой части третьего тома написанной Джонсом биографии Фрейда, озаглавленной «Жизнь». Подзаголовки в этой части таковы: «Выход из изоляции (1901–1906)», «Начало международного признания (1906–1909)», «Международная психоаналитическая ассоциация, оппозиция, разногласия (1911–1914)», «Комитет; годы войны (1914–1919)», «Воссоединение, дискуссии, прогресс и несчастья», «Слава и страдания», «Последние годы в Вене», «Лондон – конец».
Каждый, кто прочтет эти заголовки, едва ли усомнится, что книга посвящена истории политического или религиозного движения, его росту и расколу; то, что речь идет об истории терапии или психологической теории, покажется совершенно неожиданным и удивительным. Тем не менее этот дух завоевывающего мир движения уже существовал в ранние годы психоанализа. Еще до 1910 года Фрейд сделал свои самые фундаментальные открытия, опубликовал их в ряде книг и статей и ознакомил с ними небольшую группу венских врачей и психологов. Все это не отличалось от работы любого другого ученого-творца. Однако такая деятельность не удовлетворяла Фрейда. Между 1910 и 1914 годами «было запущено», по выражению Джонса, «то, что было названо психоаналитическим движением»; эта фраза не очень удачна, но она стала употребляться как друзьями, так и врагами. «Эти годы радости от растущего успеха и признания были в значительной мере испорчены зловещими признаками разногласий между ближайшими сподвижниками. Фрейд был чрезвычайно встревожен и огорчен мучительными проблемами, к которым это привело, и трудностью их преодоления. Мы, однако, ограничимся рассмотрением более светлой стороны событий: постепенного распространения новых идей, что, естественно, очень много значило для Фрейда» [7; Vol. 2; 67].
Я уже упоминал о том, что Фрейд незадолго до того, как основал «движение», писал Юнгу о своей идее присоединения своих сторонников «к бо́льшей группе, работающей ради практических целей» [там же]. Он думал, что Международное братство этики и культуры могло бы стать формой организации для него и его сподвижников. Однако очень скоро этому братству предстояло быть замененным на братство психоанализа, получившее название Международной психоаналитической ассоциации.
Основанию ассоциации сопутствовал дух, обычно не свойственный научным обществам. Она должна была быть организована в довольно диктаторском стиле. Перед конгрессом Ференци писал Фрейду 5 февраля 1910 года: «Психоаналитический взгляд не предполагает демократического равенства: должна существовать элита, вроде платоновского правления философов». Фрейд тремя днями позже сообщил, что у него возникла та же мысль (оба письма цитируются в [7; Vol. 2; 68]). Ференци сделал еще один шаг дальше, развивая этот общий принцип. Предложив организацию международной ассоциации с отделениями в разных странах, он утверждал, что «необходимо все статьи или доклады психоаналитиков сначала представлять для одобрения» [7; Vol. 2; 69]. Хотя это предложение и не было принято как чрезмерное, оно ярко характеризует существовавший с самого начала дух основанного Фрейдом и Ференци движения.
Второй психоаналитический конгресс имел все отличительные особенности политического мероприятия. «Обсуждение статьи Ференци, – пишет Джонс, – было таким язвительным, что его пришлось отложить до следующего дня» [там же]. Дела пошли еще хуже, когда было сделано предложение предоставить посты президента и секретаря швейцарским психоаналитикам, а длительная и верная служба венцев оказалась проигнорирована.
Фрейд сам понимал преимущества создания более широкой основы для работы ассоциации, чем та, которую могли обеспечить венские евреи, и необходимость убедить в этом венских коллег. Узнав, что несколько венцев собрались для выражения протеста в номере Штекеля, он отправился к ним и обратился со страстным призывом к соблюдению правил ассоциации. Фрейд подчеркнул окружающую их враждебность и необходимость внешней поддержки для того, чтобы ей противостоять. Затем, картинно сбросив пиджак, он заявил: «Мои враги хотели бы видеть меня голодающим; они готовы лишить меня последней рубашки» [7; Vol. 2; 69–70].
Помимо имевшегося у Фрейда комплекса голода, в связи с которым я впервые привел эту цитату, происшествие можно рассматривать как драматический и несколько истерический жест политического лидера, направленный на то, чтобы заставить его последователей принять идею того, что психоанализу предстоит стать всемирным движением и потому лидерство должно перейти из рук венских евреев к швейцарским неевреям. Юнгу отводилась роль Павла в этой новой религии. Однако Фрейд предпринял и политические шаги для того, чтобы смягчить двух предводителей недовольных. Он объявил о своей отставке с поста президента Венского общества, где его должен был сменить Адлер. Он также согласился на то, чтобы в противовес ежегоднику «Jahrbuch», который возглавлял Юнг, был создан новых ежемесячный журнал, «Zentralblatt für Psychoanalyse», который редактировали бы совместно Адлер и Штекель. Недовольные успокоились, согласились на то, чтобы Фрейд стал директором нового журнала, а Юнг – президентом Ассоциации.
Из этого описания легко понять, что в основе мотивации Фрейда, Ференци и других лежал энтузиазм людей, возглавляющих квазирелигиозное движение, собирающих соборы и конклавы, нападающих и защищающихся, а не ученых, занятых обсуждением интересующих их вопросов. Схожий политический дух можно ощутить и в несколько более позднем столкновении Фрейда с выдающимся психиатром Блейлером. В конце того же года Фрейд писал Пфистеру: «У меня большие трудности с Блейлером. Не могу сказать, что хотел бы удержать его с нами любой ценой, ведь Юнг, в конце концов, мне довольно близок, но я с готовностью пожертвую ради Блейлера всем, при условии, что это не повредит делу. К несчастью, надежды у меня мало» [7; Vol. 2; 73].
После первых лет единства в движении начался раскол. На поверхности разногласия касались мнений по теоретическим вопросам. Однако будь это единственной причиной, едва ли возникла бы сопровождавшая их желчность. Несомненно, в значительной мере раздоры и связанное с ними недовольство возникли из-за амбиций несогласных, желавших возглавить новые секты, но в равной мере из-за фанатичности Фрейда и его сторонников. Впрочем, форма, которую приняли расхождения, была следствием не только характера Фрейда и его оппонентов, но и самой структуры движения. В иерархической организации, поставившей себе цель завоевать своими идеями мир, такие методы только логичны. Они такие же, какими пользуются агрессивные религиозные и политические движения, построенные на догме и на обожествлении вождя.
Разрыв с Юнгом, более опасный политически и более болезненный для Фрейда в личном плане, чем какие-либо другие разногласия, привел к новому закручиванию гаек в результате создания секретного международного комитета семи (включая Фрейда), который должен был следить за психоаналитиками и определять курс движения. Необычная идея создания такого комитета показывает политический характер, который приобрело движение. План был предложен Ференци. Джонс упоминает о предложении Ференци, высказанном уже в 1912 году, после отхода Адлера и Штекеля и после заявления Фрейда о напряженных отношениях с Юнгом: «Идеально было бы поставить во главе центров в разных странах нескольких человек, полностью проанализированных лично Фрейдом. Такая перспектива не казалась реальной, так что я [Джонс] предложил, чтобы мы пока сформировали вокруг Фрейда небольшую группу достойных доверия аналитиков, что-то вроде старой гвардии. Это дало бы Фрейду уверенность в поддержке надежных друзей на случай дальнейшего раскола» [7; Vol. 2; 152]. Предложение было горячо поддержано Ранком и Абрахамом. Для ситуации, сложившейся в движении, показательно, что в то самое время, когда это обсуждалось, Ференци спрашивал Ранка, останется ли тот верен, и 6 августа 1912 года писал Фрейду о Джонсе: «Вы должны постоянно держать Джонса под присмотром и отрезать ему путь к отступлению» [7; Vol. 2; 153].
Фрейд с энтузиазмом воспринял предложение и немедленно ответил Джонсу: «Мое воображение сразу же захватила ваша идея секретного совета, составленного из лучших и самых надежных среди наших людей, чтобы позаботиться о дальнейшем развитии психоанализа и защитить наше дело от врагов и случайностей, когда меня не станет… Смею сказать, что жить и умереть мне будет легче, зная, что такое объединение создано для защиты моего творения. Главное: существование и действия такого комитета должны быть совершенно секретными… Что бы ни принесло будущее, из этого маленького, но отборного кружка может выйти предводитель психоаналитического движения, которому я все еще готов доверять, несмотря на недавние разочарования в людях» [7; Vol. 2; 154].
Годом позже комитет впервые собрался в полном составе: Джонс, Ференци, Абрахам, Ранк и Закс. Фрейд отметил событие, подарив каждому античную греческую гемму из своей коллекции, которые впоследствии были вставлены в золотые кольца. Сам Фрейд давно уже носил такое кольцо, а когда через несколько лет гемму получил и Эйтингон, появилось семь колец, о которых говорит в своей книге Закс.
Дальнейшее развитие движения шло по пути, указанному этими событиями, включая формирование комитета. В своей «Истории психоаналитического движения» Фрейд выдает его квазиполитический характер: перечисляет различные завоевания в ряде стран. Выражая удовлетворение прогрессом в Америке, он добавляет характерную фразу: «Ясно, что именно по этой причине центры древней культуры, где встретилось самое значительное сопротивление, должны стать ареной последней решительной битвы за психоанализ» [2; Vol. 1; 316]. О своей борьбе с оппонентами он пишет: «История [противостояния психоанализу] не слишком лестна для ученых нашего времени. Однако к этому я немедленно добавлю, что мне никогда не приходило в голову изливать презрение на оппонентов психоанализа только потому, что они – оппоненты, не считая нескольких ничтожных людей, мошенников и авантюристов, которые всегда находятся с обеих сторон во время войны» [2; Vol. 1; 324]. Фрейд говорит о необходимости наличия «вождя», указывая на то, что многих ловушек, поджидающих любого, кто станет практиковать психоанализ, «можно избежать, если ведущую позицию займет кто-то, кто бы инструктировал и направлял… Должно существовать руководство, чьим долгом было бы объявить: «Вся эта чепуха не имеет ничего общего с психоанализом» [2; Vol. 1; 329–330].
Была создана международная организация с отделениями во многих странах, подчиняющаяся строгим правилам, касающимся того, кто имеет право считать себя психоаналитиком. Здесь мы наблюдаем спектакль, столь редкий в других научных областях, когда прогресс научной теории на десятилетия скован открытиями ее основателя и отсутствует всякая свобода пересматривать определенные фундаментальные положения мастера.
Даже язык, которым пользуется Фрейд, носит квазиполитический характер. Так, в письме к Ференци от 3 апреля 1910 года он говорит о конгрессе 1910 года как о «Нюрнбергском рейхстаге», которым «заканчивается детство нашего движения» [7; Vol. 2; 71]. А когда Юнг, по мнению Фрейда, стал слишком интересоваться интерпретацией мифов, Фрейд предостерегал его и писал об этом Ференци 29 декабря 1910 года: «Я более чем когда-либо убежден в том, что он – человек будущего. Его собственные исследования завели его далеко в область мифологии, которую он хочет открыть ключом теории либидо. Как бы привлекательно это ни было, я тем не менее рекомендовал ему своевременно вернуться к неврозам. Это наше отечество, где мы в первую очередь должны выстроить укрепления против всего и всех» [7; Vol. 2; 140. – Курсив мой. – Э.Ф.].
О других областях Фрейд часто говорил как о колониях психоанализа, а не отечестве. Это поистине язык строителя империи или политического лидера. Мальчик, восхищавшийся маршалом Массеной, юноша, который хотел быть либералом или социалистом, взрослый человек, идентифицировавший себя с Ганнибалом и Моисеем, видел в своем творении, психоаналитическом движении, инструмент для того, чтобы спасти – и завоевать – мир ради идеала.
Ответить на вопрос о том, что же представлял собой этот идеал, нелегко. Фрейд и его сподвижники подавляли осознание своей миссии. Их идеи не содержали выражения подобных квазирелигиозных целей напрямую. Это были терапевтический метод и психологические теории бессознательного, подавления, сопротивления, трансфера, толкования сновидений и т. д., не содержавшие эксплицитно ничего, что могло бы образовать ядро веры. Суть этой веры всегда оставалась имплицитной. Фрейд отрицал, что психоанализ представляет собой какое-либо Weltanschauung[15], какую-либо философию жизни. «Психоанализ, – говорил он, – по моему мнению, сам не в состоянии создать собственный Weltanschauung. Ему нет в этом нужды, потому что он – отрасль науки и может принять научное Weltanschauung. Впрочем, последнее едва ли заслуживает такого высокопарного названия, поскольку не охватывает всего в целом, является неполным, не претендует на объяснение всего и создание системы» [3; 248]. Таким образом Фрейд, по его собственным словам, опровергает существование особой философии, выражаемой психоанализом; однако, учитывая все факты, можно прийти только к одному выводу: это то, во что Фрейд осознанно верил и во что хотел верить, в то время как его желание основать новую философско-научную религию было подавлено и оставалось бессознательным.
Тем не менее тот же самый Фрейд в трогательном письме Ференци от 8 мая 1913 года писал: «Вполне возможно, что на этот раз мы действительно будем похоронены – после того как похоронный марш для нас столь часто исполнялся напрасно. Это очень изменит наши личные судьбы, но ничего не изменит в судьбе науки. Мы владеем истиной; я был уверен в этом еще пятнадцать лет назад» [7; Vol. 2; 148].
Что же это была за истина? Что составляло ядро психоаналитической религии, чем была догма, давшая энергию для образования и распространения движения?
Я полагаю, что эта центральная догма наиболее ясно выражена Фрейдом в «Эго и Ид»: «Эго развивается от опознания инстинктов к доминированию над ними, от послушания им к их подавлению. Суперэго, будучи отчасти реакцией против инстинктивных процессов в Ид, в высшей мере способствует этому достижению. Психоанализ – это инструмент, которому суждено осуществить прогрессивное завоевание Ид» («Эго и Ид», гл. 5. – Курсив мой. – Э.Ф.). Фрейд выражает здесь религиозно-этическую цель, победу разума над страстью. Эта цель коренится в протестантизме, в философии века Просвещения, в философии Спинозы, в религии Разума, но в концепции Фрейда она приобретает специфическую форму. До Фрейда предпринималась попытка укротить разумом иррациональные аффекты человека, их при этом не зная, точнее, не зная их глубинных источников. Фрейд, полагая, что он открыл эти источники в либидозных устремлениях и сложных механизмах их подавления, сублимации, формировании симптомов и т. д., должен был верить в то, что теперь впервые вековая мечта человека о самоконтроле и рациональности может быть реализована. Если провести аналогию с Марксом, то как Маркс верил, что нашел научную основу социализма в противоположность тому, что он именовал утопическим социализмом, так Фрейд полагал, что нашел научную основу для старых моральных целей и тем самым преодолел утопическую мораль, представленную религиозными и философскими учениями. Поскольку Фрейд не верил в среднего человека, эта новая научная мораль оказывалась целью, доступной только элите, и психоаналитическое движение становилось активным авангардом, маленьким, но хорошо организованным, которому предстояло обеспечить победу моральному идеалу.
Возможно, Фрейд мог бы стать социалистическим лидером, вождем этико-культурного движения или, уже по иным причинам, предводителем сионистского движения; мог бы – но не мог, поскольку кроме желания разрешить загадку человеческого существования обладал всеобъемлющим научным интересом к человеческому разуму, начал свою карьеру как врач и был слишком чувствительным и скептичным, чтобы сделаться политическим лидером. Однако под прикрытием научной школы он реализовал свою старую мечту – быть Моисеем, который указал человечеству путь в землю обетованную: победу Эго над Ид и путь к этой победе.
IX
Религиозные и политические взгляды Фрейда
Теперь интересно рассмотреть вопрос о том, каковы были собственные религиозные и политические воззрения Фрейда. Ответ, касающийся его религиозных убеждений, прост, поскольку в различных своих работах, особенно в «Будущем иллюзии», он высказал их совершенно ясно. Он видел в вере в Бога фиксацию на жажде полной защиты со стороны отца, выражение желания помощи и спасения, когда в реальности человек способен если не спасти себя, то по крайней мере себе помочь, пробудившись от детских иллюзий и используя собственную силу, разум и умения.
Политические взгляды Фрейда описать труднее, поскольку он никогда систематически их не излагал. Они к тому же сложнее и противоречивее его отношения к религии. С одной стороны, у Фрейда можно обнаружить отчетливые радикальные тенденции. Как говорилось выше, во время своей школьной дружбы с Генрихом Брауном он, вероятно, проникся социалистическими идеями. Затем, перед поступлением в университет, Фрейд намеревался изучать закон, чтобы получить шанс на политическую карьеру; его энтузиазм явно подогревался идеями политического либерализма. Те же симпатии, должно быть, выразились в его интересе к Дж. С. Миллю, работы которого он переводил; они, вероятно, все еще существовали в 1910 году, когда Фрейд обдумывал возможность вместе с другими психоаналитиками присоединиться к Международному братству этики и культуры.
Однако, несмотря на ранние либеральные и даже социалистические увлечения, представления Фрейда о человеке никогда не расходились со взглядами представителей среднего класса XIX столетия. На самом деле нельзя в полной мере оценить его психологическую систему, если не рассмотреть социальную философию, на которой она базируется.
Рассмотрим фрейдовскую концепцию сублимации.
Благодаря отказу от удовлетворения инстинктивных желаний, самоограничению, как считал Фрейд, элита в отличие от толпы «копит» психический капитал для культурных свершений. Вся тайна сублимации, которую Фрейд так адекватно и не раскрыл, есть тайна накопления капитала в соответствии с мифом среднего класса XIX века. Точно так же, как богатство есть продукт накопления, культура есть продукт фрустрации инстинктов.
Другая часть представлений XIX столетия о человеке также была полностью принята Фрейдом и выразилась в его психологической теории; я имею в виду взгляд на человека как на существо, изначально агрессивное и склонное к конкуренции. Эти идеи Фрейд очень ясно раскрыл в своем анализе культуры в «Недовольстве культурой»: «Homo homini lupus[16]; кому хватит смелости отрицать это перед лицом всех свидетельств его собственного опыта и истории? Обычно эта агрессивная жестокость нуждается в какой-либо провокации или проявляется ради какой-то другой цели, которая могла бы быть достигнута и более мягкими средствами. При благоприятных условиях, когда те силы ума, которые обычно препятствуют агрессии, перестают действовать, она проявляется спонтанно и превращает человека в дикое животное, которому чужда всякая мысль о том, чтобы пощадить представителя собственного вида» [1; 86–87].
Эта природная агрессивность человека приводит к другой черте, центральной в существовавшем тогда представлении о человеке: его врожденному соперничеству с другими. «Цивилизованному обществу постоянно угрожает распад из-за этой первобытной враждебности людей друг к другу» [1; 85–86]. Корни такой враждебности, очевидно, лежат в экономическом неравенстве. «Отказ от частной собственности лишает человеческую любовь к агрессии одного из ее инструментов, несомненно, сильного, но, безусловно, не самого сильного». Что же является самым важным источником человеческого – точнее, мужского – соперничества? Это стремление мужчины к беспрепятственному и неограниченному доступу ко всем женщинам, которых он может пожелать. Изначально это конкуренция между отцом и сыновьями за мать; затем это конкуренция между сыновьями за всех женщин, к которым имеется доступ. «Предположим, что со всеми личными правами на материальную собственность удалось разделаться; однако остаются прерогативы в сексуальных отношениях, которые должны вызывать сильнейшую вражду и самое яростное противостояние между мужчинами и женщинами, в остальных отношениях равными между собой» [1; 81–82].
Для мыслителей из среднего класса времен Фрейда человек был изначально изолирован и самодостаточен. Поскольку человек нуждался в определенных товарах, за которыми приходилось отправляться на рынок и встречаться там с другими индивидами, которые нуждались в том, что он предлагал к продаже, и сами продавали то, в чем нуждался он, этот взаимно выгодный обмен составлял суть социальных связей. В своей теории либидо Фрейд выразил ту же идею, только в психологических, а не экономических терминах. Человек по своей природе машина, движимая либидо и регулируемая потребностью в уменьшении болезненного напряжения до определенного минимального порога. Это снижение напряжения лежит в основе удовольствия. Чтобы получить такое удовлетворение, мужчины и женщины нуждаются друг в друге. Они удовлетворяют взаимные либидозные потребности, и это вызывает у них взаимный интерес. Впрочем, они остаются изолированными существами, совсем как продавец и покупатель на рынке, и хотя притягиваются друг к другу потребностью в удовлетворении своих инстинктивных желаний, никогда не преодолевают свою фундаментальную отдельность. Человек для Фрейда, как и для большинства мыслителей его времени, являлся общественным животным только в силу необходимости во взаимном удовлетворении потребностей, а не в силу изначальной нужды в близости друг с другом.
Это описание связи взглядов Фрейда и других представителей среднего класса XIX века на человека было бы неполным без упоминания о главной концепции теории Фрейда – об «экономическом аспекте» либидо. По Фрейду либидо – это всегда фиксированное количество, которое можно расходовать так или этак, но которое подчиняется законам материального мира: то, что истрачено, не может быть возвращено обратно. Это положение лежит за такими концепциями, как нарциссизм, где речь идет о том, чтобы или направить либидо вовне, или обратить его на собственное Эго, как деструктивность, направленная или на других, или на себя; оно же определяло мнение Фрейда о невозможности братской любви. В цитировавшемся выше отрывке он в терминах этой концепции объясняет абсурдность заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
«Моя любовь представляется мне ценностью, которой я не имею права разбрасываться без размышления. Она налагает на меня обязательства, и я должен быть готов принести жертвы, чтобы их выполнить. Если я кого-то люблю, этот кто-то должен так или иначе заслужить мою любовь. (Я оставляю в стороне вопрос о том, какую пользу он может мне принести, а также его возможное значение для меня как объекта сексуального интереса: ни один из этих двух видов взаимоотношений не рассматривается, если речь идет о любви к ближнему.) Он будет достоин любви, если он так схож со мной в важных аспектах, что я могу любить в нем себя; достоин, если он настолько совершеннее меня, что я могу любить в нем свой идеал; я должен любить его, если он сын моего друга, потому что боль, которую испытает мой друг, если с ним что-то случится, будет и моей болью – я должен буду ее разделить. Однако если он мне не знаком и не может привлечь каким-либо своим достоинством или каким-либо значением, которое уже приобрел в моей эмоциональной жизни, мне будет трудно полюбить его. Я даже поступлю неправильно, если полюблю его, потому что моя любовь расценивается как ценность теми, кто мне близок; было бы несправедливо в их отношении, если бы я поставил незнакомца вровень с ними. Но если я должен любить его (именно той самой универсальной любовью) просто потому, что он тоже житель мира, как насекомое, дождевой червь или уж, тогда, боюсь, ему достанется лишь небольшое количество любви, и для меня будет невозможно дать ему столько же любви, сколько я по всем законам разума должен сохранить к себе» [1; 81–82].
Едва ли требуются дальнейшие рассуждения, чтобы показать: Фрейд здесь говорит о любви, как человек его времени говорил бы о собственности или капитале. Он фактически применяет в точности тот же аргумент, который часто использовался против неправильно понятого социализма: если все капиталисты разделят свои деньги между бедняками, каждому из них достанется лишь небольшая сумма.
В XIX веке и экономист, и средний человек видели в представлении о человеке доказательство того, что современный им капитализм лучше всего соответствует человеческому существованию, потому что удовлетворяет стремлениям, заложенным в человеческой природе. Так поступают идеологи любого общества; они должны так поступать, потому что приятию данного социального порядка чрезвычайно способствует вера в то, что этот порядок естествен, а потому необходим и хорош. Что я хочу подчеркнуть, так это то, что Фрейд не выходил за пределы представлений о человеке, свойственные современному ему обществу. Он даже придал новый вес общепринятым воззрениям, показав, что они коренятся в самой природе либидо и его действия. В этом отношении Фрейд был психологом XIX столетия, который показал, что представления о человеке, на которых базируется экономическая система, даже более правильны, чем могли вообразить экономисты. Его концепция Homo sexualis[17] была углубленной и расширенной версией предложенной экономистами концепции Homo economicus[18]. Только в одном отношении Фрейд отклонялся от традиционной картины: он заявлял, что степень сексуального подавления, считавшаяся нормальной в его время, чрезмерна и вызывает неврозы. Однако и в этом Фрейд не подвергал сомнению основополагающий взгляд на человека; как и все либеральные реформаторы, он лишь пытался облегчить бремя человека в пределах традиционных представлений.
Если теоретические взгляды Фрейда на человеческую природу были теми же, что и взгляды большинства его современников, то и политическая его позиция не отличалась оригинальностью, в особенности по отношению к Первой мировой войне, явившейся суровым испытанием не только для чувств, но и для разума и реализма людей того времени. «Немедленный отклик Фрейда на объявление войны, – пишет Джонс в письме Абрахаму от 26 июля 1914 года, – был неожиданным. Можно было бы предположить, что ученый-пацифист пятидесяти восьми лет от роду встретит его с ужасом, как это случилось с очень многими. Реакция Фрейда, напротив, была скорее выражением юношеского энтузиазма, несомненно, отражающим пробуждение воинского пыла его отрочества. Он даже назвал безответственные действия [австрийского министра иностранных дел] Берггольца «освобождением от напряжения благодаря мужественному энергичному деянию» («Das Befreiende der mutigen Tat») и сказал, что впервые за тридцать лет почувствовал себя австрийцем… Он был чрезвычайно увлечен, не мог думать о работе и проводил время в обсуждении событий со своим братом Александром. Как выразился Фрейд, «все мое либидо отдано Австро-Венгрии»» [7; Vol. 2; 171].
Характерно, что Фрейд сравнивал военные события с противостоянием в психоаналитическом движении. В письме Хиршману в августе 1914 года он писал: «Мы выиграли кампанию против швейцарцев, но я не уверен, что германцы победят в войне и что мы продержимся до того момента. Мы должны от всей души надеяться на это. Напор германцев как будто гарантирует их победу; возрождение австрийцев выглядит многообещающе» [7].
Для идолопоклонства Джонса, как и для ортодоксального взгляда в целом, характерен камуфляж моральной и политической проблемы поддержки войны Фрейдом «интерпретацией», с которой мы здесь сталкиваемся: Джонс пишет о «юношеском энтузиазме, несомненно, отражающем пробуждение воинского пыла его отрочества». Джонс, вероятно, был несколько удивлен такой реакцией Фрейда, так как добавляет: «Это настроение, впрочем, длилось не долее пары недель, и Фрейд пришел в себя» [7; Vol. 2; 171]. Однако дело обстояло иначе, как показывает дальнейший отчет Джонса; во-первых, Фрейд «пришел в себя» только по части энтузиазма в отношении Австрии и по причине, которая тоже не кажется резонной: «Довольно любопытно, – пишет Джонс, – что переворот в чувствах Фрейда был вызван отвращением к некомпетентности его вновь обнаруженного отечества в кампании против сербов» [7; Vol. 2; 172]. Однако в том, что касалось Германии, потребовалась не «пара недель», а несколько лет, чтобы энтузиазм Фрейда угас. Еще в 1918 году он желал победы Германии, хотя это и казалось ему маловероятным (для сравнения: «Неизбежна ли война?» [7; Vol. 3; 195]). Только к самому концу войны преодолел Фрейд свои иллюзии. Однако испытания Первой мировой войны и, возможно, его самообман в ее отношении оказали на Фрейда, в отличие от многих других, глубокое очищающее влияние. В начале тридцатых годов XX века в знаменитой переписке с Эйнштейном о том, можно ли сделать что-то для предотвращения будущих войн, Фрейд говорит о себе и об Эйнштейне как о пацифистах и не оставляет никаких сомнений по поводу своего антагонизма в отношении войны. Хотя он видит корни готовности человека к военным действиям в инстинкте смерти, он утверждает, что с ростом цивилизации деструктивные тенденции все более интернализируются (в форме Суперэго), и выражает надежду на то, что интернализация агрессии и ужасы разрушений, к которым приведет еще одна война, в не столь отдаленном будущем положат конец всем войнам, – не такая уж утопическая идея [2; Vol. 5; 273–288].
Однако одновременно с этим в своем письме Эйнштейну Фрейд высказывает политические взгляды, гораздо более правые, чем либеральные, взгляды, которые он выразил в «Будущем одной иллюзии». Фрейд утверждает, что деление людей на лидеров и зависимых есть аспект их конституционального и неизменного неравенства. Вторым, представляющим подавляющее большинство, нужна власть, которая принимала бы за них решения; толпа следует этим решениям более или менее безусловно. Единственная надежда заключается в том, что элита будет состоять из избранных, способных руководствоваться разумом и не боящихся вступать в битву за истину. Идеал, естественно, представляет собой «объединение людей, подчинивших свои инстинкты диктату разума» [2; Vol. 5; 284].
Мы снова узнаем фундаментальную идею Фрейда: доминирование разума над инстинктом, – в смеси с глубоким неверием в способность среднего человека определять собственную судьбу. Таков один из трагических аспектов жизни Фрейда: за год до прихода Гитлера к власти он разочаровывается в возможности демократии и видит единственную надежду в диктатуре элиты, состоящей из мужественных, обрекающих себя на фрустрацию людей. Разве это была не надежда на психоаналитическую элиту, которая сможет направлять и контролировать пассивные массы?
X
Выводы и заключение
Приведенный выше анализ ставил своей целью показать, что целью Фрейда было основание движения за этическое освобождение человека, новой светской научной религии для элиты, которая должна была направлять человечество.
Однако собственные мессианские импульсы Фрейда не смогли бы преобразовать психоанализ в такое движение, если бы это не соответствовало потребностям его последователей и в конце концов широкой публики, с энтузиазмом принявшей новое учение.
Кто же были эти первые преданные ученики, обладатели шести колец? Они были городскими интеллектуалами, испытывавшими жажду обрести преданность идеалу, вождю, движению, однако не имеющими каких-либо религиозных, политических или философских убеждений; среди них не было ни социалистов, ни сионистов, ни католиков, ни ортодоксальных иудеев (хотя у Эйтингона могли иметься умеренные сионистские симпатии). Их религией было Движение. Все расширявшийся круг аналитиков вышел из той же среды; огромное большинство были и остаются интеллектуалами – представителями среднего класса, без религиозных, политических или философских интересов и принадлежности. Огромная популярность психоанализа с начала тридцатых годов XX столетия на Западе, особенно в Соединенных Штатах, опиралась, несомненно, на тот же социальный базис. Существовал средний класс, для которого жизнь потеряла смысл. Его представители не имели политических или религиозных идеалов, однако искали значение, идею, к которой могли бы испытывать преданность, объяснение жизни, не требовавшее веры или жертв, которое удовлетворяло бы их потребности чувствовать себя частью некой общности. Все это могло дать им Движение[19].
Однако новая религия разделила судьбу большинства религиозных движений. Начальный энтузиазм, свежесть и спонтанность скоро пошли на убыль, сложилась иерархия, основывающая свой престиж на «правильной» интерпретации догмы и присвоившая себе право судить о том, кто является верным последователем религии, а кто – нет. Постепенно догма, ритуал и обожествление вождя заняли место креативности и спонтанности.
Чрезвычайное значение догмы в ортодоксальном психоанализе едва ли требует доказательств. За пятьдесят лет произошло относительно мало теоретических подвижек за исключением собственных теоретических инноваций Фрейда[20]. Теории Фрейда по большей части применялись в клинической практике; всегда имела место тенденция доказать, что Фрейд был прав, а другим теоретическим возможностям уделялось мало внимания. Даже наиболее независимое развитие учения, отводящее особую роль Эго, в значительной мере представляется перефразированием хорошо известных положений в терминах фрейдовской теории, не открывающим значительных новых перспектив. Однако помимо относительной стерильности «официальной» психоаналитической мысли, ее догматизм проявляется в реакции на любое отступление от предписанного. Один из наиболее показательных примеров я уже приводил: реакцию Фрейда на идею Ференци о том, что пациент нуждается в любви как условии исцеления. Это только подчеркивает то, что происходило и происходит в движении. Те аналитики, которые открыто, честно и публично критикуют идеи Фрейда, рассматриваются как отступники, даже когда они не имеют намерения основать собственные «школы», а лишь пытаются представить результаты своих наблюдений и размышлений, основываясь на учении Фрейда.
Ритуальный элемент в ортодоксальном психоанализе также очевиден. Кушетка с креслом позади нее, четыре или пять сеансов в неделю, молчание аналитика (за исключением тех случаев, когда он дает «интерпретацию») – все эти факторы превратились из того, что когда-то было полезным средством достижения цели, в священный ритуал, без которого ортодоксальный психоанализ немыслим. Наиболее ярким примером этого служит, пожалуй, кушетка. Фрейд выбрал ее потому, что «не хотел, чтобы на него таращились по восемь часов в день». Потом добавились другие причины: пациент не должен был видеть реакции аналитика на то, что он говорит, – а поэтому лучше, чтобы аналитик сидел позади него; пациент чувствовал себя более свободным и расслабленным, если ему не приходилось смотреть на аналитика; «ситуация кушетки», как стало подчеркиваться позднее, искусственно воссоздавала ситуацию раннего детства, которая должна была приводить к лучшему развитию трансфера. Какова бы ни была ценность всех этих аргументов – лично я полагаю, что она не так уж велика, – при любом «нормальном» обсуждении терапевтической техники их можно было бы свободно оспаривать. В ортодоксальном же психоанализе отказ от использования кушетки рассматривается как свидетельство отступничества и prima facie[21] как доказательство того, что вы – не «аналитик».
Многих пациентов именно этот ритуал и привлекает; они чувствуют себя частью движения, испытывают ощущение солидарности со всеми теми, кто подвергается анализу, и превосходства над лишенными этой чести. Часто пациентов занимает не излечение, а волнующее осознание того, что они нашли свой духовный дом.
Наконец, картину того, какой квазиполитический характер имеет движение, завершает культ личности Фрейда. Я могу остановиться на этом коротко и сослаться на приводимый Джонсом портрет: Джонс отрицает и страстную жажду общественного признания, и авторитаризм Фрейда, и вообще любую человеческую слабость с его стороны. Другим хорошо известным симптомом того же комплекса является привычка ортодоксальных фрейдистов начинать, заканчивать и перемежать свои научные тексты замечанием «как уже сказал Фрейд», даже когда содержание работы совершенно не требует такого частого цитирования.
Я старался показать, что психоанализ, как и было задумано, развился в квазирелигиозное движение, основанное на психологической теории и дополненное психотерапией. Это само по себе совершенно законно. Критические замечания, высказанные на этих страницах, направлены против тех ошибок и ограничений, которые возникли в процессе развития психоанализа. В первую очередь он пострадал от того самого дефекта, излечить который ставит своей целью: от подавления. Ни Фрейд, ни его последователи не признавались ни другим, ни себе в том, что стремились к большему, чем научные и терапевтические достижения. Они подавляли свою амбицию завоевать мир благодаря мессианскому идеалу спасения и в результате оказались в ловушке двусмысленностей и нечестности, которые неизбежно следуют за таким подавлением. Вторым недостатком движения был его авторитарный и фанатичный характер, который помешал плодотворному развитию теории человека и привел к возникновению бюрократической структуры, унаследовавшей мантию Фрейда без его креативности и без радикализма его изначальной концепции.
Однако более важным, чем упомянутые моменты, является содержание идеи. Действительно, великое открытие Фрейда – новое измерение человеческой реальности, бессознательное – является элементом движения, имеющего целью реформирование человека. Однако это открытие фатальным образом увязло в болоте. Оно было приложено к небольшой области реальности – либидозным устремлениями человека и их подавлению, – но не к широкой реальности человеческого существования и не к социальным и политическим феноменам. Большинство психоаналитиков, и это верно даже для Фрейда, не менее слепы к реалиям человеческого существования и к бессознательным социальным феноменам, чем все прочие представители их класса. В определенном смысле они даже более слепы, потому что верят, будто нашли ответ на все вопросы жизни в формуле либидозного подавления. Однако нельзя видеть определенные аспекты человеческой реальности и оставаться слепым в отношении других. Это особенно верно в силу того, что весь феномен подавления есть феномен социальный. В любом обществе индивид подавляет осознание тех чувств и фантазий, которые несовместимы с мыслительным паттерном общества. Силой, вызывающей такое подавление, является боязнь оказаться в изоляции, стать изгоем из-за того, что подобные мысли и чувства никто не станет разделять. (В самой экстремальной форме боязнь полной изоляции есть страх перед безумием.) Учитывая это, для психоаналитика абсолютно необходимо выйти за пределы мыслительных паттернов своего общества, посмотреть на них критически и понять, какие реалии эти паттерны порождают. Понимание бессознательного данного индивида предполагает и делает необходимым критический анализ общества, к которому тот принадлежит. Сам факт того, что психоаналитик-фрейдист почти никогда не отказывается от представлений об обществе либерального среднего класса, составляет одну из причин узости и в конечном счете стагнации в вопросе, который и составляет суть его задачи: в понимании индивидуального бессознательного. (Кстати, существует странная – хотя и негативная – связь между ортодоксальной фрейдистской и ортодоксальной марксистской теориями: фрейдисты видят индивидуальное бессознательное и слепы в отношении бессознательного социального; ортодоксальные марксисты, напротив, остро чувствуют бессознательные факторы в социальном поведении, но совершенно не замечают индивидуальной мотивации. Это привело к вырождению марксистской теории и практики, и обратный феномен вызвал упадок психоаналитической теории и терапии. Этот результат никого не должен удивлять. Что бы ни было предметом изучения – общество или индивид, – изучаются всегда человеческие существа, а это означает, что дело касается их бессознательной мотивации; нельзя отделить человека как индивида от человека как члена общества, а если такое случается, то кончается непониманием и того, и другого.)
Каков же тогда наш вывод в отношении той роли, которую фрейдистский психоанализ играл в начале XX века?
Во-первых, следует отметить, что в начале – с 1900-х по 1920-е годы – психоанализ был гораздо более радикален, чем впоследствии, когда он приобрел свою огромную популярность. Для представителей среднего класса, воспитанных в викторианских традициях, утверждения Фрейда о детской сексуальности, о патологическом эффекте сексуального подавления и т. д. были вопиющим нарушением табу, и для преодоления табу требовались мужество и независимость. Однако тридцатью годами позже на волне сексуальной распущенности и широкого отказа от викторианских стандартов те же самые теории уже не выглядели шокирующими и вызывающими. Таким образом, психоаналитическая теория стала популярной в тех слоях общества, которые отрицательно относились к настоящему радикализму, т. е. к стремлению «докопаться до корней», и все же жаждали критики и отказа от консервативных нравов XIX столетия. В этих кругах – среди либералов – психоанализ выражал желанный средний курс между гуманистическим радикализмом и викторианским консерватизмом. Психоанализ заменил удовлетворение глубокого человеческого стремления найти смысл жизни, соприкоснуться с реальностью, избавиться от искажений и проекций, создающих преграду между действительностью и человеком. Психоанализ стал суррогатом религии для горожан – представителей среднего и верхнего среднего классов, которые не хотели предпринимать радикальных и более всеобъемлющих действий. В Движении они нашли все – догму, ритуал, вождя, иерархию, ощущение владения истиной, превосходства над непосвященными, – однако без лишних усилий, без более глубокого понимания проблем человеческого существования, без понимания и критики собственного общества и его уродующего воздействия на человека, без необходимости менять свой характер в действительно важных вещах: избавлении от алчности, злобы и глупости. Все, от чего нужно было избавиться, – это определенные либидозные фиксации и их перенос, что иногда бывало важным, но недостаточным для достижения того характерологического изменения, которое необходимо для полного соприкосновения с реальностью. Из передовой и смелой идеи психоанализ превратился в безопасное кредо для тех испуганных одиноких представителей среднего класса, которые не находили прибежища в более традиционных религиозных и общественных движениях своего времени. Упадок либерализма выразился в упадке психоанализа.
Часто говорится о том, что изменения в сексуальных нравах, произошедшие после Первой мировой войны, сами по себе были следствием растущей популярности доктрин психоанализа. Думаю, что такой вывод совершенно неверен. Нет необходимости напоминать о том, что Фрейд никогда не был глашатаем сексуальной распущенности. Напротив, он был, как я старался показать, человеком, чей идеал заключался в контроле над страстями со стороны разума и кто в собственном отношении к сексу оставался верен викторианским традициям. Фрейд был либеральным реформатором, поскольку критиковал викторианскую сексуальную мораль за ее чрезмерную суровость, иногда вызывающую неврозы, однако это совершенно отличается от сексуальной свободы, которую принесли с собой двадцатые годы XX века. Это новое сексуальное поведение имело много корней, однако самый главный из них лежит в характере современного ему капитализма, в стремлении к всевозрастающему потреблению. Если средний класс в XIX веке руководствовался принципом накопления, то в XX столетии он подчиняется правилу немедленного потребления, без большей отсрочки удовлетворения любого желания, чем это абсолютно необходимо[22]. Такое отношение касается не только потребления товаров, но и удовлетворения сексуальных побуждений. В обществе, построенном на основе максимального и немедленного удовлетворения всех потребностей, не может быть большой разницы между разными объектами желаний. Психоаналитические теории не были причиной такого развития; они предлагали удобную рационализацию подобной тенденции в том, что касалось сексуальных влечений. Если подавление и фрустрация потребностей могли быть причиной невроза, тогда фрустрации следовало избегать любой ценой – и именно к этому призывала реклама. Таким образом, психоанализ обязан своей популярностью тому, что предлагал сексуальную свободу как удовлетворение новой страсти к потребительству, вовсе не являясь причиной новой сексуальной морали.
Учитывая то, что целью Движения была помощь человеку в контроле над его иррациональными побуждениями с помощью разума, такое злоупотребление психоанализом указывает на трагическое крушение надежд Фрейда. Даже хотя свободные нравы двадцатых годов XX века позднее уступили место более консервативному поведению, развитие сексуальной морали, каким мог его при жизни наблюдать Фрейд, было, безусловно, не тем, в чем он видел желательное влияние своего движения. Однако еще более трагичным оказалось поражение, понесенное в великой битве между 1914 и 1939 годами разумом, божеством XIX столетия, утверждению которого были посвящены усилия психоаналитиков. Первая мировая война, победа нацизма и сталинизма, начало Второй мировой войны ознаменовали этапы пути отступления разума и здравого смысла. Фрейд, гордый вождь движения, ставившего себе целью создание мира разума, стал свидетелем наступления эры все усиливающегося социального безумия.
Фрейд был последним великим представителем рационализма, и ему выпала трагическая участь окончить жизнь, когда рационализм оказался побежден самыми иррациональными силами, какие западный мир знал со времен судов над ведьмами. Однако, хотя только история может вынести окончательный приговор, я полагаю, что трагедия Фрейда носит скорее личный характер, связанный с тем, что окончание его жизни совпало с безумием гитлеризма и сталинизма, с преддверием холокоста Второй мировой войны, чем с провалом его миссии. Несмотря на то, что его движение выродилось в новую религию для тех, кто искал прибежища в мире, полном тревоги и растерянности, западная мысль оплодотворена открытиями Фрейда и ее будущее немыслимо без их плодов. Я говорю не только о том очевидном факте, что Фрейд заложил новую основу психологической теории своим открытием бессознательного и его воздействия на сновидения, симптомы, черты характера, мифы и религию, показом важности опыта раннего детства для развития характера и многими другими, может быть, менее значимыми открытиями, но о его воздействии на западную мысль в целом.
Хотя работы Фрейда знаменовали собой кульминацию рационализма, одновременно он нанес рационализму смертельный удар. Показав, что источники действий человека лежат в бессознательном, в глубинах, закрытых для инспектирующего взгляда, и что сознательные мысли контролируют поведение человека лишь в незначительной мере, Фрейд разрушил представление о том, что интеллект доминирует без ограничений и соперников. В этом отношении, в ви́дении сил «нижнего мира», Фрейд был наследником романтизма, направления, которое пыталось проникнуть в сферу нерационального. Таким образом, историческая позиция Фрейда может быть описана как объединяющая две противоречащих друг другу силы, определявших мышление XVIII и XIX веков, – рационализм и романтизм.
Однако, чтобы в полной мере оценить историческую функцию Фрейда, мы должны сделать еще один шаг. Общий подход Фрейда к человеку был частью – а возможно, и кульминацией – самой важной тенденции в западной мысли после XVII века, попытки прийти в соприкосновение с реальностью, избавить человека от иллюзий, которые затуманивают и искажают действительность. Основу этому заложил Спиноза своей новой психологической концепцией, согласно которой ум человека является частью природы и функционирует в соответствии с ее законами. Естественные науки, вооруженные новыми открытиями, касающимися природы материи, шли к той же цели своим путем. Кант, Ницше, Маркс, Дарвин, Кьеркегор, Бергсон, Джойс, Пикассо – эти люди характеризовались тем же стремлением к неискаженному и непосредственному восприятию действительности. Как бы ни отличались они друг от друга, они стали олицетворением яркого взрыва стремления западного человека к избавлению от ложных богов, от иллюзий и к восприятию себя и мира как части действительности. Такова цель науки в интеллектуальном плане, так же как – в плане опыта – цель самых чистых и рациональных форм монотеистического и в особенности восточного не-теистического мистицизма.
Открытия Фрейда – неотъемлемая часть освободительного движения. Даже несмотря на то, что они были трансформированы в новые рационализации испуганным поколением, утратившим страстное желание соприкоснуться с реальностью, которое наполняло Фрейда, будущее развитие человечества, если ему удастся пережить темный период иррациональности и безумия, связано с новыми прозрениями, в которые Фрейд внес свой вклад.
Завершая эту книгу, посвященную личности Фрейда и его миссии, мы можем оглянуться на его величавую фигуру, забыть легенды, обожествление и враждебность, которые искажали его образ, и увидеть в нем человека, каким он и был.
Мы увидим в нем личность, обладающую страстной жаждой истины, безграничной верой в разум и готовую с несгибаемым мужеством эту веру отстаивать. Мы увидим человека, остро нуждающегося в материнской любви, восхищении и защите, полного уверенности в себе, когда они ему обеспечены, угнетенного и лишенного надежды в их отсутствие. Эта уязвимость, как эмоциональная, так и материальная, заставляла его стремиться к контролю над теми, кто от него зависел, чтобы он мог на них положиться.
Незащищенность может также быть фактором, направлявшим его энергию на достижение признания со стороны внешнего мира. Фрейд верит, что ему все равно, он считает себя выше этой жажды уважения, и все же потребность в почете и славе, горечь, когда надежды на них не оправдываются, остаются его сильнейшими переживаниями.
Его метод нападения решителен. Его оборона представляет собой обходной маневр, быстрый и находчивый. Фрейд смотрит на жизнь как на интеллектуальную загадку и твердо намерен победить в этой игре благодаря своему могучему разуму. В тех идеях, с которыми он работает, он ищет более глубокие значение и смысл. Его внутренняя борьба с амбициями и понимание истинных ценностей, часто вступающие в конфликт, вызывают мучительные душевные переживания. И еще часто возникает меланхолическое ощущение того, что цена достижений не соответствует их ценности.
Фрейд обладал способностью с энтузиазмом тратить всю свою энергию и ненасытным стремлением к экспериментированию в различных областях и во взаимоотношениях. Он часто настаивал на мелочах и ссорился с теми, кто не приветствовал его идеи и его помощь. Фрейд инстинктивно ощущал собственную чрезмерную впечатлительность; в попытке казаться более независимым, чем он был в действительности, он был готов без нужды ссориться с теми, кто производил на него самое сильное впечатление.
Энергия и амбиции всегда борются между собой. Враждебность и злоба тревожили Фрейда больше, чем среднего человека, даже несмотря на то, что и самоконтроль у него был сильнее. Он мог быть обходительным и уступчивым, но в то же время оказывался совершенно недипломатичным, часто упрямым, и делал некоторые вещи, просто чтобы полюбоваться переполохом.
Фрейд обладал умением легко сосредоточиваться и справляться со многими делами одновременно. В своих лучших проявлениях он уподоблялся универсальному человеку Гёте, в худших – становился дилетантом, но даже и тогда сохранял способность чего-то достичь. Фрейд был чувствителен к возможностям и целям общества, интересовался и воодушевлялся значимыми событиями, однако выражал это с независимостью. Фрейд яростно восставал против вмешательства в свои дела, что иногда вело к эксцентричности и тщеславию, хотя в то же время он отличался деликатностью, позволявшей ему понимать своих оппонентов и предвидеть их поступки. Он колебался между проявлением безграничного человеческого понимания и безнадежно несправедливым и фантастическим подходом к людям и идеям. Фрейд обладал способностью вызывать в других энтузиазм и слепое обожание, играя драматическую роль, иногда ведя себя как гений, иногда – как фанатик. Он отличался замечательным умением доводить дело до конца, безжалостно отсекая любые посторонние интересы или требующие времени личные контакты.
Он не был любящим человеком, отличался эгоцентризмом, был преисполнен идеей о собственной миссии, ожидал, что другие станут его последователями, будут ему служить, жертвовать ему своей независимостью и интеллектуальной свободой. Мир для него был сценой для драмы его Движения и его миссии. Он не гордился собой как личностью, но был горд своей миссией, величием своего дела и собой как носителем идеи. Фрейд жил, боясь боли, которую причинила бы потеря того, чем он дорожил. Поэтому он избегал радостей и удовольствий и ставил себе целью контроль над всеми страстями, привязанностями, чувствами при помощи силы воли и разума. Его идеалом был сдержанный, контролирующий себя человек, высоко вознесенный над толпой, отвергающий радости жизни, однако наслаждающийся уверенностью в том, что никто и ничто не может его ранить. Фрейд был несдержанным в своих отношениях с другими и в своих амбициях и парадоксальным образом даже в своем аскетизме.
Фрейд был одиноким человеком; он был несчастлив, когда не погружался в свои открытия и в преследование своих квазиполитических целей. Он был добрым и проявлял чувство юмора, кроме тех случаев, когда чувствовал вызов или опасался нападения. Фрейд оставался трагической фигурой в главном и отчетливо это видел: он хотел показать человечеству землю обетованную разума и гармонии, но мог только видеть ее издали; он знал, что никогда в нее не войдет; возможно, он чувствовал также – после измены Иисуса Навина – Юнга, – что и верные его приверженцы не войдут в землю обетованную. Один из величайших людей человечества и первопроходцев, Фрейд должен был умереть с чувством глубокого разочарования, однако его гордость и достоинство никогда не были поколеблены болезнью, поражением и разочарованием. Более независимым мыслителям, чем его верные последователи, было, возможно, трудно уживаться с Фрейдом и симпатизировать ему, однако его дарования, его честность, его мужество и трагический характер его жизни наполняют нас не только уважением и восхищением, но и любовным сочувствием к этому истинно великому человеку.
Библиография
1. Freud S. Civilization and Its Discontents. L.: The Hogarth Press, 1953.
2. Freud S. Collected Works. L.: Hogarth Press, 1952.
3. Freud S. New Introductory Lectures on Psychoanalysis. N.Y.: W.W. Norton & Co., 1933.
4. Freud S. The Interpretation of Dreams. N.Y.: Basic Books, 1955.
5. Freud S. The Origins of Psychoanalysis, letters to Wilhelm Fliess. N.Y.: Basic Books, 1954.
6. Freud S. The Origins of Psychoanalysis. N.Y.: Basic Books, 1954.
7. Jones E. The Life and Work of Sigmund Freud. N.Y.: Basic Books, 1957.
8. Puner H.W. Freud, His Life and His Mind. N.Y.: Grosset and Dunlap, 1943.
9. Sachs H. Freud, Master and Friend. Cambridge: Harvard University Press, 1946.
10. Simon E. Sigmund Freud, the Jew // Yearbook II of the publications of the Leo Baeck Institute. L., 1957.
11. Worthis J. Fragment of an Analysis with Freud. N.Y.: Simon and Schuster, 1954.
Величие и ограниченность теории Фрейда
Предисловие
Чтобы полностью оценить значение психоаналитических открытий Фрейда, нужно начать с понимания принципа, на котором они основаны, и этот принцип нельзя выразить более адекватно, чем словами Евангелия: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна, 8:32). Действительно, идея о том, что истина спасает и исцеляет, представляет собой старинное прозрение, и хотя никто из великих учителей жизни не сформулировал его с такой ясностью и категоричностью, как Будда, однако эта мысль является общей для иудаизма, христианства, Сократа, Спинозы, Гегеля и Маркса.
Согласно буддистскому учению, иллюзия (неведение) является, вместе с ненавистью и алчностью, одним из зол, от которых человек должен избавиться, если не хочет остаться в состоянии страстного желания, неизбежно ведущего к страданию. Буддизм не отвергает мирских радостей и удовольствий – при условии, что они не проистекают из страстного желания и алчности. Жадный человек не может быть свободным и не может быть счастлив. Он – раб вещей, которые им управляют. Процесс пробуждения от иллюзий – условие свободы и освобождения от страданий, которые неизбежно порождает алчность. Отказ от иллюзий (Enttäuschung) создает условия для ведения жизни, которая более всего благоприятна для полного развития человека, или, по словам Спинозы, образца человеческой природы. Менее основополагающими и радикальными, поскольку они осквернены идеей бога-идола, являются концепции истины и необходимости в разочаровании в христианской и иудейской традициях. Однако когда эти религии пошли на компромисс с властью, они неизбежно предали истину. В учениях протестантских сект истина снова заняла выдающееся положение, потому что главную свою задачу они видели в раскрытии противоречий между христианским учением и христианской практикой.
Идеи Спинозы во многом напоминают учение Будды. Человек, который подчиняется иррациональным порывам («пассивным аффектам») неизбежно имеет неадекватные идеи о себе и мире – другими словами, живет иллюзиями. Тот, кто руководствуется разумом, перестает поддаваться соблазну чувств и следует двум «активным аффектам»: рассудку и смелости. Маркс следует традиции тех, для кого истина – условие спасения. Вся его работа в первую очередь посвящена не тому, чтобы показать, как выглядело бы хорошее общество, но беспощадной критике иллюзий, которые не дают человеку построить хорошее общество. По словам Маркса, нужно разрушить иллюзии, чтобы изменить обстоятельства, требующие существования иллюзий.
Фрейд не смог сформулировать то же положение как подходящий эпиграф для терапии, основанной на психоаналитической теории. Он необычайно расширил концепцию истины. Для него истина имела отношение не только к тому, во что человек верит или что думает осознанно, но и к тому, что он подавляет из-за нежелания думать об этом.
Величие открытия Фрейда состоит в том, что он предложил метод нахождения истины за пределами того, что человек считает истиной, и сделать это он смог, открыв эффекты подавления и, соответственно, рационализации. Фрейд эмпирически продемонстрировал, что путь к исцелению лежит в прозрении собственной ментальной структуры и тем самым «деподавлении». Такое приложение принципа, согласно которому истина освобождает и исцеляет, возможно, является величайшим достижением Фрейда, даже несмотря на то, что оно подверглось многочисленным искажениям и часто создавало новые иллюзии.
В этой книге я хочу подробно представить важнейшие открытия Фрейда. В то же время я постараюсь показать, где и каким образом буржуазное мышление, такое типичное для Фрейда, сужало и иногда даже скрывало его открытия. Поскольку моя критика Фрейда обладает собственным развитием, я не смогу избежать отсылок к более ранним утверждениям, которые я делал на этот счет.
Эрик Фромм
1. Ограничения научного знания
Причина того, почему каждая новая теория неизбежно неточна
Попытка понять теоретическую систему Фрейда, как и любого творчески и систематически мыслящего ученого, не может быть успешной без понимания того факта и его причин, почему любая система, по мере того как она развивается и представляется автором, неизбежно содержит ошибки. Это является следствием не отсутствия изобретательности, творческого подхода или самокритичности у автора, а фундаментального и неизбежного противоречия: с одной стороны, автор имеет сказать нечто новое, нечто, о чем не думали и не говорили раньше. Однако, говоря о новизне, ее помещают всего лишь в описательную категорию, не отдавая должного тому, что является сутью творческой мысли. Творческая мысль всегда мысль критическая, поскольку она разрушает определенную иллюзию и приближает к пониманию реальности. Она расширяет пространство человеческого понимания и увеличивает силу разума. Критическая и тем самым творческая мысль всегда выполняет функцию освобождения благодаря тому, что отрицает мысль, основанную на иллюзии.
С другой стороны, мыслитель должен выразить свою новую мысль в духе своего времени. Разным обществам свойственны разные виды «здравого смысла», разные категории мышления, разные системы логики; каждое общество имеет собственный «социальный фильтр», сквозь который могут пройти только определенные идеи, концепции и события; те, которые не обязательно должны оставаться в подсознании, могут стать осознанными, когда фундаментальные изменения социальной структуры приводят к соответственному изменению «социального фильтра». Мысли, которые не могут пройти сквозь социальный фильтр определенного общества в определенное время, оказываются «немыслимыми» и, конечно, «непроизносимыми». Для среднего человека мыслительные паттерны общества, в котором он живет, выглядят просто логическими. Мыслительные паттерны фундаментально иных обществ рассматриваются как нелогичные или просто бессмысленные. Однако не только «логика» определяется «социальным фильтром» и в конце концов анализом жизненной практики данного общества, но также содержание определенных мыслей. Возьмем, например, распространенное представление о том, что эксплуатация одного человека другим является «нормальным», естественным и неизбежным явлением. Для члена неолитического общества, в котором каждый мужчина или женщина жили только собственным трудом, такое положение было бы немыслимым. С точки зрения всей социальной организации того общества эксплуатация одного человека другим была бы «безумной» идеей, потому что не существовало еще излишков, которые сделали бы осмысленным наем других людей (если бы один человек принудил другого на себя работать, это не означало бы, что объем продукции увеличился; в таком случае «наниматель» только вынужденно страдал бы от праздности и скуки). Другой пример: многие общества, в которых была известна не частная собственность в современном понимании, а только «функциональная собственность», когда, скажем, инструмент, «принадлежавший» одному человеку, поскольку он им пользовался, с легкостью мог в случае надобности использоваться другими.
Для того, что «немыслимо» и «невыразимо», в языке не существует слов. Многие языки не имеют слова для «иметь» и вынуждены выражать концепцию владения другими выражениями, например, «это для меня», что отражает существование функциональной, а не частной собственности (частной в смысле латинского privare, означающего «лишать» – т. е. собственности, которой лишены все, кроме собственника). Многие языки в начальной форме не имели слова для «иметь», но в процессе развития, как можно предположить, с появлением частной собственности, слово с соответствующим значением приобрели (см., например, [2]). Вот другой пример: в X и XI веках в Европе представление о слове, лишенном выражения почтения к Богу, было немыслимым, а потому термин типа «атеизм» существовать не мог. Язык сам по себе испытывает влияние социального запрета некоторых выражений, не соответствующих структуре данного общества; языки различаются в зависимости от того, какие действия запретны и поэтому невыразимы[23].
Отсюда следует, что творческий мыслитель должен мыслить в терминах логики, мыслительных паттернов и выразимых концепций своей культуры. Это означает, что он еще не имеет подходящих слов для выражения творческой, новой, освобождающей идеи. Он вынужден разрешать неразрешимую проблему: выразить новую мысль при помощи концепций и слов, еще не существующих в его языке (они могут с легкостью существовать в более позднее время, когда его творческие открытия будут приняты обществом). Как следствие, новая мысль, сформулированная ученым, оказывается смесью того, что действительно ново, и традиционной мысли, которую она превосходит. Мыслитель, однако, не осознает этого противоречия. Традиционные мысли его культуры, несомненно, остаются для него верны, и поэтому он мало осознает различия между творческим содержанием своей мысли и тем, что чисто традиционно. Только в историческом процессе, когда общественные изменения найдут отражения в мыслительных паттернах, становится очевидным, что́ в мысли творческой личности на самом деле ново и до какой степени его система является отражением традиционного мышления. Задачей последователей мыслителя, живущих в другой системе идей, является интерпретация вклада мастера благодаря отделению «оригинальных» мыслей от традиционных и анализ противоречий между старым и новым, а не попытки гармонизировать имманентные противоречия его системы с помощью разнообразных ухищрений.
Процесс ревизии творений мыслителя, отделяющий главное и новое от случайных, заданных временем элементов, сам по себе также является продуктом определенного исторического периода, который влияет на интерпретацию. В таком творческом толковании креативные и валидные элементы в свою очередь смешиваются с зависящими от времени и случайными. Ревизия не является просто истинной, как и оригинал не является просто ошибочным. Некоторые элементы ревизии остаются верны, а именно те, которые освобождают теорию от шор предшествующего традиционного мышления. В процессе критического отвержения предыдущих теорий мы обнаруживаем приближение к истине, но не саму истину; мы и не можем ее найти, пока социальные противоречия и силы не потребуют идеологического удовлетворения, пока рассуждения человека затемнены иррациональными страстями, укорененными в дисгармонии и иррациональности общественной жизни. Только в обществе, где нет эксплуатации и, следовательно, нет нужды в иррациональных предположениях, направленных на сокрытие или оправдание эксплуатации, в обществе, где базовые противоречия разрешены и где социальная реальность может быть выявлена без искажений, человек может полностью пользоваться рассудком, может понять реальность в неискаженной форме – другими словами, понять истину. Иначе говоря, истина зависит от исторических условий, от степени рациональности и от отсутствия противоречий внутри общества.
Человек способен осознать истину, только когда он способен регулировать свою социальную жизнь гуманным, достойным и рациональным образом, без страха и без алчности. Говоря политико-религиозным языком, только в мессианское время истина может быть познана в той мере, в какой она познаваема.
Корни ошибок Фрейда
Приложение этого принципа к мышлению Фрейда означает, что для понимания Фрейда нужно попытаться выявить, какие из его открытий действительно новы и креативны и в какой степени он был вынужден выражать их в искаженном виде и как, освободив его идеи от этих шор, можно сделать его открытия еще более продуктивными.
Обращаясь к тому, что вообще говорилось об учении Фрейда, задаешься вопросом: что было действительно немыслимо для Фрейда и тем самым оказалось препятствием, дальше которого он не смог пойти?
Пытаясь ответить на этот вопрос, я вижу всего две системы:
Теорию буржуазного материализма, в особенности в той форме, в которой она получила развитие в Германии в трудах Фогта, Молешотта и Бюхнера. В книге «Сила и материя» (1855) Бюхнер утверждал: нет силы без материи и нет материи без силы; эта догма была общепринятой во времена Фрейда. Догма буржуазного материализма в выражении Фрейда была той же, какой придерживались его учителя, в особенности самый значительный из них, фон Брюкке. Фрейд оставался под сильным влиянием учения фон Брюкке и буржуазного материализма в целом и поэтому не мог себе представить, что возможно существование могучих физических сил, специфические физиологические корни которых не могут быть продемонстрированы.
Истинная цель Фрейда заключалась в понимании человеческих страстей, которыми раньше занимались философы, драматурги и романисты – но не психологи и невропатологи.
Как же Фрейд разрешил эту проблему? Во времена, когда относительно немного было известно о гормональных влияниях на психику, существовал один феномен, применительно к которому связь между физиологией и психикой была хорошо известна: сексуальность. Если рассматривать сексуальность как корень всех побуждений, то требования теории были удовлетворены, физиологические источники психических сил обнаружены. Позже Юнг отказался от этой концепции и тем самым, на мой взгляд, сделал действительно ценный вклад в учение Фрейда.
Второй комплекс немыслимых вещей заключался в буржуазной и авторитарно-патриархальной установке Фрейда. Общество, в котором женщины были бы действительно равны мужчинам, в котором мужчины не правили бы по причине своего предполагаемого физиологического и психического превосходства, для Фрейда было просто немыслимым. Когда Джон Стюарт Милль, которым Фрейд восхищался, высказывал идею равенства женщин, Фрейд написал в письме: «В этом отношении Милль просто безумен». Слово «безумный» типично для определения немыслимых вещей. Большинство людей называет некоторые идеи безумными, потому что разумность заключена только в границах традиционного мышления. То, что выходит за эти границы, для среднего человека безумно (дело обстоит иначе, впрочем, если писатель или художник добивается успеха. Разве успех не свидетельствует о разумности?) Немыслимость для Фрейда идеи равенства женщин привела его к созданию женской психологии. Мне представляется, что его уверенность в том, что половина человечества биологически, анатомически и умственно стоит ниже другой половины, является единственным положением его учения, не имеющим ни малейшего оправдания, и представляет собой отражение его мужского шовинизма.
Однако буржуазный характер учения Фрейда отражается совсем не только в его чрезвычайной патриархальности. Существует очень немного мыслителей, радикально выходящих за пределы мышления своего класса. Фрейд к ним не принадлежал. Классовые истоки взглядов Фрейда видны практически во всех его теоретических построениях. Да и как могло быть иначе – ведь радикальным мыслителем Фрейд не был. Тут не на что было бы жаловаться, если бы не тот факт, что его ортодоксальные (и неортодоксальные) последователи поощрялись в своем некритичном отношении к обществу. Такая установка Фрейда также объясняет, почему его создание – которое было критической теорией, а именно критикой человеческого сознания, – привело к появлению всего лишь небольшой кучки радикально мыслящих политиков.
При желании проанализировать наиболее важные концепции Фрейда с точки зрения их классовых истоков[24] пришлось бы написать целую книгу. В пределах данной работы такое, несомненно, сделать невозможно. Однако приведем три примера.
1. Целью терапии Фрейда был контроль над инстинктивными побуждениями путем усиления Эго; инстинктивные побуждения сдерживались Эго и Суперэго. В этом отношении Фрейд близок к средневековой теологической системе мышления, хотя и с существенным отличием: в его системе нет места благодати и материнской любви, кроме как при вскармливании ребенка. Ключевое слово – контроль.
Психологическая концепция соответствует общественной реальности; точно так же, как социально большинство контролируется правящим меньшинством, считается, что психика контролируется авторитетом Эго и Суперэго. Опасность прорыва бессознательного несет с собой опасность социальной революции. Подавление есть репрессивный авторитарный метод защиты внутреннего и внешнего status quo. Это ни в коем случае не единственный способ справиться с проблемами социальных изменений. Однако угроза применения силы для подавления «опасности» – единственная возможность для авторитарной системы, главная цель которой – сохранение status quo. С другими моделями личностной и социальной структур можно экспериментировать. Окончательный анализ сводится к вопросу: какой отказ от счастья необходим в обществе для правящего меньшинства, чтобы властвовать над большинством? Ответ лежит в развитии производительных сил общества и, следовательно, в той степени, в которой индивид неизбежно испытывает фрустрацию. Вся структура «Суперэго, Эго, Ид» иерархична, что исключает возможность того, что общество свободных, то есть не эксплуатируемых людей может существовать гармонично без неизбежного контроля зловещими силами.
2. Не нужно и говорить, что гротескное изображение Фрейдом женщин (см. лекция 33 [26]) как в основе своей нарциссических, неспособных к любви и сексуально холодных, – мужская пропаганда. Представительница среднего класса была, как правило, сексуально холодной. Это задавалось собственническим характером буржуазного брака. От женщины как от собственности ожидалось, что в браке она будет «безжизненной». Только представительницам высших классов и куртизанкам разрешалось быть сексуально активными (или по крайней мере притворяться таковыми). Неудивительно, что в процессе завоевания мужчины испытывали вожделение; чрезмерно высокая оценка «сексуального объекта», согласно Фрейду, существовавшая только для мужчин (еще один недостаток женщин!), основывалась, насколько я могу судить, на удовольствии от преследования и, наконец, завоевания. Как только завоевание оказывалось обеспеченным первым сношением, женщине отводилась функция деторождения и успешного ведения домашнего хозяйства; она переходила из разряда объекта преследования в категорию не-личности[25]. Если бы у Фрейда было много пациенток из высших слоев французской и английской аристократии, его ригидное представление о холодной женщине могло бы измениться.
3. Возможно, самым важным примером буржуазных свойств кажущихся универсальными концепций Фрейда является концепция любви. Фрейд говорит о ней больше, чем его ортодоксальные последователи. Однако что он понимает под любовью?
Очень важно отметить, что Фрейд и его приверженцы обычно говорят об «объектной любви» (в противовес любви нарциссической) и об «объекте любви» (имея в виду того, кого любят). Однако существует ли в действительности такая вещь, как «объект любви»? Не перестает ли возлюбленный быть объектом, то есть чем-то внешним и противостоящим мне? Разве любовь не именно внутренняя активность, объединяющая двух людей, так что они перестают быть объектами (то есть собственностью друг друга)? Взгляд на объект любви как на владение, исключая любую форму личностности (см. [38]) – то же самое, что представление торговца о вложении капитала.
Во втором случае вкладывается капитал, в первом – либидо. Только логично встретить в психоаналитической литературе определение любви как «вложения либидо» в объект. Нужна банальность деловой культуры, чтобы низвести любовь к Богу, любовь мужчины и женщины, любовь к человечеству до уровня вложения; энтузиазм Руми, Экхарта, Шекспира, Швейцера показывает мелочность воображения тех людей, классовое сознание которых рассматривает вложения и прибыль как смысл жизни.
Теоретические предпосылки заставляют Фрейда говорить об «объектах любви», поскольку «либидо остается либидо, направлено ли оно на объект или на собственное Эго» [16; 420]. Любовь – это сексуальная энергия, направленная на объект; она всего лишь физиологически вызванный инстинкт, направленный на объект. Это побочный и излишний продукт биологической необходимости, удовлетворение которой требуется для выживания вида. «Любовь» человека по большей части – это тип привязанности, то есть привязанность к лицам, ставшим драгоценными благодаря удовлетворению других жизненных потребностей (в пище и в питье). Другими словами, любовь взрослого человека не отличается от любви ребенка; они оба любят того, кто их насыщает. Это, несомненно, верно для многих; такая любовь – нежная благодарность за насыщение. Хорошо, но сказать, что это и есть суть любви, – мучительно банально (женщинам, как сказано в работе Фрейда [26; 132f], недоступно это высокое достижение, потому что они любят «нарциссически»: в другом они любят себя).
Фрейд утверждает: «Любовь сама по себе, до тех пор пока она остается стремлением и лишением, понижает самоуважение, в то время как взаимность и обладание объектом любви снова его повышает» ([15]; 99. – Курсив мой. – Э.Ф.). Данное утверждение – ключ к пониманию фрейдовской концепции любви. Любовь, предполагающая желание и лишение, понижает самоуважение. Тем, кто утверждает, что любовь приносит восторг и силу, Фрейд отвечает: «Вы все неправы! Любовь делает вас слабыми; вы делаетесь счастливыми, когда вас любят. А что значит «вас любят»? Это – обладание любимым объектом!»
Таково классическое определение буржуазной любви: счастье составляют обладание и контроль, будь это обладание материальной собственностью или женщиной, которая, принадлежа, владеет любовью своего владельца. Любовь начинается в результате кормления ребенка матерью. Она заканчивается, когда мужчина владеет женщиной, которая все еще должна насыщать его своей привязанностью, сексуальным удовлетворением и пищей. Здесь мы, возможно, находим корни Эдипова комплекса. Воздвигая соломенное чучело инцеста, Фрейд прячет то, что считает главной сутью мужской любви: вечную привязанность к матери, которая кормит ребенка и в то же время находится под контролем мужчины. То, что Фрейд говорит между строк, весьма, пожалуй, подходит патриархальному обществу: мужчина остается зависимым, но опровергает это, похваляясь силой и доказывая ее тем, что делает женщину своей собственностью.
Суммируя, можно сказать: главным фактором патриархальной мужской установки является зависимость от женщины и ее отрицание через контроль над женщиной. Фрейд, как это часто делается, трансформировал специфический феномен: превратил патриархальную мужскую любовь в универсальный человеческий принцип.
Проблема научной «истины»
Сегодня стало модным говорить – к этому особенно склонны представители различных ветвей академической психологии, – что теория Фрейда «ненаучна». Такое утверждение, конечно, полностью зависит от того, что́ каждый ученый называет научным методом. Многие психологи и социологи имеют довольно наивное представление о научном методе. Коротко говоря, ожидается, что сначала человек собирает факты, затем подвергает их различным количественным измерениям – их математическая обработка стала чрезвычайно легкой с появлением компьютеров, – а затем в результате всех этих усилий приходит к теории или по крайней мере к гипотезе. Как и в случае естественных наук, доказательство правильности теории заключается в возможности повторения эксперимента другим исследователем с теми же результатами. Проблемы, которые не поддаются такому типу количественного выражения и статистическому подходу, считаются имеющими ненаучный характер и, таким образом, лежащими вне научной психологии. Согласно такой схеме один, два или три примера, позволяющих наблюдателю сделать определенные заключения, объявляются более или менее бесполезными, если нельзя получить значительного количества примеров, пригодных для проведения статистической процедуры. Главным для этой концепции научного метода является предположение по умолчанию, что факты сами по себе порождают теорию, если использован должный метод, а роль творческого мышления наблюдателя чрезвычайно мала. Что от ученого требуется, так это способность провести кажущийся удовлетворительным эксперимент без предварительного выдвижения теории, которая может быть доказана или опровергнута в ходе эксперимента. Такая концепция науки как простой последовательности отбора фактов, эксперимента и уверенности в результате устарела, и важно отметить, что настоящие ученые – физики, биологи, химики, астрономы – давно отказались от этой примитивной концепции научного метода.
Сегодня творческих личностей от псевдоученых отличает вера в возможности разума, вера в то, что разум и воображение человека могут проникнуть сквозь обманчивую поверхность феномена и выдвинуть гипотезы, касающиеся основополагающих сил, а не поверхностных явлений. Важно отметить, что последнее, чего они ожидают, – это уверенность в окончательной истине. Они знают, что каждая гипотеза будет вытеснена другой, которая не обязательно отрицает первую, но модифицирует и расширяет ее.
Ученый может справиться с неопределенностью именно в силу своей веры в человеческий разум. Для него имеет значение не окончательное заключение, а уменьшение степени иллюзии, более глубокое проникновение к корням. Ученый даже не боится ошибиться, зная, что история науки – это история ошибочных, но продуктивных утверждений, порождающих новые прорывы, преодолевающих относительную ошибочность прежних воззрений и ведущих к новым открытиям. Если бы ученые были одержимы желанием никогда не ошибаться, они никогда не достигли бы прозрений, которые оказались бы относительно правильными. Конечно, если социолог задает только тривиальные вопросы и не обращается к фундаментальным проблемам, его «научный метод» приносит результаты, достаточные для бесконечной публикации статей, которые он должен написать для продвижения в научной карьере.
Это вовсе не всегда было методом социологов. Достаточно вспомнить таких ученых, как Маркс, Дюркгейм, Мэйо, Макс и Альфред Вебер, Теннис. Они обращались к наиболее фундаментальным проблемам, и данные ими ответы не основывались на наивных позитивистских методах; они не полагались на статистические данные как порождающие теории. Для них сила разума и вера в эту силу были столь же неколебимы и значимы, как и для самых выдающихся ученых-естественников. Однако в социальных науках ситуация изменилась. С ростом влияния большой промышленности многие социологи подчиняются обстоятельствам и занимаются только теми проблемами, которые могут быть разрешены без потрясения системы.
Какова же сегодня процедура, создающая научный метод как в естественных, так и в социальных науках?
1. Ученый не начинает работу на пустом месте; скорее его мышление определяется имеющимися у него знаниями и вызовом, который бросают неисследованные области.
2. Условием оптимальной объективности является самое скрупулезное и подробное изучение феномена. Ученого характеризует величайшее уважение к доступным для наблюдения деталям: многие великие открытия были сделаны потому, что ученый обратил внимание на мелкое событие, которое было замечено, но проигнорировано другими.
3. Ученый формулирует гипотезу на основании известных теорий и максимума подробных знаний. Функцией гипотезы является некоторое упорядочение наблюдаемых феноменов и осторожное расположение их так, чтобы это казалось осмысленным. Также очень важно, чтобы исследователь был способен в любой момент заметить новые данные, противоречащие его гипотезе, что ведет к ее пересмотру, – и так далее до бесконечности.
4. Такой научный метод требует, конечно, чтобы ученый был хотя бы относительно свободен от принятия желаемого за действительное и от нарциссического мышления; другими словами, чтобы он был способен наблюдать факты объективно, без искажений или придания им непропорционального веса из-за своего стремления доказать правильность своей гипотезы. Сочетание богатого воображения и объективности достигается редко, и в этом, возможно, причина того, что великие ученые, для которых выполнялись бы оба условия, так немногочисленны. Высокий интеллект необходим, но сам по себе недостаточен для того, чтобы его обладатель стал творческой личностью. На самом деле полная объективность вообще едва ли может быть достигнута. Как уже говорилось, на ученого всегда оказывает влияние здравый смысл его времени; более того, только чрезвычайно одаренные люди не страдают нарциссизмом. Все же дисциплина научного мышления порождает определенную степень объективности и то, что может быть названо научной совестью, что редко встречается в других сферах культурной жизни. Действительно, тот факт, что великие ученые яснее, чем кто-либо другой, видят опасности, угрожающие сегодня человечеству, и предупреждают о них – это выражение их способности быть объективными и не поддаваться давлению заблуждающегося общественного мнения.
Эти принципы научного метода – объективность, наблюдение, формулирование гипотез и пересмотр их при дальнейшем исследовании фактов, – хотя и являются валидными для всех направлений науки, не могут одинаково прилагаться ко всем объектам научной мысли. Хотя я не компетентен в области физики, существует, несомненно, выраженное различие между наблюдением за живым человеком в целом и наблюдением определенных аспектов личности, выделенных из нее и изучаемых без оглядки на целое. Это не может быть сделано в любой системе без искажения указанных изолированных аспектов, которые хотелось бы изучить, потому что они находятся в постоянном взаимодействии с каждой частью системы и не могут быть поняты вне целого. Если пытаться изучать один аспект личности в отрыве от целого, необходимо разъять личность – другими словами, разрушить ее целостность. Тогда можно изучать тот или иной изолированный аспект, но все выводы, которые будут сделаны, неизбежно окажутся ошибочными, потому что будут получены на мертвом материале – расчлененном человеке.
Живой человек может быть понят только как целое и живое существо, пребывающее в постоянном состоянии изменений. Поскольку каждый индивид отличается от любого другого, даже возможность обобщений и формулирование законов ограничены, хотя ученый-наблюдатель всегда будет стараться найти какие-то общие принципы и законы, применимые к множеству индивидов.
Есть и еще одна трудность в научном подходе к пониманию человека. Данные, которые мы получаем в отношении человека, отличны от данных, полученных при других научных исследованиях. Нужно понимать человека в его полной субъективности, чтобы понимать его вообще. Слово «а» не является словом, потому что слово – это то, что оно значит для конкретного использующего его человека. Словарное значение слова – всего лишь абстракция по сравнению с реальным значением, которое слово имеет для произносящего его человека. Это, конечно, несущественно для терминов, обозначающих физические объекты, но очень важно для слов, описывающих эмоциональный или интеллектуальный опыт. Любовное письмо, написанное в начале века, воспринимается нами как сентиментальное, неестественное и в какой-то мере глупое. Любовное письмо нашего современника, который хотел бы высказать те же чувства, для людей, живших пятьдесят лет назад, показалось бы холодным и бесчувственным. Слова «любовь», «вера», «мужество», «ненависть» имеют целиком субъективное значение для каждого индивида, и не было бы преувеличением сказать, что они никогда не имеют одного и того же значения для двух человек, потому что не существует двух одинаковых людей. Они даже могут не иметь того же значения, какое имели десять лет назад, для одного и того же человека благодаря тем изменениям, которые с ним произошли. То же самое верно, конечно, и для сновидения. Два сновидения, имеющие одинаковое содержание, могут иметь совершенно различное значение для двух различных сновидцев.
Одной из важных особенностей научного подхода Фрейда было как раз понимание субъективности человеческих высказываний. На этом знании основывалась попытка не принимать высказывание на веру, но задавать вопросы о том, что данное конкретное слово в данный конкретный момент в данном конкретном контексте значит для данного конкретного человека. Такая субъективность на самом деле очень существенно повышает объективность метода Фрейда. Любой психолог, достаточно наивный, чтобы думать «слово есть слово есть слово», будет общаться с другим человеком только на очень абстрактном и надуманном уровне. Слово является знаком уникального опыта.
Научный метод Фрейда
Если мы будем понимать научный метод как метод, основанный на вере в возможности разума, оптимально свободного от субъективных предубеждений, детальном наблюдении за фактами, формировании гипотез, пересмотре гипотез при открытии новых фактов и так далее, мы увидим, что Фрейд был настоящим ученым. Он приспособил свой научный метод к необходимости изучать иррациональное, а не только то, что может быть исследовано с помощью позитивистской концепции науки, как делало большинство ученых-социологов. Другим важным аспектом мышления Фрейда является взгляд на свой объект как на систему или структуру; он предложил один из самых ранних примеров системной теории. С его точки зрения ни один единичный элемент личности не мог быть понят без понимания целого, и ни один единичный элемент не мог измениться без изменений, пусть даже незначительных, в других элементах системы. В отличие от взглядов расчленяющей позитивистской психологии и очень сходно с более старыми психологическими системами, например, системой Спинозы, Фрейд рассматривал индивида как целое, которое больше объединения частей.
До сих пор мы говорили о научном методе и о его позитивном значении. Однако простое описание научного метода ученого не обязательно означает, что он получил правильные результаты. Действительно, история научной мысли – это история имеющих важные последствия ошибок.
Приведем всего один пример научного подхода Фрейда – его отчет о случае Доры. Фрейд лечил эту пациентку от истерии, и после трех месяцев анализ был закончен. Не вдаваясь в детали изложения Фрейда, хочу показать его объективное отношение, приведя выдержки из истории болезни. Третий сеанс пациентка начала следующими словами:
«– Знаете ли вы, что я здесь сегодня в последний раз?
– Как я могу это знать, раз вы ничего мне об этом не говорили?
– Да, я приняла решение продолжать лечение до Нового года [дело было 31 декабря]. Но я не стану дольше ждать исцеления.
– Вы же знаете, что можете прекратить лечение в любое время. Однако сегодня мы продолжим нашу работу. Когда вы приняли свое решение?
– Две недели назад, мне кажется.
– Это похоже на заявление горничной или гувернантки об увольнении – предупреждение за две недели.
– Была гувернантка, которая предупредила о своем уходе К., когда я гостила у них в Л., на берегу озера.
– В самом деле? Вы никогда мне о ней не говорили. Расскажите» [11; 105].
Затем остаток сеанса Фрейд посвятил анализу того, что это разыгрывание роли горничной на самом деле означало. Здесь не важно, к каким выводам Фрейд пришел; имеет значение только чистота его научного подхода. Он не рассердился, он не попросил пациентку передумать, не поощрял ее, говоря, что если она останется с ним, ей станет лучше; он только заявлял, что раз она пришла, то даже хотя это один из последних сеансов, им следует использовать время для того, чтобы понять, что означает ее решение.
Однако при всем восхищении верой Фрейда в разум и в научный метод нельзя отрицать, что Фрейд часто оставляет впечатление одержимого рационалиста, который строит теории практически на пустом месте и насильно притягивает объяснения. Он часто создавал конструкции из обрывков данных, что приводило к заключениям, недалеко уходящим от абсурда. Я имею в виду описание Фрейдом истории детского невроза[26] [17]. Как отмечал сам Фрейд, когда он писал этот отчет, он все еще находился под свежим впечатлением того, что он называл «искаженной реинтерпретацией» психоанализа Карлом Густавом Юнгом и Альфредом Адлером. Чтобы объяснить, что я имею в виду, говоря об одержимом мышлении Фрейда, придется довольно подробно рассмотреть этот отчет.
Каковы главные факты и проблемы в рассматриваемом случае?
В 1910 году к Фрейду обратился за помощью весьма состоятельный молодой русский. Лечение длилось до июля 1914 года, когда Фрейд счел его закончившимся и записал историю болезни. Фрейд сообщает, что пациент «вел сравнительно нормальную жизнь примерно на протяжении десяти лет, предшествовавших его заболеванию, и без особых проблем закончил среднюю школу. Однако ранние годы жизни пациента были омрачены серьезным невротическим нарушением, начавшимся сразу же по достижении им четырехлетнего возраста, – истерией страха в форме фобии животных, впоследствии сменившейся обсессивным неврозом с религиозным содержанием, что продолжалось до десятилетнего возраста» [17; 8–9]. Психиатрический диагноз, поставленный крупными специалистами, гласил: маниакально-депрессивный психоз. Один из психиатров, профессор Освальд Бумке, основывал свое заключение на том факте, что пациент временами испытывал возбуждение, а временами – глубокую депрессию. Поскольку профессор Бумке не потрудился выяснить, не было ли в жизни пациента чего-то, что вызывало бы такие перемены в настроении, то он не обнаружил той простой истины, что молодой человек был влюблен в медицинскую сестру санатория, где он находился; когда она отвечала на его чувства, пациент находился в приподнятом настроении, а когда нет – в подавленном. Фрейд увидел, что перед ним всего лишь очень богатый, праздный и скучающий молодой человек, и никакого маниакально-депрессивного психоза у него нет. Однако он обнаружил и кое-что еще: пациент страдал от инфантильного невроза. Пациент сообщил, что в возрасте четырех-пяти лет начал испытывать страх перед волками, в основном вызванный тем, что его сестра снова и снова показывала ему книгу с изображениями волка. Каждый раз, когда мальчик видел эту картинку, он начинал кричать, боясь, что волк придет и съест его. Учитывая, что пациент жил в большом поместье в России, не было ничего неестественного в том, что у ребенка развился страх перед волками, усугубляемый угрозами сестры. С другой стороны, мальчик обожал бить лошадей. В этот период у него также проявлялись признаки обсессивного невроза, например, он испытывал одержимость желанием думать «бог – свинья» или «бог – дерьмо». Пациент неожиданно вспомнил, что когда он был еще очень мал (ему еще не исполнилось пяти лет), его сестра, которая была на два года его старше и которая впоследствии совершила самоубийство, соблазнила его на участие в какого-то рода сексуальной игре. Фрейд пришел к заключению, что сексуальная жизнь маленького мальчика, «которая начинала входить в генитальную стадию, застопорилась внешним препятствием и была отброшена назад к прегенитальной стадии» [17; 25].
Однако все эти данные играют сравнительно незначительную роль по сравнению с интерпретацией Фрейдом сновидения Человека с волками.
«Мне снилось, что стоит ночь, и я лежу в своей постели (моя кровать располагалась ногами к окну, а перед окном росли старые ореховые деревья. Я знаю, что тогда была зима и что мне снился кошмар). Неожиданно окно само собой распахнулось, и я с ужасом увидел, что на большом дереве перед окном сидит несколько белых волков. Их было шесть или семь. Волки были совершенно белые и скорее походили на лис или овчарок: у них были пушистые хвосты, как у лисиц, и они, как овчарки, настораживали уши, когда что-то привлекало их внимание. В ужасном страхе, явно боясь быть съеденным волками, я закричал и проснулся» [17; 29f].
Какова же была интерпретация Фрейдом этого сновидения?
Сновидение показывало, что полуторагодовалый мальчик спал в своей колыбели, проснулся около пяти часов пополудни и увидел «коитус a tergo [сзади], повторенный трижды. Мальчик мог видеть гениталии своей матери и член отца; он понял, и что это за процесс, и каково его значение. Наконец он прервал сношение родителей способом, который впоследствии описывал» [17; 37–38].
Фрейд замечает: «Я теперь достиг точки, в которой должен отказаться от поддержки, которую до сих пор имел при проведении анализа. Боюсь, что это также та точка, в которой читатель откажет мне в доверии» [17; 36]. Вот уж действительно… Создание гипотезы о том, что в действительности случилось, когда мальчику было полтора года, на основании сновидения, в котором мальчик всего лишь увидел волков, представляется примером одержимого мышления при полном игнорировании реальности. Несомненно, Фрейд использует ассоциации и вплетает их в общую ткань, но эта ткань никак не может претендовать на реальность. Эта интерпретация сновидения Человека с волками – один из классических примеров искусства Фрейда интерпретировать сновидения, в действительности свидетельствует о способности и склонности Фрейда воссоздавать действительность из сотни мелких событий, то ли случившихся предположительно, то ли полученных в результате интерпретации, вырванных из контекста и используемых для определенных выводов, соответствующих предвзятой идее.
Таким образом, многое может быть сказано, даже если Фрейд создает абсурдную интерпретацию; его способность наблюдать и принимать во внимание мельчайшие детали как сновидения, как и ассоциаций пациента восхищает. Ничто, каким бы малым оно ни было, не ускользает от его внимания; все фиксируется с чрезвычайной точностью.
К несчастью, о многих учениках Фрейда этого сказать нельзя. Не обладая необычайной силой мысли Фрейда и его вниманием к деталям, они выбрали более легкий путь и создают интерпретации, также абсурдные, но к тому же являющиеся следствием неких смутных спекуляций, чрезвычайно упрощающих ситуацию.
Фрейд же никогда не упрощал; он усложнял все до такой степени, что, дойдя до середины интерпретации, чувствуешь себя почти в лабиринте. Метод мышления Фрейда заставляет видеть, что феномен значит то, чем кажется, но одновременно он может выражать и свое отрицание. Фрейд обнаружил, что каждое подчеркнутое выражение любви может скрывать подавленную ненависть, что неуверенность может скрываться за высокомерием, страх – за агрессивностью и т. д.
Это было важным открытием, но одновременно и опасным. Предположение, что нечто может означать свою противоположность, требует доказательств, и Фрейд активно эти доказательства искал. Если проявить меньшую осторожность, как делали многие его ученики, очень просто прийти к гипотезе, деструктивной для научного мышления. Чтобы не ограничиваться здравым смыслом и показать, что обладает специальными знаниями, не один психоаналитик рутинно заключал, что мотивация пациента противоположна тому, что он таковой считает.
Одним из лучших примеров является «неосознанная гомосексуальность». Она составляет часть теории Фрейда, от которой пострадало немало людей. Аналитик, чтобы показать, что видит глубже поверхности, может предположить, что пациент страдает неосознанной гомосексуальностью. На основании того, что пациент ведет очень активную гетеросексуальную жизнь, делается вывод, что сама эта активность помогает подавить неосознанную гомосексуальность. Если же пациент не проявляет совсем никакого интереса к лицам своего пола, это рассматривается как аргумент, говорящий о том, что полное отсутствие гомосексуального интереса является доказательством подавленной неосознанной гомосексуальности, а если мужчина восхищается цветом галстука другого мужчины, то это несомненное доказательство его подавленной гомосексуальности. Беда, конечно, заключается в том, что при использовании такого метода отсутствие гомосексуальности никогда не может быть доказано, и анализ в поисках неосознанной гомосексуальности, никаких свидетельств которой нет, за исключением базовой исходной идеи о том, что каждое явление может быть противоположностью своему явному значению, нередко продолжается годами. Такая привычка приводила к печальным результатам, поскольку допускала значительную степень произвольности при интерпретации, что часто ведет к совершенно ошибочным заключениям. Просматривается явная параллель между вульгарным фрейдизмом и вульгарным марксизмом, культивировавшимся советской теоретической мыслью. Маркс, как и Фрейд, показывает, что нечто может означать полную свою противоположность, но и для Маркса это оставалось тем, что требуется доказать. Вульгарному марксизму, однако, такое положение служило для утверждения: если какое-то явление не является тем, чем провозглашено, то имеет место нечто обратное; таким образом оказывается легко манипулировать мыслью в собственных догматических целях.
2. Величие и ограниченность открытий Фрейда
Цели приводимого ниже обсуждения – показать:
– каковы величайшие открытия Фрейда;
– как философские и личные предпосылки вынудили Фрейда сузить и исказить свои открытия;
– насколько значимость открытий Фрейда увеличится, если мы освободим формулировки Фрейда от этих искажений;
– что такое освобождение эквивалентно различению того, что в теории Фрейда важно и имеет непреходящее значение, от того, что было ограничено временем и социальными условиями.
Такое обсуждение не означает ревизии теории Фрейда или неофрейдизма. Скорее имеет место развитие сути учения Фрейда с помощью критической интерпретации его философской основы, замены буржуазного материализма на исторический подход.
Открытие бессознательного
Несомненно, Фрейд был не первым, кто открыл наличие мыслей и побуждений, которые мы не осознаем, – то есть тех, которые являются бессознательными и живут своей скрытой жизнью в нашей психике. Однако Фрейд был первым, кто сделал это открытие центром своей психологической системы и в подробностях и с поразительными результатами исследовал феномен бессознательного. В первую очередь Фрейд обратил внимание на несоответствие между мышлением и бытием. Мы думаем одно – например, что наше поведение мотивировано любовью, преданностью, чувством долга и т. д., – и не осознаем, что вместо этого нами движет желание власти, мазохизм, зависимость. Открытие Фрейда заключалось в следующем: то, что мы думаем, не обязательно совпадает с тем, чем мы являемся: то, что человек думает о себе, может быть (и обычно является) совершенно отличным или даже полностью противоречащим тому, чем он в действительности является; большинство из нас живет в мире самообмана, и мы принимаем свои мысли за отражение реальности. Историческая значимость фрейдовской концепции бессознательного заключается в развенчании давней традиции считать, что мышление и бытие идентичны, а в более строгих терминах философского идеализма – что только мысль (идея, слово) реальны, в то время как феноменологический мир реальностью не обладает[27]. Фрейд, отводивший значительному числу осознанных мыслей роль рационализации побуждений, тем самым наносил удар по рационализму, выдающимся представителем которого был сам. Своим открытием разрыва между мышлением и бытием Фрейд не только подрывал западную традицию идеализма в его философской и популярной формах, он также сделал далеко ведущее открытие в области этики. До Фрейда искренность можно было определить как высказывание того, что человек думает. После Фрейда такое определение уже не было достаточным. Различие между тем, что я говорю и что думаю, приобрело новое измерение, а именно, мое неосознаваемое убеждение или мое неосознаваемое побуждение. Если в дофрейдовское время человек считал, что наказал своего ребенка, потому что это помогает его развитию, он был бы совершенно искренен, если бы действительно так думал. После Фрейда главным вопросом стал такой: не является ли его убеждение просто рационализацией его садистских устремлений, то есть не получает ли он удовольствия, поря ребенка, и только как предлог использует идею о том, что порка идет ребенку на пользу. Действительно, можно с этической точки зрения предпочитать человека, которому хватает честности признать свой настоящий мотив; такой человек не только был бы более честным, он был бы менее опасным. В истории не существует такой жестокости или порока, которые не получили бы рационализации, как мотивированные добрыми намерениями. Со времен Фрейда фраза: «Я хотел как лучше» – больше не может служить оправданием. Добрые намерения – одна из лучших рационализаций для дурных поступков, и нет ничего легче, чем убедить себя в валидности такой рационализации.
Есть еще и третий результат открытия Фрейда. В такой культуре, как наша, где слова играют огромную роль, вес, который им придается, часто приводит к пренебрежению реальностью, если не искажению события. Если кто-то говорит «я тебя люблю» или «я люблю Бога» или «я люблю свою страну», он произносит слова, которые, несмотря на то, что он полностью убежден в их истинности, могут быть совершенной неправдой и всего лишь рационализацией стремления этого человека к власти, успеху, славе, богатству или выражением его зависимости от собственной группы. В этом может не быть – и обычно и не бывает – никакого элемента любви. Открытие Фрейда еще не нашло такого общего признания, чтобы люди инстинктивно относились критически к уверениям в добрых намерениях или рассказам о примерном поведении; тем не менее то, что теория Фрейда носит критический характер, как носила и теория Маркса, – это факт. Фрейд не принимал высказывания на веру; он смотрел на них скептически, даже если не сомневался в сознательной искренности говорящего. Однако сознательная искренность значит довольно мало в целостной структуре личности человека.
Великое открытие Фрейда с его фундаментальными философскими и культурными последствиями заключается в том, что между мышлением и бытием существует конфликт. Однако Фрейд ограничил важность своего открытия, предположив: главное, что подавляется, – это детские сексуальные побуждения и что конфликт между мышлением и бытием по сути является конфликтом между мышлением и детской сексуальностью. Это ограничение не удивительно. Как я говорил выше, находясь под влиянием материализма своего времени, Фрейд искал содержание того, что́ подавляется, в физических и физиологических побуждениях, но также, очевидно, в том, что подавлялось обществом, в котором Фрейд жил, – точнее, средним классом с его викторианской моралью, к которому принадлежал сам Фрейд и большинство его пациентов. Он нашел доказательства того, что патологические феномены – например, истерия, – иногда были выражением подавленных сексуальных побуждений. Что он сделал, так это отождествил социальную структуру своего класса с неотъемлемыми особенностями человеческой природы. Это, несомненно, было для Фрейда слепым пятном. Для него буржуазное общество было идентично цивилизованному обществу, и хотя он признавал существование различных культур, отличных от буржуазного общества, они оставались для него примитивными, неразвитыми.
Материалистическая философия и общепринятый отказ от осознания сексуальных желаний были той базой, на которой Фрейд строил содержание бессознательного. К тому же он игнорировал тот факт, что очень часто сексуальные импульсы не обязаны своим существованием или интенсивностью физиологическому субстрату сексуальности, а, напротив, часто являются продуктом совершенно других импульсов, которые сами по себе сексуальными не являются. Таким образом, источником сексуальных желаний может быть нарциссизм, садизм, склонность подчиняться, простая скука; известно, что власть и богатство – важные факторы, вызывающие сексуальные желания.
Сегодня, когда после Фрейда сменилось всего два или три поколения, стало очевидным, что в городской культуре сексуальность – не главный объект подавления. Поскольку средний человек предан тому, чтобы быть человеком потребляющим, секс превратился в один из основных предметов потребления (к тому же один из самых дешевых), создавая иллюзию счастья и удовлетворения. Наблюдаемые в человеке конфликты как сознательных, так и бессознательных побуждений весьма различны. Ниже приводится список некоторых из самых распространенных:
Таковы истинные противоречия современности, которые подавляются и рационализируются. Они существовали уже во времена Фрейда, но некоторые были не столь радикальны, как сегодня. Однако Фрейд не обращал на них внимания, потому что был зачарован сексом и его подавлением. В ортодоксальном фрейдовском психоанализе детская сексуальность все еще остается краеугольным камнем. Таким образом, анализ оказывает сопротивление прикосновению к самым решающим конфликтам внутри личности и между людьми.
Эдипов комплекс
Другим великим открытием Фрейда является то, что называется Эдиповым комплексом, и утверждение, что неразрешенный Эдипов комплекс лежит в основе любого невроза.
Легко понять, что́ Фрейд имел в виду под Эдиповым комплексом: у маленького мальчика, сексуальные побуждения которого просыпаются в раннем возрасте, в четыре-пять лет, развивается интенсивная сексуальная привязанность и желание в отношении матери. Мальчик желает ее, и отец становится соперником. У сына возникает ненависть к отцу и желание оказаться на его месте, в конце концов убить его. Считая отца соперником, мальчик боится, что отец-соперник его кастрирует. Фрейд назвал эту совокупность Эдиповым комплексом из-за греческого мифа: Эдип женился на своей матери, не подозревая, что любимая женщина – его мать. Когда об инцесте стало известно, Эдип ослепил себя (символ самокастрации) и покинул свой дом и родных в сопровождении одной только своей дочери Антигоны.
Великое открытие Фрейда заключается в показе силы привязанности маленького мальчика к матери или замещающему ее лицу. Степень этой привязанности – желания быть любимым матерью и пользоваться ее заботой, не лишиться ее защиты, и для многих мужчин – не расстаться с матерью, а видеть ее в женщине, которая, будучи его ровесницей, символизирует для него мать, – нельзя переоценить. Подобная же привязанность существует и для девочек, однако она, по-видимому, имеет несколько иной исход, который не был разъяснен Фрейдом, и который и в самом деле очень трудно понять.
Привязанность мужчины к своей матери, впрочем, понять нетрудно. Она – его мир еще во время внутриутробной жизни. Он полностью является ее частью, питаемой и защищаемой ею, и даже после родов ситуация фундаментально не меняется. Без помощи матери ребенок умер бы, без ее любви стал бы психически неполноценным. Мать – та, кто дарит жизнь и от кого жизнь ребенка зависит. Она также может лишить жизни, отказавшись выполнять свои материнские функции. Символом этих противоречивых качеств матери является индуистская богиня Кали – создательница и разрушительница жизни. Роль отца в первые годы жизни почти столь же незначительна, как и его дополнительная функция зачатия ребенка. Хотя соединение мужского сперматозоида с женской яйцеклеткой – научный факт, житейским фактом является то, что мужчина практически не играет никакой роли в появлении ребенка на свет и в заботе о нем. С психологической точки зрения присутствие мужчины совсем не является необходимым и вполне может быть заменено искусственным оплодотворением. Мужчина может начать снова играть важную роль, когда ребенок достигает возраста четырех-пяти лет, будучи тем, кто учит, кто подает пример, кто отвечает за умственное и моральное воспитание. К несчастью, мужчина часто оказывается примером эксплуатации, иррациональности и неэтичности. Он обычно стремится вылепить сына по своему образу и подобию, чтобы тот стал ему полезен в работе и сделался наследником его собственности, а также восполнил его собственные слабости, достигнув того, чего не смог достичь отец.
Привязанность и зависимость от матери или выполняющего ее функции лица оказываются бо́льшим, чем привязанность к личности. Это – страстное желание вернуться к ситуации, когда ребенок пользовался любовью и защитой матери и еще не нес никакой ответственности. Однако не только ребенок испытывает такое желание. Если мы говорим, что ребенок беспомощен и поэтому нуждается в матери, мы не должны забывать, что каждый человек беспомощен по отношению к миру как к целому. Несомненно, он может защищаться и в определенной мере заботиться о себе, однако учитывая опасности, неуверенность, риски, с которыми человек сталкивается, и то, как мало властен он над физическими болезнями, нищетой, несправедливостью, вопрос о том, менее ли беспомощен взрослый по сравнению с ребенком, остается открытым. У ребенка есть мать, чья любовь защищает его от опасностей. У взрослого человека нет никого. Он может иметь друзей, супруга, некоторую степень социальной защищенности, но даже при этом возможность защитить себя и добиться желаемого очень скромна. Удивительно ли, что человек сохраняет мечту найти мать или такой мир, в котором он снова мог бы быть ребенком? Противоречие между любовью к райскому детскому существованию и необходимостью, порождаемой его статусом взрослого, может с полным правом рассматриваться как ядро развития невроза.
В чем Фрейд ошибался – и должен был ошибаться в силу своих допущений, – так это в понимании привязанности к матери как исключительно сексуальной. На основании теории детской сексуальности было логично заключить, что маленького мальчика к матери привязывает то, что она – первая в его жизни близкая женщина и представляет собой естественный объект его сексуальных желаний. Это в значительной мере правда. Существуют многочисленные свидетельства того, что для маленького мальчика мать – объект не только привязанности, но и сексуальных желаний. Однако – и в этом огромная ошибка Фрейда – не сексуальное желание делает связь с матерью такой напряженной и жизненно важной не только в детстве, но, возможно, и всю жизнь человека. Скорее такая глубина чувств основывается на потребности в том райском существовании, о котором я говорил выше.
Фрейд не обратил внимания на тот общеизвестный факт, что сексуальные желания как таковые не отличаются большой стабильностью. Даже самые напряженные сексуальные отношения, если они не сопровождаются привязанностью или сильными эмоциональными связями, самой важной из которых является любовь, долго не живут, и даже шестимесячный срок для них, возможно, слишком велик. Сексуальность per se переменчива, и, может быть, более переменчива у мужчин, непостоянных и стремящихся к приключениям, чем у женщин, для которых ответственность за ребенка придает сексу более серьезное значение. Считать, что мужчины будут привязаны к матери в силу сексуальных уз, имевших место двадцать, тридцать или пятьдесят лет назад, когда к женам после трех лет сексуально удовлетворительного брака они теряют интерес, – просто абсурд. Конечно, для маленького мальчика мать может быть объектом сексуального желания потому, что она – одна из первых близких ему женщин, но так же верно то, что, как отмечает и Фрейд в своих историях болезни, мальчик готов влюбиться в девочку своего возраста и завести с ней страстный роман; мать оказывается относительно забытой.
Нельзя понять любовную жизнь мужчины, не видя, как он колеблется между желанием снова найти мать в другой женщине и стремлением найти женщину, как можно более отличающуюся от материнского типа. Этот конфликт – одна из основных причин разводов. Часто случается, что в начале брака женщина бывает не похожа на мать, но в супружеской жизни, когда она должна заботиться о доме, она делается дисциплинирующей силой, удерживающей мужчину от детского стремления к новым приключениям; тем самым она принимает на себя функцию матери и как таковая становится объектом желания; в то же время мужчина боится и отвергает ее. Часто немолодой мужчина влюбляется в юную девушку; среди других причин этого – ее свобода от любых материнских черт, и пока роман длится, у мужчины существует иллюзия освобождения от зависимости от матери. Фрейд, открыв Эдиповы узы, обнаружил одно из самых значительных явлений, а именно, привязанность мужчины к матери и страх потерять ее, однако исказил свое открытие, объяснив его как исключительно сексуальный феномен, и тем самым снизил важность своего открытия, а именно, того, что привязанность к матери является одной из глубочайших эмоциональных связей, заложенных в самой человеческой природе.
Другая сторона Эдипова комплекса, враждебное соперничество с отцом, достигающее кульминации в желании убить его, представляет собой не менее важное наблюдение Фрейда, не имеющее, однако, отношения к привязанности к матери. Фрейд придает универсальное значение черте, характерной только для патриархального общества. В патриархальном обществе сын находится во власти отца; он – его собственность, судьба сына определяется отцом. Чтобы стать наследником отца – добиться, в более широком смысле, успеха, – сын должен не только ублажать отца, он должен быть ему покорен, слушаться и подчинять собственную волю воле отца. Как всегда, угнетение ведет к ненависти, к стремлению освободиться от угнетателя и в конечном счете уничтожить его. Мы видим ясные примеры этого: старый крестьянин правит как диктатор сыном и женой до того момента, когда умирает. Если этот день далек, если сын достигает возраста тридцати, сорока или пятидесяти лет и все еще должен подчиняться власти отца, то действительно во многих случаях он ненавидит его как угнетателя. В современном деловом мире все это в значительной мере смягчено: отец обычно не владеет собственностью, которую мог бы унаследовать сын, поскольку продвижение молодого человека основывается по большей части на его собственных возможностях, и лишь редко, в случае личного владения предприятием, долгожительство отца удерживает сына в подчиненном положении. Однако так стало совсем недавно, и смело можно утверждать, что на протяжении нескольких тысячелетий существования патриархального общества существовал внутренний конфликт отцов и сыновей, основанный на власти отца над сыном и стремлении сына восстать против нее. Фрейд видел этот конфликт, но не понял его природы как черты патриархального общества; вместо этого он интерпретировал его как сексуальное соперничество между отцом и сыном.
Оба наблюдения – несексуального желания защиты и безопасности, райского блаженства, и конфликта между отцом и сыном как неизбежного побочного продукта патриархального общества – были объединены Фрейдом в комплекс, в котором привязанность к матери носила сексуальный характер, а отец тем самым становился соперником, само имя которого вызывало страх и ненависть. Ненависть к отцу в силу сексуального соперничества из-за матери часто демонстрируется высказываниями маленьких мальчиков: «Когда отец умрет, я женюсь на тебе, мамочка». Такие фразы используются как доказательство убийственных импульсов со стороны мальчика и степени его соперничества с отцом.
Я не верю, что они доказывают что-то подобное. Естественно, бывают моменты, когда маленький мальчик хочет быть таким же большим, как отец, и заменить отца в роли любимца матери. Естественно, что в неопределенном состоянии, в котором живут все дети старше четырех лет, когда они уже не являются младенцами, но с ними еще не обращаются, как со взрослыми, они испытывают желание быть большими; однако фразе «Когда отец умрет, я женюсь на тебе, мамочка», – очень многими придается совершенно незаслуженный вес как свидетельству того, что маленький мальчик действительно желает отцу смерти. Маленький ребенок еще не имеет представления о том, что представляет собой смерть, и на самом деле хочет сказать: «Хочу, чтобы отец ушел, чтобы все внимание матери принадлежало мне». Заключать, будто сын глубоко ненавидит отца и даже желает ему смерти, означает пренебрегать миром воображения ребенка и не видеть различия между ним и взрослым.
Рассмотрим миф об Эдипе, в котором Фрейд видел подтверждение своим построениям о трагических кровосмесительных желаниях маленького мальчика и его соперничестве с отцом (см. [32], гл. 7). Фрейд рассматривал только первую часть трилогии Софокла, «Эдип царь»; в ней говорится о том, что оракул предсказал Лаю, царю Фив, и его жене Иокасте, что если у них родится сын, этот сын убьет отца и женится на матери. Когда у них родился сын Эдип, Иокаста решила избежать судьбы, предсказанной оракулом, убив ребенка. Она передала мальчика пастуху, велев оставить того в лесу связанным, чтобы он умер. Однако пастух, пожалев младенца, отдал ребенка слуге царя Коринфа, который отнес его своему господину. Царь Коринфа усыновил мальчика, и тот вырос, не зная, что он не родной сын царю. Дельфийский оракул предрек Эдипу, что его судьба – убить отца и жениться на собственной матери. Эдип решил избегнуть этой судьбы, не возвращаясь к родителям. Покинув Дельфы, он вступил в ссору со стариком, едущим на колеснице, вспылил и убил старика и его слугу, не зная, что убил собственного отца, царя Фив.
В своих скитаниях Эдип пришел к Фивам, где Сфинкс пожирала жителей города; положить этому конец можно было только, отгадав загадку Сфинкс. Загадка была такова: «Кто сначала ходит на четырех, потом на двух, и наконец на трех?» Горожане Фив пообещали, что тот, кто отгадает загадку и тем самым спасет город от напасти, станет царем и женится на вдове предыдущего правителя. Эдип нашел ответ: человек; как ребенок, он ходит на четвереньках, как взрослый – на двух ногах, как старик – на трех, опираясь на палку. Сфинкс бросилась в пропасть, Фивы были избавлены от чудовища, а Эдип стал царем и женился на Иокасте, своей матери.
После того как Эдип счастливо процарствовал несколько лет, на Фивы обрушилась эпидемия, унесшая много жизней. Прорицатель Тересий открыл, что эпидемия – наказание за двойное преступление, совершенное Эдипом, – отцеубийство и кровосмешение. Эдип, сначала отчаянно старавшийся не признавать истины, ослепил себя, когда оказался вынужден ее увидеть, а Иокаста покончила с собой. Трагедия кончается на том, что Эдип наказан за преступление, которое он совершил в неведении, пытаясь избежать его совершения.
Были ли у Фрейда основания заключить, что этот миф подтверждает его взгляд, согласно которому неосознанные кровосмесительные побуждения и вызванная ими ненависть к отцу-сопернику присущи каждому ребенку мужского пола? Действительно, представляется, что миф подтверждает теорию Фрейда и что Эдипов комплекс заслуженно носит свое имя.
Впрочем, если рассмотреть миф более внимательно, возникают вопросы, подвергающие справедливость такого взгляда сомнению. Наиболее важный момент таков: если интерпретация Фрейда верна, следовало бы ожидать такого развития событий: Эдип встретил Иокасту, не зная, что она его мать, влюбился в нее, а затем убил отца, опять же не зная, что это – его отец. Однако нет никаких указаний на то, что Эдип был увлечен или полюбил Иокасту. Единственная причина брака Эдипа и Иокасты, которая нам сообщается, заключается в том, что вдова-царица является как бы приложением к трону. Можно ли поверить в историю, где главной темой служат кровосмесительные отношения между матерью и сыном, но совершенно не упоминается возникшее между ними влечение? Этому вопросу тем больший вес придает тот факт, выяснившийся относительно недавно, что по более ранней версии – Николая Дамасского – оракул лишь однажды предрекает женитьбу Эдипа на собственной матери (см. [43]).
Основываясь на этом, мы можем сформулировать гипотезу: миф может быть понят не как символ кровосмесительной любви между матерью и сыном, а как символ восстания сына против авторитета отца в патриархальной семье, а брак Эдипа и Иокасты является всего лишь вторичным элементом, лишь символом победы сына, который занимает место отца со всеми его привилегиями.
Если думать только об «Эдипе царе», то эта гипотеза остается в лучшем случае гипотезой, но ее валидность может быть доказана при рассмотрении всего мифа об Эдипе, особенно в той форме, которая представлена в других частях трилогии Софокла – «Эдип в Колоне» и «Антигона»[28]. Такое рассмотрение ведет к совсем иному пониманию материала, в центре которого оказывается борьба между патриархальной и матриархальной культурами.
В «Эдипе в Колоне» Эдипа, изгнанного Креонтом, сопровождают дочери Антигона и Исмена, в то время как сыновья Этеокл и Полиник отказываются помогать слепому отцу, за трон которого они вступают в борьбу между собой. Выигрывает Этеокл, но Полиник отказывается признать его победу и пытается завоевать город с посторонней помощью, чтобы отобрать власть у брата.
Таким образом, мы видим, что одна тема трилогии – ненависть между отцом и сыном в патриархальном обществе, но если рассматривать трилогию в целом, то обнаруживается, что Софокл говорит о конфликте между патриархальным и более ранним матриархальным мирами. В патриархальном мире сыновья борются с отцами и между собой, а победителем оказывается Креонт, прототип фашистского правителя. Эдипа, однако, сопровождают не сыновья, а дочери. Именно на них он полагается, в то время как его отношения с сыновьями характеризует взаимная ненависть. Исторически существовавший в Греции оригинальный миф об Эдипе, на основании которого Софокл создал свою трилогию, дает нам важный ключ. В нем фигура Эдипа всегда связана с культом хтонических богинь, представительниц религии матриархата. Почти во всех версиях мифа, начиная с того момента, когда Эдип появляется как ребенок, и до событий, связанных с его смертью, могут быть найдены следы этой связи (см. [45; 192]). Так, например, Этеон, единственный беотийский город, в котором существовал храм Эдипа и где сам миф, возможно, и зародился, имел также храм Деметры (см. [43; 1ff]). В Колоне (недалеко от Афин), где Эдип нашел последнее пристанище, существовали храмы Деметры и Эриний, возникшие, возможно, раньше мифа об Эдипе [43; 21]. Как мы увидим, Софокл в «Эдипе в Колоне» подчеркивал связь между Эдипом и хтоническими богинями.
Возвращение Эдипа в рощу богинь, хотя и является самым важным ключом, не служит единственным доводом в пользу понимания позиции Эдипа как представителя матриархальных порядков. У Софокла имеется еще одна очень ясная аллюзия: Эдип, говоря о своих дочерях, ссылается на египетский матриархат[29]. Вот как он восхваляет их: «О, как они обычаям Египта и нравом уподобились, и жизнью! Мужчины там все по домам сидят и ткани ткут, а женщины из дома уходят пропитанье добывать. Вот так и вы: кому трудиться надо, – как девушки сидят в своих домах, а вам за них приходится страдать со мною, несчастливцем».
То же направление мысли прослеживается, когда Эдип сравнивает своих дочерей с сыновьями. Об Антигоне и Исмене он говорит: «Они теперь меня спасают. Не девушки они, они – мужчины при мне, страдальце. Вы же – оба брата – мне не сыны».
В «Антигоне» конфликт между патриархальным и матриархальным принципами находит свое самое яркое выражение. Креонт, безжалостный правитель, стал тираном Фив, оба сына Эдипа убиты: один во время попытки захватить власть в Фивах, другой – при защите города. Креонт распорядился, чтобы законный царь был похоронен с почестями, а тело претендента осталось непогребенным – величайшее унижение и позор для мужчины по греческим обычаям. Креонт защищает принцип первенства законов государства над кровными узами, подчинения власти вопреки естественным человеческим законам.
Антигона отказывается нарушить закон крови и солидарности людей ради авторитарного, иерархического принципа. Она защищает свободу и счастье человека против произвола мужского правления. Поэтому хор вправе сказать: «Много есть чудес на свете, человек их всех чудесней». В отличие от своей сестры Исмены, которая считает, что женщины должны подчиняться власти мужчины, Антигона отвергает патриархальный порядок. Она следует закону природы и равенства, всеобъемлющей материнской любви: «Я рождена любить, не ненавидеть». Креонт, мужскому превосходству которого брошен вызов, говорит: «Она была б мужчиной, а не я, когда б сошло ей даром своеволье» и повернувшись к сыну, который влюблен в Антигону, продолжает: «Вот это, сын, ты и держи в уме: все отступает пред отцовской волей… А безначалье – худшее из зол. Оно и грады губит, и дома ввергает в разоренье, и бойцов, сражающихся рядом, разлучает. Порядок утвержден повиновеньем, нам следует поддерживать законы, и женщине не должно уступать. Уж лучше мужем буду я повергнут, но слыть не стану женщины рабом».
Конфликт между защитником патриархального порядка Креонтом и Гемоном, восстающим против патриархата в защиту равенства женщин, доходит до кульминации, когда в ответ на вопрос отца: «Иль править в граде мне чужим умом?» Гемон отвечает: «Не государство – где царит один. Прекрасно б ты пустыней правил!» Креонт обеспокоен: «Он, кажется, стоит за эту деву». Гемон указывает на могущество богинь матриархата: «И о нас, и о богах подземных» (подземные боги – это хтонические богини). Конфликт завершается. По приказу Креонта Антигону замуровывают в пещере – в этом тоже символическое выражение ее связи с хтоническими богинями. Гемон в панике пытается спасти Антигону, но безуспешно. Его попытка убить отца не удается, и он лишает себя жизни. Эвридика, жена Креонта, узнав о судьбе сына, тоже кончает с собой, проклиная Креонта как убийцу ее детей. Физически Креонт победил. Он расправился с сыном, с женщиной, которую сын любил, с женой, но морально обанкротился и признает это: «Увы мне! Другому, раз я виноват, нельзя никому этих бед приписать! Я тебя ведь убил – я, несчастный, я! Правду я говорю. Вы, прислужники, прочь уводите меня, уводите скорей, уводите – молю; нет меня; я ничто!.. Уведите вы прочь безумца, меня! Я убил тебя, сын, и тебя, жена! И нельзя никуда обратить мне взор: все, что было в руках, в стороне лежит; и теперь на меня низвергает судьба все терзанья, и вынести их нет сил!»
Если теперь мы рассмотрим всю трилогию, то должны будем прийти к заключению, что инцест – не главный и даже не очень существенный аспект того, что хочет выразить Софокл. Так может казаться, если мы ограничимся «Эдипом царем» (сколько же тех, кто бойко рассуждает об Эдиповом комплексе, прочел всю трилогию?) Однако если рассматривать все три трагедии в целом, мы увидим, что Софокл изображает конфликт между матриархальным принципом равенства и демократии, представляемым Эдипом, и принципом патриархального диктата «закон и порядок», представляемым Креонтом. Хотя последний остается победителем с точки зрения силы, он морально побежден: Креонт потерпел полное поражение и понимает, что не достиг ничего, кроме смерти[30].
Трансфер
Другой важнейшей концепцией системы Фрейда является концепция трансфера. Она явилась результатом клинических наблюдений. Фрейд обнаружил, что у подвергающихся анализу во время лечения возникает очень сильная связь с личностью аналитика, связь, имеющая сложную природу. Это смесь любви, восхищения, привязанности; при так называемом негативном трансфере это смесь ненависти, противостояния и агрессии. Если аналитик и объект психоанализа – лица разного пола, трансфер может быть описан как влюбленность; если анализу подвергается гомосексуалист, а аналитик одного с ним пола, происходит то же самое. Аналитик становится предметом любви и обожания, пациент чувствует зависимость от него и яростно ревнует, – до такой степени, что любой из окружающих рассматривается как возможный соперник. Другими словами, пациент ведет себя в точности как человек, горячо полюбивший аналитика. Самое интересное в трансфере то, что он зависит от ситуации, а не от качеств аналитика. Ни один аналитик не бывает слишком глуп или непривлекателен для того, чтобы не вызвать такого эффекта у вполне в других отношениях интеллигентного пациента, который и не посмотрел бы на него, не будь данный человек его аналитиком.
Хотя явление трансфера может быть обнаружено применительно ко многим врачам, Фрейд был первым, кто обратил на этот феномен пристальное внимание и изучил его природу. Он пришел к выводу, что у пациента в процессе анализа возникают многие из тех чувств, которые он или она испытывали к одному из своих родителей. Любовь (или враждебность) к фигуре аналитика является повторением более ранних чувств в отношении отца или матери. Другими словами, чувство «переносится» с первоначального объекта на аналитика. Изучение трансфера позволяло, как считал Фрейд, узнать – или реконструировать – отношение ребенка к родителям. Именно ребенок в анализируемом пациенте испытывал такие сильные перенесенные чувства, что ему часто трудно было осознать: он любит (или ненавидит) не аналитика, а своих родителей, которых для него представляет аналитик.
Это открытие было одним из величайших оригинальных достижений Фрейда. До него никому не приходило в голову изучить привязанность пациента к врачу. Обычно врачи с удовлетворением воспринимали «обожание» своих пациентов, а если этого не случалось, с неприязнью относились к таким «плохим пациентам». Трансфер – один из факторов, вызывающих профессиональную болезнь психоаналитиков: он поддерживает их нарциссизм, в силу которого они принимают восхищение своих пациентов независимо от того, насколько его заслуживают. Потребовался гений Фрейда, чтобы обнаружить феномен и не воспринять его как выражение заслуженного восхищения, а отнести за счет привязанности ребенка к своим родителям.
Развитие трансфера в ситуации психоанализа подкреплялось специфической обстановкой, в которой предпочитал работать Фрейд. Пациент лежал на кушетке, аналитик сидел позади него, невидимый для пациента, большую часть времени просто слушал и лишь время от времени сообщал об интерпретации услышанного. Фрейд однажды признал истинную причину такой организации сеанса: он не мог вынести, чтобы другой человек по многу часов в день смотрел на него. Дополнительным основанием психоаналитики называют необходимость оставаться чистой страницей для пациента, чтобы любые реакции объекта анализа могли рассматриваться как проявления трансфера, а не выражение чувств к реальной личности психоаналитика. Последний довод является, конечно, иллюзией. Внешность человека, сила его рукопожатия, его голос, его отношение к вам, когда он что-то говорит, – в этом достаточно материала, чтобы позволить вам многое узнать об аналитике, и идея о том, что он остается не только невидимым, но и неизвестным, очень наивна. Может быть, здесь следовало бы привести краткое критическое замечание. Вся ситуация, когда безмолвный, предположительно неизвестный аналитик, который не должен даже на вопросы отвечать, сидит позади пациента (обернуться и рассмотреть аналитика для пациента практически табу)[31], на самом деле приводит к тому, что пациент начинает чувствовать себя ребенком. Где еще взрослый человек оказывается в такой полной пассивности? Все преимущества принадлежат аналитику, а пациент обязан раскрывать свои самые интимные мысли и чувства перед фантомом не в результате добровольного акта, но из-за морального обязательства, принятого на себя в силу согласия подвергнуться психоанализу. С точки зрения Фрейда такое превращение пациента в ребенка шло на пользу, поскольку главной целью было раскрыть или реконструировать раннее детство объекта анализа.
Главным недостатком такой инфантилизации является то, что пациент во время сеанса превращается в ребенка, а взрослый человек, так сказать, устраняется из картины; пациент высказывает те мысли и чувства, которые имел в раннем детстве, а взрослый в нем, который был бы способен оценить ребенка со взрослой точки зрения, отсутствует. Другими словами, пациент почти не ощущает конфликта между своими детской и взрослой личностями, а именно это понимание приводит к улучшению или изменению. Когда слышен голос ребенка, кто будет возражать ему, отвечать ему, ограничивать его, если только голос взрослого тоже не окажется в распоряжении пациента? Впрочем, главная цель моего обсуждения феномена трансфера заключается не в имманентной критике с точки зрения терапевта (которая на самом деле сводится к обсуждению психоаналитической техники), а в демонстрации того, как Фрейд сузил свой клинический опыт трансфера, сочтя, что чувства и установки, характеризующие трансфер, переносятся из детства на ситуацию психоанализа.
Если мы отбросим это объяснение, мы увидим, что Фрейд открыл феномен, имеющий гораздо большее значение, чем он думал. Феномен трансфера, а именно добровольная зависимость человека от других – авторитетных – личностей, ситуация, при которой индивид чувствует себя беспомощным, нуждающимся в обладающем бо́льшим авторитетом вожаке, готовым подчиниться этому авторитету, представляет собой наиболее часто встречающуюся и наиболее важную характеристику социальной жизни, выходящую далеко за пределы конкретной семьи и аналитической ситуации. Любой желающий видеть может обнаружить чрезвычайную роль, которую трансфер играет в социальной, политической и религиозной сферах. Достаточно взглянуть на лица в толпе, аплодирующей харизматичному лидеру вроде Гитлера или де Голля, чтобы увидеть одно и то же выражение слепого поклонения, обожания, любви, нечто, превращающее заботы скучной повседневности в страстную веру. Нет даже необходимости в том, чтобы лидер обладал голосом и статью де Голля или напором Гитлера. Если изучить лица американцев, встречающихся с кандидатом в президенты, или, как более яркий пример, с самим президентом, можно заметить то же типичное выражение лица, выражение, которое можно назвать почти религиозным экстазом. Как и при психоаналитическом трансфере, здесь почти ничего не зависит от реальных человеческих качеств обожаемой личности: сама должность или даже просто мундир превращают ее в достойное поклонения лицо.
Вся наша социальная система базируется на этом необыкновенном воздействии человека, в большей или меньшей степени обладающего привлекательностью. Трансфер в психоаналитической ситуации или поклонение толпы лидерам не отличаются друг от друга: они имеют в основе чувство беспомощности и бессилия ребенка, которое ведет к зависимости от родителей, или при психоанализе от аналитика (как замене родителя). Действительно, невозможно отрицать, что младенец не прожил бы и дня без заботы и защиты матери или ее заместителя. Какие бы нарциссические иллюзии ни питал ребенок, факт остается фактом: с точки зрения его положения в мире он беспомощен и потому нуждается в помощнике. Впрочем, тот факт, что взрослый человек тоже беспомощен, часто упускается из вида. Во многих ситуациях, с которыми ребенок не справился бы, взрослый знает, что делать, но в конце концов также чрезвычайно беспомощен. Ему противостоят природные и социальные силы, настолько могущественные, что во многих случаях он так же бессилен против них, как ребенок против сил, действующих в его мире. Правда, взрослый научился разными способами защищаться. Он может объединяться с другими, чтобы оказаться лучше вооруженным против опасностей и угроз, но это не меняет того обстоятельства, что человек остается беспомощным в борьбе с природными катаклизмами, в борьбе с лучше вооруженными и более могущественными социальными классами и нациями, в борьбе с болезнями, и, наконец, в борьбе со смертью. Взрослый имеет лучшие средства защиты, но и гораздо лучшее осознание опасностей, чем ребенок. Отсюда следует, что контраст между беспомощным ребенком и сильным взрослым в значительной мере фиктивен.
Взрослый, как и ребенок, жаждет иметь кого-то, кто позволит ему чувствовать уверенность, надежность, безопасность, и именно ради этого он готов и склонен обожать индивидов, которые являются или охотно представляются спасителями или помощниками, даже если в действительности они наполовину безумны. Социальный трансфер, порождаемый тем же чувством беспомощности, что трансфер в ситуации психоанализа, представляет собой одно из самых важных общественных явлений. Фрейд, открывший трансфер в психоаналитической ситуации, сделал еще одно универсально валидное открытие, но в силу своих предубеждений не смог полностью оценить его далеко идущие социальные последствия.
Обсуждение трансфера нуждается еще в одном дополнительном замечании. Несмотря на то, что взрослый почти так же беспомощен, как и младенец, беспомощность взрослого может быть преодолена. В рационально организованном обществе, где нет нужды в затуманивании рассудка человека, чтобы скрыть от него реальное положение вещей, в обществе, которое поощряет, а не подавляет независимость и рациональность человека, чувство беспомощности исчезнет, а вместе с ним исчезнет и надобность в социальном трансфере. Общество, члены которого беспомощны, нуждается в идолах. Эта потребность может быть преодолена только в той степени, в которой человек осознает реальность и свои собственные силы. Понимание неизбежности смерти не сделает его беспомощным, потому что такое знание тоже является частью реальности, и с ним можно справиться. Применив тот же принцип к психоаналитической ситуации, я считаю, что чем более реальным аналитик оказывается для пациента и чем больше он теряет свой характер фантома, тем легче пациенту отказаться от беспомощности и справиться с реальностью. И нежелательно, и совершенно не необходимо, чтобы пациент в психоаналитической ситуации возвращался в детское состояние, чтобы иметь возможность выразить те чувства и желания, которые его научили подавлять ради принятия в качестве взрослого.
Так оно и есть, но с существенной оговоркой: если пациент во время психоаналитического сеанса полностью становится ребенком, он вполне мог бы спать. В этом случае он лишился бы возможности выносить суждения, лишился бы независимости, которые нужны ему, чтобы иметь возможность понимать то, что он говорит. Пациент во время психоаналитического сеанса постоянно колеблется между существованиями ребенка и взрослого: именно на этом процессе основывается эффективность психоаналитической процедуры.
Нарциссизм
Благодаря концепции нарциссизма Фрейд сделал вклад огромной важности в понимание человека. Основное высказанное Фрейдом положение сводилось к тому, что человек может быть ориентирован двумя противоречивыми способами: его главный интерес, любовь, забота – или, по выражению Фрейда, либидо (сексуальная энергия) – могут быть направлены на него самого или на внешний мир (людей, идеи, природу, созданные человеком предметы).
На заседании Венского психоаналитического общества в 1909 году Фрейд заявил, что нарциссизм является необходимой промежуточной стадией между аутоэротизмом и «объектной любовью»[32]. Он не рассматривал нарциссизм в первую очередь как половое извращение, сексуальную любовь к собственному телу, как это делал Пауль Нэке, который ввел этот термин в 1899 году; скорее Фрейд видел в нем дополнение инстинкта самосохранения.
Наиболее важное свидетельство существования нарциссизма было получено при анализе шизофрении. Страдающие шизофренией характеризовались двумя особенностями: манией величия и отсутствием интереса к внешнему миру – как к людям, так и к предметам. При отсутствии интереса к другим в центре внимания оказывается собственная персона – и развивается мания величия, собственная личность кажется всеведущей и всемогущей.
Такая концепция психоза как состояния чрезвычайной самовлюбленности была одним из оснований идеи нарциссизма. В качестве другого основания рассматривалось нормальное развитие ребенка. Фрейд предполагал, что ребенок в момент рождения существует в состоянии абсолютного нарциссизма, как это было во внутриутробный период. Младенец медленно учится проявлять интерес к другим людям и предметам. Это фундаментальное состояние «либидозного катексиса[33] Эго» сохраняется и связано с объектным катексисом, «подобно тому, как амеба связана со своей псевдоподией» [15; 75][34].
Что было важным в открытии нарциссизма Фрейдом? Фрейд не только объяснил природу психоза, но показал, что тот же самый нарциссизм существует в среднем взрослом, как он существует в ребенке; другими словами, «нормальная личность» в большей или меньшей степени обладает теми же свойствами, которые, оказавшись более выраженными, превращаются в психоз.
В чем же Фрейд сузил свою концепцию? Снова, как и во многих других случаях, тем, что ограничил ее рамками теории либидо. Либидо, принадлежащее Эго, иногда высвобождается, чтобы коснуться других объектов, и возвращается обратно при определенных обстоятельствах, таких как физическая боль или «потеря объекта либидозного катексиса». Нарциссизм в первую очередь – перемена направления в пределах «либидозного хозяйства».
Не будь Фрейд пленником концепции «психического аппарата» как предположительно научной версии человеческой структуры, он смог бы усилить значимость своего открытия во многих направлениях.
Во-первых, он мог бы сильнее подчеркнуть роль нарциссизма в выживании. Хотя с точки зрения этических ценностей предпочтительно максимальное подавление нарциссизма, с точки зрения биологического выживания нарциссизм – нормальный и желательный феномен. Если бы человек не отдавал приоритет собственным целям и потребностям, как мог бы он выжить? Ему могло бы не хватить энергии эгоизма для того, чтобы позаботиться о собственной жизни. Другими словами, биологические интересы выживания расы требуют определенного уровня нарциссизма у ее членов; этико-религиозной целью индивида, напротив, является максимальная – до нулевого уровня – его редукция.
Однако еще более важно то, что Фрейду не удалось определить нарциссизм как противоположность любви. Фрейд не мог этого сделать, потому что, как я показал выше, любовь для него не существовала в ином качестве, чем привязанность мужчины к насыщающей его женщине. Для Фрейда быть любимым (мужчине завоеванной им женщиной) значит обретать силу, а любить активно, любить самому – становиться более слабым.
Этот факт хорошо виден из непонимания Фрейдом «Западно-восточного дивана» Гёте. Фрейд пишет [16; 418]: «Вы найдете это освежающим, надеюсь, когда после столь сухих научных рассуждений я представлю вам поэтическое изображение экономического контраста между нарциссизмом и влюбленностью. Вот цитата из «Западно-восточного дивана» Гёте:
Изображение Гёте того, кто остается «личностью своей», ошибочно принимается Фрейдом за портрет нарциссической личности, в то время как для Гёте это, конечно, зрелый, целостный и независимый человек. Вторая часть стихотворения, по мнению Фрейда, представляет человека, не являющегося сильной личностью и растворяющегося в той, кого он любит.
Поскольку для Фрейда любовь мужчины «анаклитична», т. е. ее объектом является тот, кто мужчину насыщает, Фрейд делает вывод о том, что любовь женщины нарциссична, что женщина может любить только себя и не способна участвовать в «великом достижении» мужчины – любить руку, которая кормит. Фрейд не осознавал того, что женщины его класса были холодны именно потому, что этого хотели мужчины: женщина должна была вести себя как собственность и не претендовать на «отдельную, но равную» роль в постели. Мужчина, представитель буржуазного общества, получал ту женщину, которую себе воображал, рационализация чего приводила к вере в свое превосходство, в то, что эта деформированная женщина – им же и деформированная – озабочена только тем, чтобы ее кормили и о ней заботились. Это, конечно, типичная мужская пропаганда в условиях войны между полами, другим положением которой служит утверждение, что женщины менее реалистичны и менее мужественны, чем мужчины. Действительно, этот безумный мир, который никак не может избежать катастроф, управляется мужчинами. Что касается мужества, то всем известно: во время болезни женщины гораздо лучше справляются с трудностями, чем мужчины, которым требуется помощь матери. Что касается нарциссизма, то женщины вынуждены заботиться о своей привлекательности, поскольку выставлены на рынке рабынь; когда же они любят, они любят более глубоко и преданно, чем непостоянные мужчины, пытающиеся удовлетворить свой нарциссизм, воплощенный в пенисе, которым они так гордятся.
Представляя столь искаженное изображение женщины, Фрейд не мог не задумываться над тем, полностью ли он объективен. С подобными сомнениями он разделывался весьма элегантно: «Возможно, здесь было бы не лишним заверить, что это описание женской формы эротической любви не является следствием тенденциозного желания с моей стороны принизить женщин. Помимо того обстоятельства, что тенденциозность совершенно мне чужда, я уверен, что такие различные направления развития соответствуют дифференциации функций в очень сложном биологическом целом; кроме того, я готов признать, что существует множество женщин, любовь которых имеет мужской тип и которым присуща слишком высокая оценка секса, этому типу свойственная» [15; 89].
Такой выход из положения элегантен, но не психоаналитичен. Какой же самообман должен иметь место, если человек может заверять в том, что «тенденциозность совершенно ему чужда» даже в вопросе, столь очевидно заряженном эмоциональным динамитом[36]?
Эта психологическая концепция либидозного катексиса Эго в противоположность объектному делает довольно трудным для непосвященных понимание природы нарциссизма на основании собственного опыта. Поэтому мне хотелось бы описать ситуацию в более понятном стиле.
Для нарциссической личности она сама представляется единственной реальностью. Чувства, мысли, амбиции, желания, тело, семья – все, что к ней относится, ей принадлежит. То, что такой человек думает, истинно, потому что это он так думает; даже его скверные качества прекрасны, потому что это его качества. Все, что имеет к нему отношение, красочно и в полной мере реально. Все и всё вне его серо, уродливо, бесцветно и едва ли существует.
Вот пример. Мне позвонил мужчина с просьбой о встрече. Я ответил, что на этой неделе занят, но мог бы встретиться с ним на будущей неделе. В ответ он заявил, что живет очень близко от моего кабинета и мог бы прийти быстро. Мои слова о том, что при всем удобстве для него такого местоположения это не меняет факта моей занятости, на него впечатления не произвели; он продолжал настаивать на своем. Это – пример довольно тяжелого случая нарциссизма, поскольку пациент был совершенно не способен видеть различие между своими и моими обстоятельствами.
Несомненно, большое значение имеет то, насколько умна, артистически талантлива, образованна нарциссическая личность. Многие художники, талантливые писатели, дирижеры, танцоры и политики чрезвычайно нарциссичны. Нарциссизм не мешает их искусству, напротив, часто помогает. Их задача – выразить свои субъективные чувства, и чем важнее их субъективизм для исполнения, тем это исполнение лучше. Нарциссическая личность часто особенно привлекательна как раз в силу нарциссизма. Представьте себе, например, нарциссического эстрадного исполнителя. Он полон собой, он с гордостью демонстрирует свое тело и свое остроумие, как принадлежащую ему редкую драгоценность. У него нет сомнений по поводу себя, какие могли бы возникнуть у менее нарциссической личности. Он наслаждается тем, что говорит и делает, как ходит и двигается; он сам является восторженным зрителем этого великолепного представления.
Мне кажется, что причина привлекательности нарциссической личности заключается в том факте, что она являет собой образ того, каким хотел бы быть средний человек: уверенным в себе, не питающим сомнений, чувствующим себя всегда на высоте положения. Средний человек, напротив, не обладает уверенностью в себе, часто полон сомнений, склонен восхищаться другими, которых считает лучше себя. Можно спросить, почему крайний нарциссизм не отталкивает людей? Почему отсутствие истинной любви не вызывает отвращения? На этот вопрос легко ответить: настоящая любовь сегодня настолько редка, что почти выпадает из поля зрения большинства людей. В нарциссической личности можно увидеть кого-то, кто хоть одного человека – себя – любит.
С другой стороны, совершенно лишенная талантов нарциссическая личность может быть только смешна. Если нарциссическая личность чрезвычайно одарена, успех ей практически гарантирован. Таких людей часто можно встретить среди успешных политиков. Даже талант не был бы таким впечатляющим, если бы не источал нарциссизм. Вместо того чтобы задаться вопросом: «Как он смеет быть таким высокомерным?», многие находят образ нарциссической личности, какой она воспринимает себя, настолько привлекательным, что видят в нем лишь адекватную самооценку очень одаренного человека.
Важно понять, что нарциссизм, который может быть назван влюбленностью в себя, противоположен любви, если понимать под ней готовность забыть о себе и заботиться о других больше, чем о самом себе.
Не менее важно противоречие между нарциссизмом и разумом. Поскольку я только что говорил о политиках как примере нарциссизма, утверждение о противоречии между нарциссизмом и разумом представляется абсурдным. Впрочем, я говорю не об интеллекте, а о разуме. Манипулятивный интеллект – это способность использовать мышление для манипулирования внешним миром для достижения собственных целей; разум – умение видеть вещи такими, каковы они есть, вне зависимости от того, какова их ценность или опасность для нас. Цель разума – опознание предметов или людей в их самости, без искажения нашим субъективным интересом к ним. Ум представляет собой форму манипулятивного интеллекта, но мудрость порождается разумом. Нарциссический человек может быть чрезвычайно умен, если его манипулятивный интеллект достиг высокого уровня. Однако он может совершать грубые ошибки в силу того, что собственный нарциссизм побуждает его преувеличивать ценность своих желаний и мыслей и считать, что результат уже достигнут только потому, что это его желания и его мысли.
Нарциссизм часто путают с эгоизмом. Фрейд видел в нарциссизме либидозный аспект эгоизма, или, другими словами, усматривал причину страстности эгоизма в его либидозном характере. Однако такое различие не вполне удовлетворительно. Эгоист может иметь неискаженный взгляд на мир. Он может не придавать своим мыслям и чувствам большей ценности, чем они имеют для внешнего мира. Он может смотреть на мир, в том числе на свою роль в нем, вполне объективно. В основе своей эгоизм – это форма алчности: эгоист желает все для себя, он не любит делиться, в окружающих он видит угрозу, а не возможных друзей. В нем более или менее преобладает то, что Фрейд в своих ранних работах называл «собственным интересом», но это преобладание не обязательно искажает представление эгоиста о себе и окружающем мире, как это случается с нарциссической личностью.
Из всех свойств характера опознать в себе нарциссизм труднее всего. Чем более нарциссичен человек, тем больше он превозносит себя и не видит своих недостатков и ограничений. Он убежден, что тот образ себя, который у него имеется, образ замечательного человека, верен, а поскольку это его собственный образ, то нет оснований для сомнений. Другой причиной того, почему нарциссизм так трудно обнаружить в себе, является старание нарциссической личности доказать, что она какая угодно, только не нарциссическая. Одним из самых часто наблюдаемых примеров этого служат попытки нарциссических личностей спрятать свой нарциссизм за заботой и помощью другим. Они тратят много времени и сил, помогая окружающим, даже идут на жертвы, проявляют доброту и так далее, – все с одной целью (обычно неосознанной): опровергнуть свой нарциссизм. То же самое относится, как все мы знаем, к людям, подчеркнуто проявляющим скромность и застенчивость. Такие люди не только стараются скрыть свой нарциссизм, они одновременно удовлетворяют его, нарциссически гордясь своей добротой и скромностью. Хорошим примером этого служит анекдот об умирающем, который, слыша, как его горюющие друзья превозносят его образованность, ум, доброту и отзывчивость, гневно кричит: «Вы забыли упомянуть мою застенчивость!»
Нарциссизм носит много масок: праведности, следования долгу, доброты и любви, покорности, гордости, – и варьирует от высокомерия и надменности до скромности и незаметности. Каждая нарциссическая личность использует много уловок, чтобы замаскировать свой нарциссизм, и обычно не осознает этого. Если такому человеку удается заставить других восхищаться им, он счастлив и во всем преуспевает. Однако когда ему такое не удается, когда пузырь его самовлюбленности, так сказать, проколот, он опадает, как спущенный шарик, или впадает в ярость. Нанести рану нарциссизму человека – значит вызвать или депрессию, или неукротимый гнев.
Особый интерес представляет групповой нарциссизм. Это феномен величайшей политической значимости. Рядовой человек, в конце концов, живет в социальных условиях, препятствующих развитию интенсивного нарциссизма. Что может питать нарциссизм человека бедного, не пользующегося общественным признанием, на которого даже его дети смотрят свысока? Он ничто, но если ему удается отождествить себя со своей нацией или при помощи трансфера обратить нарциссизм на целый народ, тогда он становится всем. Если бы такой человек сказал: «Я самый замечательный человек на свете, я самый опрятный, самый умный, самый умелый, самый образованный из всех людей, я превосхожу всех на свете», любой, услышав это, почувствовал бы отвращение и счел, что у говорящего не все дома. Однако если подобным образом человек описывает свою нацию, никто не возражает; напротив, если человек говорит: «Моя нация – самая сильная, самая культурная, самая миролюбивая, самая талантливая из всех наций», его считают не безумцем, а очень патриотичным гражданином. То же самое касается религиозного нарциссизма. Миллионы приверженцев какой-либо религии могут утверждать, что они единственные владеют истиной, что их вера – единственный путь к спасению, и это считается совершенно нормальным. Другими примерами группового нарциссизма являются политические партии и научные школы. Индивид удовлетворяет свой собственный нарциссизм благодаря принадлежности и отождествлению себя с группой. Пусть по отдельности он никто, но, будучи членом самой замечательной группы на свете, он велик.
Однако, могут мне возразить, как можем мы быть уверены, что его оценка собственной группы не реалистична и не верна? Во-первых, едва ли какая-либо группа может быть такой совершенной, как ее описывают ее члены; самым же важным доводом является то, что критика в адрес группы встречает яростный отпор – реакцию, характерную для ситуации, когда рана нанесена индивидуальному нарциссизму. Корни любого фанатизма лежат в нарциссическом характере реакции на критику в адрес национальных, политических или религиозных групп. Когда группа становится воплощением собственного нарциссизма человека, всякая критика в ее адрес воспринимается как нападки на него самого.
В случае войны – холодной или горячей – нарциссизм принимает еще более радикальный характер. Моя собственная нация совершенна, миролюбива, культурна и так далее, а вражеская – наоборот: низка, коварна, жестока. На самом деле большинство наций имеет сходную пропорцию дурных и хороших черт; добродетели и пороки у каждой нации свои. Нарциссический национализм видит только добродетели собственной нации и пороки – вражеской. Мобилизация группового нарциссизма – один из важных факторов подготовки к войне; она начинается гораздо раньше начала военных действий и делается все более интенсивной по мере его приближения. Чувства населения в начале Первой мировой войны – хороший пример того, как разуму затыкается рот, когда к власти приходит нарциссизм. Британская военная пропаганда обвиняла немецких солдат в том, что они поднимали на штыки маленьких детей в Бельгии (этой лжи верили многие на Западе); германцы называли англичан нацией бесчестных торговцев, а себя – борцами за свободу и справедливость.
Может ли этот групповой нарциссизм, а с ним и одно из проявлений воинственности, когда-либо исчезнуть? Условий для этого много. Одно из них – то, что жизнь индивида должна стать такой богатой и интересной, что он начнет относиться к другим с интересом и любовью. Это, в свою очередь, предполагает возникновение социальной структуры, поощряющей готовность быть и делиться, а не иметь и владеть (см. [38]). С развитием интереса и любви к другим нарциссизм будет все больше уменьшаться. Самой важной и самой трудной проблемой, однако, является такая: групповой нарциссизм может порождаться базовой структурой общества, и возникает вопрос: как это происходит. Я попробую предложить ответ на него, проанализировав отношения между структурой индустриального кибернетического общества и нарциссическим развитием индивида.
Первым условием усиливающегося развития нарциссизма в индустриальном обществе является разобщенность и антагонизм индивидов по отношению друг к другу. Этот антагонизм – неизбежное следствие экономической системы, построенной на безжалостном себялюбии и принципе поиска преимуществ за счет других. Когда отсутствуют взаимопомощь и готовность делиться, нарциссизм неизбежно процветает. Однако более важным условием его развития (в полной мере проявившимся только в последние десятилетия) является поклонение промышленному производству. Человек превратил себя в бога. Он создал новый мир, мир сделанных человеком вещей, используя существовавшее прежде лишь как сырье. Современный человек раскрыл секреты микрокосмоса и макрокосмоса; он проник в тайны атома и звезд, отведя нашей Земле роль бесконечно малой частицы среди галактик. Ученый, делающий эти открытия, должен воспринимать явления такими, каковы они есть, объективно, и поэтому с незначительным нарциссизмом. Однако потребители, как и техники и представители прикладных наук, не обязаны иметь ум ученого. Большинству человечества нет необходимости создавать новую технику; людям достаточно применять новые научные открытия и восхищаться ими. Так и случилось, что современный человек начал испытывать чрезвычайную гордость за свои достижения, он счел себя богом, почувствовал свое величие, глядя на великолепие созданного человеком нового мира. Восхищаясь этим вторым сотворением мира, он стал восхищаться и собой в нем. Мир, который он создал, используя энергию угля, нефти, а теперь уже и атома, и особенно кажущиеся беспредельными возможности его мозга сделались зеркалом, в котором он может видеть себя. Человек смотрится в это зеркало, отражающее не его красоту, а изобретательность и силу. Не утонет ли он в зеркале, как утонул Нарцисс, любуясь отражением своего прекрасного тела в озере?
Характер
Выдвинутая Фрейдом концепция характера имеет не меньшее значение, чем понятия бессознательного, подавления и сопротивления. Здесь Фрейд рассматривал человека как целое, а не только отдельные «комплексы» и механизмы, такие как Эдипов комплекс, страх кастрации, зависть к пенису. Конечно, концепция характера была не нова, но рассмотрение ее Фрейдом с динамической точки зрения явилось новым словом в психологии. Под динамическим подходом он понимал концепцию характера как относительно постоянной структуры чувств. Во времена Фрейда психологи применяли к характеру исключительно описательный метод, как это еще часто делается и сегодня; человека могли описывать как дисциплинированного, амбициозного, предприимчивого, честного и так далее, однако при этом говорилось лишь об отдельных чертах, которые можно обнаружить в человеке, а не об организованной системе чувств. Только великие драматурги, такие как Шекспир, и великие писатели, такие как Достоевский и Бальзак, показывали характер в динамическом смысле; Бальзак, например, стремился проанализировать характер представителей различных классов французского общества его времени.
Фрейд был первым, кто стал анализировать характер с научных, а не художественных позиций, как делали его предшественники-романисты. Результаты, обогащенные некоторыми из его учеников, в первую очередь К. Абрахамом, были удивительны. Фрейд и представители его школы предложили четыре типа структуры характера: орально-рецептивный, орально-садистский, анально-садистский и генитальный. Согласно учению Фрейда, каждый нормально развивающийся человек проходит через все эти стадии формирования структуры характера, но многие застревают на каком-то этапе эволюции и во взрослом состоянии сохраняют черты стадий, предшествующих взрослости.
Под обладателем орально-рецептивного характера Фрейд понимал человека, который ожидает, что его будут насыщать материально, эмоционально и интеллектуально. Это – существо «с открытым ртом», по сути пассивное и зависимое, ожидающее, что все его потребности будут удовлетворены, то ли потому, что оно такое хорошее и послушное, то ли в силу чрезвычайно развитого нарциссизма, заставляющего человека считать себя настолько замечательным, что он может претендовать на заботу со стороны других. Человек с таким типом характера ожидает, что все нужное будет ему предложено, и не предполагает никаких ответных действий со своей стороны.
Человек с орально-садистским характером также считает, что все ему необходимое должно поступать извне, а не быть результатом его собственных усилий. В отличие от обладателя орально-рецептивного характера такой человек не ожидает, что окружающие будут удовлетворять его потребности добровольно, и пытается добиться этого силой; такой характер – хищнический, эксплуататорский.
Третий тип характера – анально-садистский. Такова структура характера человека, считающего, что ничто новое создано быть не может, что единственный способ иметь что-то – это сохранять имеющееся. Он смотрит на себя как на своего рода крепость, которую ничто не должно покинуть. Его безопасность лежит в изоляции. В таких людях Фрейд обнаружил три черты: аккуратность, бережливость и упрямство.
Полностью развившийся, зрелый характер – это характер генитальный. Если три «невротические» ориентации характера могут быть легко опознаны, генитальный характер весьма расплывчат. Фрейд описывает его как основу способности любить и трудиться. После того как мы рассмотрели фрейдовскую концепцию любви, мы знаем, что он мог иметь в виду только искаженную форму любви в обществе искателей прибыли. Под обладателем генитального характера Фрейд понимает просто буржуазного мужчину, мужчину, способность которого любить весьма ограничена и чей «труд» – это организация и использование труда других, деятельность управляющего, а не работника.
Три невротических, или в терминологии Фрейда «прегенитальных» ориентации характера являются ключом к пониманию человеческого характера именно потому, что они описывают не отдельные личностные черты, а целостную систему. В целом нетрудно определить, к какому типу принадлежит характер человека, даже если иметь всего несколько указаний. В необщительном, замкнутом человеке, озабоченном исключительно тем, чтобы все делалось аккуратно и правильно, никогда не действующем спонтанно, чья кожа имеет болезненный цвет, легко узнать анальный характер; это подтверждается, если он к тому же мелочен, скуп, отстранен. Так же легко определить обладателей эксплуататорского и рецептивного характеров. Несомненно, человек старается скрыть свое истинное лицо, если, конечно, знает, что проявляет черты, которые предпочел бы не показывать. Поэтому выражение лица – совсем не самый важный показатель структуры характера. Гораздо значимее те проявления, которые труднее контролировать: движения, голос, походка, жесты и все, что оказывается в нашем поле зрения, когда мы смотрим на человека.
Те, кому известно значение качеств, типичных для трех прегенитальных характеров, без труда понимают друг друга, когда говорят о том или ином человеке как об обладателе анального характера, о смеси анально-оральных черт или о выраженных орально-садистских чертах. Потребовался гений Фрейда, чтобы включить в эти ориентации характера все возможные способы, которыми человек может контактировать с миром в «процессе ассимиляции» – другими словами, в процессе получения от природы или от других людей того, что необходимо ему для выживания. Проблема заключается не в том, что все мы нуждаемся в чем-то извне: даже святой не мог бы выжить без пищи; настоящая проблема – это тот способ, которым мы получаем требуемое: нам его дают, мы отнимаем, запасаем или производим.
С тех пор как Фрейд и его ученики предложили эту типологию характеров, наше понимание человека и различных культур существенно расширилось. Я говорю «культур», потому что общества могут характеризоваться теми же структурами, поскольку соответствующие социальные характеры (ядро характера, общее для большинства членов данного общества) также принадлежат к одному из перечисленных типов. Например, характер французского среднего класса в XIX столетии проявлял анальную структуру; характер предпринимателя того времени был эксплуататорским.
Основания типологии характеров, заложенные Фрейдом, привели к открытию других форм ориентации характера. Можно говорить об авторитарном в противовес эгалитарному характеру, деструктивному в противовес любящему и таким образом указывать на самую выдающуюся черту, определяющую структуру характера.
Изучение характера еще только началось, и потенциал открытия Фрейда еще далеко не исчерпан. Однако восхищение теорией Фрейда не должно мешать ви́дению того, что он сузил значимость своего открытия, привязав его к сексуальности. Он очень ясно высказал это уже в «Трех эссе по теории сексуальности»: «То, что мы называем характером человека, в большой степени строится на материале сексуальной активизации; он состоит из импульсов, устоявшихся с детства и преодоленных с помощью сублимации, и таких структур, которые направлены на эффективное подавление этих извращенных чувств, признанных бесполезными» [10; 233. – Курсив мой. – Э.Ф.]. Данные Фрейдом названия ориентаций характера показывают это совершенно ясно. Первые два обязаны энергией оральному либидо, третий – анальному либидо, четвертый – так называемому генитальному либидо, т. е. сексуальности взрослого мужчины или женщины. Наиболее важный вклад Фрейда в типологию характера содержится в его работе «Характер и анальный эротизм» [13]. Все три черты обладателя анального характера – аккуратность, бережливость, упрямство – могут рассматриваться как прямое выражение либидо, реакция на его формирование или его сублимация. То же верно и для других структур характера в терминах орального или генитального либидо.
Фрейд относил многие великие страсти – любовь, ненависть, амбициозность, жажду власти, алчность, жестокость, а также стремление к независимости и свободе – к различным видам либидо. В обновленной теории Фрейда, касающейся инстинктов жизни и смерти, любовь и ненависть считались имеющими в основном биологическую природу. Конструируя теорию инстинктов жизни и смерти, ортодоксальные психоаналитики сочли, что агрессия – столь же врожденный человеческий импульс, как любовь. Жажда власти была отнесена к проявлениям анально-садистского характера, хотя следует признать, что она, будучи, возможно, самым важным импульсом современного человека, не получила должного отражения в психоаналитической литературе. Зависимость рассматривалась в терминах подчинения, различными путями связанного с Эдиповым комплексом. Для Фрейда сведение великих страстей к различным видам либидо было теоретической необходимостью, поскольку, за исключением стремления к выживанию[37], все виды энергии в человеке считались имеющими сексуальную природу.
Если кто-то не считает себя обязанным считать все человеческие страсти имеющими корни в сексуальности, его нельзя заставить принять объяснения Фрейда; возможен более простой и, как мне кажется, более точный анализ чувств человека. Можно различать биологически заданные потребности, удовлетворение голода и секс, служащие выживанию индивида и расы, и страсти, обусловленные социально и исторически. Испытывают ли люди преимущественно любовь или ненависть, покоряются или борются за свободу, оказываются прижимистыми или щедрыми, жестокими или мягкими, зависит от социальной структуры, отвечающей за формирование всех потребностей, за исключением биологических (см. [36]). Существуют культуры, в которых в силу их социального характера преобладает стремление к кооперации и гармонии – например, культура североамериканских индейцев зуни, и другие, отличающиеся чрезвычайными собственническими устремлениями и деструктивностью, как добу (см. подробное обсуждение обществ, которым присуща агрессивность или взаимопомощь, в работе [37]). Для понимания того, как экономические, географические, исторические и генетические условия приводят к формированию различных типов социального характера, требуется подробный анализ социального характера, типичного для каждого данного общества. Вот пример: в племени, у которого слишком мало плодородной земли и недостаточно продуктов охоты и рыболовства, скорее всего разовьется воинственный, агрессивный характер, потому что единственная надежда на его выживание заключается в том, чтобы ограбить или обокрасть другие племена. С другой стороны, в племени, не производящем заметных излишков, но обеспечивающем всех своих членов достаточным количеством средств к существованию, имеет шанс развиться дух миролюбия и взаимопомощи. Такой пример, конечно, слишком упрощен; вопрос о том, какие условия приводят к появлению определенного типа социального характера, труден и требует тщательного анализа всех релевантных и даже кажущихся таковыми факторов. Это – область социальных и исторических исследований, которые, я уверен, имеют большое будущее, хотя до сих пор были заложены лишь основы этой ветви аналитической социальной психологии.
Исторически обусловленные чувства бывают настолько интенсивны, что могут оказаться сильнее биологически необходимых для выживания – утоления голода, жажды и стремления к продолжению рода. Это может быть не так для среднего человека, чьи страсти в основном сводятся к удовлетворению физиологических потребностей, но справедливо для значительного числа людей в любой исторический период: они рискуют жизнью ради чести, любви, достоинства – или ненависти. В Библии это выражено очень просто: «Не хлебом единым жив человек» (Евангелие от Матфея, 4:4). Представим себе, что Шекспир написал бы свои драмы о сексуальных неудачах героя или о стремлении героини утолить голод; они оказались бы столь же банальны, как некоторые из современных пьес, представленных на Бродвее. Драматический элемент человеческой жизни уходит корнями в небиологические страсти: не в голод или сексуальное влечение. Едва ли кто-то совершит самоубийство из-за неудовлетворенности своих сексуальных желаний, но многие готовы покончить с собой, если их честолюбие или ненависть не нашли удовлетворения[38].
Фрейд никогда не рассматривал индивида как существо изолированное, но всегда в его отношениях с другими. Он писал: «Индивидуальная психология, несомненно, занимается индивидом, а также изучает способы, которыми он пытается удовлетворить свои инстинктивные влечения. Однако лишь редко и в специфических исключительных условиях может она абстрагироваться от отношений данного индивида с другими. В психической жизни индивида другие люди обычно рассматриваются как модели, объекты, помощники или оппоненты. Таким образом, индивидуальная психология с самого начала оказывается одновременно и социальной психологией – в этом расширенном, но имеющем право на существование смысле» [19; 65]. Тем не менее это ядро социальной психологии не получило дальнейшего развития, потому что для Фрейда первичное образование – семья – считалось играющим в развитии ребенка решающую роль. Фрейд не видел того, что человек с раннего детства существует в различных кругах; самый тесный из них – семья, следующий – его класс, третий – общество, в котором он живет, четвертый – биологические условия человеческого существования, в котором он участвует; наконец, он – часть большего круга, о котором мы не знаем почти ничего, но который состоит по крайней мере из нашей солнечной системы. Только самый узкий круг – семья – имел значение для Фрейда; поэтому он очень недооценивал все остальные, частью которых является человек. А именно, он не понял, что сама семья детерминирована классом и социальной структурой и представляет собой «инструмент общества», функции которого – приобщать ребенка к характеру общества еще до того, как ребенок с обществом соприкоснется. Это осуществляется как в процессе раннего воспитания и образования, так и через характер родителей, который, в свою очередь, является социальным продуктом (см. [26]).
Фрейд рассматривал буржуазную семью как прототип всех семей и игнорировал существование очень разных форм семейной структуры и даже полное отсутствие «семьи» в других культурах. Примером этого служит то огромное значение, которое Фрейд придавал так называемой «первичной сцене», когда ребенок оказывается свидетелем сексуального акта между родителями. Очевидно, что значимость такого события резко увеличивается в связи с тем, что в буржуазных семьях дети и родители живут в разных комнатах. Будь Фрейд знаком с семейной жизнью более бедных слоев общества, когда для детей, живущих в одной комнате с родителями, половые сношения взрослых были привычным зрелищем, эти ранние впечатления не показались бы ему такими важными. Фрейд также не рассматривал многие так называемые примитивные общества, в которых на сексуальность не накладывалось табу и ни дети, ни родители не скрывали своих половых актов и игр.
Исходя из своей предпосылки, согласно которой все чувства имели сексуальную природу, а буржуазная семья являлась прототипом всех семей, Фрейд не видел, что первична не семья, а структура общества, создающего тот характер, в котором оно нуждается для своего успешного функционирования и выживания. Фрейд не пришел к концепции «социального характера», потому что на таком узком базисе, как секс, такая концепция развиться не могла. Как я показывал в примечании к работе [31], социальный характер – это структура характера, общая для большинства членов общества; его содержание зависит от потребностей данного общества, придающих ему такую форму, что люди хотят делать то, что они должны делать для обеспечения должного функционирования общества. То, что они хотят делать, зависит от доминирующих в их характере чувств, которые были сформированы нуждами и требованиями особой социальной системы. Различия, вызванные разницей семейных ситуаций, незначительны по сравнению с дифференциацией, создаваемой различными структурами общества и присутствующей в соответствующих классах. У члена класса феодалов должен был развиться такой характер, который позволял бы феодалу править другими и делал бы его нечувствительным к их страданиям. У буржуазного класса XIX столетия должен был развиться анальный характер, определяемый желанием экономить и запасать, а не тратить. В XX веке представитель того же класса уже считал накопление не главной добродетелью, а скорее пороком по сравнению с таким поведением, как траты и потребление. Подобное развитие было вызвано фундаментальными экономическими потребностями: в период первичного накопления капитала бережливость была необходима; в период массового производства вместо бережливости величайшее экономическое значение приобрело расходование средств. Если бы неожиданно человек XX века приобрел характер века XIX, экономика столкнулась бы с тяжелым кризисом, если не рухнула[39]. До сих пор я в очень упрощенном виде описывал проблему отношений между индивидами и социальной психологией. Более полный анализ данного вопроса, который вышел бы за рамки этой книги, потребовал бы проведения различий между потребностями или страстями, коренящимися в человеческом существовании, и теми, которые обусловлены в первую очередь не обществом, а самой природой человека и отсутствие которых следовало бы рассматривать как результат подавления или серьезной социальной патологии. Это – стремления к свободе, солидарности, любви.
Если освободить систему Фрейда от ограничивающего ее влияния теории либидо, то концепция характера приобретает еще большее значение, чем придавал ей сам Фрейд. Для этого требуется преобразовать индивидуальную психологию в социальную и ограничить индивидуальную психологию знанием лишь небольших вариаций, вызванных индивидуальными специфическими обстоятельствами, влияющими на базовую социально детерминированную структуру характера. Несмотря на критику фрейдовской концепции характера, следует снова подчеркнуть, что открытие Фрейдом динамической концепции характера дает ключ к пониманию мотивации индивидуального и социального поведения и в определенной мере позволяет его предсказывать.
Значение детства
К великим открытиям Фрейда относится и осознание значимости раннего детства. Это открытие имеет несколько аспектов. Младенцу уже свойственны сексуальные (либидозные) влечения, хотя еще не генитальные, а, как называл их Фрейд, прегенитальные; сексуальность сосредоточена в «эрогенных зонах» рта, ануса и кожи. Фрейд видел надуманность буржуазных представлений о «невинном» ребенке и показал, что с момента рождения младенец обладает многими либидозными влечениями прегенитальной природы.
Во времена Фрейда миф о невинности ребенка, который ничего не знает о сексе, был общепринятым[40]; более того, никто не догадывался о том важном значении, которое опыт детства, особенно раннего детства имеет для развития характера и тем самым всей судьбы человека. Благодаря Фрейду все это изменилось. Он сумел на многих клинических примерах показать, как события раннего детства, особенно имеющие травматический характер, формируют характер ребенка в такой степени, что можно заключить: еще задолго до полового созревания, за редкими исключениями, характер человека определяется и не претерпевает дальнейших изменений. Фрейд показал, как много ребенок знает, насколько он чувствителен, как события, кажущиеся взрослому незначительными, глубоко воздействуют на его развитие и последующее формирование невротических симптомов. Впервые ребенка и то, что с ним происходит, начали рассматривать всерьез, настолько всерьез, что стало казаться: в событиях раннего детства найден ключ ко всему позднейшему развитию. Многие клинические данные подтверждают справедливость и мудрость заключений Фрейда, но, как мне представляется, они также показывают и определенную ограниченность его теоретических выводов.
Прежде всего Фрейд недооценивал значение конституциональных, генетических факторов в формировании характера ребенка. Теоретически он их признавал, отмечая, что за развитие человека отвечают как особенности конституции, так и жизненный опыт, но на практике и он сам, и большинство психоаналитиков пренебрегали генетическими характеристиками; примитивный фрейдизм исходит из того, что исключительно семья и ранний опыт отвечают за развитие ребенка. Это зашло настолько далеко, что психоаналитики и родители стали считать, будто невротичный, или испорченный, или несчастный ребенок, должно быть, имеет родителей, вызвавших это негативное состояние, в то время как здоровый и счастливый ребенок, напротив, растет в здоровом и счастливом окружении. Фактически родителям приписывается вся вина за нездоровое развитие ребенка, так же как и вся заслуга, если детство оказывается счастливым. Все данные говорят о том, что это не так. Вот хороший пример: психоаналитик видит перед собой невротичного, изломанного человека, детство которого было ужасно, и говорит: «Несомненно, именно события детства привели к такому исходу». Если же он задаст себе вопрос о том, сколько он видел замечательно счастливых и здоровых людей, выросших в семьях такого же типа, у него должны возникнуть сомнения по поводу простой связи между событиями детства и психическим здоровьем или болезнью.
Главная причина такого разочарования в теории скорее всего кроется в том, что аналитик игнорирует различия в генетической предрасположенности. Это видно на простом примере: даже среди новорожденных имеются различия в уровне агрессивности или робости. Если у агрессивного ребенка мать тоже агрессивна, она не принесет ему особого вреда, а может быть, даже сделает много хорошего. Ребенок научится бороться с ней и не бояться ее агрессивности. Если же такая мать окажется у робкого ребенка, он будет испытывать перед ее агрессивностью страх и станет запуганным, покорным, а позднее и невротичным человеком.
Тут мы касаемся старой и многократно обсуждавшейся проблемы «природа или воспитание»: какое влияние преобладает – генетической предрасположенности или окружающей среды. Обсуждение этой проблемы так и не привело к окончательным выводам. Мой собственный опыт говорит о том, что генетическая предрасположенность играет гораздо более важную роль в формировании определенного характера, чем считает большинство психоаналитиков. Я полагаю, что одной из целей анализа должна быть реконструкция картины того, каким ребенок родился, чтобы можно было определить: какие черты у объекта анализа являются частью его натуры и какие приобретены под влиянием важных обстоятельств жизни, и более того: какие из приобретенных черт противостоят врожденным, а какие их усиливают. Мы часто обнаруживаем, что по желанию родителей (их собственному или как представителей общества) ребенок бывает вынужден подавлять или ослаблять свою врожденную предрасположенность и заменять ее теми чертами, которые желательны обществу. В этом мы и находим корни невротического развития; у человека появляется чувство ложной идентичности. В то время как настоящая идентичность основывается на осознании своей самости, то есть того, каков человек от рождения, псевдоидентичность порождается теми личностными чертами, которые человеку навязывает общество. В результате человек испытывает постоянную потребность в одобрении, чтобы сохранять равновесие. Настоящая идентичность не нуждается в таком одобрении, потому что представление человека о самом себе идентично с его аутентичной личностной структурой.
Открытие важности событий раннего детства для развития человека может с легкостью приводить к недооценке значимости более позднего опыта. Согласно теории Фрейда, характер человека более или менее полностью формируется к семилетнему или восьмилетнему возрасту; поэтому фундаментальные изменения в более позднем возрасте считаются практически невозможными. Эмпирические данные, впрочем, показывают, что такой вывод преувеличивает роль детства. Несомненно, если условия, помогавшие формированию характера человека в детстве, сохраняются, то структура характера, вероятно, останется той же самой. Далее, следует признать, что это верно для большинства людей, которые в позднейшей жизни продолжают жить в условиях, сходных с существовавшими в их детстве. Однако взгляды Фрейда отвлекли внимание от тех случаев, когда благодаря радикально новому опыту радикально меняется и человек. Возьмем, например, людей, которые в детстве были уверены, что никто никогда не станет заботиться о них, если этому человеку от них что-то не понадобится, что не существует любви и симпатии, которые не являлись бы платой за услуги или взяткой. Человек может прожить всю жизнь, не столкнувшись с кем-то, кто проявит к нему интерес или привязанность, ничего не ожидая взамен. Однако если такой человек встретит настоящую заинтересованность со стороны другого человека, которому ничего от него не нужно, это может разительно изменить такие черты его характера, как подозрительность, боязливость, убеждение в том, что его никто не любит. Конечно, Фрейд со своими буржуазными взглядами и неверием в любовь не ожидал бы подобного развития событий. В случаях очень резкой перемены характера можно даже говорить о настоящем преображении, полном пересмотре ценностей, ожиданий и установок в связи с тем, что в жизни человека случилось нечто совершенно новое. И все же такое превращение невозможно, если человек уже не обладает внутренним потенциалом, проявляющимся в преображении. Я признаю, что поверхностные наблюдения не говорят в пользу таких выводов, потому что люди обычно не меняются, но нужно иметь в виду, что большинство людей не сталкивается с чем-то по-настоящему новым. Человек обычно находит то, что ожидает найти, и это препятствует появлению фундаментально нового опыта, приводящего к фундаментальному изменению характер.
Трудность выяснения того, каким был человек в момент рождения и в первые месяцы жизни, заключается в том, что едва ли кто-то помнит, что́ тогда чувствовал. Самые ранние воспоминания обычно относятся ко второму или третьему году жизни; в этом и скрыта основная проблема, связанная с заключением Фрейда о важности раннего детства. Он пытался разрешить ее благодаря изучению трансфера. Иногда это давало результаты, но при изучении историй болезни пациентов школы Фрейда приходится признать, что многое из считавшегося впечатлениями раннего детства – всего лишь реконструкция. А такие реконструкции очень ненадежны. Они основаны на постулатах теории Фрейда, и убеждение в их аутентичности часто является продуктом искусного промывания мозгов. Хотя считается, что психоаналитик остается на эмпирическом уровне, в действительности он тонко подсказывает пациенту, что тот должен был бы пережить, и пациент в силу своей зависимости от аналитика очень часто заявляет – или, как часто пишется в истории болезни – «признает», что искренне чувствует именно то, что, как ожидается на основании теоретической конструкции, должен чувствовать. Несомненно, аналитику не следует ничего навязывать пациенту. Однако чувствительный – и даже не слишком чувствительный – пациент через некоторое время улавливает, что́ аналитик ожидает от него услышать, и соглашается с той интерпретацией, которая подтверждает предположение аналитика о том, что должно было случиться. Кроме того, необходимо учитывать, что ожидания аналитика основываются не только на требованиях теории, но и на буржуазном представлении о том, что собой представляет «нормальный» человек. Предположим, например, что у данного человека стремление к свободе и протест против подчинения несправедливым требованиям развиты особенно сильно; в этом случае аналитик может счесть, что сама мятежность этого человека имеет иррациональную основу и может быть объяснена Эдиповой ненавистью сына к отцу, коренящейся в сексуальном соперничестве из-за матери-жены. Тот факт, что детьми управляют и манипулируют и в детстве, и в последующей жизни, рассматривается как нормальный, а бунтарство, таким образом, как нечто иррациональное.
Я хотел бы указать на еще один осложняющий фактор, как правило, не привлекающий к себе внимания. Отношения между родителями и детьми обычно рассматриваются как улица с односторонним движением, а именно, как влияние родителей на детей. Однако часто игнорируется то обстоятельство, что это влияние совсем не одностороннее. У родителя может естественным образом возникнуть неприязнь к ребенку, даже новорожденному, не только в силу часто обсуждаемых причин – того, что ребенок нежеланный или у родителя деструктивные, садистские наклонности, – но и потому, что родитель и ребенок просто несовместимы по своей природе, и в этом смысле их взаимоотношения не отличаются от таковых между взрослыми. Родитель может просто не любить детей того типа, к которому принадлежит его собственный ребенок, а ребенок с самого начала чувствует эту неприязнь. С другой стороны, ребенок может не любить людей такого типа, как его родители; будучи слабее родителей, он подвергается наказаниям за эту неприязнь при помощи более или менее тонких санкций. Ребенок – и в равной степени мать – вынужден мириться с ситуацией, когда мать должна заботиться о нем, а ребенок – ее терпеть, несмотря на тот факт, что они от всей души друг друга не любят. Ребенок не в состоянии выразить это словами; мать должна испытывать чувство вины, если признается себе, что не испытывает симпатии к рожденному ею ребенку; в результате оба ощущают особого рода напряженность и наказывают друг друга за то, что оказались принуждены к нежеланной близости. Мать притворяется, будто любит ребенка, и тонким образом наказывает его за то, что вынуждена это делать; ребенок так или иначе притворяется, что любит мать, потому что его жизнь полностью от нее зависит. В подобной ситуации очень много лжи, и ребенок часто выражает это собственными непрямыми способами, восстает, а мать отрицает это, потому что чувствует: нет ничего более постыдного, чем не любить собственных детей.
3. Фрейдовская теория толкования сновидений
Величие и ограничения открытия Фрейдом толкования сновидений
Если бы Фрейд не создал теории неврозов и не разработал метода их лечения, он все равно был бы одной из самых выдающихся фигур в науке о человеке, потому что открыл искусство толкования сновидений. Разумеется, люди почти во все времена пытались толковать сны. Да и как могло бы быть иначе, если человек, проснувшись утром, помнит о странных событиях, которые происходили в его сновидении? Существовало множество способов истолкования снов – некоторые из них основывались на суевериях и всяких иррациональных идеях, другие – на глубоком понимании значимости сновидений. Это понимание как нельзя глубже было выражено в Талмуде: «Сон, который не был истолкован, подобен письму, которое не было вскрыто». Это утверждение выражает осознание того, что сновидение – наше послание самим себе, которое мы должны понять, чтобы лучше понять себя. Однако несмотря на долгую историю толкования снов, Фрейд был первым, кто поставил интерпретацию сновидений на систематическую научную основу. Он снабдил нас для этого инструментами, которыми может пользоваться каждый, кто научится это делать.
Едва ли можно преувеличить значение толкования сновидений. В первую очередь они позволяют нам осознать те мысли и чувства, которые у нас имеются, но о которых в бодрствующем состоянии мы не отдаем себе отчет. Сновидение, как однажды сказал Фрейд, – это королевская дорога к пониманию бессознательного. Во-вторых, сон – акт творчества, благодаря которому средний человек демонстрирует творческие силы, о которых наяву и не подозревает. Далее, Фрейд открыл, что сны – не просто отражение бессознательных влечений, но что они обычно подвергаются влиянию тонкого контроля, присутствующего, даже когда мы спим, и заставляющего нас искажать истинный смысл мыслей во сне («латентное сновидение»). Однако цензора все же можно обмануть, что позволяет скрытым мыслям пересечь границу сознания, если они достаточно замаскированы. Такая концепция привела Фрейда к заключению, что все сновидения искажены (кроме детских), и их настоящее значение нужно восстанавливать с помощью толкования.
Фрейд создал общую теорию сновидений. Он предположил, что человек во сне испытывает множество импульсов и желаний, особенно сексуального характера, которые разбудили бы его, если бы не то обстоятельство, что во сне он ощущает эти желания как исполнившиеся и поэтому не должен просыпаться, чтобы осуществить их наяву. Для Фрейда сновидения были замаскированным выражением исполнения сексуальных желаний. Сон как исполнение желания был тем фундаментальным прозрением, которое Фрейд внес в область интерпретации сновидений.
Очевидным возражением на эту теорию является тот факт, что мы нередко видим кошмары, которые трудно истолковать как исполнение желания, поскольку они бывают настолько болезненны, что прерывают сон. Однако Фрейд изобретательно преодолел это препятствие. Он указывал, что существуют садистские или мазохистские желания, вызывающие большое беспокойство, но в сновидении они все равно исполняются, хотя другая часть нас их боится.
Логичность фрейдовской системы интерпретации сновидений настолько поразительна, что его концепции образуют очень впечатляющую рабочую гипотезу. Если, впрочем, не разделять базового допущения Фрейда насчет сексуального характера желаний, то потребуются другие соображения. Вместо положения о том, что сновидение – искаженное отображение желания, можно предположить, что сновидение отражает любое чувство, желание, опасение или мысль, достаточно важные, чтобы оказаться представленными во сне, и что их появление как раз и говорит об их важности. Мои наблюдения свидетельствуют о том, что многие сновидения выражают не желание; они предлагают прозрение относительно собственной ситуации человека или личностей других людей. Чтобы оценить эту функцию, нужно рассмотреть особенности состояния сна. Во сне мы освобождены от необходимости трудиться для поддержания своего существования или защищаться от возможных опасностей (только сигнал о непосредственной угрозе способен нас разбудить). Мы не подвержены влиянию социального «шума», под которым я подразумеваю мнения окружающих, житейские мелочи или общепринятые предрассудки. Наверное, можно сказать, что сон – это единственное время, когда мы действительно свободны. Такое положение имеет последствия: мы видим мир субъективно, а не руководствуясь объективной точкой зрения, воздействующей на нас наяву, – то есть той реальностью, которой должны манипулировать. Например, во сне огонь может выражать любовь или деструктивность, но это не тот огонь, на котором можно испечь пирог. Сновидение поэтично, оно говорит на универсальном языке символов, которые по большей части одинаковы для всех времен и всех культур. Это тот универсальный язык, который, вместе с поэзией и искусством, создало человечество. Во сне мы видим мир не таким, каким должны его видеть, чтобы им управлять; скорее нам открывается тот поэтический смысл, который мир имеет для нас.
Проникновение Фрейда в природу сновидений, впрочем, оказалось чрезвычайно ограниченным в силу особенностей его личности. Фрейд был рационалистом, лишенным склонности к искусству или поэзии и поэтому почти нечувствительным к символическому языку, говорят ли на нем сновидения или поэзия. Отсутствие этой способности выражалось в очень узком понимании символов. Фрейд рассматривал их или как сексуальные (а тут возможности очень широки, поскольку линия и круг – чрезвычайно распространенные формы символизма), или как раскрывающиеся лишь через ассоциации с тем, с чем еще они связаны. В этом заключается одно из самых странных противоречий: Фрейд, специалист по анализу иррационального и символического, сам был так мало способен понимать символы. Это особенно бросается в глаза, если мы сравним Фрейда с одним из величайших интерпретаторов символов – Иоганном Якобом Бахофеном, открывателем матриархата. Для него символ обладал богатством и глубиной, далеко выходящими за рамки термина «символ». Бахофен был способен посвятить множество страниц единственному символу – например, яйцу, в то время как Фрейд интерпретировал бы этот символ как «очевидно» выражающий некий аспект сексуальной жизни. Для Фрейда сновидение требовало поиска почти бесконечной цепи ассоциаций с его различными частями, и очень часто оказывалось, что в результате процесса истолкования удавалось узнать о значении сновидения ненамного больше, чем было известно ранее.
Роль ассоциаций в толковании сновидений
Чтобы дать пример применения фрейдовского метода ассоциаций, приведу содержание сна in extenso (полностью) и его интерпретацию. Это сон, который видел сам Фрейд и который составил часть его самоанализа [9; 170–174].
«Сон о монографии по ботанике. Я написал монографию об одном растении. Книга лежит передо мной, и я в этот момент разворачиваю сложенную цветную иллюстрацию. В каждый экземпляр книги вложено засушенное растение, как будто взятое из гербария.
Анализ. Утром накануне я видел в витрине книжной лавки новую книгу, называвшуюся «Род цикламена», – несомненно, монографию об этом растении. Цикламены, подумал я, любимые цветы моей жены, и я упрекнул себя за то, что так редко вспоминаю о том, чтобы принести ей цветы, которые ей очень нравятся. Мысль о том, чтобы принести цветы, напомнила мне историю, которую я недавно вновь рассказал в кругу друзей и которую использовал как доказательство в пользу своей теории о том, что забывание часто определяется бессознательной целью и всегда позволяет догадаться о тайных намерениях того человека, который забыл[41].
Молодая женщина привыкла получать букет цветов от мужа на свой день рождения. Однажды этот знак внимания не появился, и она расплакалась. Ее муж, войдя в комнату, не мог понять причины ее слез до тех пор, пока она не сказала ему о том, что это был ее день рождения. Он хлопнул рукой по лбу и воскликнул: «Прости, я совершенно забыл. Я сейчас же пойду и принесу тебе цветы». Однако женщину это не утешило: она поняла, что забывчивость мужа – доказательство того, что она больше не занимает того же места в его мыслях, что раньше. Эта дама, фрау Л., повстречалась с моей женой за два дня до того, как я увидел свой сон, сообщила ей, что чувствует себя хорошо, и справилась обо мне. За несколько лет до того она у меня лечилась.
Теперь у меня возник новый поток мыслей. Однажды, вспомнил я, я действительно написал что-то вроде монографии о растении, а именно – диссертацию о растении кока (1884), которая привлекла внимание Карла Коллера к обезболивающим свойствам кокаина. Я сам указал на такое применение алкалоида в своей опубликованной статье, но не провел достаточно полных исследований, чтобы развивать тему дальше. Это напомнило мне о том, что утром после того, как я увидел сон, – я до вечера не нашел времени интерпретировать его, – я видел что-то вроде сна наяву о кокаине. Если у меня когда-нибудь разовьется глаукома, думал я, нужно будет поехать в Берлин и подвергнуться операции, инкогнито, в доме моего друга (Флисса), пригласив хирурга, которого он мне порекомендует. Этот хирург, который не подозревал бы о том, кто я такой, стал бы, наверное, говорить, как легко делать такие операции с тех пор, как введен в употребление кокаин; я не подал бы ни малейшего намека на то, что участвовал в этом открытии. Такая фантазия вызвала у меня размышления о том, как неловко, в конце концов, врачу обращаться за медицинской помощью к своим коллегам. Берлинский хирург-офтальмолог не знал бы меня, и я смог бы заплатить ему, как любой другой пациент. Только когда я вспомнил это сновидение наяву, я понял, что за ним лежит воспоминание об определенном событии. Вскоре после открытия Коллера мой отец действительно заболел глаукомой; мой друг доктор Кёнигштейн, хирург-офтальмолог, прооперировал его; доктор Коллер осуществил анестезию кокаином и отметил, что этот случай свел вместе всех троих, кто имел отношение к введению кокаина в употребление.
Потом мои мысли вернулись к случаю, когда мне в последний раз напомнили о том деле с кокаином. Это было за несколько дней до моего сна, когда я просматривал сборник, которым благодарные ученики отметили юбилей своего учителя, директора лаборатории. Среди достижений лаборатории, перечисленных в сборнике, я нашел упоминание о том, что Коллер открыл обезболивающие свойства кокаина. Тут я неожиданно понял, что мой сон был связан с событиями предыдущего вечера. Я возвращался домой именно с доктором Кёнигштейном и разговорился с ним о предмете, который никогда не оставляет меня равнодушным. Пока я разговаривал с ним в вестибюле, к нам присоединились профессор Гертнер (что значит «садовник») с женой, и я не мог удержаться, чтобы не поздравить их обоих с их цветущим видом. Однако профессор Гертнер был одним из авторов юбилейного сборника, который я только что упомянул, и вполне мог мне о нем напомнить. Более того, фрау Л., чье разочарование в день рождения я описывал выше, была названа – хотя, правда, по другому поводу, – в моем разговоре с доктором Кёнигштейном.
Я попытаюсь также истолковать и другие обстоятельства, определившие содержание моего сна. В монографию был вложен высушенный образец растения, как если бы это был гербарий. Это вызвало у меня воспоминание об учебе в гимназии. Наш учитель однажды собрал учеников старших классов и вручил им школьный гербарий, чтобы они его просмотрели и почистили. В него пробрались какие-то мелкие червячки – книжные черви. Учитель, видимо, не питал ко мне особого доверия, потому что вручил мне всего несколько листов. Как мне помнится, они содержали образцы крестоцветных. Я никогда особенно не любил ботаники. На экзамене по этому предмету мне также предложили определить крестоцветные, – что мне не удалось сделать. Мои перспективы не были бы особенно блестящими, если бы мне не помогло знание теории. Я перешел от крестоцветных к сложноцветным; я сообразил, что артишоки – как раз сложноцветные, и их-то я действительно мог назвать своими любимыми цветами. Будучи более щедрой, чем я, моя жена часто приносит с рынка эти мои любимые цветы.
Я видел, что передо мной лежит монография, которую я написал. Это в свою очередь напомнило мне кое о чем. Накануне я получил письмо от моего друга Флисса из Берлина, в котором тот продемонстрировал свою способность к визуализации: «Меня очень занимает твоя книга о сновидениях. Я вижу ее оконченной и лежащей передо мной, я вижу, как перелистываю страницы»[42]. Как же я завидовал его дару провидца! Если бы я только мог увидеть лежащей перед собой свою книгу!
Сложенная цветная иллюстрация. Когда я был студентом-медиком, я постоянно испытывал соблазн все изучать по монографиям. Несмотря на ограниченные средства, я сумел приобрести несколько томов известий медицинских обществ, и меня восхищали их цветные иллюстрации. Я гордился своим стремлением к доскональности. Когда я сам начал публиковать статьи, я был обязан сам делать иллюстрации к ним, и я помню, что одна из них была такой ужасной, что мой друг и коллега посмеялся надо мной. Потом у меня возникло – не знаю, каким образом – воспоминание из очень ранней юности. Однажды моему отцу показалось забавным отдать книгу с цветными иллюстрациями (описание путешествия по Персии) мне и моей самой старшей сестре на растерзание. Нелегко оправдать это с точки зрения воспитания! Мне в то время было пять лет, сестре еще не исполнилось трех; картина того, как мы двое с наслаждением рвем книгу на части (листок за листком, как артишок, поймал я себя на мысли), оказалась почти единственным живым воспоминанием, сохранившимся с того периода моей жизни. Потом, став студентом, я испытывал страсть к собиранию книг, аналогичную страсти к изучению монографий: любимое увлечение (слово «любимое» уже появлялось в связи с цикламенами и артишоками). Я сделался книжным червем. Я всегда, с того времени, когда впервые начал размышлять о себе, объяснял эту свою страсть тем детским воспоминанием, о котором только что упомянул, или, скорее, понял, что та сцена моего детства была «прикрывающим воспоминанием» моих позднейших библиофильских пристрастий (см. мою статью о прикрывающих воспоминаниях в [8]). И я рано обнаружил, конечно, что страсти часто имеют печальные последствия. Мне было семнадцать, мой счет в книжной лавке оказался большим, платить мне было нечем, а мой отец не счел оправданием то обстоятельство, что у меня могли бы появиться и худшие наклонности. Воспоминание об этих обстоятельствах моей юности в более позднем возрасте сразу же вернуло мои мысли к разговору с моим другом доктором Кёнигштейном. В этой беседе мы обсуждали вопрос о том, что меня упрекают в излишнем погружении в мои любимые увлечения.
По причинам, сюда не относящимся, я не стану продолжать толкование своего сна, а лишь намечу направление, в котором оно шло бы. В ходе анализа мне пришлось вспомнить о своем разговоре с доктором Кёнигштейном не по одному только поводу. Если учесть темы, затронутые в том разговоре, смысл сна делается понятным. Все мысли, вызванные тем сновидением, – мысли о моей жене и о моих любимых цветах, о кокаине, о неудобстве обращения за медицинской помощью к коллегам, о моем предпочтении изучения монографий, о моем пренебрежении к некоторым областям науки, таким как ботаника, – все эти мысли при дальнейшем рассмотрении вели в конце концов к той или иной детали моего разговора с доктором Кёнигштейном. Опять сновидение, как и то, которое было проанализировано первым, – сон об инъекции Ирме, – имело природу самооправдания, защиты моих прав. Более того, оно развивало тему, затронутую в более раннем сне, и использовало свежий материал, полученный в промежутке между двумя сновидениями. Даже явно безразличная форма, которую принял сон, оказалась имеющей значение. Значило сновидение следующее: «В конце концов, я – человек, который написал ценную и памятную статью (о кокаине)», точно так же, как в более раннем сне я говорил в свою защиту: «Я ответственный и прилежный студент».
В обоих случаях я настаивал на следующем: «Я могу позволить себе делать это». Однако мне нет надобности продолжать толкование сновидения, поскольку моя единственная цель при его описании заключалась в иллюстрации связи между содержанием сновидения и событиями предыдущего дня, которые его и вызвали. До тех пор, пока я осознавал только явный смысл сна, казалось, что сновидение связано с единственным впечатлением того дня. Однако анализ выявил второй источник сна, заключавшийся в другом происшествии того же дня. Первое из двух впечатлений, с которыми был связан сон, оказалось второстепенным, побочным обстоятельством. Я увидел в витрине книгу, название которой на мгновение привлекло мое внимание, но тема которой едва ли могла меня заинтересовать. Второе событие обладало высокой степенью психической значимости: я в течение часа вел оживленную беседу со своим другом, хирургом-офтальмологом, и в ходе ее сообщил ему некоторые сведения, которые должны были оказать на нас обоих существенное влияние; это вызвало у меня воспоминания, привлекшие мое внимание к великому разнообразию внутренних стрессов в моем сознании. Более того, наш разговор был прерван до его завершения, поскольку к нам присоединились знакомые».
Что мы обнаружим при анализе фрейдовского анализа? Он приводит различные ассоциации, связанные со сновидением, – одну про молодую женщину, которая жаловалась, что муж забыл принести ей в день рождения цветы, другую про свою диссертацию, посвященную растению кока, которая привлекла внимание Карла Коллера к анестезирующим свойствам кокаина. Высушенное растение вызывает ассоциацию со школьной жизнью Фрейда, когда учитель поручил ему почистить гербарий. Вид лежащей перед ним монографии напоминает Фрейду о чем-то, что днем ранее написал ему его друг Флисс, а сложенная цветная иллюстрация – о его неспособности делать иллюстрации и страсти к приобретению книг. Потом Фрейд продолжает говорить о своей беседе с доктором Кёнигштейном.
Если задаться вопросом о том, что мы узнали о Фрейде из этой интерпретации сновидения, боюсь, придется признать, что мы не узнали почти ничего. И все же значение сна совершенно очевидно и действительно чрезвычайно важно как ключ к пониманию личности Фрейда.
Цветок – символ любви, Эроса, дружбы и радости. Что же Фрейд сделал с любовью и радостью? Он обратил их в объекты научного исследования; любовь и радость покинули цветок, который теперь высушен и превратился в предмет сухих рассуждений. Что могло бы еще полнее охарактеризовать всю жизнь Фрейда? Он сделал любовь (в его терминологии – сексуальность) объектом научных наблюдений; этот процесс высушил ее и лишил значения человеческого переживания. Именно это так ясно выражается в сновидении Фрейда, но при этом, нагромождая ассоциацию на ассоциацию, что практически ничего не дает, он умудряется скрыть понимание значения сна: трансформации любви из явления жизни в научный объект. Этот сон, как и многие другие, является примером того, что Фрейд с помощью бесчисленных ассоциаций очень часто прячет настоящее значение сновидения, потому что не хочет видеть этого значения. Другими словами, фрейдовский метод поиска бесконечных ассоциаций – выражение сопротивления пониманию значения собственных снов.
Ограничения толкования Фрейдом собственных сновидений
В анализе следующего сновидения не прослеживаются черты описанного выше метода – нагромождения бесконечных ассоциаций. Их использование здесь относительно просто; внимание привлекает проявленное Фрейдом сопротивление толкованию довольно очевидного материала сновидения. «Весной 1897 года, – пишет Фрейд, – я узнал, что два профессора нашего университета рекомендовали меня на должность professor extraordinarius[43]. Новость удивила и очень порадовала меня, поскольку говорила о признании моих заслуг двумя выдающимися людьми, что не могло быть отнесено за счет каких-либо личных соображений. Однако я сразу же предостерег себя от того, чтобы испытывать особые ожидания. На протяжении последних лет министерство отвергало подобные рекомендации, и несколько моих коллег, старших по возрасту и по крайней мере равных мне по заслугам, напрасно ждали назначения. У меня не было оснований надеяться, что меня ждет лучшая участь. Поэтому я решил ожидать будущего со смирением. Насколько я себя знаю, я не амбициозный человек; я занимаюсь своим делом, радуясь успеху, даже и без преимуществ, которые дает звание. Более того, мне не приходилось решать, зелен ли виноград: он висел слишком высоко над моей головой.
Однажды вечером меня посетил коллега – один из тех, чей пример я воспринимал как предостережение для себя. Он уже давно являлся кандидатом на должность профессора, а это звание в нашем обществе делает человека полубогом для его пациентов. Менее скромный, чем я, он имел привычку выражать свое почтение служащим министерства, рассчитывая поспособствовать своему продвижению. Один из таких визитов он нанес как раз перед тем, как зашел ко мне, и рассказал, что припер к стенке важного чиновника и прямо спросил, имеют ли отношение к задержке его назначения соображения, касающиеся вероисповедания. В ответ мой друг услышал, что, учитывая современное состояние умов, несомненно, в настоящий момент положение его превосходительства не позволяет… «По крайней мере я знаю теперь, как обстоят дела», заключил мой коллега. Это не было для меня новостью и только укрепило чувство безнадежности, поскольку те же соображения, касающиеся вероисповедания, имели место и в моем случае.
На рассвете после посещения моего друга мне приснился сон, чрезвычайно интересный, среди прочего, своей формой. Он состоял из двух мыслей и двух образов – за каждой мыслью следовала картина. Я, впрочем, перескажу только первую половину сновидения, поскольку вторая не имеет отношения к той цели, ради которой я описываю сон.
1. Мой коллега Р. был моим дядей. Я испытывал к нему глубокую привязанность.
2. Я видел перед собой его лицо, несколько изменившееся. Оно как бы удлинилось. Особенно ясно была видна окружающая лицо светлая борода.
За этим последовали две другие части сновидения, которые я опущу; опять же, за мыслью следовала картина.
Интерпретация сновидения происходила следующим образом.
Когда наутро я вспомнил сон, я рассмеялся и сказал: «Какая бессмыслица!» Однако сновидение не хотело уходить и преследовало меня весь день, пока наконец к вечеру я не стал упрекать себя: «Если бы один из твоих пациентов не придумал ничего лучше, чем назвать сон бессмыслицей, ты стал бы расспрашивать его и заподозрил, что за сном скрывается какая-то неприятная история, и пациент старается избежать осознания этого. Примени тот же подход к себе. Твое мнение о том, что сон – бессмыслица, означает только, что ты испытываешь внутреннее сопротивление его истолкованию. Не позволяй себе отступиться». Так что я приступил к интерпретации.
«Р. был моим дядей». Что это могло значить? У меня всегда был только один дядя – дядя Иосиф[44]. С ним произошла неприятная история. Однажды – более тридцати лет назад – стремясь подзаработать, он позволил вовлечь себя в предприятие, сурово преследовавшееся законом, и оказался осужден. Мой отец, от горя за несколько дней поседевший, всегда говорил, что дядя Иосиф – человек неплохой, только простак. Так, значит, если Р. был моим дядей Иосифом, не имел ли я в виду, что Р. – простак?
Едва ли правдоподобно и очень неприятно! Однако было еще и лицо, которое я видел во сне, – удлиненное и со светлой бородой. У моего дяди действительно было такое лицо – удлиненное и окруженное красивой светлой бородой. Мой коллега Р. с молодости был очень темноволос, но когда темноволосые люди начинают седеть, они расплачиваются за красоту своей юности. Волос за волосом их черные бороды претерпевают неприятное изменение цвета: сначала делаются рыжевато-каштановыми, и только потом – явно седыми. Борода моего коллеги Р. в то время как раз проходила эту стадию, – так же как и моя собственная, как я с неудовольствием заметил. Лицо, которое я видел во сне, было одновременно лицом Р. и лицом моего дяди. Это было похоже на одну из смешанных фотографий Гальтона (чтобы выявить семейное сходство, Гальтон снимал несколько лиц на одну и ту же пластинку). Так что не могло оставаться сомнений: я действительно имел в виду, что Р. – простак, как мой дядя Иосиф.
У меня все еще не было никакого представления о том, какой могла быть цель такого сравнения, чему я продолжал сопротивляться. Сходство не могло быть очень глубоким, потому что мой дядя являлся преступником, а у Р. репутация была безупречна, если не считать штрафа за то, что он на велосипеде сбил мальчика. Не мог ли я иметь в виду этот проступок? Такое предположение было просто смешным. В этот момент я вспомнил другой разговор, с другим своим коллегой, Н., который состоялся за несколько дней до того и, как я теперь вспомнил, касался того же предмета. Я повстречал Н. на улице. Его тоже рекомендовали на должность профессора. Он слышал о той чести, которая была оказана мне, и стал поздравлять с ней, но я решительно отказался принять поздравления. «Вы – последний, кто мог бы так шутить, – сказал я ему. – Вы знаете, чего стоит подобная рекомендация, на собственном опыте». «Кто может сказать? – ответил он, как мне показалось, не очень серьезно. – Против меня определенно были некоторые обстоятельства. Разве вы не знаете, что одна женщина подала на меня в суд? Мне не нужно говорить вам, что дело даже не дошло до разбирательства. Это была бессовестная попытка шантажа, и мне с трудом удалось избавить истицу от наказания. Однако, возможно, в министерстве используют тот случай как повод для того, чтобы меня не назначить. Но ведь у вас-то безупречная репутация». Теперь мне стало понятно, кто был преступником, и в то же время сделалось ясно, как следовало интерпретировать сон и какова была его цель. Мой дядя Иосиф совмещал в одном лице двух моих коллег, которых не назначили профессорами, – одного как простака, а другого как преступника. Я теперь также увидел, почему они представлены в таком свете. Если назначение моих коллег Р. и Н. откладывалось по причинам, связанным с вероисповеданием, мое собственное назначение тоже находилось под вопросом; если же отказ моим друзьям был связан с другими причинами, неприложимыми ко мне, то я все же могу надеяться. Такую процедуру избрал мой сон: показал, что если Р. – простак, а Н. – преступник, а я не был ни тем, ни другим, то у нас не было ничего общего, и я мог радоваться представлению на должность и не тревожиться о том, что ответ министерского чиновника Н. должен распространяться и на меня.
Однако я чувствовал, что обязан продолжать толкование сновидения; я чувствовал, что еще не завершил его удовлетворительно. Меня все еще смущало легкомыслие, с которым я принизил двух своих уважаемых коллег, чтобы оставить открытой себе дорогу к профессуре. Мое недовольство собственным поведением, впрочем, уменьшилось, когда я понял, какую цену следует приписывать образам сновидения. Я был готов категорически отрицать, что действительно считаю Р. простаком, и не верил в грязное обвинение, предъявленное Н., как не верил я и в то, что Ирма опасно заболела вследствие того, что Отто сделал ей инъекцию пропила. В обоих случаях сновидения выражали только мое желание, чтобы это было так. Ситуация с исполнением моего желания во втором сновидении казалась менее абсурдной, чем в более раннем, действительные факты в его конструкции использовались более искусно, как при тонкой клевете того типа, которая заставляет людей считать, что «в этом что-то есть». Ведь один из профессоров на своем факультете голосовал против моего коллеги Р., а Н. по наивности дал мне материал для подозрений. Так или иначе, должен повторить, что сон, как мне казалось, нуждался в дальнейшем прояснении.
Потом я вспомнил, что имеется еще часть сновидения, не затронутая интерпретацией. После того как у меня возникла мысль, что Р. – мой дядя, во сне я стал испытывать к нему теплое чувство. С чем это чувство было связано? Я, естественно, никогда не испытывал привязанности к моему дяде Иосифу. Мне нравился Р., и я уважал его на протяжении многих лет, но если бы я отправился к нему и стал выражать свои чувства – такие, какими они были в моем сновидении, – он, несомненно, очень бы удивился. Моя привязанность к Р. показалась мне неискренней и преувеличенной – как оценка его интеллектуальных качеств, выраженная в смешении его личности с личностью моего дяди, хотя в этом преувеличение было бы обращено в противоположном направлении. Передо мной забрезжил новый свет. Привязанность во сне не относилась к скрытому содержанию, к мыслям, скрывавшимся за сновидением; она находилась в противоречии с ними и должна была скрыть истинную интерпретацию. Возможно, именно здесь крылся raison d’tre [подлинный смысл]. Я вспомнил свое сопротивление тому, чтобы взяться за толкование, то, как долго я его откладывал, как объявил свой сон полной бессмыслицей. Опыт психоанализа научил меня, как следует интерпретировать подобные отрицания: они не имеют ценности как суждения, а просто являются выражением эмоций. Если моя маленькая дочь не хотела яблока, которое ей предлагали, она утверждала, что яблоко кислое, не попробовав его. И если мои пациенты вели себя по-детски, я знал, что их тревожит мысль, которую они хотели бы подавить. То же самое было верно в отношении моего сна. Мне не хотелось его интерпретировать, потому что интерпретация содержала что-то, против чего я боролся, – а именно, против утверждения, что Р. – простак. Привязанность, которую я чувствовал к Р., не могла быть выведена из скрытых сном мыслей, но, несомненно, произрастала из этой моей борьбы. Если мое сновидение было в этом отношении искажено и отличалось от своего скрытого содержания, – искажено до полной противоположности, – то явная привязанность во сне служила цели этого искажения. Другими словами, искажение в данном случае было намеренным и служило средством диссимуляции[45]. Мои мысли во сне содержали своего рода клевету на Р., а чтобы я этого не заметил, во сне проявилось нечто противоположное – чувство привязанности к нему.
Это представлялось открытием, имеющим важность для ситуации в целом. Действительно, как это видно из примеров, приведенных в главе III («Сновидение – это исполнение желания»), существуют сновидения, в которых исполнение желания ничем не прикрыто. Однако в случаях, когда исполнение желания неузнаваемо, когда оно замаскировано, должна существовать склонность выстроить защиту против этого желания, и в силу такой защиты желание оказывается не в силах выразить себя иначе, чем в искаженном виде. Попытаюсь найти этому внутреннему событию сознания параллель в социальной жизни. Где можем мы найти сходное искажение психического акта? Только там, где действуют два человека, один из которых обладает определенной властью, которую второй обязан принимать во внимание. В этом случае второй человек будет искажать свои психические действия или, как можно это назвать, прибегать к диссимуляции. Вежливость, которую я проявляю каждый день, в значительной мере и есть диссимуляция такого рода; когда же я интерпретирую мои сновидения для читателей, я обязан прибегать к подобным же искажениям» [9; 136–142].
Фрейд правильно толкует свой сон в том смысле, что превращение его коллеги Р. в его дядю – выражение уничижительности по отношению к Р., поскольку дядя был чем-то вроде преступника. Фрейд интерпретирует сновидение на основании нескольких простых ассоциаций со своими двумя коллегами, которые должны были быть назначены профессорами, но лишились этой чести потому, что один был простаком, а другой – преступником. Таким образом, отказано им в назначении было не потому, что они – евреи, и у Фрейда появилось больше надежды сделаться профессором. Фрейд говорит о сильном сопротивлении тому, чтобы трактовать сновидение, и мимоходом упоминает о том, что он искажает интерпретацию своих снов для читателей из соображений «вежливости». Фрейд явно опускает упоминание о значении своего сновидения: сила его желания стать профессором заставляет его хотеть, чтобы двое его соперников-евреев не получили назначения по причинам, не связанным с их вероисповеданием. Позднее Фрейд вернулся к этому сну, иллюстрируя им свое заключение о том, что детские желания и импульсы продолжают жить во взрослом человеке. Не признавая того, что принижение коллег было вызвано его собственным желанием стать профессором, он пишет: «Привязанность, которую я во сне чувствовал к своему коллеге Р., была следствием моего сопротивления и протеста против клеветы на моих коллег, которая содержалась в идеях сновидения, – однако продолжает: – Это сновидение было одним из моих собственных, так что я могу продолжить анализ, заявив, что мои чувства все еще не были удовлетворены тем решением, которое было достигнуто. Я знал, что мое суждение о коллегах, так приниженных во сне, наяву будет совсем иным, и сила моего желания не разделить их судьбу в отношении назначения на должность профессора показалась мне недостаточной для объяснения противоречия между оценкой их в бодрствующем состоянии и во сне. Если бы действительно я так страстно желал, чтобы ко мне обращались в соответствии с новым званием, то это говорило бы о патологической амбициозности, которой я за собой не замечал и которая, как мне кажется, мне чужда. Не могу сказать, как другие люди, полагающие, что знают меня, оценили бы меня в этом отношении. Может быть, я действительно амбициозен, но если так, то мои амбиции давно устремлены на объекты, совершенно отличные от звания и должности professor extraordinarious» [9; 191f].
Последнее утверждение звучит довольно решительно. Оно следует логике «не может быть того, чего не должно быть». Фрейд полагает, что не особенно амбициозен. Интересна формулировка решающей фразы. Фрейд говорит о «страстном желании, чтобы к нему обращались в соответствии с новым званием» и тем самым маскирует всю проблему. Как он отмечал ранее, профессор своим пациентам казался полубогом. Назначение на профессорскую должность имело огромное значение для общественного положения и по крайней мере для дохода. Невинными словами «обращались в соответствии с новым званием», как если бы это было совсем малозначимым, Фрейд продолжает отрицать свое стремление быть назначенным профессором. Более того, он утверждает, что патологическая амбициозность ему чужда; называя ее «патологической», Фрейд опять маскирует ситуацию. Что патологического в желании стать профессором, достичь цели, которая, как он признает в другом месте, очень для него важна? Напротив, такая амбиция совершенно нормальна. Он предоставляет другим судить о нем в этом отношении, но ограничивает их число теми, кто «полагает, что знает» его, а не теми, кто действительно знает; в конце концов он минимизирует проблему, говоря, что его «амбиции давно устремлены на объекты, совершенно отличные от звания и должности professor extraordinarius».
Потом, впрочем, Фрейд перефразирует свои слова, говоря об амбициозности, которая вызвала сон, и обсуждая вопрос о том, что могло быть причиной этого. Отвечая на него, он говорит о событии своего детства, когда предсказатель заявил, что в один прекрасный день он станет министром (это было во времена «бюргерского» совета министров, в котором некоторые министры были евреями; другими словами, талантливый еврейский мальчик имел такой шанс). «События того времени, – продолжает Фрейд, – несомненно, в какой-то мере повлияли на мое намерение изучать юриспруденцию, которое сохранялось у меня до самого поступления в университет; передумал я только в последний момент» [9; 192]. Эти слова служат веским доказательством стремления Фрейда к славе; мир потерял бы дары этого гения, если бы Фрейд решил стать юристом. Сон, продолжает Фрейд, на самом деле является исполнением его желания стать министром. «Плохо обойдясь со своими выдающимися учеными коллегами из-за того, что они были евреями, и отнеся одного к простакам, а другого – к преступникам, я вел себя как министр, я ставил себя на место министра. Так я мстил его превосходительству! Он отказался назначить меня professor extraordinarius, и я отплатил ему, заняв в сновидении его место» [9; 192f][46]. Фрейд, столь решительно отрицающий свою амбициозность во взрослом возрасте, утверждает, что проявившиеся в сновидении амбиции – это амбиции ребенка, а не взрослого.
Здесь мы находим одну из предпосылок мышления Фрейда. Те особенности, которые считаются несовместимыми с образом респектабельного профессионала, отнесены в детство, и предполагается, что раз они принадлежат детскому опыту, они не представляют опыт взрослого. Утверждение о том, что все невротические тенденции произрастают из детства, на самом деле служат защитой взрослому от подозрений в том, что он невротик. Фрейд действительно являлся невротиком, но для него было невозможно воспринимать себя как такового и одновременно чувствовать себя нормальным уважаемым профессионалом. Поэтому все, что не соответствовало образу нормального человека, считалось материалом детства, который не рассматривался как все еще полностью живой и присущий взрослому. Все это, конечно, изменилось за последние пятьдесят лет, поскольку невроз стал приметой респектабельности, а образец рационального, здорового, нормального взрослого-буржуа оказался вытеснен с культурной сцены. Однако для Фрейда он все еще имел большое значение, и только полностью понимая это, можно понять тенденцию Фрейда исключать все иррациональное из своей взрослой жизни. В этом кроется одна из причин того, почему его так называемый самоанализ потерпел неудачу: Фрейд обычно не видел того, чего не хотел видеть, – а именно того, что не соответствовало портрету рационального респектабельного буржуа.
Центральным элементом фрейдовского толкования сновидений является концепция цензуры. Фрейд открыл, что сны часто имеют тенденцию маскировать свое истинное значение и выражать его в формах, сходных с теми, которые использует оппозиционный политик во времена диктатуры: скрывает смысл между строк или переносит современные ему события в Древнюю Грецию. Так и для Фрейда сновидение никогда не являлось открытым сообщением, но должно было представлять собой кодированное послание, которое, чтобы сделать понятным, нужно расшифровать. Кодирование должно было происходить таким образом, чтобы даже сам человек, видящий сон, чувствовал себя спокойно, выражая во сне идеи, не соответствующие мыслительным паттернам общества, в котором он живет. Говоря это, хочу подчеркнуть, что цензура имеет социальный характер в большей мере, чем полагал Фрейд, однако в данный момент это несущественно. Значение имеет открытие Фрейдом того, что сон должен быть расшифрован. Впрочем, это утверждение в своей простой и догматической формулировке часто вело к ошибочным результатам. Не каждый сон нуждается в расшифровке, а степень кодирования разных сновидений очень различается.
Необходимо ли кодирование, и если да, то в какой степени, зависит от санкций, которые общество налагает на тех, у кого во сне возникают непозволительные мысли; это также зависит от таких индивидуальных факторов, как покорность и пугливость человека, а отсюда – от того, в какой мере он чувствует необходимость в кодировании опасных мыслей. Когда я говорю «опасных», я не имею в виду именно внешние санкции общества против того, кто опасные идеи питает. Это, несомненно, случается тоже и не обесценивается тем фактом, что в конце концов наши мысли во сне, т. е. наши сны, являются тайными и никто о них не знает. Если так важно избегать опасных мыслей и человек не должен допускать их даже во сне, то это потому, что они должны оставаться глубоко подавленными. Под опасными мыслями я понимаю такие, за которые человек был бы наказан или пострадал бы в повседневной жизни, если бы они стали известны. Такие мысли существуют, как все мы знаем, и человек хорошо понимает, о чем лучше не говорить, а потому лучше и не думать, чтобы не испытать неприятностей. Впрочем, здесь я говорю в основном о мыслях, которые являются опасными не потому, что говорят о чем-то конкретном, за что полагалось бы наказание, а потому, что они выходят за рамки признаваемого здравым смыслом. Это мысли, которые не разделяет больше никто, за исключением, может быть, небольшой группы; таким образом, они приводят к изоляции, одиночеству, отсутствию контактов. Это именно тот опыт, который содержит семя безумия, наступающего, когда человек полностью лишается каких-либо связей с окружающими.
Каким бы важным ни было открытие Фрейдом действий цензуры, оно также причиняло вред пониманию снов, если применялось догматически и по отношению к каждому сновидению.
Символический язык сновидений
Прежде чем продолжить дискуссию о том, каждое ли сновидение искажено, как полагал Фрейд, полезно провести различие между двумя разновидностями символов: универсальными и случайными. Случайный символ не имеет внутренней связи с тем, что символизирует. Предположим, у человека с определенным городом связано печальное событие; когда он слышит название этого города, он с легкостью связывает его с чувством печали, так же как связал бы с чувством радости, если бы событие было радостным. Совершенно очевидно, что в природе города как такового нет ничего ни печального, ни радостного. Именно личный опыт, связанный с городом, делает его символом определенного настроения. Такая же реакция могла бы возникнуть в связи с домом, улицей, одеждой, конкретным пейзажем или еще чем-то, что когда-то было связано со специфическим настроением. Картина во сне представляет именно это настроение, а город «замещает» настроение, когда-то там испытанное. Здесь связь между символом и символизируемым опытом совершенно случайна.
В результате нам требуются знать ассоциации того, кому снился сон, чтобы понять значение случайного символа. Если он не расскажет нам о своем опыте, связанном с приснившимся городом, или о своих отношениях с приснившимся человеком, мы едва ли сможем понять, что символ означает.
Универсальный символ, напротив, это такой, у которого имеются внутренние взаимоотношения между ним и тем, что он представляет. Возьмем, например, символ огня. Нас зачаровывают определенные качества огня в очаге, в первую очередь его живость – огонь постоянно меняется, все время движется, – и в то же время его постоянство. Огонь остается тем же, не будучи тем же. Он оставляет впечатление силы, грации и света. Кажется, что он танцует и обладает неистощимым источником энергии. Когда мы используем огонь как символ, мы описываем внутренний опыт, характеризуемый теми же элементами, которые дает сенсорное ощущение огня: энергией, светом, движением, грацией, радостью; иногда в этом чувстве преобладает один элемент, иногда – другой. Однако огонь может также быть разрушительным и устрашающе могучим; если нам снится горящий дом, огонь символизирует разрушение, а не красоту.
В чем-то сходным, а в чем-то отличным является символ воды – океана или потока. Здесь тоже мы обнаруживаем сплав непрерывного движения и постоянства. Мы также чувствуем живость, продолжительность и энергию. Однако имеется и различие: где огонь безрассудно смел, быстр, волнующ, там вода спокойна, медлительна и неизменна – если речь идет об озере или реке. Океан, впрочем, может быть столь же разрушителен и непредсказуем, как и огонь.
Универсальный символ единственный, в котором связь между символом и тем, что он символизирует, является не случайной, а внутренней. Она коренится в испытываемой человеком близости между эмоцией или мыслью, с одной стороны, и чувственным опытом – с другой. Такой символ может быть назван универсальным, потому что его разделяют все люди, в противоположность не только случайному символу, который по самой своей природе носит полностью личностный характер, но и условному (например, сигналу, регулирующему дорожное движение), имеющему ограниченное значение только для группы людей, живущих в сходных условиях. Универсальный символ проистекает из свойств наших тел, чувств и умов, которые являются общими для всех людей, и поэтому имеет значение не только для отдельных индивидов или групп. Действительно, язык универсальных символов – единственный общий язык, созданный человечеством.
Для Фрейда почти все символы были случайными, за одним исключением – сексуальных; башня или палка рассматривались как символ мужской сексуальности, дом или океан – женской. В отличие от Юнга, который считал, что все сны записаны простым и не закодированным языком, Фрейд придерживался прямо противоположных взглядов: почти ни один сон нельзя понять без расшифровки.
На основании опыта расшифровки сновидений многих людей, включая меня самого, я могу заключить, что Фрейд из-за догматических обобщений ограничил важность собственного открытия цензуры, действующей во сне. Есть много сновидений, в которых цензура проявляется только в поэтическом или символическом языке, на котором выражается содержание, однако это может быть названо «цензурой» только для людей, у которых поэтическое воображение развито слабо. Для тех, кто наделен естественным чувством поэзии, символическая природа языка сновидения едва ли может быть объяснена цензурой.
Ниже я процитирую сновидение (см. [32], гл. 6), которое может быть понято даже без всяких ассоциаций и где отсутствуют элементы цензуры. С другой стороны, можно видеть, что ассоциации, предложенные человеком, видевшим сон, обогащают понимание сновидения.
«Юрист двадцати восьми лет просыпается и вспоминает следующее сновидение, которое позднее пересказывает аналитику.
– Я видел себя едущим на белом коне перед многочисленными солдатами. Они громко приветствовали меня.
Первый вопрос, который аналитик задает пациенту, носит довольно общий характер:
– Что приходит вам на ум?
– Ничего, – отвечает пациент. – Сон глупый. Вы ведь знаете, что я не люблю всего, что относится к войнам и армии, что я наверняка не хотел бы быть полководцем, – и добавляет: – Я также не хотел бы оказаться в центре внимания, чтобы на меня глазели, будут меня при этом приветствовать тысячи солдат или нет. Вы знаете из того, что я говорил вам раньше о своих профессиональных проблемах, как трудно мне даже выступать в суде, когда все на меня смотрят.
– Да, – отвечает аналитик, – но это не отменяет того факта, что таков был ваш сон: вы сами написали его сценарий и отвели себе в нем роль. Несмотря на все очевидные несоответствия, сон должен иметь какое-то значение и смысл. Давайте начнем с ваших ассоциаций с содержанием сновидения. Сосредоточьтесь на картине, которую вы видели во сне, – на самом себе на белом коне, на приветствующих вас войсках, – и скажите мне, что приходит вам в голову, когда вы смотрите на эту картину.
– Странно, я сейчас вижу картину, которая мне очень нравилась, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать. На ней был изображен Наполеон, действительно едущий на белом коне перед войсками. Это очень похоже на увиденное мной во сне, за исключением того, что на той картине солдаты ничего не кричали.
– Это очень интересное воспоминание. Расскажите мне больше о своем интересе к картине и к Наполеону.
– Я многое могу об этом рассказать, только это меня смущает. Да, когда мне было четырнадцать-пятнадцать лет, я был довольно застенчив. Спорт мне не давался, и я побаивался крутых парней. О да, теперь я вспоминаю происшествие из тех времен, о котором я совершенно забыл. Один из тех крутых парней мне очень нравился, и я хотел с ним подружиться. Мы почти не разговаривали друг с другом, но я надеялся, что я тоже ему понравлюсь, если мы узнаем друг друга получше. Однажды я набрался смелости, подошел к нему и спросил, не хочет ли он пойти ко мне – у меня был микроскоп, и я мог показать ему много интересного. Он мгновение смотрел на меня, потом начал хохотать. «Ах ты девчонка, пригласи лучше приятелей своей маленькой сестрички!» Я отвернулся, глотая слезы. В то время я увлеченно читал про Наполеона, собирал его изображения и мечтал стать похожим на него – знаменитым полководцем, которым восхищается весь мир. Разве он тоже не был маленького роста? Разве он в юности тоже не был застенчивым, как я? Почему бы мне не стать похожим на него? Я много часов провел в мечтаниях – всегда только об успехе, почти никогда не задумываясь о конкретных способах достижения цели. Я был Наполеоном, вызывающим восхищение и зависть, и все же великодушным и готовым простить обидчиков. Когда я поступил в колледж, я вырос из этого поклонения герою и из наполеоновских мечтаний; я уже много лет не вспоминал о том периоде и наверняка ни с кем об этом не говорил. Меня довольно-таки смущает даже то, что я сейчас вам все рассказываю.
– Вы о том забыли, но другой вы, тот, который определяет многие ваши действия и чувства, хорошо скрытый от вас во время бодрствования, все еще хочет славы, обожания, власти. Тот вы-другой прошлой ночью высказался во сне, но давайте посмотрим, почему именно прошлой ночью. Расскажите мне, что вчера случилось важного для вас.
– Совсем ничего, день был как любой другой. Я отправился в офис, работал – готовил материалы для выступления в суде, вернулся домой, пообедал, сходил в кино и лег спать. Вот и все.
– Не похоже, чтобы это объясняло, почему ночью вы ездили на белом коне. Расскажите подробнее о том, что происходило у вас в офисе.
– Ох, я только что вспомнил… но это не может иметь никакого отношения к сновидению… ну, я все равно расскажу. Когда я пошел к боссу – старшему партнеру нашей фирмы, для него я и готовил материалы, – он обнаружил сделанную мной ошибку. Недовольно посмотрев на меня, он заметил: «Я очень удивлен, я думал, что вы справитесь лучше». Я на мгновение растерялся, и у меня промелькнула мысль о том, что он не возьмет меня в партнеры, как я надеялся. Но я сказал себе, что это ерунда, что каждый может ошибиться, что босс просто раздражителен и что этот случай не отразится на моем будущем. Я тут же забыл об этом эпизоде.
– В каком вы тогда были настроении? Вы нервничали или испытывали депрессию?
– Нет, ничуть. Напротив, я просто почувствовал усталость и сонливость. Я с трудом продолжал работать и порадовался, когда пришло время уйти из офиса.
– Значит, последняя важная вещь в тот день была – ваш поход в кино. Расскажите, что за фильм вы видели.
– Да. Фильм называется «Хуарес», и он мне очень понравился. Я даже всплакнул немножко.
– В каком месте?
– Сначала при описании бедности и страданий Хуареса, а потом, когда он победил. Даже и не припомню фильма, который бы так меня тронул.
– Потом вы отправились в постель, уснули, увидели себя на белом коне и услышали приветствия войск. Теперь мы немного лучше понимаем, почему вам это приснилось, не так ли? В юности вы были застенчивым, неуклюжим, отвергаемым другими. Нам известно из предшествующей работы, что все это в значительной мере было связано с вашим отцом, который так гордился своим успехом, но был неспособен стать близким вам и почувствовать – уж не говоря о том, чтобы проявить, – привязанность, не стремился вас подбодрить. Тот случай, о котором вы упомянули, – когда крутой парень не захотел с вами дружить, – был только последней каплей. Ваше самоуважение и так уже сильно пострадало, и случившееся добавило еще один элемент к вашему убеждению, что вы никогда не сравняетесь с отцом, никогда ничего не добьетесь, что вы всегда будете отвергаемы теми, кем восхищаетесь. Что вы могли поделать? Вы нашли убежище в фантазиях, в которых совершали те самые вещи, которые, как вы считали, были вам недоступны в реальной жизни. Там, в мире фантазии, куда никто не мог проникнуть и где никто не мог вам возразить, вы были Наполеоном, великим героем, которым восхищались миллионы, и – это, может быть, самое главное, – которым восхищались вы сами. До тех пор, пока вы могли сохранить эти фантазии, вы были защищены от острой боли, которую причиняло вам чувство собственной неполноценности, когда вы соприкасались с реальностью. Потом вы поступили в колледж, стали меньше зависеть от отца, почувствовали определенное удовлетворение от занятий, обнаружили, что можете начать все сначала и достичь успеха. Более того, вы стали стыдиться своих «детских» мечтаний, так что вы убрали их подальше; вы почувствовали, что находитесь на пути к тому, чтобы стать настоящим человеком… Однако, как видим, эта новая уверенность в себе оказалась несколько обманчивой. Вы ужасно боялись экзаменов, вы чувствовали, что ни одна девушка не заинтересуется вами, если рядом окажется хоть какой-нибудь другой молодой человек, вы всегда боялись недовольства своего босса. Это возвращает нас к дню накануне того, как вы увидели сон. То, чего вы так старались избежать – критики со стороны босса, – случилось; вы снова начали испытывать прежнее чувство неадекватности, но вы его прогнали; вместо того чтобы встревожиться и опечалиться, вы почувствовали усталость. Потом вы посмотрели фильм, который напомнил вам о ваших мечтаниях, о герое, который сделался обожаемым спасителем нации, хотя в юности был презираемым и бессильным. Вы представили себя, как это случалось, когда вы были подростком, героем, который вызывает восторг, которого приветствуют. Разве вы не видите, что на самом деле вы не отказались от прежнего убежища в мечтах о славе, что вы не сожгли мосты, ведущие обратно в страну фантазий, но продолжаете возвращаться туда, как только реальность разочаровывает или пугает вас? Разве вы не видите, что это обстоятельство помогает возникновению той самой опасности, которой вы боитесь, – вести себя по-детски, не быть воспринимаемым всерьез взрослыми людьми – и самим собой?»
Связь функции сна с работой сновидения
Фрейд считал, что все сновидения являются по сути исполнением желаний и благодаря этому призрачному исполнению осуществляют функцию сохранения сна. После пятидесяти лет толкования сновидений я должен признаться в том, что нахожу этот фрейдовский принцип лишь отчасти верным. Несомненно, Фрейд совершил выдающееся открытие, когда понял, что сны очень часто представляют собой символическое исполнение желаний. Однако он нанес ущерб значимости своего открытия из-за догматического представления о том, что это обязательно верно для всех сновидений. Сновидения могут представлять исполнение желаний, могут выражать просто тревогу, но могут также – и это очень важный момент – обеспечивать глубокое проникновение в собственную личность и в личности других людей. Чтобы оценить эту функцию сновидений, полезно рассмотреть некоторые соображения, касающиеся различий между биологическими и психологическими функциями сна и бодрствования (см. также [32], гл. 3).
В бодрствующем состоянии мысли и чувства в первую очередь откликаются на необходимость овладевать окружающей средой, изменять ее, защищать себя от нее. Задача бодрствующего человека – выживание, он подчиняется законам, управляющим реальностью. Это означает, что он должен мыслить в терминах времени и пространства.
Во сне же мы не связаны с необходимостью менять в своих целях окружающий мир. Во сне мы беспомощны, и недаром сон называют братом смерти. Однако при этом мы и свободны, более свободны, чем наяву. Мы избавлены от бремени труда, от задач обороны и нападения, от пристального наблюдения за реальностью и управления ею. Нам не требуется оглядываться на внешний мир, мы сосредоточены на мире внутреннем, заняты исключительно собой. Спящий человек может быть уподоблен зародышу в чреве или трупу, ангелу, на которого не распространяются законы реальности. Во сне царство необходимости уступает место царству свободы, и в этом царстве «Я» – единственное, к чему обращены наши мысли и чувства.
Психическая активность во сне обладает логикой, отличной от той, которая управляет нашим бодрствованием. Как было отмечено выше, события сновидения не обязаны обращать внимание на обстоятельства, которые имеют значение только тогда, когда мы сталкиваемся с реальностью. Если я полагаю, например, что какой-то человек – трус, во сне он может представиться мне цыпленком. Эта перемена осмысленна в терминах того, что я думаю о человеке, а не в терминах ориентации на внешний мир.
Жизнь во сне и жизнь наяву – два полюса человеческого существования. Бодрствование посвящено действиям, в сновидении мы от этого освобождены. Сон выполняет функцию самовыражения. Когда мы просыпаемся, мы переходим в царство действия, ориентируемся на его правила, и наша память ведет себя соответственно. Мир сна исчезает. События, происходившие в сновидении, само сновидение вспоминаются с величайшим трудом[47]. Эта ситуация символически отражена во многих народных сказках: ночью на сцену выходят призраки и духи, добрые и злые, но с рассветом они исчезают, и от напряженных переживаний человека ничего не остается.
Сознание представляет собой психическую деятельность, когда мы заняты внешней реальностью – действием. Свойства сознания определяются природой действия и функцией выживания в бодрствующем состоянии. Бессознательное – это психическая деятельность, когда мы существуем в отрыве от каких-либо связей с внешним миром и не заняты иными действиями, кроме самовосприятия. Бессознательное заключает в себе переживания, связанные с особым образом жизни: бездеятельностью, и характеристики бессознательного вытекают из природы этого образа существования.
В данном случае «бессознательное» является таковым только по отношению к «нормальному» состоянию активности. Когда мы говорим о «бессознательном», мы на самом деле говорим только о том, что это переживание чуждо состоянию ума, которое существует, когда мы действуем; тогда оно ощущается как призрачный, назойливый элемент, который трудно ухватить и трудно запомнить. Однако дневной мир столь же «бессознателен» для нас во сне, как и ночной – для бодрствующего сознания. Термин «бессознательное» обычно употребляется исключительно с точки зрения дневного восприятия; таким образом упускается из рассмотрения тот факт, что и сознание, и бессознательное – лишь различные состояния ума, относящиеся к различным состояниям существования.
Следует отметить, что в бодрствующем состоянии мысли и чувства также не полностью подчинены ограничениям пространства и времени; творческое воображение позволяет думать о событиях прошлого и будущего так, словно они происходят в настоящем, и об удаленных предметах, как если бы они были у нас перед глазами; наши чувства наяву не зависят от физического присутствия объекта и от сосуществования с ним в один и тот же момент времени. Таким образом, отсутствие пространственно-временной системы характерно не для восприятия во сне в противовес бодрствующему, а для мышления и чувствования в противовес действию. Это существенное обстоятельство позволяет мне прояснить важный момент в моей позиции.
Следует различать содержание мыслительного процесса и категории, используемые мышлением. Я могу, например, думать о своем отце и утверждать, что его отношение к определенной ситуации такое же, как и мое. Это – рациональное утверждение. С другой стороны, если я скажу «Я – мой отец», то такое утверждение иррационально, поскольку не соответствует состоянию дел в физическом мире. Впрочем, фраза вполне рациональна в плане чистого восприятия: она выражает ощущение моей идентичности с отцом. Рациональные мыслительные процессы в бодрствующем состоянии подчиняются категориям, коренящимся в особой форме существования – той, в которой мы связываем себя с реальностью в терминах действия. В моем существовании во сне, характеризующемся отсутствием даже потенциального действия, используются категории, имеющие отношение только к моему самоощущению. То же самое касается чувств. Что бы я ни чувствовал наяву по отношению к человеку, которого не видел двадцать лет, я осознаю, что он или она отсутствует. Если же этот человек мне снится, мои чувства к нему таковы, как если бы он или она присутствовали. Но сказать «как если бы он присутствовал» означает выразить чувство в концепциях «жизни во время бодрствования». В существовании внутри сновидения нет «как если бы»; человек просто присутствует.
На предшествующих страницах была предпринята попытка описать условия сна и сделать из этого описания определенные выводы, касающиеся качества активности в сновидении. Исчерпывает ли понимание сна как исполнения желаний или как проявления чувств, достаточно сильных, чтобы найти выражение даже во сне, все возможные объяснения того, почему мы видим сны?
Я предположил бы, что имеется еще одно объяснение, которым обычно пренебрегают. Оно относится к тому факту, что человек испытывает глубокую потребность объяснить себе, почему он что-то делает или чувствует. Это наблюдаемый и общепризнанный факт, обычно называемый рационализацией. Если, например, нам кто-то не нравится и мы недовольны тем, что испытываем такое чувство, мы стремимся заставить свою антипатию выглядеть как резонное следствие определенных фактов; тем самым мы наделяем человека, который не нравится, качествами – реальными или чаще вымышленными, – которые позволяют нашему отношению выглядеть обоснованным. То же самое, конечно, верно в случае любви или обожания; в наиболее очевидной форме это проявляется в массовом энтузиазме по отношению к некоторым лидерам или в неприязни к определенным классам или расам.
Явлениями того же типа являются постгипнотические феномены. Предположим, что во время гипнотического транса человек получает задание через пять часов, скажем, в четыре часа дня, снять пальто, забыв, что получил такой приказ. Что происходит в четыре часа пополудни? Хотя погода может быть холодной, человек пальто снимет, но при этом скажет что-то вроде: «Сегодня удивительно тепло, совсем не по сезону». Он чувствует необходимость объяснить себе, почему он так поступает, и испугается, если будет не в состоянии объяснить свой поступок.
Приложение этого принципа к сновидению может привести к следующей гипотезе: во сне мы испытываем те же чувства, что и наяву, но для нас во сне так же, как наяву, невыносимы чувства, которые нельзя объяснить. Поэтому мы придумываем историю, объясняющую, почему мы испытываем страх, радость, ненависть и т. д. Другими словами, сновидение имеет функцию рационализации чувств, которые мы питаем во сне. Если бы это было так, это показывало бы, что даже во сне проявляется та же тенденция заставлять эмоции казаться оправданными, как и в состоянии бодрствования. Сновидения, таким образом, могут рассматриваться как результат внутренней тенденции подгонять чувства под требования резонности.
Теперь мы должны изучить одну специфическую особенность сна, которая, как будет показано, имеет огромное значение для понимания процессов сновидения. Уже говорилось о том, что во сне мы не озабочены управлением внешним миром. Мы его не замечаем и на него не воздействуем; не подвержены и мы его воздействию. Отсюда следует, что этот эффект отстранения от реальности зависит от качеств самой реальности. Если влияние внешнего мира в целом благотворно, то отсутствие такого влияния во сне приведет к снижению ценности работы сновидения, так что она окажется второстепенной по сравнению с психической деятельностью наяву, когда мы подвержены благотворному влиянию внешнего мира.
Однако правы ли мы, предполагая, что влияние реальности в целом благотворно? Не может ли быть, что оно также и вредоносно и что, таким образом, отсутствие влияния выдвигает на передний план качества, более высокие по сравнению с теми, которыми мы обладаем наяву?
Говоря о внешнем мире, мы не имеем в виду исключительно мир природы. Природа как таковая не хороша и не плоха. Она может быть нам полезна или опасна, и отсутствие восприятия реальности освобождает нас от задачи пытаться освоить окружающий мир или защититься от него, но это не делает нас глупее или умнее, лучше или хуже. В отношении созданного человеком мира вокруг нас, культуры, в которой мы живем, все обстоит совершенно иначе. Их влияние на нас неоднозначно, хотя мы склонны считать, что оно идет нам исключительно на пользу.
Действительно, свидетельства того, что культурные влияния благотворны, представляются почти неоспоримыми. От мира животных нас отличает именно способность создавать культуру.
Не является ли созданная человеком реальность вне нас самым важным фактором развития наших лучших качеств, и не следует ли ожидать, что, лишившись контакта с внешним миром, мы временно опускаемся до примитивного, животного, неразумного состояния? В пользу такого заключения можно сказать многое, и мнение о том, что подобная деградация является основным отличием состояния сна и тем самым работы сновидения, разделялось многими исследователями от Платона до Фрейда. С этой точки зрения сновидения можно рассматривать как выражения иррациональных, примитивных побуждений, и тот факт, что сны так легко забываются, убедительно объясняется тем, что мы стыдимся этих неразумных, преступных импульсов, возникающих, когда нас не контролирует общество. Несомненно, такое толкование сновидений в определенной степени верно, но остается вопрос: полностью ли оно верно и не ответственны ли негативные элементы влияния общества за тот парадокс, что мы во сне не только менее разумны и менее добропорядочны, но также более сообразительны, мудры и проницательны, чем когда бодрствуем.
Наши сны не только выражают иррациональные желания, но и даруют глубокие прозрения, и важная задача толкования сновидений заключается в том, чтобы определить: когда имеет место первое, а когда – второе.
4. Фрейдовская теория инстинктов и ее критика
Развитие теории инстинктов
Последним из великих открытий Фрейда является его теория инстинктов жизни и смерти[48]. В 1920 году, при работе над книгой «По ту сторону принципа удовольствия», Фрейд приступил к фундаментальному пересмотру всей своей теории инстинктов. Он отнес характеристики инстинкта к «принудительным повторениям» и в первый раз сформулировал новую дихотомию «Эрос – инстинкт смерти», природу которой подробно обсудил в работе «Я и Оно» (1923) и в последующих сочинениях. Эта новая дихотомия «инстинкт жизни (Эрос) – инстинкт смерти» заняла место исходной дихотомии «Эго – сексуальные инстинкты». Хотя теперь Фрейд попытался отождествить Эрос с либидо, новая полярность представляла собой совершенно иную концепцию побуждений.
Работая над книгой «По ту сторону принципа удовольствия», Фрейд еще совершенно не был убежден в том, что его новая гипотеза валидна. «Можно спросить, – писал он, – насколько уверен я сам в справедливости изложенных на этих страницах гипотез. Мой ответ мог бы быть следующим: сам я не уверен и не стремлюсь принудить других в них верить. Точнее, я не знаю, насколько я убежден в них» [18; 58f]. Учитывая, что Фрейд пытался разработать новую теоретическую доктрину, угрожающую валидности многих более ранних концепций и потребовавшую огромных интеллектуальных усилий, его искренность, столь блестяще проявляющаяся во всех его работах, особенно впечатляет. Последующие восемнадцать лет он посвятил разработке новой теории и все больше испытывал убежденность в ее верности, которой ему сначала не хватало. К такому результату привело не добавление совершенно новых элементов, а скорее интеллектуальная «проработка»; это, должно быть, еще более усилило его разочарование тем, что лишь немногие его последователи поняли и разделили его взгляды. Новая теория нашла полное изложение в работе «Эго и Ид».
Чрезвычайной важностью обладает следующее предположение: «С каждым из двух классов инстинктов следовало бы связать особый физиологический процесс (анаболизма или катаболизма): обе разновидности инстинктов должны были бы быть активны в каждой частице живой материи, хотя не в равных пропорциях, так что какая-то одна субстанция была бы главной представительницей Эроса. Эта гипотеза совершенно не проливает свет на то, каким образом два класса инстинктов соединяются, смешиваются, сплавляются друг с другом, однако то, что это происходит регулярно и весьма широко, – допущение, необходимое для нашей концепции. Как результат объединения одноклеточных форм жизни в многоклеточные, инстинкт смерти у единственной клетки может успешно нейтрализоваться и деструктивные импульсы могут быть направлены во внешний мир при помощи особого органа. Этот особый орган представлялся бы мускульным аппаратом, и таким образом инстинкт смерти выразился бы – хотя, возможно, лишь частично – в инстинкте разрушения, обращенного на внешний мир и другие организмы» [20; 41. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Этими формулировками Фрейд более эксплицитно выразил новое направление своей мысли, чем в книге «По ту сторону принципа удовольствия». Вместо механистического физиологического подхода, содержащегося в прежней теории, которая строилась на модели химически вызываемого напряжения и необходимости ослабить это напряжение до нормального уровня (принцип удовольствия), новая теория имеет биологический характер; предполагается, что каждая клетка организма наделена двумя базовыми свойствами живой материи: Эросом и стремлением к смерти. Впрочем, принцип ослабления напряжения сохранен в более радикальной форме: редукции возбуждения до нуля (принцип нирваны).
Годом позже, в «Экономической проблеме мазохизма» (1924) Фрейд сделал еще один шаг: проясняя отношения между двумя инстинктами, он писал: «Задача либидо – сделать инстинкт разрушения безвредным, и эту задачу оно выполняет, в значительной мере обращая его – при помощи особой органической системы, мускульного аппарата – наружу, на объекты внешнего мира. Тогда этот инстинкт получает название инстинкта владычества или жажды власти[49]. Часть инстинкта напрямую служит сексуальной функции, где играет важную роль: это и есть садизм. Другая часть не участвует в этой обращенности наружу: она остается внутри организма и, при помощи сопутствующего сексуального возбуждения, описанного выше, делается либидозно связанной. Именно в этой части мы узнаем исходный, эротогенный мазохизм» [21; 163].
В «Новых вводных лекциях» (1933) Фрейд придерживался той же позиции. Он говорил об «эротических влечениях, которые стремятся объединить все больше живой материи во все бо́льшие Единства, и об инстинкте смерти, который противится такой попытке и переводит живое обратно в неорганическое состояние» [26; 107].
В тех же лекциях Фрейд писал об исходном инстинкте разрушения: «Мы может воспринять его лишь при двух условиях: если он объединяется с эротическими влечениями в мазохизм или если – с гораздо меньшим эротическим добавлением – он направлен против внешнего мира как агрессивность. Следует отметить важность возможности того, что агрессивность может оказаться не в силах найти удовлетворение во внешнем мире, столкнувшись с реальными препятствиями. Если так случится, она, возможно, отступит и увеличит само-деструктивность, господствующую внутри. Мы рассмотрим, как это на самом деле происходит и насколько важен этот процесс. Задержанная агрессивность наносит тяжелое увечье. Действительно, представляется, что нам необходимо уничтожить какой-то предмет или человека, чтобы не уничтожить себя, чтобы защититься от импульса самоуничтожения. Печальное открытие для моралиста! [26; 105. – Курсив мой. – Э.Ф.].
В двух своих последних статьях, написанных за год или два до смерти, Фрейд не внес существенных изменений в те концепции, которые развивал в предыдущие годы. В работе «Конечный и бесконечный анализ» он еще более подчеркивал силу инстинкта смерти. Как писал Джеймс Стрэчи в редакторских примечаниях, «самый мощный препятствующий фактор из всех, полностью находящийся вне нашего контроля, – это инстинкт смерти» [28; 212. – Курсив мой. – Э.Ф.]. В «Очерке истории психоанализа», написанном в 1938, а опубликованном в 1940 году, Фрейд подтвердил систему прежних предположений без каких-либо важных изменений.
Анализ предположений, касающихся инстинктов
Дальнейшее краткое изложение новых теорий Фрейда – теорий Эроса и инстинкта смерти – не может в достаточной мере показать, насколько разительным было их отличие от старой теории; Фрейд не замечал радикальной природы этого изменения и многочисленных теоретических несоответствий и имманентных противоречий. На следующих страницах я постараюсь показать важность изменений и проанализировать конфликт между старой и новой теориями.
После Первой мировой войны у Фрейда появились две новых идеи. Первая касалась власти и интенсивности агрессивно-деструктивных влечений человека, не зависящих от сексуальности. Говорить о том, что это новая идея, не совсем верно. Как я уже отмечал, Фрейд все же осознавал существование агрессивных импульсов, не связанных с сексуальностью. Однако такое понимание выражалось лишь спорадически, и оно никогда не меняло главной гипотезы о полярности между сексуальными влечениями и Эго, хотя эта теория и была впоследствии модифицирована благодаря введению концепции нарциссизма. В теории инстинкта смерти понимание человеческой деструктивности раскрывается в полной мере, деструктивность рассматривается как один из полюсов бытия, противостоящий другому полюсу, Эросу, что и выражает самую суть жизни. Деструктивность становится первичным феноменом жизни.
Вторая идея, отличающая новую теорию Фрейда, не только не имеет предшественников в прежней; она полностью ей противоречит. Она заключается в том, что Эрос, присутствующий в каждой клетке живой материи, имеет своей целью унификацию и объединение всех клеток; более того, он служит цивилизации – объединению групп в единое человечество [25]. Фрейд открывает несексуальную любовь. Инстинкт жизни он называет также инстинктом любви; любовь ассоциируется с жизнью и ростом; сражаясь с инстинктом смерти, она определяет человеческое существование. В прежней теории Фрейда человек рассматривался как изолированная система, управляемая двумя побуждениями: стремлением выжить (Эго-инстинктом) и стремлением получить удовольствие путем преодоления напряжения, порожденного химическими процессами в теле и локализованного в эрогенных зонах, одной из которых являются гениталии. Согласно такому взгляду человек изначально изолирован, но вступает в контакт с представителями противоположного пола, чтобы удовлетворить свое стремление к удовольствию. Отношения между полами рассматривались как те, что существуют между людьми на рынке: каждый озабочен только удовлетворением собственных потребностей, но именно ради этого удовлетворения должен вступать в отношения с другими: они предлагают то, что нужно ему, и нуждаются в том, что предлагает он.
В теории Эроса все обстоит совсем иначе. Человек более не воспринимается как изначально изолированный и эгоистичный, как l’homme machine (человек-машина); он в первую очередь связан с другими, движим жизненными инстинктами, заставляющими его нуждаться в союзе с другими. Жизнь, любовь и рост едины, укоренены глубже и более фундаментальны, чем сексуальность и удовольствие.
Изменение воззрений Фрейда ясно видно в его новой оценке евангельской заповеди: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В работе «Неизбежна ли война?» он писал: «Все, что способствует росту эмоциональных связей между людьми, действует против войны. Такие связи могут быть двух видов. Во-первых, они могут напоминать отношение к любимому человеку, хотя и не иметь сексуальной цели. Психоанализу нет нужды стыдиться, говоря о любви в этой связи, поскольку сама религия пользуется теми же словами: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это, впрочем, легче сказать, чем сделать. Второй вид эмоциональных связей возникает путем идентификации. Важные общие интересы ведут к общности чувств, к идентификации. На этом в значительной мере и базируется структура человеческого общества» [27; 212. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Эти строки написаны тем же человеком, который всего тремя годами ранее закончил свой комментарий к этой же евангельской заповеди вопросом: «Какой смысл в предписании, изложенном с такой торжественностью, если его осуществление нельзя рекомендовать как разумное?» [25; 110. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Произошло радикальное изменение точки зрения. Фрейд, противник религии, которую он называл иллюзией, не позволяющей человеку достичь зрелости и независимости, теперь цитировал одну из самых основополагающих заповедей, какие только можно найти во всех великих гуманистических религиях, в поддержку своего психологического предположения. Он подчеркивал: «Психоанализу нет нужды стыдиться, говоря о любви в этой связи» (для сравнения: [27; 212] и [14]); действительно, Фрейд нуждался в таком утверждении, чтобы преодолеть смущение, которое он должен был испытывать из-за такого резкого поворота в том, что касалось концепции братской любви.
Осознавал ли Фрейд, какой резкий поворот произошел в его подходе? Видел ли полное и неустранимое противоречие между старой и новой теориями? Совершенно очевидно, что нет. В работе «Эго и Ид» [20] он идентифицировал Эрос (инстинкт жизни, или инстинкт любви) с сексуальными влечениями (в сочетании с инстинктом самосохранения): «В соответствии с этими взглядами мы должны проводить различие между двумя классами инстинктов, один из которых, сексуальный инстинкт, или Эрос, гораздо более заметен и доступен для изучения. Он охватывает не только несдерживаемое сексуальное побуждение как таковое и вытекающие из него инстинктивные импульсы бесцельной или сублимированной природы, но также и инстинкт самосохранения, который должен быть отнесен к Эго и который в начале нашей аналитической работы мы на основании веских причин противопоставляли сексуальным побуждениям, направленным на объект» [20; 40. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Именно потому, что Фрейд не осознавал этого противоречия, он пытался примирить старую и новую теории таким образом, чтобы они сохраняли последовательность – без резкого разрыва. Это вело ко многим имманентным противоречиям и нестыковкам в новой теории, которые Фрейд снова и снова пытался сглаживать или отрицать, однако безуспешно. Ниже я постараюсь описать превратности новой теории, вызванные неспособностью Фрейда понять, что новое вино – и в данном случае, по-моему, лучшее – нельзя налить в старые мехи. Прежде чем мы займемся этим анализом, нужно указать на еще одно изменение, которое – также не замеченное Фрейдом – еще более осложнило дело. Свою старую теорию Фрейд строил в соответствии с научной моделью, которую легко узнать: это была механико-материалистическая модель, служившая идеалом его учителю фон Брюкке и всем сторонникам механико-материалистических взглядов, включая Гельмгольца и Бюхнера[50]. Они рассматривали человека как механизм, который приводится в движение химическими процессами; чувства, аффекты и эмоции объяснялись как вызванные специфическими и выявляемыми физиологическими процессами. Большинство открытий последних десятилетий в области эндокринологии и нейрофизиологии были неизвестны этим ученым, однако они настаивали на правильности своего подхода с решимостью и изобретательностью. Потребности и интересы, для которых нельзя было найти соматических источников, игнорировались, а понимание тех процессов, которые нельзя было игнорировать, следовало механистическим принципам. Физиологическая модель фон Брюкке и фрейдовская модель человека сегодня могли бы быть повторены в соответствующим образом запрограммированном компьютере. В «нем» развивается определенная степень напряжения, которое, достигнув некоего порога, должно быть облегчено и снижено, в то время как реализация этого сдерживается другой частью программы, Эго, которая наблюдает за действительностью и препятствует облегчению, когда оно вступает в противоречие с потребностями выживания. Такой фрейдистский робот был бы схож с научно-фантастическим роботом Айзека Азимова, однако программирование было бы иным. Первым законом роботехники оказалось бы не непричинение вреда человеку, а избегание ущерба себе или саморазрушения.
Новая теория Фрейда не следовала этой механистической «физиологизированной» модели. Ее центром становилась биологическая ориентация, согласно которой фундаментальные силы жизни (и ее противоположности – смерти) оказывались первичными силами, мотивирующими человека. Природа клетки – т. е. всей живой материи, – а не физиологический процесс, протекающий в определенных органах тела, становилась теоретической основой учения о мотивации. Новая теория Фрейда была, пожалуй, ближе к виталистской философии (см. [42]), чем к механико-материалистическим концепциям немецких ученых. Однако, как я уже говорил, Фрейд этого отчетливо не осознавал и поэтому снова и снова пытался приложить свой метод физиологизирования к новой теории; эта попытка найти квадратуру круга неизбежно кончалась неудачей. Впрочем, в одном важном вопросе обе теории исходили из общей предпосылки, остававшейся для Фрейда неизменной аксиомой: психикой правит закон стремления к снижению напряжения (или возбуждения) до постоянного низкого уровня (принцип константности, на котором основывается принцип удовольствия) или до нуля (принцип нирваны, на котором основывается инстинкт смерти).
Теперь мы должны вернуться к более подробному анализу двух новых идей Фрейда – инстинкта смерти и инстинкта жизни как первичных сил, определяющих человеческое существование[51].
Что заставило Фрейда постулировать инстинкт смерти?
Одним из факторов, о которых я уже упоминал, был, возможно, шок от Первой мировой войны. Фрейд, как многие в его время, разделял оптимистические взгляды, типичные для европейского среднего класса, и внезапно оказался перед лицом таких ярости и разрушений, которые едва ли можно было представить до 1 августа 1914 года.
Можно предположить, что к этому историческому фактору добавился личный. Как известно из биографии Фрейда, написанной Эрнестом Джонсом, Фрейд был одержим мыслями о смерти. С тех пор как ему исполнилось сорок, он каждый день думал о конце жизни, у него были приступы Todesangst (страха смерти); иногда при прощании он добавлял: «Вы можете никогда больше меня не увидеть» [41; 301]. Можно также предположить, что подкреплением страха смерти послужила тяжелая болезнь, что и привело к формулированию положения об инстинкте смерти. Такое рассуждение, впрочем, является упрощением, поскольку первые признаки болезни появились лишь в феврале 1923 года, через несколько лет после разработки концепции инстинкта смерти. Однако, может быть, допустимо предположение, что прежняя поглощенность мыслями о смерти усилилась вследствие болезни, что и привело к представлению о том, что конфликт между жизнью и смертью (а не между двумя жизнеутверждающими побуждениями – сексуальными желаниями и Эго) и является центром переживаний человека. Заключение о том, что человек должен умереть, потому что смерть – скрытая цель его жизни, может рассматриваться как своего рода утешение, предназначенное для того, чтобы смягчить страх смерти.
Помимо исторических и личных факторов, образующих одну группу мотивов, приведших к возникновению концепции инстинкта смерти, есть и другая группа, способствовавшая разработке Фрейдом этой теории. Фрейд всегда мыслил дуалистически. Он видел противоположные силы, борющиеся друг с другом, и рассматривал процессы жизни как исход этой борьбы. Первоначально эту дуалистическую теорию выражали противостояние секса и стремления к самосохранению. Однако при появлении концепции нарциссизма, который относил инстинкт самосохранения к либидо, прежний дуализм оказался под угрозой. Разве концепция нарциссизма не утверждала монистическую идею, согласно которой все инстинкты имели либидозную природу? Хуже того, разве это не оправдывало одну из главных ересей Юнга – концепцию, согласно которой либидо воплощает в себе всю психическую энергию? Действительно, Фрейд должен был избавиться от этой невыносимой дилеммы – невыносимой потому, что ее принятие означало бы согласие с юнговской концепцией либидо. Фрейду нужно было найти новый инстинкт как основу для нового дуалистического подхода. Инстинкт смерти удовлетворял этому требованию. На замену старому дуализму был найден новый, и на человеческую жизнь снова можно было смотреть как на поле битвы противоположных устремлений – Эроса и инстинкта смерти.
При создании нового дуализма Фрейд придерживался образа мыслей, о котором будет сказано ниже, и создал две широкие концепции, в которые должен был попадать любой феномен. Он проделал это с понятием сексуальности, расширив его, так что все, что не было Эго-инстинктом, принадлежало сексуальному инстинкту. Тот же метод он применил к инстинкту смерти. Он сделал это понятие настолько широким, что любое устремление, не попадавшее в ведение Эроса, относилось к инстинкту смерти, и наоборот. Таким образом, агрессивность, разрушительность, садизм, стремление контролировать и властвовать, несмотря на их качественные различия, оказывались проявлениями одной и той же силы – инстинкта смерти.
Того же паттерна мышления, имевшего столь сильное влияние на него на ранней стадии построения теоретической системы, Фрейд придерживался и еще в одном аспекте. Об инстинкте смерти он говорит, что изначально он весь внутри; потом он частично направляется наружу и действует как агрессивность, в то время как часть остается внутри как первичный мазохизм. Однако если часть, направленная наружу, встречает непреодолимые препятствия, инстинкт смерти оказывается перенаправлен внутрь и проявляется как вторичный мазохизм. Этот метод рассуждений в точности тот же, что и использовавшийся Фрейдом при описании нарциссизма. Сначала все либидо содержится в Эго (первичный нарциссизм), затем распространяется вовне, на объекты (объектное либидо), но часто направляется снова внутрь и тогда формирует так называемый вторичный нарциссизм.
Термин «инстинкт смерти» часто употребляется как синоним инстинкта разрушения или агрессивных побуждений (см., например, [25]), но в то же время Фрейд проводит тонкие различения между этими понятиями. В целом, как указал Джеймс Стрэчи во введении к «Недовольству культурой» [25], в более поздних работах – например, «Недовольстве культурой» [25], «Эго и Ид» [20], «Новых вводных лекциях» [26], «Очерках истории психоанализа» [29] – агрессивный инстинкт оказывается чем-то вторичным, следствием первичной саморазрушительности.
Вот несколько примеров таких взаимосвязей между инстинктом смерти и агрессивностью. В «Недовольстве культурой» [25] Фрейд пишет, что инстинкт смерти «отводится во внешний мир и выходит на свет как инстинкт агрессивности и разрушения» [25; 118]. В «Новых вводных лекциях» он говорит о «саморазрушительности как выражении инстинкта смерти, который неизменно присутствует в любом жизненном процессе» [26; 107. – Курсив мой. – Э.Ф.]. В той же работе Фрейд выражает эту мысль еще более отчетливо: «Мы пришли к мнению, что мазохизм древнее садизма, а садизм – разрушительный инстинкт, направленный вовне, который тем самым приобретает характеристики агрессивности» [25; 105]. То количество деструктивности, которое остается внутри, или объединяется «с эротическими побуждениями в мазохизм, или – с большими или меньшими эротическими добавлениями – направляется против внешнего мира как агрессивность» [Там же]. «Однако, – продолжает Фрейд, – если направленная вовне агрессивность встречается со слишком значительными препятствиями, она возвращается и увеличивает само-деструктивность, властвующую внутри» [Там же]. Заключение этих теоретических и несколько противоречивых рассуждений содержится в последних двух статьях Фрейда. Внутри Ид «оперируют органические инстинкты, которые сами представляют собой соединение двух первичных сил (Эроса и деструктивности) в разных пропорциях» [29; 198. – Курсив мой. – Э.Ф.]. В «Конечном и бесконечном анализе» Фрейд также говорит об Эросе и инстинкте смерти как о двух «первичных инстинктах» [28].
Изумляет и впечатляет, как твердо Фрейд держался за свою концепцию инстинкта смерти, несмотря на огромные теоретические трудности, которые он упрямо – и, на мой взгляд, безуспешно – пытался преодолеть.
Главная трудность, возможно, заключалась в предположении об идентичности двух тенденций – тенденции тела вернуться к исходному, неорганическому состоянию (как результату действия принципа принудительного повторения) и инстинкта разрушения (себя или других). Для первой тенденции может быть адекватен термин «Танатос», говорящий о смерти, или даже «принцип нирваны», указывающий на стремление к снижению напряжения, уменьшению энергии до уровня прекращения всех энергетических устремлений[52]. Однако является ли это медленное угасание жизненных сил аналогом деструктивности? Конечно, логически можно доказывать – и Фрейд имплицитно это делает, – что если тенденция к умиранию является для организма врожденной, должна существовать активная сила, стремящаяся к разрушению (это тот самый образ мыслей, который можно обнаружить у инстинктивистов, утверждающих, что за каждым действием скрывается особый инстинкт). Однако если выйти из этого замкнутого круга рассуждений, то отыщется ли свидетельство или хотя бы повод отождествлять тенденцию к прекращению всякого возбуждения с разрушительным импульсом? Едва ли. Если предположить, на основании фрейдовского принципа принудительного повторения, что жизнь имеет тенденцию к замедлению и в конце концов к смерти, такая врожденная биологическая тенденция была бы совершенно отлична от разрушительного импульса. Если добавить к этому, что та же самая тенденция также, как предполагается, служит источником жажды власти и инстинкта главенства, а будучи смешанной с сексуальностью – источником садизма и мазохизма, то теоретический tour de force (подвиг) окажется напрасным. Принцип нирваны и страсть к разрушениям – это две несопоставимые сущности, которые нельзя включить в ту же категорию, что и инстинкт смерти.
Еще одна трудность заключается в том, что «инстинкт» смерти не вписывается в общую фрейдовскую концепцию инстинктов. Во-первых, он не обладает, как это имеет место в ранней теории Фрейда, специфической телесной зоной, из которой происходит; скорее это – биологическая сила, присущая всей живой материи. Это убедительно показал Отто Феникел: «Диссимуляция на клеточном уровне – иначе говоря, объективная деструкция – не может быть источником инстинкта разрушения в том же смысле, в каком химическая сенсибилизация органа путем стимуляции эрогенных зон порождает сексуальный инстинкт. Согласно определению, инстинкт направлен на устранение тех соматических изменений, которые мы рассматриваем как источник инстинкта; однако инстинкт смерти не имеет целью устранение диссимуляции. По этой причине мне не кажется возможным рассматривать «инстинкт смерти» как один из видов инстинктов наряду с другими видами» [3; 60f].
Феникел указывает здесь на одну из тех теоретических трудностей, которые создал для себя Фрейд, хотя, можно сказать, подавил осознание этого. Эта трудность тем более серьезна потому, что Фрейд, как я покажу ниже, должен был прийти к выводу, что в отношении Эроса также не выполняются условия теории инстинктов. Действительно, не будь у Фрейда сильной личной мотивации, он не использовал бы термин «инстинкт» в смысле, совершенно отличающемся от исходного, не указав на это. Эта трудность ощущается даже в терминологии. Слово «Эрос» не может употребляться вместе со словом «инстинкт», и Фрейд вполне логично никогда не говорил об «инстинкте Эроса». Однако он преодолел трудность, говоря об «инстинкте жизни» попеременно с «Эросом».
На самом деле инстинкт смерти ничем не связан с ранней теорией Фрейда, за исключением общей аксиомы об ослаблении влечения. Как мы видели, в более ранней теории агрессия рассматривалась или как составляющая побуждения прегенитальной сексуальности, или как Эго-побуждение, направленное против внешних стимулов. Теория инстинкта смерти не устанавливает связей с прежними источниками агрессии, если не считать того, что инстинкт смерти в смеси с сексуальностью теперь используется для объяснения садизма [26; 104f].
Суммируя, можно сказать, что концепция инстинкта смерти определялась двумя главными требованиями: во-первых, потребностью удовлетворить новому убеждению Фрейда в силе человеческой агрессии и, во-вторых, необходимостью сохранить приверженность дуалистическому взгляду на инстинкты. После того как Эго-инстинкты также стали рассматриваться как либидозные, Фрейд должен был найти новую дихотомию, и наиболее подходящей оказалась дихотомия между Эросом и инстинктом смерти. Однако, будучи удобной с точки зрения немедленного разрешения проблемы, она совершенно не годилась с точки зрения развития всей фрейдовской теории, связанной с инстинктами мотивации. Инстинкт смерти сделался всеобъемлющей концепцией, и попытки с его помощью разрешить непреодолимые противоречия были обречены на неудачу. Фрейд, возможно, из-за возраста и болезни, не рассматривал проблему всерьез и только залатал прорехи. Большинство тех психоаналитиков, которые не приняли фрейдовской концепции Эроса и инстинкта смерти, нашли легкое решение: они преобразовали инстинкт смерти в «разрушительный инстинкт», противопоставленный прежнему сексуальному инстинкту. Таким образом они объединили свою лояльность Фрейду с собственной неспособностью выйти за пределы старомодной теории инстинктов. Даже учитывая все недостатки новой теории, она представляла собой существенное достижение: указывала на основополагающий конфликт человеческого существования – выбор между жизнью и смертью, – и заменяла прежнюю физиологическую концепцию влечений более глубоким биологическим подходом. Фрейд не сумел найти выхода и был вынужден оставить свою теорию инстинктов незавершенной. Дальнейшее развитие его теории нуждается в признании проблемы и в преодолении трудностей в надежде найти новые решения.
Обсуждая теорию инстинкта жизни и Эроса, мы обнаруживаем, что тут теоретические трудности, пожалуй, еще более велики, чем связанные с концепцией инстинкта смерти. Причины для этого очевидны. В теории либидо возбуждение было следствием химически вызванной сенсибилизации через стимуляцию различных эрогенных зон. В случае инстинкта жизни мы имеем дело с тенденцией, общей для всей живой материи, для которой нет специфического физиологического источника или специализированного органа. Как могли бы прежний сексуальный инстинкт и новый инстинкт жизни – или сексуальность и Эрос – оказаться одним и тем же?
Тем не менее, хотя Фрейд в «Новых вводных лекциях» писал, что новая теория «заменила» теорию либидо, в тех же лекциях и в других работах он подтверждал, что сексуальные инстинкты и Эрос идентичны. Он писал: «Наша гипотеза заключается в том, что существуют два принципиально различных класса инстинктов: понимаемые в широчайшем смысле сексуальные инстинкты – или Эрос, если вы предпочитаете это название, – и инстинкты агрессивные, цель которых – разрушение» [26; 103], а в «Очерках истории психоанализа» – «Обо всей наличной энергии Эроса… мы впредь будем говорить как о либидо» [29; 150]. Временами Фрейд отождествляет Эрос с сексуальным инстинктом, а также с инстинктом самосохранения [20], что только логично после ревизии исходной теории и признания обоих изначальных противников – инстинкта самосохранения и сексуального инстинкта – имеющими либидозную природу. Однако хотя Фрейд иногда приравнивает Эрос и либидо друг к другу, несколько иной взгляд он высказывает в последней работе, «Очерках истории психоанализа». Здесь он пишет: «Бо́льшая часть того, что нам известно об Эросе – другими словами, о его представителе, либидо, – была получена в результате изучения сексуальной функции, которая, по преобладающему мнению, если и не в соответствии с нашей теорией, совпадает с Эросом» [29; 151. – Курсив мой. – Э.Ф.]. Согласно этому утверждению и в противоположность процитированному выше Эрос и сексуальность не совпадают. По-видимому, здесь Фрейд имел в виду, что Эрос является «первичным инстинктом» (помимо инстинкта смерти), одним из представителей которого служит сексуальный инстинкт. На самом деле Фрейд возвращается к взгляду, уже высказанному в «За пределами принципа удовольствия», где в примечании сказано, что сексуальный инстинкт «трансформировался для нас в Эрос, который стремится собрать и удержать вместе все части живой материи. То, что обычно называют сексуальными инстинктами, нами рассматривается как часть Эроса, направленная на внешние объекты» [18; 61].
Фрейд однажды даже сделал попытку указать на то, что его исходная концепция сексуальности «была совершенно не идентична представлению об импульсе, направленном на союз двух полов или вызывающем приятное ощущение в гениталиях; она скорее походила на всеохватывающий и всесохраняющий Эрос из «Пира» Платона» [22; 218]. Справедливость первой части этого утверждения очевидна. Фрейд всегда считал сексуальность чем-то более широким, чем сексуальность генитальная. Однако трудно понять, на каком основании он утверждает, что его прежняя концепция сексуальности напоминает платоновский Эрос.
Прежняя теория сексуальности полностью противоположна платоновским взглядам. Согласно Фрейду, либидо принадлежит исключительно мужчине, соответствующего женского либидо не существует. Женщина, в соответствии с чрезвычайно патриархальными предубеждениями Фрейда, не была существом, равным мужчине, – она являла собой изувеченного, кастрированного мужчину. Сама суть платоновского мифа о том, что мужчина и женщина когда-то были единым целым, заключается в равенстве половинок, а их полярность сопряжена со стремлением к воссоединению.
Единственная причина попытки Фрейда интерпретировать прежнюю теорию либидо в свете платоновского Эроса заключалась, должно быть, в желании избежать разрыва между двумя фазами, даже ценой очевидного искажения своей прежней теории.
Как и в случае инстинкта смерти, Фрейд столкнулся с трудностью в отношении инстинктивной природы инстинкта жизни. Как указывал Феникел [3], инстинкт смерти не может быть назван инстинктом в терминах новой фрейдовской концепции, изложенной сначала в работе «За пределами принципа удовольствия», а затем во всех позднейших работах, включая «Очерки истории психоанализа». Фрейд писал: «Хотя они [инстинкты] являются первопричиной любой активности, они по природе консервативны; какого бы состояния ни достиг организм, существует тенденция к восстановлению этого состояния, как только оно окажется нарушено» [29; 148].
Обладают ли Эрос и инстинкт жизни этим консервативным качеством всех инстинктов, и таким образом могут ли они по праву быть названы инстинктами? Фрейд очень старался найти решение, которое позволило бы сохранить консервативный характер инстинкта жизни.
Говоря о зародышевых клетках, которые «борются против смерти живой материи и успешно выигрывают сражение, что мы можем рассматривать только как потенциальное бессмертие» [18; 40], Фрейд утверждал: «Инстинкты, присматривающие за судьбой этих элементарных организмов, которые переживают индивида в целом, обеспечивающие им надежное убежище, пока они беззащитны против стимулов внешнего мира, ведущие к встрече с другими зародышевыми клетками и т. д., образуют группу сексуальных инстинктов. Они консервативны в том же смысле, что и другие инстинкты, так как воспроизводят более ранние состояния живой материи, но они консервативны в большей степени, будучи удивительно устойчивыми против внешних воздействий; к тому же они консервативны и в другом смысле: они сохраняют саму жизнь на сравнительно долгий период. Это – истинные инстинкты жизни. Они действуют против других инстинктов, по своей функции ведущих к смерти, и этот факт показывает, что между теми и другими существует противостояние, противостояние, важность которого давно выявлена теорией неврозов. Представляется, что организм существует в меняющемся ритме: одна группа инстинктов стремится вперед, чтобы достичь окончательной цели жизни как можно быстрее; однако когда в этом продвижении достигается определенная стадия, другая группа устремляется обратно к некой точке, чтобы начать все сначала и тем самым продлить путешествие. Хотя несомненно, что сексуальность и различия между полами не существовали, когда жизнь только возникла, сохраняется возможность того, что те инстинкты, которые позднее были названы сексуальными, действовали с самого начала и вовсе не только впоследствии начали противостоять Эго-инстинктам» [18; 41. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Наибольший интерес в этом пассаже – и причина, по которой я привожу такую длинную цитату, – заключается в том, как отчаянно Фрейд пытается спасти концепцию консервативности всех инстинктов, а тем самым и инстинкта жизни. Ему приходится искать выход в новой формулировке определения сексуального инстинкта как заботящегося о зародышевых клетках, что совершенно отличается от всей концепции инстинктов, содержащейся в его предыдущих работах.
Несколькими годами позже, в работе «Эго и Ид», Фрейд предпринял попытку придать Эросу статус настоящего инстинкта, приписав ему консервативную природу. Он писал: «На основании теоретических соображений, поддерживаемых биологией, мы выдвигаем гипотезу инстинкта смерти, задачей которого является возвращение органической жизни в неодушевленное состояние; с другой стороны, мы предположили, что Эрос, приводя к имеющему все более и более важные последствия объединению частиц, на которые рассеяна живая материя, направлен к усложнению жизни и в то же время, конечно, к сохранению ее. Действуя таким образом, оба инстинкта были бы консервативны в строжайшем смысле слова, поскольку оба стремились бы восстановить положение вещей, которое было нарушено возникновением жизни. Возникновение жизни, таким образом, было бы причиной продолжения жизни и в то же время стремления к смерти, а сама жизнь была бы конфликтом и компромиссом между этими двумя направлениями. Проблема происхождения жизни осталась бы проблемой космологии, а проблема смысла и цели жизни получила бы дуалистический ответ» [20; 40].
Эрос направлен к усложнению и сохранению жизни, и поэтому он тоже консервативен, поскольку с возникновением жизни рождается инстинкт, который должен ее сохранять. Однако, должны мы спросить, если в природе инстинкта – восстанавливать самую раннюю стадию существования, неорганическую материю, как может он в то же время стремиться восстановить более позднюю стадию – а именно, жизнь?
После всех этих безуспешных попыток сохранить консервативный характер инстинкта жизни Фрейд в «Очерках истории психоанализа» наконец приходит к негативному решению: «В случае Эроса (и инстинкта любви) мы не можем применить эту формулу [консервативного характера инстинктов]. Сделать это значило бы предположить, что живая материя была когда-то единым целым, которое впоследствии распалось, а теперь стремится к воссоединению» [29; 149. – Курсив мой. – Э.Ф.]. Здесь Фрейд добавляет важное примечание: «Некоторые писатели воображают нечто подобное, но ничего такого из действительной истории живой материи нам не известно» [Там же]. Совершенно очевидно, что Фрейд здесь имеет в виду платоновский миф об Эросе, но возражает против него как против поэтической вольности. Такое отвержение удивительно. Ответ Платона действительно удовлетворил бы теоретическим требованиям консервативной природы Эроса. Что более подошло бы для обоснования формулы, согласно которой инстинкт стремится восстановить более раннюю ситуацию, чем положение о том, что мужчина и женщина изначально были единым целым, затем оказались разъединены и испытывают стремление к воссоединению? Почему Фрейд не принял этот выход и тем самым не избавил себя от теоретического возражения, согласно которому Эрос – не настоящий инстинкт?
Возможно, удастся пролить на этот вопрос больше света, если мы сравним примечание в «Очерках истории психоанализа» с более ранним детальным его рассмотрением в работе «За пределами принципа удовольствия». В нем Фрейд цитировал слова Платона в «Пире» об исходном единстве человека, который был разделен пополам Зевсом; после такого разделения каждая половинка жаждет найти вторую; они встретились и обняли друг друга, стремясь слиться. Фрейд писал: «Не следует ли нам принять намек, который дал нам поэт-философ, и допустить гипотезу, что живая материя в тот момент, когда она обрела жизнь, была раздроблена на мелкие частицы, которые с тех пор стремятся к соединению с помощью сексуальных инстинктов? Что эти инстинкты, в которых выражалось химическое сродство элементов неодушевленной материи, развиваясь в царстве простейших одноклеточных организмов, постепенно добились успеха в преодолении трудностей, создаваемых окружающей средой, полной опасных стимулов – стимулов, побуждавших организмы формировать защитный корковый слой? Что эти разбросанные фрагменты живой материи таким образом достигли многоклеточного состояния и наконец передали инстинкт к воссоединению, в его наиболее концентрированной форме, в зародышевые клетки? Однако здесь, я думаю, пора остановиться» [18; 58].
Мы с легкостью видим различие между двумя утверждениями: в более ранней формулировке (в «За пределами принципа удовольствия») Фрейд оставляет вопрос открытым, в то время как позднее (в «Очерках истории психоанализа») ответ на него оказывается определенно отрицательным.
Однако гораздо важнее формулировка, содержащаяся в обоих высказываниях. В обоих случаях Фрейд говорит о «живой материи», разорванной на части. Платоновский миф, однако, говорит не о живой материи, разорванной на части, а о разделенных мужчине и женщине, стремящихся к воссоединению. Почему Фрейд настаивал на понятии живой материи как на решающем моменте?
Думаю, что ответ может заключаться в субъективном факторе. Фрейд был глубоко проникнут патриархальным чувством, согласно которому мужчина выше женщины, а не равен ей. Поэтому предположение о полярности мужчины и женщины, которая, как и любая полярность, предполагает различия и равенство сторон, было для него неприемлемо. Эмоциональные мужские предубеждения в гораздо более ранний период творчества привели Фрейда к теории о том, что женщина – это искалеченный мужчина; ею управляют комплекс кастрации и зависть к пенису; женщина ниже мужчины еще и потому, что ее Суперэго слабее, а нарциссизм, напротив, сильнее, чем у мужчины. Можно, безусловно, восхищаться блеском этого построения, однако трудно отрицать, что заключение о том, что одна половина рода человеческого – всего лишь искалеченная версия другой половины, попросту абсурдно и может быть объяснено только глубиной сексуальной предубежденности (мало отличающейся от расовых и/или религиозных предрассудков). Так удивительно ли, что Фрейд столкнулся с препятствием, когда, следуя за мифом Платона, должен был бы признать равенство мужчины и женщины? Конечно, он не мог сделать такой шаг; поэтому он и заменил союз мужчины и женщины на единство «живой материи» и отверг логический путь преодоления трудности, заключающейся в том, что Эрос не разделял консервативной природы инстинктов.
Критика фрейдовской теории инстинктов
Фрейд оставался пленником образа мыслей и чувств общества, в котором жил, и выйти за его пределы был неспособен. Когда ему открылось новое понимание, только часть его – как и его следствий – оказалась осознанной, в то время как другая часть осталась в подсознании, поскольку была несовместима с его «комплексом» и прежними мыслями. Осознанное мышление Фрейда должно было попытаться преодолеть противоречия и непоследовательность, создавая конструкции, достаточно правдоподобные, чтобы удовлетворить сознательный мыслительный процесс.
Фрейд не выбрал – и как я постарался показать – не мог выбрать решение, которое позволило бы Эросу удовлетворять его собственному определению инстинкта, т. е. обладать консервативной природой. Был ли у Фрейда другой теоретический выбор? Думаю, что был. Фрейд мог бы найти другое решение, соответствующее его новому пониманию доминирующей роли любви и деструктивности, в пределах своей традиционной теории либидо. Он мог бы рассмотреть полярность прегенитальной сексуальности (орального и анального садизма) как источника деструктивности и генитальной сексуальности – как источника любви. Однако, конечно, принять такое решение Фрейду было трудно в силу причин, рассмотренных выше. Это привело бы его опасно близко к монистическим взглядам, поскольку и деструктивность, и любовь оказались бы либидозными. Однако Фрейд уже заложил основу для того, чтобы связать деструктивность с прегенитальной сексуальностью, сделав вывод о том, что разрушительная часть анально-садистского либидо является инстинктом смерти [18], [20]. Если это так, то уместно предположить, что само анальное либидо находится в глубокой связи с инстинктом смерти; на самом деле, представляется оправданным заключение о том, что сущность анального либидо – стремление к разрушению.
Однако Фрейд не приходит к такому заключению, и интересно рассмотреть причины этого.
Первая причина лежит в слишком узкой интерпретации анального либидо. Для Фрейда и его последователей основным аспектом анальности являлась тенденция к контролю и обладанию (помимо дружелюбного аспекта сдерживания). Но ведь контроль и обладание – несомненно, тенденции, противоположные любви, содействию, освобождению, которые образуют самостоятельный синдром. С другой стороны, контроль и обладание не содержат в себе истинной сути деструктивности, стремления к разрушению, враждебности к жизни. Несомненно, анальный характер характеризуется глубоким интересом и ощущением родства с фекалиями, будучи частью их общей близости ко всему неживому. Фекалии – продукт, в конце концов отвергаемый организмом, который больше не находит им применения. Анальный характер привлекают фекалии, как привлекает его все, что бесполезно для жизни, – грязь, смерть, гниль. Можно сказать, что стремление к контролю и обладанию – лишь один аспект анального характера, более мягкий и менее злостный, чем ненависть к жизни. Я полагаю, что если бы Фрейд увидел эту прямую связь между фекалиями и смертью, он мог бы прийти к заключению, что главная полярность существует между генитальной и анальной ориентациями, двумя хорошо клинически изученными состояниями, эквивалентами Эроса и инстинкта смерти. Сделай он это, и Эрос и инстинкт смерти не выглядели бы двумя биологически заданными одинаково сильными тенденциями; Эрос рассматривался бы как биологически оправданная цель развития, в то время как инстинкт смерти основывался бы на нарушении нормального развития и в этом смысле являлся бы патологическим, хотя и глубоко укорененным стремлением. Если пожелать прибегнуть к биологическим спекуляциям, можно соотнести анальность с тем фактом, что ориентация по запаху свойственна всем четвероногим млекопитающим, а прямохождение предполагает изменение ориентации по запаху на зрительную ориентацию. Изменение функций древних обонятельных отделов мозга соответствовало бы такой же трансформации ориентации. Учитывая это, можно считать, что анальный характер представляет собой регрессивную фазу биологического развития, для которой, возможно, существуют даже конституционально-генетические основания. Анальность ребенка может рассматриваться как эволюционное повторение биологически более ранней фазы в процессе перехода к полностью сформированному человеческому функционированию (в терминах Фрейда анальность-деструктивность имела бы консервативную природу инстинкта, т. е. возврат от ориентации на генитальность-любовь-зрение к ориентации на анальность-деструктивность-обоняние).
Связь между инстинктами жизни и смерти по сути была бы той же, как связь между прегенитальным и генитальным либидо во фрейдовской схеме развития. Фиксация либидо на анальном уровне была бы патологическим феноменом, имеющим, однако, глубокие корни в психосексуальной конституции, в то время как генитальный уровень был бы характеристикой здорового индивида. При таком рассуждении анальный уровень обладал бы двумя довольно различающимися аспектами: стремлением к контролю и стремлением к разрушению. Как я старался показать, это было бы различием между садизмом и некрофилией.
Однако Фрейд таких связей не выявил, а возможно, и не мог выявить по причинам, которые обсуждались выше в связи с трудностями в теории Эроса.
Выше я указывал на имманентные противоречия, к которым оказался принужден Фрейд при переходе от теории либидо к теории Эроса – инстинкта смерти. В последней содержится конфликт другого рода, на который следует обратить внимание: это конфликт между Фрейдом-теоретиком и Фрейдом-гуманистом. Теоретик приходит к заключению, что человек имеет выбор только между тем, чтобы уничтожить себя (медленно, в результате болезни), и тем, чтобы уничтожать других; иначе говоря, между причинением страданий себе или другим. Гуманист восстает против этой трагической альтернативы, которая сделала бы войну рациональным решением проблемы человеческого существования.
Нельзя сказать, что Фрейд питал отвращение к трагическим альтернативам. Напротив, в своей ранней теории он именно трагическую альтернативу и выстроил: подавление требований инстинктов (особенно прегенитальных) считалось основой развития цивилизации; подавленное инстинктивное влечение «сублимировалось» по ценным культурным каналам, но все же за счет полного человеческого счастья. С другой стороны, подавление вело не только к росту цивилизации, но и к развитию неврозов у многих из тех, у кого процесс подавления не происходил успешно. Такова и была альтернатива: отсутствие цивилизации соотносилось с полным счастьем, а цивилизация – с неврозами и уменьшением счастья.
Противоречие между инстинктом смерти и Эросом ставит человека перед вполне реальной и поистине трагической альтернативой: реальной, потому что человек может предпочесть нападение и войну, агрессию, выражение враждебности собственной болезни. Что такая альтернатива трагична, едва ли нужно доказывать, по крайней мере с точки зрения Фрейда или любого другого гуманиста.
Фрейд не делает попытки затушевать проблему, смягчив остроту конфликта. В «Новых вводных лекциях» он писал: «А теперь мы видим важность того, что агрессивность может не найти удовлетворения во внешнем мире, столкнувшись с реальными препятствиями. Если это случится, она, возможно, обратится вспять и увеличит самодеструктивность, владычествующую внутри. Мы рассмотрим, как это на деле происходит и насколько важен этот процесс» [26; 105].
В «Очерках истории психоанализа» Фрейд писал: «Сдерживание агрессивности в целом явление нездоровое и ведет к болезни» [29; 150]. Как, столь четко выразив свои взгляды, мог Фрейд противиться импульсу безнадежно смотреть на человеческие дела и не присоединиться к тем, кто рекомендовал войну как лучшее лекарство для человечества?
Действительно, Фрейд предпринял несколько попыток найти выход из противостояния между теоретиком и гуманистом. Одна из них заключалась в идее о том, что разрушительный инстинкт может трансформироваться в совесть. В «Недовольстве культурой» Фрейд спрашивал: «Что с ним [агрессором] должно произойти, чтобы его стремление к агрессии стало безвредным?» и отвечал: «Нечто удивительное, чего нельзя было бы предположить и что тем не менее совершенно очевидно. Его агрессивность интроецируется, интернализуется; она на самом деле направляется туда, откуда возникла – другими словами, направляется против его собственного Эго. Там она побеждается той частью Эго, которая выступает против остальных частей как Суперэго и которая теперь в форме совести готова использовать против Эго ту самую жесткую агрессивность, которую Эго хотело бы удовлетворить за счет других индивидов, находящихся вовне. Напряжение между жестким Суперэго и подчиненным ему Эго называется чувством вины и выражается в потребности в наказании. Цивилизация, таким образом, приобретает власть над опасным стремлением индивида к агрессии путем ослабления и разоружения его и создания внутри него наблюдающей инстанции, подобной гарнизону в завоеванном городе» [25; 123f].
Трансформация деструктивности в самонаказывающую совесть не представляется таким преимуществом, как это предполагает Фрейд. Согласно его теории, совесть должна была бы быть столь же жестокой, как и инстинкт смерти, поскольку она заряжена его энергией; не приводится никаких обоснований того, почему инстинкт смерти должен «ослабнуть» и «разоружиться». Представляется, что более логично реальные последствия идеи Фрейда выразит следующая аналогия: город, которым правил жестокий враг, освобождается с помощью диктатора, который затем устанавливает систему, ничуть не менее жестокую, чем та, которая была при поверженном враге; таким образом, каков же выигрыш?
Впрочем, эта теория суровой совести как проявления инстинкта смерти является не единственной попыткой Фрейда смягчить свою концепцию трагической альтернативы. Другое, менее трагичное объяснение выражено в следующих словах: «Инстинкт разрушения, умеренный, укрощенный и в результате не способный достичь цели, должен, когда направлен на объект, удовлетворять жизненные потребности Эго и давать ему контроль над естеством» [25; 121]. Это представляется хорошим примером «сублимации»[53]; стремление инстинкта к цели не ослаблено, но он направлен на другие, социально приемлемые цели, – в данном случае на «контроль над естеством».
Действительно, это выглядит отличным решением. Человек освобождается от трагического выбора между уничтожением других или себя, потому что энергия инстинкта разрушения используется для контроля над естеством. Но, должны мы спросить, может ли такое быть? Может ли на самом деле деструктивность трансформироваться в конструктивность? Что может значить «контроль над естеством»? Приручение и разведение животных, собирательство и земледелие, ткачество, строительство жилищ, гончарное производство и многие другие виды деятельности, включая проектирование машин, строительство железных дорог, аэропланов, небоскребов – все эти акты конструирования, строительства, унификации, синтеза при желании приписать их одному из двух базовых инстинктов с тем же успехом могут мотивироваться Эросом, как и инстинктом смерти. За возможным исключением убийства животных для пропитания и убийства людей на войне, действий, которые можно рассматривать как имеющие корни в деструктивности, материальное производство не деструктивно, а конструктивно.
Фрейд делает еще одну попытку смягчить суровость предложенной им альтернативы в своем ответе Эйнштейну «Неизбежна ли война?». Даже в этом случае, столкнувшись с вопросом о психологических причинах войны, поставленным одним из величайших ученых и гуманистов столетия, Фрейд не стал маскировать суровость предложенной им альтернативы. С полнейшей ясностью он писал: «В результате некоторых рассуждений мы стали полагать, что этот инстинкт действует в любом живом существе и стремится его уничтожить, а жизнь вернуть в исходное состояние неживой материи. Таким образом, он со всей серьезностью заслуживает названия инстинкта смерти, в то время как эротические инстинкты представляют собой стремление к жизни. Инстинкт смерти превращается в инстинкт разрушения, когда с помощью специальных органов оказывается направлен вовне, на объекты. Организм, так сказать, сохраняет свою жизнь, разрушая чужую. Некоторая часть инстинкта смерти, впрочем, остается действующей внутри организма, и мы проследили достаточно большое число нормальных и патологических явлений, подтверждающих интериоризацию инстинкта разрушения. Мы даже позволили себе еретическое утверждение, отнеся происхождение совести за счет такого обращения агрессивности вовнутрь. Как вы заметите, это совсем не мелочь: если такой процесс заходит достаточно далеко, то определенно вредит здоровью. С другой стороны, если силы инстинкта смерти обращены на уничтожение внешнего мира, организм испытывает облегчение и эффект должен быть благоприятным. Это послужило бы биологическим оправданием всех отвратительных и опасных импульсов, против которых мы боремся. Следует признать, что они ближе природе, чем наше им сопротивление, для чего также нужно найти объяснение» [27; 211. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Сделав это очень ясное и бескомпромиссное утверждение, суммирующее его ранее высказанные взгляды на инстинкт смерти, и заявив о недоверии к рассказам о счастливых народах, которые «не знают ни принуждения, ни агрессии», Фрейд к концу письма постарался прийти к менее пессимистическому решению, чем, казалось бы, предсказывало начало. Его надежды основывались на нескольких возможностях. «Если готовность вступить в войну, – писал он, – есть эффект инстинкта разрушения, самым очевидным средством было бы призвание Эроса, его антагониста, для противодействия. Все, что поощряет рост эмоциональных связей между людьми, должно действовать против войны» [27; 212].
Удивительно и трогательно, как Фрейд-гуманист (пацифист, как он сам себя называл) отчаянно старался обойти логические следствия собственных предпосылок. Если инстинкт смерти так могуществен и фундаментален, как во всеуслышание утверждал Фрейд, можно ли его значительно ослабить, вводя в игру Эрос, если учесть, что оба инстинкта свойственны каждой клетке и что они представляют собой неустранимое свойство живой материи?
Второй аргумент Фрейда в пользу мира еще более фундаментален. В конце своего письма Эйнштейну он пишет: «Война полнейшим образом противоречит психическим установкам, выработанным у нас цивилизационным процессом; по этой причине мы обязаны выступить против нее, мы просто не можем с ней больше мириться. Это не только интеллектуальная и эмоциональная нетерпимость; у нас, пацифистов, имеет место конституциональная непереносимость войны, идиосинкразия, выраженная в величайшей степени. Действительно, представляется, что снижение эстетических стандартов, свойственное военному времени, играет в нашем неприятии войны едва ли меньшую роль, чем ее жестокость. Сколько должны мы ждать, чтобы остальное человечество также прониклось идеалами пацифизма? Трудно сказать…» [27; 215].
В письме Фрейд также затрагивает тему, иногда встречающуюся в его работах: цивилизационный процесс является фактором, ведущим к длительному, «конституциональному», «органическому» подавлению инстинктов [Там же].
Фрейд уже высказывал эту мысль много раньше, говоря об остром конфликте между инстинктом и цивилизацией: «При наблюдении за цивилизованными детьми складывается впечатление, что возведение этих плотин – продукт воспитания, и несомненно, воспитание играет важную роль. Однако на самом деле такое развитие задано органически и закреплено наследственностью; оно иногда может возникнуть без всякой помощи воспитания» [14; 178. – Курсив мой. – Э.Ф.].
В «Недовольстве культурой» Фрейд продолжал эту линию рассуждений, говоря об «органическом подавлении», например, в случае табу, относящегося к менструации или анальному эротизму, которое таким образом мостит дорогу цивилизации. Еще в 1897 году, в письме Флиссу от 14 ноября, он писал, что «в подавлении играет роль что-то органическое» [5].
Различные высказывания, процитированные здесь, показывают, что уверенность Фрейда в «конституциональной» нетерпимости к войне была не только попыткой обойти в его дискуссии с Эйнштейном трагическую перспективу, созданную его концепцией инстинкта смерти, но и находилась в соответствии с той линией мысли, которая, хоть и не была ведущей, присутствовала в глубине его сознания уже давно.
Если верны были предположения Фрейда о том, что цивилизация создает «конституциональное» и наследуемое подавление, что цивилизационным процессом некоторые инстинкты действительно ослабляются, – тогда он действительно нашел способ разрешить дилемму. Тогда цивилизованный человек не испытывал бы определенных инстинктивных побуждений, противоречащих культуре, в той же степени, что и первобытный человек, и разрушительные импульсы не имели бы у него той же интенсивности и силы. Эта линия рассуждений привела бы к предположению о том, что в процессе цивилизации мог возникнуть внутренний запрет на убийство, который закрепился наследственностью. Впрочем, даже если бы удалось обнаружить подобные наследственные факторы в целом, было бы чрезвычайно трудно предположить их существование в связи с инстинктом смерти.
Согласно фрейдовской концепции, инстинкт смерти – тенденция, присущая всей живой материи; предположение, что эта фундаментальная биологическая сила могла бы быть ослаблена в процессе цивилизации, было бы очень трудно обосновать теоретически. Следуя той же логике, можно предположить, что Эрос тоже мог бы быть конституционально ослаблен, что привело бы к более общему предположению о том, что сама природа живой материи может быть в процессе цивилизации изменена с помощью «органического» подавления[54].
Как бы то ни было, сегодня одним из самых важных направлений исследований представляется попытка установить факты, имеющие отношение к этому вопросу. Имеются ли достаточные свидетельства того, что в процессе цивилизации возникло конституциональное органическое подавление некоторых инстинктивных влечений? Отличается ли такое подавление от подавления в обычном для Фрейда смысле, т. е. ослабляет инстинктивные побуждения, а не удаляет их из сознания или направляет на другие цели? Есть и особый вопрос: сделались ли в ходе истории разрушительные импульсы человека слабее и возникли ли сдерживающие механизмы, закрепленные генетически? Ответ на этот вопрос потребовал бы широких исследований, особенно в антропологии, социопсихологии и генетике.
Может быть, загадка самообмана Фрейда насчет валидности его концепции инстинкта смерти требует еще одного элемента решения. Каждый внимательный читатель трудов Фрейда должен также понимать, насколько предположительно и осторожно он формулировал свои новые теоретические построения, представляя их в первый раз. Он не настаивал на их валидности и даже иногда оценивал уничижительно. Однако чем больше проходило времени, тем больше гипотетические конструкты приобретали вид теорий, на которых возводились новые построения и теории. Фрейд-теоретик очень хорошо осознавал сомнительную обоснованность многих своих построений. Почему же он забыл свои первоначальные сомнения? На этот вопрос трудно ответить; один из возможных ответов можно найти в его роли лидера психоаналитического движения (см. [34]). Те его ученики, кто осмеливался критиковать фундаментальные аспекты его теорий, тем или иным способом выживались. Основной контингент последователей Фрейда составляли, так сказать, пешеходы, которым их теоретическая подготовка не позволяла в полной мере следовать за Фрейдом в основных теоретических переменах. Они нуждались в догме, в которую верили и на основании которой могли строить свое движение[55]. Так Фрейд-ученый стал в определенном смысле пленником Фрейда – вождя движения или, иными словами, Фрейд-учитель стал пленником своих верных, но лишенных творческой жилки учеников.
5. Почему психоанализ превратился из радикальной теории в теорию адаптации?
Хотя Фрейда нельзя счесть «радикалом» даже в широчайшем политическом значении этого слова – на самом деле он был типичным либералом с сильными консервативными предпочтениями, – его учение было неоспоримо радикальным. Радикальными не были его теория сексуальности и метапсихологические рассуждения, но выдвижение на центральную роль подавления и придание фундаментального значения бессознательной стороне нашей психической жизни вполне могут быть названы радикальными. Они были таковыми, потому что разрушали последние твердыни веры человека в собственные всемогущество и всеведение, веры в то, что сознательная мысль является последним и высочайшим уровнем человеческого опыта. Галилей избавил человечество от иллюзии того, что Земля – центр мира, Дарвин – от иллюзии того, что человек создан Богом, но никто не подвергал сомнению тот факт, что сознательное мышление – последнее, на что человек может полагаться. Фрейд лишил человека гордости за собственную рациональность. Он докопался до корней – а именно это означает слово «радикал» (от латинского radix – корень) – и обнаружил, что значительная часть нашего сознательного мышления лишь маскирует настоящие мысли и чувства и скрывает правду; бо́льшая часть сознательного мышления – обман, рационализация мыслей и желаний, которые мы предпочитаем не осознавать.
Открытие Фрейда было потенциально революционным, потому что могло открыть людям глаза на реальную структуру общества, в котором они живут, и тем самым вызвать желание изменить его в соответствии с интересами и стремлениями подавляющего большинства. Однако, хотя мысль Фрейда обладала таким революционным потенциалом, ее широкое признание не привело к его реализации. Нападки коллег и общественного мнения были направлены главным образом против взглядов Фрейда на сексуальность, потому что они разрушали некоторые табу европейского среднего класса XIX века; открытие бессознательного не имело революционных последствий. На самом деле это неудивительно. Требование, прямое или косвенное, большей толерантности в отношении секса по сути совпадало с другими либеральными установками: лучших условий содержания преступников, более свободного воспитания детей и т. д. Пристальное внимание к вопросам секса ослабляло общественную критику и тем самым отчасти выполняло политически реакционную функцию. Если в основе общего неблагополучия лежит неспособность человека разрешить свои сексуальные проблемы, нет нужды в критическом рассмотрении экономических, социальных и политических факторов, стоящих на дороге к полному развитию индивида. Напротив, политический радикализм можно было рассматривать как признак невроза, потому что, с точки зрения Фрейда и большинства его последователей, либеральный буржуа являлся образцом здорового человека. Можно было попытаться объявить левый или правый радикализм следствием невротических процессов, например, Эдипова комплекса, и политические взгляды, отличавшиеся от взглядов либерального среднего класса, заподозрить в «невротичности».
Подавляющее большинство психоаналитиков принадлежали к тому же среднему классу городской интеллигенции, что и основная масса их пациентов. Лишь горстка психоаналитиков придерживалась радикальных взглядов; из них наиболее известен был Вильгельм Райх, считавший, что подавление сексуальных побуждений создает контрреволюционный характер, а сексуальная свобода – революционный. Он выдвинул теорию, согласно которой сексуальная свобода ведет к революционной ориентации. Конечно, как показали дальнейшие события, Райх был совершенно не прав. Сексуальная либерализация по большей части явилась проявлением все возрастающего потребительского отношения к жизни. Если людей стали учить тратить и тратить, в отличие от установки XIX века – копить и копить, если их превратили в «потребителей», оставалось не только разрешить, но и поощрять и сексуальное потребление.
В конце концов, это простейший и самое дешевый из видов потребления. Райх заблуждался, потому что в его время у консерваторов была строгая сексуальная мораль, и из этого он заключил, что сексуальная свобода поведет к неконсервативным, революционным установкам. Историческое развитие показало, что сексуальная либерализация служит росту потребительского отношения к жизни и, если уж на то пошло, ослабляет политический радикализм. К несчастью, Райх плохо знал и понимал Маркса; его можно было бы назвать «сексуальным анархистом».
Фрейд мыслил как дитя своего времени и еще в одном аспекте. Он был членом классового общества, в котором незначительное меньшинство монополизировало большую часть богатств и защищало свои привилегии с помощью силы и контроля над умами тех, кем правило. Фрейд, считая такой тип общества единственно возможным, и модель человеческого разума конструировал соответственно. Эго – рационалистически мыслящая элита – должно было контролировать Ид, символизировавшее необразованные массы. Если бы Фрейд мог себе представить бесклассовое свободное общество, он отказался бы от Эго и Ид как от универсальных категорий человеческой психики.
На мой взгляд, опасность реакционной функции психоанализа может быть преодолена только раскрытием неосознаваемых факторов политической и религиозной идеологий[56]. Маркс в своей интерпретации буржуазной идеологии сделал по сути для общества то же, что Фрейд – для индивида. Однако часто упускается из виду, что Маркс дал собственную трактовку психологии, избежав ошибок Фрейда, что и служит основой социально ориентированного психоанализа. Он проводил различие между врожденными инстинктами, такими как удовлетворение сексуальных потребностей и насыщение, и такими явлениями, как амбициозность, ненависть, алчность, стремление к эксплуатации и т. д., которые порождаются жизненной практикой и в конечном счете производственными отношениями в определенного типа обществе, а потому могут меняться в историческом процессе[57].
Приручения психоанализа и превращения его из радикальной в либеральную теорию адаптации едва ли можно было избежать, потому что из буржуазного среднего класса происходили не только практиковавшие его аналитики, но и пациенты. Большинство пациентов хотело не стать более гуманными, более свободными, более независимыми – что значило бы более критически мыслящими и революционно настроенными, – а страдать не больше, чем средний представитель их собственного класса. Они хотели быть не свободными людьми, а успешными буржуа; они не хотели платить радикальную цену, которой потребовало бы предпочтение в пользу «быть» над «иметь». Да и с какой стати? Они едва ли видели когда-нибудь действительно счастливых людей – только относительно довольных своей судьбой, особенно если удалось добиться успеха и восхищения окружающих. Это была именно та модель, следовать которой они стремились, и психоаналитик, играющий роль такой модели, заключал, что пациент уподобится ему, если только достаточно долго будет говорить. Естественно, очень многие, получив сочувствующего слушателя, начинали чувствовать себя лучше; кроме того, с течением времени опыт заставляет среднего человека исправлять свою жизненную ситуацию, за исключением тех, кто слишком болен, чтобы учиться на ошибках.
Некоторые политически наивные люди могут думать, что если психоанализ – радикальная теория, он должен быть популярен среди коммунистов и особенно в так называемых социалистических странах. Действительно, в начале революции он пользовался некоторой популярностью (например, сам Троцкий интересовался психоанализом и в особенности теорией Адлера), но это было так только до тех пор, пока Советский Союз еще сохранял элементы революционной системы. С утверждением сталинизма и превращением общества в совершенно консервативное и реакционное, каким Советский Союз и остается по сей день, популярность психоанализа снизилась до полного исчезновения. Советская критика утверждает, что это идеалистическое буржуазное учение, игнорирующее экономические и социальные факторы; делаются и другие критические замечания, некоторые из которых не лишены оснований. Однако со стороны советских идеологов это всего лишь притворство. Чего они не выносят в психоанализе, так это не отдельные его недостатки, а главное его достижение – а именно, критическое мышление и недоверие к идеологиям.
К несчастью, психоанализ в значительной мере утратил свою критическую направленность. Сосредоточив внимание на индивидуальном развитии, и в особенности на событиях раннего детства, он отвлекся от социоэкономических факторов.
Психоаналитики в целом следуют традициям буржуазного мышления. Они приняли философию своего класса и практически стали приверженцами потребления. Искаженное учение Фрейда стало сводиться к тому, что невроз – это следствие сексуальной неудовлетворенности (вызванной подавлением), а потому условием психического здоровья является полное сексуальное удовлетворение. Потребительское отношение к жизни победило на всех фронтах!
Формулировки Фрейда имеют еще один, очень серьезный недостаток: двусмысленность термина «реальность». Фрейд, как и большинство представителей его класса, рассматривал современное ему капиталистическое общество как высочайшую, самую развитую форму социальной организации. Это и была «реальность», в то время как все прочие общественные структуры оказывались или примитивными, или утопическими. Сегодня лишь политологи и следующие их подсказкам политики верят (или притворяются, что верят) в это. Все большее число людей начинает понимать, что капиталистическое общество – всего лишь один из бесчисленных вариантов социальной организации, которое не более и не менее «реально», чем общественное устройство центрально-африканских племен. Фрейд полагал, что все формы полового акта, не являющиеся строго генитальными (он называл их извращениями), несовместимы с высоко цивилизованным образом жизни. Поскольку сексуальная жизнь в буржуазном браке исключала любые «извращения» как покушение на «достоинство» жены, он оказался вынужден прийти к трагическому заключению, что полное счастье и полная цивилизованность исключают друг друга.
Фрейд был гениальным творцом конструкций, и, пожалуй, ему позволительно приписать девиз «Конструкции создают реальность». В этом отношении он обнаруживает близость к двум источникам, с которыми не был близко знаком: Талмуду и философии Гегеля.
Библиография
1. Ammacher, P. 1962. «On the Significance of Freud’s Neurological Background». Psychological Issues. Seattle: University of Washington Press.
2. Benveniste, E. 1966. Problemes de Linguistique Gnral, Paris: Gallimard.
3. Fenichel, O. 1945. «Criticism of the Concept of a Death Instinct». In The Collected Papers of Otto Fenichel, 2 Vols. Vol. 1, pp. 59–61. New York: W.W. Norton.
4. Freud, S. 1950. Aus den Anfaengen der Psychoanalyse. London: Imago.
5. Freud, S. 1897. «Letter to Fliess» (14 November, 1897). Aus den Anfaengen der Psychoanalyse, pp. 244–249 (trans. Origins of Psychoanalysis: Letters to Wilhelm Fliess, Draft S and Vote S, 1887–1902. Pp. 244–249. Edited by Marie Bonaparte et al. 1954. Basic Books.)
6. Freud, S. 1953–1974. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vols. 1—24, London: The Hogarth Press. Complete Psychological Works, 24 Volumes. New York: 1964. Macmillan.
7. Freud, S. 1898b. The Psychical Mechanism of Forgetjulness. S.E. Vol. 3, pp. 287–297.
8. Freud, S. 1899a. Screen Memories. S.E. Vol. 3, pp. 301–322.
9. Freud, S. 1900a. The Interpretation of Dreams. S.E. Vols. 4 and 5.
10. Freud, S. 1905d. Three Essays on the Theory of Sexuality. S.E. Vol. 7, pp. 123–243.
11. Freud, S. 1905e. Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria. S.E. Vol. 7, pp. 1—122.
12. Freud, S. 1907b. The Psychopathology of Everyday Life. S.E. Vol. 6.
13. Freud, S. 1908b. Character and Anal Eroticism. S.E. Vol. 9, pp. 167–175.
14. Freud, S. 1908d. «Civilized» Sexual Morality and Modern Nervous Illness. S.E. Vol. 9, pp. 179–204.
15. Freud, S. 1914c. On Narcissism: An Introduction. S.E. Vol. 14. pp. 67—102.
16. Freud, S. 1916–1917. Introductory Lectures on Psychoanalysis. S.E. Vols. 15 and 16.
17. Freud, S. 19186. From the History of an Infantile Neurosis. S.E. Vol. 17, pp. 1—122.
18. Freud, S. 1920g. Beyond the Pleasure Principle. S.E. Vol. 18, pp. 1—64.
19. Freud, S. 1921c. Group Psychology and the 9nalysu of the Ego. S.E. Vol. 18, pp. 65—143.
20. Freud, S. 1923b. The Ego and the Id. S.E. Vol. 19, pp. 1—66.
21. Freud, S. 1924c. The Economic Problem of Masochism. S.E. Vol. 19, pp. 155–170.
22. Freud, S. 1925e. The Resistance to Psycho-Analysis. S.E. Vol. 19, pp. 213–222.
23. Freud, S. 1926d. Inhibitions, Symptoms and Anxiety. S.E. Vol. 20, pp. 75—172.
24. Freud, S. 1926e. The Question of Lay Analysis. S.E. Vol. 20, p. 177–250.
25. Freud, S. 1930a. Civilization and Its Discontents. S.E. Vol. 21, pp. 57—145.
26. Freud, S. 1933a. New Introductory Lectures on Psycho-Analysis. S.E. Vol. 22, pp. 1182.
27. Freud, S. 19336. Why War? S.E. Vol. 22, pp. 195–215.
28. Freud, S. 1937c. Analysis Terminable and Interminable. S.E. Vol. 23, pp. 209–253.
29. Freud, S. 1940a. An Outline of Psycho-Analysis. S.E. Vol. 23, pp. 139–207.
30. Fromm, E. 1932a. «The Method and Function of an Analytic Psychoanalysis». The Crisis of Psychoanalysis. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970.
31. Fromm, E. 1941a. Escape from Freedom, New York: Farrar and Rinehart.
32. Fromm, E. 1951a. The Forgotten Language: In Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths. New York: Rinehart.
33. Fromm, E. 1955a. The Sane Society. New York: Rinehart.
34. Fromm, E. 1959a. Sigmund Freud’s Mission: An Analysts of His Personality and In fluence. New York: Harper.
35. Fromm, E. 1963e. «C.G. Jung: Prophet of the Unconscious. A Discussion of ‘Memories, Dreams, Reflexions’ by C.G. Jung». Recorded and edited by Aniella Jaff, Scientific. American 209:283–290.
36. Fromm, E. 1968h. «Marx’s Contribution to the Knowledge of Man». Social Science Information 7, no. 3, pp. 7—17.
37. Fromm, E. 1973a. The Anatomy of Human Destructiveness. New York: Holt, Rinehart and Winston.
38. Fromm, E. 1976a. To Have or to Be? New York and London: Harper and Row.
39. Gardiner, M. (ed.). 1971. The Wolf-Man by the Wolf-Man, Supplement by Ruth Mack Brunswick. New York: Basic Books.
40. Holt, R.R. 1965. «A Review of Some of Freud’s Biological Assumptions and Their Influence on His Theories». In N.S. Greenfield and W.C. Lewis (eds.), Psychoanalysis and Current Biological Thought, pp. 93—124. Madison: University of Wisconsin Press.
41. Jones, E. 1957. The Life and Work of Sigmund Freud, 3 Vols., New York: Basic Books.
42. Pratt, J. 1958. «Epilegomena to the Study of Freudian Instinct Theory». International Journal of Psychoanalysis 39: 17ff.
43. Robert, C. 1915: Ödipus. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
44. Schachtel, E. 1947. «Memory and Childhood Amnesia». Psychiatry, 10, no. 1.
45. Schneidewin, F.W. 1852. «Die Sage vom Ödipus». In Abhandlungen der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Goettingen. Vol. 5. Göttingen: Dieterich.
46. Sophocles. 1955. Oedipus Rex. In Seven Famous Greek Plays. Edited by Whitney J. Oates and Eugene O’Neill. Translated by R.C. Webb. New York: Random House.