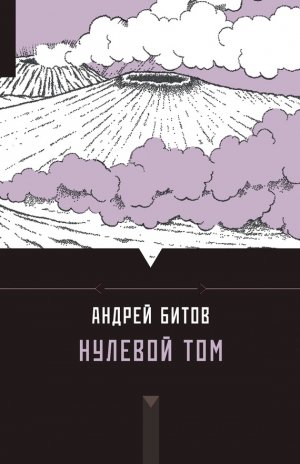
О нуле
(Рождение жанра)
Ноль (нуль) гипнотизирует своей замкнутостью. Замкнутая прямая. Но не круг. Круг – но сплющен. Но не как Земля и не как яйцо. «С нуля» – это не Ab ovo, не основание жизни. Может быть, ее граница?
«О – цифра или буква?» – задал мне загадку однажды один персонаж. Не только не разгадать, но и не произнести вслух этот вопрос без выразительного жеста типа о-кей. В исходном, латинском нуле было даже два О, что и породило наше У (как слышится, так и пишется).
Впрочем, одиночество пишется через три О.
Ноль остался цифрой, нуль превратился в понятие.
Удивительно, но факт: 0 как цифра был открыт позже единицы. Это был скачок в сознании больший, чем только математический. Разделите 0 вертикальной чертой, как кофейное зерно. В правой дольке расположите знак +, в левой знак —. Как добро и зло. Справа от нуля окажется +1, слева –1, и счет положительных и отрицательных чисел в любую сторону, до бесконечности, пока не надоест. Вот вам и свобода выбора: математическое равенство двух. Вот вам и выбор направления: либо ад, либо рай, чего хочешь выбирай, как в детской считалке.
Перекрутите ноль и получите 8, еще одну замкнутую цифру. Все знают, что 666 – число зверя, но не все знают, что 888 число Иисуса.
Повалите восьмерку набок и получите бесконечность.
Ноль – это даже не начало, начало – все-таки единица. Солдатик… поделите его на ноль, получите армию.
Помножьте любое число на ноль – получите ноль, поделите – получите бесконечность. «Деление на единицу есть реальность».
На этом мои познания в математике заканчиваются (ни слова о «ленте Мёбиуса»!).
Неопределенность!
Ноль может оказаться больше или меньше, вот в чем дело.
Ноль в начертании толще всех цифр, а в нем ничего нет.
«Неопределе́нно…» – сказал артиллерист Лев Толстой, проглядывая чью-то рукопись.
Ноль – это еще и обозначение другого (иной раз нового) уровня. Высший уровень – это предел реализации в настоящем времени.
Между завышенной и заниженной оценкой того, что делаешь, доходишь до нуля.
Рассуждая о нуле, нельзя не дойти до точки. Прочерчивая линию, ты начинаешь с точки и кончаешь ею. В замкнутой кривой все точки сливаются, растворяются и исчезают.
Точка не имеет измерения, а нуль – существования.
Грубо говоря, ноль – это толстая точка, в которой проковыряли дырку.
Но если проткнуть исторический нуль, образовавшийся в 1917-м, то выдох страны в 1956-м произошел с таким свистом, что слышен до сих пор.
Нуль оказался превосходной точкой отсчета. После него ты единица, можно сказать, единственный, даже первый. Кто бы осмелился иначе начинать с начала??
В плюсе оказалось все, что было до 1917-го, в минусе – все, что после, вся официальная литература с ее соцреализмом и продажностью. Легко было перешагнуть запуганное поколение отцов, потому что вся достойная его часть погибла. Образцы не подавляли не потому, что их не было, а потому, что их не ведали. Легко стало изобретать что велосипед, что порох, что интегральное исчисление, не ведая, что это всего лишь сборник упражнений по непройденному.
«Никелированный нуль отсчета» – поразил меня этот геодезический термин в 1956 году! Я еще ничего не писал, обнаружив этот никелированный нуль на круглой шкале теодолита, но уже улыбнулся, отразившись в нем. Позже я разглядел судьбу всего своего поколения в этом отражении. Отполированный нуль.
Ни тебе Достоевского, ни тебе Серебряного века, ни тебе Есенина, ни Джека Лондона, ни Зощенко, ни Платонова, ни даже «Двенадцати стульев», то есть никакой достойной послереволюционной литературы. К счастью, и разрешенной советской литературы я не читал из принципа.
Благодаря тому, что Маяковский был утвержден Вождем, по первому тому собрания сочинений ВВ мы получали все свое представление о футуризме, благодаря гонению на Ахматову и возвращению Вертинского – все о Серебряном веке.
Все одновременно читали одну книгу. В буквальном смысле слова.
Зато классику я читал запоем, не столько упражняя слух и вкус, сколько насыщая современными смыслами. Контраст был вопиющ. Создавая из русских классиков своего рода политбюро, власть сама воспитывала антисоветское поколение.
К счастью, у дядюшки была хорошая библиотека, и он разрешил мне ею пользоваться. Любимым писателем оказался полузапрещенный (как и Достоевский) Джек Лондон.
Романтика совпала с пубертатом.
Читатель во мне стал перерождаться в писателя, по-видимому, в 1954 году, когда, готовясь к выпускным экзаменам в школе, я с таким вдохновением читал первый роман Диккенса «Пиквикский клуб», будто сам его написал. В том же году вышли «Бедные люди»: будто Достоевский снова начинал как молодой писатель, с первой повести.
Я покинул лермонтовский возраст в 1963 году. После «Записок из-за угла».
От нуля я дошел до точки.
Это мой «лермонтовский» том.
Автор предоставляет своему последовательному читателю право определить место этому то́му: либо согласиться с авторским произволом и таким образом отделить «Империю» от позднейших сочинений, либо поставить «Нулевой том» впереди «Империи», либо после всего собрания, чтобы измерить, с чего все начиналось. Автор допускает, что кому-то эта книга может даже больше понравиться, чем его остальные: все-таки автор был помоложе, посвежей, посветлей, попроще, ближе к нулю – то есть, попервее.
Первая книга автора
Аптекарский проспект, 6
Автобиография
Это теперь я утверждаю, что родился в Ленинграде в том самом тридцать седьмом, в потомственной петербургской семье, что первое мое воспоминание – блокада, затем сталинская школа и первое прозрение в пятьдесят шестом – дитя «оттепели».
С одной стороны – все это факты, с другой – ничего похожего.
Жизнь и память – различного состава, тем более, когда память склеротически подменяется оценкой.
Значит, так. Я, по-видимому, родился, раз я есть до сих пор, но когда и где – ни малейшего представления. Родители мои появились позже меня, и то поначалу довольно смутно и изредка, и лишь потом, уже в школе, возникли в обязательном порядке. Детство как детство, после войны – уже лафа (что-то вроде кайфа в переводе на язык современности). Помню, по лестнице древнего профессора Вишнякова, богача (золотые зубы) и вредителя (звал нас бандитами за наши веселые послевоенные забавы); помню, улица вся в траурных флагах, я ему говорю: «Калинин умер», а он мне: «Туда ему и дорога – козел» (это сейчас у меня здесь, по смыслу, тире, а тогда была запятая). Помню лесозащитные желуди собирали, а я екатерининский пятак вырыл – целую пятилетку после этого монетки собирал, не мог остановиться. Помню, мне уже лет четырнадцать стало, лежу на пляже, рядом со мной незнакомый старший парень бицепсами поигрывает, а я смотрю с завистью: «Что, нравится?» – спрашивает он. «Нравится». – «Хочешь такие же?» – «Хочу». – «Тогда бегай». Я последовал его совету и еще одну пятилетку пробегал (знал бы я, что занимаюсь «боди-бил-дингом»…). Больших успехов достиг: на одной руке стоял, шпагат (почему-то женский) делал, мостик (зубами платок с полу подымал), – и вот выхожу я в таком виде, шея шире плеч, осенью пятьдесят шестого из кинотеатра «Великан», где внезапно показали «Дорогу» Феллини, – совершенно потрясенный, не зная, куда всю эту силу деть, а мне навстречу мой сокурсник Яша Виньковецкий. Никогда не забуду его взгляд, когда я ему про искусство Феллини стал рассказывать! Никакие мои последующие свершения не вызывали ни у кого такого же удивления. Так сильно он меня уважал за мою бездумную силу, что мысли в моей голове не допускал. Потрясенный моей неполной дебильностью, решил он продемонстрировать ее своим друзьям по литературному объединению нашего Горного института.
Так все и началось – скоро семь пятилеток этому нездоровому увлечению.
Чтобы задержаться среди наконец обретенных друзей, вынужден я был писать стихи, так что переход на прозу два года спустя вызвал у меня вздох облегчения.
Рассказы писать проще, чем стихи, вот что я обнаружил!
Тогда еще никого не печатали, и мы публиковались, читая друг другу вслух. Одно дело читать вслух стихи, другое – прозу. Я боялся вызвать скуку, вот отчего эти рассказы такие короткие.
Короткие они еще и потому, что единственный живой гений в прозе тех лет, соответственно и кумир, был Виктор Голявкин. Как он божественно краток!
Я и сейчас полагаю, что Голявкин – гений, и лишь извечная московская несправедливость к Ленинграду привела к тому, что это сегодня не всем известно.
Я писал короткие рассказы сотнями, пытаясь постичь его тайну, пока с огорчением не постиг, что гений – и есть тайна. С тех пор я пишу длиннее, предав забвению ранние опыты. Каково же было мое удивление, когда двадцать лет спустя некоторые из этих рассказиков стали появляться в эмигрантской прессе. Их вывезли друзья моей юности, в том числе и Яша Виньковецкий захватил как воспоминание детства.
Этот факт заставил меня тогда же, в 1980 году, перетрясти свой архив и извлечь этот немыслимый ворох. Преследование возрастало вместе с манией, и, опасаясь беспорядочности посмертных публикаций, отложил я четверть вот в эту подборку, чтобы в нее не затесались рассказики еще более случайные.
Вроде я не умер, но возможности перемещений и публикаций, возникшие для меня в связи с перестройкой и гласностью, парадоксально совпадают с послесмертием, этакая «жизнь после жизни».
Яша же Виньковецкий не стал жить после жизни, своей волею оборвав такую возможность. Он ничего этого не знает, про гласность и перестройку.
Светлой его памяти посвящаю я эту посмертную публикацию.
Из цикла «Люди, которые…»
Присказка
- Точка. Точка. Запятая.
- Минус. Рожица кривая.
- Ручки. Ножки. Огуречик.
- Вот и вышел человечек.
Люди, побрившиеся в субботу
Рано утром.
Мужчины, побрившиеся в субботу, ждали троллейбус. Над женщинами торчали зонтики. От дождя у мужчин поднялись воротники, а по спинам скатывались серые капли. Шляпы уныло опустили крылья. Передо мной стояли спины с опущенными руками, и на спинах был понедельник.
Подошел троллейбус. Он должен был перевезти этих людей окончательно из воскресенья в понедельник. На лице у троллейбуса была тупость работающего без воскресений. Один за другим пропадали в нем шляпы с опущенными крыльями и женщины вперед зонтиками.
Двери захлопнулись и выдавили меня внутрь. Я уперся носом в одну из спин, стоявшую на ступеньку выше. Она пахла сыростью. Над спиной была шляпа, и с нее стало капать мне на нос. Я постучался в спину и сказал:
– Гражданин, у меня нет зонтика, чтобы спрятаться от вашей шляпы.
Под шляпой оказалось молодое лицо, на котором еще сохранилось воскресенье. Оно улыбнулось:
– Извините.
Молодой человек снял шляпу и аккуратно вылил воду из тульи. Вода попала в туфлю рядом стоящей женщины.
– Не умеете обращаться со шляпой, так не носите! – возмутилась она.
Молодой человек смутился и стряхнул на меня оставшиеся капли.
«В субботу была баня…» – подумалось мне.
Ехать было далеко, за окном был дождь и туман, и я стал смотреть на лица. На них был тоже понедельник, такой же, как на спинах. Приглядевшись, я открыл и несколько другие лица.
Оживленно делились чем-то две девушки, рассеянно и глупо рассмеялся сам по себе сосед – на их лицах доживало воскресенье. Про некоторых можно было сказать, что у них на лицах была суббота, а воскресенье было отдыхом от субботы.
Понедельники ни на кого не смотрели.
Воскресенья смотрели, но не очень видели, словно издалека.
И лишь субботы, казалось, видели и понимали происходящее.
На одной из остановок в троллейбусе появилась старушка. На лице ее не сохранилось никаких дней недели, а был какой-то общий, длинный и последний день. И было странно, зачем она сюда попала. Она вошла с передней площадки, прижимая стул к груди. Стульчик был маленький, детский, но у него было уже четыре ножки. Они воткнулись в ноги, и получился шум, сутолока. Кричали в основном понедельники. Кричали о том, что неприлично лезть со стулом в троллейбус, что со стульями надо в трамвае, что вообще с мебелью надо в грузотакси, что и так сесть негде, а она со стулом, что и так все едут на работу. Старушка испуганно обнимала стул и беззвучно жевала жалкие слова.
Она вышла, а в троллейбусе, до нее молчаливом, сохранился гул. Рядом со мной что-то говорили, что чего-то стало вовсе не достать, а что-то стоит невозможно дорого, что в детском саду дурные воспитатели и что еще надо кормить мать… А кто-то обругал кондуктора в том смысле, что безобразие, что по утрам, когда всем ехать на работу, так долго нет машины; мол, зачем она открывает двери всяким со стульями и что еще не хватает, чтобы влезли со столом. А кондуктор говорил, что не она открывает двери и составляет график, что она на работе и чтоб к ней не лезли всякие.
Потом случилась женщина: подъезжая, мы забрызгали ей чулки. Она этого так не оставила и записала номер кондуктора.
Вошел пьяный, в лице которого была ночь с воскресенья на понедельник. А кондукторша, у которой еще и вовсе не было воскресенья, стала требовать с него за проезд. А он, катая голову по плечам, просил ее не беспокоиться. А она стояла над ним и требовала, потому что у нее еще будет воскресенье, когда она ни с кого не будет требовать.
И кондукторша наконец стала на него кричать, что все они такие, что пропьют все на свете, а женщины маются, что сегодня на работу, а он, видите, с утра пораньше.
На лице пьяного смешались все недели, и он что-то бормотал про то, что он хороший рабочий и что ничего в том плохого, что рабочий человек один раз выпьет. И, наконец поняв, что требует от него эта женщина, стал бессмысленно рыться в карманах, засовывая в них руки чуть не по локоть. Но устал.
– Опять плати… Жи-и-изнь… – протянул он и приткнул свою вращающуюся голову на плечо соседке. Та брезгливо стряхнула голову с плеча и встала. Он свалился на сиденье и уснул окончательно.
«В субботу тоже была выпивка… после бани», – подумалось мне.
Скучным голосом объявил кондуктор мою остановку. Это была конечная остановка. И люди, вымывшиеся и побрившиеся в субботу, ощетинив воротники и зонтики, вышли из машины.
Я присоединился к толпе спин и, с общим потоком, попал в стремнину заводских ворот.
Октябрь, 1958
Люди, которых я не знаю
Тихая у нас улица… Совсем рядом гудит туго натянутая магистраль: автобусы, люди, люди, машины. А здесь – тихо. Речка без набережной. Мост деревянный. А все остальное – сад. И мой дом. Очень спокойный дом. Все окна у него разной формы, и это мне особенно нравится. Проходя мимо дома, мне всегда хочется пожить в угловой мансарде.
Мои окна выходят во двор.
Если пройти по лестнице, то почти на каждой двери будет медная дощечка – профессор такой-то. Очень много профессоров по нашей лестнице. Тихие старики.
Внизу магазин – тоже очень тихий. Покупателей мало, и все друг друга знают. Вот кассирша – она тоже живет по нашей лестнице.
На скамеечке у входа в магазин согнувшись сидит женщина. Тихо, очень неподвижно сидит эта женщина. Пятнадцать лет сидит она на этой скамеечке. Сначала молодая – худенькая, в нарядном ситчике, с короткими прямыми волосами. Она сидела на этой скамеечке в любую погоду. Иногда к ней подсаживались дворники, и иногда она исчезала куда-то.
У нее странный взгляд – кажется, никто не попадает в него.
Иногда она смеется. Такая у нее сипотца.
Может, она и не всегда сидела на этой скамейке.
Она сидела и сидела – и день, и два, и год, и другой, и потом еще год, а я, как-то странно, замечал ее только вдруг. Однажды я вдруг заметил, что она очень похудела. Потом очень поседела – тоже вдруг. Потом она надела коричневое мужское пальто. Теперь она всегда сидит в этом пальто.
Внезапно согнулась ее спина.
И вся она, сжавшись, сидит сейчас на скамейке.
Я прошел в магазин. За прилавком девочка – это новенькая. Милая. Второй раз я захожу в магазин, и она за прилавком. Смущается, когда я подхожу к ней с чеком.
Очень миленькая девочка. Да-а-а…
Тихая у нас улица.
Когда я выходил из магазина, туда прошел тоже странный человечек. Он живет напротив. Он всегда в шляпе и с портфелем. Мы часто едем вместе в автобусе. Все кондуктора его знают. Встречаясь со мной, он говорит:
– Приятно видеть молодость! При этом,
Лишь только посмотрю, я становлюсь поэтом.
Впервые я столкнулся с ним на автобусной остановке.
Я направлялся в ателье, и у меня на руке повисло пальто. Впереди стоял человечек с портфелем и в шляпе. Несколько раз он оборачивался и с интересом посматривал на меня.
– Почему на вас второе пальто? – спросил он наконец.
– Это мое пальто, – сказал я.
– Я увидел на вас второе пальто. И сразу подумал: здесь что-то не то…
– В чем дело?! – сказал я.
– Дело в том, что нынче лето…
А вы, что, не слышали об этом?
В очереди смеялись.
– На мне первое, – сказал я. – Не приставайте.
– Зачем ко мне вы, юноша, придрались?
Вы, может быть, в Америку собрались?
Мы поговорили.
– Родные все зовут меня поэтом,
А я не чувствую себя при этом, – сообщил он мне.
И звал к себе.
Вот он-то и прошел в магазин, когда я вышел.
Интересно, что он еще может мне сказать?
Я вспомнил, что могу еще купить сигарет, и вернулся за ними в магазин. Девочка за прилавком снова смутилась. Я встал в очередь за человечком с портфелем. Тут в магазин прошла девушка со стеклянным глазом. Она тоже из нашего дома. Она всегда старается быть нарядной. Она встала за мной. Бабы в очереди посмотрели на нее и зашушукались.
С этой девушкой я знаком немного. Вернее, я был знаком с ее подругой, и они пришли однажды вместе в нашу компанию. В тот вечер все разбрелись парами по комнатам, а она сидела одна в гостиной, и ее стеклянный глаз удивлялся.
Теперь я иногда вижу ее сидящей на скамейке около магазина.
Худенькая, с короткими прямыми волосами, в веселом ситчике, сидит она рядом с женщиной в коричневом мужском пальто.
Девушка встала за мной, и я поздоровался с нею.
Девочка за прилавком странно на меня посмотрела.
Бабы в очереди зашикали:
– И не стыдно!.. Прямо в очереди!..
– Что вы?.. Что вы! – отмахнулась девушка в веселом ситчике. – Это просто знакомый.
– Пачку сигарет! – крикнул я на девочку за прилавком.
– Когда я вижу юности приметы,
Тогда невольно становлюсь поэтом, – сказал человечек с портфелем.
– При этом, при этом! – рассердился я.
И выскочил из магазина. С удовольствием вдохнул воздух и закурил.
Подошла толстая дворничиха. Поставила около скамейки метлу, бросила совок. Села рядом с женщиной в коричневом мужском пальто.
– Что это ты, Машка, грустная такая? – засмеялась она. – Вон, смотри, молодой человек, – кивнула она на меня.
Женщина сидела, положив локти на колени, а голову на ладони, смотрела вперед, и ничего не попадало в ее взгляд.
– Что ж ты молчишь! – толкнула ее дворничиха.
Женщина деревянно покачнулась и завалилась набок, нелепо задрав стоптанные башмаки.
– А-а-а-а! – закричала дворничиха. – Машка! Машка! Дядя Миша! Дядя Миша!
Из сапожной будки вылез дядя Миша, квартальный милиционер, степенный и усатый. За ним вылез ассириец, усатый и степенный.
Из магазина высыпали бабы.
– Жалость-то какая… – сказал кто-то из них.
– Тетя Маша! Тетя Маша! – закричала девушка в веселом ситчике.
– Уснуть… И видеть сны, – сказал человечек с портфелем.
– Да-а… – сказал дядя Миша и стал звонить по телефону.
Сентябрь, 1959
Голубая кровь
«Интересный дядя! – подумал я. – Керенский-Врангель-Коненков…»
Интересный дядя стоял в подворотне.
Седые усы серебряными ложками изгибались по щекам. Трость. Корректное пальто. Выдержанное, достойное лицо.
«Джентльмен. Аристократ. Комильфо».
Я смотрел на него вежливо и с интересом, стараясь, чтоб не вышло нагло. И в это время входил в подворотню.
Он тоже смотрел на меня.
«Чувствует породу… – думал я. – Теперь ее мало. Приятно увидеть ее в молодом. Так настоящая женщина чувствует настоящую женщину».
Я разделился, забежал на место дяди и посмотрел на себя, входящего в подворотню…
«Так себе. Ничего. Просто прелесть!»
Дядя сделал сдержанные полшага в мою сторону. Два пальца сжали поля шляпы. Легкий поклон.
– Извините, пожалуйста… – говорит он поставленным голосом.
– Нет, что вы, что вы… – говорю я и тоже кланяюсь. Только шапка у меня меховая и полей нет… Я делаю полшага в сторону, чтобы обойти дядю.
Дядя делает полшага ко мне:
– Извините, пожалуйста…
– Пожалуйста-пожалуйста… – говорю я.
И стараюсь протиснуться между дядей и стенкой.
Дядя прижимает меня к стенке:
– Вы не скажете, где квартира такая-то?
– Ах… – говорю я. – Я из этой квартиры. Пойдемте со мной.
– Там живет профессор Роттенбург?
– Я его племянник.
– Ах, вот как… – говорит старик. – Значит, он ваш дядя? Очень рад.
Мы пожимаем руки. И идем вместе.
– А как здоровье вашего дяди?
– Ничего, – говорю я, – хорошо здоровье. Недавно, было, заболел, но все в порядке.
– Так что ваш дядя в пор… то есть здоров?
– В совершенном порядке.
– Так вы говорите, он сейчас дома?
– Он всегда в это время дома, – говорю я.
– Приятно видеть такого молодого человека, как вы. Ах, теперь не та молодежь…
Я потупляюсь. Только скромность не позволяет мне согласиться. Он должен оценить это.
– Опять лифт не работает, – говорю я.
– А какой этаж?
– Пятый.
– Ох, – говорит дядя, – чего же он не работает?
– Разве ж теперь обслуживают?.. – скорбно замечаю я.
Дядя светски раздвигает усы в улыбку.
Мы поднимаемся рядом. На площадках я пропускаю дядю вперед. Ему тяжело. Усы шевелятся по щекам.
– Извините, – говорит он и передыхает. На лице у него достоинство и виноватость. Он пыхтит.
– Ничего, я не спешу, – говорю я.
«Славный, красивый старик, – думаю. – Таких теперь уже мало. Старой закваски».
– А вы чем занимаетесь? Работаете или учитесь? – спрашивает дядя. – Если, конечно, вы ничего не имеете против такого вопроса.
– Нет, что вы, – говорю я, – учусь.
– Это замечательно, это хорошо, это изумительно – учиться, – говорит старик. – Ваш дядя – прекрасный пример. Наука требует от человека всей его жизни…
Он смотрит с испугом на оставшиеся ступеньки. Наконец пересиливает себя:
– Ну, пойдемте дальше…
Улыбается он так легко и плавно, мол, вы уж извините, что я старик, мол, старость не радость…
– Вот и наша площадка, – успокаиваю я старика. – Вот мы и пришли.
Я чуть задеваю дядю.
– Ах, извините, – говорю я.
– Нет, что вы, что вы, пожалуйста…
Мы стоим у двери. Смотрим друг на друга.
– Нет, вы меня извините, ради бога, пожалуйста… – Я краснею.
– Да ну что вы! – отмахивается дядя.
Я стою у двери и не могу пошевелиться:
– Да нет, я правда очень виноват… извините, пожалуйста… я совсем забыл… простите, ради бога… так получилось… я не хотел…
Дядя расширяет глаза, и его усы выгибают пушистые седые спинки.
– Что вы, право?
– Я совсем забыл… дядя улетел вчера в Кисловодск…
Некоторое время мы смотрели друг на друга.
На дядином лице боролась корректность.
Корректность победила:
– Что ж вы сразу не сказали…
Тучная спина заколыхалась вниз по ступенькам.
«Ничего, – успокаивал я себя, – ничего. Усы, как у швейцара».
8 февраля, 1960
Чужая собака
На работе объявили выговор. Соседи объявили бойкот. Жена сбежала с другом детства.
Я, конечно, могу сходить к тетке, погулять с ее собакой… У нее, у собаки, сегодня день рождения. Тетка приготовит торт.
Этот молодой жирный боксер, я ничего не имею против. Сильный зверюга. Он идет, виляя обрубком хвоста, натягивая поводок. Все время приходится тормозить, словно бежишь под горку. Морда у него, с точки зрения обывателя, малосимпатичная. По-моему, это красивое животное.
А я надеваю темные очки от солнца и веду его, желтенького, песочного, по Невскому.
А про него говорят:
– У-у-у! Черчилль… чертяка! Мизантроп этакий…
А про меня говорят:
– А хозяин-то… Еще очки надел!
А одна говорит:
– Бедный… Такой молодой – и уже слепой!
А один другому говорит:
– С-суки! Жизнь-то у них какая!.. Нам бы такую…
А мальчик кричит:
– Хочу собачку! Хочу-у-у!
А один говорит:
– Почему собака без намордника?!
А я думаю: «На тебя бы намордник…» А я иду по улице в темных очках, с боксером… И у меня к нему симпатия. Да он бы и не обратил внимания на этого типа! Он вообще ни на кого не обращает внимания. Наверно, у него свой, собачий мир, и он меня туда не пускает. Я его уважаю за это. Мы бы с ним нашли общий язык. Но мой мир его не интересует. Умный, зверюга! Лоб мыслителя. А глаза? Чтобы у всех людей – такие глаза!
Люди зыркают на него – на меня, на меня – на него. А он ни глазом, ни ухом – все тянет и тянет меня вперед. Сосредоточенность и целеустремленность во всем. Он явно идет куда-то. Наверно, ему стыдно показать, что он идет просто так…
И я, тоже вот, – гуляю с собакой…
У нее сегодня день рождения. Тетка приготовит торт…
А еще я могу – не пойти к тетке…
9 февраля, 1960
Собрание фраков
После речи дедушки Во, ровно в 12, звякнули шампанским.
Был роскошный стол.
Хвалили отдельные вина, их букет и выдержку. Пили из хрусталя мелкими глотками. Хвалили отдельные закуски. Кушали икру и апельсины-ананасы. Описание того, что кушали, – слов на 100.
У мужчин образцово торчали белоснежные манжеты.
Дамы держали длинные мундштуки в длинных пальцах.
Время от времени говорили, что все славно, но пробовал ли кто такой-то сорт вина, такую-то закуску. И если не пробовал, то не пробовал ничего в жизни.
Кто-то что-то кушал у знаменитого Шейнина-Моисеева-Ботвинника.
Все кушали Шейнина-Моисеева-Ботвинника.
Танцевали.
И говорили, что чудесная музыка, просто славная. Но кто не слышал такой-то вещи, тот не слышал ничего.
Что за музыка была у Шейнина-Моисеева-Ботвинника!
Вина становилось мало.
Женщины невозмутимо покидали стол и выстраивались у туалета.
У мужчин торчали манжеты.
Кто-то принес из бабушкиной комнаты часы с кукушкой. На него зашикали. Обиженный, он ушел на лестницу.
Где-то на кухне уединившиеся манжеты пили стаканами перцовку. Нюхали горбушку.
В кухне тоже ничего не осталось.
Два манжета толклись у хозяйкиных духов.
В три часа один кандидат, разговаривая о способах заварки кофе, упал замертво.
Жена выскочила из темного угла дивана и начала беспокоиться вокруг. Из того же темного угла вышел бледный дух, поправляя манжеты.
Обиженный человек принес с лестницы огнетушитель и представил его как доказательство.
Вызывали такси.
Кто-то пробовал еще упасть, но все поняли, что тот прикидывается.
Кто-то потерял манжету. Ползал.
– Адрес… Адрес свой потерял! – плакал он. – На манжету, уходя, записал… и потерял! Кто знает теперь, кто я такой?!
Никто не знал.
– Как меня зовут?!
Такси вызвали.
Кандидата погрузили на заднее сиденье.
Бледный дух махал ручкой.
Шофер был мужчиной.
Ехали.
Жена оглянулась на заднее сиденье: муж был еще там.
– Мужественная профессия… – сказала она шоферу.
Шофер рыгнул.
– Голубчик, вы всегда такой мрачный?
– Приехали, дамочка.
Кандидат сохранял бесчувственное состояние. Вызвали неотложку.
Врач был мужчиной.
Распевая, он пощупал пульс через манжету и приложил ухо к пиджаку.
– Ер-р-рунда! – сказал он. – Проспится. Ничегошеньки с ним не будет. Такого не бывает, чтобы что-нибудь было.
– Я так испугалась, доктор…
– Чеп-пух-ха! Стоило вызывать… Разве ж это случай? Это не случай. Вот только что был случай, так это случай! Жена с мужем друг дружку бритвами порезали… Только что оттуда.
– Благородная профессия… – вздохнула жена.
Врач поцеловал ей ручку:
– Вызывайте, как только сочтете нужным…
И долго искал галоши.
Видимо, тогда он и наблевал в передней.
9 февраля, 1960
Любители
За рулем.
Дорога впереди в ниточку. Машина раздвигает дорогу, разрывает лес. Лес разлетается, улетает двумя струями слева и справа.
Поворот.
На лужайке за обочиной – колеса.
Машина, как жук, – кверху лапками.
Чужая машина. Не своя машина.
«Вот это да! Вот этот пропорхал!..» – Вообразил. Возникла сказка происшедшего. Диагноз.
«Тот ехал. Тот затормозил. Того занесло. Тот повернул – еще больше занесло.
Заносило, заносило…
И тот полетел.
Перевернулся, перевернулся… Раза два перевернулся.
Не меньше ста была скорость!
Интересно.
А где же пассажиры?
Никого людей. Впрочем, пассажиров могло и не быть.
А шофер?..»
Машина остановилась. (Долг автомобилиста. Интерес профессионала-любителя.)
Все равно никого.
Вдруг смех. Послышалось?
Увидел…
На холмике сидит человечек. Смотрит на машину кверху лапками. Прыскает.
«Странный очевидец. Все-таки надо узнать».
– Здоро́во!
– Здоро́во. Ха! – сказал сидящий. – Здо́рово? Хала.
– Здо́рово! Ведь шел-то как! На сто.
– Наверно. Ха-ха-ха!
– Вы видели?
– Видел… Ах-ха-ха-ха!
– Наверно, подвели колодки?
– Ах-ха-ха! Курица… Ха-ха-ха!
– Ведь не меньше двух раз перевернулся?
– И-ах-ха-ха! Четыре… – трясся человечек. – И-и́х-хи-хи́!
– Что ж тут смешного! – возмутился автомобилист. «Все бы этим пешеходам поскалиться». – Жертвы были?
– Их-хи-хи́-хи! – визжал человечек, тыкая пальцем в сторону перевернутой машины. – Были… Иг-ги-ги́-ги!!
– КТО? СКОЛЬКО?
– И-и-и́г-ги-ги́-ги-ги! Курица… И-и́х-ха-хи́-ху-хо́!
– Как?
– И-их-ха-хи-́ ху-хо!́ Хотел объехать… Уа-ах-ха-хи-хи-́ ху-хо!́ Уа-ах!
– А как же пассажиры?!
– Уо́х-хоу-хоу! – лаял человечек. – Пассажиров нет. Уо́х-хоу-хоу! хох!
– То есть как?!
– Уо́х-хох! Фьи́ть-фьють… И-ах-хи́-хи-гу́-го-го́! Фьюи́ть! – свистело в человечке.
– Бессердечный человек, – сказал автомобилист. – А шофер?
– Гу́-гу-го́-го-ги́-ги-ги́! Бу́ль-бульк! – булькало в человечке. – Ох-гу! Ух-го! Ах-гы-ы-ы! – ухал он. – Иги́ги… Хохи́хи… Пш-ш-ш! Вш-ш-ш! – выпустил воздух человечек. – Шофер?!.. Го́ги-гу́ги! Их-хи-ху-хи! Буль-бульк… Уап-пи-пи́! Бу-бо-ба! Фьють-фьють! Х-х-х… ЭТО Я!!!!!!!!!..……
11 февраля, 1960
Такие дела
В энской районной газетке была нехватка стихов. Кое-как перебивались на армейских собкорах.
Однажды – честь честью патриотический стих. В редакции обрадовались. Стих прошел.
Все нормальные люди читают нормально. А стихов не читают.
А вот какой-то псих читал стихи снизу вверх по заглавным буквам.
Искал.
Нашел: по диагонали читалось «ИВАНОВ – ДУРАК».
Иванов был большой человек.
Газетку разогнали. Столько-то человек, кормившихся ею, осталось без куска.
Эти люди:
стали писать стихи, стали читать стихи.
СЕНСАЦИЯ!!
Весь мир потрясен вестью. 500 лет мы неправильно читали Вийона. Все стихи Вийона надо читать не так, как они написаны.
Их надо читать:
снизу, по диагонали, ходом коня, третьими буквами, четвертыми буквами третьего слова с конца пятой строки снизу.
Биография Вийона совсем не такая, а другая, зашифрованная.
А как обстоит дело с другими?
С другими обстоит так же.
Тыщи лет люди не так читали стихи.
Наивные увлечения прошлого: игра в 15, футбол, Шерлок Холмс.
Все читают стихи. Общий ажиотаж. Детективность стиха.
Страшные истории из жизни великих людей. Их теневые стороны.
Тираж поэзии подскочил до невиданных высот.
Современная поэзия перестроилась. Ушел в историю наивнейший по технике акростих.
Поэты строили дачи.
Поэтессы удачно выходили замуж.
Кроссвордисты, ребусисты терпели крах…
Но переквалифицировались:
«В этом стихе про зиму, найдя ключ, вы прочтете совет по домоводству».
Литературоведение с ужасом осознало, что оно шло не тем путем.
И оно пошло новым:
Надсон оказался словарем всех русских ругательств при соответствующем чтении.
Барков – лириком.
Классики были пересмотрены. Чистка.
Гражданские поэты были довольны: стало куда помещать идейное содержание.
Возникла проблема. О…..: его не удавалось расшифровать.
Это был один из самых драматических моментов.
Открылась группа врагов.
Жертвой пал Щ. Стихи его, при соответствующем прочтении, таили в себе порнографические откровения.
Всюду:
в трамваях и парках, на улице и в очередях —
сидели, стояли и ходили люди с раскрытыми томиками и сложно водили пальцем, выискивая закон прочтения стиха.
А еще через тыщу лет – еще сенсация:
обнаружили рифму, и что читать надо то, что написано в строчках, и что ничего зашифровано не было.
Такие дела…
18 февраля, 1960
Китайцы
624 тыс. т мух перебили китайцы.
Торжественное собрание: в районе уничтожили всех мух. Эстрада – кумачовый стол – президиум. В зале товарищи в синих френчах. В президиуме товарищи из товарищей. Собрание считается открытым… Слово предоставляется…
Речи.
Товарищи сменяют на трибуне товарищей.
Зал относится с полной китайской ответственностью. Слышно, как муха пролетит.
Вдруг услышали… Пролетела.
Муха! Муха в зале!!
– Синь-синь-сяо-МУХА, – сказал председатель.
– Синь-синь-сяо-МУХА!! – сказал президиум.
– Синь-синь-сяо-МУХА!! – сказал зал.
Все смешалось. Ловили муху.
Поймали. Казнили. Отнесли в президиум.
Собрание продолжается.
…Где-то сдают сухих комаров. Где-то обязательно должны сдавать сушеных комаров…
18.02.1960
Черный день
Человечек.
Когда закурил, перетряхивал пачку – раз-два, два-раз. Высунется папироска – он ее обратно загонит. Спрячется – снова вытряхнет. Раз-два, два-раз. Потом, словно спохватится, – достанет. И снова: откроет коробок спичек, закроет. Закроет – откроет. Ширк-ширк – коробок в его руках. Уже, кажется, никогда спички не вынет. Вдруг – раз! – закурит.
Уходит – дверь прикроет – откроет, откроет – прикроет. Туда – сюда. Сюда – туда. Помашет дверью, словно прикрыть ее можно только с великой точностью…
Положит что-нибудь на стол… Чуть пододвинет. Потом обратно. Еще подвинет… Пока вещь не успокоится, словно на единственном для нее месте.
И был у него большой бумажник.
Отделений – раз, два, три… Много.
Одно отделение – для рублей, второе – для трешек, третье – для пятерок… Каждому сорту по отделению в этом бумажнике.
Пересчитывает человечек деньги, они укладываются пирамидкой: внизу – самый большой квадратик, наверху – самый маленький…
Или можно по росту.
И досталось ему наследство. Тысяч пять.
Много вещей вдруг стало необходимо купить.
А тысяч всего пять.
И он решил так:
Ухнутся они – их и не было.
И жить ему будет – так же.
Ведь никогда ему отложить не удавалось…
А если черный день?
А про черный день – и ничего нет.
Надо бы их сохранить, 5 тысяч.
Но как-то приятно в то же время, чтобы не только он чувствовал, что у него есть деньги.
Положил в сберкассу.
КАК ОНИ ТАМ ЛЕЖАТ?
Беспокоился.
Снял, переложил в другую.
КАК ОНИ ТАМ ЛЕЖАТ?
Взял половину. Переложил еще в другую кассу.
Вынимал, вкладывал.
Клал, забирал.
ПЕРЕКЛАДЫВАЛ.
В одну кассу – три, в другую – две, в третью… – И нечего.
Тогда:
Из первой – пятьсот. В третью – пятьсот…
А кассиры поглядывают.
Докладывают каждую субботу куда надо.
А соседи в квартире поглядывают.
Откладывается у них в голове.
И на кухне разговоры:
– Один человек нес мешок. На нем синие очки, несет его по улице. А пацаны пошутили – чирк! А оттуда – как посыплется! как посыплется!..
– А то, еще у одного был чемодан с двойным дном…
с тройным!
с четверным!..
– А наш сосед ТОЖЕ странный человек…
А человечек беспокоился.
Еще раз переложил.
Тут-то и отделился от очереди один в плаще:
– ПРОЙДЕМТЕ.
А человечек то приоткроет сберкнижечку, то призакроет.
То приоткроет.
Не понимает: куда пройдемте?
– Я давно слежу за вами и все знаю.
Жена пришла на свидание, говорит:
– Черный день пришел, надо бы…
– Э-э-э, не-е-ет… Какой это черный день! Разве это черный день? Это еще не черный день. Надо – про черный день…
Разобрались – выпустили человечка.
И еще случилось что-то…
– Вот, пришел черный день, – говорит жена.
– Нет, – говорит человечек, – это еще не черный…
И не было у них в жизни черных дней.
02.03.1960
Кощей бессмертный
(Старая история)
Ух! Ух! – Трясется лес.
Стонет земля под Кощеем.
Вот и хоромы.
Вот и дома.
Устал он, ух, как устал. Не такое теперь время.
А жена у него молодая, круглая.
И он говорит:
– А не пахнет ли тут человечьим духом?
Жена у него молодая, круглая…
Она и говорит:
– Полно тебе, нахватался в дороге. От самого и пахнет. А я тут бедная, молодая-круглая…
– Ну, ну, – говорит Кощей. – Что ты говоришь… Какие ж теперь бабы? Одна ты у меня.
– То-то.
А сама ему на стол ставит. И первое ему, и второе, и третье.
Угодила всем. Обтаял Кощей. Разлегся.
– Иди ко мне, – говорит.
А жена ему гладит волосы, говорит:
– Уж так я тебя люблю, так холю…
Скажи, где твоя душа?
– В венике, – ухмыльнулся Кощей. А про себя подумал грустно: «Старая история…»
На следующий день ушел Кощей, жена веник и помыла, и посушила, бантиком повязала, маслицем смазала.
Явился.
– Что-то тут челове… – А жена надула губки, круглые, красные. А Кощей видит: в углу веник сияет. – Ну, ну, не буду, – говорит. – Зверь я, зверь… Истинно Кощей. Нехорошо я к тебе отношусь. К жене своей единственной. Соврал я тебе вчера. А ты – хорошая, доверчивая – сказок даже не читала. Разве ж может душа быть в венике? Сама рассуди… Соврал я тебе.
Жена совсем расстроилась с виду. Размяк Кощей:
– Скажу я тебе: там, на чердаке, в сундуке – шкатулочка, в ней заячий хвостик…
В нем моя душа.
И вот на следующий день ушел Кощей, жена сундучок-то начистила, а из хвостика щепотку вырвала.
Приходит Кощей, шатается.
А жена молодая, круглая…
– Простудился я, что ли. Просквозило меня, продуло. Просек много – сквозняки. Сегодня уж точно человечиной пахнет. Ну, да ладно, сил моих нет.
Слег.
Жена хлопочет. И малина, и мед, и молоко. Выскочит, словно в погреб. А сама наверх. Щипнет – и обратно.
А Кощею все хуже.
А жена хлопочет. Градусник ставит.
Гладит его по волосам:
Уж я ли тебя не любила, уж я ли не холила…
Скажи своей женушке, где ты свои сокровища хранишь?
А Кощей вовсе обессилел. Рта раскрыть не может.
Приподымет только кверху два пальца…
И рука падает обратно.
А заячий хвостик совсем облысел.
А жена плачет:
– Неужто ты меня покинешь… Что я делать буду? Куда себя дену?
Скажи хоть, где свои сокровища хранишь-прячешь?
Тут Кощей собрался с остатними силами. Поднялся на чердак.
Хвост забрал.
А полюбовника съел.
И тут же поправился.
– Съесть бы тебя мало, – говорит жене, – да разрушать семью жалко.
И на что ты надеялась? Ведь я же бессмертный!
А жена и говорит:
– Виновата я, раскаиваюсь. Ошибалась.
– Старая история, – говорит Кощей. – Все вы начинали с веника… Бессмертный я.
Успокоилось все. Улеглось.
Говорит жена:
– Только скажи мне, что это ты все два пальца подымал, когда я про сокровища спрашивала? Думала, на чердак показываешь. А там ничего…
Говорит Кощей:
– Не подозревал я тебя. Думал, правда заболел. Умирать собрался. Столько живу – надоело. И совсем уже на сокровища показать хотел. Но только подниму руку – и не могу. Подниму – и не могу…
А раз не вышло – зачем тебе про сокровища знать?
Бессмертный я, бессмертный…
02.03.1960
Родинка
Можно сходить в кино.
Взять билет за полтора рубля. Стоять у контроля и ждать, пока впустят.
Они обязаны впускать за час до сеанса!
Он войдет вместе со старушками и школьниками, мотающими уроки…
А когда впустят, можно рассматривать фото артистов, лица, знакомые до того, что странно, что они не с вашей лестницы. Или стенд о семилетке.
Можно купить мороженое, наконец…
Покурить с инвалидом в уборной.
Можно подняться наверх и листать журналы:
четырех матросов носило 49 дней в океане без еды, наша галактика расширяется и конечна, мы нашли друг друга! мы не виделись 10 лет… и вот благодаря вашему журналу…
А ему и находить некого. Никого и никогда не было.
А можно и не пойти в кино…
Соседка Марья Ивановна говорит, что чайник скипел.
Можно попить чаю… Он всегда покупает к чаю что-нибудь вкусненькое. Сегодня – пряники.
И стало ему как-то скучно:
была бы у него мама, был бы у него братец, звали бы его Вовкой… теперь бы он был большой и старый.
А еще лучше – было бы два брата.
И еще сестра.
Он отодвинул чайник и пряники и долго вертел перо.
«Помогите отыскать моих близких, – написал он. – Многим вы уже помогли найти своих близких родственников. Прошу теперь помочь мне.
Мы проживали где-то около Ленинграда, не могу вспомнить где. Маму, кажется, звали Верой.
Меня, сестру и двоих братьев (одного звали Вовкой) соседи отдали в детдом, какой – не знаю. Позже меня с сестрой привезли в другой детдом, а где остались братья – неизвестно. Из детдома меня взяли одни люди, а сестру – другие.
А я теперь живу тут».
Он перечитал. «Только как же они найдут?» – подумал он. И стал думать, каким бы он был в отличие от других.
И ничего не мог придумать.
И тогда приписал про родинку. Про большую родинку у брата Вовки. Такую большую, по которой узнают в книжках выросших на чужбине сыновей.
Помогите отыскать моих близких!
Очень прошу.
16.03.1960
Однокашники
Петя Бойченко с 3-го класса собирал медную мелочь. К 10-му классу у него было два пуда. К V курсу – пять.
Он сел за задержку разменной монеты.
Во время летних каникул Вася Власов нашел на речке штык. Он сделал к нему ножны и хранил в столе до самой свадьбы.
Он сел за хранение холодного оружия.
Мой сосед по парте Колька Санин рассказал мне анекдот, а потом сознался, что я его слушал.
А Филька Шмаринов до сих пор гуляет на свободе.
21.03.1960
Разводы
Помню, он учил меня курить во втором классе. Звали его Гапсек. Вообще-то он был Коля Иванов. Просто как-то на детском утреннике мы видели, почти весь наш двор видел, картину «Гобсек». А потом Колька принес огромный моток серебряной ленты. Мы, конечно, хотели поделить. Но он не дал. Все сказали, что он жмот, жох и жига. Но он и внимания не обратил. А один крикнул, что он Гапсек. Колька страшно рассердился на это прозвище и погнался за обидчиком. Тогда все закричали: «Гапсек! Гапсек!» Потом все забыли, кто такой был настоящий Гобсек, а вся лестница была исписана:
Гапсек – дурак,
Гапсек – жук,
Гапсек + Валя и т. д.
Я не поссорился с ребятами. Прошло время, и мы как-то редко стали встречаться. А столкнувшись, не знали о чем говорить.
Ребята побросали школу. Многие работали на заводе. Двое попали в исправительную колонию.
Сам я рос постепенно, а сталкиваясь с ними, удивлялся, как внезапно они выросли, что вот уже пошли в армию, а девчонки красят губы, а та, рыжая, – совсем недурна.
И мы как-то уже перестали здороваться. Вот только с Гапсеком… Он всегда широко расплывался в улыбке.
Потом кто-то вернулся из армии, кто-то стал чемпионом Ленинграда по боксу, кто-то заболел воспалением мозга (такой молодой!) и умер.
А девчонки таскали на руках детей.
Женился и Гапсек.
Все говорили, что бедная девушка, что он ей не пара. Она такая воспитанная, образованная…
А Гапсек потолстел, зарабатывал, не пил, приобрел телевизор и осуществил давнишнюю свою мечту – мотоцикл.
Родился маленький Гапсек.
А большой бегал по лестнице, обвешанный свертками. И вдруг что-то пошло не так.
В квартире снова говорили, что Гапсек ужасный человек, что бьет жену, что пьет и не работает.
А мать Гапсека говорила, что эта стерва хочет урвать площадь.
А Гапсек ходил какой-то потерянный.
Жена его сбегала в больницу, показала синяки и взяла справку о том, что она побита. Жена трясла перед Гапсеком справкой и говорила, что теперь-то он в ее руках.
А мать Гапсека сказала: «Дурак ты, дурак! Да на тебе же синяков еще больше. Пойди и возьми справку тоже. Не подскажи тебе, так ты так и будешь… Раззява».
И Гапсек взял. И доказал жене.
А жена все-таки подала в суд.
Суд разделил площадь: 1/3 – Гапсеку, 2/3 – жене с ребенком.
А площади 8 метров.
Гапсек ездил на мотоцикле и привез еще одну кровать. Так в комнате появился еще один муж, а Гапсек привел еще жену.
Когда родились дети, суд разделил гапсекову треть: 2/3 – второй жене с ребенком и 1/3 – ему.
Когда появились следующие, теперь уже две жены и два мужа, когда родились следующие дети, все развелись еще раз и каждый получил свою долю площади. И снова все возросло вдвое, и снова все развелись, и снова каждый получил свое…
А Гапсек все ездил на мотоцикле.
Предпоследним появился робкий молодой человек он обожал сырое тесто он приносил домой завернутое в целлофан тесто и входил в комнату после рабочего дня занимал свою 1/81 часть площади и стоя на одной ноге поджав вторую ел тесто прямо из целлофановой бумажки держа его на весу как он в таком положении мог но от него тоже родился ребенок и это бы еще ничего дело в том что когда площадь была разделена еще раз молодой человек привел робкую молодую девушку и я живущий тремя этажами ниже встретил ее на лестнице моя мама категорически против того чтобы эта девушка жила у нас во всем городе не нашлось балетных тапочек 43-го размера с большим трудом мне удалось выпросить их в балете ежедневно в ожидании решения суда я учусь стоять на пуанте и это бы еще ничего если бы было куда откинуть ногу………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
1000 лет мы прожили в подобной тесноте. Наши внуки научились летать. Они порхают под потолком и не пользуются площадью. Но они уже забивают кубатуру.
Им-то хорошо – они могут вылететь прямо в форточку…
Март, 1960
Пафли
– Слышал, слышал, – сказал Зарембо, встретив меня в раздевалке.
– Что – слышал?
– Уж слышал, – сказал он и, подмигнув, ушел.
Поднимаясь по лестнице, я почувствовал себя тем более странно. Что-то очень непривычное было на этот раз, хотя я ничего такого не мог заметить: все было так же. Я уже совсем поднялся, и тут столкнулся с Иваном Филипычем.
– Что же это вы? – сказал он.
– А что? – сказал я, и что-то во мне сжалось.
– А вам уж надо бы и самому знать, – сказал он.
И вот его нет уже, а я вдруг осознаю, что же было такого непонятного, когда я поднимался по лестнице. Вот уже сколько я по этой лестнице хожу, там всегда только одно слово нацарапано было: почему-то «Культя». Не может быть! Я спустился, внимательно осмотрел стену. И действительно – никаких следов… И тут опять Иван Филипыч появился. Ничего не сказал, только посмотрел.
Когда я входил в чертежную, все словно бы замолчали, приподняли головы и замерли, на меня глядя. Я тихо проскользнул к своей доске.
… – почему-то визгливо пропел Слоним и замолчал так внезапно, что тишина вроде бы звякнула, когда наступила.
Я принялся за дело, и вдруг до меня дошло. «Распрягайте, хлопцы, коней» – вот что пел Слоним. Вот оно, оказывается, что.
Солнце – просто ужас, какое солнце! И синица – влетела и повисла на форточке вниз головой и вертит ею. А я просто веду эту линию, веду и, кажется, всю жизнь только ее и веду, и буду вести. Бумага – белая, линия – черная, кнопка – блестящая, резинка – мягкая, доска – ровная, табуретка – круглая и вертится, синица висит вниз головой и ею вертит; капли капают, солнце – яркое и круглое; крутится; капли по стеклу, круглые, катаются; кнопки – блестящие, круглые, крутятся. Пожалуй, кроме этих четырех, надо еще четыре по середкам воткнуть, чтобы бумага не топорщилась… Кнопки блестящие… А где же кнопки? Кто взял?
Я подошел к Слониму.
– Ты не брал мои кнопки?
– Кнопки? Какие кнопки?
– Как какие! Мои… Простые, обыкновенные.
– О чем это ты? Да постой, что это с тобой?..
– А что?
– Ну ничего, ты не унывай… Но что это ты сегодня? Не такой какой-то…
– А какой же?
– А не такой.
Вот теперь не отгибается. Я веду и веду свою линию. До самого обеда.
Спускаюсь со всеми в столовую.
– Ну вот и ты с нами, – говорит мне Зарембо.
– А что тут такого?..
– Да нет, это я так…
Спускаюсь, смотрю на стену. Нет «Культи». А тут Артамонов. Задушевно так за руку берет и не выпускает, в своей держит, и пристально так на меня смотрит.
– Ну как ты, Петя?
– А что?!
– Ну ничего, ничего, – говорит Артамонов. – Это ничего.
В столовой опять солнце. Всюду слепит. Набрал всего на поднос – не знаю, куда сесть. Стою с подносом. Вижу, Слоним один сидит. Сажусь к Слониму.
– Что же ты, Петя, киселя-то не взял? – говорит Слоним.
– Как киселя?
– Ты киселя-то возьми.
Теперь и кусок-то в горло не полезет. Что это? Солнце слепит, Слоним сидит напротив, кисель пьет. Да полно, Слоним ли это?
И вот опять я веду и веду эту линию. Кнопки блестят, круглые. Капли еще капают. Синицы же нет. Рейсшину почистить надо – мажется. Синицы нет. Иван Филипыч подходит.
– Так, так, – говорит.
Я черчу, не оборачиваюсь, веду свою линию.
– Культю подхавали пафли, – слышу я из-за спины.
– Что вы сказали?! – говорю я.
– Я? Ничего. Что это вы, право?..
И отходит.
Я же черчу. Только что-то вдруг все на меня пристально смотреть стали. И не чертят уже, смотрят все и молчат.
«Да полно вам», – хочу сказать я.
Молчат. Солнце. Кнопки блестят. И чертежные доски отдельно так стоят, черные на солнце, на тонких ножках; ножки все мелькают – и словно бы все эти доски по комнате плавают и ножками перебирают.
«Ну что вы?! – хочу сказать я. – Не надо! – хочу крикнуть я. – Да вы что?!»
Молчат. Все словно бы расползается перед моими глазами, как мокрая промокашка. Серое такое, амебное…
«Спокойно, – говорю я себе. – Только спокойно. Культпоход завтра. Возьми себя в руки».
01.04.1962
Воспоминание
Эта бочка, совершенно непонятно почему, стояла на насыпи, причем так близко от проходящих поездов, что до нее можно было дотянуться рукой. Она была железная и пустая, а сразу за ней был длинный склон насыпи, и там, в глубине, под насыпью, до самого леска – огромная лужа. Бочка была рыжей от ржавчины, и на ней было написано 703-КЛ, но и эта надпись была уже рыжей. Невдалеке от бочки стоял маленький белый столбик с цифрой 7, отмечавшей очередные сто метров. А в другую сторону, и тоже невдалеке, стояла черная металлическая мачта, которая поднимает плоскую металлическую лапу с кругом-кулаком на конце. От этой мачты долго еще, до самой путейской сторожки, низко над землей тянутся интересные такие тросики. Побеленные же камушки, уложенные чуть не через каждый метр, тянутся вдоль всей линии аккуратной цепочкой. У этой мачты, внизу, даже растет трава, и несколько запыленных ромашек с трудом поддерживают свои головки. А под насыпью – там вообще море этих ромашек, до самого леска. Лесок из молоденьких сосенок – пушистый и веселый. Чуть подальше за ним течет ручеек, и один его изгиб виден с железной дороги: так он поблескивает. За ручейком длинное непонятное строение, и всегда одна и та же грустная лошадь пасется около него, и кажется: никогда не сойдет со своей точки. А там дальше луг и опять что-то вроде ромашек, до самого горизонта. А если нет дождя, то над всем этим еще голубое небо с редкими взбитыми облачками.
Так вот, бочка, старая и ржавая, стояла на высокой насыпи, у самой колеи, и внизу была лужа. По насыпи полз зелененький дачный поезд. На подножке одного из вагонов сидел Петр Иваныч и ехал на дачу. Он вез туда большую подушку. Он сидел на подножке, обнимал подушку, и подбородок его покоился вверху. Ему было очень удобно сидеть вот так с подушкой, и он дышал воздухом, который совсем другой, чем в городе. А дождя в это время не было, и поэтому небо было голубое, с редкими взбитыми облачками.
И Петр Иваныч увидел множество ромашек и пушистый сосновый лесок, за леском блеснул ручеек, и Петр Иваныч увидел длинное непонятное строение и эту грустную лошадь, а дальше луг и опять ромашки… Он глубоко вздохнул, и что-то переполнило его.
И тогда он увидел рыжую бочку прямо перед собой и так близко, что ничего не стоило до нее дотянуться. В тот же миг Петра Иваныча озарило. Будто полыхнуло.
в совершенно естественном желании посмотреть, как эта пустая железная бочка, которая еле держится на краю насыпи, покатится глубоко вниз по этой насыпи
То есть совершенно невозможно себе представить, как закричал кто-то в тамбуре и как они кричали дальше, между тем как поезд, что совершенно естественно, далеко уже проехал мимо бочки, где-то под собой оставив Петра Иваныча и увозя кричащих в тамбуре. Вполне понятно, что через некоторое недолгое время поезд все-таки стал и из него вылетели и помчались назад по насыпи кричавшие в тамбуре и многие другие люди из поезда, может, даже весь поезд, и вот они высыпали и бежали назад по насыпи, рисуя себе ужасные картины.
И вот видят Петра Иваныча, если можно так сказать.
Он вырос вдруг, как из-под земли…
И вот он идет себе по шпалам им навстречу, широко и радостно улыбаясь, и в руках у него – две ромашки.
Апрель, 1962
Из моей замечательной корзины
а и б сидели на трубе
а упало б пропало
что осталось на трубе?
Загадка
Моя замечательная корзина
Сегодня моя тетка выбросила на помойку совершенно новую корзинку. Она всегда выбрасывает эти чудные корзинки, абсолютно не находя им применения. Сегодня я забрал эту корзинку. Такая замечательная корзина! Просто я удивился, как это я не догадался забирать их раньше. Белая, плетеная, аккуратная… Так у меня все без места, а тут я могу положить это в корзину. Очень современная у нее форма… Я положу в нее журналы, которые валяются где попало. Или я положу в нее газеты? Газеты копить ни к чему – только пыль. Впрочем, можно вместе: журналы и газеты. Можно складывать в нее грязные носки. Или всякие иголки, нитки, пуговицы. А можно поставить ее на стол, а в ней рассыпать – так красиво будет выглядеть! – букеты цветов, которые я буду собирать этим летом. Я положу в нее фрукты. Бананы. Ананас. Приспособлю ее под хлеб. Под сухари. Буду хранить в ней письма. Канцелярские принадлежности. Фотографии. Фотопринадлежности. Спортинвентарь. Гайки, гвозди и другие детали хлама. Курительные принадлежности и разных сортов сигареты. Бутылки с разным вином. Пустые бутылки. Веревки. Старые тетради. Библиотечные книги. Аптечку. Я сделаю из нее абажур – это будет замечательный абажур! Постель для кошки. Лучше заведу щенка. Бульдога? боксера? дога? ньюфаундленда? Лучше маленькую собачку. Ежа. Ужа. Какая чудная пепельница!!
А рукописи?..
01.04.1962
Чернильница
(Из рассказа «Бездельник», черновой вариант)
…Есть еще гигантомания: скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки с пятак. Интересна также иерархия чернильниц и всяческой канцелярской роскоши. Вот, допустим, вам бегунок подписать, так можно все это проследить. Есть чернильница-шеф, вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же! Есть чернильница-зам. Кажется, и нет почти разницы, тоже роскошная, а все-таки – зам. И так далее, и так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверно, промышленности трудно справляться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу по чину. Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас! Есть и самая ненавистная мне чернильница-руководитель. Однажды, в самом начале, поручили мне эту чернильницу наполнить. Чернильницу руководителя. И я – конечно, это только я так догадываюсь – не бутылку с чернилами принес, а весь прибор забрал с руководительского стола и понес из кабинета, через наш огромный отдел, к бутылке с чернилами. Руководитель, помню, еще так удивленно на меня посмотрел, но я не придал значения. Да ведь и не только по нелепости своей понес я чернильницу к бутылке, а не наоборот. Не совсем ведь достойное вышло поручение… И захотелось мне подчеркнуть это. Туда еще ничего: на злости не заметил, как дошел. А обратно… чернильницы я, конечно, переполнил, так что чернила мениском своим торчали над краем… и вот несу, мелкими шажками такими переступаю, не дышу уже – какая там злость! – доска мраморная скользкая, чернильницы скользкие – по доске катаются, а между ними какой-то медный собор крышкой бренчит. И чего, думаю, он вечной не пишет… Доношу до самых его дверей, и тут как раз дверь отворяется – до чего ж хорошо получилось, думаю я, а то я все шел и страдал, как я дверь отворю… – распахивается, и в дверях женщина, и до того красивая, что такой ни разу у нас на работе я не видел. Выходит она – и я перед ней, с чернильницей. Я, конечно, глаза растопырил и галантно так в сторону отхожу, чтобы даму пропустить. И она, конечно, тоже отступает, чтобы пропустить меня с моими чернилами. Внимательно так на меня посмотрела. И до того мне тотчас неловко стало: чего это я чернильницы разбежался носить! А женщина отступила, дверь придерживает и говорит: «Вы проходите, проходите». И я прохожу. Боком почему-то, лицом к женщине. И тут этот чернильный постамент у меня чуть наклоняется, и чернильница с него на пол – прыг! – лежит так на боку, и аккуратная лужица по полу расползается. И я, конечно, – нет, чтобы плюнуть и идти дальше, нет! – держа прибор в одной руке, наклоняюсь подобрать – и тут – прыг! – вторая. Тоже на боку лежит. Рядышком. Вспомню – трясет. И еще трясет потому, что руководитель вроде бы все тогда понял и ничего мне не сказал. До того он у нас чуткий. Не стал размазывать. Лучше бы орал. А как уж он этой своей чуткостью все размазал!.. Лучше бы хохотал. Ведь смешно же! Ведь это же дьявольски смешно… Вот она чернильница-руководитель!.. Стоит себе. Покоится. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас чернильниц-черни и чернильниц-бояр соединился в ней. Да что говорить! Даже в красном уголке есть своя красная чернильница…
Из цикла «Пипифакс»
(1962)
1. Подводя итоги
Чего я достиг?
7 Витек, и
5 Санек, и
1 Феликс непрочь со мной выпить…
Ну и что?
2. Холостяк
Вы набираете номер…
Вам говорят, что вы ошиблись…
Вы думаете, вы не туда попали?
Как бы не так!
Все подстроено.
У этих охотящихся женщин – знакомые телефонистки… Эти телефонистки… Нет, вы совершенно правильно набрали номер. Это они переключают мужчин. А вы замечали, что всегда, когда вы не туда попадаете, какие это все прия-я-ятнейшие женские голоса?..
3. Очень грустная история
Одна бабушка жила совершенно одна. Куда ей деньги? Деньги она прятала в валенок. Однажды села на сундук, отдыхает. Посмотрела на печь – думает: «Печь». Видит – валенки, думает: «Валенки». Ну да, валенки… Куда ей валенки? Стоят себе и стоят.
Отправилась на базар, продала валенки. Приносит деньги домой, хочет спрятать. Где валенок? Ну да, валенок… Ах ты, боже мой, господи, валенок!!
4. Чересчур большая рыба
А вот у нас большую-большую рыбу поймали. Акулу-кашалота. Большая-большая!.. Я как раз на работе был. Честное слово. Работал я тогда там. Кого хотите спросите. Работаю это я… А у меня там дружки были… Прибегают, говорят: акулу поймали! Большую-большую. Кашалота. Ну, побежал я с ними. Прибегаю, значит. И вот… действительно… лежит акула… большая-большая!
5. Триумф яйца
Что случилось с этим человеком? На нем лица нет. Лицо есть, но такое растерянное… Может, у него состояние?.. Когда все вокруг теряет радость и красоту? И все непонятно и бесцельно? Почему – для кого – зачем??? И вообще есть ли хоть один предмет?
А может, у него в кармане было яйцо всмятку? И он о нем совершенно забыл? Забыл и жил так, будто у него нет в кармане яйца? И когда полез в карман за сигаретами или за мелочью, то почувствовал – все это?..
6. Несколько слов о Бетховене
Вот только непонятно, почему, к примеру, Бетховен не писал научно-фантастических романов? Космос, например… Что, это ему было неинтересно, что ли? Не близко? Неужели его это не волновало? Безграничность познания и возможность достижения неужели были ему чужды? Неужто он не мог оторваться от окружающего его быта? И ему не хотелось помечтать о светлом будущем? Или, может, у него не хватало способностей? Воображения?.. Ну да, ведь он был глухой.
7. Пять сотых
Проголосовало 99,95 %, и я замечаю, что с детства, когда еще ничего не имел в виду, думаю об этих 0,05.
Я беру двести миллионов, делю на сто, умножаю на пять сотых – получаю
200 000 000
0,05
100 000
Кто они, эти сто тысяч?
Из цикла «Пипифакт»
(1962)
Теперь не то
Кто?..
На перроне стоял почетный караул, мимо которого провели Ильича и всю нашу эмигрантскую братию, потом нас посадили в автомобили, а Ильича поставили на броневик и повезли к дому Кшесинской.
Из воспоминаний старого большевика, 1961
Комиссары…
…Дакаленко, Петленко, Кошелев, Брюзгин и Плохов.
Хотя вождь умер…
Одним из основных условий подготовки полноценного, всесторонне образованного работника советской музыкальной культуры является глубокое и творческое овладение марксистско-ленинской наукой, знание которой, как учил нас товарищ Сталин, необходимо для людей всех профессий. Марксизм-ленинизм формирует весь склад музыканта, его облик. Советской стране нужны не узкие профессионалы и индивидуалисты, а активные деятели искусства, способные внести достойный вклад в советскую музыкальную культуру.
До сих пор мы имеем факты беззаботного отношения к изучению марксистско-ленинской науки. Студент Ясневский, обладая определенными данными по специальности, проявляет полную беспомощность в вопросах марксизма-ленинизма. Он растет музыкантом-ремесленником, не способным к подлинному творчеству, ибо не понимает задач советского искусства. Не считают для себя нужным и обязательным изучение гениального труда товарища И. В. Сталина и материалов XIX съезда партии студенты Копылов, Иоаннисиани, Лейбенкрафт и другие. И это в то время, когда труд товарища…»
Из многотиражки Ленинградской консерватории «За музыкальные кадры», 1953
Низкое давление
Беседуя с конструкторами, Н. С. Хрущев дал ряд практических советов, как изменить систему сцепки, чтобы смену тележек для измельчения соломы производить без остановки комбайна.
– Будет большая ж экономия и времени, и горючего, – подчеркнул Никита Сергеевич, – и производительность машин повысится.
На этом же поле, где только что убрана озимая пшеница, работал новый, необычного вида, большой колесный трактор мощностью 130 лошадиных сил. Он производил глубокую вспашку земли пятикорпусным плугом со скоростью 9 километров в час. Транспортная скорость этой машины достигает 35 километров. Никита Сергеевич заметил, что для этого трактора нужно сделать шины низкого давления, чтобы он мог работать так же производительно и ранней весной на влажной почве.
После осмотра хозяйства председатель колхоза Г. С. Могильченко пригласил Н.С. Хрущева и сопровождающих его лиц к себе в дом на завтрак.
«После XXII съезда»
Пророчество
Дружески настроенная к нам американская писательница Бесси Битти после пребывания своего в Поволжье в голодный 1921 год встретилась в Москве с Лениным и спросила его: «Что передать Америке?» Ленин ответил: «Так и передайте: “Мы не завидуем ей даже в нашем нелегком положении. Она богата, мы бедны, она сильна, а мы еще очень слабы, она, быть может, даже сыта, мы… – он умолк, сурово взглянув на небо. – Но у нас есть то, чего нет у нее, – вера. А это даст нам все: и силу, и хлеб… много хлеба”».
Так сказал Ленин в 1921 году.
Блокнот агитатора, 1961
1 мая 1961 года
Мы, сомалийцы, знаем о страстных выступлениях Никиты Хрущева против империализма, в защиту народов Африки, и говорим ему: сердечное спасибо!
Субер Эпо Осман и Абдул-Кадер Абукер Магди
Внешняя политика
Советско-турецкие отношения были омрачены в послевоенный период рядом осложнений. Однако Советский Союз и Турция – по-прежнему ближайшие соседи.
Пензенский почин
– На нашем призывном пункте – настоящий «урожай» на близнецов, – шутит майор из облвоенкомата. – Среди призывников восемь пар братьев-близнецов. Все они направлены для прохождения действительной службы в одну часть.
Армия
Около четырех миллионов человек в СССР играют в шашки. В их числе – более шестисот мастеров, восемь гроссмейстеров. Но популяризация шашек среди детей и юношества ведется пока слабо.
Вот в чем все дело
Туркмения: без осадков, плюс 26–31. Москва: ветер, дождь, утром минус 3–5.
Знай свой город
Одно из бывших помещений духовной семинарии (д. № 17) занимает лыжный цех катушечной фабрики имени Володарского.
Прикладное искусство
Интересны вазочки для цветов в виде скульптуры. В работе скульптора В. Пермяк изображена девушка, несущая корзины цветов. На дне корзины имеются отверстия, соединяющие корзины с «туловищем» вазы.
А что нового появилось в одежде мужчин?
В этом сезоне палитра мужской одежды обогащается зеленоватыми, изумрудными, синими цветами. В то же время самый модный – черный цвет.
Растет импорт
Вниманию потребителей!
Не давайте детям играть с этим мешочком.
Иначе если ребенок наденет по ошибке мешочек с головой, то он может задушиться, так как этот мешочек сделан из воздухонепроницаемой пленки.
Самое эффикасное средство, которое огромным успехом атакует перхоти, этот неприятный космический дефект.
Мазать корни волос, помощью ваты, легко массажируя, оставить так просидеть 20 минут при взрослых, а у детей 10 минут.
Надо употреблять очень внимательно, чтобы препарат не попал в глаза и в рот, чтобы не причинить отравления. Препарат СУЛЬФОСЕН пользуется только для устранения перхоти.
Япония
За рубежом
Последний индеец племени ямана умер в аргентинском городе Ушуая. Родиной племени была Огненная Земля. В 1850 году оно насчитывало 3000 человек.
Яманы не имели никакой политической организации, слово старейшины считалось для них законом. Они были небольшого роста – всего около 150 см, жили в хижинах, крытых травой или овечьими шкурами. Язык племени делился на 5 диалектов.
Как быть, если ваш муж или сын порвал шерстяные брюки, зацепившись за гвоздь? Ответ на этот вопрос дает французский журнал «Рабочая жизнь». Оказывается, надо сдвинуть как можно ближе края разрыва, взять кусочек той же материи, густо смазать его яичным белком, подложить под разорванное место и пригладить с изнанки горячим утюгом.
Фернли Г.Р., Чакрабарти Р., Винцент Ц.Т. Влияние пива на фибринолитическую активность крови. Ланцет, 1960. Великобритания.
Предварительные эксперименты с участием 2 человек показали, что пиво из бочки и белое вино в значительной степени понижают фибринолитическую активность крови; виски, джин и чистый спирт не обладают этим действием.
Хронофобия — безудержное стремление к уничтожению стенных часов.
Псевдолалия фантастика — навязчивое стремление сознаваться в краже вещей, которые не были украдены.
Танатомания — болезненное пристрастие к чтению некрологов.
Ретифизм — патологическая страсть к покупке ботинок.
Тафефобия — боязнь быть похороненным при жизни.
Уранофобия — боязнь улететь на небо.
Франция
Один из играющих берет носовой платок и, сказав первую половину какой-нибудь пословицы, бросает его в кого-нибудь из играющих, а затем считает до трех. Тот, в кого брошен платок, должен тотчас же, пока считают до трех, сказать вторую половину какой-нибудь совершенно другой пословицы.
Например, бросивший платок говорит: «На то и щука в море…», ему же отвечают: «…а сам не плошай».
Чем несообразнее получается ответ, тем больше в нем юмора. Не успевший ответить выбывает из игры.
Из отрывного календаря
Из цикла «Подлинник»
1. Фенолог
…Благоухает пчелиное раздолье медоносных цветов. Дружно сразу зацвели деревья, кусты, травы. «Черемуховые холода», как обычно, замедлили роспуск раннецветных растений, и в строй к ним подвинулись по очереди предлетние цветы: в руках перемежались букеты черемухи, сирени, ландышей. Совпали вместе весенние цветы садов и леса.
Климатический цикл «зеленой весны» не уложился в свою норму – 35 дней – и на декаду отдалил начало предлетья. Воздух посвежел, и после первого за полмесяца благодатного дождя холодно стало на Севере и в Сибири. Климатической приметой недаром считается, что июньское похолодание обычно завершает центральный сезон весны. Именно в первую декаду июня в отдельные годы прихватывали ночные заморозки на почве и даже выпадали очень редкие пороши скоротечного снежка-нележка (как в 1947 и 1904 гг.).
Безоблачно прошла нынче на редкость солнечная весна, но буяны-ветры ознобом баламутили, остужали циклический воздух ранней и зеленой весны. И нечаянной особенностью отличился исключительно безгрозовой май тихого неба, без грома и молний. Только соловьиный «гром» слышен в сирени.
Между роспуском почек и цветами сирени и рябины обыкновенно проходил ровно месяц, а нынче вышло полтора месяца, почти на полмесяца раньше заторопились зеленеть вздутые бантом почки, а распустились через полтора месяца, в средний срок. От зеленых пик-почек до цвета черемухи тоже прошло больше времени, а именно: восемь пятидневок вместо нормальных пяти. Фаворит садов – жасмин – пока обутонивается.
В первой декаде июня при среднесуточной температуре воздуха в 14,7 градуса цветут 19 главнейших медоносов и вновь расцветают два древесно-кустарниковых и шесть травянистых медоносов.
От цветов черемухи до конца цветов сирени идет последняя, третья фаза фенологической весны. Это климатическое предлетье.
6 июня, 1961
2. Активист
Первому секретарю
Петроградского РК КПСС
т. ГРЕЧУХА Н.А.
члена КПСС пенсионера
Демидовой О.Д.
Мы живем в замечательную эпоху, эпоху строительства Коммунизма.
Сейчас, когда миллионы людей советских учатся работать и жить по-коммунистически, когда семилетка шагает семимильными шагами и творит чудеса, когда рождаются новые формы коммунистического воспитания через народные университеты, которые пользуются большой любовью трудящихся по месту жительства, нельзя не отметить, что по индивидуальному воспитанию советских людей в духе коммунизма, по месту их жительства, еще многое не сделано.
Если бригады Коммунистического труда на заводах и фабриках в борьбе за выполнение плана семилетки рождают нового человека Коммунистического завтра, то в быту – в домах и квартирах – еще мало сделано. А опоздав немного с воспитанием нового человека, можно задержать наш приход в то новое, светлое и радостное, что зовется Коммунизмом. Наш Петроградский район был первым инициатором широкого развертывания работы среди населения по месту жительства. Полагаю, что мы можем смело продолжить начатую инициативу и внести на рассмотрение предложение – «О СОЗДАНИИ КВАРТИР КОММУНИСТИЧЕСКОГО ЗАВТРА».
Каждая квартира берет на себя следующие обязательства:
1) Безупречно-моральное поведение всех проживающих в квартире;
2) Взаимопомощь друг другу;
3) Повышение своего идейного и культурного уровня через (нрзб.) университеты, кинолектории, музеи и другие культурные учреждения.
4) Сохранение жилого фонда как государственной собственности.
Работа трудная, кропотливая, долгая, но и вполне выполнимая. Такая работа под силу нашей многочисленной армии агитаторов, и если мы ею займемся сейчас и немедленно, то будем шагать в ногу со всем рабочим классом нашей страны.
Всякое промедление недопустимо!
Член п/бюро 7 жил. Кон-ры 19.10.60 О. Демидова
3. Истица
Привет из Свирска
Здравствуй Михаил.
С приветом к тебе Надя и мой супруг Николай и Леночка. Сообщаю что письмо я твоё получила за что большое спасибо. Но меня очень удивило что ты нашол мой адрес и прислал мене письмо. И вот я сичас пишу тебе письмо и думаю что всё так было хорошо но повернулось в другую сторону, а почему ты знаешь сам писать не надо, я только одно напишу что виновна она сама и ненадо было ей злить меня или же после всего этого могла же она прийти к нам и сказать черт или ещё что сказать что мол прости Михаил мы разберёмся и уплотим тебе всё что будешь ходить по больничному но заместо этого она начела орать то что я блять и такая секая и переедакая, но я надеюсь честнее её, и мене сичас всеровно с ней не встречатся и стобой тоже может не встретимся но как она говорила что я стобой путалась и прочее но это была ложь, ведь ты знаешь а если бы нужно былобы то я бы стобой и могла ходить когда ты был еще парнем, а когда ты уже стал мужиком то ты для меня был просто хорошим другом или как ты говорил моим родным что моя сестрёнка Надька, а вы мои мать и отец, и вот поэтому она ревновала, а когда ты уехал домой к себе то она тебя ждала, а с Гигинау Вовкой спала, но я думаю что ты от меня слышишь первый раз не смотря на то что ты у меня спрашивал но я всё говорила что Миша это неправда, а ты отвечал что я всё знаю и можешь не скрывать, но я молчала, а после того как тебя посадили она через неделю уже нашла солдата и всё говорила что это к Надьки ходит а не мой, но когда Бутин и Сеньчуков увидели её в кустах то ей и крыть больше нечем и пошла мольва по посёлку что мол пришол солдат Надькин но пошол Толя к Жени, и она после стала отвечать, мой чемодан кому хочу тому и дам и останется мужу.
Миша ты спрашиваешь на помилование, я не против и могу подписать твоё заявление и живите сней если что это поможет.
Миша немного осебе живем мы хорошо и дружно Леночка уже большая четвёртый год с декабря пошол. Вот я пишу письмо а Ленка бегает и говорит кому письмо пишешь а я говорю что Юрыному папы а как его звать я говорю что дядя Миша, а когда он пиедет суда. Миша посылаю тебе фото с мужем сосвоим если можешь то вышли своё он хочет посмотреть тебя.
Новот и всё жду ответ
Надя
Жму руку.
Мой адрес. Лен. обл. Лодейно польский р-н.
п/о Старая слобода.
Жигаренко Над. Сергеевна.
4. В мире мудрых мыслей
(Из дневника незнакомки)
Умей жить тогда, когда жизнь становится невыносимой (Н. Островский).
Человек создан для счастья, как птица для полета (Короленко).
Хорошо чувствовать себя одной, но плохо чувствовать одинокой (В. Кетлинская).
Тяжела и невыносима рана, если она нанесена любимым человеком неожиданно и внезапно (Логунов).
Достоинство девушки – это ее чистота, доброта и скромное поведение.
Лучше прожить 5 минут, чем просуществовать 5 лет (Белинский).
Истинная любовь страдает молча (Е. Мальцев).
Наука – это не каток, по которому скользят по поверхности (Добровольский).
Не годы сближают людей, а моменты (К. Маркс).
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях (Долорес Ибаррури).
Человек! Это великолепно! Это звучит…* (М. Горький).
Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему только один раз. И прожить ее надо…* (Н. Островский).
Любовь – это очень нежное, робкое чувство, и очень нехорошо, если в ней начинают копаться посторонние (Медынский. «Повесть о юности»).
Умей любить так, чтобы пройти мимо ста лучших и не оглянуться (Ауэзов).
Настоящий человек – это то, что скрывается под внешним человеком (Пименов).
Капля долбит камень не силой, а частым падением (Флеминг).
Товарищество – это не дружба, но от товарищества до дружбы один шаг (Лермонтов).
Нет ничего тяжелее, чем измена первого друга (Маркс).
Замарать себя в глазах людей легко, а очистить трудно (Панова).
Превосходная должность – быть человеком на земле (Горький).
Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь (Локотков).
Высший судья – совесть (Горький).
Лучше ждать и не дождаться, чем найти и потерять (Маяковский).
Ревность – одна из отвратительных черт в человеке (Локотков).
В человеке должно быть все прекрасно: и одежда, и лицо, и мысли (Чехов).
Вторично пережить нельзя, что было пережито раз.
Счастье, конечно, в любви, но взаимной (Г. Матвеев. «Семнадцатилетние»).
Юность дается человеку только раз в жизни, и…[1] (В. Белинский).
Жизнь – сложнее всяких схем (Л. Леонов. «Дорога на океан»).
5. Игра на вечере
(Кабинет культпросветработы и искусствоведения ЛВШПД ВЦСПС)
Когда молчит оркестр, когда Вы хотите отдохнуть от танцев, разверните этот листок, возьмите карандаш и попробуйте решить предложенные здесь занимательные задачи. За правильные решения Вам будут засчитаны очки. Троим участникам игры, которые раньше других наберут наибольшее число очков, будут вручены призы.
………………………………
Задача четвертая
Решите следующие шарады:
1. Мой первый слог – тревога, второй – предлог, а целое – в лесу стоит, в одном цвету зимой и летом………………………………
2. Мой первый слог течет из Альп, второй найдешь на нотной строчке. Ударь на первый слог меня, и именем прикинусь я, а на второй – колхозная земля………………………………
Задача пятая
1. Какой писатель открыл Америку после Колумба………………
2. Кто первый перевел на казахский язык «Евгения Онегина» Пушкина и из какого романа мы это узнали………………………………
3. Какими словами кончается книга Юлиуса Фучека «Репортаж с петлей на шее»?………………
Задача шестая
Назовите фамилии композиторов и авторов текста следующих песен:
1. «Россия»
2. «Орленок»
3. «Да здравствует наша держава»
6. Анкетный лист
ПРИМЕЧАНИЕ: Ответы на все вопросы должны даваться точные и подробные. Подчеркивания не допускаются.
7. Неожиданный отзыв
ПИФОЧКА, ПРИВЕТИК
Назло решила написать тебе письмо. А также выразить тебе большую благодарность за то, что ты меня проводил до вокзала. Как ты там поживаешь, что новенького в твоей журналистской деятельности. Как поживает наш общий знакомый МИХ, меня это по-прежнему волнует, между нами, девочками, говоря. Как его дражайшая любовница, оставила его в покое или все так же мучает его своей привязанностью.
Не думай, пожалуйста, что это меня очень-очень волнует, но все же факт остается фактом. Все здесь пишется на основании этих родимых фактов. И никуда от них не денешься.
(Я благополучно доехала до Москвы, даже устроилась в гостинице, благодаря своим друзьям, но настроение было все время в Риге.)
Мне было очень приятно, какие вы мне устроили проводы в мою честь, я этого никогда не забуду, до следующей встречи, во всяком случае. (На Первое мая я бы очень хотела поехать в Ригу, к вам, мои дорогие, но… есть но, к сожалению. И я не могу от него избавиться.) От Эли мне еще не было писем, и я не знаю никаких новостей, не знаю, как там ваша дружная семья, в мои дни она была еще цела, но Эля говорила, что распад близок, во всяком случае, внешне все было благополучно. Я в своем Ленинграде весьма серьезно болею за ваше благополучие и дружбу. В общем-то у вас неплохая компания, и я целиком и полностью за ее процветание. Пифочка, как твои делишки на работе. Помню, мы пили за твои успехи, они, наши надежды, сбываются понемногу. У меня в Ленинграде ничего не изменилось, послезавтра иду на работу. Может быть, от этого что-нибудь изменится, но перед праздниками, не думаю… Ты не забывай мне писать, я постараюсь отвечать, по мере возможности.
Дома меня встречали мои приятельницы по работе, с ними я провела первые два вечера, рассказывала свои впечатления, а они у меня все же накопились за целых три недели моего отсутствия в городе Питере, как мы его дружески величаем. Сегодня я встретила своего приятеля, зашли ко мне, он мне почитал свои собственные сочинения на тему «Корзина». Ты не представляешь, как много можно написать на эту тему бесподобных вещей, слишком необычных, и в то же время близких нам по духу. Я не могу в письме подробно описать все, что там есть, скажу коротко, что там о всевозможных мыслях, лезущих в голову, например в автобусе. С каждым это бывает, сидишь, скучно, и в результате целый рассказ, я не знаю, понял ли ты что-нибудь из моих слов. Что непонятно, просьба спрашивать в письме, а то ты вообще мне писем не пишешь.
Спасибо Элиньке, что она передает вам мои письма, а то я даже адреса твоего не знаю.
Надеюсь, на это письмо я получу ответ.
Пусть оно не серьезно, но я не люблю писать серьезные письма, ты в этом скоро убедишься.
Привет от меня МИХУ, жаль, что я сама не могу ему написать.
Пифочка, поцелуй за меня свою бабушку, надеюсь, она тебя больше не ругает за позднее возвращение, вернее, за ранним утром возвращение.
С приветом, ваш друг.22.04.61
Из цикла «Личный архив»
(1962)
1. Музыка революции
(1908–1918)
ПРИДВОРНАЯ ФОРТЕПИАННАЯ ФАБРИКА ОФФЕНБАХЕРЪ и К°
Санкт-Петербург, 20 августа 1908 г.
Господину Л.И. Битову въ г. Здесь.
Милостивый Государь.
Настоящим фабрика имеет честь подтвердить, что она ответствует за прочность металлической рамы купленного Вами у нея пианино за № 4857 в течение десяти лет и принимает на себя обязательство заменить лопнувшую раму – новою, в том только случае, если повреждение таковой произошло по вине самой фабрики. А также и за прочность всех поставленных материалов.
С совершенным почтением:(В. Козырев)
С.-Петербургъ, 19 декабря 1909 г.
Г-ну Л. Битову
СЧЕТ №
Отправлено за Ваш счет и риск:
18 августа 1908 г. 1 пианино за № 4857. Ценою руб. 525. Скидка – 25. Итого – 500.
Деньги получены в разное время по отдельным выданным квитанциям.
Петроград, 18 июля 1918 г.
Гр-ну Петипа М.И.
РАСПИСКА
Дана настоящая в том, что мною, гр-ном Битовым Л.И., получена от гр-ки Петипа М.И. сумма 18 000 000 руб. (восемнадцать миллионов руб.) за проданное мною ей рояль фирмы Оффенбахер.
(Битов)
Подпись руки гр-на Битова Л.И.
удостоверяю —
Предсревдомком (Замков)
2. Не все удержалось в детской памяти
(1941–1945)
…последнее время вестей ни от Тебя, ни от мамы не имеем, потому, собственно, особенного стимула для писания – нет. Пишу больше для очистки совести, п. ч. когда Ты получишь, уже это будет старовато. (…) Сможем ли мы приехать, сейчас сказать трудно. Если мы здесь останемся, будем соображать, как сюда переправить посылку – когда это будет можно. Ты в какой-нибудь выходной сходи пообследуй свой базар. Не придерживайся общепринятых деликатесных продуктов, поинтересуйся любым жиром (говяжий, свиной), пшеничными отрубями (что покупают кормить коров – вполне съедобная штука), крестьянской мукой, сушеной картошкой. Еще меня беспокоит вопрос с деньгами. (…) Дома пока тепло и топят, и опять функционирует «буржуйка», которая чрезвычайно удобная штука. (…) Брат твой переброшен в действующую Армию… Твоя мама не была у нас с 9 ноября, но Твоя сестра ее видит. Я не бываю нигде, п. ч. детей таскать, без крайней необходимости, – нельзя. Андрюша был нездоров – простудился, но очень хорошо справился – без осложнений и сейчас здоров… занимают они себя весьма недурно, ко мне относятся прекрасно. Олег не отходит от радио. Он так чудесно ориентируется в направлениях, местечках, знает всех героев, награжденных и кто что сделал для своей страны, – что всех затыкает за пояс. Собирается быть летчиком (а Андрей – «писателем»?!). Дети – забавный народ, жизнь воспринимают совсем по-своему. Пока нас жизнь милует, и нервная система их (чего я так боялась!) нисколько не страдает: они все принимают легко, как стараемся и мы…
Ленинград, 30 ноября 1941 г.
СПРАВКА
26 июня 1942 г., г. Ревда Свердл. обл.
Дана настоящая гр. Кедровой О.А.[3] в том, что она действительно эвакуирована с 2 детьми из Ленинграда.
Справка дана для поступления в Ревдинский совхоз.
Уполномоченный по эвакуации:
(Герасимов)
СПРАВКА
Дана БИТОВУ АНДРЕЮ в том, что в доме № 6, кв. 34, по улице АПТЕКАРСКИЙ ПРОСПЕКТ, заразных заболеваний не имеется. ПРОВЕРКА 25/VII.
26/VII 1945 г.
Уч. Эпидемиолог
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
Район – Петроградский.
Школа – 83.
Класс – 1Б.
Ф. И. О. – Битов Андрей Георгиевич.
Го д рождения – 1937.
Домашний адрес – Аптекарский проспект, 6, кв. 34.
Перенес болезни: коклюш, ветрянка, корь, свинка – 1944 г.
Прививки: оспа привита 1944 г., брюшной тиф – отвод по болезни, дифтерия привита 1944 г., дизентерия – иммунитет – 1945 г.
Состояние здоровья: здоров. Туберкулиновая проба: отрицательная (—). Кожные заболевания: отсутствуют. Наличие педикулеза: отсутствует.
Вес: 25,2 кг.
Отношение к физкультуре: допускается. В пионерлагерь: допускается.
«июля 1945 г.
Врач: (подпись)
3. Гранит науки
(1947–1957)
Природа зимой очень красива. Вся лиственная поросль потеряла листву, а голые сучья покрылись снегом. Но не все деревья зимой теряют листву, например, сосны и ели не теряют свои иглы, но очень часто ветви хвойных деревьев засыпает снегом, и их зеленых игл не видно. Все деревья будто оделись в шубы белоснежные, блистающие на солнце ослепительной белизной. Снег лег на огороды, на поля и на луга. Еще глубже его покров в лесу и в садах.
В большие морозы дым стоит столбом и не двигается, если же на небо взойдет солнце, то и дым, и солнце кажутся красными.
Очень красивую картину представляют из себя парки и дома, покрытые инеем.
В северных городах, деревнях и селах зимует мало птиц, только зимующие; перелетные же еще осенью улетают зимовать на юг.
Медведи зимой спят в своих берлогах. Зимой очень приятно выйти на лыжах среди снежных убранств, по глубокому рыхлому снегу.
У нас снег бывает только зимой. Но на высоких горах и зимой, и летом лежит снег. Снег лежит неподвижно, пока никто не нарушит его покой. Но иногда достаточно бывает сильно топнуть ногой, крикнуть – и все вокруг начинает двигаться. Целая снежная река, сначала тихо, потом все быстрее, обрушивается вниз. Бывают еще ледяные реки. В северных странах ледяные реки кончаются на берегу моря. Морские волны отламывают огромные куски льда и уносят вдаль. Покачиваясь, плывут по океану ледяные горы – айсберги, плывут, пока не растают.
Сочинение ученика 3 «А» класса Битова А.
…Планы рассчитываются на годы и целые пятилетия. Все пятилетки с огромным воодушевлением исполнялись досрочно. Благодаря выполнению этих планов Советское государство смогло противостоять такому сильному врагу, как Германия. Фашисты просчитались в надеждах, что мы не сможем сделать этого. Наше социалистическое плановое хозяйство оказалось более жизнеспособным, чем капиталистическое. На это указывал товарищ Сталин.
Из контрольной работы по конституции на тему «Социалистическое плановое хозяйство» ученика 7 «А» класса 213-й мужской средней школы с преподаванием ряда предметов на английском языке Битова А.
Настоящий футляр является упаковочным материалом для предохранения книги от порчи.
Текст с картонного супера собрания сочинений И. Сталина, 1951
На геологоразведочный факультет обычно принимаются с более высоким проходным баллом. Раз принят студент, значит, он серьезно подготовлен и умеет работать.
О чем же тогда говорят двойки в зачетных листах у второкурсников? А двоек у них многовато. Основная причина – отсутствие систематической работы в течение семестра, переоценка своих сил, недостаточный контроль и требовательность со стороны преподавателей.
Студент группы РТ-55-2 А. Битов потерял всякий авторитет у деканата и своих товарищей. За безделье, текущую неуспеваемость он не допущен к сессии.
Из передовицы «Неутешительные результаты»(Горняцкая правда. 1957. 23 янв.)
4. Проблемы рода
(1957)
Уважаемый т. Кедров[4]!
Деньги получила, сердечно Вас благодарю.
Знаете, крест был починен, но его снова свалили, и разбился он так, что его нельзя починить, не знаю, что делать. Могилы в порядке, я за ними все время слежу. С сердечным приветом к Вам.
Иванова
Убери свою комнату идеально, вымой окно, вытри стены, выколоти матрацы, вымой полы, потом будет некогда, довольно спать, от безделья человек разлагается, если ты комнату не уберешь, будешь жить на кухне довольно тебе гнусавить, будь человеком наконец.
5. Для биографии на суперобложке
(1957–1958)
СМЕННЫЙ ЛИСТОК
Месяц – октябрь.
Цех – 9.
Фамилия – Битов.
Табельный – № 1366.
Начало смены – 1.00
Окончание смены – 8.00
Военнорабочий
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА 343-го ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
№ 94
19 апреля 1958 г. ст. Чикшино Печ. ж. д.
Подполковника БОБКИНА В.И. 20 апреля 1958 г. командировать в г. Вологду в Политотдел спецчастей гарнизона для принятия сверхсрочнослужащих на укомплектование отряда сроком на 8 суток с 20 апреля 1958 г.
п/п Начальник 343 ВСО
гвардии подполковник: (ХИМИЧ)
Верно: и. о. инсп. по уч. л/с (Битов)
6. Литература и производство (1959–1962)
КВИТАНЦИЯ
к приходному ордеру № 140
Принято от Битова А.Г. за изготовление разбитой им таблички кожного диспансера № 22 по счету № 522 от 19.IV руб. 66 (шестьдесят шесть)[5].
22 апреля 1959 г.
Главный бухгалтер (подпись)
Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках – неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы.
Приятели его звали запросто – Осей. В иных местах его величали полным именем – Иосиф Бродский.
Из фельетона «Окололитературный трутень».(Вечерний Ленинград. 1963. 29 нояб.)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания бюро секции прозы от 4/II-64 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Воеводин, Васютина, Дружинин, Дар, Офин, Абрамов, Фарфель, Смолян, Гор.
СЛУШАЛИ: Дополнительное обсуждение рекомендации А. Битова в Союз писателей.
РЕШИЛИ: В связи с поступлением в Секретариат ЛО Союза писателей документов о нарушении Андреем Битовым общественного порядка (Письмо Петроградского отделения Милиции от 23/1-64 г.) Бюро секции считая, что поведение А. Битова и его поступки недопустимы и не достойны члена Союза Советских писателей, – решает задержать рекомендацию Битова А. в Союз писателей и вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как Андрей Битов своим поведением и творческой работой докажет, что он будет достоин быть принятым в члены Союза. О настоящем решении поставить А. Битова в известность и товарищей, давших ему рекомендации на прием в Союз писателей.
Председатель секции (В. Воеводин)
Секретарь (Е. Васютина)
Выписка верна зав. секретариатом – (Арямнова)
Мое сегодня,
29 июля 1962 года
Лес, дорога
Вот здесь же, в Токсове, как-то, два года назад, мне было так же, как теперь, два года спустя. Спустя-я – смешно! Не смешно. Все-таки смешно. Спустил. Спустил два года.
Конечно, мне было и не так же. Но тоже не писалось. А тогда ведь еще только кончался тот период, когда мне казалось: я хожу по рассказам, ими вымощен мир. В любой, мол, момент их под рукой тыщи – возьми любой. И я жалел, что я – это не 10 человек, а то бы и написал эти тыщи. Упаси боже! Во-первых, эти тыщи… А во-вторых: как бы они ссорились, эти десять человек! Один-то возится, как десять.
Так вот, тогда, два года назад, этот период только еще начинал кончаться, так что можно считать: он еще был. И вдруг такое чудо, что мне не пишется! Теперь-то у меня даже опыт в неписьме есть. А тогда это меня прямо ошеломило. Я кис, кис – и вдруг обрадовался: ведь я же могу написать рассказ о том, как мне не пишется. Даже название придумал: «Лес, дорога». Мол, вот лес, а вот дорога, и вот мне не пишется. И еще радовался: вот какая писатель машина – и из неписьма может сделать письмо. Впрочем, в этом и какая-то правда. Так ведь, чтобы писать было нечего, не бывает. Есть немота. Писать о немоте – это какое-то преодоление. И может, мы в основном о своей немоте и пишем. О чем же писать в такое немое время? Я кис-кис, какая писатель, сделать письмо.
Рассказа я этого не написал. Хотя кто меня, подлеца, знает…
И вот сейчас… Я болен, можно сказать… Да что там! Болен, болен. Неудовлетворенностью, неполнотой, немотой. И суетой чрезвычайной. А суета, как ее ни кляни, – вещь любимая. Она ведь на месте пустоты. И только в случае пустоты. Так что она – недаром. Мы рвемся от суеты – и попадаем в пустоту. И без суеты нет ей заполнения, этой пустоте. И мы рвемся публично от суеты, и мы бросаемся ей в объятия. Может, не сознавая?.. Ладно, не мы, не мы! Я, я!.. Нем, нем.
Во мне сейчас пустыня. Можно напиться, можно влюбиться… Если не то и не то – можно суетиться. Если уж и это отпадает – застрелиться. Конечно, лучший выход – писать. Переделывать пустыню. Дубовыми защитными насаждениями. Лес, дорога. Суховеи – сухо веют. Сухотка. Сухость мозга.
Ничего ведь не исчезает. В этом я уверен. Если б не уверен – то что же? Ничего не исчезает. Где-то это все плесневеет в мозгу, неосвобожденное, неотданное… Обрываются какие-то связи – и не извлечь. Стучись, ломись, рвись, даже жалуйся – не натянуть струн. Нет связи. Кибернетика проклятая! Кир-бир… Кир-бир…
Вырабатывается прием…
Чик-чирик!
Чик-чирик
«Я еще много, пожалуй, могу извлечь из своей башки!» – так я себя часто тешу. Чешу, почесываюсь.
Прыг-скок! Прыг-скок! Брык… с коп!., ыт.
Севулямирбетроп! Севуля, Севочка! Се-ля-ви. Бетатрон. Доре-ми. Силь-ву-пле. Мир – бетон. Мир – батон.
Троп, троп, троп.
Мир, труд, счастье!
Одно забыли.
Мир, труд, счастье и братство!
Опять забыли. И не забыли, а вот, попутал, не то слово вставили.
Мир, труд, счастье, братство и… братство и… равенство!
Не монтируется.
Мир, труд, счастье, братство, равенство и… и… свобода…
Наконец-то. Выдворили. Тьфу, как трудно было! Но чего-то недостает… Какой-то ясности. Определенности, так сАать. Так все есть – а чего-то и нет. Так-то так, А не совсем так. А пожалуй, что так:
Мир, труд, счастье (не достаточно ли, товарищи, и этого?)
Мир, труд, счастье, братство (может, хватит, а, товарищи?)
Мир, труд, счастье, братство, равенство (не слишком ли, товарищи?)
Мир, труд, счастье, братство, равенство и… и… свобода, мать твою так! (о-ох, товарищи… Ох!)
Раз уж перебрали, то добавьте.
Мир, труд, счастье, братство, взаимопомощь, равенство и… свобода.
Недобрали.
Мир, труд, счастье, взаимопомощь, братство, равенство и свобода… (кого, чего? Свобода, говорю, кого-чего?)
…всех народов (Вздох зала: Все-ех).
Так бы и говорили, товарищи… А то что же получается? А так все на месте:
Мир, труд, счастье, взаимопомощь, братство, равенство и свобода всех народов!
Урара-а-а!!!
Нельзя же: «Свобода, равенство, братство!» Было уже. Да ведь надо исходить и из конкретных условий…
………………………………
………………………………
………………………………
УР-Р-РА-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чик-чирик! товарищи…
Ты у меня дочирикаешься!!
Си-ижу за решеткой,
В те-емнице сы-ырой,
Такой-то такой-то
Орел мо-алодой…
Чик-чирик!
А вот у нас на предпраздничном вечере самодеятельности всех зэков собрали: кто поет и пляшет, а кто сидит и смотрит. И вот был у нас такой Костя Отвали, так он тоже выступал. Стихи с выражением читал. Очень он это здорово делал. Начальству нравилось необычайно. И вот объявляют: стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, – и он это самое «Сижу за решеткой» читать начал. Да как! Все плачут, рыдают и хотят на свободу. А он все с большим и большим подъемом читает. И вот уже последняя строчка, и он уже кричит с болью и страстью:
Пора-а, бля-а! пора-а!!!
Голос сверху, снизу и сзади:
– Только тихо! Не пой с чужого голоса. Ты сам-то сидел хоть?..
– А я что? Я тихо… Просто себе напеваю. Разве вы не слышите:
А: – Вот тебе и А… Говорю тебе: без булды, пожалуйста, без булды, дорогой…
Без Б (бе)
Б (оправдываясь): – У меня в распоряжении целый этаж. Три двери, два балкона, один солярий, одна лестница и четыре окна – на четыре стороны света. С каждой стороны торчат верхушки какой-нибудь зелени. Ничто не мешает. Иногда внизу кричит дочка. Мой стол стоит прямо в центре. «Как это ты догадался поставить его в центр, я бы никогда не догадалась», – говорит теща. Вокруг стола с четырех сторон веревки: на них иногда вешают пеленки. Это меня веселит. Вчера передо мной висели совсем не детские трусы. В мои обязанности входит колоть дрова, носить воду и керосин, иногда ходить в магазин. Если учесть, что гораздо большие помехи не мешали мне раньше писать, то сейчас мне ничто не мешает.
А: – Скажи мне, пожалуйста, что тебе мешает? Ведь, кажется, все у тебя есть, все о тебе заботятся, тебе не приходится ни о чем думать… Все условия тебе созданы. На тебя работали папа, мама и вся страна. Дали тебе образование. Одели тебя и обули. Накормили. Чего тебе не хватает, в смысле недостает? Скажи, пожалуйста. Мы потратили на тебя всю свою жизнь…
Б (молчит).
А: – Ведь теперь ты уже большой. Мы не можем тебе уже помочь. Когда ты был маленький, нам было ясно, чего тебе надо. Сейчас ты уже взрослый, и ты уже живешь сам. У тебя есть семья. У тебя есть свой опыт. У тебя есть свое дело. Ты смотришь на мир по-своему. Мы уже ничем не можем тебе помочь. Мы тебя любим, но ничем не можем…
Б (молчит).
А: – Теперь уже все зависит от тебя. Если ты виноват, ты виноват сам. Что тебе мешает, дорогой?
Б: – Дорогие мамочка, папочка, тетеньки и дяденьки, дедушки и бабушки, тещиньки и – как вас? – папы жен, дорогие граждане и гражданочки! Ничто мне не мешает. Я вам очень благодарен и признателен. Мне от вас ничего не нужно. Я буду вам благодарен до конца дней своих. Если я чего-нибудь от кого-нибудь хочу, то это от себя. Но и в этом я не уверен. У меня подрезаны крылья, дорогие гражданочки.
А: – Нет, вы мне скажите, кто вам их подрезал? А? Может, я, который всю жизнь работал и проливал кровь за таких, как вы? Может, я, который ни разу о себе не подумал?
Б: – Что вы перебиваете? Вы не перебивайте. Мне и так трудно собраться с мыслями. А если так… то, может быть, и вы. Почему же это вы о себе-то не думали. Может, этого мне и нужно было, чтобы вы о себе думали, а не обо мне. Как же вы о других-то можете думать, если вы о себе не думали ни разу?
А (молчит обиженно).
Б: – Ладно, ладно… Не вы. Я не прав. Я действительно не о том хотел сказать. Ну, хотите, я еще раз извинюсь. Ну, хотите, я на колени встану? Мне это ничего не стоит, честное слово. Ах, вам надо, чтобы стоило. И это вы так о себе не думаете? Ну, ладно, если по-честному, это мне дорого стоит. Вернее, стоило. Да и, в конце концов, я не вам это говорю. Пойдите и пройдитесь. Подышите, так сказать. И подумайте о себе.
А (уходит оскорбленный).
Б: – Господи, как он меня сбил… О чем же это я? Нервы все. Единственное интеллектуальное приобретение в наш век. Так вот, гражданочки, никто из нас не доезжает до города. И это грустно. Может даже, если брать только одну сторону вещей, именно это их и подрезает. Так называемые крылья. Уверенность существует только в пору щенячества. Дальше сразу начинается невозможность. Конечно, существует благородное служение количеству ради будущего качества. Кости, если расшифровать. Удобреньице. Не пропадет ваш скорбный труд. Маленькое, но нашенькое. Благородная нищета: в заплатах, но чистенькое. Но что же сделано хорошо без уверенности, хотя бы и тщательно и робко скрываемой, что тебе за это суждено бессмертие?
(Возвращается А, дружески все простив, берет под ручку Б.)
БА: – Не верите? Представьте, что вы умираете. И что же в таком случае можно от человека еще отнять? Пусть сожгут ваши рукописи. И вы поймете, как много у вас еще осталось.
АБ: – Впрочем, чего не надо, так это говорить о смерти. Это пижонство, дорогой.
БА: – Обращение «дорогой» без всякого повода – это тоже пижонство. Какой я тебе на… дорогой! Когда ты меня ненавидишь.
АБ: – Я тебя? Помилуй…
БА: – Тогда я тебя ненавижу. Я не я, а труп с квалифицированной сиделкой. Кому там помогают припарки? Душа сдохла, а тело ее охаживает. В иное время жену хоронили вместе с мужем. Тоже ведь проекция самоубийства. Дорогой человек уже мертв – так почему бы не убить второго, насильника трупов (так это называется), не убить второе, телесное, я?
АБ: – Ну, если тебе не нравится «дорогой», то милый… Милый мой, ну, скажи, разве говорить о самоубийстве – это ли не пижонство? Ну, что о нем говорить? В некой цивилизованной стране существует даже право на него. Это временное, дорогой и милый, поверь мне. Это только в первый раз страшно. А потом в этом будет такой же опыт, как, ты признался, у тебя в неписьме. Ты просто еще ребенок.
БА: – А ты умудрен до тупости.
АБ: – Ах, прости!.. Ну просвети меня…
БА (с чрезмерным выражением):
Вот здесь когда-то
На самую крышу
Начальной школы
Я мяч забросил…
Что-то с ним сталось?
АБ: – Чего-нибудь японского?.. Рыбного?.. И ты думаешь, что он может до сих пор там лежать?
БА: – Он там лежит.
АБ: – Интересно… Что же ты лепешь о смерти, если он у тебя там лежит?
БА: – Боюсь, как бы ты его не спер.
АБ: – А ты меньше выбалтывай сокровенных тайн. Тогда не сопрут.
БА: – Тогда-то и сопрут.
АБ: – С тобой поговоришь…
БА: – А фу-ли!..
(Входит невозможных размеров И…)
Из первого сборника автора
Бабушкина пиала
Я в комнате сидел под вечер без огня
И вдруг гляжу:
Выходят из стены Отец и мать,
На палки опираясь.
Такубоку
В нашем доме ремонт. Надстраивают этаж и меняют трубы. То, что мы станем выше, не ощущается на третьем этаже. То, что меняются трубы, ощущается не очень. Каждый день не хватает какой-нибудь воды: в ванной, уборной, на кухне… Мы бродим по квартире в ватниках и шапках-ушанках и ругаем домконтору, прораба. Благодаря дыркам в полу и потолке мы знаем, что делается и варится этажом ниже и этажом выше. Внизу – кто-то очень упорный разучивает гаммы и пассажи, а наверху – кто-то очень веселый играет по очереди две пластинки и танцует. На уровне наших окон разгуливают по лесам жизнерадостные девушки, заглядывают в окна, пачкают их известкой, а иногда, по неосторожности, выбивают. На паркете растоптана штукатурка, а на телевизоре слой кровавой кирпичной пыли. Днем по квартире расхаживают чужие люди, и от этого окончательно неуютно.
Нас лишили привычных за долгие годы, незаметных удобств, и мы сразу очень устали. Теперь, когда мы возвращаемся домой, с нами остаются все дневные неприятности. А раньше неприятности уходили до следующего дня. Нас лишили отдыха, и все почувствовали, как они, однако, устали.
Но, пожалуй, больше всех страдает от ремонта мой отец. Он сам когда-то белил, оклеивал, красил эти комнаты – с любовью и вкусом. И когда он видит халтуру, в нем возмущается профессионал. Каждый день он возится, стараясь вылечить изуродованные комнаты: замазывает дырки, подклеивает обои.
Сегодня нам поставили новые трубы – кривые и ржавые.
И отец красит эти трубы.
Моему брату решили подарить бабушкин зеркальный шкаф. Брат переселился в Москву, у него есть жена и нет мебели. А шкаф дубовый, и в него многое можно спрятать. И вот сегодня, через три года, шкаф открыли, чтобы освободить его. Его не открывали так долго потому, что в нем лежали бессмысленные мертвые вещи и напоминали о живом человеке. А этот живой человек – умер. Вещицы были старые и ненужные. Бабушке они напоминали других живых людей, а нам они напоминали бабушку.
В шкафу были чашки, стопочки, серебряные ложки, картонка из-под юбилейного торта с недогоревшими свечами, коробки от конфет… Все это было бесполезно и человечно, как память. И на всем этом лежал толстый слой пыли. Вымыли – посуда стала свежей и блестящей. Она была выставлена в кухне на круглом столе и каждому напоминала свое. Было приятно и грустно. И каждый взял на память то, что помнил.
Я взял пиалу, настоящую узбекскую пиалу, которую бабушка привезла из Ташкента…
…Мне было пять. Через всю взбаламученную войной страну мы пробирались к бабушке в Ташкент. Мы уходили от блокады. Добирались мы долго и трудно, и мало что удержалось в непонимавшей детской памяти…
В теплушке на меня свалилась стремянка с грузным пассажиром. Это было больно. Выбежав выменивать хлеб, от поезда отстала мама. Это было страшно. Я завшивел. Это было противно. Нечего было есть. Это был голод…
А потом нас окружили черномазые оборванные мальчишки и предлагали поднести и подвезти. Они были стремительны и шумны и двигались с неправдоподобной легкостью. И я их боялся. А мама им не верила. И мы пошли сами, волоча пожитки, потерявшие смысл и форму. Вертлявые мальчишки постепенно отстали. Мы оказались одни. Мы не знали, куда идти, а прохожие нехорошо на нас смотрели и не объясняли дороги.
А все кругом было другое: горячее солнечное небо, глиняные заборы с жирными тенями, неразрушенные чистенькие домики, сады… И тишина. Непривычная тишина пустых глиняных улочек.
Мы брели, не понимая куда. Собственно, не понимала мама, а я тащился за ней. Мы брели, никого не спрашивая. Мы были у цели, и мама увидела, что у нее уже давно нету сил. У нее не было сил, и она удивлялась, что мы – у цели.
И мы брели…
И вдруг, завернув за толстый глиняный угол, мы столкнулись с бабушкой. Мама издала что-то нечленораздельное, а я не узнал бабушку… Тут меня обняла какая-то ласковая, теплая волна и увлекла. А я подчинился и уже не заметил, как мы пришли. Но это уже было сказкой…
Туда вела калитка, за которой был сад. Блестящими кровавыми каплями капали черешни. Бетонный арык уползал вглубь. На крыльце голая толстая женщина рубила топором черепаху. Длинная, сухая бородавчатая старуха подозрительно косилась на нас и держалась за козу. Они были очень похожи, коза и старуха…
Но та же ласковая и теплая волна снова подхватила меня, и я очутился в бабушкиной комнате. Там было прохладно. Чистая, высокая кровать выросла перед моим носом. Сквозь забавные соломенные штуки прыскало тоненькими струйками солнце и испещрило чистый, натертый пол. И во всем этом царила, ласкала, смеялась бабушка. Но самое главное был стол. Он прочно наступил на пол толстыми дубовыми ногами. На нем были белая тяжелая скатерть и какие-то холмики (что-то покрытое салфетками). А на виду стояла ваза с непонятными фруктами. А еще выше, на фруктах, стоял золотой стаканчик, и из него выглядывал кусочками сахар. Настоящий белый сахар.
Я стоял, ухватившись за скатерть, и смотрел вверх. И опять что-то неуловимое, подчиняющее, теплое рассыпалось рядом со мной. Это смеялась бабушка. Она поцеловала меня в сосредоточенно заломленную голову и снова увлекла, а я забылся, подчинившись этой волне, и очнулся за столом, вымытый и переодетый. Я ел что-то очень вкусное и смотрел на сахар… Опять бабушка засмеялась – и я уже пил чай вприкуску. Я брал своими руками фантастически белый сахар и пил чай из невиданной чашки. Она была без ручки, и я не мог найти, где эта ручка отломалась. А бабушка объяснила, что чашка такая и была, что это настоящая узбекская пиала.
Я пил чай из пиалы. Вокруг нее, крадучись, ходили парами странные ежики. У них были красные животы и зеленые спины, и ходили они на задних лапах.
А потом я уснул – и увидел, что всюду лежит ослепительно белый сахар. Вокруг меня, как часовые, степенными, вкрадчивыми шагами ходят парами ежики, а бабушка смотрит со всех сторон, и отовсюду слышится ее теплый осыпающийся смех…
Я стою и верчу в руках пиалу. Она точно такая же. Я хорошо помню эту почернелую трещину. Но вокруг пиалы не ходят парами ежики – просто это какой-то азиатский цветок или плод, свисающий на стебле с края чашки. Непонятный и довольно безвкусно нарисованный.
Я иду к дядьке и долго роюсь в энциклопедиях и атласах. Я знаю теперь, как эта штука называется по латыни и как она растет.
Отец красит трубы в моей комнате. Мама кончила разбирать шкаф и шьет. Я думаю о том, что уже вечер и все вернулись с работы. Я начинаю слоняться по комнатам, передвигать слонов на телевизоре, раскрывать и закрывать книжки и даже рассматриваю газету. Наконец, я надеваю пальто, прикрываюсь шляпой и безразлично сообщаю:
– Я пошел за сигаретами.
– Только не возвращайся слишком поздно, – говорит над шитьем мама.
– Будь осторожен, – говорит отец. – На лестнице нет света, а двор разворочен. Ты надел шарф?
Я выхожу на улицу. Закуриваю сигарету и прихожу к моей девушке. Она такая же ласковая и спокойная, как вчера. Я выкладываю все, что накипело за день. А она слушает. И я успокаиваюсь.
А потом мы молчим. А потом снова разговариваем, уже вдвоем. Разговор чего-то касается и нигде не застревает. И я его сразу же не помню.
Потом я говорю, что мне пора, и остаюсь еще на час…
Я иду по дождливой лоснящейся улице, и мне навстречу плывут желтые пятна фонарей. Пусто и поздно. И через десять минут я подхожу к моему дому. У подъезда мокро поблескивает «москвич», и вдоль него красные буквы – «неотложка»… На баранке спит шофер, и мне почему-то кажется, что это – к нам.
Я спешу, спотыкаюсь на лестнице и долго вожусь с замком. В передней пахнет аптекой. Меня встречает дядька. У него сосредоточенный и прилежный вид.
– Когда это с ним? – спрашиваю я.
– С полчаса, наверное.
Я выбираюсь из пальто, как можно тише вхожу к себе в комнату и слышу из соседней слабый голос отца:
– Это ты, Алеша?
Я виновато появляюсь в дверях и не знаю, что делать, что говорить.
– Вот видишь… – говорит незнакомым голосом отец. Я вижу отца.
Белый халат порхает вокруг него. В пепельнице лежат ватки и пустые ампулы. На ручке кресла повисла опустошенная кислородная подушка.
Я стою в дверях и ничего не могу поделать со своим лицом.
– Ничего, Алеша… – слышу я словно издалека.
У врачихи бодрое и спокойное лицо: она делает дело. И она оканчивает его.
– Будет плохо – позвоните, – говорит она и поспешно уходит.
У нее был обыкновенный, обычный голос. И у дядьки в передней был все-таки обычный голос. А у отца… Кажется, это не его голос, такой слабый:
– Как это некстати… Как раз надо шкаф в Москву отправлять, – слышу я из вспухшей подушками кровати.
В этих подушках лежит мой отец. Какой он небритый… Утром он не казался мне таким небритым.
– Впрочем, это всегда некстати… – добавляет он и силится улыбнуться. Это трудно видеть.
Отец лежит ужасно неподвижно. И говорит неподвижно. Перед глазами у него – труба. Это ее он раскрашивал сегодня в два цвета: под цвет обоев и под цвет потолка… И теперь змейки белой краски наползают на красную.
Перед глазами отца – труба. Он открывает глаза:
– Краска натекла. Сотри, пожалуйста.
Он красил эту трубу, и это было последнее, что он делал.
Я вскарабкиваюсь на шкаф и вытираю краску.
– Главное, чтоб насухо, – слышу я снизу, и кажется: из ужасной глубины.
Я стою рядом с кроватью. Я стою рядом с отцом.
– Алеша!
– Да.
– Вытри кисточку… А то я не успел… Нет, не этой тряпкой.
Я вытираю кисточку другой тряпкой.
– Краски заверни и снеси на кухню.
Я успеваю дойти до двери:
– Ты все отнес?
– Да. – Я ставлю банки на пол.
– А хорошо завернул?
– Да.
– Поправь мне подушки…
Перед глазами отца – труба:
– Снова натекло. Вытри еще…
Я снова лезу на шкаф.
– Теперь попей чаю. Ты, наверно, голоден.
Я не хочу чаю, и я молчу.
– Ты слышал… Ты обязательно должен попить чаю.
Я наливаю чай в пиалу.
Фиг
Он посмотрел на карандаш: отлично получилось! – и взял следующий. Медленными, тщательными движениями начал очинять. Медленные, ровные, отваливались стружки, загибались полумесяцем. Если стружку пожевать – такой свежий вкус…
«Заодно очиню и цветные…»
Зеленый. И красный. И синий. Аккуратно собрал стружки в горсть и вышел в мамину комнату.
– Алеша, ты что делаешь? – сказала мама.
– Занимаюсь, – сказал Алеша.
– А это что? – ткнула она в Алешин кулак.
– Не могу же я чертить огрызками!
– Вчера ты тоже точил карандаши…
Алеша ссыпал стружки в пепельницу. Подумал и забрал пепельницу.
– Зачем тебе пепельница?
– Вытряхну…
– Тебе что – делать нечего?
– Я насорил – я и убрать должен, – твердым голосом сказал Алеша.
Вышел в переднюю. В передней был стол и лежали газеты.
Полистал.
Пошел по коридору и шел по коридору. Висели пальто. Висел телефон. Алеша поставил пепельницу на телефонный столик и полез в карман – один, другой, третий: пуговица, гривенник, трамвайный билет… Письмо. Это Люськино пальто…
«Милая Люся, – прочел он, – извини, что…»
– Ну, погоди, «милая Люся»! – пропел Алеша. – Сегодня моя очередь.
Когда коридор кончился, началась кухня, в которой никого не было. Кошка стрелой шарахнулась от Алеши.
– Дура, – сказал Алеша, – я, может, тебя погладить хотел…
Он попытался зайти с тыла – кошка вспорхнула на подоконник, с подоконника – на холодильник, с холодильника – на буфет. Алеша не спеша взял мокрую тряпку и влез на стул, тоже не спеша. Кошка, поджав хвост, прижалась к стене и зашипела.
– Шипишь? – сказал Алеша. – А я, может, пыль хотел вытереть… – Он прицелился, размахнулся… В кошку он не попал, но от буфета с легким треском отскочила одна из шишечек. Кошка описала дугу и заметалась по кухне. Алеша не спеша слез со стула, внутренне клокоча: уж эта мне шишечка! «Нервный ребенок…» – говаривала мама…
Кошка забилась под буфет. Из-под него раздавалось громкое урчание. Такой ничтожный зверь – и так рычит, подумал Алеша. Он стукнул по буфету, и урчание еще усилилось.
– Вот ведь гадкое животное, – сказал Алеша. От буфета шел ровный гуд. – Порычи мне еще, порычи!
Алеша вздохнул и понес пепельницу к мусоропроводу. Открыл, приложил ухо – там тоже ровно гудело.
– Ученье – свет, а неученье – тьма, – пожаловался он в трубу.
Труба что-то пророкотала в ответ. Оттуда пахло мокрой пепельницей. Алеша запустил в трубу руку и высыпал стружки – прошуршали. Очень хотелось опустить туда и пепельницу. Подобрал шишечку, и она пробрякала в трубе.
– Спустить бы туда кошку, – отвлеченно подумал Алеша. – Вот была бы симфония!
Вздохнул.
– Воды выпить, что ли?
Налил из-под крана. Отхлебнул, отхлебнул. Вылил в раковину.
Обратно он прошел быстро, не глядя на гудевший буфет, трубу, вешалку.
– Где ты был?! – сказала мама.
Алеша прошел в свою комнату. Сел. Перед ним раскинулся белый лист бумаги. А карандаши торчали из стакана острыми концами, и других карандашей не было. Взгляд упал на бритву. Алеша воткнул ее в край стола. Отвел – дзинь! – пропела она. Воткнул ее поглубже – дзень! – пропела она. «Ре», – подумал Алеша. Вытряхнул все свои бритвы. После долгих усилий – дзонь! дзень! дзинь! джань! – пропели бритвы, – до, ре, ми, фа, – пропели они. Соль никак не давалась.
А мама сказала:
– Ты играл сегодня на рояле?
– У меня очень много уроков, мама, – сказал Алеша и порезал палец.
Он сидел и сосал палец и смотрел на лист бумаги.
– Алеша, – донеслось из маминой комнаты, – я сейчас схожу ненадолго, а ты сиди и занимайся. Просто стыд, как мне приходится краснеть за тебя на собраниях. И это внук Скропышева! – добавила она со скорбью. – Поиграй на рояле. Покушай – я оставила на кухне. Я пошла.
Алеша стоял в маминой комнате около большого зеркала, и в руке у него была большая рюмка с молоком. Он отставил руку с рюмкой и смотрел на себя, отставившего руку с рюмкой. Потом он слегка пригубил, и почмокал губами, и покачал головой, и смотрел на себя, как он пригубил, почмокал и покачал. Потом он сделал несколько общих поклонов, еще дальше отставил руку с рюмкой, посмотрел, как это все у него получилось, и откашлялся. Помолчал. Откашлялся.
– Нет, – сказал он, – слишком белое…
Он поставил рюмку на столик. И стал ходить, заложив руки за спину, как делал когда-то дедушка. «Не мешай дедушке – он думает», – говорила тогда мама. Алеша ходил мимо зеркала – и, проходя мимо, поворачивал голову налево, направо.
«О чем бы подумать?» – подумал Алеша.
Вспоминались только мама, учителя и уроки…
– О чем бы подумать… – сказал Алеша вслух.
Хлопнула дверь. В два прыжка он очутился около белого листа, а рюмка встала под столом.
– Что же ты ничего не кушал? – сказала мама.
– Занимался.
Алеша сидел на кухне и вяло жевал сырники. Было невкусно, но он растягивал время.
Хлопнула дверь. Раздались шаги, не шаги – а топот, и жирный голос пропел: «Журавли, журавли, не тревожьте солдат…» И рассмеялся тот же голос.
– Дядька! – обрадовался Алеша.
– Писатель!.. – раздраженно буркнула мама.
Дядька заглянул на кухню, повел носом и сказал:
– Здесь чем-то воняет…
Мама сказала:
– Вечно ты говоришь гадости при ребенке!
– Красивая ты баба, да дура! – сказал дядька, и его шаги удалились по коридору.
Мама ворчала у буфета.
Дядька был писатель и писал книжку о дедушке. Он говорил, что дедка не оставил другого наследства.
Алеша быстренько проглотил сырник и выскользнул в коридор…
– А, это ты, фиг! – пробасил дядька. Он, стоя, втыкал палец в пишущую машинку. – Что же ты молчишь? – Дядька оттягивал подтяжку и щелкал себя по налитому пузу. – Разве ты не фиг?
– Нет, – сказал Алеша.
– Нет, ты – фиг. – Дядька выпустил облачко коньячного духа. – А кто же еще?
– Я – человек, – сказал Алеша. Разговор с дядькой доставлял ему удовольствие.
– Ах, да! Извини, извини… Впрочем, это еще не значит, что ты не фиг. – Дядька снял с губы окурок и приклеил его к краю стола. Там уже был изрядный бордюрчик.
– А тебе не кажется, что тут как-то воняет?
– Нет.
– Странно, странно… – сказал дядька. – Ну, зачем пожаловал? Заниматься лень? Ай-ай! Стыдно, стыдно… Впрочем, я тебе не буду рассказывать, как я был первым учеником… Ей-ей, не буду! Коньяку я тебе тоже не дам.
– Тогда дай чего-нибудь почитать.
– Что же тебе дать почитать? Про корабли ты уже все прочел…
– Ну, хотя бы что-нибудь свое.
– Вот что, Алеша, – я тебя уважаю, но ты – фиг! Давай раз и навсегда договоримся: больше ты мне таких гадостей говорить не будешь.
– Ладно, – согласился Алеша. – Тогда дай «Декамерона».
– «Декамерон», – мечтательно произнес дядька. – Первое шевеление плоти. Далекая юность… Не дам.
– Почему? – протянул Алеша.
– Не дам – и не проси.
– У нас в классе многие уже читали, – сообщил Алеша.
– Да? Это, пожалуй, меняет дело. Нельзя отставать… Не дам.
– Ну, дядя…
– А она тебе позволила?
– Да что ты, дядя… Смешно даже.
– Все-таки здесь воняет… – потянул носом дядька. – Значит, не позволила?
– Ни-и-и! Не позволит, – убежденно сказал Алеша.
– Не позволит, значит… А ты ее спрашивал?
– Ну что ты, дядя! Ты же ее знаешь не хуже меня…
– Гм-м, не хуже тебя… Это как сказать. Так, значит, не позволит.
– Нет, – категорически отрезал Алеша.
– Ну, тогда бери. Бери, рыжий фиг, и проваливай. Мне еще труднеющую главу о твоем дедке написать надо – как он воспринял революцию… Труднеющая глава. Да и за тобой сейчас сюда прилетят…
…Алеша сидел перед чистым листом бумаги, а в выдвижном ящике расположился «Декамерон». Скучная книжка, думал Алеша. Развлекало его только то, что приходилось следить, как бы не застала мама. Уже несколько раз ему казалось, что мама направляется к нему, и он с треском запахивал ящики, начинал сосредоточенно вертеть карандаш. Сердце стучало. Мама не подходила. Когда он еще раз захлопнул ящик:
– Что ты там грохочешь? – сказала из соседней комнаты мама.
– Учебник уронил…
В конце концов мама подошла как-то так беззвучно, что Алеша не только не успел захлопнуть ящик, но и проснуться. Алеша вздернул голову и обвел бессмысленными глазами. На раскрытой книге расположилась лужица сладкой, дремотной слюны.
– Ах, вот как! – сумела сказать мама, схватила книгу и помчалась к дядьке выяснять отношения.
– Тьфу ты! – простонал Алеша. – Куда деться…
Они столкнулись в подворотне.
– Фиг!.. – удивился дядька. – Ты куда?
– Так… – сказал Алеша.
– Ах, так… Ну, проводи меня тогда до угла.
Дошли до угла. Отсюда начинался Портовый проспект. Постояли.
– Ну что, пойдем смотреть пароходы? – сказал дядька.
Солнце
Четыре золотых прямоугольника протянулись от окна к кровати…
Солнце.
На голубом экране окна появился серый воробей и восторженно завертел головой. Высокая фабричная труба – постоянная декорация – была веселого кирпичного цвета. Раздался гудок (с детства все кажется, что это из трубы).
Воробей улетел. Гудела труба.
Витя Тамойкин сел на кровати. При этом тело его описало дугу, а ноги опустились аккуратно в золотой прямоугольник. Пальцы пошевелились и оставили темные черточки на пыльном полу. Туфли разбрелись за ночь: одна хотела скрыться под шкафом, но не успела, другая – забралась-таки под батарею. Босые следы разошлись от кровати в разные углы комнаты и настигли туфли.
Утро было как утро: ушел кофе, оторвалась вешалка, кошка спала на чертежах… И нужно было бежать.
И Витя Тамойкин выбежал.
Воздух прыгал вокруг, теплый и ласковый. В подворотне расплылась большая лужа. Около ремонтируемого дома, усевшись в ряд на бревне, как воробьи на ветке, грелись на солнышке рабочие. Они разглядывали студенток, спешивших мимо. Лебедка стояла. Доска, которую поднимали и не подняли, висела где-то на полпути и смотрела на все сверху. Витя не стал придавать этому значения, он едет в институт и должен успеть сделать тыщу вещей – поджимают сроки.
Он шел и разбивал день по часам и пунктам дел. А на углу стояли три человека, задрав головы. И Витя задрал.
Балкон.
По балкону ползли широкие трещины, весь он был в плешинах отвалившейся штукатурки. Солнце слепило глаза. Рабочий черной тенью стоял на балконе и методично стучал по балкону здоровенной кувалдой. Балкон потрескивал, от него отрывались большие шматки штукатурки и шлепались на асфальт, рассыпаясь в пыль. Было очень приятно стоять так оцепенело, глазеть и ждать, когда наконец балкон не выдержит и что станет делать тогда рабочий… Но балкон выдерживал, а дела столпились в бесформенную кучу, толкались, не давали покоя. И Витя все-таки осилил угол и направился дальше, к институту.
Пройдя два квартала, он увидел новую группу. Эти смотрели под ноги. Создавалась переходная дорожка для пешеходов. Люди, из пешеходов, стояли и смотрели на то, как она создавалась. Рабочие ползали на коленях и заколачивали широкие блестящие кнопки. Пронзительно шипела горелка и лизала асфальт побледневшим от солнца языком. В каждой новой кнопке загоралось новое солнце.
Рядом с Витей стоял молодой человек с коляской. Попросил спички – закурил.
– Какая хорошая погода, – сказал он, глядя на свежую, сверкающую кнопку.
– Да, – сказал Витя, глядя на ту же кнопку, – отличная.
– Хорошо, что у меня сегодня выходной, – переполз он взглядом к следующей кнопке.
– Да, – сказал Витя, также переползая, – это хорошо.
Витя потянулся дальше.
Сел в автобус. Сухой солнечный асфальт наматывался на колеса. Витя снова построил дела в затылок друг другу. Как кнопки.
В автобус вошла девушка. Она не имела никакого отношения к делу. Обыкновенная девушка. Довольно приятная. Витя взглянул ей в глаза, и это несколько нарушило очередность пунктов. Девушка была чему-то очень рада и села сзади. Витя стал снова располагать свои дела. Они прыгали. Спиной он все время чувствовал девушку. Он давно не был в парикмахерской – сзади у него отросла изрядная косичка и уродливо топорщилась над шарфом. А это было уж вовсе лишнее! Он проделал некоторое движение головой, заложил косичку за шарф и втянул голову в плечи. И еще больше смутился оттого, что маневр мог быть замечен. Он сосредоточенно смотрел в окно и чувствовал совершенно определенно, как девушка посмеивается ему в спину…
Как будто заинтересовавшись встречным автобусом, Витя безразлично повернул голову ему вслед… По-видимому, девушка смотрела Вите в затылок, потому что, когда он повернулся, то столкнулся с ее взглядом. Она посмотрела на Витю, а он вспомнил про косичку, снова вобрал голову в плечи и потерялся: как она на него посмотрела?.. Так и сидел, будто его вот-вот пристукнут чем-нибудь сверху, и ничего не воспринимал, кроме девушки сзади.
Вот она смотрит в окно: на переходе застыла интересно одетая женщина. Вот она смотрит ему в затылок: такой смешной парень!.. Вот роется в сумочке: ищет зеркальце… или адрес в записной книжке? Мысль о записной книжке Вите неприятна.
И вдруг он услышал, что девушка встала. Теперь-то он разглядит ее всю! Она направилась к двери и обернулась и взвесила его долгим взглядом. Пожалуй, плохо такой взгляд не истолкуешь… Витя рванулся и застучал за ней по ступенькам.
…Но в конце концов оказалось, что он остался сидеть на месте, не стронувшись ни на йоту. Стучало сердце.
Автобус отбежал от девушки. Витя тупо смотрел в окно. Там было солнце. Оно билось в стекло, как большая, теплая птица. Пульсировало, как сердце…
Солнце.
Совсем уже около института между двумя барьерчиками шлепался снег. Из подворотни вышла молодая женщина с махонькой девчонкой и чуть не угодила под глыбу. Женщина отпрянула с перепуганным, побледневшим лицом, прижимая дочку. А дворничиха, неестественных форм, похожая на большую ватную игрушку, соответственно кричала:
– Тоже мне мать!.. Нарожали, и ладно… Вот сгубила бы ребенка…
Она прокричала в небо. Лопаты перестали высовываться из-за края крыши. Проскочила женщина, прижав дочку к животу. Снова замелькали лопаты.
От них отрывались, замирали на мгновение, а потом, медленно набирая скорость и увеличиваясь, летели слоеные серые глыбы. Глухим и сильным ударом рассыпались они по асфальту.
Когда Витя опомнился, лекция уже давно началась.
Дела… вспомнил Витя.
Он посмотрел еще немного на срывающийся с крыши снег. Над крышей было небо, солнечное и синее.
Да что это за дела… подумал он.
Витя повернулся и пошел в другую сторону. Вышел на проспект и направился к заливу. Солнце было проткнуто острием уходившего вдаль проспекта. Солнце было впереди и в то же время со всех сторон. Полупрозрачные глыбы домов плавали, парили в воздухе.
1959
Пятница, вечер
В этот день Костя в первый раз надел свои новые ботинки. К ним уже приодел белую крахмальную рубашку. Чувствовал себя красивым. Особенно идти было некуда, но ботинки не давали покоя, и он вышел на улицу. И не шел – нес себя. Женщины смотрели на него.
На Невском накануне установили новые, газосветные лампы. Их непривычный, одновременно сильный и мягкий, свет делал очертания домов легче и изменял привычные представления о размерах. И женщины в этом свете были странные и привлекательные. Они смотрели на Костю. Газовый свет мячиками прыгал в узких носках новых ботинок. Собственная походка и взгляды встречных женщин волновали Костю.
Так он ходил долго, и уже пора было домой.
Он стал в очередь на автобусной остановке. Подходили автобусы, другие, чем надо. Они подкатывали и откатывались, показав Косте всех пассажиров. Окна мимо глаз – как губная гармошка вдоль губ: трен-н-нь…
Среди пассажиров были женщины. Многие бросали на Костю взгляды. Некоторые прятали их потом, потому что Костя начинал смотреть слишком пристально. Были и красивые пассажирки. Их подкатывали и откатывали автобусы. Красивые пассажирки обменивались с Костей взглядами и уезжали куда-то. Как на губной гармошке… Трен-нь.
Вот только: вечер, автобус светится изнутри – и своего отражения в автобусном стекле не разглядеть. Не увидеть, какое у тебя мужественное или суровое лицо. Но Костя нравился себе и без отражения. Делал лицо.
Стоять на автобусной остановке – в этом тоже своя прелесть.
Трен-н-нь… Стекло. За стеклом – незнакомка. Костя видит незнакомку. Делает красивое лицо и взгляд. Незнакомка видит глупое Костино лицо. Прячет взгляд. Костя проводит маневр: тоже отводит взгляд, делает лицо безразличным, потом внезапно снова смотрит на незнакомку. И точно – поймал взгляд. Улыбка – улыбка. Пыльца на стекле… Трен-н-нь. И нет автобуса. Нет пассажирки.
Вот и Костин автобус.
Костя протолкался по ступенькам. Огляделся. Вот на заднем сиденье девушка. Хорошенькая. Она следила за Костей, пока он входил. А сейчас, когда Костя специально встал напротив, стала смотреть в окно. Интересно, как это она может поворачивать голову и направо и налево, минуя Костин взгляд в центре. Смотрит то в левое окно, то в правое.
Это тоже можно истолковать. Вот если Костя тоже станет смотреть в окно – она будет смотреть на Костю. И можно ее на этом поймать. Поймал, смутил. Она снова смотрит в окно.
На следующей остановке вошло много народу. Костя, не сопротивляясь, дал оттащить себя от девушки, и там, где он остановился, он мог рассматривать сразу четырех пассажирок. Одна действительно хороша. Она так и ни разу не подняла головы, не взглянула на Костю. Рядом женщина лет тридцати, полная, белая. Эта спит. Напротив – совсем молодая черненькая девочка с некрасивым чувственным лицом. Она сыграла с Костей в игру «поймай взгляд» и потом все упорней смотрела в окно, смущаясь. Четвертая, лет тридцати пяти, с резкими отдельными морщинами на костистом лице, сильно раскрашенная. Из-под узкой зеленой шерстяной шляпки-дольки с букетиком выбивалась серая, неживая шестимесячная. Красное пальто – давно вышедшего из моды фасона. Эта посмотрела на Костю только раз, в самом начале. Потом она никуда не смотрела. И Костя избегал смотреть на нее – стыдился.
Ничего особенного на этих двух сиденьях.
Но проходить вперед Костя не хотел: слишком уж набит автобус, чтобы продираться вперед, а его остановка скоро.
Костя стоял, держась за поручень у себя над головой.
Следующая остановка – Костина.
Здесь все выходят. Женщина в зеленом и красном встала. «Молодой человек, выходите?» – «Да», – сказал Костя, и лицо у него получилось особенно твердое и пренебрежительное. Косте было стыдно перед остальными пассажирками, что эта женщина заговаривает с ним. Ему, конечно, казалось, что все на него «особенно» взглянули. Он делал лицо. Автобус качнуло. Эта женщина вполне могла бы ухватиться за поручень, но почему-то ухватилась за сгиб Костиной руки. Костино лицо стало еще независимей и пренебрежительней, но в то же время он напряг бицепс, на который легла ее рука. Она почувствовала бицепс под рукой и сжала, гораздо крепче и мягче, чем это было нужно, чтобы удержать равновесие. Она посмотрела на Костю, ему показалось, восхищенным взглядом. Костя сделал невозможное: лицо его стало еще холодней. Но бицепс он продолжал держать надутым. «А впереди выходят?» – голос ее дребезжал, и она пожимала Костин бицепс. Она давно могла бы взяться за поручень. Она было отпустила. Но при первом же, совсем уж незначительном толчке, схватила Костину руку, а Костин бицепс снова напрягся. Она могла бы держаться за поручень! Костя боялся смотреть на пассажирок: а вдруг они думают, что она – с ним? В стекле он видел свое застывшее лицо. «А то я не выйду… – дребезжала она. – Я уж за молодым человеком…» Костя повернулся лицом к выходу, чтобы как-нибудь избежать, казалось, смотревших на него пассажирок. Женщина была вынуждена отпустить его руку. Но только Костя повернулся к ней спиной, она прижалась к Косте всем телом. «Я уж за вами, за вами…» Она прижалась к Костиной спине сильней. Пассажирки уже не могли их видеть, и Костя почувствовал облегчение. А она прижималась к нему, казалось, все сильнее. Застывшее выражение не сходило с его лица.
Двери открылись. Люди выскакивали из автобуса – влево-вправо, влево-вправо. В этот момент женщину оторвало от Кости. Он выскочил первым. Что-то остановило его в намерении сразу шагать к дому. Он выждал и, когда она выходила, подал ей руку. Женщина крепко сжала ее, сходя. Рука ее еще оставалась в Костиной, а выражение, застывшее на Костином лице, до сих пор не изменилось. Он почувствовал это, когда она сказала спасибо и почему-то отбежала от него, нелепо раскидывая ноги, прижимая к груди небольшой сверток. Бежала она шагов пять. Дальше пошла шагом. Дойдя до перехода, она оглянулась, увидела Костю. Улицу она почему-то опять перебежала.
Костя шел следом. Навстречу попадались хорошенькие девушки, но Костя не обращал внимания. Ни на них, ни на их взгляды. Женщина оглянулась еще раза два. Костя не сумел уловить ее взгляда. Она снова перебежала улицу. Костя перешел за ней. Она замедлила шаги и вдруг исчезла. Не исчезла – зашла в булочную.
Костя следил за дверью булочной из подворотни. «Зайти или не зайти туда?» – думал он. Решил – не стоит: в булочной много других людей. Женщина не выходила уже слишком долго. И уже нелепее и нелепее – почему он, Костя, следит тут в подворотне за дверью булочной… И тогда дверь распахнулась. Она.
Косте показалось странным, что пакет ее стал таким уж большим. Но это была она.
Женщина перебежала улицу и пошла по темному переулку. Костя спешил за ней. Она прошла в парадную. Лишь на секунду что-то остановило Костю. Но вот и он прошел следом. Туфли стучали маршем выше. Костя побежал по лестнице. Хлопнула дверь. Все, Костя постоял, стал спускаться. Ругал себя. И чувствовал облегчение.
С мрачным лицом вышел по переулку на улицу, перешел ее, направляясь домой. И тут, у булочной, нос к носу столкнулся с той же самой женщиной. Кроме свертка, она прижимала к груди батон. Костю это так поразило, что он прошел мимо.
Проскочив мимо, Костя остановился. И посмотрел ей вслед в нерешительности. Снова навалилась какая-то тяжесть. «Бред какой-то… Как же я обознался?..»
И Костя бросился догонять.
«Ведь все было ясно, – думал Костя, вышагивая за ней, – почему мне было сразу не сказать: “Может, вам помочь поднести ваш пакет?” Впрочем, сейчас, к нему прибавился батон… Тьфу! при чем тут батоны!»
И так шел, не отставая и не приближаясь. Прошли улицу до конца. Темную улицу со светлыми витринами магазинов. Фонари уже не горели. Товары в витринах глядели отвлеченно и странно. Манекены посматривали иронически. Держали в руках шляпы. Навстречу все еще попадались девушки. Без парней. Смотрели на Костю.
Костя спешил мимо. Он не замечал, как движется. Словно его несло течением.
«Что это со мной! – было подумал он, но думать об этом было неприятно, и он прогнал. – С ума схожу», – сказал он себе и успокоился.
Пройдя улицу до конца, они свернули на совсем темную. Только светились тускло номера домов. «Совсем как в том переулке», – подумал Костя.
Конечно же, она знала, что Костя идет за ней… Ведь улица была пуста, а Костины новые ботинки так гулко цокали подковками. Но она не оглядывалась.
«Предлагать поднести уже бессмысленно. Вот подойду и спрошу: “Почему вы так прижимались ко мне в автобусе?”»
Костя увеличил шаг, чтобы догнать. Оглянулся, нет ли людей. Сзади (Костя даже вздрогнул) шла дворничиха. «Они все тут друг друга знают, – испуганно подумал Костя, – знают…» Костя остановился и, поставив ногу на порог панели, стал завязывать шнурки. Они давно уже развязались и мешали ходьбе, эти шелковые шнурки новых ботинок. Дворничиха прошла мимо Кости и свернула в подворотню.
Быстрым шагом Костя снова сократил интервал и шел следом. Впереди что-то темнело еще больше, чем темная улица, – тупик.
«Почему вы так прижимались ко мне в автобусе?..»
Последний дом.
Женщина свернула в подъезд.
Костя прошел следом. В подворотне был булыжник. Костя почему-то подумал о своих новых ботинках: ставил их осторожно, чтобы не сбить каблук.
Двор был тоже плохо освещен: только одинокие окна еще не погасли. Поленницы. Очень много поленниц. Направо светилась лестница. Там, неожиданно близко, Костя увидел женщину. Она остановилась и, отшатнувшись, прижалась спиной к поленнице. Одной рукой обнимала сверток, другой – батон. Рот ее скривился.
Костя как-то поспешно прошел мимо, почему-то опять сделав каменное независимое лицо, и очутился на лестнице. Он чувствовал в спине ее взгляд, и ему было нехорошо. На лестнице он не знал, что делать. Медленно начал подниматься, прислушиваясь, нет ли шагов внизу. Он поднимался и поднимался, иногда останавливался, прислушиваясь, но на лестнице не было никого – только он. Вдруг он оказался на последнем этаже.
Не знал, что делать. Хотел уйти. Но вдруг подумал, что просто недослышал, и женщина сейчас где-нибудь площадкой ниже. Тогда нельзя так просто подняться и спуститься… Он нажал кнопку звонка. Стало мучительно неловко. Захотелось бегом бежать вниз. Но не побежал. Кто-то дошаркал до двери. «Кто там?» – спросили, не открывая. «Юра дома?» – сказал Костя. «Таких нет». Шаги ушли.
Еще помедлив, Костя начал спускаться. Он спускался все медленней и медленней, и опасение, что женщина окажется внизу, все росло. Но, как ни медлил, спустился. Вышел во дзор.
У поленницы никого не было. Ощущение свалившейся с него тяжести было таким резким и полным, что Косте показалось: он может взлететь. Легко и быстро он вышел на улицу.
«Вот я просто возвращаюсь домой от приятеля… – представлял Костя. – Ничего не было. Конечно же, ничего не было. Это приснилось. Это даже не снилось… А вот какие забавные эти номера на домах – как домики… В них живут домовые…»
Не то, не то… Что-то крутится в мозгу и никак не поймать! Вот! кажется, это… опять выскользнуло.
Костя вышел на большую улицу. Ту, где светились витрины. Как хорошо! Ночной город – как это здорово… Все спит и видит один общий сон. В этом сне Костя идет по большому ночному городу…
«Как бы так сделать… – думает Костя. – Как бы – чтобы иначе. Чтобы не снились больше мерзкие сны. Чтобы не пахло по утрам изо рта из-за этого поганого табака. Чтобы не было этих паршивых модных востроносых туфель. Чтобы стало легколегко на душе. Чисто-чисто…»
1960
Жены нет дома
Иду я домой – и идти домой не хочется. Жена уже, наверно, на съемках… Изображает толпу. Актерка… И делать ничего неохота: слишком уж их много, дел, набежало. И есть дома нечего. Иду – как бы медленней до дому добраться. От самой работы – пешком. Но вот уже и дом в двух шагах – куда деться?..
Вижу магазин, захожу. «У вас вся такая буженина жирная? – спрашиваю. – А красной икры у вас нет?» Скучно это все, тем более жрать охота. И винный отдел некстати скалит бутылки. Сейчас бы в самый раз… Растравлять – так растравлять себя до конца. Подхожу. А там новинка – «Старка» в забавных маленьких фляжках. А денег у меня на маленькую нет. А продавщица – миленькая девочка. Мне улыбается. И я улыбаюсь. Я даже сигарет решил взять, хотя только что уже купил рядом. Стою в очереди, и мы все переглядываемся. Подошла моя очередь, улыбнулись взаимно, я взял сигареты и отошел. Только и всего. Так ничего и не сказал. Отхожу от прилавка, неохотно так, замедленно, и себя ругаю: вот ведь дурак! Но больше в очередь не встанешь: нечего и не на что.
Вышел.
А она мне в окошко ручкой машет.
Не выдержал, пересилил робость, вернулся:
– А когда вы кончаете работать?
Сказала. И я сказал. И она сказала…
– Ну, так договорились?
– Договорились.
– Жду.
– Жду.
Прихожу домой – что делать?
Жена на съемках. Актерка!.. И продавщицу забыл в расстройстве.
Пойду разве в общежитие. Позанимаюсь…
И тут вспомнил: у меня за энциклопедией маленькая стоит. Справляли день рождения – осталась. От жены спрятал.
Спрятал, а с утра забыл. Потому что с вечера уже ничего не помнил. Уже целую неделю стоит. «Старка» – старая водка – чем больше стоит, тем лучше.
Вот только бутылочка обыкновенная. А если бы была во фляжечке…
Можно было бы взять ее с собой.
Вот именно. Из любого положения можно найти выход… Пойду сейчас и обменяю свою маленькую на фляжку… Как раз продавщица кончит работать. Мы пойдем с ней, поболтаем. То да се. Присядем в садике… Деревья. Листья винтом слетают на дорожку. Воробьи щелкают… Тут я и достану фляжечку.
Я опоздал всего на пять минут, но продавщицу уже не застал. И обрадовался – собственно, мне и не надо.
– Слушайте, – сказал я ее сменщице, – мне очень нужна такая фляжечка. Вот у меня есть такая маленькая… Обменяемся, а?
А она качает головой: не положено. А я настаиваю:
– Правда, мне очень нужна фляжечка. А новую маленькую я купить не могу. Ведь содержимое такое же?
Девушка смягчилась.
– Вот надо ее спросить, – указывает она на старшую.
А та говорит:
– Так ведь фляжка дороже.
– А на сколько?
– Рупь восемьдесят.
– Так я доплачу, – говорю я, – это я могу.
Доплатил. Обменял.
– Спасибо, – говорю.
– Так мы могли вам просто продать пустой флакончик, – говорит продавщица, – как не догадались…
– Как это мы не догадались, – говорю я.
Вот теперь можно и домой податься. Прихожу. Жена на съемках. Актерка…
Пойду лучше в общежитие, позанимаюсь… Только как я ее без закуски выпью? Разбавлю-ка я ее чайным грибом. Ерш сделаю.
Получилось из маленькой две. Кладу фляжку в карман и иду в общежитие.
Прихожу, выбираю себе самого отличника, садимся заниматься. Занимаемся, занимаемся – тут я вспоминаю, что здесь же мой один приятель живет, картины пишет. Давно я его не видел…
– Подожди, – говорю я отличнику, – я на минутку.
Нахожу его дверь. Стучу – не открывает. Но слышал же я голоса? Вспомнил: стучать надо условным стуком, иначе не откроет. Это он потому, что не поймут.
Вспоминаю условный стук. Открывает.
А там еще два моих хороших приятеля сидят. И еще подруги. Ну и ну!
Пиво пьют.
Допил я пиво, посмотрел на картины, сказал мнение.
Вышли мы на улицу.
Холодно, задувает, и в кино ничего не идет.
– Что будем делать?
– А что делать…
– Да, нечего…
– Ну, пошли.
– Не-ет.
– Куда едем?
– Так ведь решили.
– Что?
– Смотрите, ка-а-к-кая женщина!
– Вот это да.
Да, женщина, что и говорить. На жену похожа. И я думаю, что уже стемнело и какие уж теперь съемки. Жена, конечно, вернулась. Ждет…
А я тут неведомо с кем. И не позанимался.
– Ни, не пойду, – говорю.
– Ну, что ты?
– Да как же?
– Вот и Кирюха согласен.
– Поехали.
– Нет, – говорю я.
И мы едем. В трамвае холодно… Далеко едем. Долго. В самый далекий кинотеатр. На самую скверную картину.
Разговариваем.
– А я видел в кино слона на лыжах, – говорит одна.
– А я однажды на лыжах ногу сломал, – говорит другой.
– У нее ноги кривые, она – хуже, – говорит третья.
– А мне жена рассказывала… – начинаю я.
– А я видела в «Огоньке» – зебры с такими длинными шеями…
– А я себе однажды чуть шею не сломал…
– А у меня жена…
И вспомнил про фляжку. Достаю.
Общий восторг. Пускаем по кругу.
– Вот сдам милиционеру, – говорит кондуктор.
Приехали. Оказалось, опоздали на четверть часа.
– Ну, пошли.
– Полтора часа торчать…
– Только за час внутрь пустят – полчаса мерзнуть.
– Да и картина – дерьмо.
– Домой поздно вернемся…
– Да и на дорогу не хватит.
– Ну что ж, пошли…
В фойе мы приканчиваем фляжку.
О картине и говорить не стоит. Но и она кончилась.
Мне в обрез на трамвай. Но и трамвая нет. Наконец, я трясусь из одного конца города в другой.
Холодно.
Кондуктор говорит:
– Трамвай идет в парк.
И пехом. И пехом…
Прихожу. Думаю: уговаривать придется…
А жены нет.
– Где был? – говорит мама.
– В общежитии. Занимался. А ее нет?
– Не приходила.
– И никто не звонил?
– Нет.
Значит, я никуда не ходил, думаю. Она приходит, а я сижу в прибранной комнате и занимаюсь. Спокоен и холоден…
Актерка…
И я очень спешу пообедать и немного прибраться.
Успеваю.
Сижу. Актерка…
В учебнике неинтересно.
Завалилась, наверно, в кабак… Вот она приходит пьяная. А я ей разогреваю обед, укладываю спать… И ничего ей не говорю. А наутро у нее угрызения… Но я ей ничего не говорю.
Лучше лечь в постель. Буду лежать и читать учебник.
Лежу. Актерка…
А может, она шла пьяная – или даже лучше трезвая, – и ей отрезало ноги. Но я от нее не отказываюсь. Я ничего не даю ей почувствовать. Мы даже стали дружнее. Вот как та пара, что ходит по нашей улице: он седой и красивый, а она – красивая и без ног…
Лежу.
Наконец-то!
Я вскакиваю как ошпаренный, впрыгиваю в халат… Невозмутимо открываю дверь, не говорю ей ни слова и хладнокровно ложусь обратно. Лицом к стене.
А жена как начинает с порога рассказывать, как она промерзла на съемках, какая бессмысленная вещь эти съемки, что за люди – ужас! То хоть не верь. Уж больно она старается. До чего она энергично рассказывает как раз про то, в чем я сомневался.
Но от нее не пахнет спиртным. И у нее действительно замерзший вид. Да сегодня и немудрено замерзнуть. Особенно если съемки на улице.
Наверно, она думала о том, как я думал, думаю я. Наверно, поэтому так старается…
Я успокоился, но нельзя же так сразу менять настроение у нее на виду. Поэтому я сохраняю строгость. Да и вроде раз все в порядке, то о чем еще говорить… Все в порядке, все – как было.
А жена, видимо, еще не знает, что я успокоился. И еще говорит, сбивчиво, много.
– Чего же ты молчишь? – говорит она наконец. – Тебе что – неинтересно? Ты никогда мной не интересуешься…
– Нет, отчего же, – говорю я.
– Издеваешься, да?..
– Очень нужно, еще издеваться…
– Вот-вот, тебе ничего не нужно! Тебе все равно… Думаешь, домой хоть придешь… Промерзла вся… – всхлипывает жена.
У меня на душе уже кошки скребут – жалко.
– Возьми на столе, – говорю я, не отрываясь от книжки и не отворачиваясь от стенки. – Согреешься.
– Ага, значит, ты уже распивал свою маленькую?
– Какую маленькую?
– Ну, ну, что ты прятал от меня за книжками?
– Нет, там ровно маленькая, – говорю я.
– Как же это ровно маленькая?
– А вот так же. Никогда ты ничего не сообразишь… – Я встаю и переливаю остатки ерша во фляжку.
– Откуда у тебя фляжка?
– Обменял.
– Где?
– В магазине.
– Как?
– А вот так, свою маленькую – на фляжку.
– Ну уж это ты не ври. Чтоб ты да обменял. Да ты же у милиционера дорогу спросить постесняешься. Это я бы обменяла. А где уж тебе…
– Обменял вот.
– Перестань! Я тут на улице из-за тридцатки мерзну. Копейки на себя не трачу. А ты…
– Да ты что! Да я что – оправдываться должен! Да? А сама где-то с актеришками по кабакам шляешься?..
– Да ты… ты… Ты – знаешь кто?! – говорит жена.
– Ладно, знаю, – говорю я. – Выпей лучше – согрейся.
Отхлебывает.
– Да это же не «Старка»?!
– А что же?
– Лимонад.
– Много ты понимаешь. Это ерш.
– Так, значит, ты еще и лимонад купил? А где же остальное?
– Что – остальное?
– Ну когда разбавил… Где еще маленькая?
– Распил.
– Где?
– В общежитии.
– Когда ты успел?
– Успел.
– Так ты еще сколько пропил?
– Нисколько.
– А как же фляжка?
– Обменял.
– Опять то же… да сколько вас пило-то?
– Пятеро.
– Что тебе, трудно правду сказать? Трудно, да? Что ж это вы, впятером, что ли, полмаленькой пили? Так, что ли?
– Ну да.
– Издеваешься, да?.. Ничего не понимаю…
– А чего тут понимать! Все ясно.
– Ничего не ясно!..
– Давай лучше спать, – говорю я.
И вот я лежу лицом к стене – и надо же мириться. И я начинаю объяснять, как я был в институте, и как шел из института, и как заглянул в магазин, а там были фляжки, и вот – глупость, конечно, – но очень она меня заинтересовала, фляжка, и я сходил домой, нашел там… и вдруг мне становится так скучно! Что же это я? Куда уходят дни? И как же действительно можно это все объяснить?
1960
Юбилей
Ночью он, как обычно, проснулся и, лежа на спине, разглядывал призрачный отсвет на потолке. Он, как всегда, подумал, что до сих пор может понимать этот отсвет, и радоваться ему, и ощущать таинство почти так же, как в детстве. Просто смешно, но даже сейчас, если не глядеть на пергаментную грудь и руки и не двигаться, то есть не чувствовать слабость, а так вот спокойно и прохладно лежать и смотреть в потолок, он мог представить себя ребенком. Когда одеяло почти не давит, и не жарко, и ты один, а на потолке тот же отсвет, – это было точно то же ощущение, как в детстве. И если так смотреть на потолок, а потом закрыть глаза, он мог словно бы перемещать себя по комнате и поворачивать кровать: то он лежит головой к окну, то к двери, – и тогда: то он лежит лицом в комнату, то к стенке. А на самом деле он лежит и лежит себе на спине и не шевелится. И если так себя покрутить, то и действительно уже не представить, как ты лежал на самом деле. И тогда приходила мама, молодая, с высокой прической, и тихо гладила ему волосы и лоб, а он, не просыпаясь, чувствовал это. Ощущение было таким точным на этот раз, почти резким – он открыл глаза и медлил повернуть голову и посмотреть: не то что боялся, а слишком странно было так точно и резко почувствовать прикосновение. Он все-таки повернул голову – утонули в темноте книги, темной массой стол – и вздрогнул: всё цветы, цветы – корзины, много – белели и темнели в ряд на полу и выше, в ряд, на табуретках.
Он похолодел, но не сильно, и его поразила мысль, что он умер. А цветы – ему. Он лежит, ему не холодно, не жарко, не тяжело – как-то неощутимо ему, Все ушли и погасили свет.
Писатель Борис Карлович Вагин, умер на 71-м году жизни.
После юбилея – это уже не оригинально, подумал Борис Карлович.
Началось это с неделю назад. С того самого телефонного звонка. А потом визита. Представитель наседал и наседал. Борис Карлович вяло отказывался – представитель чувствовал это и наседал сильнее. Собственно, и раньше Борис Карлович слышал об этом юбилее. Теперь он понял, что и тогда опасался его и именно поэтому не думал о нем. Борис Карлович относился никак к этому юбилею, словно это был чей-то чужой юбилей, но то, что юбилей был все-таки его, вселяло в него страх. Из той мерной и отчужденной жизни, в которой он так давно находился и которая была ему по-своему дорога, внезапно возвращаться совсем в другую жизнь было нелепо. К тому же он не знал новых людей. Во всяком случае, этого бодрого молодого представителя Борис Карлович не понимал совсем.
Это празднование казалось Борису Карловичу теперь столь же нелепым, как если бы он, к примеру, надел сейчас короткие детские штанишки. Но пугали его не штанишки, а тот жесткий, окостеневший парадный костюм, который много лет висит в далеком шкафу и который придется надеть. И то, что соберется много вот таких громких и бодрых людей, будут говорить и тормошить и есть будут много. И конечно же, они преследуют этим какую-то цель, но какую и зачем – это тоже было непонятно Борису Карловичу. И он вяло и робко отказывался. Так, что представитель вдруг стал совершенно уверен, и что-то довольное и плоское появилось в его глазах. А Борис Карлович хотел, уже больше всего хотел, чтобы кончился этот разговор, такой бессмысленный. И вдруг почувствовал, что гораздо легче согласиться, потому что юбилей еще через неделю, а разговор – сейчас. Что это выход – согласиться. И так ему стало легко, что этот чужой человек ушел, что впереди неделя, удивительная неделя, потому что он вдруг почувствовал время. И как это оказалось просто.
Два дня он чувствовал облегчение, был ласков и приветлив, и домашние рассуждали между собой о том, что, какое счастье, всякая несправедливость кончается и вот старику радость.
На третий день Борисом Карловичем овладела суета, и он злился на эту суету, и домашние говорили о том, что, естественно, старик нервничает, что это понятно, и были предупредительны и чутки. А нервничал Борис Карлович потому, что представил: уже скоро – и сердился на себя за это. Он сердился на домашних за их предупредительность и чуткость, и они становились еще предупредительней и чутче. «Уехать, что ли?» – подумал он. Но нужно было одеваться, добираться до вокзала, садиться в электричку… И потом возгласы невестки: «Какая радость! и неожиданность!» И потом это легкое журение, что как же это он никого не предупредил и так сам, один и не ценит своего здоровья. И все придет в движение. Все будет ненормально как-то… Он не поехал. А предупредительность и чуткость домашних так утомили его, он так устал, что успокоился.
И дальше его не покидали ровность и успокоенность, и все домашние радовались за него. И ему было приятно, что он успокоил домашних, что это так просто, чтобы никто не беспокоился за тебя. Тогда же его навестила внучка с мужем, и они ушли совершенно очарованные стариком. И на прощание он поцеловал внучку в лоб, чего обычно не делал.
Были и звонки, приглашения, предложения. Борис Карлович со всем соглашался, но все относил после пятницы, после юбилея: видите ли, очень занят. Ему доставляло даже какую-то радость относить все дела на неведомую субботу, которая после пятницы, и смотреть, как эта суббота превращается в немыслимый ком. Потом он развлекал себя тем, что относил некоторые дела даже на юбилейную пятницу, и эта несовместимость смешила его, он смеялся прямо в телефонную трубку, такой милый, доброжелательный старик.
Было послезавтра. Это было очень много времени – послезавтра. И было завтра. И времени, казалось, оставалось еще больше, потому что оно и действительно было очень коротко.
И была ночь. Был отсвет на потолке. И это было астрономически сегодня, хотя вообще-то еще можно было говорить себе: завтра.
Он уже больше не уснул. Его не раздражало, что он не может уснуть. Он лежал на спине, рассматривал полосатый отсвет, и тот бледнел и таял, и наступало то утро, когда он уже не мог сказать себе: завтра. Ему было легко одному. И он понимал, что пока один, это еще не завтра.
Ну и схожу я на этот юбилей, рассуждал он, господи, ну что в этом такого… Раз они не понимают, что это лишнее, самое простое – согласиться и сходить. На это уйдет гораздо меньше сил. В конце концов, у меня и нет этих сил, на сопротивление. Так что даже выгоднее – пойти.
Пробился солнечный луч, и тогда тихо приоткрылась дверь и в комнату неуклюже протиснулась домработница Маша. О том, что завтра уже наступило, ее появление говорило даже настойчивей, чем солнечный луч. Борис Карлович хотел было закрыть глаза и притвориться спящим, но как-то так этого и не сделал, и Маша видела, что Борис Карлович, Карлыч, проснулся. «Сейчас начнется то, чему ее научили», – удрученно подумал Борис Карлович, представляя себе, как она начнет ухаживать. Ему всегда казалось, что добросовестная Маша так ничему и не научилась, а научилась только тому, чтобы показывать, как она исполняет все то, чему ее учили. «Сейчас начнет ухаживать, ходить за», – подумал Борис Карлович, но услышал нечто совсем другое:
– Можно мне сегодня пораньше… – говорила Маша, потуплялась и все терла руки о фартук.
То, как на него это подействовало, было неожиданным для самого Бориса Карловича. Он вдруг жалко подумал, что вот, вот никому не нужен… рассердился на себя за это и сказал:
– Нет. Сегодня надо вытереть книги.
Тогда он рассердился, при чем тут книги: они же ни при чем, – и сказал:
– Сама знаешь, какой сегодня день.
Маша вышла. Но фраза «сама знаешь, какой сегодня день» окончательно выбила Бориса Карловича из колеи. Ему было стыдно этой фразы. Он знал, что Маша сейчас снова войдет, уже под предлогом. И точно, она снова неслышно и неуклюже, как-то тем более неуклюже, потому что неслышно, появилась в комнате.
– Может, вам кофейку…
Как она отвратительно здорова, раздраженно подумал Борис Карлович.
– Нет, я сам, – сказал он, – я сам все сделаю. Ты уходи, уходи.
Маша растерянно смотрела на Бориса Карловича, и лицо ее все круглело.
– Совсем уходи, тебе ведь надо… – Борис Карлович почувствовал какую-то слабость и отвернулся, чтобы не видеть Машу.
Тотчас он услышал, как она часто затопала по коридору и опять по коридору, и хлопнула дверь.
Все скорей, скорей, подумал Борис Карлович.
Он полежал еще немного.
Так нельзя, сказал он себе, надо подобраться. Сейчас встану, смелю кофе, попью… Эти первые дела были ясны Борису Карловичу, но последующие стояли сомкнутым строем, и было непонятно, что же следующее. Надо же и просмотреть наконец, что написали про меня в газете.
Он встал. Оделся. Забрал со столика газету, которую давно уже приготовили для него домашние. Прошел на кухню. Но кофе был уже весь намолот, и заваренный кофейник стоял на плите. Он почувствовал разочарование, словно больше всего ему хотелось именно приготовить кофе самому. Конечно же, кофе был сварен не так, как надо.
Он вышел из кухни и забыл там газету.
Прошел в кабинет. Все лежало на своих местах. Он чуть подвинул чернильный прибор. И снова передвинул на прежнее место. Посмотрел на книги. Надо обязательно вытереть пыль, подумал он. Провел пальцем по корешкам. При чем тут пыль… – подумал он.
– Надо подобраться, – снова сказал он себе. – Ведь уже сегодня…
И тогда он окончательно понял, что вдруг наступила пятница. Раньше она была далеко, и даже в четверг она была еще далеко – ее не было. И вот, вдруг.
Вот что, надо выйти подышать, сообразил Борис Карлович и очень обрадовался этой идее. Я вполне успею, я могу выделить на это целый час.
Тут раздался телефонный звонок. Борис Карлович подошел и долго слушал. И вдруг засмеялся.
– Знаете что, – сказал он и хихикнул, – мы это можем сделать прямо сегодня. – Он снова хихикнул. – Приходите сегодня на юбилей. Мы там поговорим.
Посмеиваясь, он заставил себя надеть пальто. Шляпа упала за столик, и он долго доставал ее оттуда.
Он спустился и попал в сквер.
В центре сквера была площадка, вокруг которой стояли скамейки, а посередине ящик с песком. Борис Карлович выбрал себе скамейку в тени, сел и стал рассматривать детей. Дети были маленькие, спокойные, без крика. Дети понравились Борису Карловичу. А на скамейках сидели бабки и няньки, грелись, разговаривали, окликали детей, и тоже все было спокойно.
Очень толстый мальчик с раскосыми глазами стоял у ящика на четвереньках и цеплялся за игрушечный грузовик. С другой стороны грузовик тянул мальчик худенький и подвижный. Рядом с ними стояла девчушка, еще младше. Она выглядела нарядно, в свитере и брючках. Толстый что-то медленно ныл. Второй деловито отнимал. А девчушка стояла над ними с лопаткой в руках и смотрела то на первого, то на второго.
Она хочет стукнуть толстого лопаткой, подумал Борис Карлович.
Девчушка медлила.
Наконец она не выдержала, зачерпнула лопаткой песку и высыпала на берет стоявшему на четвереньках толстяку.
Я почти угадал. Это то же самое, что стукнуть, обрадованно подумал Борис Карлович. Это мне понятно. Это я все знаю.
Девочка сыпала песок на толстого.
Толстый не реагировал.
Он настолько толстый, что не может плакать, подумал Борис Карлович.
Кто-то на скамейках прикрикнул на девчушку.
А ведь в ней не было злости: такая оживленная мордашка. Просто ей интересно: что будет, раз он такой толстый. Или ей неприятно, что такой толстый?
Девчушка поняла, что удовольствие кончается и черпать песок уже некогда, и она несколько раз стукнула толстяка лопаткой по берету. Толстяк опять не плакал.
Вот, я был абсолютно прав: она хотела стукнуть его лопаткой.
Грудастая распаренная нянька рассерженно подбежала к толстяку. Выдернула его из песка, как редиску, и поставила на дорожку.
– Опять сидишь! – говорила она. – Врач тебе что сказал: ходи!
Толстяк вяло ныл и не хотел уходить и тяжело шел по дорожке, подталкиваемый нянькой. Когда они проходили мимо, Борис Карлович заметил, что у мальчишки, несмотря на тучность, очень славная живая морда и что нянька незаметно щиплет его за руку.
– Ходи, ходи, – сказала нянька и вернулась к своему солдату.
Девчушку в брюках увели молодые родители, и она увезла за собой грузовик с песком, а сзади, грустно глядя на грузовик, шел худенький чужой мальчик.
Потом он вернулся и подстроился к мальчишке, игравшему с самолетом. Через минуту он уже завладел самолетом. Мальчик бегал, держа самолет в отставленной руке: мальчик планировал, мальчик набирал высоту, мальчик входил в штопор.
Борис Карлович почувствовал, будто у него в руке самолет и это он планирует и набирает высоту. Он даже ощутил самолетик в своей руке. И понял, как можно слиться с этой железкой в одно.
Да, здесь я все понимаю, еще раз подумал Борис Карлович.
Потом он подумал, что вот надо их вырастить и надеяться, что они будут иначе. Что они смогут жить как люди чуть дольше, чем только в детстве. Да, все для этого, подумал он. Иначе – для чего же?
Появилась девочка со щенком. Она гордо прошла мимо ящика и села на скамейку. Худенький мальчик бросил самолет и уставился на щенка. Девочка гордо смотрела на мальчика и независимо сидела на скамейке.
Да… Кто же скажет, что щенок не лучше ящика с песком… Это очевидно, подумал Борис Карлович.
Но щенку надоело сидеть с девочкой, и он подбежал к ящику. Все стали его гладить. Девочка ревниво покрутилась на скамейке, не выдержала, подбежала и забрала щенка.
Щенок опять убежал к ящику.
Девочка разнервничалась, стала тормошить щенка, сердиться на него.
Тут уже что-то взрослое, подумал Борис Карлович.
Но тут появилась старшая сестра, сделала внушение, забрала щенка и отправилась домой. Девочка разочарованно пошла за ней.
Борис Карлович представил, как она тайком забирала щенка, тайком выбегала на улицу и чем была для нее эта самостоятельная прогулка со щенком. И он рассердился на старшую сестру: эта взрослая, а не та.
И Борис Карлович заметил, что уже трижды мимо него, потупляясь и поглядывая, прошел один и тот же молодой человек. Все еще умиротворенный, Борис Карлович ласково посмотрел на него и подумал про него то же: славный. Тогда, поймав взгляд, молодой человек подошел к Борису Карловичу, покраснел и сдавленным голосом сказал:
– Извините, что так прямо, я бы не стал, но я, извините…
– Да, – что-то осознав и сжавшись, сказал Борис Карович.
– Ведь вы Борис Карлович Вагин! – сказал молодой человек.
– М-м-м… – как-то неопределенно и испуганно промычал Борис Карлович.
– Я так хотел познакомиться с вами. Ваши книги…
Борису Карловичу стало стыдно. Жгуче, обидно стыдно, как бывает разве в детстве.
– Очень хорошо, да, – сказал Борис Карлович.
– Мне очень хотелось…
Борису Карловичу стало еще стыднее. Но тут он вспомнил и очень обрадовался тому, что вспомнил.
– Вот что, – сказал он живо, – приходите сегодня на мой юбилей.
Довольный, молодой человек ушел. Борис Карлович облегченно вздохнул.
Не понимаю, подумал он неприязненно. И тут заметил, что молодой человек возвращается. Что ему еще нужно?.. Борис Карлович закрыл глаза и притворился спящим.
Странно, думал он. Ведь все это я сделал так давно… И что это случилось с ними вдруг?! Вот Саша… Ведь он лучше меня умел. А о нем не вспомнили. К чему все это? Мне уже ничего этого не нужно. Это все не мое – а их. Как они этого не поймут! И жизнь моя – это тоже у них. И они не дают мне жить. Господи, ведь и этого не понимают, что стариков щадить надо! Что вообще оставлять в покое хоть когда-нибудь – надо. Что это потребность… Что им еще от меня нужно! Все ведь и так останется им. И собрание сочинений и все – ничего этого мне не нужно.
Через четыре часа, подумал он, и уже идти…
Он испуганно разогнал мысли и задремал.
Когда он открыл глаза, толстый мальчик, и нянька, и солдат – их уже не было.
Были какие-то новые дети.
Солнце передвинулось, и его скамейка выплыла из тени. Тепло было ласковым, обнимающим. Борису Карловичу даже показалось, что стало менее душно. Пригревало все сильней. По дорожке шла женщина, прижав к груди два батона. Когда она приблизилась к Борису Карловичу, у нее выскользнул один батон. У Бориса Карловича екнуло в груди, как всегда бывало, когда он ронял что-нибудь сам. Женщина наклонилась за батоном, и у нее выскользнул второй. Борису Карловичу показалось, что батонов очень много и они все сыплются, сыплются… Все поплыло перед глазами. Борис Карлович знал, что надо встать и перейти в тень. Но вставать-то больше всего и не хотелось. «Завтра, – подумал он, – еще не сегодня…» Больше всего хотелось закрыть глаза. Закрыл. Тогда захотелось откинуть голову. Откинул. Голова сразу закружилась. Солнце ударило в веки. Розовое, все розовое. Гладкое. Рука поползла вниз, задрался рукав. Борис Карлович чувствовал, как нагреваются на солнце часы. Хотелось устроиться поудобнее, чтобы все нашло свое единственное место. И рука, и голова, и ноги. И вдруг Борис Карлович почувствовал, что ему стало удобно. Так удобно, что ничего уже больше поправлять не надо.
– Спроси у дедушки, сколько времени, – сказали на соседней скамейке.
Сердце болтнулось в груди Бориса Карловича. Еще четыре часа! – хотел крикнуть он. И вдруг сердце оборвалось, поскакало, запрыгало куда-то вниз. В прохладу. Ему стало прохладно. Сердце прыгало вниз, как по лестнице. Он почувствовал себя снова маленьким, совсем маленьким мальчиком прошлого века. И вот с шумом бегут вниз по откосу ребятишки. Вот и он, Боря. Они бегут, катятся кубарем по песку – и в воду, в воду… Вода обнимает прохладой. Все как-то заходится внутри. Вода по щиколотку, по пояс, по грудь… На бьющееся, разгоряченное сердце.
– Дедушка, дедушка, сколько времени? – настаивал мальчик.
А с соседней скамейки кричали какими-то странными голосами:
– Вова! Вова!! Иди обратно!
1960
Чай
– Аза, налить тебе еще чайку?
Азарин протягивает чашку. Ирина и Азарин пьют чай. Петр Ильич и Анна Степановна пьют чай. Ирина пришла в гости к родителям и привела с собой мужа.
– Много пить – вредно, – говорит Петр Ильич. – Сердцу трудно.
– Почему это – трудно? – интересуется Анна Степановна.
– Потому что вода сначала проходит через сердце.
– Через сердце? – загорается Анна Степановна. – Откуда ты взял такую чепуху?
– Не веришь! А мне вчера дядя Гриша все объяснил. Можешь у него спросить. Вот позвони и спроси.
– Так ведь у него инфаркт!
– Да, инфаркт… – протягивает Петр Ильич. – Вот ходит-бродит человек и… Крак! И с чего? Вчера еще мне анекдот рассказал… Ха-ха! Как его? Приходит еврей и спрашивает… Что же он спрашивает? Экая голова стала. Такой смешной анекдот…
– Петенька, тебе еще чайку? Или боишься, что пойдет через сердце? – смеется Анна Степановна.
– Ну, а через что же? – настаивает Петр Ильич. – А ты думаешь, как?
– Сначала в желудок, а потом в сердце.
– Ну, это уж слишком, – снисходительно смеется Петр Ильич. – Значит, сначала в желудок, а потом – в сердце? Благодарю.
– И что такого? – говорит Анна Степановна. – Что тебя смущает?
– Так ведь в желудке такая грязь!.. И сразу в сердце. Да ты видела когда-нибудь желудок? Что там творится!
– Да нет же, – говорит Азарин, – вся вода идет через почки.
Азарин студент, и его мнения авторитетны. Но Петр Ильич не сдастся.
– Через почки? А потом – в сердце? Так ведь это моча! В сердце, а потом в голову? Ударяет? – заливается Петр Ильич.
– Петя, перестань. Люди чай пьют, – ласково сердится Анна Степановна.
– И все-таки – через сердце, – говорит Петр Ильич, – иначе почему ему трудно?
– Ира, не ешь с полу, – набрасывается на дочку Анна Степановна, – сколько раз тебе говорить! Вон полный стол всего, а она непременно всякую гадость – в рот. Уже замужем – и не стыдно.
– Подумаешь, – пожимает плечами Ирина, – в эвакуацию я и не то ела. В детдоме что в рот ни сунешь – и хорошо. И хоть бы раз чем-нибудь заболела! Всю жизнь немытые фрукты ем…
– Да, это правда… – вздыхает Петр Ильич. – В войну лишь бы наесться – кроме голода, ничем не болели…
– А знаете, – встревает Азарий, – у меня самое обидное воспоминание… В блокаду… Было мне лет пять. Слоняюсь вокруг стола – жду, когда мама принесет чего-нибудь. Хожу вокруг стола и понемножку щиплю соль, чтоб голод заморить. Сосешь, словно что-то ешь. И вот приходит мама и приносит огромную банку сливового варенья. Случалось же такое в блокаду! Хлеба ни крошки – и целая банка варенья. Съел я этого варенья – как меня начало рвать! И все из-за соли. И самое обидное не то, что рвало, а то, что пропало даром. До сих пор того варенья жалко… Ирка, не таскай у меня из тарелки!
– И ведь всего 125 грамм хлеба давали, – говорит Анна Степановна, – я тогда завэвакопунктом была. Иду однажды с председателем райкома… помнишь, Петенька, такой высокий, белобрысый? Иду с ним по какому-то двору, а в форточки все фунтики летят… Уборные-то не действовали. А ходить – сил не было. Вот на бумажку – и в окно. Эдакие кучи под окнами… Вот председатель мне и говорит: «И как это так много получается? Ведь всего 125 грамм, а такие кучи…» Представляете, так и сказал, – смеется Анна Степановна.
– Да, эти 125 грамм… – тянет Петр Ильич. – Многого стоили… Чего только люди не делали, чтоб лишнюю карточку иметь. Умрет кто-нибудь и лежит дома в постели, как больной: только чтоб не узнали, что умер. И спят с ним вместе. А карточка его действует.
– А покойников сколько было!.. – говорит Анна Степановна. – Тоже в окна бросали – сил хоронить не было. Огромная куча, до третьего этажа, была в нашем доме. И тоже какое-то странное чувство было: идешь по улице и знаешь – вот этот завтра покойник. Такое что-то у него в лице… Не только слабость. Просто что-то такое…
– Это действительно… Это верно… – кивает Петр Ильич.
– Что-то ты, Петенька, бледный какой-то… Может, тебе чайку еще налить… или варенья?.. Да… И вовсе мы как-то не боялись покойников. Столько их было!.. А сейчас… Да оставь меня наедине с покойником – брр! с ума сойду. Единственный раз у меня и было, что испугалась… Да и не испугалась… Бегу ночью с заседания. Такой мороз. Луна такая… Вдруг как споткнусь да растянусь во весь рост!.. Это кто-то мертвого старика раздел и посадил на панель. Руки-ноги ему развел – тот так и замерз. А я об него споткнулась. Прямо ему в объятия. Лицом в седущую бороду. Вскочила. Кругом пусто-пусто. Будто вымерз город. И луна на все это светит… Я как побежала, так до самого дому. Долго потом этот старик перед глазами стоял. Только их закрою…
– А ты помнишь, – говорит Петр Ильич, – какая кампания была по очистке города к лету? Заболеваний очень боялись…
– Помню, помню… – говорит Анна Степановна, – я же сама ее в нашем районе проводила…
– И все бригады ПВО развозили трупы… – продолжает Петр Ильич. – Нагрузят грузовик и везут. Как-то идет машина по Загородному. В кузове высоченная гора… И вот задела верхушкой за провод… И посыпались, и посыпались… Через весь Загородный такая цепочка. А машина не останавливалась – все вперед…
– А у нас в доме ремесленники угорели, – говорит Анна Степановна. – Жалко тепла было, закрыли печку рано и все угорели… Полный грузовик набрался. А наверху такой мальчик лежал… И развел так руки как-то… Развел ручки.
– А ведь наш район знамя получил, – говорит Петр Ильич, – переходящее. И сто тысяч премии. Первое место по очистке заняли.
– Да, – подхватывает Анна Степановна, – получили премию и такой банкет закатили! Пригласили лучших артистов. Весело было! Наплясались до упаду. И такая погода потом веселая была. И город такой чистый был, как стеклышко. Никогда такой чистый и потом не бывал… И людям тогда вроде полегче стало.
– Аза, да ты что ничего не кушаешь? – всполошилась вдруг Анна Степановна. – И ты, Ириша? Пейте, ешьте…
– Спасибо, Анна Степановна, – нам пора, – поднялся Азарий. – Ира, пошли домой.
– Как, вы уже уходите? Что вы так заспешили?
– Так ведь уже час, – говорит Азарий, – спасибо вам большое. И вам, Петр Ильич, тоже.
– Ну что же, час – так час, – говорит Анна Степановна, – передавайте привет вашим. Заходите почаще – и ты, Ириша, и ты, Азарий.
1959
Первое путешествие
Одна страна
(Путешествие молодого человека)
Ворота Азии
Начало
С детства я бредил Азией. Семеновы-Тян-Шанские, Пржевальские и еще… Грум-Гржимайло – они ездили на своих верблюдах, стреляли своих яков, попадали в свои самумы и делали свои великие географические открытия. Я подыскивал себе достойный псевдоним (ни мое имя, ни фамилия не устраивали меня – устраивала их слава…). Сергей Карамышев! Это уже неплохо. Грум-Гржимайло и Карамышев! Пржевальский кладет мне руку на плечо, а другой обводит даль. Там хребет Сергея Карамышева. Великий путешественник Карамышев-Монгольский на фоне открытого им дикого верблюда. Книжка из серии «Жизнь замечательных людей» – фотографии: мать путешественника, отец путешественника, великий путешественник в детстве.
Я прибегал с книжкой к маме.
– Вот Пржевальский пишет… Как стать великим путешественником, какие нужны качества… А у меня все это есть: путешественником я родился, страстно я увлекся, научно я подготовлюсь, характер я воспитаю, трудолюбие я разовью, а энергия – приложится… – говорил я, загибая пальцы.
Вот я студент Горного института. Я уже знаю, что белых пятен, наверно, и нет. Что последнее, может, досталось Грум-Гржимайле (чудо, а не фамилия!). И что вообще это детство. Но еще не знаю, что детство, может, то немногое, чего не следует стыдиться.
Я мечтаю о Японии, стране безукоризненного вкуса и тысячелетиями отточенного движения… Вот я сижу на корточках в такой красивой японской одежде. Раздвигаются створки разрисованной журавлями двери. Это за моей спиной, но я не оборачиваюсь: я знаю, почему они открылись и кто там. Я знаю, как она подойдет, как поклонится, как поставит передо мной чашку и снова поклонится, и как будет выходить, пятясь и кланяясь, и как сдвинет за собой створки, словно уходя в стену. А я не меняю ни позы, ни выражения лица: я все это знаю. Тыщу лет, как это всем известно. Известна эта комната и как в ней что стоит. И эта женщина. И я, который все это знает…
Япония… Это кончается тем, что я женюсь на курносой и рыжей девчонке, такой нелепой и такой славной. И теперь Япония все реже заходит ко мне.
А открытия? Моя специальность – ковырять землю, в двадцать три года я уже знаю, что это – работа.
И вот практика. Уезжаю на все лето в Среднюю Азию. Еду работать. Но еду я в Азию, с которой меня связывает эвакуационное детство.
С чем я еду?
Ишак. Верблюд. Изюм – кишмиш. Аул – кишлак. Каракумы – Кызылкум. Басмачи – калым. Чайхана – скорпион. Арык. Тюбетейка – халат. Базары. Ташкент – город хлебный. Насреддин в Бухаре.
Я знаю и больше и не больше этого.
Еще три начала
В первый раз Азия началась в Москве на Казанском вокзале. Сначала в очереди за билетами. Потом на перроне, у поезда.
Навстречу мне прошла девочка в ярком широком платье до земли. Я обернулся ей вслед: из-под тюбетейки змеилась тьма черных косичек.
Непонятливые старики окружили тележку газированной воды и пытаются перелить ситро из стаканов в бутылки. Стаканов всего два, и продавщица нервничает, кричит, торопит их. Потому что стоит длинный хвост и расстраивается бойкая торговля. А старики все соглашаются, кивают ласково и не спеша делают свое нелегкое дело.
И еще по перрону прогуливаются другие в тюбетейках. Много студентов.
Проводники – тоже в тюбетейках. Они по-хозяйски берут билет, чуть ли не с превосходством не замечают меня. И с искренней страстностью договариваются о чем-то с людьми возбужденного вида, снующими туда-сюда по перрону.
И вот мы едем. Соседом моим – казах. Он возвращается из отпуска. Огромные его чемоданы занимают немало места – это он выполнял поручения односельчан, все для них накупил. Парень очень гордится, что побывал в Москве. Все рассказывает, словно репетирует. Он беседует с другим моим соседом, машинистом паровоза, русским. Этот машинист как-то сразу стал для него большим авторитетом. Говорят они в основном о городах, в которых побывали.
– Вот в Ленинграде вокзал – это да! – говорит машинист.
– А в Новосибирске какой вокзал… самый лучший! – говорит казах.
– Ну уж сказал! Что в Новосибирске…
– Да, действительно… – соглашается казах. – Вот в Актюбинске – это да!
– Ну уж и вокзал…
– Паршивый вокзал, – кивает казах.
Так мы и ехали. Пили пиво в вагоне-ресторане, после чего все рассказывали случаи, перебивая друг друга, потом спали. Потом просыпались.
Во второй раз Азия началась, когда на станциях газированную воду стали продавать не стаканами, а большими пивными кружками. Это уже были другие категории: другая жара, другая жажда. Мы катили по Казахстану, по Голодной степи. И я все диву давался, что и тут живут люди. Радостный (родина!) сошел наш казах.
Мы катили по голой, гладкой степи, и я все прислушивался, не понимая, откуда это посвистывание. Оказывается, суслики. Они бегали по степи в необычайном количестве. Жирненькие, серенькие, они сгорали от любопытства. Подбегали к насыпи, выстраивались шеренгой, смотрели на наш поезд, стоя на задних лапках, и посвистывали от удивления.
Проводники стали совсем важные: ближе к родине. Купе мое опустело. Но на одной из станций проводник вселил ко мне целую юрту. Два старика, широколицые, шоколадные, с торчащими вперед узенькими бородками, одна старушка и три мальчика. Первым вошел толстый старик. Он поздоровался, снял шляпу. Под шляпой оказалась тюбетейка. Снял с сапог востроносые галоши, снял ватный халат и оказался в вельветовом немецком костюме. Затем вошли все остальные. На всех был вельвет.
– Дедушка, вы до какой станции? – спрашиваю я старика.
Старик ласково улыбается, кивает. Я думаю, он не слышит, и кричу:
– До какой станции?!
Лицо деда совсем расползается и становится фантастически широким.
– Молодец, молодец! – кивает он.
И все улыбаются и кивают. И другой старик и старушка.
Какие славные!
Потом появляется проводник, говорит им что-то по-своему, и они начинают собираться. Одеваются в обратном порядке, чем раздевались. Пожимают мне руки. И выходят.
Так и катим. День наполняется какими-то мелкими событиями и даже волнениями. Вечер. Я все стоял в тамбуре и пропустил чай.
– Все кончилось, – говорит мне проводник, – что же я, все время должен кипятить!
Я совсем расстроился. И зря. Потому что тут случилась станция и сели два таджика, старый и молодой. Они потолковали с проводником, и в нашем купе появился чайник.
– Иди к нам чай пить, – говорит старый.
Я с удовольствием присоединяюсь. На столике появляются лепешки, яблоки. Все прекрасно. Это дядя и племянник. Дядя – учитель. Племянник едет поступать в институт.
Мы пьем чай. Дядя и племянник возбужденно обсуждают что-то.
Говорят они примерно вот что:
– Шавран савон ФИЗИКА – ХИМИЯ. Сопунанда вшор буд ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.
– Зиргиданд ор?
– Чоршанбе сормадони КОНКУРС.
– Фикра нолабур СТИПЕНДИЯ?
– Табассум.
– Бигзада васваса аз ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА?
– Табассум.
– Почему чай не пьешь? – говорит мне дядя.
– Я уже напился.
– Чай не пьешь – откуда силы берешь? – удивляется он. – Пей еще.
Я наливаю пятый стакан, а дядя с племянником так, наверно, по десятому. Дядя берет газету.
– Порсоштани ГАЗЕТА? – разворачивает он ее. – Дар СТАДИОН «СПАРТАК» галабаш ФУТБОЛ сарсухан КОМАНДА КЛАССА «Б»…
Я уже не могу видеть чай. А они все пьют. Третий чайник.
– Откуда силы возьмешь… – сокрушается обо мне дядя.
Но вот и они напились. Укладываются. Гасим свет.
А рано утром меня расталкивает проводник:
– Приехали.
С толпой прибывших выхожу на привокзальную площадь.
В третий раз начинается Азия.
Стою в нерешительности. Таких городов я еще не видел. Все незнакомо. Низенькие, обмазанные глиной домики розовеют от рассветного солнца. Налево – сад и чайхана. Направо – автобусная остановка. Прямо под вывеской «Такси» к столбику привязан осел. По площади снуют люди. Всех мыслимых национальностей. Во всевозможных костюмах. Разные языки. Пестро, шумно.
Я стою в раздумье, как и куда тронуться.
За мной что-то лязгает. Я вздрагиваю и оборачиваюсь: тетка в шинели запирает на цепь ворота, через которые я вышел на площадь.
Я вошел, и ворота за мной закрылись.
Еще одни ворота
– Где тут отдел кадров?
– Прямо и налево.
Прямо и налево. Темный коридор. В коридор распахнута дверь. Из нее на пол ложится полоса света. Прикрыв дверь, читаю: «Отдел кадров». То, что нужно. Снова открываю дверь, вхожу. Шкафчики. Железный сундучок на полу. За столом белокурый гигант с мужественным лицом. Сосредоточенно что-то выстригает ножницами. Подхожу вплотную, смотрю. Из красного листа выстригается огромная буква «Щ». Это становится ясно через некоторое время. Гигант сосредоточен. Наконец с могучим вздохом он завершает последний хвостик. Отставив руку, смотрит, щуря глаз.
– Так… – говорит он. – Ну, что?
– По-моему, хорошо, – говорю я.
Гигант вздрагивает, недоуменно смотрит на меня, краснеет.
– Вы что, читать не умеете? – рычит он.
– Умею, ща, – говорю я.
– Ну, так выйдите и прочтите, что написано на двери, – говорит он уже спокойнее и доброжелательней.
Выхожу, читаю. Возвращаюсь.
– Ну и что? – улыбается гигант.
– Написано «Отдел кадров».
– А ниже? Ниже! – Он улыбается еще шире.
Выхожу, читаю. Возвращаюсь.
– Посторонним вход воспрещен, – говорю я.
– Вот видите, – смеется он, – подойдите к тому окошку.
Действительно, в стене маленькое окошко с решеткой. Захожу со стороны окошка.
– Вот, – говорю.
– Ну, что? – гогочет гигант.
– Мне бы начальника отдела кадров…
– Это я. Так что?
– Вот, приехал…
– Налево и прямо. Подпишите заявление у начальника.
– А почему вы за решеткой?
– Чудак, – смеется он, – документы…
Налево и прямо. Стучусь. Вхожу.
За столом толстый седой человек. Я решительно подхожу вплотную к его столу. Толстый подымает на меня глаза. Я долго объясняю, кто я и что я, зачем и почему. Я решился объясниться столь обстоятельно, чтобы меня больше не разыгрывали. Он слушает меня внимательно, разглядывает меня своими голубыми глазами. Он мне нравится. И вот я все рассказал.
– Так… – говорит он. – Так это вам к начальнику. – И показывает на маленького, черненького, совсем мальчика, который сидит за соседним столом.
Я вспотел. Подошел ко второму столу. Начальник не поднимал головы, читал какую-то бумагу. Я вытащил направление и положил ему на бумагу. Он продолжал читать.
– Ничего не понимаю, – сказал он вдруг.
Поднял на меня глаза.
– Ах, это ваша? – Глаза усталые, скорбные.
– Моя.
– Раньше чем через неделю рабочего места не могу предоставить.
Зазвонил телефон.
– Так что приходите через неделю, устроим, – сказал он, поднимая трубку. – Да, я. Да, начальник. Ну сколько можно вам говорить, что сейчас не могу! Спать хочу, понимаете! Да убирайтесь вы… – Он швырнул трубку.
Ну и мальчик! Поднял на меня глаза.
– Вы еще здесь? Через неделю.
Я замялся.
– А-а-а… понимаю. У вас нет денег?
– Нет, что вы! Есть! – почему-то сказал я.
– Ага, тогда вам, наверно, негде спать.
– Смешно, – сказал я, – пол-Азии родственников!
– Гм, ну что ж, тогда через неделю.
Я вышел. Куда идти?
– Э! – окликнули меня. Это был белокурый гигант из кадров. – Вы, наверно, тут ничего не знаете? Пошли вместе. Кстати, я вам покажу, где здесь самое лучшее пиво…
Он показал мне и гостиницу, и пиво.
Через три дня у меня кончились деньги.
Записки чревоугодника
Как я наелся
Я шел по одному адресу, который раскопал в своей книжке. Это был один товарищ, русский. Мы познакомились с ним в поезде, еще на пути сюда.
«У него и поем», – думал я.
Это была совсем новая улица, на которой он жил, и никто не мог мне объяснить, как к ней пробраться. Один было объяснил, и я долго вышагивал по старому городу…
Улицы метровой ширины и дома двухметровой высоты. Я шел, чуть не царапая плечами дувалы слева и справа. В гладких боках улочек время от времени были прорублены дырки и вставлены дверцы. У дверей сидели босоногие, в ярких платьицах девчонки с сорока косичками, в серьгах, с накрашенными пальцами рук и ног и возились со своими толстыми братишками; или у дверей никто не сидел, а она была распахнута, и можно было видеть коридорчик между двумя дувалами, словно это еще более крохотная улочка, и там еще распахнутую дверь, а за ней садик, и в нем та же девчонка возилась со своим братишкой; что-то кипело в котле на треножнике, свисал виноград с деревянной решетки, был вынесен в садик топчан и расстелен ковер, а откуда-то из закутка выглядывал мотоцикл…
Я шел по старому городу и никак не выходил на нужную мне улицу. Я стал снова спрашивать, и оказалось, что иду я не в ту сторону.
Я повернул обратно, ругаясь про себя и вслух, со злостью вспоминая того типа, который указал мне неверно дорогу. В воспоминаниях он казался особенно жирным, самодовольным, и я ругал его сытость и самодовольство. Я награждал его все новыми недостатками и уродствами, пока не успокоился и это не превратилось просто в игру под ритм шага.
А в животе было так пусто… Я ощущал там своды. Как в храме. И словно там жили гул и эхо. И во рту перегорело.
Я выбрался на магистраль. Мимо бегали автобусы. Я мог бы сесть в любой из них и ехать, так как очень устал, но у меня не было и на билет. Стоял самый что ни на есть зной. Не полуденный, как почему-то считается – тогда сносно, – а послеполуденный, часа четыре. Я проходил мимо кваса, мороженого, газированной воды, стараясь не глядеть: они ранили мне сердце.
Но все имеет конец. И вот я у цели.
Я отыскал и улицу, и дом.
Здесь меня накормят и напоят.
Я отыскал его самого во дворе. Он возился там с машиной. Он не ожидал. Он приветствовал меня слишком бодро и радостно, чтобы мне это показалось. Мне это не показалось. У него протекал масляный фильтр, и лицо его было скорбно. Он очень извинялся и просил меня подождать немного, потому что он уже начал и когда еще соберешься взяться. Он залезал с головой под капот и забывал обо мне, а вылезая, видел меня, внезапно вспоминал, по лицу его прошмыгивала тень, и он начинал меня развлекать. Эти его вопросы и слова делали еще более неуютным мое сидение на табуретке около машины, гораздо более неуютным, чем когда он забывал про меня. Если бы он меня не «развлекал», я бы тоже забывал про него – да и про все на свете – в терпеливом и тупом ожидании еды.
А мысль о том, что мне давно надо встать, извиниться и уйти, пообещав зайти в следующий раз (сейчас я только на минутку, спешу), чтобы потом никогда сюда не приходить, – эту мысль я прогнал в настойчивом своем стремлении пообедать. И потом я уже так долго просидел у машины, что встать и уйти, помимо всего прочего, казалось мне просто неловко. А он, хам такой, уже вроде насмехаясь, поважнев, словно разгадав мой умысел, как-то уже не стеснялся и не извинялся передо мной. А меня все больше злило и заводило такое положение бедного родственника.
А он делал какую-то и вовсе бессмысленную работу: протирал гаечки, купал их в масле, свинчивал, развинчивал, сдувал пыль. В общем, наслаждался своей машиной и воскресеньем и упорно не обращал на меня внимания.
А когда изредка все-таки извинялся передо мной, это было уже явно формально, это звучало как-то особенно оскорбительно, насмешкой.
А я упорно сидел на табуретке, и не уходил, и не мог уже создать хотя бы видимость непринужденности. Не мог заставить себя говорить хоть о чем бы то ни было. И я сидел и выискивал в газете хотя бы одну не прочтенную еще информацию.
Удивительно, думал я, как это человек может так захлопнуться, стать пренебрежительным и нечутким, когда почувствует, что ты от него зависишь, что тебе что-то по-настоящему нужно. Ну хотя бы он и понял, в чем дело… Но ведь если бы я был в ином положении, то, наверно, он постыдился бы держать меня у машины и, наверно, давно выставил бы все на стол и всячески проявлял гостеприимство. И только показать чтобы, что не беднее он, не хуже… Сколько раз мне предлагали обедать, когда я был абсолютно сыт, и сколько раз, хотя сама мысль о еде была мне неприятна, я садился за стол и обедал во второй раз, почему-то боясь обидеть хозяев. А настойчивость их росла, чем больше и уверенней я отказывался. Уверенней… Может, моя неуверенность позволяет ему не замечать меня сейчас? Боже, и как много я не доел в своей жизни на всяких праздниках, свадьбах!.. Что бы – все распределить по жизни. Боже, до чего же все в ней неравномерно…
А этот – гад.
И я стал играть в ту же игру, что и плутая по старому городу: выискивал в хозяине наисквернейшие стороны, фантазировал, перебирал все возможные подлости, которые тот наверняка должен был сделать. И все распалялся.
А чтоб тот не подумал, что мне есть не на что, я стал врать что-то насчет моей геологической деятельности и тех длинных рублей, которые я с нее имел. И меня все больше заносило. Еще в поезде я начал ту же песню (тогда это было просто мальчишество), но тогда я говорил, что спустил астрономическую сумму в Москве, что там же оставил свои вещи «у одной знакомой», что в экспедицию только в тряпье и ездить, а теперь я плел что-то уже совсем неподходящее (слава богу, и в этом было мальчишество): как меня вчера ограбили на пляже, например. Тогда он угощал меня в вагоне-ресторане (о, тогда я был еще сыт и врал бескорыстно), тогда он верил мне и «уважал» за мои россказни и восхищался мной. А теперь он снисходительно посматривал на меня, ковыряясь в своей машине, стоя во дворе своего дома, отгоняя свою овчарку, прикрикивая на своего сына.
«Неужели голодный человек так теряет достоинство, что люди перестают считаться с ним? Но, главное, почему бы мне не встать и не уйти?..»
И, понимая, что он понимает, я раскатывался все дальше.
А мальчишка его, болезненный, с грустными мягкими глазами, все путался под ногами, опрокидывал ведра, разливал масло, бегал за собакой с гаечным ключом… и тоже не уважал меня.
Так мне казалось.
Смеркалось, когда хозяин, удовлетворенно обтирая руки ветошью, сказал:
– Ну что ж, теперь можно и перекусить.
Он крикнул своей жене, распорядился.
Что это был за стол! Салат из помидоров! Рубиновый, с золотыми блестками борщ. Мясо! Мясо с наструганной румяной картошкой. В центре стола запотел графинчик. И огромное блюдо с фруктами.
И когда стол был уже собран и хозяин с той же снисходительностью раскусившего меня человека, с улыбкой, показавшейся мне особенно оскорбительной, пригласил меня сесть, я сказал:
– Спасибо, я сыт.
Не сказал – подумал. Подумал – и сел за стол.
Хозяин и хозяйка – до чего же приятные и милые люди!
Базария
Старый город – новый город. Новый базар – старый базар.
Площадь перед базаром вся в заплатках фанерных будок, ларьков, лотков, палаток и вывесок. А к самому базару ведет длинный и высокий крытый туннель. После солнца там особенно темно. У стен туннеля теснятся те же ларьки с подоконничками. А по туннелю идут с вами и вам навстречу черные старухи, несущие кошелки и прикрывающие лицо платком; и молодые узбеки, ведущие за рога велосипеды и с наслаждением нажимающие в свои звонки; и пузаны в халатах, только отвалившиеся от чая в базарной чайхане, и многие другие люди.
Туннель кончился, и свет снова упал на меня, пронзительный, жаркий. Огромное пространство, усыпанное дынями и арбузами, залитое солнцем, стонущее, снующее; разгружающиеся грузовики, телеги; ослы, грустно и протяжно ревущие; странные, прошлые старики, еще поддерживающие уходящие ремесла. Перед стариками разостланы платки с потемневшими и ржавыми образцами – витрины. Но никто не подходит к старикам. Они пьют чай, который носит им мальчик из чайханы, перебрасываются непонятными словами и кивают друг другу.
А один старик торговал арабскими книгами. Иначе зачем же он разложил их на своем платке? Книги были черные, ветхие и глядели таинственно. Я подошел, взял первую попавшуюся и стал листать с видом знатока.
Тут же я понял, что не стоило так пугать старого человека. Он посмотрел на меня, как на пришельца с того света. И, словно проснувшись, стал озираться по сторонам. Он, наверно, впервые понял, где он, и увидел базар, подумал я.
– Хорош аксакал! – сказал он, испуганно и ласково глядя на меня. Он стал тыкать пальцами во всех соседних стариков, гортанно призывая их что-то подтвердить. Старики закивали, заболботали.
Он показывал мне паспорт.
Я стоял истуканом.
И тут приблизился здоровенный узбек, этакое бронзовое чудо в грязном халате. И они объяснились со стариком. И старик, вдруг приосанившийся, тыкал в меня пальцем, и все старики, встопорщив на меня бороды, показывали на меня пальцем.
Я предпочел скрыться.
И фруктовые ряды… Лучше бы мне этого не видеть! Непонятная сила толкала меня в них, приковывала. Зачем я тут? Ведь я просто болтался по городу, и вдруг мне потребовалось срезать угол – пройти через базар… Но зачем мне было срезать, раз я просто болтался и спешить мне было некуда?
Тут я увидел, что торговля может быть прекрасной. Как они раскладывают фрукты! Сердца художников у этих людей.
Я ходил вдоль бесконечных тентов, промеж виноградов, черных и красных, белых и золотых, с косточками и без косточек, круглых и крупных, как орехи, и длинных дамских пальчиков; я ходил мимо яблок и груш, инжиров и гранатов, персиков, персиков… Персиков, женственных и истекающих соком. Смотреть на все это в моем положении было безумием. И когда я убегал от тентов, то попадал в разливанное арбузное море: огромные арбузные кучи, как зеленые волны. Или – в пустыню, где барханами золотились дыни. И в этом море плавали, размахивая руками, и в этих барханах кочевали пропитанные солнцем узбеки в распахнутых халатах.
И, убегая от арбузов, я снова попадал под тенты.
Все это напоминало сон. Когда все тянется, и нет времени, и все повторяется, и хочется бежать – и не можешь, и хочется кричать – и не можешь.
И я снова бросался в арбузное море. И старался выгрести к выходу, к выходу…
Где кончается базар, там начинается базар. И нет конца базарам…
Это был уже совсем другой базар. Тут ничто не растравляло меня. Но и торговля была совсем другая.
Там был бесконечный ряд, и женщины шумели над множеством разноцветных тряпичных обрезков, иногда аккуратно связанных в пучки, иногда разваленных щедрыми кучками.
И человек, расположившийся у целого собора востроносых, неприятно горячих на вид галош.
И поднимается раздражение…
И вдруг какая-то сказка – ковры. Ковры, подвешенные на веревках между деревьями, огромные, как взлетные площадки, яркие, пестрые, как… и не с чем сравнить. Они образуют коридоры и улицы, и пересекаются эти улицы и коридоры; по этим улицам ходят люди и разминаются на перекрестках. Тут можно заблудиться.
Я выбрался из ковров и попал к мотоциклам. Это было буйное место. Обсуждение походило на крик, жестикуляция походила на драку. Нажимали гудки, гладили никель, били в груди мокрые, возбужденные, действительно страстные люди.
А потом пошли быки, коровы, ослы, козы… Овцы раскачивали своими фантастическими курдюками. Кучи связанных куриц. Все это мычало, блеяло, кудахтало, и поверх этого не такая громкая и все-таки перекрывающая гортанная человеческая речь. При мне туда привели двух верблюдов. Они возвышались над всеми маленькими самодовольными головками, возвышались и выкатывали грудь, как командиры на параде.
И где-то впереди, казалось, маячил выход.
А у самого выхода – круглый лысый человечек, поражавший своей важностью и разнообразием разложенных перед ним товаров. Тут и кучи рваной разноплеменной одежды, и какая-то посуда, и примус, и медный таз, и мозеровский будильник, и ручка от маузера – все это показалось мне олицетворением безобразного в прекрасном мире Базарии. И над всем этим, над его головой, объявление:
ЛЮБАЯ ВЕЩЬ – НЕ ДОРОЖЕ 10 РУБЛЕЙ
«Вот это да! – подумал я. – Тоже веяние…»
Совсем рядом с этим раскачивающимся болванчиком, с левого его боку, лежала прекрасная шляпа из рисовой соломы, благородных форм и совершенно новая. И конечно, стоила не десять рублей.
Какой-то чертик шевельнулся во мне.
Я взял шляпу и полез в пустой карман.
– Десять?
Я не знаю, как это возможно: подпрыгнуть, если у тебя ноги сложены по-турецки. Но он подпрыгнул, и не меньше чем на полметра. Он гневно буравил меня своими черносливами, вылезшими из орбит, как тубусы у бинокля. Все лицо его пришло в движение, словно под кожей у него забегала мышь. Казалось, он не находил слов.
И вдруг он вырвал у меня шляпу и заорал:
– Пшел вон из моего магазина!!!
И я вышел… Тихие, без людей, словно уснувшие улицы, застывшие деревья, дувалы, и тень от деревьев и дувалов, и застывший посреди улицы зной…
Как странно!
Плов, Ленинград
Постепенно мысль, вначале робкая, что я найду деньги на улице, обратилась в убежденность. Чем больше я бродил по городу и чем больше нагуливал аппетит (казалось, куда уж больше!), тем явственней пульсировало во мне: вот сейчас, за этим углом, за этой урной… вот сейчас. Сколько было поднято совершенно никчемных и грязных бумажек, прикидывавшихся рублями!
Был уже вечер, и на меня напала вечерняя жажда. Мне так хотелось пить, что я уже не чувствовал, что хочу есть. Я брел, глядя себе под ноги, и в наступившей темноте терял последнюю надежду найти. Вдруг что-то замедлило мои шаги и потянуло назад: показалось, что у забора, где терялся свет уличного фонаря, что-то мелькнуло, а я не обратил внимания. Такие штучки со мной уже бывали и кончались ничем. Я хотел уже идти дальше. Но что-то опять не пустило меня, я вернулся и… это были настоящие три рубля. Радость сменилась сознанием, что это не так уж много. Но и это…
Я купил сигарет, и свернул в чайхану, и взял чайник. Я утолил первую жажду и почувствовал, что хочу есть. Достал сигарету – закурил. Сосед-таджик завел со мной беседу и потом попросил сигарету. Я дал. Таджик говорил со мной и время от времени убегал посмотреть за пловом, который готовил на кухне при чайхане. А я говорил с ним и думал только о том, как бы он угостил меня пловом. И, выжидая, я выпил еще чайник, хотя пить уже не хотелось, и уже думал, что мог бы вместо чая взять хлеба на рубль.
Таджик оказался студентом техникума.
– И кем будешь? – спросил я.
– Инженер-инструктор по общественному питанию, – важно ответил он.
– О, очень интересная профессия. – Я почувствовал нестерпимую резь. – И стипендию тебе платят? – почти угрожающе сказал я.
– И стипендию, денег – во! – провел он по горлу.
И тут я сказал:
– Я геолог, пять лет назад окончил институт. Получаю три тыщи.
– О-о-о-о! – сказал таджик.
Что это я опять! Я спохватился и пошел на попятный.
– Но в чужом городе деньги летят – ого! – сказал я. – Приехал на воскресенье, сто рублей уже истратил, а голоден.
– Да, чужой город – это да, – сказал он и побежал смотреть за пловом.
Я обдумал ситуацию и, когда он вернулся, сказал:
– Так, значит, ты инструктор… Так ты, наверно, здорово готовишь?
– О да, – сказал он, – о да.
– Это, наверно, очень трудно – приготовить плов по-настоящему?
– О, о, рис, мясо, сало, лук, перец, помидор, кишмиш…
У меня помутилось в глазах. И я сказал, проглотив спазму:
– А мясо чье? Баранье, да?..
– Баранье, баранье, – подтвердил таджик.
«Сам ты…» – подумал я. И сказал:
– У нас на севере хозяйки говорят, что труднее всего сварить рис как надо.
– Рис, рис, – сказал он. – Но у вас в Ленинграде тоже, наверно, есть чайхана и плов?
– Нету, – сказал я, надеясь, что тут уж он сжалится.
– О, нету!.. Нету чайханы, нету плова… – запричитал таджик.
– Я только здесь в первый раз попробовал, и то в столовой.
– О, о, ох, – закатывал глаза инструктор.
– Но столовский, наверно, не может идти в сравнение с домашним, – наседал я.
– О, дом! У тебя – Ленинград, у меня – Ура-Тюбе.
– А домашнего я совсем не пробовал… – сказал я, и инструктор убежал смотреть за пловом. А я обнаружил, что чай у меня кончился, а сидеть просто так – он, пожалуй, еще подумает, что я напрашиваюсь.
И еще чайник.
Вернулся инструктор и попросил еще сигарету. Я угостил его сигаретой и чаем.
– Ну, как? – сказал я.
– Почти готов. Я прикрыл его крышкой.
Я представил себе, как выходят, сгущаются жирные пары и оседают на крышке… Картина была слишком яркой.
– Да, – сказал я, окончательно сдаваясь, – очень мне хотелось бы попробовать домашнего плова…
– Да, – сказал таджик, – да… Я возьму еще сигаретку. – И он взял.
«Где я и что со мной?..» – горько подумал я и сказал:
– У нас на севере тоже делают вкусные вещи. Другие, чем у вас. Вот приедешь в Ленинград – я тебя угощу.
– О да, приеду, обязательно приеду, – сказал он. – Надо пойти посмотреть – уже, наверное, готово.