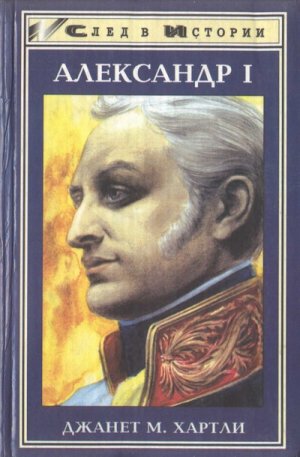
ПРЕДИСЛОВИЕ
Моим родителям
В то время, как бо́льшая часть Европы пользовалась григорианским календарем, или календарем нового стиля, в России до февраля 1918 года в ходу был юлианский календарь, или календарь старого стиля (хотя Петр I перенес начало года с марта на первое января). В восемнадцатом веке даты по старому стилю отставали на одиннадцать дней от дат по новому стилю; в девятнадцатом веке разница составляла двенадцать дней. Для простоты и совместимости со странами христианской Европы все даты в этой книге представлены по новому стилю.
Я хочу поблагодарить моих добрых друзей, которые читали рукопись, за полезные советы и конструктивную критику: доктора Джона Клайера, профессора Изабель де Мадариага, доктора Мию Родригес-Сальгадо, доктора Хэм шла Скотта. Я также очень благодарна моему мужу, доктору Уилу Райану, за чтение последнего варианта книги и достаточно тактичные указания на оставшиеся неточности, которые нужно было исправить. И, наконец, я должна упомянуть моего двухлетнего сына Бенедикта, который наполнил смыслом мою работу, а также персонал медицинского кабинета Лондонской школы экономики и политических наук, который сделал ее возможной.
ГЛАВА 1
ВСТУПЛЕНИЕ: АЛЕКСАНДР И ВЛАСТЬ
Выдающийся русский писатель и историк Николай Михайлович Карамзин при вступлении на престол Александра в 1801 году адресовал ему такие слова:
Пусть под твоим скипетром Россия станет воплощением высшего счастья и добродетели. Ты отец отечества, второй творец для своих подданных. Бог и честь с тобой[1].
Если судить по высказываниям Александра, он едва ли разделял убеждение Карамзина в божественном предназначении царской власти и совсем не прельщался ею. Перед тем как взойти на трон, самым близким друзьям Александр говорил, что чувствует себя недостойным править и хочет только одного: убежать от этого мира. Он сказал своему бывшему учителю Лагарпу, что мечтает жить на ферме рядом с ним в Швейцарии, а своему другу князю Виктору Павловичу Кочубею признавался в 1796 году: «Мой план — это поселиться с женой на берегу Рейна, где я буду жить в мире, как человек, ищущий счастья в компании друзей и изучении природы»[2]. Даже в момент своего великого триумфа в 1812 году, когда армия Наполеона была уже изгнана из России, он писал мадам де Шуазель-Гуфье, графине Тизенгаузен: «Нет, трон — не мое призвание, и если бы я мог с честью изменить мое положение, я бы с удовольствием сделал это»[3]. Не позднее 1819 года он говорил своей семье о желании «снять с себя все обязанности и удалиться от мира», доверив судьбу Европы более молодым правителям. Есть даже легенда, что Александр инсценировал свою смерть и остаток жизни провел в Сибири, приняв схиму.
Но все же эта демонстрация своей скромности, неспособности править, отвращения к исполнению своей власти мало согласуется с фактами царствования Александра. Несмотря на заявления о нежелании править, он вступил на трон в 1801 году после жестокого государственного переворота, когда был убит его отец Павел I. Он претендовал на благосклонность к конституционным и представительным установлениям и в 1813 году даже заявил Иоаннису Каподистрии (позже ставшему его министром иностранных дел): «Ты любишь республику, и я люблю ее»[4]. В то же время он никогда не пытался провести в жизнь даже те конституционные проекты, которые были выдвинуты до него, и не производил изменений в правительственной структуре, если это могло умалить его власть. Действительно, он со злостью отвечал своим подчиненным, когда те осмеливались заявлять, что имеют какие-либо права. Когда в 1803 году группа сенаторов попыталась использовать права представительства, которыми, как они считали, обладал Сенат, преобразованный в 1802 году, Александр усмотрел в этом «дьявольское намерение» с их стороны. В 1811 году центральная администрация была перестроена, в связи с чем значительно возросла власть министров. Но, в соответствии с анекдотом, записанным писателем Николаем Ивановичем Тургеневым, когда адмирал Николай Семенович Мордвинов, пытаясь установить меру министерской ответственности, спросил у Александра, будет ли указ принят, если министр откажется подписать его, получил на это прямой ответ: «Конечно, указ должен быть выполнен при любых обстоятельствах»[5].
Насколько строго Александр относился к злоупотреблениям своих подчиненных (с его точки зрения), настолько милостиво он даровал им различные привилегии. В 1815 году он представил свою конституцию в только что сформированный Конгресс Польского королевства, которое формально было соединено с Российской империей тем, что царь также был и королем Польши. Конституция основывала структуру и функции представительного органа, Сейма. Отношения Александра с первым польским Сеймом были довольно дружеские, но когда депутаты второго Сейма в 1820 году осмелились оспаривать некоторые правительственные действия, заявив, что они идут «против конституции», им было сказано, что царь может отменить конституцию так же, как и провозгласить таковую. Он враждебно реагировал на любую попытку своих подданных проявить инициативу в проведении реформ, даже когда они выражали желания, совпадающие с желаниями самого Александра. Когда ближе к концу его царствования некоторые именитые землевладельцы позволили себе представить царю на рассмотрение предложение об освобождении крепостных, царь, по некоторым сведениям, ответил: «Оставьте мне провозглашать законы, которые я считаю полезными для своих подданных»[6]. И это — несмотря на то, что он сам выражал отвращение к крепостничеству и во время своего правления несколько раз назначал комиссии для подготовки освобождения крестьян.
Содержание писем Александра за границу также не соответствует представлению о нем как о человеке, которого тяготила власть. Действительно, даже в ранние годы своего царствования, когда Россия еще не была способна активно влиять на мировые события, Александр настойчиво требовал от государственных деятелей и правителей других стран уважения к своим взглядам и идеям. Он отстаивал свои права участвовать во всех европейских делах, принимать дипломатические решения, от территориальных урегулирований до установления внутренней формы государственного управления, независимо от того, имели ли эти решения какое-нибудь значение для России или нет. Например, во время наполеоновских войн он настойчиво выказывал интерес к территориальным и конституционным договоренностям о маленьких германских государствах, выражал участие в судьбе короля Сардинии и особый интерес к устройству Швейцарии. После поражения Наполеона Александр решил, что Россия должна играть главную роль в разрешении будущих европейских проблем. Когда разгорелись восстания на Пиренейском и Апеннинском полуостровах в 1820 годах, царь добровольно вызвался послать русские войска через всю Европу, чтобы помочь в восстановлении законной власти; это предложение остальные великие правители приняли без удивления, но с подозрением.
Кроме того, Александр делал смелые предложения о будущей организации Европы и устройстве ее дел. В 1804 году он представил Вильяму Питту предложение о реорганизации Европы в лигу либеральных и конституционных государств, основанных на «священных правах человечества» под отеческой заботой Британии и России. В то же время он предлагал законы и кодекс прав человека сделать едиными для всей Европы. В 1804 году Александр был слишком слаб, чтобы подкрепить свои взгляды, но после победы над Наполеоном, в которой русские войска сыграли решающую роль, он оказался в положении, позволяющем ему отстаивать свои идеи о европейской организации с большей силой. Его Священный союз со временем был с презрением отвергнут всеми государственными деятелями, но в 1815 году в Европе только английский принц-регент и папа смогли отказать ему в верности (турецкий султан не был приглашен).
Александр был уверен, что его законы получат полную поддержку, так как они несут благо всем европейцам. Он всегда утверждал, что его политика не только внутренне-национальна, но и предназначается для разрешения проблем всего континента; он и в самом деле считал, что его законы пойдут «на пользу всему миру». Он ожидал, что все люди оценят его «известные законы умеренности и бескорыстия». И все же эти умеренность и бескорыстие не мешали Александру увеличивать свою власть над обширными и стратегически важными территориями во все время своего царствования — Финляндией в 1809 году, Бессарабией в 1812 году и, что самое главное, Польским королевством в 1815 году (преимущественно за счет земель, которыми владела Пруссия после трех разделов Польши в конце восемнадцатого века). Царь расширил границы своей империи больше, чем каждый из двух его знаменитых предшественников в восемнадцатом веке — Петр I и Екатерина II, — и принес силу российскую в самое сердце Европы.
Контраст между заявлениями Александра о желании уединиться от мира и силой и энергией, с которыми на самом деле он утвердил свою власть дома и за границей, — это только один пример кажущихся противоречий между его словами и его действиями на всем протяжении царствования. Он объявил, что «любит конституционные установления» и «любит свободу», но отклонил конституционные проекты для России, которые были представлены ему на рассмотрение; он часто выражал свое отвращение к крепостничеству, но в общем-то так и не отменил его; он говорил о «правах человека», но посылал тысячи солдат и простых крестьян в военные поселения против их воли. Это привело к тому, что его изображали как очевидно лицемерного («играющего в либерализм» словами Ленина) или непоследовательного и слабого, управляемого более жестокими и уверенными советниками. Историки охарактеризовали его как «сфинкса» («Le Sphinx du nord» — в заголовке биографии Александра, написанной Анри Труайя) или как «загадочного царя» (в заголовке биографии Мориса Палеолога) в попытке передать его личные комплексы. Наполеон заключил, что в нем есть «что-то требовательное», а Кестльри просто считал, что он был психически неуравновешен. Подданные Александра резко разделялись во мнении о своем правителе. С одной стороны, существовали легенды, в которых он представлялся святым, с другой стороны — Преображенские староверы в Москве изображали его Антихристом с рогом и хвостом.
Александр, без сомнения, обладал способностью говорить то, что его слушатели хотели услышать, — он умел убеждать, по крайней мере в большинстве случаев, таких разных людей, как его бабушка Екатерина II, его учитель Лагарп, его польский друг князь Адам Чарторыский, его министр иностранных дел Иоаннис Каподистрия[7], его министр духовных дел и народного просвещения князь Александр Николаевич Голицын, квакер Вильям Аллен и мистическая мадам Юлия де Крюденер, с которой он искренне разделял многие убеждения и чувства. Он обнародовал свои взгляды на деспотизм и республиканизм в переписке с такими людьми, как Джереми Бентам, Томас Джефферсон и Тадеуш Костюшко, в манере, которая иногда предполагала наивность или лицемерие. Но факты не подтверждают мнения, что Александр был слабой личностью, хотя моменты неуверенности в себе у него случались. Он показал свою непоколебимость, отказавшись от любых компромиссов с Наполеоном, когда тот вторгся в Россию и вошел в Москву. Он не только успешно препятствовал любым попыткам своих советников произвести изменения в государственной структуре против его воли, но и твердо следовал политике, которая, как он знал, не была популярной — например, заключение Тильзитского мира в 1807 году, включение в экзаменационную комиссию официальных лиц своего министра Михаила Михайловича Сперанского и утверждение конституции Польши в 1815 году. Нельзя сказать, чтобы он потакал своим советникам. Александр всегда был готов действовать против их желаний; ни Чарторыский, ни Каподистрия, фактически ведавший всеми иностранными делами, не были способны на самом деле заставить Александра изменить выбранную им политику относительно Польши или Греции. Он твердо пользовался своей властью, чтобы дать отставку любой важной персоне, например графу Петру фон Палену, одному из руководителей переворота, посадившего Александра на трон, — или привлекать людей, взгляды которых он не разделял, для решения практических задач, например, графа Алексея Андреевича Аракчеева, для устройства военных поселений, или графа Карла Нессельроде, министра иностранных дел в поздние годы его царствования.
Некоторые историки и современники сходятся на том, что заявления Александра о его неприязни к абсолютной власти были просто продуктом юношеского идеализма, частично утерянного при вступлении на престол, а затем совершенно отброшенного в 1820 году и замененного на «темные силы» мистицизма, милитаризма и реакции. Более новые исследования обращают внимание на неотъемлемую целостность мыслей Александра и его политики. Александр нарисован историком Марком Раеффом как консервативный реформатор, который верил, что процесс реформирования должен быть целиком в руках правителя. При всем уважении к этому мнению, афишированная Александром любовь к «конституциям» не должна расцениваться как свидетельство его лицемерия и наивности; это лишь отражает ограниченное понимание им слова «конституция», как строгой формы правил, соответствующих закону, то есть того, что составляет сущность правового государства. В интерпретации Раеффа Александр оставался последовательным в своих принципах и целях в течение всего царствования. Наиболее современная биография Александра на английском языке, написанная Алленом Мак-Коннеллом, утверждает довольно настойчиво, что Александр всего лишь серьезно обдумывал представленные законопроекты, чтобы оградить свою власть в первые несколько лет царствования, когда он чувствовал себя зависимым от лидеров тайного заговора, приведших его к власти. Однажды отстранив Палена, одного из них, он «никогда больше не соглашался на какие-либо ограничения своей самодержавной власти в России»[8], хотя был готов в качестве отца-реформатора представить и привести в действие образовательную и административную реформу дома, когда преодолел свою первоначальную неуверенность.
К сожалению, характер образования Александра (см. гл. 2) и ограниченность ума не позволяли ему четко выражать те правила, которым он следовал. Не полностью понимая некоторые идеи своих советников, он часто выражал их в наивной или поверхностной манере. Князь Клеменс фон Меттерних отметил в 1822 году, что «…из всех детей император Александр наиболее ребячлив»[9]. Его взгляды зачастую были плохо сформированы или только частично развиты, и порой его мысли приобретали связность только тогда, когда они были использованы более предприимчивыми советниками. Например, в 1804 году интересные заявления Александра о европейской организации и о роли России в этой новой организации были собраны в полностью сформированный план, который был представлен Вильяму Питту. В отличие от своей бабушки, Екатерины II, он никогда не брал на себя роль писателя и критика. Тогда как Екатерина перерабатывала и адаптировала писания Монтескье, Беккариа, Бильфельда и других писателей в своем знаменитом Наказе 1767 года, Александр доверял другим выпуск конституционных проектов об освобождении крепостных. Его собственные редкие работы, такие как Священный союз 1815 года, речь в польском Сейме в 1818 году, показывают легкомыслие в использовании сомнительных и потенциально опасных заявлений, а также непонимание возможных последствий собственных слов.
Тем не менее направление мыслей Александра осталось неизменным на всем протяжении его царствования. Несмотря на заявление Чарторыского о его заключении, «что наследственная монархия была несправедливой и абсурдной»[10], Александр на деле почувствовал важность своей роли и своих привилегий как правителя, и его отношение к таким понятиям, как «конституция», управление законом и правами, а также главенствование над всеми подданными осталось неизменным. Он всегда испытывал искреннюю ненависть к крепостному праву, недоверие к дворянской знати как к классу и искреннее желание улучшить жизнь своих подданных, начиная с расширения образования и поощрения филантропических стремлений. За границей он, не переставая, выражал свое желание мира не только для самой России, но и для всего континента, и за все время своего правления утверждал права России как главной европейской державы, играющей важную роль во всех аспектах европейской дипломатии. После душевного потрясения во время нашествия французов на Россию в 1812 году язык, на котором Александр выражал свои идеи дома и за границей, изменился, но его уверенность и стремление всегда оставались прежними.
Эта характеристика Александра как носителя неизменных, хотя зачастую неясно выражаемых взглядов, показывая, что он был чем-то большим, чем просто эгоистичный, слабый и ограниченный человек, не означает, что не было никаких вариантов в политике или подходе к различным проблемам в его правление. Обстоятельства, сложившиеся дома и за границей, ограничивали свободу действий Александра и его способность применять свои идеи на практике. Эта книга показывает, что все время его царствования можно разделить на несколько отдельных этапов примерно в таких границах: 1801–1807, 1807–1815, 1815–1820 и 1820–1825 годы.
Период между 1801 и 1807 годом — это время колебаний и нерешительности во внутренних делах и крушения планов внешнеполитических. Две основные идеи, которые доминировали во время правления Александра, — введение конституции и освобождение крепостных крестьян — обсуждаются в этой книге. Новый царь истребовал и получил предложения по поводу фундаментальной реформы правительственной структуры и крепостного права, но на практике, кроме реорганизации центральных государственных учреждений, сделал немного (см. гл. 3). Казалось, ему постоянно не хватало уверенности, чтобы продолжать начатое. Отсутствие точного плана и последовательного подхода к разрешению этих проблем было помехой реформам как в самой России, так: и в ранней заграничной политике Александра (см. гл. 4). В это время Россия не имела достаточной военной силы, чтобы быстро победить Наполеона, или политического влияния, чтобы настроить против него все содружество. У Александра были грандиозные планы для поддержания европейского мира и для основания новых форм европейской организации, но ни военная сила, ни дипломатические отношения не могли помочь ему утвердить эти взгляды перед противником и перед союзниками. Его первая встреча с наполеоновскими приемами ведения войны обернулась настоящим бедствием. Русская армия с Александром во главе была унижена в битве при Аустерлице в 1805 году, далее следовало поражение при Фридланде в 1807 году. Тогда Александру пришлось признать превосходство французской армии и необходимость Тильзитского мира.
Между 1807 и 1815 годом Наполеон и Александр боролись за превосходство в Европе (см. гл. 5 и 6). Теоретически Тильзитский мир разделил Европу на две сферы влияния — Франции на Западе и в центре и России на Востоке — и дал Александру удобную возможность заниматься дальнейшим расширением русского политического влияния на север — в Швецию и на юг — в Оттоманскую империю и снова обратиться к реформам дома. Практически же договоренность между Францией и Россией всегда, казалось, могла разрушиться; Россия никогда бы не приняла переход части Польши под французское влияние, и ее экономические интересы были ущемлены Континентальной системой, да и претензии обеих стран на Балканы были непримиримы. Неизбежность войны стала ясна в 1811 году; к этому времени далеко идущие конституционные планы Сперанского были отложены в долгий ящик. Французское вторжение в 1812 году показало, что оно будет решающим во всей наполеоновской эпопее. Великая армия Наполеона была уничтожена в результате страшных битв, многочисленных потерь, партизанского и крестьянского движения, болезней и холода. Александр, испытавший религиозный подъем во время вторжения, создал коалицию против Наполеона и с триумфом вошел в Париж во главе своей армии в декабре 1814 года. Теперь Россия имела самую большую военную силу на континенте и ее международное значение сразу изменилось.
По многим причинам период с 1815 по 1820 год очень важен для понимания принципов и целей Александра. В то время царь был на вершине власти и наконец-то мог применить свои идеи на практике. За пределами России Александр без колебания полностью использовал свой возросший авторитет (см. гл. 7). В Венском конгрессе он играл главную роль в территориальном и политическом урегулировании в Европе. Священный союз 1815 года воплотил многие его ранние идеи о европейской организации, хотя теперь они были выражены в более возвышенной духовной форме, отражавшей его собственные религиозное взгляды. В 1815 году великие правители уже не могли просто так игнорировать или отклонять эти идеи. Кульминация влияния Александра все же пришлась не на 1815 год, а на 1818 год, на конгресс в Экс-ля-Шапели, когда другим правителям пришлось, хотя бы частично, принять его политику по отношению к Франции и когда последний протокол конгресса включил в себя некоторые его идеи относительно христианских заповедей и разделил обязанности великих правителей. Дома ждали, что Александр теперь обратится к внутренним реформам и представит в России ту конституцию, которую он предложил на Конгрессе Польского королевства. В самом деле, в эти годы царь назначил и конституцию для России от Николая Николаевича Новосильцева, и несколько проектов по освобождению крепостных крестьян. Этот период знаменателен нововведениями в военных поселениях и расширением работы благотворительных и филантропических учреждений (см. гл. 8).
События первой половины 1820 годов, кроме всего прочего, остановили любое дальнейшее движение в сторону фундаментальной перемены в российской правительственной или социальной структуре и изменили восприятие Александром международной обстановки. Восстания на Пиренейском и Апеннинском полуостровах и так называемый мятеж в гвардейском Семеновском полку поколебали веру Александра в стабильность новой Европы, которую он помогал создавать. Веяния новой Европы могли передаться российской аристократии, что грозило революционным взрывом для решения проблем эмансипации общества. Это также убивало его веру в значение конституции, дома и за границей, как в средство обеспечения стабильности власти и благополучия общества. В последние годы царствования он заметно разочаровался в способности великих держав коллективно поддерживать мир и стабильность — ко времени его смерти в 1825 году Россия выглядела отчужденно, как бы в паре с Оттоманской империей. Александр имел особую причину выражать недовольство своей властью еще и из-за наследства, которое с ней ассоциировалось. К 1825 году Россия обладала в Европе такой властью, как никто в ее истории. Основой этого могущества была военная сила; Россия сокрушила наполеоновскую армию, и ее боялись все. Ведь еще не было Крымской войны, показавшей слабость России и убавившей этот страх. Дома Александр был не в состоянии фундаментально изменить структуру российского самодержавия. Из-за его любвеобильных амбициозных деклараций взамен пасторальных идиллий постоянно выпирала ответственнейшая официальщина, и лишь при удобном случае Александр делил свою власть с подданными. И неизбежным окончанием этого стало стремление многих образованных россиян самим устранить царское самодержавие.
ГЛАВА 2
ПРАВИТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ
Екатерина II и Александр
Александр родился 24 декабря 1777 года, он был первым ребенком Павла (сына Екатерины II) и великой княгини Марии Федоровны. Сам Павел был отобран у своей матери императрицей Елизаветой сразу после рождения, и Александр не был доверен своим родителям Екатериной, которая взяла на себя его воспитание; то же самое касалось и его брата Константина, рожденного в 1779 году. Екатерина вникала в различные области знания. Она читала самые последние образовательные теории и следила за детскими приютами в Москве и Санкт-Петербурге, основанными Иваном Бецким, пытаясь применить некоторые образовательные теории Руссо на практике. Она также учредила образовательную комиссию, работа которой завершилась принятием Закона о национальном образовании в 1786 году, что послужило основой для введения начальной и средней школ в России. Она лично интересовалась образовательными методами и программами этих новых школ. Телесные наказания, например, были забыты, и Екатерина лично заказала публикацию «Обязанностей Человека и Гражданина», основанную на книге аббата-августинца Фельбигера, служившего у прусского короля Фридриха II. Книга объясняла ученикам их обязанности по отношению к обществу и правительству. Теперь и внуки дали ей удобную возможность применить на практике некоторые новые теории. Мальчики спали на кожаных матрасах, набитых сеном, в том крыле дворца, что смотрело на Адмиралтейство, чтобы привыкнуть к звукам пушечных выстрелов; впоследствии Александр оглох на одно ухо. Екатерина даже разработала комбинезончик для маленького Александра, которым очень гордилась: в 1781 году она послала детали, включая набросок, в письме своему корреспонденту в Париже Мельхиору фон Гримму и информировала его, что «король Швеции и принц Пруссии запросили и получили модель костюма для Александра»[11].
Более значительным для развития характера Александра явился выбор Екатериной Фредерика Сезара де Лагарпа, известного швейцарского ученого, на роль его наставника в 1784 году. (Другими наставниками Александра были французский писатель Фредерик Массон и трое русских: М. Н. Муравьев, А. Я. Протасов и А. А. Самборский). Екатерина, прочитав труды виднейших деятелей Просвещения, не видела в то время никакого вреда во влиянии иностранных учителей на будущего царя. В самом деле, она сама прочитала первую французскую конституцию 1791 года (которая, конечно, была еще монархической конституцией, правда, с узаконенным ограничением монархической власти) мальчикам, убеждая их принять ее в самое сердце. Знания, которые давали Александру Лагарп и другие его наставники, были достаточно высоки; программа обучения включала, кроме остальных предметов, пять иностранных языков. (Музыкальные уроки, напротив, были прибавлены несколько позже. Сама Екатерина не отличалась музыкальностью и открыто выражала свое недовольство игрой внука на скрипке, потому что это напоминало ей бывшего мужа Петра III, свергнутого ею с трона в 1762 году, — он играл на этом же музыкальном инструменте).
Метод Лагарпа и содержание его уроков несомненно оказывали сильное воздействие на Александра; мальчик был очень восприимчив к влиянию своего наставника; на Константина же, который воспитывался в тех же условиях, эти занятия не оказывали заметного воздействия. Например, требования Лагарпа о том, что мальчики должны сами искоренять свои недостатки, углубили врожденную склонность Александра сомневаться в себе и анализировать свои поступки. С помощью так называемого «Архива стыда Великого Князя Александра» Лагарп публично напоминал своему ученику о его недостатках. Вот один отрывок, который он прочел всем:
Великий Князь Александр, настолько забывшись, что говорил грубые вещи, был выгнан, и, чтобы напоминать ему о том, что грубость непростительна, эта бумага повешена в его классной комнате как украшение.
Другой отрывок, написанный Александром в тринадцать лет, выглядит так:
Вместо того, чтобы удвоить свои усилия для извлечения пользы из тех годов обучения, что остались мне, я лишь каждый день становлюсь все более беззаботным, невнимательным и неспособным. Чем старше я становлюсь, тем больше я приближаюсь к нулю. Чем я стану? Судя по всему, ничем [12].
В нескольких случаях, и до, и во время своего правления, на словах и на бумаге Александр отмечал свою неспособность править. Его письмо другу, Виктору Кочубею, в мае 1796 года, в котором он также выражал желание избежать ответственности власти и поселиться на берегу Рейна, своим настроением похоже на строки, написанные для Лагарпа шестью годами раньше:
Невероятная путаница царит в наших планах. В таких условиях разве возможно такому человеку управлять государством, который не может справиться даже со своими недостатками? На это не хватит сил не только какого-нибудь человека, наделенного обычными способностями, как я, но даже и гения; а я всегда считал за правило, что лучше не пытаться сделать что-то, чем сделать это плохо[13].
Александр часто публично порочил самого себя, выказывая упрямство в отношениях с людьми, будь то члены его семьи, его советники или Наполеон; это была черта характера, которую трудно или невозможно было понять и преодолеть.
Александр был впечатлительным мальчиком и с энтузиазмом читал все, что советовал ему Лагарп; это формировало его взгляды на злодеяния деспотизма, а также осознание необходимости править в соответствии с законом. Читал он с огромным интересом, соответствующим своему возрасту и способностям; в десять-двенадцать лет это уже были философские книги, помогавшие осознанию необходимости законного правления и ограничения деспотизма; обучаясь различным иностранным языкам, он переводил произведения таких писателей, как Руссо, Монтескье и Гиббон. И хотя Александр от рождения был умен, он испытывал недостаток во времени и чувствовал, что ему не хватает усидчивости изучить эти идеи полностью. Тогда у него и появилась привычка, которой он следовал позже, оглашать свои взгляды, которые оставляли впечатление недооформившихся. Как заметил его друг польский князь Адам Чарторыский (который был представлен русскому двору Екатериной), «являясь Великим Князем, Александр не дочитал до конца ни одной серьезной книги, мозг его был забит неясными идеями, и де Лагарп не мог заставить его полностью осознать огромные трудности понимания и выражения этих идей»[14].
Образование Александра не было закончено. Ему помешала ранняя женитьба на принцессе Луизе Баденской (которая, будучи крещенной в православной церкви, взяла имя Елизаветы Алексеевны) в 1793 году, когда ему было всего лишь пятнадцать лет, а его невесте — всего четырнадцать. Екатерина наслаждалась, играя роль свахи и принимая участие в придворных праздниках. Она с восторгом говорила Мельхиору фон Гримму, когда Александр и Елизавета впервые встретились, и позже, когда они были помолвлены, что «никогда не было более подходящей друг другу пары — прекрасной, как день, полной красоты и души… Все говорят, что они — два ангела, отдающие себя друг другу»[15]. Кроме того, Екатерина надеялась, что факт объявления Александра наследником поможет сбросить с трона его отца. Елизавета сразу влюбилась в Александра; он же не мог ответить на ее чувства взаимностью. Его занятия оказались запущены в тот год из-за свадебных приготовлений, а также из-за переселения молодой пары в Зимний дворец.
Программа образования Александра вообще была оборвана уходом Лагарпа двумя годами позже, когда ужас Екатерины перед событиями в революционной Франции (в частности — казнь Людовика XVI в 1793 году) привел к подозрительности по отношению к выбранному ею самой учителю. Но было, однако, уже слишком поздно. Чарторыский отметил это, рассказывая о разговоре с Александром в 1796 году:
Его взгляды были теми первыми ступеньками к идеям 1789 года, которые желали видеть всюду республику и указывали на эту форму правления как на одну-единственную, соответствующую желаниям и правам человечества… Я постоянно старался умерить экстремальные взгляды Александра. Он, между прочим, утверждал, что наследственная монархия — институт незаконный и абсурдный и что верховный авторитет должен принадлежать не случаю рождения, а только голосу народа, который знает лучше всех, кто именно способен руководить им?[16]
Юному Александру было приятно разделять компанию с Чарторыским, человеком, который был старше и мудрее его; он, желая показать свои знания и зрелость, поверял свои идеи Чарторыскому потому, говоря его же несколько самодовольными словами, что «он не мог поверить любому другому русскому, так как никто бы не смог понять их»[17]. В то время, конечно, Александр обсуждал свои идеи, не затрагивая практических проблем, с которыми ему пришлось бы столкнуться, если бы он стал государем России; тем не менее и позже, во время его правления, и Наполеон, и писатель Н. Карамзин в разговоре с царем оказывались в несколько странной ситуации, не разделяя некоторых его негативных взглядов на монархическое правление.
А взгляды молодого Александра, будь они преданы публичному рассмотрению, произвели бы ужасное впечатление на его отца и бабушку. Александр и Константин были изолированы от Павла, у которого был обособленный двор в Гатчине, но Александр довольно часто виделся со своим отцом в последние годы жизни Екатерины (вообще-то это была заслуга Лагарпа, который был за то, чтобы отец и сын почаще встречались, хотя его взгляды были ненавистны Павлу). Александр и Константин стали частыми гостями в Гатчине и имели возможность наблюдать и учиться искусству точных военных маневров и церемониальных парадов собственной армии Павла. Играя утонченного придворного в Санкт-Петербурге, чтобы как-то умилостивить бабушку, и военного на плацу, чтобы угодить отцу, Александр постиг искусство притворства и лицемерия, которое прошло с ним через все его зрелые годы. И хотя в этом есть доля правды, и Александру, без сомнения, пришлось научиться оставлять свое мнение при себе, это не значит, что ему не нравилось посещать Гатчину. Все множество незначительных процедур, касающихся военных маневров, непросто было усвоить Александру, и ему пришлось искать помощи у полковника Алексея Аракчеева, чтобы победить некоторую свою неловкость и защититься от гнева Павла. В 1799 году вот что он написал Аракчееву относительно построения военного каре:
Прошу Вас, ради нашей дружбы, объяснить мне как можно подробнее, что здесь неправильно. Завтра день маневров. Бог знает, как он пройдет, я же сомневаюсь, что все будет хорошо…[18]
Чарторыского, однако, он уверял, что ему нравятся военные церемонии, и, в самом деле, всю свою жизнь он любил парады (150 000 русских солдат было приказано принять участие в победном параде, состоявшемся под Парижем в 1815 году после того, как русские войска триумфально вошли в город в 1814 году). Александр ничего не писал о своем отношении к отцу в то время, но нет никаких доказательств его неприязни к Гатчине.
Действительно, вероятно, к обману Александр прибегал не столько в Гатчине, сколько при дворе Екатерины, где у него развивалось отвращение к роскоши и разложению. Он начал презирать поведение Екатерины и некоторые ее решения, чего она, к счастью, не заметила. Екатерина приходила в восторг от восхитительных манер внука, от его правильных взглядов и ума. Тем временем Александр свободно критиковал в кругу своих друзей ее правление, в частности раздел Польши и репрессии в ответ на освободительное движение в 1794 году (Павел тоже осуждал это, подтверждая, что отца и сына объединяло нечто большее, чем просто интерес к военным парадам). Чарторыский, который, конечно, поддерживал чувства Александра относительно Польши, заметил, что он
…ни в коей мере не разделял идей и учений Кабинета и Двора; он был далек от утверждения политики и порядков, установленных его бабушкой, чьи принципы он отрицал. В ее замечательной борьбе он желал счастья Польше и жалел о ее падении. Костюшко, по словам Александра, в его глазах был человеком, имеющим много хороших качеств, и принципы, которые он отстаивал, были принципами человечности и справедливости[19].
Александр был очень доброжелателен и, должно быть, знал, что выражает взгляды, которые его польский друг приветствует; нет сомнения, что он не приветствовал правление Екатерины. «То, что происходит, — непостижимо: каждый пытается украсть, сейчас с трудом встретишь честного человека, это ужасно», — писал он Лагарпу в феврале 1796 года[20]. Александр наблюдал за деятельностью Екатерины в последние годы ее правления. Он был свидетелем крушения польской революции и последнего раздела Польши в 1793 и 1795 годах, а также репрессивных мер, принятых Екатериной после начала французской революции к русским писателям. Здесь можно сказать об Александре Радищеве, чья книга «Путешествие из Петербурга в Москву» (опубликованная в 1790 году) встретила резкую критику русских землевладельцев и правительства; это побудило Екатерину сказать, что книга заражена «французским ядом». (Поднявшись на трон, Александр дал пост Радищеву.) Он также был свидетелем унизительных связей пожилой Екатерины с молодыми и довольно развязными любовниками, в частности, возмущался тем, какой заботой она окружила своего очередного фаворита Платона Александровича Зубова.
Екатерина так и не узнала об истинных чувствах своего внука, и в последние несколько лет ее правления ходили слухи, что она намеревалась провозгласить его своим наследником. В соответствии с законом Петра Великого о праве наследования правители могли сами назначать наследника, поэтому не могло быть никакого автоматического наследования; значит, теоретически, у Екатерины были все права сделать это. Однако была опасность в столь открытом пренебрежении очевидным наследником, ее сыном Павлом. И она запасалась основаниями для такого отношения к нему: сомнения относительно его психического состояния, его открытое несогласие с ее политикой и его непонятное негодование по поводу ее удачного прихода к власти, что было результатом смерти Петра III (которого Павел считал своим отцом, что не было доказано). Екатерина подняла спорный вопрос о наследовании на аудиенции с Лагарпом в 1793 году, но он отказался обсуждать его с Александром. Летом 1796 года Екатерина, предположительно, сделала предложение Марии Федоровне, жене Павла и матери Александра, что ее сын должен править вместо ее мужа, но Мария Федоровна отказалась подписать такой документ. В сентябре 1796 года Екатерина провела беседу с Александром, и ему были доверены некоторые важные бумаги. Содержание их разговора не были записано, но, возможно, обсуждался именно вопрос наследования. Позже Александр вежливо, но претенциозно, письменно выразил Екатерине благодарность за ее доверие ему и согласие с содержанием документов без дальнейшего обсуждения этого вопроса и дальнейших подробностей. Когда Екатерина умирала в 1796 году, Александр не принимал участия в обсуждении процедуры его вступления на престол. Вместо этого он сказал Кочубею, что хочет поселиться на берегу Рейна, а Лагарпу — что с удовольствием обменял бы свое положение на небольшую ферму, чтобы жить рядом со своим учителем. Он с большим удовольствием обсуждал с Чарторыским все злые стороны деспотизма, нежели планы его возведения на престол.
16 ноября 1796 года с Екатериной случился удар. Павел, сразу же вызванный Николаем Зубовым (братом Платона Зубова), прибыл во дворец и занял место рядом со спальней матери. Медленно умирая, Екатерина настойчиво продолжала говорить о коронации Александра, но тот немедленно отправил своего собственного посыльного в Гатчину, когда его бабушка была при смерти, и не выказывал никаких признаков неверности своему отцу и желания участвовать в этой интриге. Когда Павел прибыл в Зимний дворец, его встретили оба его сына, уже одетые в форму «гатчинского стиля».
Последний обряд был проведен 17 ноября, и Екатерина умерла вечером того же дня. Павел, как новый царь, немедленно принял присягу. Несколько дней спустя Александр присоединился к своей семье в ужасной процедуре выкапывания гроба Петра III, для перенесения его из монастыря Святого Александра Невского в Зимний дворец, где он должен был быть выставлен для прощания рядом с гробом Екатерины.
Павел I и Александр
Павел долго ждал того момента, когда он сможет сесть на трон, и не очень колебался в использовании своей власти. Подсчеты историками точного количества новых законов, установленных Павлом, дают разные результаты (от 2179 законов и постановлений всего его правления до 48 000 приказов, правил и законов одного только 1797 года), хотя никто не отрицает его энтузиазма в совершении изменений. Но многие его указы казались подданным тривиальными и скоропалительными. Его ненависть к французской революции привела к запрету французской одежды, причесок, слов и музыки; он настаивал, чтобы во дворце подавали русский квас и водку вместо вина. Каждый, включая беременных женщин, должен был выходить из своих экипажей и опускаться на колени на грязной дороге, чтобы приветствовать царя, когда он проезжал мимо. Такое поведение заставило некоторых современников и позже других комментаторов провозгласить Павла сумасшедшим. Чарльз Витворт, британский посол в России, писал, что «император буквально не в своем уме»[21], но это было написано с уважением к его перемене в политике по отношению к Британии, и со знанием того, что он будет отослан назад. (Кестльри сделал похожую заметку об Александре в 1815 году, так что, вообще-то, понятно, что думали британские дипломаты о психике русских царей). Конечно, у Павла был неуправляемый нрав, и он мог применить суровые наказания за совершенно пустяковые неточности на военном параде. Но эти характеристики подтверждают эмоциональную неуравновешенность, а не действительное помешательство. Что было действительно важно, так это то, что его методы и политика угрожали наиболее могущественным группам в стране, а именно двору и губернской знати, офицерскому корпусу и, несомненно, самому Александру.
Внутренняя политика Павла была далекоидущей: он совершил замечательные преобразования в структуре местного управления, установленной Екатериной в 1775 году, реорганизовал работу Сената (созданного Петром I в 1711 году) и попытался улучшить финансовую ситуацию в России, кроме всего прочего, установлением Банка помощи дворянству. Он также был за ограничение барщины и рабочих дней, установленных для крепостных их хозяевами (максимум до трех дней в неделю). Решение Павла о крепостном труде не смогло полностью изменить положение крепостных в России (манифест, вышедший при коронации, просто подтверждал, что землевладельцы должны ограничивать работу крепостных крестьян) и было игнорировано на практике. Тем не менее оно увеличило опасение знати, что это только первый шаг к освобождению крепостных, который в итоге мог стать концом их привилегий и послужить толчком к социальному взрыву. (Граф Семен Романович Воронцов боялся, что политика Павла «бросит Россию в огромную революцию, порождающую миллионы Стенек Разиных и Пугачевых», которые были вождями казачьих восстаний в семнадцатом и восемнадцатом столетиях)[22]. Тот факт, что Павел считал возможным для государства урегулирование отношений между помещиками и их крепостными, принимался как незаконное и беспрецедентное вмешательство.
Многие знатные люди, занимающие выборные должности в провинции, возмущались павловскими реформами центрального и местного управления, так как видели, что они не только отнимают у них служебные привилегии, но и укрепляют власть профессиональной бюрократии. Опасения знати о возможной потере общественных и политических позиций, похоже, оправдались, когда Павел отменил права, дарованные в екатерининской «Жалованной грамоте дворянству» в 1785 году, облагая налогом знать и выражая равнодушие по отношению к освобождению ее от телесных наказаний. Знатные люди также не доверяли новому Банку помощи дворянству, который должен был предоставлять им кредитные льготы, но который, как они опасались, и не без оснований, должен был привести к огромному числу конфискаций их владений, если они не были способными принять строгие условия отдачи ссуд. Никогда не было принято постановление, согласно которому ссуды были бы добровольными; банк был уполномочен давать займы на участки земли, которые были очень ценными, и целью было заставить знать обходиться со своим доходом с большей ответственностью. Павел был убежден в разложении большей части дворянства и хотел приучить его «по одежке протягивать ножки». Это относилось и к богатой и космополитической знати в Санкт-Петербурге и Москве, которая была буквально подкошена ограничениями Павла на ношение иностранной одежды и, в течение последних месяцев, его запретом на импортирование роскошных вещей из Британии.
В армии жестокие наказания были распространены не только на рядовых солдат за малейшие ошибки на парадах, но также и на офицеров. Патриотические чувства офицеров элитных гвардейских полков были оскорблены распоряжениями Павла ввести неудобную военную форму прусского стиля, включая парики, а также прусскую муштру. Возмущала их и благосклонность императора к гатчинским частям, в которых служило много украинцев; гвардейцы опасались, с некоторым на то основанием, что Павел намеревался принизить их статус. Три с половиной тысячи офицеров — почти четверть всего офицерского состава — проявили свое недовольство уходом в отставку во время правления Павла. Представители знати также чувствовали себя униженными непостоянной внешней политикой императора.
Первые действия Павла были направлены на изменение внешнеполитического курса Екатерины; он отменил ее планы послать войска в поддержку Первой коалиции против Франции и пошел на сближение с Оттоманской империей. Сперва казалось, будто Павел добивался мира, чтобы проводить внутренние реформы, но в течение года он занял ведущую роль в формировании Второй коалиции — Британии, Австрии и Оттоманской империи против Наполеона, что в значительной степени было вызвано его решением взять под свою защиту остров Мальта. Рыцари Святого Иоанна с Мальты воззвали к рыцарским чувствам Павла после того, как французская Директория конфисковала их собственность во Франции, и формально Павел стал их защитником в конце 1797 года. Когда Наполеон захватил Мальту в июне 1798 года на своем пути к Египту, Павел принял на себя обязательство оказать помощь острову (и другим обширным владениям), который практически Россия не имела никакой возможности защитить. Даже не пытаясь уклониться от своей новой неудобной ответственности, Павел принял титул Великого магистра ордена в ноябре 1798 года и сразу потребовал вывода французских войск. Это заставило современников и некоторых историков рисовать Павла опрометчивым романтиком во внешнеполитических делах, идеалистом, который мало руководствовался действительными интересами России. Были, однако, практические причины для оказания сопротивления дальнейшей экспансии Франции. Она серьезно угрожала российским интересам на Балканах, а Оттоманской империи — своим контролем над бассейном Средиземного моря. После завоевания Мальты Франция захватила ряд Ионических островов (Корфу был самым важным из них) в 1797 году, а ее завоевания в Италии нарушили баланс сил во всем бассейне Средиземного моря. Павел также боялся угрозы социальному и политическому порядку как отголоска французской революции, ибо вскоре расстался со своими надеждами на то, что Наполеон восстановит традиционные ценности во Франции. По его мнению, главная задача рыцарей Мальты была связана с крестовым походом против идей Революции.
Во время войны Второй коалиции русские войска под командованием генерала Александра Васильевича Суворова успешно вошли в Италию и Швейцарию и соединились с британскими войсками в Голландии. Павел, однако, вскоре разочаровался в поведении своих союзников; он увидел, что австрийцы предпочитают укреплять свои позиции в Италии вместо того, чтобы помогать русской армии в Швейцарии, и что британцы не намерены уступить России Мальту, которую они захватили в сентябре 1798 года. После поражения русской армии при Цюрихе в сентябре 1799 года (которое закончилось не так катастрофично благодаря отважному переходу Суворова с остатком войск через Альпы), Павел отделился от коалиции, правда, без формального мирного соглашения с Францией. Далее он продолжал приводить Британию в ярость, захватывая британские корабли и судовые команды в портах России, налагая запрет на британскую торговлю и вернувшись в декабре 1800 года к политике вооруженного нейтралитета, провозглашенного Екатериной II еще в 1780 году. Она была принята императрицей, чтобы утвердить право нейтральных стран продолжать торговлю с воюющими странами и в целом была направлена против морского владычества Британии. Новый антибританский указ Павла угрожал экспорту в Британию из Балтики необходимых для флота товаров, таких как мачты, деготь, пенька и смола. Павел даже планировал казачью экспедицию через Центральную Азию для завоевания Индии, что было глупой и опрометчивой затеей, не имеющей ни малейшего шанса на успех, но вызывавшей беспокойство Британии. Эти неосторожные шаги были встречены армейскими офицерами и придворной знатью с неодобрением: Никита Петрович Панин, вице-канцлер, написал в ноябре 1799 года, что «через несколько лет Россия станет посмешищем для всей Европы»[23].
Подозрения Павла относительно заговора против него привели к новым арестам, многие аристократы опасались за свою судьбу. Хотя точное число арестованных во время царствования Павла не было зафиксировано (12 000 человек получили амнистию от Александра после его восхождении на трон), известно, что в их число входили 7 фельдмаршалов, 333 генерала и 2261 офицер. Большинство этих людей было допрошено секретной полицией Сената. Петр III во время своего короткого правления упразднил Тайную канцелярию и ее функции как главного охранительного органа в государстве (расследование таких государственных преступлений, как измена, подрывная деятельность и призыв к мятежу). Во время правления Екатерины этот орган возродился под именем Тайной экспедиции и вел следствие по делам таких людей, как казачий мятежник Пугачев, провозгласивший себя Петром III, и писатель Н. И. Новиков, которого обвинили в изменнической деятельности. При правлении Павла функции его были расширены и усилили атмосферу страха своей секретностью и общепринятой уверенностью в том, что пытка стала неотъемлемой частью допросов. К 1799 году атмосфера неуверенности и страха среди знати, особенно в Санкт-Петербурге, дошла до предела. Друг Александра Виктор Кочубей писал:
Нельзя описать тот ужас, в котором мы теперь живем в Санкт-Петербурге… Правдивые или ложные, но открытые обвинения не остаются без внимания. Казематы полны заключенными. Черная меланхолия овладела всеми… Оплакивать родителя грех. Посещать неудачного друга значит стать изгоем общества. Муки, которые испытывают люди, невероятны[24].
К концу 1800 года слухи о заговоре против Павла и о «массовых арестах» в марте 1801 года еще больше усилили напряженность. Генерал Саблюков (который оставался лояльным по отношению к Павлу в течение всего его правления, хотя и не одобрял его политику) вспоминал, правда в несколько розовом цвете, о недавних событиях: «давление деспотизма, проявляющееся при даже самых пустячных и незначительных обстоятельствах, стало еще более раздражающим, так как оно следовало сразу за периодом совершенной личной свободы»[25].
Павел поступал опрометчиво, оскорбляя офицерство и знать, но нужна была серьезная группа заговорщиков и готовый наследник, чтобы свергнуть его. Заговор возглавили Панин, граф Петр фон Пален (генерал-губернатор Санкт-Петербурга, член Коллегии иностранных дел и директор почт), братья Зубовы (любимцы Екатерины II в последние годы ее жизни) и генерал Леонтий Беннигсен. Панин, который особенно был против враждебной политики по отношению к Британии, возможно, получал деньги от Чарльза Витворта, британского посла в Санкт-Петербурге, хотя этот факт не доказан. Заговор не ограничивался придворным кругом, в него были вовлечены многие гвардейские офицеры, члены известнейших фамилий (таких как Долгоруковы, Вяземские и Голицыны). Но в общем это был заговор аристократии. Павел старался быть популярным среди рядовых солдат и крепостных, которые ошибочно верили в то, что он намеревался освободить их, но эта поддержка не имела особой политической важности.
Палену и Панину нужно было убедить Александра помочь заговору. Во время правления Павла безопасность Александра как наследника была гарантирована новым законом, который формально устанавливал право старшего сына на наследование престола; он был членом Высшего Совета и Сената, президентом Военной коллегии, почетным полковником Семеновского полка и военным правителем Санкт-Петербурга, хотя не мог оказывать никакого влияния на политику своего отца. Удовольствие Александра от командования войсками, должно быть, значительно снижалось замечаниями Павла, гласившими, что его сын «дебил» и «животное». Пост военного правителя Санкт-Петербурга также оказался обременительным; как писал Саблюков:
Великий Князь Александр был еще молод и обладал робким характером, кроме того, он был близоруким и глухим на одно ухо; поэтому кое-кто полагал, что это вовсе не его роль, а сам Александр из-за этого провел немало бессонных ночей[26].
Александр глубоко переживал очевидный произвол Павла, полностью противоречивший тем принципам законного правления, которые были внушены юному царевичу еще Лагарпом. Его письмо к своему учителю в 1797 году (вывезенное из России одним из его новых друзей Николаем Новосильцевым) показывает смесь идеализма и наивности, разделенную проницательным пониманием недостатков правления Павла и сознанием того, что он мог в конце концов подняться на трон, чтобы спасти свою страну и стать честным правителем, прежде чем отойти от мира:
Мой отец, стараясь занять трон, хотел переделать все. Начало, правда, было многообещающим, но то, что следовало далее, не оправдало никаких ожиданий. Все вмиг оказалось поставлено с ног на голову; все это имело целью только одно — повысить и так уже огромное смятение, охватившее все наши дела. Армия занимает почти все его время, да еще военные парады. В конце концов у него нет окончательного плана, которому можно было бы следовать; то, что он приказывает сегодня, сам же через месяц отменяет: он никогда не примет никакого заявления, только кроме тех случаев, когда вред уже нанесен. Наконец, проще говоря, благополучие Государства не принимается в расчет в его делах… Вы всегда были знакомы с моими идеями покинуть страну. В этот момент я не вижу никакого смысла исполнить их; кроме того, неудачная ситуация, в которую попала моя страна, заставила меня полностью изменить свои взгляды. Я считаю, что если когда-нибудь придет мое время править, то вместо того, чтобы оставить мою страну, я лучше примусь за работу, чтобы сделать ее свободной, уберечь от рабской роли в будущем и не позволить ей стать игрушкой для сумасшедшего… Наша (Александра и его друзей: Чарторыского, Павла Строганова и Новосильцева) идея заключается в том, что во время настоящего правлениями должны перевести на русский язык так много полезных книг, насколько это возможно… Теперь, с другой стороны, раз уж мое время приходит, будет необходимо работать, шаг за шагом, чтобы создать образ нации, в которой будет свободная конституция, после чего моя деятельность полностью прекратится; и, если Провидение поможет нам в наших делах, я удалюсь в какое-нибудь уединенное местечко, где я смогу жить счастливо и в удовлетворении, наблюдая и наслаждаясь благосостоянием моей страны. Вот моя идея, мой милый друг[27].
В начале 1801 года ходили слухи, что, несмотря на новый закон наследования, сам Александр был подвергнут опасности лишиться этого права в пользу племянника императрицы, принца Евгения Вюртембергского, и что его жизнь вообще в опасности. Пока Александр приятно проводил время, переводя «полезные книги» со своими друзьями, обстоятельства потребовали более быстрых действий. Примерно в течение шести недель Пален пытался убедить его помочь заговору, искусно используя аргументы в расчете разжечь его чувства, рассказывая о деспотизме Павла, его пренебрежении к правам своих подданных и его жестокости. В конце концов он добился своей цели, хотя Александр настаивал на том, чтобы жизнь Павлу была сохранена. Это условие можно расценить как лицемерие Александра или, по крайней мере, его явную наивность, ведь шансы того, что Павел с готовностью примет отречение от престола, были невелики. Пален был более реалистичен; когда один офицер спросил его, что случится, если Павел будет сопротивляться, он ответил: «Господа, вы же знаете, что для того, чтобы приготовить омлет, необходимо разбить яйца»[28]. Но когда Александр узнал, что все же отец его убит, то ужас и угрызения совести, которые остались с ним на всю жизнь, усугубились: он все же надеялся, что отец останется живым. Это яркий пример обычного несовпадения его намерений с жестокой действительностью, а вовсе не холодного цинизма. И в том важном событии он проявил больше проницательности, нежели простоты, убеждая Палена согласиться, что совершение акта должно быть отложено на два дня до тех пор, пока Семеновский полк не будет полностью готовым, и настаивая на том, чтобы о заговоре ничего не было известно его брату Константину.
К середине марта 1801 года Павел стал опасаться, что заговор уже созрел, и сильно подозревал Палена (Панин был разжалован в конце 1800 года и сослан в свои владения). Хотя, видимо, не опасаясь какой-либо прямой угрозы со стороны сына, Павел стал более подозрительным. Когда он увидел, что Александр оставил экземпляр вольтеровского «Брута» открытой на странице, описывающей убийство Цезаря, он приказал, чтобы его сыну был представлен экземпляр истории Петра Великого, открытый на странице, описывающей смерть царевича Алексея за измену. 21 марта Павел послал гонца за Аракчеевым, которого он выгнал со службы и выселил из Санкт-Петербурга; но гонец был перехвачен Паленом, он заменил письмо и заявил, что у гонца была подделка. Павел был слишком напуган, чтобы возражать, и только настаивал на доставке этой бумаги. Понятно, что Палену пришлось действовать быстро, пока Павел не разобрался, в чем дело, и заговорщики решили действовать 22 марта вечером, когда Семеновский полк примет караул. Александра уверили, что его отцу не будет нанесено никакого вреда. И все же он колебался. Группа офицеров во главе с Беннигсеном вошла в спальню Павла. В последовавшей драке Николай Зубов ударил Павла, и один из офицеров наконец задушил его. Когда Александру рассказали о жестоком убийстве, совершенном группой во главе с братьями Зубовыми и Беннигсеном, он в конец растерялся от отчаяния и стыда. «Я не смогу жить с этим, у меня нет сил править. Пусть кто-нибудь еще возьмется за это», — было первым, что он сказал[29]. Мария Федоровна, жена Павла и мать Александра, вначале отказалась говорить с сыном и даже намеревалась сама подняться на трон. Только решимость жены Александра Елизаветы и настойчивость графа Палена («Хватит строить из себя ребенка; иди и правь!»), убедили его принять присягу гвардейских полков, не проявлявших, впрочем, особенного энтузиазма.
Воспоминания о несчастных событиях, в результате которых он поднялся на трон, преследовали Александра все время его правления и, возможно, стали еще более мучительными после смерти его собственных детей. (Елизавета родила двух дочерей: Марию в 1799 году и Елизавету в 1806, обе они умерли в конвульсиях в четырнадцать и восемнадцать месяцев соответственно; его любовница Мария Нарышкина родила ему трех дочерей, все они умерли: две в детстве, а самая младшая, София, в восемнадцать лет от чахотки). «Я самый несчастный человек на земле», — признался Александр графу Карлу Стедингку, шведскому послу, в первый день своего правления[30].
ГЛАВА 3
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ РЕФОРМАТОР: 1801–1807
Вопрос о конституции
Вступление Александра на престол с огромным энтузиазмом было встречено жителями Санкт-Петербурга. Французский историк Ж. X. Шнитцлер писал: «… вступление Александра на престол было встречено всеобщей радостью и удовольствием». Его внешность и манеры очаровывали всех: «Принц имел величественную фигуру и яркую красоту: его слова и манеры были обворожительны»[31]. Даже в последние годы Александр был способен производить такое впечатление, особенно на женщин. Мадам де Шуазель-Гуфье, графиня Тизенгаузен, родом из аристократической семьи Вильны, так живописала Александра, которому в тот момент было 35 лет:
Несмотря на тонкость и красоту его черт, яркость и свежесть его внешности, его красота была менее обворожительной, на первый взгляд, чем то ощущение благожелательности и доброты, которое пленяло все сердила и мгновенно внушало доверие. Его высокая, благородная и величественная фигура, которая, несмотря на некоторую сутулость, производила впечатление античной статуи, была совершенна. Глаза его были голубыми, яркими и выразительными; он был немного близорук. Нос его был прямым и правильным, рот — маленьким и приятным. Округлые очертания лица, так же, как и его профиль, придавали ему сходство с его августейшей матерью. Лоб его был немного лысоват, но это придавало его лицу открытое и спокойное выражение, а его золотистые волосы, аккуратно уложенные, как на античной камее, казалось, были готовы принять тройную корону из лавра, мирта и оливы. Тонкость его манер и поведения была бесконечно разнообразна. К людям, стоящим ниже его на общественной лестнице, он обращался с достоинством, но приветливо. К людям из своей свиты — с оттенком доброты: почти фамильярно; к женщинам в возрасте — с уважением, а к молодым людям — дружелюбно, в привлекательной манере и с выражением лица, полным доброты[32].
Александру всегда удавалось очаровывать окружающих его женщин, и галантность его никогда не ослабевала, даже под влиянием переживаний, вызванных войной с Наполеоном. Александр начал свое правление в манере, далекой от политики и методов Павла; она как бы воскрешала манеру Екатерины II. Вступая на престол, он обещал править «в соответствии с духом и законом» его бабушки — формула, которая звучала довольно неясно. Поведение того Александра, который во время последних лет правления своей бабушки открыто не одобрял дух этого правления и руководства, было забыто. Его первые указы подтверждали законы Екатерины и изменяли некоторые пункты указов его отца, оскорблявшие российскую знать. Александр подтвердил дворянские привилегии, установленные в 1875 году. Сохранялось крепостное право, подтверждалось получение титулов, званий и имущества только законным путем, дворяне освобождались от обязательной службы, уплаты налогов, телесных наказаний и сохраняли право свободного выезда за границу. (Последние два права на практике были игнорированы Павлом). Александр также вновь подтвердил екатерининские привилегии для городов (провозглашенные в 1785 году), которые сами создавали структуру своих представительных органов, заведующих городскими делами, хотя это не противоречило указам Павла, упрощавшим екатерининскую структуру управления. Он восстановил старую военную форму, что очень понравилось офицерству, и отменил ограничения на экспорт и импорт, что сильно повысило вывоз зерна из богатых поместий и повлияло на жизненный стиль богатой знати в Санкт-Петербурге и Москве, которая могла теперь ввозить предметы роскоши из-за границы. Более того, он предпринял меры, показывающие, что произвол и жестокость, ассоциировавшиеся с правлением Павла, закончились. Ненавистная Тайная экспедиция была упразднена, а в полиции были запрещены пытки. Он освободил примерно 12 000 заключенных, содержащихся под арестом, и амнистировал беглецов, скрывавшихся за границей, кроме тех, чьи преступления были связаны с убийством. В июне 1801 года он назначил комиссию, чтобы выработать новый свод законов. В эту комиссию он включил радикала Александра Радищева, который был отправлен Павлом в ссылку в собственное имение.
В первые несколько лет правления Александра на первом плане были внутренние реформы. Основные пункты здесь остались прежними, важнейшим был вопрос о Конституции и отмене крепостного права. В первые годы правления Александра оба положения обсуждались очень подробно, и предложения, которые призывали к умалению царской власти и противопоставлялись некоторым аспектам состояния крестьянства, были отложены в сторону. С одной стороны, эти предложения были выдвинуты заговорщиками (Паленом и Зубовым) и старшим чиновничеством, служившим еще при Екатерине, что придавало центральным правительственным учреждениям больше авторитета внутри государства. С другой стороны, Негласный комитет «молодых друзей» Александра (Адама Чарторыского, Николая Новосильцева, графа Павла Александровича Строганова и Виктора Кочубея) обсуждал положения будущей Конституции России. Но в отношениях между центральными правительственными учреждениями и царем или между крепостными и хозяевами не было никакой перемены, и Конституция не была представлена. Однако это не означает, что те годы не интересны для рассмотрения. Напротив, период между 1801 и 1803 годами был критическим, он высветил различные черты характера российского реформаторства и отношение Александра к реформам и принципам, которые, как ему казалось, должны были быть приняты в управлении страной.
Александра часто изображали непостоянным и неискренним в его отношении к реформам. Это правда, что он мог продекларировать неопределенные прожекты относительно прав и свобод. В августе 1805 года он написал Томасу Джефферсону, выражая свое восхищение Соединенными Штатами, их свободой и Конституцией, которые обеспечивали счастье всем и каждому[33]. 18 апреля 1806 года Джефферсон написал Ловетту Харрису, консулу Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге:
… Император высказал желание узнать что-нибудь о нашей Конституции. Поэтому я выбрал 2 лучшие работы, имеющиеся у нас по данному вопросу, для которых я прошу тебя найти место в его библиотеке[34].
Александр любил продумывать свой имидж, который понравился бы его окружению, но, выражая небрежно свои мысли, он не был ни слабым, ни лицемерным, когда дело шло о фундаментальных вопросах правления. Есть много свидетельств его упорства в обсуждениях и настойчивости в проведении реформ. Например, последнее слово при дебатах в Негласном комитете он оставлял за собой. Его нельзя было переубедить. Обсуждения в Негласном комитете обычно заканчивались разногласиями. Например, он «энергично» сопротивлялся предложению Кочубея о замене кабинетом министров всех коллегий (бывшие органы центральной администрации) и вместо этого хотел сохранить некоторые коллегии на какое-то время. Несмотря на мнение Новосильцева и Строганова о невозможности этого в связи с тем, что такая форма будет мешать работе министерств, Александр отказался уступить и сам принял решение по данному вопросу без дальнейших обсуждений.
Александр всегда враждебно принимал всякие попытки любых лиц и учреждений утвердить свои права или независимость суждений, но это не значит, что он не понимал концепции реформы или что он был по своему существу реакционером. В ранние годы правления он часто заявлял, что правитель не должен стоять выше закона, и выражал отвращение к произволу и деспотии, что, по его мнению, было обычным для Павла. Тайная экспедиция была распущена 14 апреля 1801 года, потому что, в соответствии с указом Александра, «в хорошо управляемом государстве все проступки должны быть поняты, обсуждены и наказаны силой закона». В тот же год была создана Комиссия для подготовки свода законов, ибо «при счастливых обстоятельствах любые меры могут успешно применяться в государстве, но только Закон может учредить их навсегда». Александр всегда придерживался буквы закона. Когда Д. П. Трощинский (статс-секретарь при Екатерине, Павле и Александре) начал предложенный Александром манифест о Сенате словами «Декрет нашего Сената (т. е. царского Сената)» Александр возразил: «Сенат не наш — это Сенат империи». Он также настаивал на том, что его подданные должны значиться как «россияне», а не как «его» подданные[35].
Нельзя сказать, что Александр был неточен или лицемерен в своем понимании слова «конституция». По существу он понимал конституцию в обновленном старорежимном смысле, подразумевая систему приказов правительства, основанную на законе. Он в принципе не исключал представительные учреждения, но любое преобразование должно совершаться по инициативе правителя, а не под давлением общественного мнения. Он был против установления охраняемых, неотъемлемых прав и принципов. Процветание всегда было на первом месте, и, по мнению Александра, правитель лучше всех понимал, что нужно стране. Приняв этот образ мышления, было бы уместно дать конституцию только тем народам, которые достигли достаточного уровня развития и поэтому были бы способны использовать конституцию мудро. Таким образом, это не полностью противоречило готовности Александра поощрять введение Конституции в любом месте Европы, даже в некоторых нерусских частях его собственной империи, в то же время не вводя таковую в собственно России. Правда, в иные моменты своего правления он принимал такую возможность и для России, но никогда не был уверен, что его страна достигла необходимого для этого уровня развития. И лишь в конце своего правления, наконец, оставил конституционные планы.
Руководители заговора, приведшие Александра на трон, главенствовали в ранние месяцы его правления. Как вспоминал Вигель, Пален «царствовал в России в первые три месяца после убийства Павла»[36]. Пален и в меньшей степени братья Зубовы, казалось, намеревались ограничить власть Александра. Баварский дипломат Олри писал: «…Пален и Зубов, как лидеры конспирации, ограничили высшую власть Александра и довольно свободно обращались со словом „конституция“»[37]. Ходили слухи, что во время убийства Павла у Платона Зубова имелась бумага, содержащая текст соглашения между царем и народом. А фон Коцебу, директор немецкого театра в Санкт-Петербурге, писал в своих воспоминаниях, что «Пален, без сомнения, имел добрым намерением представить рабочий проект конституции; у графа Зубова было такое же стремление»[38], и заметил, что Александр сказал сестре Екатерине в первый день своего правления о просьбе, с которой он обратился к заговорщикам: «Завершите все оставшееся, определите права и обязанности подданных; без этого трон перестанет меня привлекать»[39]. Даже если верить сказанному, это говорит в большей степени о панике, охватившей Александра после смерти отца, чем о серьезном намерении ввести конституцию. Воспоминания Чарторыского также свидетельствуют о влиянии Палена и других заговорщиков, но, по его мнению, это больше соответствовало состоянию ума и психологической неспособности противодействовать убийцам отца, чем действительным планам Александра:
Несколько месяцев он был уверен в их милости, но главным образом совесть и чувство справедливости удерживали его от того, чтобы отдать под суд наиболее виновных заговорщиков… Все прокламации, вышедшие в то время, были подписаны им (Паленом); ничто не могло пройти мимо него и быть сделано без его согласия; он имел влияние на молодого Императора и бранил его, когда тот делал не то, что Пален желал или даже приказывал. Александр, измученный печалью и отчаянием, похоже, находился под властью заговорщиков; он решил, что необходимо отнестись к ним с пониманием и перейти на их сторону[40].
Нельзя с точностью сказать, что было на уме у Палена, если у него на самом деле был какой-то план, но вряд ли он связывал смысл слова «конституция» с понятием документа французско-революционного или американского стиля. Напротив, как представители бюрократии и знати, заговорщики искали способ увеличить власть центральных правительственных учреждений в противовес власти царя, учреждений, в которых они, конечно, служили и потому имели влияние. Пален и братья Зубовы являлись членами так называемого Непременного совета, образованного Александром 11 апреля 1801 года, «чтобы рассматривать и обсуждать государственные дела и указы». Этот Совет был наиболее важным учреждением в первые годы его правления и занимался обсуждением таких вопросов, как новое подтверждение Жалованной грамоты, роспуск Тайной экспедиции и вопрос о отношениях с Британией. Александром был приготовлен Наказ для провозглашения при учреждении нового Совета, который заменил бы Непременный совет и стал бы во главе центральной администрации. Есть несколько набросков этого Наказа, которые различались по определению компетенции Совета и его отношения к царю; один отводил Совету только консультативную функцию, в другом добавлялось право издавать законы. Так как даты различных планов не могут быть с точностью установлены, невозможно с уверенностью сказать, были ли эти различия отражением меняющегося баланса власти между Александром и заговорщиками. В любом случае, новый Совет не был создан до 1810 года.
Как бы там ни было, Непременный совет показал, что он мог занять независимую позицию в политике и был готов к разногласиям с царем. Это стало ясным, когда в апреле Александр поставил вопрос о присоединении Грузии к России. Грузия вошла в военный союз с Россией, и Павел объявил декрет о присоединении страны 30 января 1801 года. Анонимное решение Совета выражалось в согласии с этим. Недавняя публикация русского историка Сафонова, основанная на записях Совета, показывает, что Александр не разделял этого взгляда, но Совет отказался менять свое решение. В августе рапорт главнокомандующего русских войск в Грузии генерала Б. Ф. Кнорринга с комментариями графа Александра Романовича Воронцова и Кочубея, не согласных с присоединением, был представлен на рассмотрение Совету для дальнейшего обсуждения, но Совет своего мнения не изменил. Платон Зубов приготовил дальнейший меморандум для Александра о свободе присоединения, но и Новосильцев, и Строганов отклонили его аргументы. Несмотря на это, Александр («неохотно», как писал Сафонов) принял точку зрения Совета и утвердил манифест о присоединении Грузии 24 сентября 1801 года.
Отношения между Александром и Советом в первой половине 1801 года показывают, что последний не был готов безоговорочно разделять взгляды царя. Однако непохоже, что Александр в вопросе о Грузии испытывал свое влияние на Совет или что он серьезно его боялся. Зубов с уверенностью отстаивал свои взгляды, но к тому времени, когда Александр утвердил манифест о присоединении, Пален, самый могущественный из заговорщиков, ушел из Совета. Строганов заметил на встрече Негласного комитета 25 августа 1801 года, что Александр не уверен в будущем Грузии, так что, возможно, его действия просто означают, что он изменил свое решение. К концу июня 1801 года Александр в достаточной степени почувствовал свою силу и поддержку войск, чтобы открыто противостоять Палену и победить его. Уход Палена повлек за собой ссылку Панина, а затем изгнание братьев Зубовых. Генерал Беннигсен был также изгнан, но в отличие от остальных заговорщиков в 1806 году вернулся на службу.
Американский историк Мак-Коннелл в изгнании Палена видел поворот в правлении Александра. Согласно его интерпретации, большинство ранних либеральных указов и обещаний Александра были ему навязаны. После падения Палена поток либеральных указов замедлился и шаги к конституционным и легальным реформам прекратились. Более того, Мак-Коннелл утверждает, что печальный опыт Палена научил Александра осторожности в применении своей огромной власти в течение всего царствования. Хотя Пален действительно имел немалое влияние, Александр, по-своему понимая конституционную перемену и поставленные вопросы, поддержанные другими советниками, превратил весь процесс реформирована в единый комплекс, в котором Пален играл лишь незначительную роль. Изгнание Палена «наделало много шуму в Санкт-Петербурге»[41], но не привело к оппозиции Александру или к попыткам поднять павшего министра. В самом деле, процесс арендной реформы не остановился внезапно; «Права русского народа» (рассмотренные ниже), например, были представлены на рассмотрение Негласному комитету в августе и Непременному совету в сентябре, что было уже после падения Палена.
Каковыми бы ни были намерения Палена и его друзей-заговорщиков, их шансы произвести фундаментальную конституционную перемену против воли Александра были малы. Пален и братья Зубовы не пользовались особым влиянием среди русской бюрократии. В самом деле, они не были популярными, и влиятельные братья Воронцовы — графы Александр Романович и Семен Романович — не любили кажущегося всемогущим Палена и советовали Александру не допускать ни малейших попыток умалить власть. Разногласия между лидерами заговора и бюрократии ослабляли давление на царя. Представители чиновничества, которые служили еще при Екатерине II, считали, что Сенат должен играть более позитивную и определенную роль в правительственном аппарате, а также добивались легализации прав знати как класса, после опыта, полученного при правлении Павла. Эта свободная группа людей, охарактеризованная историками как сенатская партия, хотя никогда не существовало такой формальной организации, возглавлялась братьями Воронцовыми. Существовали предположения, что граф Александр Воронцов был главным составителем «Прав народов России» — документа, написанного для того, чтобы он был прочитан на коронации Александра. Под влиянием правительственной практики Англии и французской «Декларации прав человека и гражданина», этот документ предусматривал защиту собственности и личности, право свободы голоса и защиту от произвольного ареста (что было воплощением английского предписания «о представлении арестованного в суд для рассмотрения законности ареста») и поддерживал привилегии, данные знати в 1785 году. Воронцов хотел, чтобы теперь российская знать не находилась «под царем», а стояла «рядом с ним». Хотя «Права» не угрожали прямо власти царя, они укрепляли власть знати. Они также должны были поднять статус Сената, утверждая, что все новые законы должны быть ратифицированы. Первый проект «Прав» был подготовлен в июне 1801 года; в августе Александр передал его для рассмотрения в Негласный комитет; последняя исправленная версия была представлена царю 25 августа и после небольших изменений принята. За шесть дней до коронации (21 сентября) она была одобрена Непременным советом, но Александр ее не поддержал и отложил в сторону.
По инициативе Александра, предложения по реформам, исходившие от сенаторов, были рассмотрены П. Б. Завадовским (бывшим любовником Екатерины II). Предполагалось, что Александр сделал это неохотно, что показывало его изначальную незаинтересованность во власти, но для него, в принципе, не было никакой причины противостоять Сенату после провозглашения последнего защитником от произвола правителя. Другие предложения предусматривали такие права Сената, как введение налогов, выдвижение кандидатов на пост генерал-губернаторов и глав различных коллегий, представление на рассмотрение царю «нужд народа», право вето, если закон или декрет был «противоположным ранее принятым законам или декретам, вредным или неясным». В своих заявлениях Александру братья Воронцовы, Трощинский, Завадовский и братья Зубовы пытались убедить его «восстановить» Сенат в позиции верховной власти, стоящей над всеми остальными правительственными органами. Граф Александр Воронцов даже довольно наивно надеялся, что Александр не станет возражать против сенатского права запрета: «Я осмеливаюсь надеяться о жаловании права запрета, так как случай этот редкий, и царь никогда не будет обременен им»[42]. В сентябре 1802 года указ подтвердил привилегии Сената, более или менее совпадающие с предложениями сенаторов. Его право принимать законы и следить за действиями исполнительных органов в государстве были поддержаны, кроме того было формально установлено право возвращения закона царю на досмотрение, если совет сенаторов сочтет его «неподходящим».
Потенциальное влияние заговорщиков и придворного чиновничества было уменьшено существованием соперничающего органа реформаторов — Негласного комитета или «Комитета всеобщей безопасности», как Александр шутливо называл его, включающего «молодых друзей» Александра: Чарторыского, Новосильцева, Строганова и Кочубея. Чарторыский, Новосильцев и Кочубей были вынуждены покинуть Россию во время правления Павла, но теперь вернулись по приглашению Александра. Эти молодые люди были больше знакомы с событиями и жизнью за границей, чем сам Александр; Новосильцев жил в Англии, Строганов посещал Якобинский клуб в Париже. По словам поэта Г. Р. Державина, они оба были «наполнены французским и польским конституционным духом»[43]. В Комитете шло много оптимистических разговоров о «правах человека» и введении конституции в России (предположительно, по инициативе самого Александра), но практических результатов было немного. Как сказал Чарторыский, Комитет походил на «масонскую ложу, из которой человек вышел в реальный мир»[44].
На самом деле, несмотря на энтузиазм, с каким «молодые друзья» рассуждали о конституции, они были довольно осторожны на деле[45]. Они сходились на том, что прежде чем вводить конституцию, надо создать правильную административную структуру. Вот рассуждения Строганова:
Можно разделить конституцию на три части: установление прав, их принятие и их гарантии. В нашем случае, первые две части существуют (в рассмотрении прав дворянства, городов и Сената), но отсутствие третьей полностью их отменяет… Конституция — это основной закон, регулирующий метод, который должен быть применен при составлении административных законов, что являет собой необходимость одобрения модификаций, объяснений и так далее, должен подчинять эти изменения в той манере, которая известна, зафиксирована, неизменна, которая закрывает дверь всякому произволу и, в заключение, уменьшает вред, который может появиться из-за различия положения глав государства. Вот как я понимаю значение слова «конституция» [46].
Это не утверждение прав человека и всего народа; это скорее традиционный взгляд на государство, строго управляемое в соответствии с законом; на правовое государство. Это было то, чего не было при правлении Павла; конечно, Александр полностью разделял такие взгляды.
«Молодые друзья» не соглашались с некоторыми предложениями, выдвинутыми сенатской партией. Новосильцев сказал в разговоре с Александром, что принимать принцип представления арестованного в суд для рассмотрения законности ареста (предложение графа Александра Воронцова) было бы опасно; что лучше не принимать того, что в будущем может быть отменено. Этот взгляд разделял и царь: «Его Величество ответил, что это именно то замечание, которое он уже сделал графу Воронцову»[47]. Александр хотел учредить комиссию для подготовки свода законов, но на практике не был готов сделать это, боясь ограничения царской власти. В этом он нашел поддержку у своих «молодых друзей». Новосильцев предупреждал, что повышение власти Сената по предложению Завадовского и других «свяжет Вам руки и сделает невозможным все, что было запланировано для всеобщего блага» [48]. По мнению Новосильцева, Сенат должен подчиняться всем декретам императора. Этот взгляд на Сенат был поддержан Чарторыским, который со злостью писал: «…он был ничем, кроме имени; он был составлен из людей, которые большей частью были неспособными и лишенными энергии, избранными из-за своей незначительности… это вместилище для ленивых и престарелых»[49]. «Молодые друзья» верили, что лучшая гарантия успешного проведения реформы — вверение ее самому царю. Этому было несколько исторических оправданий: Петр Великий сам проводил реформы и преобразования в упрямой, неподдающейся стране, Екатерина давала привилегии знати и городским жителям. Нельзя верить придворной бюрократии, которая думала только о своих интересах. Учитель Александра Лагарп, снова приглашенный в Россию, также был против повышения сенатской власти. Александр дал на рассмотрения Негласному комитету все предложения сенаторов о реформе для внимательного исследования и обсуждения. В результате выявились не только разногласия, но и вражда между двумя группами реформаторов.
Реформы, предложенные Александром в первые годы правления, иллюстрируют как его методы обхождения с потенциально опасными советниками, так и его отношение к государственным переменам. Очевидно, что он испытывал сильное давление со стороны Палена и братьев Зубовых в первые несколько месяцев, но свидетели утверждают, что его власть никогда не была серьезно ущемлена, даже перед уходом Палена. Никогда не существовало угрозы фундаментального реформаторского сдвига. Личные отношения, такие, как неприязнь Воронцовых к Палену, и, в свою очередь, «молодых друзей» к Воронцовым и Зубовым, предотвращали любое их согласованное действие. Противопоставление участников Негласного комитета Сенату укрепляло влияние Александра. Иногда утверждалось, что Александр умышленно натравливал одну сторону на другую, хотя на самом деле ему не было нужды быть столь нечестным. В конце концов, было понятно, что реформа не пройдет против его воли. Он принял «Права народов России», но никогда не осуществил их, и никто не мог его заставить сделать это. Его нельзя было принудить принять предложения Сената; они принимались по его инициативе, и декрет о Сенате 20 сентября 1802 года не был уступкой, выпрошенной у него.
В самом деле, Александр показал, насколько точно он осознавал свое влияние на Сенат в ранние годы своего царствования. В тот же самый день, когда были установлены права Сената, другой декрет установил восемь министерств в правительственной администрации: внутренние дела, финансы, правосудие, иностранные дела, война, флот, образование и коммерция. С самого начала возникли противоречия между министерствами и Сенатом, выявилось также частичное совпадение функций. Главы министерств назначались царем и несли ответственность перед ним; иначе говоря, они не были под контролем Сената, несмотря на провозглашение его власти над исполнительными органами во всем государстве. Министры имели прямой доступ к царю и могли представлять ему на рассмотрение проекты новых законов или исправления уже существующих; Сенату эти проекты представлялись уже после царского одобрения. Кроме того, министры должны были представлять в Первый департамент Сената ежегодный отчет о своих действиях, и их могли просить представить «объяснения» по вопросам, вызывавшим сомнение, а Сенат, в свою очередь, докладывал царю о деятельности министров. Но ситуация усложнялась тем, что министры зачастую были членами Первого департамента Сената. В 1809 году, например, из девятнадцати членов Первого департамента шесть были министрами, три — были бывшими министрами, один — помощником министра. Кроме того, министры стали членами Непременного совета. Этот факт заставил американского историка Ледонна говорить о «министерском деспотизме»[50]. Но министерства не имели полной независимости или власти, и, конечно, не более, чем Сенат, могли контролировать царя. По секрету Александр написал Лагарпу в конце 1802 года, что дела проходили через министерства с большей частотой и методичностью, хотя на практике центральное правительство не было более действенным или более независимым[51].
Александр определил свои отношения с Сенатом во время инцидента, происшедшего через год после выхода указа о Сенате. В 1803 году сенатор граф Северин Осипович Потоцкий попытался применить право Сената о представлении «неподходящих законов», приобретенное в 1802 году, по отношению к закону, утверждающему отставку гвардейских офицеров. Закон, как он считал, противоречил более ранним указам. Группа сенаторов, включая Потоцкого, хотела вернуть его Александру для перерассмотрения. Державин, который заседал в Сенате, рекомендовал Александру запретить дальнейшее обсуждение этого вопроса в Сенате. Царь, однако, решил, что Сенат может обсудить его. Все было должным образом сделано и большинство сенаторов заявило, что закон действительно надо возвратить царю на перерассмотрение. Так как Державин отказался сделать это, делегация, возглавленная Потоцким, сама представила петицию. Александр пришел в ярость от дерзости Сената, встретил делегацию холодно и, полагая, что «дьявольское намерение руководило Сенатом», издал указ, который практически делал это правило бессмысленным, ограничивая Сенат правом комментировать лишь законы, вышедшие после 1802 года, не ссылаясь на более ранние. Сам вопрос был представлен на рассмотрение Негласному комитету; понимание им сенатских прав совпадало с мнением Александра, хотя выражалось в более взвешенной форме. «Молодые друзья», конечно, относились враждебно к любой попытке Сената увеличить свою власть за счет власти царя, так что не удивительно, что они разделили взгляд Александра.
Чарторыский был разозлен таким ограниченным пониманием свободы Александром (правда, это проявилось после того, как царь не оправдал его надежд относительно восстановления Польши):
Император любил формы свободы так же, как он любил театр; это было ему приятно и тешило его самолюбие; но все, чего он хотел, было пустыми формами и видимостью; он не хотел, чтобы это стало действительностью. На словах он с готовностью соглашался, что каждый человек должен быть свободным, на деле он должен был делать только то, чего желал царь[52].
Новая власть Сената, как оказалось, была иллюзией, но ни Александра, ни сенаторов это не обеспокоило. Историк Яни так в целом охарактеризовал ситуацию: «Возможно, самое ясное определение такой неспособности русских государственных деятелей в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков понять природу легального установления заключается в том, что конфликты в правительстве не были умышленными и, в сущности, остались без внимания… Сенат не потерял сильной позиции в 1803 году, потому что никогда не обладал таковой»[53].
Крепостное право
Первые несколько лет царствования Александра показали, что он не очень уважал устоявшуюся структуру российского общества в целом и русскую знать в частности. Хотя Александр подтвердил привилегии дворянства, которые освобождали от обязательной службы (указ Петра III 1762 года), он считал, что должно быть проведено различие между теми, кто служит, и теми, кто не служит. В самом деле, на встрече Негласного комитета 27 июля 1801 года царь заявил, что «восстановление привилегий знати шло против его воли, потому что эти исключительные права всегда были ему отвратительны»[54]. Он сказал, что право знати покупать крепостных сомнительно, что они должны лучше обращаться с крепостными и не должны делать из них рабов. Александр также приготовился нанести удар по самому крепостному праву, что, конечно, подорвало бы позицию дворянства по отношению к другим сословиям.
Александр выражал свое отвращение к крепостному праву еще в ранние годы. Примерно между 1798 и концом 1800 года он пометил в своей записной книге:
Ничто не может быть более унизительным и бесчеловечным, чем продажа людей, поэтому нужен указ, который навсегда запретит это право. К стыду России, рабство все еще существует.
Затем он разработал указ, который утверждал: «все это будет иметь два преимущества: во-первых, из рабов сделают свободных людей; во-вторых, состояния будут уравнены и классы будут отменены»[55]. Чувства, выраженные в этих словах, частично были результатом учения Лагарпа, и Александр сам порицал существование крепостного права, так что нет причины считать, что чувства его были неискренними. Проблема, конечно, заключалась не в самой несправедливости крепостничества, а в том, как устранить его без опасности для трона, возбуждения враждебности со стороны дворянства или социального переворота в деревне. В ранние годы своего правления Александр попробовал решить эту проблему по частям, что облегчило положение крепостных и уменьшило исключительное право дворян владеть землей и крепостными крестьянами.
Понятно, что любой шаг в этом направлении был бы встречен в штыки многими представителями знати. На практике даже члены Негласного комитета, которые выражали свое отвращение к крепостному праву и презрение по отношению к знати (Строганов так сказал на обсуждении крепостничества в комитете: «Помещики — это наиболее невежественный, наиболее испорченный класс»)[56], на практике были осторожными с введением частичных и незначительных перемен в отношениях между крепостными крестьянами и их хозяевами. Летом 1801 года Платон Зубов подготовил проект, который, кроме прочего, предлагал следующее: позволение знати освобождать своих домашних крепостных в городах с денежной компенсацией от государства (бывшие крепостные будут зарегистрированы в городах как мещане — то есть ремесленники — и поставлены на учет в городском союзе); запрет перевода сельскохозяйственных крепостных в дворню; предоставление права крепостным покупать себе свободу. Было примерно подсчитано, что 8,1 процентов от городского населения составляли домашние крепостные (дворня) и что, в общем, эта группа насчитывала 190 000 человек. Зубов подошел к этому вопросу очень серьезно. Его предложения были представлены Негласному комитету в августе, но не были поддержаны, отчасти из-за личной неприязни к Зубову, как к любимчику Екатерины, а отчасти из финансовых соображений, так как покупка свободы крепостных крестьян обошлась бы казне очень дорого. При этом был игнорирован тот факт, что Зубов рекомендовал государству выкупить не всех домашних крепостных, а только тех, с которыми сами владельцы хотели бы расстаться. Александр продолжал рассматривать этот проект, несмотря на неодобрение его «молодыми друзьями», но не утвердил его.
В конце 1801 года меморандум о крепостном праве адмирала Мордвинова предложил дать право простолюдинам покупать заселенную и незаселенную землю. Негласный комитет должен был рассмотреть это предложение в ноябре и дать ответ на предложения Зубова. «Молодые друзья», хотя они не были, в принципе, против того, чтобы покончить с монополией дворянства на владение крепостными, на практике нашли право простонародья покупать и землю, и крепостных «слишком большим новшеством», а также правом, которое могло иметь нежелательные экономические последствия, такие, как возрастание цены на землю. Предложения Зубова могли привести к «опасному эксцессу» со стороны крепостных и к «слишком большому неудовольствию» со стороны помещиков-дворян. Новосильцев предостерег, что могут начаться беспорядки, если крестьяне решат, что царь полностью освобождает их. Царь продемонстрировал свою независимость и подогрел дебаты, которые начались между им самим и его «молодыми друзьями» по обеим причинам в целом и по вопросу о продаже крепостных без земли в частности. Например, приняв главные положения предложения Мордвинова, он также принял мнение «молодых друзей» о том, что проект должен быть провозглашен как указ, а не как манифест (как того хотел сам Мордвинов) на том основании, что так он будет менее провокационен. В то же время он отказался давать это предложение на рассмотрение Непременному совету, как того хотели «молодые друзья», на том основании, что Совет «не может одобрить такую идею, поэтому необходимо сделать это с помощью абсолютной (то есть царской) власти». Он настоял, вопреки совету «молодых друзей», на том, что Непременному совету разрешено только принять или отклонить предложение. В конце концов его убедили представить проект Совету, уверив, что не будет больших возражений по этому поводу. В итоге Совет уменьшил свое сопротивление специальному налогу на землю. Права купцов, мещан, государственных и вольных хлебопашцев покупать незаселенную землю были дарованы в указе от 24 декабря 1801 года, в день рождения Александра. Исключительное право дворян на владение землей было отменено, но ни право остальных сословий обладать «заселенной» землей (то есть землей, на которой были крепостные), ни предложения Зубова приняты не были.
В ноябре 1802 года Сергей Петрович Румянцев представил Александру на рассмотрение новое предложение, которое позволило бы помещикам освобождать отдельных крепостных или сразу целые деревни, если они этого хотели, за сумму, определенную самим помещиком. Несмотря на смягчение этого предложения, в дальнейшем оно вызвало недовольство многих дворян, которые боялись крестьянских волнений, если крепостные подумают, что указ является прелюдией к полному освобождению. Несмотря на сомнения, выраженные в Непременном совете, в том, что крестьяне смогут оплатить свою свободу в тот срок, который был предусмотрен для этого, предложения были приняты Александром и стали основой для Закона о вольных хлебопашцах, принятого в марте 1803 года. Это привело к тому, что помещики подавали петиции царю на разрешение освобождать целые деревни крепостных крестьян с землей, на которой они работали, и вследствие этого было создано новое сословие вольных хлебопашцев. На практике некоторые помещики бескорыстно освобождали своих крепостных крестьян, и к концу правления Александра было подсчитано, что 47 153 одних только крепостных мужчин были освобождены этим способом (13 371 — как результат благородного жеста князя Александра Николаевича Голицына). В итоге закон был принят без обсуждения в Сенате, который, под управлением Державина, возможно, наложил бы на него некоторые ограничения.
В начале ноября 1803 года Негласный комитет обсуждал беспорядки, которые начались на Украине (Малороссия) после введения некоторых постановлений относительно прав казачества. Александр не хотел отменять эти установления (Комитет разошелся во мнениях), потому что «это полностью противоречило бы тому, что он начал, а именно освобождению крестьян». Но позже, через месяц, когда вопрос о праве покупать крепостных крестьян снова был рассмотрен в Комитете, и царь и его «молодые друзья» поняли суть проблемы. Строганов писал так:
…Император повторил, что должен заботиться обо всем народе, что если народ когда-нибудь поднимется, осознав свою силу, то это будет опасно. Мы ответили ему, показав последствия чрезмерных нападок на дворянство, которое также является значительной частью народа и может очень просто заявить свои претензии; это мнение практически не было принято в расчет: дескать, не следует уклоняться от главного принципа — правления для всеобщей пользы[57].
Во время этой дискуссии удалось добиться небольшого прогресса. После всех обсуждений лишь некоторые незначительные изменения были сделаны в постановлениях касательно крепостного права. Объявления о продаже крепостных крестьян в санкт-петербургских и московских газетах, которые были противны Александру, теперь были запрещены, но это мало сказалось на положении всего крепостного крестьянства.
Другие реформы
Первые годы правления Александра не были совсем бесплодными, если говорить о внутренних реформах. Особое внимание было уделено управлению нерусскими землями империи, армии, образованию и благосостоянию страны.
Александр постоянно использовал гибкую дипломатию в своем подходе к управлению нерусскими землями своей империи. В некоторой степени он использовал эти территории для подготовки будущих реформ в самой России. Особые перемены в отношениях между крепостными крестьянами и землевладельцами были сделаны в балтийских губерниях — Эстонии, Латвии и Курляндии (которые стали частью империи в начале XVIII века во время правления Петра I). Здесь, в отличие от России, по крайней мере некоторые представители дворянства, большей частью выходцы из Германии и Швеции, проявляли определенную заинтересованность в отмене крепостного права, и по этому вопросу шли активные дебаты уже с 1760 годов. Александр интересовался этими спорами в надежде, что некоторые помещики согласятся с освобождением крестьян. Он выразил эту надежду в Негласном комитете в феврале 1802 года, говоря, что «губернии покажут пример всей Империи»[58]. Частично под давлением Александра парламенты Эстонии и Латвии между 1802 и 1804 годами приняли законы, регулирующие отношения крестьян с землевладельцами и дающие арендаторам наследственные права на их земли.
В 1775 году Екатерина II установила новую структуру губернской администрации в России, включая суды и финансовые органы. Эта структура проектировалась и для балтийских губерний взамен их традиционных и позже была введена Павлом. Александр ничего не предпринял, чтобы изменить ее, и его понимание прав и привилегий балтийских губерний выражалось фразой: «они должны согласиться с главными указами и законами нашего государства». На практике это означало, что балтийские губернии представляли как бы отдельную административную инфраструктуру, которая подвергалась модификации по мере необходимости. В 1801 году, например, российский военный правитель Риги был поставлен во главе администрации всех трех балтийских губерний. Позже, в 1810 году Эстония отделилась от Курляндии и губернии Литвы (которая была создана после расширения России в результате раздела Польши). Все три губернии были вновь объединены в 1819 году, и затем в 1823 году к ним была добавлена Псковская губерния. Однако, в отличие от Екатерины, Александр не проявлял большого интереса к внутренним делам Балтики и не навязывал ей русских установлений. Он не предпринял ни малейшей попытки устранить конфликт, возникший в Риге из-за сохранения традиционных гильдий, что противоречило городским установлениям Екатерины (принятым в 1785 году), или разрешить конфликт внутри литовского парламента в 1803 году по поводу восстановления правительственных законов, принятых Екатериной в 1775 году.
Грузия была присоединена в 1801 году, но Александр позволил ей принять свою собственную «конституцию». Под словом «конституция» он понимал, что Грузия принимала свои законы и общественную организацию, но подчинялась его собственной администрации. Это было похоже на его отношение к управлению балтийскими губерниями. Грузия не получила такую конституцию, какая была дана Польскому королевству. Грузинская монархия была оставлена, и статус грузинской православной церкви не был изменен. Однако грузинское дворянство было соотнесено с русским табелем о рангах и получило русские титулы, что не понравилось местной знати. В отличие от России, всем социальным группам Грузии позволялось иметь крепостных крестьян (включая духовенство, торговцев и даже самих крепостных). Александр не предпринял попытки отменить это, что было сделано во время правления Николая I. Однако в 1821 году Александр отменил в Грузии право свободных крестьян добровольно переходить в крепостные.
Александр также уделил некоторое внимание евреям, которые стали подданными Российской империи в результате трех разделов Польши во время правления Екатерины. Историки расходятся в определении числа евреев в империи. Это число колеблется от 32 000 до 200 000, хотя последние исследования показывают, что нижняя цифра ближе к истине. Екатерина пыталась заставить евреев селиться в городах. В поздние годы своего правления она ввела для них двойной подушный налог (который, конечно, был принят в штыки) и налог за службу (вместо действительной службы), который заставлял относиться к евреям, как к отдельной социальной группе с обязанностями, отличными от остальных. Права и обязанности евреев в городах остались неясными, и Александр учредил в ноябре 1802 года специальный комитет, чтобы рассмотреть этот вопрос. В Комитет для организации жизни евреев входили Державин (позже замененный П. В. Лопухиным), Валерий Зубов, Сперанский, Кочубей, Чарторыский и Потоцкий. Результатом их работы стал закон о евреях 1804 года, который состоял из двух частей: во-первых, он предусматривал управление и уравнивание еврейского общества, включая право на обучение в школах и высших учебных заведениях; во-вторых, крестьянство защищалось от экономической эксплуатации евреями, так как последним запрещалось торговать спиртными напитками. Закон не отменял катальную структуру (которая, кроме всего прочего, сохраняла право распределения налогообложения внутри общества) и не прояснил статус евреев и их права в выборных муниципальных учреждениях, установленных внутренней правительственной реформой 1775 года. Евреям было позволено становиться фермерами, им были выделены определенные земельные участки, но, по правде говоря, их экономическое положение только ухудшилось. Кроме того, давало себя знать двойное налогообложение, недостатки которого были устранены лишь к 1807 году.
Жизнь Александра в Гатчине привила ему истинную любовь к мелочам военной жизни. В первые годы своего правления после установления мира с Британией и Францией он обратился к реорганизации и модернизации армии. Аракчеев, друг и помощник Александра в гатчинские дни, был призван в 1803 году и получил право на свое усмотрение реорганизовать и модернизировать артиллерию. Он энергично приступил к делу, отделив артиллерию от пехоты, ввел школы для артиллерийских офицеров и начал публикацию «Артиллерийского журнала», который должен был поднять авторитет и военный дух артиллерии. Поручик Жиревич, его адъютант, служивший в гвардейском Артиллерийском батальоне, написал в своих воспоминаниях об артиллерии: «все в России знают, что настоящее хорошее положение — работа Аракчеева, и если оно стало таким, то потому, что он положил этому начало»[59]. Значительные перемены были сделаны в армии. В 1808 году Аракчеев был поставлен во главу нового Военного министерства и значительно расширил его деятельность. Также в 1802 году был учрежден комитет для образования Министерства Морских Сил (в 1815 году переименованное в Морское министерство). Однако, немного было сделано для улучшения положения рядовых солдат и ничего не было предпринято для уменьшения жестокости военного суда. В ранние годы правления Александра «безжалостные» и «жестокие» наказания были объявлены вне закона, но это не касалось жесточайших военных наказаний, таких, как прохождение сквозь строй, во время которого многие жертвы умирали.
В 1786 году Екатерина учредила государственные школы в уездах и губерниях, хотя на практике не хватало учителей, финансовой поддержки, учебников, наконец учеников, и трудно было определить, насколько эффективно работала школьная система. В 1803 году Александр создал общеобразовательную структуру, включающую сельские школы и университеты. Страна была разделена на шесть образовательных округов, во главе каждого стоял университет, который нес ответственность и наблюдение за школами на своей территории. Школьная лестница была устроена следующим образом: приходские школы в каждом селе с одним годом обучения; уездные школы с двумя годами обучения; губернские школы (гимназии) с четырьмя годами обучения и университеты в шести больших городах.
Главное влияние на новую образовательную систему оказывали Польша и Франция. Чарторыский написал меморандум об образовании в 1802 году и постановление 1803 года, которое устанавливало структуру школ и учебный план в образовательном округе Вильна (который включал Литву и Белоруссию, где многие дворяне говорили на польском языке, но также часть Украины и русскоязычных губерний — Минской и Могилевской). Эта модель повторяла с некоторыми улучшениями то, что определялось законом для школ Польши 1783 года. Система опиралась на идеи Маркуса де Кондорсе, которые он изложил на Французской национальной ассамблее в 1792 году. Система Кондорсе устанавливала четкую последовательность образования. Особое значение придавалось «технической» направленности обучения в зависимости от уровня учебного заведения: в приходских школах преподавались чтение, письмо и арифметика, религия и мораль, элементы естественной науки, земледелие и гигиена; в уездных школах — религия, право, русский язык, история, география, математика, физика, естествознание, технология, ремесла, рисование и, дополнительно, латинский и немецкий языки для тех учеников, которые поступали в губернские школы; в губернских школах (гимназиях) преподавались математика, физика, технология, естествознание, психология, логика, этика, эстетика, право, политическая экономия, история, география, статистика, латинский, немецкий, французский языки и рисование. Программа была очень строгой, и было довольно сложно пройти ее полностью. В 1811 году С. С. Уваров, наблюдающий в Санкт-Петербургском образовательном округе, говорил, что программу следует упростить и сделать менее «энциклопедичной» и что курс обучения надо увеличить с четырех до семи лет, чтобы сделать обучение более плодотворным.
В принципе, по проекту Кондорсе, школы открывались для обоих полов и всех классов, а детям из бедных семей предоставлялось бесплатное обучение и учебники. Мы знаем, что по крайней мере некоторые девушки получили образование в государственных школах: в 1808 году 20 девушек учились в гимназии Витебска, 13 — в Могилеве, 3 — в Новгороде и 7 — в Пскове. Только во время правления Николая I было официально запрещено обучение девушек в государственных школах, кроме приходских. Крепостные, в принципе, также могли посещать эти школы, хотя на самом деле только некоторые учились в них. В 1819 году были открыты платные школы в Санкт-Петербурге, хотя сироты и дети из бедных семей были освобождены от платы за обучение. Так как росла нужда в квалифицированных кадрах, на высшие учебные заведения было обращено большое внимание. Хотя школы испытывали недостаток в денежных средствах, и это сдерживало развитие их сети, тем не менее к концу правления Александра существовало 3 привилегированных лицея, 57 гимназий, 370 уездных школ, 600 частных школ и 3 главных школы (то есть школ в больших губерниях; это название впервые появилось в указе Екатерины 1786 года). То есть всего было 1411 школ (69 629 учеников), тогда как в 1801 году было всего 317 школ (19 915 учеников).
Новая структура требовала открытия новых университетов (в Санкт-Петербурге, Казани и Харькове) в дополнение к существовавшим университетам Москвы, Вильны и Дерпта. Образовательная реформа, конечно, встретила меньшее сопротивление, чем реформа государственного управления или отмена крепостного права. Их проведение говорит об упорстве Александра. Мы увидим, что он действительно заботился не только о дворянстве; университеты, как и школы, были открыты для всех слоев общества, несмотря на сопротивление губернской знати. Александр был весьма невысокого мнения о собственном чиновничестве. Во время обсуждения в Негласном комитете 22 февраля 1802 года «молодые друзья» настаивали на необходимости назначения хороших генерал-губернаторов; ответ Александра звучал так: «Согласен, но попробуйте их найти». Новые университеты должны были исправить эти недостатки, готовя полезных государственных деятелей. Устав Московского университета 1804 года (уставы университетов Казани и Харькова были практически идентичными) гласил:
…это высшее учебное заведение, основанное для распространения знаний. В нем молодые люди готовятся для выхода в разные отрасли государственной службы… Науки, преподаваемые в университете, являются необходимыми для всех, кто хочет быть полезным самому себе и своему Отечеству независимо от того, какую роль в жизни или какую службу они выберут[60].
Студенты, закончившие 3-летний курс, получали 12-й класс по Табелю о рангах; это соответствовало офицерскому статусу. Такая же утилитарная направленность, которая царила в средней школе, была присуща и университетским программам. Факультет физических и математических наук был открыт в Московском университете в 1804 году, и к 1820 году аналогичные факультеты были в других университетах. Новый устав, который был дан Российской Академии наук в 1803 году, придавал ей особое значение в развитии отечественной промышленности, искусств и ремесел. Академии было приказано издавать новый «Технологический журнал».
Еще Екатерина в 1775 году предприняла попытку наладить систематическую заботу о больных, немощных и сумасшедших. Александр также выражал одобрение разным формам благотворительности, предпочитая ее традиционной русской милостыне. На ход его мыслей оказало влияние знакомство с работой Гамбургского благотворительного общества, которое действовало с 1770 годов. Александр беседовал с Фогтом, купцом в Санкт-Петербурге, одним из руководителей общества. Император распорядился о создании подобных обществ в России и оказал им огромную поддержку. Комитет для наблюдения за бедными, основанный в Санкт-Петербурге в 1805 году, получал ежегодную государственную субсидию в размере 40 000 рублей и подарки от императорской семьи. Медицинский филантропический комитет (также в Санкт-Петербурге) предоставлял бесплатное медицинское обслуживание неимущим и создавал для них госпитали, получая годовую государственную субсидию в 24 000 рублей. Александр продолжал филантропическую деятельность и в поздние годы своего правления.
Ранние годы его правления, как мы видели, отмечены некоторыми замечательными реформами, например, в образовательной системе, в создании министерств. Но надежды некоторых кругов придворной знати и «молодых друзей» Александра на более радикальные перемены в государственном управлении, однако, не оправдались. Также не было предпринято серьезных шагов для отмены крепостного права. В самом деле, некоторые идеи Александра, казалось, просто иссякли. Комиссия, учрежденная для подготовки нового свода законов, остановила свою деятельность (Радищев покончил жизнь самоубийством через год после ее учреждения). Другие подготовленные манифесты (такие, как, например, предложения Зубова по крестьянскому вопросу), были отложены в сторону. Казалось, Александр разуверился в возможности что-либо в корне изменить и прекратил тесное общение со своими «молодыми друзьями». Полные энтузиазма и идеализма дискуссии на ранних встречах в Негласном комитете сменились разногласиями, в которых Александр бывал довольно резким и не следовал ничьим советам. Действительно, Комитет собирался все реже и реже в течение 1802 и 1803 годов. Александр все более увлекался иностранной политикой, и только после Тильзитского договора 1807 года он снова обратил свое внимание на внутренние проблемы.
ГЛАВА 4
РАССТРОЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЖ: 1801–1807
Россия в мире
Ранние годы правления Александра важны для понимания его внешней политики и роли, которую он и Россия должны были сыграть в отношениях с иностранными государствами. В этот период Александр не до конца понимал, как надо строить внешнюю политику и распоряжаться военной силой, чтобы оказывать влияние на союзников или противников, но за довольно неясными общими идеями основные черты его мышления, тем не менее, четко прослеживаются. Его поздняя политика (например, создание Священного союза в 1815 году и роль, которую сыграл Александр в его системе), когда Россия занимала главное положение в Европе, уходит своим началом в 1801–1807 годы, когда Россия была на вторых ролях в решении европейских вопросов.
Правда, уже в XVIII веке Россия сравнялась с великими державами Европы. В итоге впечатляющих военных побед она расширила свою территорию. На севере победа Петра I над Швецией дала ей, согласно Ништадтскому договору 1721 года, Прибалтику; была приобретена часть Финляндии, которая отошла от Швеции в 1743 году во время правления Елизаветы. На юге правление Екатерины II внесло ясность в русско-оттоманские отношения, когда две турецкие войны (1768–74 и 1788–92 годов) показали русское военное превосходство, сохранившееся до падения обеих империй в двадцатом столетии. Во время правления Екатерины Россия приобрела северное побережье Черного моря, Крым и землю между Днестром и Южным Бугом. Русские корабли стали плавать не только в Черном море, но и через Босфорский пролив, русские даже получили разрешение построить православную церковь в Константинополе. Перевес сил в сторону России был осознан всеми европейскими державами; первый раздел Польши в 1772 году был попыткой отвлечь интересы России от Балкан, и демонстрация возможного нападения Британии на российский флот в 1791 году фактически демонстрировала страх перед усилением России. Но самым важным результатом внешней политики Екатерины стали разделы Польши (1772, 1793, 1795 годы) между Австрией, Пруссией и Россией, итогом которых было появление общих границ между этими государствами. Россия приобрела громаднейшую территорию, включившую большую часть того, что было великим княжеством Литовским, Курляндией и Западной Валахией, подвела свои границы на западе к самому сердцу Европы. К 1801 году военные успехи России доказали ее право числить себя великой европейской державой, соответственно этому с ней стали считаться и на дипломатической арене. Карамзин в записках о том, что он называл позорной капитуляцией России в Тильзите в 1807 году, с гордостью писал о достижениях России в восемнадцатом веке:
Под управлением Екатерины Россия с честью заняла одно из самых значительных мест в государственной системе Европы. В войне мы победили наших врагов. Петр поразил Европу своими победами — Екатерина заставила Европу привыкнуть к ним[61].
Несмотря на видимую непоследовательность внешней политики Павла, не было причин думать, что Россия под управлением Александра не сможет сыграть решающей роли в европейской политике.
Перед восшествием на трон Александр не имел четких принципов своей будущей внешней политики и не думал серьезно о роли России в европейских делах. Главным образом он был сосредоточен на внутренних проблемах. Будучи хорошо обучен европейским языкам, он, тем не менее, никогда не путешествовал за границу, а знания о других странах приобрел в результате обучения и дружбы с такими завзятыми путешественниками, как Чарторыский, Новосильцев, Строганов. Поэтому, наверно, не удивительно, что ранние суждения об иностранных делах были у Александра довольно наивными и идеалистическими: его первым скромным желанием было установление мира, и не только в России, а во всем мире. Незадолго до своего восшествия на трон Александр писал о желании не только «установить мир на Севере», но также установить «прочный мир во всем мире»[62].
Он сказал новому французскому послу в России, генералу Г. Дюроку, смутив его наивным обращением «citoyen» (гражданин (фр.). — Ред.), которое больше не использовалось в наполеоновской Франции: «Я ничего не хочу для самого себя, я только хочу установить мир во всей Европе»[63]. Такие заявления могли быть восприняты как идеалистические мечты неопытного политика, но во все время своего правления Александр постоянно заявлял, что он искал мира для всей Европы, а не только для России. Более полное выражение его принципы нашли в инструкции барону Крюденеру, его послу в Берлине (мужу Юлии Крюденер, которая впоследствии была компаньонкой Александра в Париже) 17 июля 1801 года:
… [мои министры] не должны упускать из виду тот факт, что их государь никогда не хотел навредить своей силой, что он уважает права правительств и независимость наций… и что его заветным желанием является установление мира настолько прочного, насколько это возможно… Я никогда не приму участия во внутренних разногласиях, которые могут побеспокоить другие государства… Я думаю, что настоящее величие, которое может быть завоевано с помощью трона, основано на правосудии и доброй воле…[64]
К несчастью, в 1801 году Александр не занимал такой прочной позиции, чтобы распоряжаться внутри Европы, устанавливая мир и счастье всего человечества. Его первые дипломатические действия должны были исправлять тяжелое наследство, оставленное отцом. Грозный британский флот подходил к Балтике, чтобы противостоять павловской политике вооруженного нейтралитета, в то время как 20 000 казаков подходили к негостеприимным просторам Средней Азии на пути к завоеванию Индии. Первые шаги Александра заключались в срочной остановке этой экспедиции и в достижении взаимопонимания с Британией. Британские корабли и экипажи, находившиеся в плену в русских портах, были немедленно отпущены. Компромисс в соглашении между двумя странами был достигнут в июне 1801 года: Британия признала права нейтральных кораблей входить в блокированные порты, а Россия признала право британского флота инспектировать грузовые корабли, даже идущие под нейтральным флагом. Соглашение было достигнуто еще легче, когда Александр из деликатности аннулировал спорный вопрос о Мальте, которая была завоевана Британией в сентябре 1798 года. (Александр отказался от титула Великого магистра мальтийских рыцарей, унаследованного у отца, но в то же время формально остался покровителем ордена).
Торговля между двумя странами, что было важно для обеих сторон, восстановилась. Россия экспортировала в Британию корабельный лес, железо, медь, сельскохозяйственные продукты и импортировала мануфактуру, текстиль, чай, кофе. Торговые отношения были восстановлены в мае 1801 года, когда Александр отменил запрет Павла на импорт многих товаров из Британии, включая фарфор, стекло, продукты земледелия, стальные инструменты, металлические изделия, шелк, хлопок и парусину. «Молодые друзья» Александра находились под обаянием теории Адама Смита и были против меркантилизма. Кочубей выдвинул несколько предложений в 1803 году, поддержанных Александром и направленных на повышение численности населения и роста заводов в российских владениях. Граф Николай Петрович Румянцев, министр коммерции, который также пребывал под впечатлением идей Смита, твердо верил в свободную торговлю. Александр, который, казалось, никогда серьезно не занимался экономическими проблемами, разделял взгляды своих советников по этому вопросу и выражал неодобрение по поводу официальных коммерческих договоров с другими нациями в тех случаях, когда одна страна подвергалась эксплуатации. В своем указе о тарифах в России в 1801 году он заявил, что хочет «добиться коммерческой свободы и улучшить денежное обращение». На самом же деле некоторые ограничения были сохранены, чтобы защитить русскую промышленность, так как Александр также был согласен повысить уровень русской торговли. Он заявил, что у него было «абсолютное и естественное желание повысить уровень русской торговли любыми возможными способами»[65]. В период с 1801 по 1810 год было подписано очень мало официальных коммерческих договоров с другими нациями.
Добиваясь соглашения с Британией, Александр уверял генерала Дюрока в своих дружеских чувствах по отношению к Франции:
Я всегда хотел, чтобы Франция и Россия были друзьями; они являются великими и могущественными нациями …которые должны достигнуть согласия и остановить все маленькие разногласия на континенте [66].
Ранние годы правления Александра были ознаменованы возобновлением дружеских отношений с Францией, 8 октября 1801 года был подписан мирный договор и тайное соглашение. Согласие было достигнуто в вопросе территориальных притязаний германских князей, которые потеряли землю на левом берегу Рейна, о компенсациях королю Сардинии и правителям Баварии, Бадена и Вюртемберга. Александр укрепил свое право вмешиваться в дела Германии по условию Тешенского договора 1779 года, который сделал Екатерину посредником в прекращении войны за Баварское наследство. Независимость Ионических островов была признана, и Франция пообещала убрать свои войска из Египта и из порта Неаполя.
Александр поставил целью вывести Россию из запутанных отношений с Британией и Францией, а также установить мир в своем государстве, если не во всей Европе. Однако это не полностью удовлетворило его. Его не устраивало отношение к нему французского правительства, которое в результате военных побед 1795–1801 годов приобрело сильную позицию и не видело причин осторожничать с Россией. Наполеон заключил два удобных для себя мирных договора с Австрией и Британией; после заключения мира в Люневиле 9 февраля 1801 года Австрия признала присоединение к Франции Бельгии и левого берега Рейна, а также ее контроль над Итальянским полуостровом; затем после Амьенского договора 27 марта 1802 года Британия вернула большую часть своих заморских владений, завоеванных Францией, но отказалась от Мальты. Кочубей говорил графу Александру Воронцову 3 ноября 1801 года, что Александр «был доволен, подписав мир с Францией, но тон Первого консула и Талейрана не понравился ему»[67], и что он отзывался о них как о «жуликах». В своем обращении к делегации российского Сената в 1803 году Александр показал, что полностью осознает величие своего положения, уверен в своей позиции за границей и чувствительно относится к любому пренебрежению им. Он твердо противостоял попыткам британского правительства помешать его действиям в отношении Франции, отстаивая независимую политику России. Вот что писал Александр графу Семену Романовичу Воронцову, своему послу в Лондоне, в ноябре 1801 года:
Я приложил особые усилия, чтобы следовать национальной системе, которая была основана для пользы всего государства, а не из-за склонности к той или иной державе, как это часто случалось. Если я решу, что это полезно для России, я буду в хороших отношениях с Францией, та же цель побуждает меня налаживать дружбу с Великобританией[68].
Сначала иностранные дела Александр отдал в руки Никиты Петровича Панина, племянника Никиты Ивановича Панина, служившего министром иностранных дел Екатерины II с 1763 по 1781 год. Панин враждебно относился к Франции и к революционному умонастроению, которое он объяснял «предательскими наставлениями Лагарпа»[69]. Он был уверен, что истинные интересы России требуют присоединения к антифранцузской коалиции и активного участия в ней, поэтому одобрял возобновление дружеских отношений с Британией, но был против примирительной политики Александра относительно Франции. Александр не только не соглашался со своим министром, он возмущался независимостью Панина и отказывался принимать его идеи. Впрочем, никогда не мог найти общий язык с бывшими заговорщиками, посадившими его на трон, хотя Панин и не присутствовал при убийстве Павла.
К концу 1801 года Александр ушел из-под влияния заговорщиков, и в октябре 1801 года Панина сняли с должности министра иностранных дел, отдав ее Кочубею, другу Александра, который не только полностью разделял его желание восстановить мир, но и не собирался противоречить внешней политике своего царя. Кочубей хотел отдалить Россию от европейских дел, чтобы можно было обратиться к внутренним реформам. В июле 1801 года он выразил свои взгляды в меморандуме словами «Мир и внутреннее реформирование — вот слова, которые должны быть написаны золотыми буквами в кабинетах наших государственных деятелей»[70]. Чарторыский охарактеризовал «систему» Кочубея так:
…держать Россию подальше от европейских дел и поддерживать хорошие отношения со всеми иностранными державами, чтобы посвятить все время и все усилия на выполнение внутренних реформ. Именно в этом заключается желание императора и его близких советников…[71].
Кочубей призывал к практически полной изоляции России от Европы, исключая торговые отношения между странами. Его взгляды обсуждались в Негласном комитете в начале 1802 года и были полностью одобрены всеми его участниками. Казалось, Александр достиг полного согласия со своими советниками; он заявил на одном таком собрании, что Россия не нуждается ни в каких союзах с кем бы то ни было. В апреле 1802 года он повторил это утверждение, но выразил мысль, что союзы могут способствовать России во влиянии на Европу для всеобщей пользы[72]. Это показывало, что в своем подходе он был более гибок, чем Кочубей, но также и то, что он не сомневался в возможности России самостоятельно влиять на события. Как бы там ни было, в то время он отказался от предложения союза с Британией, и, похоже, идеи Кочубея были приняты. Британский посол сэр Джон Уоррен писал в октябре 1802 года:
Мне очень неприятно говорить, что из-за того, что было решено на этой встрече (с графом Александром Воронцовым), я заключаю, что данная система разработана этим советом для разрыва всех европейских связей и полного их ограничения в настоящее время для обращения к своим внутренним проблемам[73].
Несмотря на то, что царь поддержал предложение Кочубея и действительно решил в то время разобраться с внутренними реформами, он никогда не терял интереса к европейским делам. Действительно, в самом начале своего правления он определил, что Россия будет поддерживать отношения со всеми европейскими странами, включая и те, которые не представляли для нее явного стратегического интереса. Особое участие Александр проявил в судьбе Швейцарии, потому что она была родиной его бывшего учителя Лагарпа. В начале 1802 года он написал Наполеону, поддерживая независимость Швейцарии (впоследствии Россия сыграла главную роль в составлении швейцарской конституции). В то же время он выказал заинтересованность в судьбе короля Сардинии, заставив Наполеона в резкой форме ответить, что это не должно касаться царя в большей степени, чем дела Персии касаются Наполеона. Александр с самого начала показал, что собирается действовать независимо и преследовать собственные интересы во внешнеполитических делах, а не быть пешкой своего министра иностранных дел. Например, он провел встречу с Фридрихом-Вильгельмом III, королем Пруссии, в июне 1802 года, не ставя даже в известность Кочубея. «Представьте себе министра иностранных дел, который понятия не имеет об этом решении»[74], — писал Кочубей, который не одобрял всю эту затею. На той встрече была заложена основа будущих близких отношений двух монархов, не последнюю роль в этом сыграло слепое увлечение Александра молодой женой Фридриха-Вильгельма Луизой — «forme angelique» и «l’apparition celeste»[75] (Александру было двадцать пять лет, а Луиза была на год старше его). Александр даже заявил, что идея Священного союза 1815 года возникла после «первого объятия» двух монархов при встрече. В середине 1802 года Кочубей выражал недовольство, что Александр не желает выслушивать или консультировать его («Мне все еще приходится говорить: „Так того хочет император“, и на вопрос „Почему?“ я вынужден отвечать: „Я ничего не знаю об этом; такова царская воля“»)[76].
Кочубей был отстранен от должности в сентябре 1802 года главным образом потому, что Александр к тому времени стал принимать большее участие в европейских делах, чем того желал министр; его сменил граф Александр Воронцов. К 1804 году он оформил участие России в новой коалиции, направленной против Наполеона, но вообще-то граф не очень хорошо разбирался во внешней политике, к тому же слабое здоровье мешало ему действовать эффективно. К 1803 году иностранные дела фактически оказались в руках Чарторыского, помощника Воронцова. Стремление Чарторыского активизировать роль России в европейских делах в общем совпадало с желаниями Александра, к тому же Чарторыский подавал свои идеи с большим изяществом и в аккуратной логической упаковке, что убеждало императора в их абсолютной правильности. Гораздо позже (разочаровавшись в политике Александра по отношению к Польше) Чарторыский почти с тоскою писал в своих воспоминаниях:
Я хотел бы, чтобы Александр стал кем-то вроде арбитра для поддержания мира во всем цивилизованном обществе, защитником слабых и угнетенных, чтобы с его правления началась новая эра справедливости и порядка в Европе.
В 1803 году Чарторыский разработал план для будущего российской дипломатии, «О политической системе, которой должна следовать Россия» (идея, позже развитая в его «Essai sur la diplomatic», написанном в 1820 годах и анонимно опубликованном в 1830 году).
Собственные комментарии Чарторыского к его же «системе» прозрачно намекают на интеллектуальную ограниченность царя:
…это было то, что очень обрадовало Александра и улучшило его настроение. План предоставлял полную свободу для воображения и для всех случаев, не требуя немедленного решения или действия[77].
Чарторыский был уверен, что все страны нуждались в «свободной конституции на прочной основе», хотя, как и царь, он думал, что форма правления должна полностью соответствовать нуждам страны и уровню ее развития. Он хотел, чтобы конституционная перемена проходила постепенно и осторожно, выполняя свое назначение — создание устойчивого правления. Как и Александр, он видел Европу, живущую в вечном мире. Чарторыский взывал к царскому идеализму и был уверен в роли России как хранителя счастья всей Европы и международного арбитра: «с правления Александра начнется новая эра в европейских отношениях… для пользы всего человечества»[78]. Хотя в общем Чарторыский одобрял самоопределение наций, он также верил и в то, что мир и безопасность будут гарантированы малым нациям на Апеннинском полуострове, в Германии и на Балканах, образованием федераций под покровительством России или Британии.
Проект Чарторыского был написан в то время, когда Александр свободно говорил в Негласном комитете о конституциях. Хотя в самой России ничего не было сделано, к тому времени Александр успел проявить интерес к конституционному управлению в других местах. Ионические острова все еще были оккупированы Россией, и в 1803 году для них была составлена конституция, главным образом Иоаннисом Каподистрией, бывшим в то время государственным секретарем этих островов. Конституция предусматривала законодательный орган, состоящий из верхней и нижней палат, которые должны были собираться каждые два года. Чарторыский в то время только выражал мысли, совпадающие с идеями Александра (хотя на самом деле, по словам Чарторыского, царь принимал его идеи с энтузиазмом, но «не собирался более глубоко вникать в них»). Конечно, лейтмотивом у Чарторыского была идея возрождения Польши под защитой царя. В своем меморандуме он писал, что возрождение Польши было «в интересах всеобщего мира и благосостояния» и что надо восстановить ее единство. Он предполагал, что Константин, брат Александра, станет царем восстановленной Польши или что она вообще будет присоединена к России. Русским придворным казалось, что Чарторыский отдает предпочтение интересам Польши перед интересами России. Но истина заключалась в том, что в этот период ни страны, оказавшиеся жертвами Наполеона, ни державы, которые противостояли ему, не желали вмешательства России в организацию новой Европы, а лишь считались с ней из-за ее армий (субсидированных Британией). Роль, которую Чарторыский и Александр хотели отвести России, надеясь сделать ее гарантом мира, арбитром и защитницей малых государств, была далека от тех чисто прагматических надежд, которые возлагались на Россию и ее армии многими европейскими государственными деятелями.
От мира к войне
Враждебные отношения возникли между Британией и Францией в мае 1803 года. Александра, так же как и англичан, беспокоила агрессия Наполеона на Итальянском полуострове и возрастающая угроза со стороны Франции в восточной части Средиземного моря. Черноморская торговля зерном в начале XIX века уже имела огромную важность для России, и присутствие Франции на Адриатическом побережье воспринималось ею как угроза Балканам и, следовательно, Ионическим островам (численность русских войск здесь к 1804 году возросла до 11 000 человек). Возникло даже опасение за Оттоманскую империю, которая могла пасть под ударами Франции. В это время Россия продолжала продвигаться на Кавказ и поэтому была жизненно заинтересована в будущем всего Черного моря и Оттоманской империи. Грузия большей своей частью была присоединена в 1801 году; в декабре 1803 года в состав России вошла Менгрелия, а в 1804 году — Имеретия.
Летом 1803 года Александр предпринял попытку выступить арбитром между Францией и Британией и был оскорблен, когда Наполеон, уверенный в своем военном превосходстве, бесцеремонно отверг его предложение отказаться от диктата Франции в Германии, Швейцарии, Голландии и на Итальянском полуострове. Натянутость франко-российских отношений усилилась после того, как русскому послу во Франции А. Моркову, назначенному на эту должность в конце 1803 года, было предъявлено обвинение в антифранцузских интригах, и особенно после вынесения смертного приговора и незамедлительной казни герцога Энгиенского из нейтрального Бадена (родины жены Александра). Российский император заявил официальный протест в связи с казнью герцога Энгиенского и объявил траур. Наполеон оскорбился. В заявлении, опубликованном в официальном журнале «Moniteur», спрашивалось, не схватила ли Россия английских интриганов, участвовавших в убийстве Павла, и прямо намекалось, что Александр обязан им своим утверждением на русском престоле. В мае 1804 года Наполеон принял титул императора, но царь не только отказался признать этот новый титул, но и убедил турецкого султана поступить так же, таким образом подрывая престиж Франции на Балканах. Александр все еще настаивал на том, что Франция должна отказаться от Неаполя и северной Германии и предоставить компенсацию королю Сардинии. Чарторыский поддержал антифранцузскую коалицию, заявив, что «жадность и отвратительные цели этого правителя делают любые связи с ним невозможными». Он убедил Александра вступить в союз с Англией, указывая на французскую угрозу Балканам и разжигая тщеславие царя напоминаниями о мессианской роли России в иностранных делах:
Для ее (России) достоинства и ее собственных интересов не стоит пренебрегать случаем, который делает возможным восстановить потерянное равновесие в Европе и отстоять его, показывая другим государствам, что независимость без их непосредственного вмешательства будет непрочной [79].
Угроза, которую Франция представляла балансу сил в Европе в общем и безопасности Средиземного моря в особенности, заставила Россию вступить в Третью коалицию. Но предложения, сделанные Россией в 1804 году при заключении союза с Британией, также показывают, что Александр никогда не смотрел на иностранные дела с чисто прагматической точки зрения. Он высказал предложение, чтобы Европа объединилась в союз свободных и конституционных государств, основанных на «священных правах человечества… имеющих основой дух свободы и благожелательности», который будет жить в мире под добрым покровительством России и Британии. Король Сардинии тоже должен быть приглашен, «чтобы дать своему народу свободу и мудрое управление», а нейтралитет Швейцарии следует обеспечить учреждением правительства, «способного отвечать потребностям и желаниям народа». Региональные федерации должны были быть основаны в Германии и Италии. Британия и Россия определят разделение Оттоманской империи, если падет турецкое правление. Это установит мир в Европе «на прочной и постоянной основе»[80], а также заново нарисует политическую карту Европы, не менее завершенную, чем карта Наполеона. Александр также предложил ввести кодекс прав человека и международных законов и организовать всеобщую безопасность. Содружество России и Британии в этой попечительской структуре было очень подходящим, потому что, как говорят исторические факты, «две эти державы образуют прочный союз и способны предотвратить любые неприятности в будущем, потому что уже много лет между ними не было соперничества и конфликтов»[81].
Вдохновение, вызванное этим документом, передалось Чарторыскому (в документе просматривались очевидные совпадения с идеями, выраженными в его собственном меморандуме 1803 года), Жозефу де Местру (послу Сардинии в России) и Сципионе Пиаттоли (итальянскому священнику, автору двух меморандумов о реорганизации Европы и учителю Чарторыского). Александр не видел никакого противоречия в предложении этих решений для всей Европы, тогда как дома он совсем недавно отложил «Права народов России», отменил предписание о представлении арестованного в суд для рассмотрения законности ареста и замолчал о введении конституции в России. Во всяком случае, предложения позволили рассмотреть альтернативу наполеоновскому господству, основанную на новой системе международной законности и всеобщей безопасности, хотя на практике это вело к англо-русскому господству взамен французского. Александр в то время полностью верил, что великие державы способны понимать нужды всех народов и быть защитниками маленьких государств.
В конечном счете Вильям Питт сумел найти возможность отклонить наиболее претенциозные моменты этого проекта (в частности, установление нового морского закона) и выдвинуть встречные предложения, оставляя решения о Германии и Италии неясными, а вопрос о Мальте открытым (Британия не оставила остров, несмотря на Амьенский договор 1802 года). Хотя и не во всем, но все-таки видно сходство этих предложений Александра с его более поздними предложениями для Священного союза. Однако к 1804 году еще не появились основания для того, чтобы серьезно рассматривать их. Россия не была главным участником коалиции и нуждалась в британских субсидиях, в то время как Британии нужна была только русская армия. В прошлых кампаниях против Франции Россия сыграла не самую главную роль, и Александр ничем не доказал своей способности улучшить жизнь какого бы то ни было народа или страны, поэтому Британия не видела необходимости потворствовать его прихотям. В сущности, англо-русские переговоры вели только к началу новой кампании против сильнейшей военной державы на всем континенте, не определяя, как это произошло в 1815 году, будущей формы Европы в случае полной победы. В ноябре 1804 года Россия и Австрия достигли соглашения о поставке войск для войны в Италии, хотя не было заключено никаких точных договоров. В январе 1805 года Швеция стала союзником России. В мае Наполеон создал Итальянское королевство (из бывшей Цизальпинской республики) и в июне присоединил Геную (Лигурийскую республику). Это подтолкнуло Британию и Россию заключить официальный союз 28 июля, к которому в августе присоединилась Австрия. Пруссия и большая часть небольших германских государств остались нейтральными, в то время как Баден, Бавария и Вюртемберг примкнули к Франции.
Чарторыский соглашался с предложениями 1804 года, хотя он прежде всего заботился о восстановлении объединенной Польши и надеялся, что такая возможность появится в ходе кампании. В 1804 и 1805 годах ему было поручено склонить Пруссию к вступлению в коалицию, но его попыткам мешала его собственная враждебность по отношению к Пруссии, главному препятствию на пути возрождения Польши. Пруссия никогда добровольно не отдала бы территорию, которой она владела со времени разделов. Чарторыский хотел даже силой заставить Пруссию вступить в коалицию, объявив ей войну, что Англия и Австрия могли бы приветствовать. Еще он предложил Александру надавить на Пруссию, провозгласив себя в Варшаве освободителем поляков, чтобы Фридрих-Вильгельм III, убоявшись реакции его собственных польских подданных, быстрее нашел общий язык с Россией. Главной надеждой Чарторыского, конечно, был энтузиазм самих поляков, который должен побудить Александра к провозглашению себя королем вновь восстановленной Польши. Но с какого-то момента Чарторыский понял, что, несмотря на искреннюю любовь к Польше, царь всегда будет ставить свои главные дипломатические интересы выше всяких чувств к этой стране и дружбы с ним самим.
Практические соображения царя преобладали и в политике на Балканах, где мало было достигнуто, говоря о попытках дать свободу и хорошее правительство маленьким народам. Собственно, дальше демонстративного выражения симпатии к освободительным стремлениям балканских народов дело не пошло. В декабре 1803 года русский посол в Турции А. Я. Италинский потребовал, чтобы Порта предоставила грекам большую автономию; но оказать им какую бы то ни было практическую помощь Александр отказался, говоря, что это может привести к стремительному упадку Оттоманской империи, и показывая тем самым ценность соседства сильной Порты. В следующем году подняли восстание сербы и попросили у России поддержки, и снова Александр лишь заставил Турцию более строго контролировать ее администрацию в Сербии, но восставшим не оказал никакой помощи. В начале 1805 года он послал письмо, заверяя черногорцев в своей благосклонности к ним. В дополнение к этому некоторые денежные суммы они получили от русского представителя в Черногории С. А. Занковского. Александр согласился с образованием греко-албанских отрядов, которые приняли участие в неудачном походе в Неаполь в конце 1805 года. В 1806 году Чарторыский представил план утверждения автономии Сербии, нового государства Черногории и расширения территории Ионических островов, включая часть албанского побережья.
Хотя Британия одержала знаменитую морскую победу при Трафальгаре в октябре 1805 года, кампания на европейском континенте завершилась полным триумфом Наполеона. Он заставил 40-тысячную армию под командованием генерала Мака капитулировать при Ульме 19 октября 1805 года, в то время как идущая на соединение с ней русская армия под командованием генерала Кутузова была все еще за 270 километров. Перед тем как новость об этом дошла до Александра, он уже оставил идею провозглашения себя королем Польши и вообще ее восстановления, а вместо этого подписал соглашение с Фридрихом-Вильгельмом. Король согласился, что Пруссия присоединится к коалиции, если она заставит Наполеона отказаться от своих завоеваний в Голландии, Швейцарии и Неаполе, а Александр пообещал сделать все, что в его силах, чтобы отдать Ганновер Пруссии. Во время переговоров русская армия в 30 000 человек под командованием генерала Беннигсена потерпела поражение на границе между Россией и прусской Польшей. Фридрих-Вильгельм наконец согласился пропустить отряды через Пруссию, хотя, по словам Беннигсена, продвижение войск по намеченному маршруту было задержано, поэтому он не имел возможности вовремя соединиться с главными силами русской и австрийской армий для участия в предстоящей битве при Аустерлице. Александр, вопреки совету Чарторыского, сам возглавил русскую армию — первый русский правитель, который сделал это после Петра I. Русские и австрийцы были разбиты Наполеоном в битве при Аустерлице 2 декабря 1805 года. Вместе со всей своей артиллерией союзники потеряли от 25 000 до 30 000 человек убитыми, ранеными или плененными из всего войска, насчитывавшего около 60 000 человек. Потери французов 8000–9000 человек[82].
Поражение в этой битве было особенно позорным для Александра, потому что он сам участвовал в ней. Он не только возглавил руководство войсками, но и игнорировал совет своего опытного главнокомандующего Кутузова, который хотел задержать битву до прибытия подкрепления. Александр фактически доверил командование генералу Ф. фон Вейротеру, генерал-квартирмейстеру императора Франца II Австрийского. Когда Кутузов попросил посмотреть план развертывания армии, Александр резко ответил: «Это Вас не касается». Неопытность и упрямство Александра позволили Наполеону стать хозяином положения. Он искусно выиграл время, дождавшись своих подкреплений и усыпив противников, обратившись к Александру с предложением короткого перемирия. Предложение, конечно, не было серьезным, но Александр на всякий случай подчеркнул невозможность перемирия, отправив к французам высокомерного князя Петра Петровича Долгорукова, который, по словам Наполеона, был «нахальным молодым щенком… который говорил со мной, как с боярином, которого он хотел бы выслать в Сибирь»[83]. В итоге, вместо того, чтобы сыграть роль героического командующего в битве, как он надеялся, Александр чуть не оказался во французском плену во время беспорядочного и поспешного отступления. Ночь 2 декабря он провел не на триумфальной колеснице, а на полу крестьянской избы, страдая от жестоких болей в животе.
Последствия Аустерлица сказались быстро и решительно. Русские отряды из Италии были отозваны. Австрия вышла из коалиции, подписав Пресбургский мир 26 декабря 1805 года, согласно которому она лишалась своих владений в Италии и Далмации, Тироля и нескольких городов Германии, при этом признав независимость Баварии и Вюртемберга. В течение месяца Священная Римская империя уже официально прекратила свое существование. Пруссия, боясь стать сателлитом Франции и возмущаясь слухами, что Наполеон собирается уступить Ганновер Георгу III как плату за мир, теперь быстро согласилось на союзничество. 14 октября 1806 года прусская армия была разгромлена в двух битвах, у Йены и Ауэрштедта (до того, как смогли подоспеть русские подкрепления). Военной славе Пруссии, непобедимой со времени Фридриха Великого, пришел конец; то, что считалось сильнейшей европейской армией, было уничтожено. Теперь русская армия в одиночестве стояла лицом к лицу с Наполеоном.
Самоуверенность Александра рухнула под тяжестью поражением при Аустерлице. Жозеф де Местр писал:
…Император считает, что не нужен своим подданным, потому что не может быть командующим армией, и это очень позорно для него… Сам он перенес большее поражение, чем вся его армия при Аустерлице[84].
Царь, тем не менее, попытался вести двойную игру, договариваясь о мире с Францией и все еще надеясь на успех России. Его посол в Париже подписал предварительный договор с Францией летом 1806 года, который был отклонен Александром. Русские войска осенью были отправлены в Восточную Пруссию, но Наполеон занял и прусскую Польшу, отбив Варшаву и Торунь у слабых прусских сил, и заставил русские войска отступить. Последовал ряд стычек, и русские одержали небольшую победу у Пултуска в конце декабря. 8 февраля 1807 года Наполеон (по его определению. — Ред.) одержал важную победу над русскими при Эйлау (обе стороны потеряли примерно 20 000 человек убитыми, ранеными или взятыми в плен). Мороз во время битвы доходил до 26 °C; говорили, что скальпели и пилы выпадали из пальцев военных врачей. В апреле Александр и Фридрих-Вильгельм (который сбежал в Восточную Пруссию) подписали договор в Бартенштайне, который подтверждал прусско-русский союз и объявлял целью восстановление Пруссии. Решительная битва состоялась при Фридланде 14 июня 1807 года, и серьезное поражение убедило Александра в необходимости найти общий язык с Наполеоном.
Это тем более диктовалось тем, что Россия вела тогда войну на двух фронтах. Оттоманская империя в августе 1805 года свергла правителей придунайских княжеств Молдавии и Валахии и закрыла проходы для русских военных кораблей, выражая полное пренебрежение договорами, заключенными во времена Екатерины II в Кючук-Кайнарджи в 1774 году и Яссах в 1792 году. Россия ответила вторжением в княжества в ноябре 1806 года, официально чтобы защитить их, но на самом деле в ответ на оттоманское вмешательство. В исходе битвы при Йене турки увидели свой шанс нанести поражение России и объявили войну 16 декабря 1806 года. Русские войска находились в Европе, поэтому только небольшая часть их могла противостоять Турции. В июле 1807 года Россия одержала победу, хотя и не решающую, на море, но вести о ней дошли только после заключения Тильзитского мира.
Встреча в Тильзите
Ряд генералов и Константин, брат Александра, убеждали его, что русские военные силы не в состоянии вести войну с Францией. Александр с горечью осознал необходимость переговоров с Наполеоном, увидев, что союзники оставили его. Россия оказалась лицом к лицу с Францией, а британские субсидии иссякли. Но и у Наполеона не было никакого желания продолжать длительную и потенциально дорогую кампанию в России против армии, хоть и битой, но далеко не полностью разбитой. Его главным желанием в это время было достижение соглашения с Россией, что позволило бы ему обратить все свое внимание на политическую организацию Центральной Европы и на изоляцию Британии, традиционно главного врага Франции. Чтобы добиться этого, он был готов льстить царю и подогревать интересы России возможностью разделить с нею Европу на две сферы влияния. Это стремление Наполеона помогло Александру выбраться из сложной ситуации без особых потерь и убедить себя в том, что он действует на пользу всей Европы. Ответ Александра на осторожное предложение Наполеоном такого союза представлял собой смесь напускной храбрости, идеализма, тщеславия и явной самоуверенности. Он напутствовал генерала Д. И. Лобанова-Ростовского 24 июня:
Скажите ему, что союз между Францией и Россией всегда был предметом моих желаний, я всегда был уверен, что он обеспечит счастье и спокойствие во всем мире. Новая система должна заменить ту, что существует сейчас, и я тешу себя надеждой, что мы легко достигнем взаимопонимания с императором Наполеоном, при условии, что сможем встретиться без посредников. Возможно, продолжительный мир будет заключен между нами в несколько дней[85].
Не имея возможности отклонить предложение Александра о встрече, Наполеон без энтузиазма предложил встретиться посередине реки, так как найти более нейтральную территорию было невозможно.
Переговоры двух правителей происходили на плоту 25 июня 1807 года посередине Немана под Тильзитом на границе между Польшей и Россией. Наполеон и Александр старались превзойти друг друга в обаянии, любезности, радушии, лести и великой неискренности, в то время как бедный Фридрих-Вильгельм не был допущен к переговорам, на которых, между прочим, решалась судьба его страны (вот что говорил Наполеон: «отвратительный король, отвратительная нация, отвратительная армия»). Встреча началась следующими словами Александра: «Сир, я ненавижу англичан не меньше, чем Вы, и я готов быть вашим союзником в любом предприятии против них», на что Наполеон ответил: «В таком случае между нами все может быть быстро разрешено, и мир будет установлен». У Александра и Наполеона было много общих тем для разговора. С одной стороны, Наполеон оказался в странном положении, отстаивая право наследования трона от либеральных, почти республиканских взглядов царя. Александр явно немного изменился после того, как Чарторыский предпринял неудачную попытку повлиять на его мнение о наследственной монархии в 1790 годах. Далее они заботливо расспросили друг друга о семьях, обменялись шарфами и вышитыми платками. Александр был описан французским историком Вандалем во время этих переговоров так: «Его голова была немного наклонена, милая улыбка играла на губах, он показывал, что ведет себя совершенно свободно, он говорил на французском языке с небольшим русским акцентом, со сладостью в голосе, которая была почти женственной»[86]. Наполеон отвечал с той же обаятельностью, возможно, менее искренней (говоря годом позже о «подходящих фразах, которые он обронил у Тильзита»)[87].
Практический результат этого спектакля заключался в серии договоров, подписанных 7–9 июля 1807 года. Россия потеряла небольшую часть своих территорий; сдала Ионические острова и Каттаро (в Далмации), но взамен получила губернию Белостока в прусской Польше. Она также признала посредничество Франции в войне с Оттоманской империей и согласилась уйти из придунайских княжеств. С другой стороны, Александр пообещал присоединиться к системе Континентальной блокады Британии, если она откажется договориться с Наполеоном. Это значило, что порты России закрывались для британских кораблей и британской торговли, что было существенной частью наполеоновской стратегии изоляции Британии и нанесения вреда ее экономике закрытием для нее всех континентальных портов. Русская морская эскадра в водах Адриатики прекратила существование. Некоторые корабли, из тех, что плавали в Лиссабон, оказались во Франции, другие — проданы австрийцам, но потом их отбили англичане; только два корабля, достигшие Балтики в 1813 году, вернулись домой.
Наполеон представлял Тильзитский мир началом союза между Россией и Францией, но было понятно, что Россия не являлась равноправным партнером. На самом деле Наполеон теперь занимал главенствующее положение на континенте; Пруссия и Австрия были побеждены, а Россия — нейтрализована, что позволяло императору направить все свои силы на войну с Британией. И для этого Наполеону во франко-российских отношениях надо было и впредь удерживать командное положение, а Александру играть второстепенную роль.
Больше всех в результате Тильзитского мира потеряла Пруссия. Александр призывал ее вступить в Третью коалицию, клялся в вечной дружбе на встрече монархов в 1805 году, но после Тильзита он мог только гарантировать, что Фридрих-Вильгельм сохранит свой трон (это было установлено в последнем договоре между Францией и Пруссией, благодаря уступке, сделанной «при рассмотрении желаний Его Величества Императора всея Руси»), хотя и под строгим наблюдением оккупационных французских войск. Приобретения Пруссии в результате разделов Польши были отменены и образовано герцогство Варшавское (фактически подчиненное Франции), и все Рейнские земли были потеряны. В общем, Пруссия потеряла треть своей территории с почти половиной населения.
Александр заявил, что это была лучшая из плохих ситуаций Тильзитского мира. Он попытался доказать своей любимой сестре Екатерине, которая была полностью против договора, что это было даже достижением при данных обстоятельствах и что он не был обманут Наполеоном. Он писал из Тильзита в июне: «Бог спас нас: вместо жертвоприношения мы даже с некоторым блеском вышли из опасной ситуации»[88]. Дома, однако, унижение от военных поражений (особенно при Аустерлице) и договоренность с врагом (Русская православная церковь в 1806 г. объявила Наполеона Антихристом) привели к тому, что мнение об Александре опасно ухудшилось. Графиня Эдлинг писала, что после Тильзита «в салонах Санкт-Петербурга с недовольством, несправедливыми обвинениями и неуместными требованиями говорили о ноше, которая свалилась на Императора…»[89]. Ходили даже разговоры о заговоре против Александра. «Мир очень непопулярен», — писала ирландская путешественница Марта Вилмот в июле 1807 года[90]. Мемуарист Ф. Ф. Вигель описал настроение страны после Тильзита, как он считал, несправедливо отзывающейся о действиях Александра:
В Санкт-Петербурге, даже в Москве, во всех местах России, наиболее образованных, Тильзитский мир произвел наигрустнейшее впечатление: в этих местах люди знали, что союз с Наполеоном не может быть ничем другим, кроме порабощения, признания его полной власти. Я не обладаю великой свободой, по в этом вижу жестокую несправедливость по отношению к России; мне стыдно за нее. Все, что мог сделать человек, не рожденный командующим, было сделано императором Александром…[91].
Реакция различных представителей русской знати указывает на противоречивое отношение к союзу России и Франции, страны, чьих мыслителей и культуру Александр и его образованные подданные уважали. Восхищение страной и ненависть к ее правителю странно совмещались. Екатерина Вилмот так подвела итог противоречивому отношению русских людей к Франции в 1806 году:
…все возмущаются обедом, приготовленным не французской кухней, любые мальчик и девочка, не получившие французского образования, чувствуют себя неловко, любое платье не может считаться элегантным, если оно не парижского покроя и т. д. и т. д. Короче говоря, хотя все это правда и исключительно французские новости перебираются каждым мальчиком и каждой девочкой в Москве, нет такого человека, который не поносил бы Бонапарта и не оплакивал бы лорда Нельсона[92].
На такой беспорядочной основе укреплялся этот союз.
ГЛАВА 5
НЕУВЕРЕННЫЙ ТВОРЕЦ КОНСТИТУЦИИ И СОЮЗНИК: 1807–1812
Сперанский
Тильзитский договор освободил Александра от непосредственной угрозы войны на Западе и дал ему возможность снова вернуться к реформам в своем отечестве. Декларированное им обязательство провести реформу управления подверглось в это время строгой проверке: к 1809 году он не только обладал проектом Российской конституции, но был также на полпути к включению Финляндии, имевшей свою собственную конституцию, в Российскую империю. За границей Александр вернулся к традиционным российским внешнеполитическим целям XVIII века, расширяя границы России на севере и юге за счет Швеции и Оттоманской империи. По ходу дела, тем не менее, стало ясно, что Наполеон не намерен потворствовать России в распространении ее влияния на любую из областей, в которых Франция тоже была заинтересована. Кроме того, Тильзитский договор был непопулярен дома и связывал Россию с Континентальной блокадой, что вредило ее экономическим интересам. К тому же создание из земель прусской Польши герцогства Варшавского, формально независимого, но фактически — сателлита Франции, угрожало западной российской границе. Александр вынужден был оставить, по крайней мере на какое-то время, наиболее грандиозные свои намерения стать вершителем судеб Европы или хотя бы как-то влиять на события к западу от российских границ. Отношения между Россией и Францией ухудшились, и стало понятно, что Тильзит не будет стабильной основой ни для дружбы двух держав, ни для мира в Европе.
Человеком, к которому Александр обратился с планами внутреннюю реформ, был Михаил Михайлович Сперанский, сын деревенского священника, показавший уже свои способности во время работы в Министерстве внутренних дел в первые годы царствования Александра. Он стал государственным секретарем (по сути, премьер-министром) и сопровождал Александра в его встрече с Наполеоном в Эрфурте (подробности ниже) в 1808 году. В период с 1807 до 1811 года Сперанский участвовал в решении множества важных внутренних дел. В конце 1807 года была образована комиссия по реорганизации образования в семинариях, и Сперанский (сам прошедший духовное воспитание) возглавил ее. К лету 1808 года комиссия закончила свою работу, и была принята новая, упрощенная и более рациональная структура духовных школ, согласованная со структурой школ мирских, разработанной в 1803–1804 годах. Учебный курс начальной и средней духовных школ пополнился новыми предметами, включив современные языки и естественные науки; в старших классах семинарий и духовных академий тоже появились новые курсы. Качество преподавания в семинариях зачастую бывало низким. В попытке справиться с этой проблемой было решено, что преподаватели перед их назначением на должность должны проходить проверку на соответствие установленным для них квалификационным стандартам. Восстановление Сперанским церковной монополии на продажу восковых свечей обеспечивало строительство новых школ достаточным капиталом.
Забота Сперанского о повышении качества преподавания отражала его понимание общего низкого уровня подготовки большинства российских служащих. Эту точку зрения, без сомнения, разделял и Александр, язвительно отзывавшийся о российском чиновничестве еще в начале своего правления. Поощрение Сперанского в создании лицея для 50 мальчиков из аристократических семей и интерес, проявленный к учебному курсу школы, показывают неподдельную заботу Александра о качественной подготовке будущих руководителей страны. Он проявил личный интерес к новому лицею, поручив архитектору Василию Стасову построить его в крыле императорского дворца в Царском Селе и потребовав, чтобы его окружали привлекательные парки, участие в создании которых могли бы принимать сами лицеисты. Настоящая проблема, тем не менее, была не в уровне образования элиты, а в обучении широкого круга дворян, которые занимали средние и низшие чиновничьи должности. Сперанский старался повысить уровень квалификационных требования и к исполнению служебных обязанностей. Два указа, вышедшие в 1808 году, были посвящены этим целям, и, что вовсе неудивительно, вызвали враждебную реакцию тех, к кому непосредственно относились. Первый требовал от сановников, носящих придворные титулы, или исполнять соответствующие их званию обязанности, или перейти в другой разряд военной или гражданской службы; второй объявлял, что служащие для получения восьмого класса, дающего наследственное дворянство, обязаны сдать экзамен по нескольким предметам, включая русский язык, математику, латинский и современные иностранные языки. Александр, как можно было заметить, не испытывал к дворянству как сословию особой привязанности или уважения и, следовательно, симпатизировал начинаниям Сперанского. Тем не менее, такой политикой его министр оттолкнул от себя многих влиятельных при дворе сановников и в результате стал очень уязвим. Удержится ли он — с этого времени целиком зависело от расположения царя.
Александр поручил Сперанскому еще две области внутренних реформ, требовавших пристального внимания: составление свода законов и укрепление государственных финансов. Комиссия, образования в 1801 году для подготовки российского законодательства, недалеко в этом продвинулась. Назначение в комиссию Сперанского в 1808 году значительно ускорило процесс и позволило подготовить свод законов к 1812 году. Сперанский использовал Гражданский кодекс Наполеона 1804 года в качестве фундамента российского кодекса (что отнюдь не способствовало его примирению с врагами). В результате часть работы получилась несколько поспешной, законы в ней были зачастую искусственно подогнаны к соответствующим параграфам французского кодекса, без оглядки на юридическую историю или традиции, — но на Сперанского давила необходимость сделать нечто, доступное пониманию Александра, и притом быстро. Кодекс был принят Непременным советом, но никогда так и не воплотился в жизнь.
Попытка Сперанского восстановить твердое положение российских финансов (в государстве, пережившем военную кампанию, и вдобавок ослабленном Континентальной блокадой) была более успешной. Правительственным средством для того, чтобы справиться с непомерно возросшими расходами во время войны Третьей коалиции, было одно — печатать все больше и больше бумажных денег, или ассигнаций, что в итоге означало их обесценивание. В 1810 году Сперанский подготовил указ, обещающий выкупить ассигнации и прекратить их дальнейший выпуск (на деле последствия кампании 1812 года это обещание благополучно похоронили, а выпуск ассигнаций значительно вырос). Управление финансами со стороны Министерства было улучшено, положительно сказалось введение ежегодного бюджета. Количество доходных статей увеличилось за счет продажи государственных земель и расширения области налогов, включая временный налог на дворянство, что вызвало новый взрыв негодования. Большинство дворян, как истинные патриоты, были готовы оказать финансовую поддержку военным силам, но противились формальной обязанности, частично оттого, что эта инициатива исходила от сына священника.
Хотя и эти реформы были важны, основное значение имели для Сперанского гораздо более амбициозные планы переделки всего внутреннего устройства России. Они были изложены в проекте, представленном Александру в 1809 году, и держались в секрете от всех, кроме нескольких доверенных советчиков. Сперанский рассматривал преобразование российского центрального и местного управления и предлагал формальное разделение функций между исполнительной (возглавляемой министрами), судебной (для которой высшей инстанцией должен был стать Сенат) и законодательной (Государственная Дума) властями; вся структура возглавлялась царем и Государственным Советом. На местном уровне владельцы собственности во всех волостях каждые три года должны были избирать волостную думу, из нее депутаты делегировались в уездную думу, из которой, наконец, выбирались депутаты в губернскую думу. Эти думы должны были избираться один раз в три года и не имели права издавать законы. Государственная Дума формировалась ежегодно представителями, отобранными царем из списка, представленного губернскими думами.
В общеизвестной биографии Сперанского историк Марк Раефф представляет его как осторожного, консервативного реформатора, который хотел основать упорядоченное, действенное правительство, чуткое к букве закона, но не был готов дать реальную законодательную власть Государственной Думе и был весьма консервативен в решении социальных вопросов. Раефф указывает, что предлагаемая Дума была бы полностью подчинена царю и не имела бы никакого влияния на формирование бюджета и политики. Хотя для выборов местных и губернских дум была предложена сложная система, она не включала крепостных, которые вообще не принимали никакого участия в выборах. (Тем не менее в ней учитывалось крестьянское сословие, которое могло делегировать в волостные думы одного старейшину от 500 человек — самый низкий уровень представительства). Собственное объяснение Сперанского в письме Александру является подтверждением взгляда на него как на консервативного реформатора:
В самом начале Вашего правления после многочисленных колебаний нашего правительства Ваше Императорское Величество поставили себе целью установление твердого правления, основанного на законе. Из одного этого принципа постепенно разошлись все Ваши основные реформы. Все эти занятия, возможно, сотни бесед и обсуждений с Вашим Величеством, должны были быть наконец собраны в единое целое. В сущности, он [план] не содержал ничего нового, но он давал систематическое выражение тех идей, которые занимали Ваше внимание с 1801 года[93].
Это, тем не менее, было написано не в 1809 году[94], а в январе 1813 года, когда Сперанский уже был с позором изгнан, а план его дискредитирован.
Публикация в 1961 году ранних сочинений Сперанского и первого наброска его плана 1809 года изменила понимание историками масштаба его радикализма и характера его отношений с Александром. На самом деле, Сперанский ясно выразил свое отвращение к крепостному строю в письмах 1802 и 1803 годов. Этот строй, по его мнению, вел к деградации не только крестьянства, но и дворянства, которое было не лучше крепостных в своей рабской зависимости от государства. В 1802 году он писал:
Я вижу в России два класса: рабов монарха и рабов землевладельцев. Первый называет себя свободным только в сравнении со вторым; в России нет по настоящему свободных людей, кроме нищих и философов[95].
Это укрепило его веру в то, что необходимо не просто дать крепостным гражданские права, но, более того, — вырастить в России новый тип дворян-собственников (сквайров английского стиля, которые могли бы служить «посредниками» между царем и народом). В тот период Сперанский предлагал поэтапное освобождение крепостных. Их обязательства по отношению к господину сперва должны были быть документально определены и ограничены, с тем чтобы уменьшить персональную зависимость крепостных; затем надо было восстановить их право на свободное перемещение. Конечно, в то время Александр тоже выражал отвращение к крепостному строю и рассматривал способы постепенного демонтирования этой системы. Тем не менее крепостничество не упоминается в плане 1809 года.
Кроме того, из этих ранних сочинений ясно, что Сперанский считал неограниченную власть несовместимой с существованием основополагающих законов и что он находил формальное ограничение российского вида абсолютизма существенным для установления власти закона. Россия, но его мнению, нуждалась в ясных, обязательных и фундаментальных законах, пока же правление оставалось произвольным и беззаконным. Наиболее важной задачей было установление таких законов, которые впоследствии смогли бы ограничить деспотизм. Александр также подчеркивал необходимость торжества законности, впрочем, без оглядки на возможные последствия для своей собственной власти. Сперанский приводил следующие аргументы: так как правительство опирается на волю народа, следовательно, считал он, должен быть выборный законодательный орган, которому правительство было бы подотчетно. Сперанский не отступил от этих позиций и в 1809 году. Хотя предлагаемая им Государственная Дума обладала лишь ограниченной властью и не имела законодательной инициативы, все законы и налоги в любом случае должны были утверждаться ею, она получала право подавать представления и призывать министров к ответу в случае, если основополагающие законы были нарушены. Дума также имела бы право отвергнуть предложенный правителем закон, если сочла бы его вредоносным: «Закон, признанный большинством голосов неприемлемым, не приводится в действие». Это давало Думе право решающего вето даже при ее ограниченных возможностях.
Каковы же причины пренебрежения Сперанского в 1809 году к вопросам крепостного права при его смелых попытках ограничить, хотя бы и в достаточно скромной степени, власть правителя? Его план начинался с длинного исторического вступления, очевидно написанного ради Александра, в котором он рассматривал развитие России в контексте общего развития европейских государств и пытался убедить царя в том, что настало благоприятное время для проведения фундаментальной политической реформы в России. (Для сравнения, в 1802 году он писал о российском правительстве под началом Павла так: «…провинции управляются в европейском стиле, а высшее [центральное] руководство — целиком азиатское»)[96]. О том, чтобы реформа ограничила власть правителя, не могло быть и речи, но Сперанский, возможно, надеялся, что при его столь прочно установившейся близости к Александру он сможет убедить его, что настало время предпринять эти шаги. Возможно, ради того он и льстил Александру, изображая его инициатором шага, который вызовет огромное продвижение России к цивилизованности. Сперанский, по его собственному выражению, «провел сотни бесед и обсуждений» с Александром по поводу предлагаемой им конституции. Александр, как мы видели, умел нравиться своим слушателям, но у Сперанского, по-видимому, сложилось впечатление, что царское обещание конституционных изменений было неподдельным и его план будет исполнен, если его должным образом объяснить царю.
В ранних набросках плана 1809 года Сперанский предлагал также в несколько этапов даровать гражданские права крепостным и улучшить их экономическое положение, но окончательная редакция содержала лишь неопределенные ссылки на возможное освобождение, если будут предприняты предлагаемые меры. Причины этого отступления неизвестны, но Сперанский, видимо, из «бесед и обсуждений» понял, насколько Александр осторожен в данном вопросе. В 1809 году Сперанский решил сконцентрироваться на политической реформе и отложить свои радикальные предложения об искоренении крепостничества до лучших времен. Он считал, что создание надлежащих условий для правительства, руководствующегося законом, было в любом случае необходимой предпосылкой освобождения русского общества. Этот подход согласовывался с его убеждением, что реформы могут быть проведены лишь поэтапно. После того как Сперанский был отправлен в ссылку, он описывал процесс, к которому был причастен:
Необходимо вычистить административную часть. Затем ввести неотложные законы, та кие как политические свободы, и затем постепенно приступить к вопросу гражданских свобод, таких как освобождение крепостных. Вот каков настоящий ход дел[97].
В 1809 году Сперанский ясно чувствовал, что время благоприятствует фундаментальному прогрессу в политических реформах, но не реформах социальной структуры. Большим надеждам его на Александра не суждено было сбыться. Единственная часть плана, с которой согласился царь, — устройство нового Государственного Совета (который заменил Непременный совет) и добавочных министерств, но без поддерживающей пирамиды, представляющей исполнительную, судебную и законодательную власти. Вся структура Сперанского была отвергнута. Можно только предполагать причины, по которым Александр решил не принимать план. Хотя у него и не было поводов опасаться самого Сперанского (ни один пункт плана 1809 года не был исполнен без согласия Александра, а Сперанский был далек от любых партий и притом непопулярен при дворе), очевидно, царь чувствовал потенциальный вызов, который этот план представлял его власти. Александр уже показал, что обладает чувствительностью к любому вызову своим прерогативам, и хотя Сперанский в 1809 году намеренно смягчал некоторые свои взгляды, но тот факт, что его план предусматривает ограничение власти царя, не мог укрыться от Александра. Сперанский после своих разговоров с царем верил, что тот не будет противиться нововведениям, но Александр часто не мог логически связать свои желания реформировать правление так, чтобы исключить произвол, с последствиями такого реформирования для собственной власти. Но, в отличие от своего министра, Александр мог отлично чувствовать, что для таких радикальных преобразований время еще не настало. Он осознавал собственное довольно уязвимое положение (Тильзитский договор многие представители дворянства рассматривали как позорный, и ходили слухи о заговорах против трона) и считал безрассудным затевать столь фундаментальные преобразования в такой момент.
Новому Государственному Совету дана была власть над министрами, которые запрашивали его санкцию, и над Сенатом, чьи резолюции направлялись в него перед тем, как быть представленными царю. Министры не были ех officio (обязательными) членами Совета (как это было в Непременном совете), но главы четырех департаментов Совета (Законодательного, Военных дел, Гражданских и религиозных дел, Государственной экономики) были обязательными членами Комитета министров. (Этот комитет формально декретом никогда не создавался, он действовал, проверяя, годятся ли отчеты министров и все, что просматривал Александр, для того, чтобы быть ему предложенным, примерно с 1805 года, и изредка собирался до 1812 года). Конституционный историк Б. Нольде рассматривал Государственный Совет как триумф принципа разделения властей и утверждал, что ему было дано гораздо больше власти, чем французскому Государственному Совету при Наполеоне, а именно, он мог принимать участие в гражданском и уголовном законодательстве, в написании законов, и бюджет тоже проходил через него. Но так как царь подписывал все решения, принятые любым департаментом Государственного Совета, и по любому вопросу необходимо было получить его согласие, на практике Совет не был по-настоящему независимым и являлся по существу всего лишь совещательным органом. Последовали дополнительные реформы центрального управления. Министерства, созданные в 1802 году, были реорганизованы, а их функции определены заново и перераспределены в 1810 году. Было образовано новое Министерство внутренних дел, военные и флотские дела были объединены под одним министерством, а экономические проблемы переданы во власть новообразованного Департамента государственной экономики. Все, касающееся коммерческого и индустриального развития, должно было проходить через этот Департамент перед тем, как быть переданным в соответствующее министерство (финансов, коммерции или внутренних дел). Полиция обособлялась от Министерства внутренних дел и создавалось Министерство полиции. Эта реорганизация не смогла полностью исключить перекрытия юрисдикций разных министерств, и в 1811 году была продолжена с помощью Генеральной инструкции, определяющей границы ответственности и упрощающей административную процедуру. С 1812 года министры в периоды отсутствия Александра в России были обязаны представлять отчеты Комитету министров.
Сперанский был лишен власти в марте 1812 года. Точно не известно, почему он внезапно утратил поддержку Александра. Обвинениям в государственной измене верить нельзя (Александр говорил Новосильцеву, что Сперанский — не предатель), однако нет никаких сомнений, что он симпатизировал многим сторонам наполеоновской Франции и испытывал влияние наполеоновской практики при написании своей конституции и плана 1809 года. В то время, как война с Францией становилась все более вероятной, такие симпатии делали его позицию все более уязвимой. Александр в прошлом проявлял немалое упрямство и не раз поддерживал своего министра в таких делах, как введение экзаменов для гражданских служащих и налоговая политика, вопреки сопротивлению многих представителей придворного круга. Несмотря на его комментарий графу Карлу Нессельроде (позднее — министру иностранных дел), что Сперанский лоялен и предан, и «только настоящие обстоятельства вынуждают… уступить общественному мнению»[98], маловероятно, что он мог бы отстранить своего ближайшего советника, если бы это полностью шло вразрез с его желаниями. Сперанский неблагоразумно сделал обидное замечание, достигшее ушей Александра, который всегда был чувствителен к любым проявлениям неуважения. Сперанский сказал генералу Александру Дмитриевичу Балашову, министру полиции:
Вы знаете подозрительный характер Императора. Что бы он ни делал, он делает это наполовину. Он слишком слаб, чтобы царствовать, и слишком силен, чтобы им руководить[99].
Кроме того, царь был не прочь сделать своего министра козлом отпущения, чтобы обрести поддержку своего окружения накануне грядущего конфликта с Францией.
Александр, к тому же, сознавал потенциальную угрозу своей власти, представляемую планом Сперанского. Мы не можем знать, что произошло между ними двумя в их последней встрече, но вскоре после отставки Александр говорил полицейскому чиновнику Я. И. де Санглену, что предложение Сперанского о том, что в случае войны царь должен передать полномочия специально созванной боярской думе, «убедило меня, что он и его министерства в самом деле интригуют и строят козни против власти, от которой я не могу и не имею права добровольно отказаться к услугам моих наследников»[100]. Александр, конечно, не мог не прислушиваться и к другим своим советникам, требовавшим сохранения правителем полной власти, и считал это совершенно совместимым с предполагаемой реформой. Члены Негласного комитета скорее доверятся реформирующей власти самодержца, чем инстанциям типа Сената. Когда кое-что из планов Сперанского стало известно, друг царя Александр Голицын продемонстрировал, что разделяет это недоверие к передаче власти инстанциям. Он прокомментировал предложение Сперанского запретить обжалование резолюций, прошедших Сенат, следующим образом: «Мнение большинства в России таково, что только влияние монарха, и лишь его одного, на все части администрации и двора может определить правильное решение вопросов»[101]. Сперанский, при всем его уме и близости к Александру, не вполне замечал различие умонастроения не только между собой и царем, но также между собой и множеством других образованных россиян.
Окончательно оформленный вызов взглядам Сперанского на путь, которым должно двигаться Российское государство, можно найти в трактате «О древней и новой России…»[102] Николая Михайловича Карамзина, официального историографа Российской империи. Он был показан Александру в 1811 году (уже после образования Государственного Совета, но перед отстранением Сперанского от власти) и утверждал альтернативный путь развития России. Одним из жесточайших критиков Тильзитского договора была сестра Александра, Екатерина. Она вышла замуж за Георга Ольденбургского, который был назначен губернатором Твери, Новгорода и Ярославля. Чтобы развеять скуку жизни в провинциальном городке, каким была Тверь (примерно в тысяче миль к северо-западу от Москвы), Екатерина создала собственный салон, куда приглашались выдающиеся писатели и мыслители, включая и Карамзина. По-видимому, именно Екатерина подала Карамзину идею изложить свои мысли на бумаге в форме мемуаров. Карамзин встретил Александра в Твери и вел с ним беседу; он, вероятно, также чувствовал себя в положении защитника самодержавия от царя в этих послеобеденных разговорах. Екатерина, между тем, прочла трактат Карамзина и, к понятному его смущению, частным порядком вручила его своему брату. К сожалению, неизвестно, прочел ли его Александр. Оригинал был потерян; известная нам версия — копия, найденная в бумагах Аракчеева. Точно известно, что Александр никогда не ссылался на него, и нет никаких признаков того, что он повлиял на потерю Сперанским расположения, но как сумма обид и тревог образованных представителей дворянства и, по-видимому, отражение общего смысла дискуссий в тверском салоне, трактат — полезный комментарий настроения времени и интеллектуальной атмосферы, в которой Сперанский столь уверенно выдвигал свой смелый конституционный проект. Основные принципы трактата высказаны в следующем заключении:
Дворянство и Духовенство, Сенат и Синод, как хранилище Законов, над всеми. Государь, единственный Законодатель, единовластный источник властей. Вот основание Российской Монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами Царствующих [103].
Первая часть работы была ретроспективным обзором российской истории, призванным продемонстрировать, что именно принцип абсолютной монархической власти способствовал созданию, сохранению и процветанию российского государства (другими словами, абсолютная противоположность историческому введению Сперанского к его плану 1809 года, призванному убедить Александра, что подошло время фундаментального изменения структуры царизма). Критика Карамзиным попыток реформировать при Александре правительственные институты основывалась на той же предпосылке. Он осуждал ненужные изменения, концентрацию власти в руках министров и, в частности, Государственного Совета, соответствующее уменьшение власти Сената и увеличение бюрократизации, как результат введения министерств. (Проект Сперанского 1809 года не был опубликован, и, следовательно, критика Карамзина основывалась лишь на тех реформах, которые были проведены). В этих реформах Карамзин видел опасность и впустую растраченные усилия не потому, что все изменения были потенциально вредными, но потому, что он отмечал влияние иностранных (наполеоновских, в частности) институтов на Россию, которая, по его мнению, имела самодостаточные традиции и структуру. Если Александр в самом деле прочел трактат, сомнительно, чтобы он испытывал благодарность к Карамзину за его «духовное мужество» в доведении до сведения царя причин неудовлетворенности в стране, как они ему виделись. Царь подвергался критике за то, что вместо укрепления мира вовлек страну в войну, не давшую ей никаких выгод; а новые университеты — за то, что полагались на иностранных профессоров, за их несообразный учебный курс и неадекватную финансовую организацию. Карамзин критиковал Сперанского за политику, одобренную царем, например, за введение экзаменов для чиновников и фискальные меры, и на сомнительной исторической и юридической почве защищал институт крепостничества, к которому Александр выражал отвращение.
Но даже когда Сперанский был на вершине своего влияния, Александр ценил дружбу и абсолютно противоположного человека, Аракчеева, которому он прежде доверил реформу артиллерии. В январе 1808 года Аракчеев был назначен военным министром. После образования Государственного Совета в 1810 году он подал в отставку со своего поста, возможно, потому, что боялся стать подчиненным новому Департаменту военных дел в Совете. Значение Аракчеева для Александра доказывается тем фактом, что царь отказался принять отставку и вернул его обратно уже в качестве президента новообразованного Департамента. Его письмо к Аракчееву показывает, как сильно ценил он его службу:
Я не могу принять объяснений, которые Вы приводите… Вы единственный, на чье сотрудничество я мог целиком положиться, Вы, который так часто повторял мне, что не считая Вашей преданности нации, Вами движет личная ко мне привязанность, Вы единственный вопреки всему этому забываете Ваше значение для Империи и торопитесь покинуть управляемый вами участок в то время, когда Ваша совесть должна вам подсказать, насколько невозможно будет Вас заменить[104].
Именно Аракчеев смог убедить царя не оставаться при армии в 1812 году.
Войны со Швецией и Оттоманской империей
Тильзитский мир положил конец периоду российского влияния на Центральную Европу, но дал Александру возможность защитить интересы России на севере против Швеции и на юге против Оттоманской империи. По ходу дела он снова столкнулся с конституционализмом в лице присоединенной к России Финляндии, принадлежавшей прежде Швеции.
Швеция отказалась присоединиться к Континентальной блокаде против Британии, и Александр использовал это как оправдание для нападения на нее в 1808 году. Он был не столь озабочен экономическими проблемами, как стратегической угрозой, которую могла представлять Швеция для России в Балтике, если бы добилась союза с Британией. Наполеон казался вполне удовлетворенным тем, что Россия отвлечена на севере, частично оттого, что, пусть лишь номинально, это было в защиту его Континентальной системы. Он даже предложил предоставить России французские войска, но в итоге (и, вероятно, к облегчению Александра) они оказались слишком заняты войной в Испании с лета 1808 года, чтобы привлекаться куда-нибудь еще.
Русская армия быстро победила шведов в Финляндии (примерно 24 000 русских столкнулись с 20 000 шведских и финских войск, правда, плохо оснащенных и слабо подготовленных к войне). Они держались только с помощью гарнизона крепости Свеаборг, которая контролировала подход с моря к Хельсинки. Когда в мае эта крепость сдалась, что сопровождалось обвинениями в измене, путь к Хельсинки стал открыт, и Александр объявил присоединение Финляндии к Российской империи. Однако партизанская война в Финляндии продолжала досаждать русским, и только отчаянное наступление на Стокгольм по льду Ботнического залива в начале 1809 года, закончившееся свержением короля Густава IV, окончательно подтвердило шведскую капитуляцию. При заключении Фредрихсгамского мира в сентябре 1809 года Финляндия и Аландские острова (имеющие в Балтике стратегическое значение) были окончательно переданы России, а Швеция, к тому же, согласилась присоединиться к Континентальной блокаде Британии. 18 сентября Александр писал сестре Екатерине, пытаясь, возможно, снова обрести ее поддержку после осуждения ею Тильзитского договора:
«Этот мир является именно тем, чего я добивался. Я не смогу достаточно возблагодарить Всевышнего. Передача России всей Финляндии до Торнео [река] с Аландскими островами, присоединение к Континентальной и закрытие для Англии портов, наконец, мир с союзниками России; и все это достигнуто без посредников. Здесь есть чему спеть великолепный „Те Deum Laudamus“, не далее чем завтра в Исакии, со всей военной церемонией, со всем блеском!»[105]
Война была успешной, но она была непопулярна в России. Многим россиянам казалось, что Александр был всего лишь пешкой Наполеона, позволив отвлечь себя от настоящей заботы России о судьбе Центральной Европы и Балкан. Многим Финляндия не казалась ценной наградой, а нападение на Швецию, с которой Россия поддерживала хорошие отношения, критиковалось как несправедливое и ненужное.
Еще до подписания мирного договора со Швецией Александр объявил вхождение Финляндии в Россию в качестве Великого княжества Финляндского, с русским царем — великим князем. Он созвал в Бордже (Порво) Финское собрание, где утвердил права, привилегии, религию и основные законы Финляндии согласно ее конституции. В конце XIX века этот акт привел к полемике между финскими и русскими юристами и историками о статусе Финского государства в составе Российской империи, к полемике, которая основывалась на разногласиях в смысле манифестов, речей и переписки Александра. (Вопрос этот еще более запутывался тем фактом, что языку этих заявлений часто недоставало юридической точности, а в русских и шведских текстах были некоторые различия). В конце столетия финны заявили, что, гарантируя их «Конституцию», Александр сознательно делал уступку финскому народу, отчасти из-за слабости русских сил, что и обеспечило Финляндии некоторую автономию. Конечно, российская армия постоянно подвергалась нападениям финских партизан, и Александр стремился привести кампанию к удачному завершению настолько быстро, насколько только было возможным, но нет никаких свидетельств того, что он находился под давлением, вынуждавшим его «вести дела» с финнами с позиций слабого. Собрание не было сформировано по собственному их желанию с целью потребовать уступок — его созвал Александр. Но политика Александра по отношению к финнам представляет большой интерес хотя бы как дополнительный показатель его мнения по поводу конституционализма.
Гарантируя финскую конституцию, Александр принимал права и формы правления, которыми обладала Финляндия под управлением Швеции. В сущности, это была конституция в стиле ancien regime: структура Собрания — одна палата, в которой представлены все четыре сословия — типичнейшая для представительских образований в Европе перед французской революцией. Александр, другими словами, не вводил конституцию в Финляндии, позволив ей самой создать нечто, объединяющее идеи «прав человека», но скорее просто утвердил статус кво. Это, таким образом, не очень отличалось от утвержденных им в начале правления прав и привилегии балтийских провинций. Тем не менее на практике Александр выказывал мало уважения к правам Финского собрания. Он не отвечал на запросы финских представителей в Санкт-Петербурге о назначении даты созыва нового Собрания после 1809 года; на деле следующее Собрание состоялось лишь в 1863 году, уже в правление Александра II. Делегатам Собрания 1809 года не было разрешено обсуждение проекта, который должен был определить финскую конституцию. Царю от Собрания нужны были не декреты, а «только лишь их мнение», комментировал Сперанский 9 июля 1809 года.[106]
Более того, Александр производил изменения в административной структуре Финляндии без консультаций с Собранием и без всякой оглядки на финские права или «конституцию». Главной его целью было достижение административной эффективности. Его отношение было прагматичным: он не видел причин фундаментально менять административную структуру Финляндии, если она эффективно действовала. В 1811 году Александр объединил земли Княжества с финской территорией к северу от Санкт-Петербурга (известной как «Старая Финляндия»), которые были отвоеваны у Швеции в течение XVIII века и в которых в правление Екатерины II вводились российские правительственные институты. В этой акции немало было элементов «красивого жеста», Александр хотел и перед финнами, и перед зарубежными государствами представиться великодушным правителем. Но для такой политики имелись также и прагматические причины. Ни управление, ни экономика губерний Старой Финляндии не были удовлетворительными, и существовала надежда, что при объединении этих земель с княжеством ситуация улучшится.
Политика Александра в Балтийских провинциях и в Грузии в ранние годы его правления уже показала, что он рад был оставлять управление местным инстанциям, если они функционировали действенно. Русификация в смысле принудительного внедрения структуры российского местного управления не ставилась целью, и в этом отношении Александр отличался от Екатерины II, которая намеренно вводила одни и те же формы и структуры управления повсюду в империи. Его политику в Финляндии необходимо рассматривать скорее в этом контексте, чем как этап в развитии его представлений о конституционности. Тем не менее в 1809 году Александр ввел Сперанского в курс финских дел, как раз в то время, когда тот готовил свой проект конституции России. Это заставило некоторых финских историков предположить, что Сперанский в своей работе находился под влиянием финской конституции и использовал Финляндию как опытную почву для реформ в России. Действительно, существует некоторое сходство между финским Собранием и Собранием, которое Сперанский предлагал для России: например, представительство должно было осуществляться от социальных слоев, как и в Финляндии, — но это не значит, что Финляндия стала моделью для России. Сперанский находился под влиянием взглядов нескольких авторов и практики управления в Англии и во Франции и сформулировал многие свои идеи еще до того, как на него была возложена ответственность за Финляндию. Хотя он признавал отдельный статус Финляндии в Российской империи («Финляндия — государство, а не провинция», писал он в 1811 году) [107], он никогда не думал, что Финляндия или ее Собрание обладают какой-либо реальной независимостью. Он полагал, что после реформирования российских правительства и управления, которое он в 1809 году считал себя готовым провести, Финляндия окончательно сольется с Российским государством.
Успех, достигнутый российскими войсками в кампании на севере, не был повторен на юге против Оттоманской империи. Война разгорелась между двумя странами в 1806 году, и русские войска не слишком эффективно теснили турок в Дунайских княжествах (Молдавии и Валахии) и на Кавказе. В соответствии с одним из секретных условий Тильзитского договора, Александр должен был принять французское посредничество в этом конфликте. Между Наполеоном и Александром в Тильзите был неопределенный разговор о возможности раздела между собой Оттоманской империи. Но на практике позиция Александра в восточном Средиземноморье была ослаблена передачей Франции в Тильзите Ионических островов, а Наполеон никогда не намеревался развязывать России руки, позволяя ей увеличивать свое влияние на Балканах. Франко-русские отношения на Балканах после 1807 года продемонстрировали несовместимость их внешнеполитических целей и существенную нестабильность Тильзитского соглашения. Терпимость Наполеона и даже его поощрение российского расширения на север за счет Швеции не сопровождались равным принятием намерений России в областях, где у Франции также были коммерческие и стратегические интересы.
В феврале 1808 года Наполеон предложил совместный поход 50 000 французских и российских войск («включая, быть может, немного австрийцев») через Ливан и Египет для завоевания Индии. Ответ Александра Наполеону был прям: «Берите все, что захотите в Азии, кроме того, что граничит с Дарданеллами», ясно выражая его собственные интересы. В Тильзите, и затем позднее при перемирии с турками в августе, Александр вынужден был пообещать вывести войска из Княжеств при условии, что их не оккупирует турецкая армия до тех пор, пока не будет подписан мирный договор. Это лишило бы Россию ее территориальных преимуществ, и впоследствии российское правительство использовало многочисленные предлоги, чтобы не ратифицировать соглашение и сохранять войска на прежних позициях. Предложенная в конце 1807 года Александру Наполеоном альтернатива — Россия сохраняет княжества при условии, что Франция получает Силезию, — была не более привлекательна. В то самое время, когда Наполеон обещал Александру поддержку в Швеции, он предостерегал австрийцев насчет российских претензий на Балканах и выдвигал идею франко-австрийского союза для сдерживания России в этом регионе.
В 1808 году в Эрфурте Наполеон признал право России на присоединение Княжеств взамен на ее неопределенные обещания поддержать Францию в случае конфликта с Австрией, но к тому времени обе стороны уже оставили намерение поделить Оттоманскую империю. Россия тогда уже контролировала Княжества и позиции ее казались сильными (русские войска взяли важные крепости Рущук и Журжу в конце 1810 года). Мирные переговоры с турками все еще затягивались. Когда отношения с Францией начали ухудшаться, Александр понял, что не может больше позволить такому количеству войск быть связанным на юге, и осенью 1811 года приказал генерал-аншефу Кутузову начать мирные переговоры с турками на тех условиях, что Россия оставит Валахию и сохранит Молдавию. Турки проявляли вполне естественное нежелание заключать соглашение, пока внешняя ситуация оставалась неясной. На Кавказе русские войска отбили у турок и персов Поти, Сухум-кале и Ахалкалаки. К началу 1812 года военное столкновение между Францией и Россией было почти несомненно и Наполеон обратился к Оттоманской империи в поисках союза против России[108]. Турки, однако, были истощены долгой войной и готовы уже подписать соглашение с Россией. 28 мая 1812 года в Бухаресте был заключен поспешный мир, в котором Россия отказывалась от своих притязаний на Княжества и останавливалась на присоединении Бессарабии до реки Прут. На Кавказе Поти и Ахалкалаки были возвращены туркам. Россия на Кавказе воевала и с Персией, и после замирения с турками персы также были вынуждены заключить мирное соглашение. Россия приобретала большую часть территорий, за которые боролась, к северу от рек Аракс и Кура (Александр заявил, что «этот барьер необходим для защиты от набегов варварских народов, населявших эти земли»)[109], за исключением Ереванского и Нахичеванского ханств. Это была некоторая награда за долгую и дорогостоящую кампанию, но Россия получила куда меньше территорий, чем сперва надеялась и чем в самом деле казалось возможным в начале всего предприятия.
Русско-турецкая война вызвала подъем стремлений балканских народов к независимости. Наиболее активными в этом отношении были сербы, объявившие независимое «Сербское королевство» с конституционной монархией под российским протекторатом. Вопрос о независимости Сербии поднимался на мирных переговорах с Турцией в 1810 году, но в Бухарестском договоре запросы Сербии не были полностью удовлетворены. Повстанцам была дарована амнистия и достигнуто соглашение о таком управлении и обложении налогом, которые давали бы Сербии некоторую автономию, но эти меры были далеки от политической независимости. Даже когда договор уже был ратифицирован, адмирал П. В. Чичагов предлагал Александру, чтобы русские войска в Молдавии, находящиеся под его командованием, возглавили восстание на Балканах и двинулись в Далмацию, Адриатику и Швейцарию, призывая угнетенные народы восставать против Наполеона. Конечной целью этого предложения было основание на Балканах Славянской империи под русской эгидой. План этот был абсолютно нереальным (хотя не больше, чем до того план Чарторыского о Балканской Федерации под протекторатом России), но Александр поддержал Чичагова. Для достижения своих целей он вполне подготовился к роли защитника Балкан и поборника панславизма, но гораздо меньше хотел проявлять себя в этом качестве на деле. 21 апреля 1812 года он инструктировал Чичагова: «Вы должны использовать все средства, чтобы, согласно нашим целям, поднять дух славянских народов, — обещать им независимость, основание Славянского королевства, награждение достойных…»[110]. На самом деле на этом этапе основной заботой Александра была предстоящая схватка с Францией, и ни он, ни Наполеон не планировали и не хотели полного распада Оттоманской империи и следующих за этим осложнений и беспорядка. Война между Россией и Францией была неминуема, и Александр использовал угрозу воплощения плана Чичагова для запугивания австрийцев, чтобы вынудить их не помогать Наполеону в российской кампании. Только когда австрийцы согласились держать свои силы в резерве, если Наполеон нападет на Россию, Александр формально отказался от этого проекта. Он также намеревался использовать этот план как основу диверсионной кампании против Франции на Балканах; в июне 1812 года русские посредники были посланы в Сербию для его обсуждения, но это ни к чему не привело.
Разрыв франко-российских отношений
Наполеон ясно показал, что будет сопротивляться русской экспансии на Балканах. Противоборствующие в этом регионе интересы нарушили отношения между двумя странами, но даже без этого спора Тильзитский союз оказался неудовлетворительным для обеих сторон. Это проявилось после 1807 года в разногласиях по двум важнейшим вопросам: проблеме Польши и Континентальной системе.
Создание в 1807 году из земель прусской Польши герцогства Варшавского всегда представляло потенциальную угрозу России. Александр опасался, что герцогство может стать ядром будущего независимого Польского государства, союзного Франции, чьей целью стало бы возвращение земель, отошедших к России после разделов в конце XVIII века. По Шёнбруннскому договору, заключенному в октябре 1809 года, к герцогству была присоединена возвращенная Австрией Западная Галиция, и это увеличило тревогу Александра. Он вел двойную игру. С одной стороны — переговоры с Чарторыским о возможности установления польского управления в землях, приобретенных Россией после разделов. В конце 1809 года Чарторыский писал Павлу Строганову из Санкт-Петербурга:
Вскоре после моего прибытия сюда император беседовал со мной о своем прежнем проекте относительно Польши, и говорил с гораздо большей заинтересованностью, чем он выказывал когда-либо прежде; он привел сильнейшие аргументы целесообразности этого проекта[111].
В то же самое время Александр требовал от Наполеона формальных заверений в том, что Польское государство никогда не будет номинально восстановлено. Соглашение о Польше между Россией и Францией было подготовлено в 1810 году, но так и не было ратифицировано. Сдерживающим пунктом являлось то, что Наполеон не соглашался принять первые две статьи, предложенные русскими. Первая статья гласила: «Польское королевство никогда не будет восстановлено». Вторая содержала следующее: «Договаривающиеся стороны дают гарантию того, что названия „Польша“ и „поляки“ никогда не будут применяться ни к каким-либо частям, уже составляющим это королевство, ни к их населению, ни к их войскам, и навсегда исчезнут из всех официальных либо публичных актов, какой бы природы они ни были», — последний удар по представлениям Чарторыского 1806 года об Александре как о поборнике польской независимости. Однако в апреле 1812 года, накануне наполеоновского вторжения, Александр писал Чарторыскому, уверяя его, что все еще держится за свою «любимую идею о восстановлении Вашей страны» [112]и что вопрос единственно в том, чтобы выбрать наиболее подходящее время для приведения ее в действие.
Позиция Александра насчет Польши была не столь противоречива, как кажется. По существу, он сопротивлялся созданию независимой Польши, но Польша, зависящая от воли России (как это было до разделов), была гораздо предпочтительнее, чем по-настоящему самостоятельное или, что еще хуже, связанное с интересами Франции государство. Стратегические интересы России и ее отношения с Францией всегда доминировали над любой сентиментальностью по поводу судьбы Польши. Подозрения Александра насчет намерений Наполеона возросли еще более, когда Франция увеличила армию герцогства до 60 000 человек. В 1810 и 1811 годах Александр вынашивал идею перехватить инициативу и попытаться завоевать лояльность поляков в конфликте с Францией, пообещав восстановить Польшу в ее прежних границах, с собою в качестве короля, взамен польской поддержки против Франции. В то же время он говорил также о возможности создания отдельного Королевства Литовского (земли, полученные Россией при переделе, были, главным образом, землями прежнего Великого княжества Литовского). Но Александр не мог изменить того факта, что Наполеон практически сделал для поляков гораздо больше любого российского правителя.
После 1807 года Наполеон пытался закрыть для Британии все континентальные порты. Если бы эта политика имела успех, она произвела бы опустошительный для торговли и благосостояния Британии эффект. В России, которая надеялась на вывоз корабельного сырья в Британию и ввоз оттуда мануфактурных товаров и текстильных изделий, Континентальная блокада никогда не была популярна. Александр наложил ограничения на британских торговцев в России еще до Тильзита, так как целиком осознавал значение для них российской торговли и хотел поощрить собственную промышленность. В начале 1807 года британские торговцы были принуждены приобрести новые сертификаты на торговлю в России, формально зарегистрироваться в российских гильдиях и платить налог на свой декларированный капитал. В Тильзите Александр согласился присоединиться к Континентальной системе в декабре 1807 года, если к тому времени с Британией не будет заключено перемирие, но уже в октябре объявил эмбарго на британские товары, хотя выполнялось оно не строго. Тем не менее, формальная приверженность Континентальной системе была делом гораздо более серьезным и означала закрытие российских портов для британских судов и конфискацию британской собственности. Товары продолжали поступать в Россию через Финляндию и даже через Афганистан, и торговля продолжалась, не только на нейтральных кораблях (в частности, на американских — 120 из них стояли в доках Санкт-Петербурга только в 1810 году), но и на британских и российских судах в течение всего периода. Русский купец в Лондоне сообщал в 1810 году, что российские пенька и зерно получены Британией, и что Темза «полна» российскими судами. В Санкт-Петербурге и Архангельске были созданы комиссии для проверки подлинности нейтральных судов. В 1809 году они конфисковали 25 кораблей и 36 корабельных грузов, в основном в порту Риги (13 кораблей, 25 грузов). Для российского правительства еще одним источником раздражения было то, что Франция продолжала импортировать товары из Британии, ввозимые на нейтральных судах.
Континентальная система сказалась образованием нескольких отраслей российской промышленности и была популярна среди некоторых купцов. Например, в Москве было создано несколько новых хлопкопрядилен, и в 1812 году многочисленные московские промышленники потребовали наложения запрета на все ввозимые изделия. Тем не менее, исследования Совета показали, что в целом российская промышленность очень мало выиграла от устранения британской конкуренции. Например, несмотря на увеличение количества хлопкопрядильных фабрик, российская текстильная промышленность в целом страдала из-за того, что фабрикам была необходима английская пряжа, и это не могло компенсироваться импортом хлопка из Соединенных Штатов. Российский экспорт упал от среднегодового количества в 54,1 миллиона серебряных рублей в период 1802–1806 годов до 34,1 миллиона в 1808–1812 годах. В тот же период импорт упал от 40,8 до 20,6 миллионов серебряных рублей. Экспорт леса, пеньки, льна, зерна, сала, меди, поташа и железа пострадал особенно тяжело. Среди ограниченных статей импорта оказался свинец, который был необходим артиллерии. В компенсацию ослабления британской торговли торговля с Францией не возросла; наоборот, объем ее снизился после 1811 года. Рубль также терял свой вес: бумажный рубль упал от 50 серебряных копеек в 1808 году до 43 в 1809, 35 — в 1810 и 23,5 — в 1811. Пострадали и государственные доходы от таможенных пошлин: в 1805 году доход был 9,1 миллионов серебряных рублей, в 1808 он уменьшился до 2,9 миллионов и лишь постепенно вырос до 3,7 миллиона в 1810 и 3,9 миллиона в 1811 году. Дворянство Санкт-Петербурга и Москвы негодовало на Континентальную блокаду, так как цены на ввозимые предметы роскоши выросли (цены на сахар и кофе возросли от примерно 18–20 рублей за пуд (около 36 фунтов) в 1802 году до 100–15 рублей за пуд в 1811 году). Купцы также были задеты потерей обильных кредитных средств, поставляемых Британией.[113]
31 декабря 1810 года Александр по сути отошел от Континентальной системы, когда объявил, что в следующем году наложит более высокие пошлины на товары, поступающие по суше (такие, как французские предметы роскоши и, в частности, французские вина), и менее высокие — на привозимые по морю, что благоприятствовало нейтральным американским кораблям, несущим английские товары. В то время пошлины на вина Франции и ее союзников превышали вдвое пошлины, наложенные на вина из юго-восточной Европы. Манифест, сопровождавший новые тарифы и новые правила для нейтральных судов, оправдывал эту акцию тем, что «видя настоящее положение в нашей торговле, когда ввоз импортных товаров явно вредит внутренней промышленности и, наряду с умышленным падением денежного обращения, несправедливо превышает экспорт российской продукции, и желая, насколько это возможно, восстановить приемлемое равновесие», для нейтральных мореплавателей должны быть установлены правила, «целью которых является блокирование возрастания чрезмерной роскоши, сокращение ввоза иностранных товаров и стимулирование, насколько это возможно, укрепления внутренней торговли и производства»[114]. В течение 1811 года все больше и больше британских судов беспрепятственно доставляли свои товары в Россию. Наполеон в августе 1811 года лично подсчитал, что 150 судов, плавающих под американским флагом, но несущих британские товары, было принято в российских портах. Были уменьшены пошлины на сырье, в котором нуждалась российская промышленность, и, невзирая на разрушительный эффект наполеоновского вторжения, количество фабрик и рабочих на них в России выросло после 1812 года: от 2332 фабрик в 1812 году (2399 в 1804) до 3731 в 1814; и от 119 000 рабочих в 1812 (95 000 в 1804 и 137 800 в 1811) до 170 000 в 1814.
Несовместимость интересов означала, что конфликт между Францией и Россией всегда был неизбежен и откладывался только из-за занятости Наполеона другими проблемами. Летом 1808 года в Испании разразилось восстание, и большое количество французских войск было связано войной с партизанами (к 1812 году в Испании было около 300 000 французских солдат). В августе 1808 года Британия послала экспедицию в Испанию; к 1813 году на полуострове численность британских войск, противостоящих наполеоновским силам, составляла 100 000 человек. Воодушевленная трудностями французской армии в Испании и веря, что в самой Франции существует оппозиция Наполеону, Австрия начала угрожать возобновлением военных действий. В сентябре 1808 года Наполеон собрал в Эрфурте конгресс, надеясь вынудить Александра возобновить свое обязательство сотрудничать с Францией. Александр согласился присутствовать, ощутив на данном этапе необходимость обеспечить России простор для маневра, чтобы иметь возможность подготовиться к любой грядущей битве. По дороге в Эрфурт он посетил прусских короля и королеву, где прусский премьер-министр, барон Г.Ф.К. фон Штейн побуждал его принять руководство антифранцузской коалицией. В Эрфурте дух тильзитской приветливости на первый взгляд все еще витал между двумя правителями. Но Наполеон обнаружил, что, по сравнению с Тильзитом, вести дело с Александром стало менее просто (хотя он и писал Жозефине об Александре, что «если бы он был женщиной, я думаю, я мог бы сделать его своей возлюбленной»)[115]; Александр стал открыто циничен в отзывах о Наполеоне. Он писал сестре Екатерине из Веймара 8 ноября 1808 года, что «Бонапарт делает вид, что я всего лишь дурак и ничего больше. Хорошо смеется тот, кто смеется последним! и я возлагаю все свои надежды на Господа»[116]. Александр отказался принять на себя обязательство поддержать Францию в случае агрессии Австрии. Он только дал Наполеону устные обещания поддержать его кампанию в Испании и неопределенно обещал вести с Францией «совместные действия», если Австрия нападет на нее; в ответ Наполеон должен был признать российский захват Финляндии и поддержать возможную аннексию ею Княжеств. Александр ощущал свое положение еще более упрочившимся из-за нелояльности к непрестанной агрессии Наполеона французского посла в России, А.-О. Л. Коленкура и министра иностранных дел, Ш.-М. де Талейрана, которые льстили ему секретными уверениями в том, что он должен противостоять амбициям Наполеона не только ради России, но ради всей Европы.
В Австрии под давлением антифранцузски настроенного министра иностранных дел Д. П. Стадиона и новой императрицы, вдохновленный внушающими оптимизм неудачами Наполеона в Испании и дома, император Франц I 9 апреля 1809 года объявил войну Франции. Это шло вразрез с предупреждениями его генералов о том, что силы австрийских армий недостаточно подготовлены, и с настоятельными предостережениями Александра. Австрийская армия была решительно разбита французами в битве при Ваграме 6 июля (Наполеон занял Вену в мае). По условиям унизительного договора в Шёнбрунне от 14 октября Австрия принуждена была уступить полученные ею при разделах Польши земли герцогству Варшавскому, полосу Далматинского побережья Итальянскому королевству и часть Верхней Австрии — Баварии. От Австрии также потребовали сокращения ее вооруженных сил, присоединения к Континентальной системе и компенсацию 85 миллионов франков. Александр всячески задерживал предоставление Франции любой существенной военной помощи (когда французский посол Коле спросил, идет ли российская армия к Ольмюцу, Александр умышленно неопределенно отвечал, что «она марширует по направлению к Ольмюцу»)[117] и секретно уверял австрийцев в своем нейтралитете. После всего этого он разъярил Наполеона, выразив недовольство тем, что единственной наградой для России в Шёнбрунне явилось приобретение небольшой тернопольской области в Восточной Галиции. Таким образом, Россия в этой кампании не убила ни одного из двух зайцев.
Отношения стали еще более натянутыми после неудачной попытки Наполеона породниться с правящей российской династией в 1810 году, после его развода со своей первой женой, Жозефиной. Александр нанес обиду первым, отклонив предложение Наполеона одной из его сестер, но затем в ответ был оскорблен, когда вскоре после этого Наполеон обручился с австрийской невестой. К началу 1810 года обе стороны всерьез обдумывали возможность вооруженного конфликта. В марте этого года наполеоновский министр иностранных дел, Ж.-Б. де Номпер де Шампань, выдвинул план антирусской коалиции, который подтверждал неизбежность войны. И Наполеон, и Александр осаждали Австрию предложениями о территориальных приобретениях в обмен на союзничество, но Австрия благоразумно воздерживалась от подобных переговоров. Напряженность возросла, когда Наполеон вслед за аннексией Бремена, Гамбурга и Любека 22 января 1811 года захватил герцогство Ольденбургское. Любимая сестра Александра, Екатерина, была замужем за наследным герцогом Ольденбургским, и эта аннексия были прямым нарушением Тильзитского договора.
Весной 1811 года Александр все еще мог писать Наполеону следующее:
России не нужны завоевания, она, возможно, и так обладает слишком большой территорией. В конце концов, не претендуя ни на какую собственность моих соседей, таких как Франция, с какой стати мне желать войны? Более того, лично я расположен к созданию союза с Францией.
Он передавал Наполеону через Коле:
Я хочу союза, я желаю его как человек и как правитель; как человек — потому что я верю, что это позволит сохранить множество жизней; как правитель — потому что считаю, что лучше чем любая другая политическая комбинация, это позволит сохранить мир в Европе географически наиболее выгодным для обеих сторон образом. Я добавлю также, что хочу этого, так как сердечно привязан к вашему императору и к вашей нации: верьте мне, это правда[118].
Наполеон отвечал своему «дорогому другу и брату», выражая столь же твердую дружбу. Но, оставя риторику, обе стороны видели, что теперь вооруженного конфликта не избежать. В августе 1811 года, по случаю своего дня рождения, Наполеон устроил русскому послу князю Александру Борисовичу Куракину публичный выговор, выразив недовольство всеми аспектами внешней политики Александра и угрожая кампанией против России; было очевидно, что он решился начать войну. Александр уверил французского посла Жака Лористона в своем «искреннем желании не воевать» и объявил себя «другом и самым искренним союзником Наполеона». «Слезы наполняли его глаза», — сухо комментирует Лористон[119]. Этот разговор имел место 10 апреля; 21 апреля Александр отбыл в Вильну.
На деле, единственным остающимся спорным вопросом была позиция в предстоящей схватке остальных стран. Фридрих-Вильгельм был вынужден согласиться предоставить 20 000 прусских солдат наполеоновской армии, хотя и заверил Александра секретно, что эти войска будут делать так мало, как только возможно. Русско-австрийские переговоры привели в результате к уверениям Меттерниха, что австрийские войска не будут играть активной роли в кампании, хотя формально Австрия была союзником Франции. Швеция подписала взаимный договор с Россией в апреле 1812 года, а Бухарестский договор гарантировал турецкий нейтралитет. Интересы России и Франции доказали свою несовместимость. Так как две державы не способны были сосуществовать мирно, пришло время определить, которая из них будет доминировать на Континенте.
ГЛАВА 6
СПАСИТЕЛЬ ЕВРОПЫ: 1812–1815
Наполеон в России
Великая армия Наполеона, насчитывавшая примерно от 400 000 до 500 000 человек, меньше половины из которых были французами (остальное составляли в основном немцы, поляки и итальянцы), пересекла реку Неман, вторглась на русскую территорию 23–24 июня 1812 года и быстро двинулась на восток. Наполеон надеялся на быструю решающую битву, в которой он доказал бы свое превосходство над противником. Это позволило бы ему вынудить Александра вернуться к условиям Тильзитского договора, включая присоединение к Континентальной системе, и признать свое подчиненное положение в союзе с Францией. Этот исход помог бы достигнуть изоляции и поражения Британии, настоящего врага Наполеона. Русские силы, между тем, не были готовы встретить врага. Армии были разделены — 90 000 в Вильне под командованием генерала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли; 60 000 — еще южнее с генералом Петром Ивановичем Багратионом, а резервные армии из 45 000 — на Волыни с генералом Александром Тормасовым и из 35 000 — в Молдавии с генералом Кутузовым; общее же число войск не превышало французских сил. Когда новость о вторжении достигла Александра, он был на балу в Вильне, одетый в форму Семеновского полка, «которая очень ему шла» и очаровывала дам. Позже он доверительно рассказал, что «сильно страдал от необходимости выказывать храбрость, которую отнюдь не чувствовал» [120]. Он сделал слишком мало для укрепления России и, казалось, раздумывал, не просить ли Британию о союзничестве, и не выработал никакого ясного плана предотвращения надвигающегося вторжения.
У российских военных сил не было ни выбора, ни плана, кроме как отступать перед численно превосходящим противником; французы вошли в Вильну 28 июня, в Витебск — 26 июля и были у ворот Смоленска к середине августа. Отступление, казалось, в общем было одобрено царем, хотя Багратион взывал к нему: «Я молю Вас начать наступление… Никто не должен так запросто шутить с этой страной… Бегство — не для русских… Мы стали хуже пруссаков… Это позорно» [121]. Тем временем, французская армия сама уже ослаблялась дезертирством, болезнями и потерей снаряжения, пока преследовала отступающих русских по плохим дорогам в тяжелых климатических условиях.
Наполеон был разочарован, когда решительная битва, на которую он надеялся, не состоялась ни в Вильне, ни в Витебске, но он верил, что русские не оставят «святого города» Смоленска без борьбы. Французские силы под Смоленском превосходили русских в отношении 185 000 к 116 000. После двухдневной осады французами 16–17 августа Барклай-де-Толли приказал русским войскам отступать и оставить город (обе стороны потеряли около 10 000), и 18 августа французы «побежали как мыши сквозь каждую брешь в стене» [122]. Потеря Смоленска была встречена протестом остальных генералов Александра и его советников, которые, как Аракчеев, были в безопасности вдали от поля битвы; но для Наполеона отступление русских было весьма разочаровывающим и окончательно, решительно вредоносным. Он не планировал двигаться дальше Смоленска и надеялся, что взятие этого исторического города вынудит Александра заключить соглашение. Французские армии вступили в Россию снабженные лучше, чем для любой другой кампании. Провиант был складирован в Данциге для снабжения 400 000 солдат и 50 000 лошадей в течение 50 дней, а Великая армия пересекла границу России со снаряжением на 24 дня. Это означало необходимость устройства в Смоленске зимних квартир, пока будет подвезено остальное снаряжение. Но город был намеренно сожжен русскими, а большинство населения бежало, и ни подходящего убежища, ни дополнительного продовольствия было не найти. Во все время присутствия французских войск в Смоленске (с 18 августа до 14 ноября) было невозможно эффективно управлять городом и обеспечить достаточное снабжение из окружающих деревень. На деле, Наполеон провел там только 6 дней перед тем, как двинуться дальше на восток в надежде вынудить русских отважиться на решительную битву. Лейтенант Вослер рассказывает:
… мы были втянуты в странную кампанию, преследуя разрозненные вражеские силы, проходя по отвратительным дорогам, либо засыпанные пылью, либо по колено в грязи, часто скатываясь в отвесные овраги, под переменчивыми небесами, то невыносимо жаркими, то проливающими леденящий дождь… многие части имели запас провианта не больше чем на три дня, который из-за полного разорения деревни не мог быть соответственно пополнен. Четыре пятых армии кормились мясом истощенных, умирающих от голода лошадей… наше питье состояло даже не из плохонького спиртного или хотя бы чистой воды, а из солоноватой жидкости, черпаемой из вонючих колодцев и гнилых прудов… через два или три дня после пересечения Немана армия, и в частности кавалерия, была поражена множеством болезней, главным образом дизентерией, лихорадкой и тифом… вся огромная толпа казалась неуклонно двигающейся к катастрофе…[123]
Трения между Барклаем-де-Толли и Багратионом заставили Александра назначить другого главнокомандующего. Тактика отступления Барклая повсюду в армии была встречена негодованием, и Александр приготовился, уже не в первый раз, стать жертвой обвинений в предательстве России. Единогласный выбор его советников пал на Кутузова. Александр не любил Кутузова, чье присутствие вызывало у него слишком болезненные воспоминания о собственном поражении в битве при Аустерлице, но он был слишком напуган опасным положением России, чтобы рисковать отвергнуть народный выбор. «Публика хочет его назначения, я его назначаю; что до меня, я умываю руки», — говорил он генерал-адъютанту Комаровскому[124]. Аракчеев и сестра Александра Екатерина убедили его не принимать самому командование («Вы должны играть роль не только капитана, но и правителя», — писала Екатерина в июне. «Ради Господа не беритесь командовать самолично», — более резко в августе)[125]. Более того, они считали, что царь должен во время войны руководить всей страной и объединить нацию. Вообще-то, у Александра не было последовательного плана защиты России и он был рад оставить стратегию своим генералам, хотя и боялся возможной общественной реакции на вторжение неприятеля. Услышав о переправе через Неман, он немедленно набросал манифест общего характера, в котором обещал не покладать рук до тех пор, «пока хоть один вражеский солдат остается в моей империи»[126], а его обращение к войскам призывало Божий гнев на голову Наполеона: «Я буду с вами, и Бог будет против агрессора»[127]. Он также отправил Наполеону последнее послание, выражая свое согласие подписать с ним мир, если тот уберегся немедленно, и угрожая, что война будет длиться до тех пор, пока «на земле России будет оставаться хоть один вражеский солдат»[128]. Александр посылал свое предложение в несомненной уверенности, что оно будет проигнорировано, но зато продемонстрирует остальным европейским странам виновность Наполеона в войне.
Александра восторженно приветствовали в Москве, куда он прибыл в июле, он писал оттуда Екатерине, что настроение людей превосходно. Пожертвования в сумме трех и восьми миллионов рублей были сделаны соответственно московским дворянством и купечеством. Патриотическая реакция в России на нашествие не подлежит сомнению. 6 % правительственной казны займы составили в апреле, но пожертвования все еще были существенны для того, чтобы снабжать армию; все сословия, имеющие некоторый достаток, — дворяне, купцы, мещане и духовенство, — поставляли в больших количествах деньги и товары. Например, одиннадцать городских дум в Калужской губернии пожертвовали от себя 239 652 рубля, духовенство — 9204 рубля и 10 фунтов серебряных… По стране в целом более 82 миллионов рублей было собрано в 1812–1815 годах. Но все же в период отступления Александру трудно было поддерживать свою личную популярность. Он писал сестре из Санкт-Петербурга, куда прибыл 3 августа: «Здесь я обнаружил подъем духа гораздо меньший, чем в Москве»[129].
Кутузов продолжал проводить тактику отступления, и к 3 сентября русские стояли уже под Бородино, в 72 милях западнее Москвы. Здесь Кутузов решил дать бой; к тому времени французы уже были ослаблены, большая часть снаряжения брошена. Бородинская битва состоялась 7 сентября. В тактическом отношении французы победили, потеряв, правда, 40 000 человек (включая 14 генерал-лейтенантов, 33 генерал-майора, 37 полковников — командиров частей). Русские потеряли около 50 000 человек, большинство составили пассивные потери от французской артиллерии. Сегюр, участник битвы, пишет:
…[русская кавалерия] двигалась плотной массой, в которой наши ядра прорезали глубокие и широкие борозды… Эта инертная масса просто позволяла убивать себя в течение долгих двух часов, без всякого иного движения, кроме этого падения. Это была ужасная бойня; наши артиллеристы, зная цену храбрости, восхищались слепым, непоколебимым мужеством своих врагов[130].
Несмотря на это, русские войска оказались способными отступить, сохраняя боевые порядки. Вопреки мнению большинства своих генералов, Кутузов решил отступать дальше и оставить Москву. Первая новость, достигшая Петербурга 11 сентября, была о том, что русские одержали великую победу при Бородино; на следующий день начались толки, что это не совсем так. Французы вошли в Москву 14 сентября, но обнаружили, что большинство населения бежало. Пожары пылали пять дней, возможно, начатые графом Федором Васильевичем Ростопчиным, генерал-губернатором Москвы, так что французы нашли город опустошенным.
Новость о том, что Москва взята, достигла Петербурга 21 сентября, хотя формально о несчастье было объявлено только 29 сентября. Отправиться в Казанский собор Петербурга 27 сентября, чтобы отметить одиннадцатую годовщину своей коронации, Александр решил в закрытой карете, так как опасался гнева населения. Император и его свита вошли в собор перед молчащей толпой. Екатерина, узнав плохие новости, информировала брата из Ярославля:
Взятие Москвы довело чувство гнева до высшей точки; неудовольствие проявляется в высшей степени, то же самое касается и вашей персоны. Вы громко обвиняетесь в несчастьях Вашей Империи, в ее проигрышах в общем и в частности, и, наконец, в том, что потеряли честь свою и своей страны[131].
В эти тяжелые времена Александр находит спасение в религии. Его образование не обходило религию полностью, но под руководством Лагарпа внимание уделялось воспитанию моральному более, чем религиозному. В июне 1810 Жозеф де Местр, посол Сардинии, сообщал о высказывании Александра, что «христиане — честные люди, но не служат никаким конкретным целям»[132]. Тем не менее после вторжения Наполеона Александр под влиянием своего друга Родиона Александровича Кошелева предался мистическим идеям. Еще в марте 1811 года он писал Кошелеву: «Как и вы, я полностью доверяюсь Всевышнему»[133]. Так что он уже был предрасположен к этим идеям, но война послужила стимулом для их углубления в его мышлении. Популярна история (имеющая множество вариантов) о его духовной беседе, во время которой в Петербурге он спросил своего друга Александра Голицына (позднее министра по делам религии), как он умудряется сохранять такое спокойствие во времена такого кризиса, и получил ответ, что залогом этого была вера в Бога и Святое Писание. В этот момент Библия Голицына упала на пол и открылась на 91-м Псалме. Голицын потом подарил Александру свою личную Библию. Позднее, во время посещения царем службы по уходящим войскам в соборе, он услышал чтение того же Псалма, и священник сказал ему, что его выбором чтения управлял Господь. Александр тогда заказал Библию и начал свои занятия с изучения этого псалма.
Это было время интенсивной религиозной активности в России в ответ на шок от вторжения и, в большей степени, реакцией на осквернение наполеоновскими войсками церквей. Русская православная церковь уже объявила Наполеона Антихристом в 1806 году. Сегюр, служивший в Великой армии, обвинял православное духовенство в возбуждении крестьян против французов рассказами о том, что французы были «дьявольским легионом под командой Антихриста, ужасного на вид, одно прикосновение которого оскверняло все вокруг»[134]. Другой французский участник кампании сообщал:
Очевидно, что ненависть, испытываемая ими к Наполеону, дополнительно вызывалась самими священниками и другими религиозными служителями, которые видели в личности Императора [Наполеона] лишь богохульника, который желает опрокинуть одну за другой все религии [135].
В этом отношении Александр разделял чувства многих своих подданных. Как он писал Фридриху-Вильгельму III:
… сожжение Москвы наконец осветило мой разум и Божье решение наполнило меня теплом веры, которого я никогда до того не ощущал. С этого момента я учился узнавать Бога так же, как Он обнаружил себя через Библию, с этого момента я пытался понимать, как я понимаю теперь, Его волю и Его закон, с этого времени я стал другим человеком, и избавлением Европы от гибели я обязан собственной своей безопасности и избавлению[136].
Для множества российских подданных религиозный угар, вызванный французским нашествием, прошел с уходом врага, но для российского правителя эти ощущения имели долговременные последствия. До 1812 года Александр возлагал надежды на идеальную организацию Европы и управление будущими международными связями, основываясь на мирских принципах, хотя и неясно выраженных; после 1812 года религиозные переживания окрашивали все его помыслы.
Несмотря на военный успех, Наполеон оказался теперь в Москве в отчаянном положении. Он проник в сердце России, но все еще не мог вынудить Александра просить мира. Он вынашивал идею похода на Санкт-Петербург, но практически это никогда не представлялось возможным, при истощении его сил и разрыве линий снабжения тем более. Он также обдумывал возможность полной дестабилизации общественного порядка в России провозглашением свободы крепостных. Находясь в Москве, Наполеон приказал доставить ему из архивов и частных библиотек материалы, относящиеся к пугачевскому восстанию (последнее великое восстание казаков 1773–1774 годов, в котором и крепостные поднялись против своих господ). Он ожидал крестьянских делегаций с петициями, но этого не произошло. Тем не менее российское правительство приняло меры предосторожности, расположив в губерниях дополнительные войска, чтобы остановить любые крестьянские волнения. После возвращения во Францию Наполеон произнес речь в Сенате, в которой утверждал, что только перспектива кровавой бойни между крепостными и их господами удержала его от принятия этой меры. В ссылке на острове Святой Елены он выражал сожаление, что не сделал этого. Но освобождение крепостных никогда не входило в его реальную политику. Наполеон не собирался опрокидывать общественный порядок в России, он хотел лишь вынудить Александра заключить с ним мир. Разрастание гражданской войны сделало бы любые соглашения с Александром невозможными, а хаос в стране не принес бы Наполеону никаких военных преимуществ. Оставленные без достаточного собственного снабжения, наполеоновские армии полагались лишь на силой реквизированные в деревне продукты; социальные беспорядки не улучшили бы положения.
Наполеон, фактически, был в Москве беспомощен. Чем сильнее подвергались его войска нападениям партизан, тем катастрофичнее уменьшалась армия, а ее снабжение ухудшалось. В предельно слабой позиции он был вынужден полагаться на то, что Александр заключит соглашение по собственной воле. Александр, тем не менее, продемонстрировал значительное мужество и стойкость в это кризисное время. Нерешительность, проявленная им, когда нужно было планировать кампанию против французов, сменилась упорным отказом подписывать какие-либо соглашения. Он писал графу Христофору Ливену, русскому послу в Лондоне:
Я не заключу мира до тех пор, пока не прогоню врагов назад за наши границы, даже если должен буду, перед тем, как преуспеть в этом, отступить за Казань. До тех пор, пока я защищаю российскую территорию, я буду просить Англию лишь о военных припасах и вооружении. Потом, когда с помощью Провидения, я оттесню врага за наши границы, я не остановлюсь на этом, и только тогда готов буду достигнуть с Англией соглашения о более эффективном содействии, о котором мог бы просить для достижения успеха в освобождении Европы от французского ярма[137].
Конечно, Александр сознавал, принимая во внимание враждебность, выказанную дворянством после заключения Тильзитского договора, и недовольство, возросшее после падения Москвы, что любая попытка достичь компромисса с Наполеоном была бы совершенно не принята ни армией, ни дворянством и подвергла бы риску его собственный трон. Казалось, Наполеон не просчитал этого. Его письмо к Александру с предложением мира осталось без ответа.
Великая армия покинула Москву 19 октября. Наполеон надеялся возвращаться через плодородные провинции к югу от пути его вторжения, но потери в битве при Малоярославце 24–25 октября вынудили его идти по своим же следам через места, уже опустошенные проходом русских и французских войск. Наступление очень жестокой русской зимы и нападения партизанских групп и крестьянских банд усиливало деморализацию армии. Один мемуарист подробно рассказывает о том, как крестьяне вели «безжалостную войну против перевозок, нападали на курьеров, вырезали больных и раненых, возвращавшихся в Смоленск, и постоянно разъединяли французскую армию»[138]. 9 ноября передовые французские отряды снова вошли в Смоленск. Войска надеялись найти здесь необходимые припасы, но горько разочаровались. Смоленск был опустошен: только 350 из 2250 зданий уцелели. Остатки армии пересекли реку Березину 26 ноября; только успешный обманный маневр и мастерство французских саперов предотвратили окончательное уничтожение Великой армии (Александр никогда не простил Кутузову просчет, в силу которого это случилось), 13–14 декабря перешли Неман и достигли прусской территории. Из четырехсоттысячной армии Наполеона вернулось менее 40 000. Это было сокрушительное военное поражение, от которого Наполеон уже не оправился. 24 декабря 1812 года, в день своего рождения, Александр объявил своим генералам; «Вы спасли не только Россию, вы спасли Европу»[139].
Поражение Наполеона в Европе
Александр теперь принял личное командование армией и 23 декабря с триумфом вернулся в Вильну. Тем не менее он все еще был способен выказывать идеалистический и наивный взгляд на международные отношения, задав мадам Шуазель-Гуфье вопрос: «Почему все правители и народы Европы не могут договориться между собой и жить как братья, помогая друг другу в нужде и поддерживая в невзгодах?»[140]. По ее словам, «ангельская душа» Александра еще более проявилась, когда он отправил домой несколько испанских военнопленных за свой счет. Но на самом деле Александр был на грани свершений гораздо больших, чем просто благожелательные раздумья о международных объятиях. Как победитель Наполеона он внезапно стал потенциальным освободителем Европы.
В январе 1813 года русские войска вошли в Пруссию. Александр приказал наступать, несмотря на совет Кутузова, который считал, что русская армия не в состоянии продолжать кампанию, и хотел дожидаться прибытия новых рекрутов и наступления весны. Пруссия формально все еще была в союзе с Францией, но младший прусский командующий, граф фон Йорк[141], своей властью покинул Наполеона и заключил в Тауроггене соглашение о нейтралитете с русским генералом И. И. Дибичем. Теперь, когда миф о непобедимости Наполеона был разбит в России, а другие французские силы застряли в Испании, где наступали войска Британии, полное поражение Наполеона казалось по меньшей мере возможным, и новая коалиция начала обретать форму. В Калише, в бывшей прусской Польше, Александра поддержал Г. Штейн, бывший прусский кабинет-министр, сделанный теперь Александром главой временного правительства для управления территориями Пруссии, освобожденными от французской оккупации. Александр разделял желание Штейна восстановить Пруссию в ее прежнем статусе (хотя и не обязательно в прежних границах). В январе 1813 года Александр великодушно писал Фридриху-Вильгельму III: «Согласно моей вере и моим принципам, я хочу отплатить добром за зло, и не буду удовлетворен, пока Пруссия не приобретет вновь всю свою мощь и пышность»[142]. Взгляды, высказываемые ранее некоторыми немецкими историками, о том, что Штейн был только инструментом в стремлении Александра перенести войну против Наполеона в Европу и всего-навсего попутно освободить Германию, подверглись убедительному опровержению. Александр показал, что готов именно освободить Пруссию, даже наперекор советам своего главнокомандующего, но Штейн не был подготовлен к принятию власти. Он отказался, сославшись на свою слабость и подчеркнув, между прочим, ограниченность царя: «…у меня было влияние без власти, влияние на весьма несовершенное человеческое существо, которое должно было использоваться как инструмент для достижения высших целей. Александру недоставало глубины и способности сосредоточиваться»[143].
В конце февраля 1813 года Александр и Штейн подготовили текст военного союза между двумя странами, который был подписан Фридрихом-Вильгельмом 28 февраля в Бреслау, куда он бежал из Берлина. Договор предусматривал объединение русских (150 000) и прусских (80 000) войск против Франции и объявлял, что ни одна из сторон не подпишет сепаратного мира. Более спорные секретные пункты обещали Пруссии территориальное объединение с Восточной Пруссией, что ставило под вопрос возвращение ей польских территорий (которые составляли герцогство Варшавское) и давало почву подозрениям о претензиях на эту область России. 22 февраля Александр выпустил прокламацию, в которой обещал помощь германскому народу: «Воспользовавшись нашими победами, мы протягиваем руку помощи угнетенным народам». В Калише Александр заявлял: «Придут времена, когда договоры больше не будут лишь мечтой, когда они снова смогут соблюдаться с поистине религиозной верой, с этой священной неприкосновенностью, от которой, считаем мы, зависят сила и существование империй»[144]. К этому времени Александр думал не только в терминах сотрудничества, которое поможет разбить французов. Скорее французское нашествие и собственные его религиозные впечатления убедили его в том, что на нем лежит миссия спасителя Европы и европейских народов (включая французов) от тирании Наполеона. Конечно, Александр и ранее делал идеалистические заявления о своем желании видеть людей, живущих в мире и свободе, хотя и без религиозной окраски фраз, но он никогда раньше не требовал, чтобы подобные сентиментальности одобрялись его союзниками и формально выражались в прокламациях и договорах. Времена, когда наиболее грандиозные идеи царя можно было спокойно проигнорировать, прошли. В марте Пруссия официально объявила войну Франции. Вскоре после этого совместная декларация Пруссии и России призывала немецких «князей и народ» помочь в освобождении германских земель от Наполеона. В апреле Британия согласилась предоставить прусским и российским войскам субсидию в 2 миллиона фунтов (две трети которой предназначались России).
Российская и прусская армии быстро продвигались через Центральную Европу. Французы вынуждены были отозвать в Испанию большие силы, и Наполеон стал формировать армию из ветеранов и неопытных юношей, но, несмотря на это, оказался способен задержать наступление, победив в битвах под Лютценом — 3 мая и Бауценом — 20 мая 1813 года. Выбор Александром нового главнокомандующего соединенной русско-прусской армией нерешительного генерала Петра Витгенштейна (Кутузов уже умер), частично был виною этих неудач. Царь уже и раньше не раз проявлял свою неспособность определять качества военных командиров. После неудач он обычно увольнял командира, что надлежащим образом проделал и в данном случае, восстановив в должности главнокомандующего Барклая-де-Толли (который был отстранен от нее после сдачи Смоленска). Австрия, номинально союзник Франции (Наполеон женился на габсбургской принцессе Марии Луизе), теперь предлагала перемирие, которое обе стороны приняли и подписали в Плесвице 4 июня, в основном с целью использовать передышку для восстановления своих сил. В Австрии у государственного канцлера Клеменса фон Меттерниха вызвал подозрения мессианский тон Калишского соглашения, которое, казалось, предлагало Германии национальный крестовый поход против Наполеона. Он также опасался последствий триумфа России и не доверял намерениям Александра относительно Польши и Балкан. Тем не менее, Меттерних способствовал некоторым попыткам вести переговоры о мире, который оставил бы Наполеона или его сына на троне и сохранил Францию достаточно сильной для того, чтобы служить противовесом русским в Центральной Европе. Однако отказ Наполеона от переговоров и победа Веллингтона над французской армией под Витторией в Испании убедила сопротивляющегося Меттерниха, что австрийским интересам больше всего соответствует присоединение к коалиции, несмотря на оговорки насчет планов России и Пруссии о реорганизации Центральной Европы.
В штабе Александра в Райхенбахе 27 июня 1813 года Австрия, Пруссия и Россия подписали конвенцию о восстановлении прусских и австрийских владений, о воссоздании независимых германских государств и формальном роспуске герцогства Варшавского с его конституцией. Наполеон попытался помешать всему этому при австрийском вооруженном посредничестве и добился успеха в продлении перемирия, но как только слабость французов стала очевидна Меттерниху, эти попытки пресеклись, и в августе 1813 года Австрия объявила Франции войну. В конце августа союзники попытались отвоевать Дрезден, но были отбиты французскими войсками. Александр снова проявил недостаток тактического мышления, настаивая на необходимости атаки в лоб, наперекор советам не только австрийцев, но и собственных генералов. 9 сентября 1813 года Россия, Пруссия и Австрия подписали в Теплице договор, обязывающий каждую из подписавшихся сторон выставить против Франции 150 000 человек и не заключать сепаратного мира. Договор также подтверждал реставрацию независимых германских государств, роспуск Рейнской Конфедерации и совместное определение судьбы герцогства Варшавского. Меттерних, однако, не обязывался принять будущее устройство Европы или исключить из обговоренного устройства Наполеона. Швеция присоединилась к союзу, дав ему численное превосходство; теперь у союзников было около 490 000 солдат, в то время как Наполеон мог собрать лишь 440 000.
Дорогая победа (обе стороны потеряли приблизительно по 30 000 человек только в первый день) трех держав над Наполеоном под Лейпцигом («Битва народов») 16–19 октября обозначила конец французской власти над Германией и заставила Наполеона отступить за Рейн. Александр играл в битве активную роль, руководя ходом сражения и лично участвуя в казачьей атаке против французских кирасир (когда его просили переместиться в безопасное место, он ответил: «Здесь нет для меня пуль»). Позор его поражения в битве при Аустерлице наконец-то был смыт. На этом этапе, однако, казалось, что союз распадется, так как ни Австрия, ни Пруссия не были готовы перенести кампанию в саму Францию. Несмотря на критическую нехватку у Наполеона войск и военных припасов и сопротивление внутри Франции дальнейшим рекрутским наборам, они не стремились рисковать собственными армиями на французской земле. Александр единственный был тверд в намерении продолжать кампанию до решительного конца и лишить Наполеона власти. Только его угроза пойти на Париж без союзников и прибытие в феврале 1814 года с новыми предложениями виконта Кестльри, британского министра иностранных дел, спасло коалицию от развала. В начале февраля союзники одержали первую победу на французской земле, но к середине месяца они встретили свирепое сопротивление и должны были отступить. Это вынудило Александра заключить с своими партнерами соглашение и принять предложения Кестльри. 9 марта 1814 года договор в Шомоне связал всех членов коалиции до полного поражения Франции и объявил признание федеративной Германии и независимых Голландии, Швейцарии, Италии и Испании. По самым проблематичным вопросам о будущем Польши и о том, кто будет править Францией, решение не было достигнуто. Британия предоставила субсидии в размере 5 миллионов фунтов, поровну разделенные между союзниками.
Русские войска, возглавляемые Александром, вошли в Париж 31 марта 1814 года. Проявив решимость разбить Наполеона полностью, Александр теперь мог позволить себе в этот миг победы быть великодушным. Он всегда заявлял, что только Наполеон сам по себе был его врагом и он не чувствует враждебности к французскому народу, который рассматривает как жертву дьявольского правления императора. Он объявил жителям Парижа: «Я пришел не как враг. Я пришел принести вам мир и торговлю»[145], и сообщил делегации, встретившей его перед въездом в город, следующее:
Я уважаю Францию и французов и надеюсь, что они дадут мне возможность сделать для них добро. Пожалуйста, скажите парижанам, господа, что я вхожу в их стены не как враг, и от них зависит, принять ли меня как друга; и еще, что у меня лишь один враг во Франции, и с ним я буду непримирим[146].
Наполеон был низложен 6 апреля, а 20 апреля взошел на борт корабля, плывущего к острову Эльба. Александр остался в Париже очаровывать французских сановников и дам; он грациозно отклонил предложение переименовать Аустерлицкий мост во что-нибудь, связанное с менее болезненными воспоминаниями, и услаждал бывшую императрицу Жозефину во время своих частых визитов к ней. (Увы, для Жозефины обаяние Александра имело роковые последствия; во время пикника, на котором он присутствовал, она подхватила бронхит и умерла в конце мая).
В то время как Александр сопровождал свою армию через всю Европу, он не пренебрегал своими новыми духовными интересами. Он писал своему другу Кошелеву в январе 1813 года, прося молиться за него, чтобы он смог выполнить свою миссию — «сделать мою страну счастливой, но не в обычном смысле, а установить истинное правление Иисуса Христа, во что я вложу всю мою славу»[147]. Идея, которая позже воплотилась в Священном союзе 1815 года, брала начало в кампании 1813–1814 годов в Европе. Александр позже заявлял, что Союз происходил из встречи с королем Пруссии и императором Австрии после победы при Лейпциге. (Тем не менее, его памяти нельзя доверять в этом вопросе; он также утверждал, что вдохновение исходило от первой его встречи с Фридрихом-Вильгельмом в 1802 году и, по другому случаю, что эта мысль была сформулирована только на Венском конгрессе). Он продолжал свои духовные чтения и ознакомился с работами современных мистиков. Во время прохода русской армии через Южную Германию в июле 1814 года он встретил набожного человека, немца Иоганна Юнг-Штиллинга. В течение этого года он также переписывался с мистически настроенной мадам Юлией де Крюденер, лютеранкой из Ливонии, вышедшей замуж за барона Крюденера, балтийского дворянина, служившего в российском дипломатическом корпусе. Мадам Крюденер последовала за Александром в штаб его войск в Хейльбронне в 1815 году и руководила устроением встречи с ним 4 июня. Это, согласно свидетельству евангелического священника Эмпайтаза, «было эмоциональным столкновением; мадам Крюденер произнесла трехчасовую речь, во время которой Александр едва мол выговорить несколько ломаных слов; он обхватил голову руками и проливал обильные слезы». Затем царь погрузился в чтение Писания, но не проникся мыслью о своем несоответствии настолько, чтобы забыть о своей миссии в Европе. Он молился за врагов, и еще — «чтобы Бог даровал мне милость обеспечить мир в Европе; я готов положить на это всю свою жизнь»[148].
За триумфальным вступлением в Париж последовали визиты Александра в Голландию и Англию (со времен Петра Великого это сделал первый русский правитель), где его шумно приветствовала толпа как народного героя. К сожалению, он не добился такого же успеха у политических лидеров Британии. Кестльри проявлял осторожность в заключениях о слишком большой кажущейся популярности Александра и намеренно устроил приглашение в то же самое время остальных «героев» — Фридриха-Вильгельма III и прусского генерала Гебхарда фон Блюхера; так как, писал он графу Ливерпульскому, британскому премьер-министру, «[русский] Император обладает величайшими заслугами и должен превозноситься, но его нужно сделать частью группы, а не единственным предметом обожания»[149]. Александру предшествовала его сестра Екатерина, недавно овдовевшая, которая успела уже оттолкнуть множество влиятельных людей своими манерами и любовью к интригам. А сам Александр ухитрился разъярить принца-регента, проявив абсолютную бестактность (например, поклонившись в опере отвергнутой жене регента, тем самым вынудив его поступить так же). Неделю спустя регент был «измотан суетой, усталостью и гневом». Александр также намеренно искал расположения оппозиции, вигов, но ни на кого не произвел впечатления. «Тщеславный, глупый парень» — был вердикт лорда Грея[150].
Александр купался в почестях, которые воздавались ему должным образом. Он получил степень доктора гражданского законодательства и диплом, дарованные ему Оксфордским университетом, как когда-то Фридрих-Вильгельм. Хвалебные стихи, специально посвященные ему по этому случаю, включали угодливые строчки:
Речь, обращенная к Александру Лондонской Корпорацией, должна была звучать еще приятнее, написанная таким образом, чтобы угодить ему как можно больше:
В завершение этих счастливых и полезных Миру результатов, мы созерцаем в августейшей Персоне Вашего Императорского Величества Монарха, за которым армиями следует храбрый и верный Народ, чтобы исправить вред всего самого распутного, досадного и варварского, что расстроенное Честолюбие может породить, а безрассудная Жестокость — увековечить; Героя, с непреклонной настойчивостью своих намерений пересекшего целые области и преследовавшего до самой Столицы Франции пораженного Тирана, не ради воздаяния, не в мстительном яростном стремлении разрушать или уничтожать, не для того, чтобы покорить, но чтобы вывести на путь истинный дезориентированные Народы, разбить их цепи, принести мир в их сердца и процветание в их дома; Героя, на удивление, и посреди громких славословий побежденных, протянувшего в своей победоносной руке милость, благосклонность и одолжение, и проявившего в гордый час триумфа смелость, великодушие и снисходительность Христианского Завоевателя[152].
Александр получил, по крайней мере публично, признание своей роли великодушного спасителя Европы. Вероятно, он не заботился о плохом впечатлении, которое произвел на британских политических лидеров, отказавшись вести дела с кем-либо, кроме царствующих лиц.
Во время визита в Англию Александр продвинулся в своих новых религиозных исканиях. В июне 1814 года он встретил членов Британского и Зарубежного библейского общества и посетил собрание квакеров, которое нашел очень трогательным. Александр пригласил Вильяма Алана, Стефана Греллета и Джона Вилкинсона (все они были известными квакерами) посетить его в гостинице на следующий после собрания день. По словам Алана, царь проявил серьезность и скромность:
…он сказал, что полностью согласен с Братьями, что это сокровенная и духовная вещь; он сказал, что сам имеет обыкновение молиться каждый день… Он отметил, что божественное поклонение состоит не во внешней церемонии или произнесении слов, которые сами по себе слабы и лицемерны, а в том, чтобы обратить себя к Господу…[153].
Необходимо помнить, что эти серьезные разговоры проходили вперемежку с довольно вольными развлечениями, которые устраивались ради царского посещения. Во время пребывания в Портсмуте Александр высказал желание посетить квакерскую семью, но организованное посещение семьи Джона Глейстера в Брайтоне не состоялось из-за размеров охваченной энтузиазмом толпы, которая окружила царя. По дороге в Дувр Александр увидел на обочине пару в квакерской одежде и спросил, не смогут ли он и его сестра провести с ним немного времени. Ему были показаны окрестности дома которые, согласно квакерскому историку, произвели благоприятное впечатление:
Уходя, он преклонился, чтобы поцеловать руку Мэри Рикман, к удивлению квакерши; далее они общались с простотой и дружелюбием и покинули фермера и его жену порядком озадаченными своим вниманием, но полностью очаровав их своими изысканными манерами[154].
Обустройство Европы
Продемонстрировав себя за границей в качестве победителя Наполеона, Александр обратил теперь свое внимание на будущий вид Европы. Мирное обустройство проходило в три этапа: в мае 1814 года Первый Парижский мир определил вхождение Франции в Запад; Венский конгресс, который собирался между ноябрем 1814 и мартом 1815 года, обозначил границы Центральной и Восточной Европы. Наполеон вернулся во Францию 1 марта 1815 года, сверг короля Людовика XVIII и восстановил себя на троне Франции 20 марта. Британские и прусские войска разбили его армию 18 июня 1815 года при Ватерлоо, в этой битве русские войска не принимали участия. Второй Парижский мир в ноябре 1815 года дополнительно покарал Францию, исходя из этих событий. Александр появился на мирном конгрессе как «спаситель» и «освободитель» Европы и принял на себя ведущую роль в этом судопроизводстве.
В общем, великие державы оказались способными достигнуть соглашения о территориальном устройстве Запада без больших затруднений. Первым Парижским договором 30 мая 1814 года Франция была уменьшена до своих границ 1792 года. Буферные государства окружали ее на севере (объединенные Бельгия и Голландия), на востоке (присоединением к Пруссии части Рейнских земель) и с юго-востока (расширенное Соединенное королевство — Пьемонт-Савойя). Англия приобрела Тобаго, Санта-Лючию, Мавританию, датский мыс Доброй Надежды и Мальту. После битвы при Ватерлоо Наполеон отрекся во второй раз и был сослан на остров Св. Елены. Франция была наказана Вторым Парижским договором 20 ноября 1815 года; ее возвратили в границы 1790 года (что означало передачу Вестфалии Пруссии и части Савойи Пьемонту) и обложили большой контрибуцией в 700 миллионов франков. Она также была обязана принять оккупационную армию на 5 лет (в дальнейшем срок был уменьшен до 3 лет).
Главные разногласия на Западе возникли по поводу нового управления во Франции. Александр был настроен враждебно лично к Людовику XVIII (когда ранее тот писал к Александру, то называл его «Monsieur, mon Frere et Cousin»; царь холодно отвечал «Monsieur le Comte»), но был вынужден принять реставрацию Бурбонов. Именно по его настоянию Людовик вернулся не абсолютным монархом, а с формальной конституцией. Интересно, тем не менее, рассмотреть внимательнее конституцию Бурбонов, которую Александр не просто одобрил, но частично сам составил. Она гарантировала равенство перед законом и религиозную терпимость и сохраняла наполеоновский Гражданский кодекс и конкордтат с папой. Исполнительная власть отдавалась королю, была учреждена двухпалатная ассамблея. Она обладала ограниченной законодательной властью, без права проявлять законодательную инициативу, но с правом отвергать, не исправляя, законопроекты, предложенные королем.
Александр часто выражал веру в конституцию, и мирный процесс 1814–1815 годов давал ему возможность опробовать ее в различных странах, а не только в его собственной. Он всегда интересовался судьбой Швейцарии, родины его учителя Лагарпа. В 1814 году он послал Иоанниса Каподистрию, уроженца о. Корфу, попытаться разрешить сложности введения федеральной конституции в Швейцарии после отступления французов, чего тот и добился, несмотря на многие трудности, ко времени мирной конференции. (Александр писал Лагарпу в январе 1814 года о Каподистрии, что «он пришел с Корфу, и, тем не менее, республиканец; и что заставило меня выбрать его — знание его принципов»)[155]. Александр, однако, не поддержал самостоятельности Ионических островов, на что надеялся Каподистрия; они были переданы под британский протекторат. Германские государства видели в Александре своего защитника, но царь, хотя и проявлял некоторый интерес к их территориальному и конституционному обустройству, в основном был поглощен созданием центральноевропейского барьера вокруг Франции, что не должно было причинить слишком больших неприятностей существующим государствам. Он хотел, инструктировал он графа Карла Нессельроде, его министра иностранных дел с августа 1814 года, «оставаться верным простым принципам и оставлять неустроенных дел как можно меньше»[156]. После многих незначительных территориальных переделов новая Германская Конфедерация была образована в составе 38 государств (до войны в ней было более 300 государств) с Федеральным Собранием во Франкфурте.
Устройство дел на востоке требовало гораздо большего времени из-за польского вопроса. У России не было причин проявлять великодушие. В 1812 году Наполеон надеялся, что польское и литовское дворянство в Российской империи перейдет на сторону Франции. Хотя в сколько-нибудь значительной степени этого не случилось, примерно 100 000 поляков из герцогства Варшавского участвовали во вторжении в Россию. Многие из них ставили целью восстановление Польши, которая включила бы, наконец, земли, полученные Россией в результате разделов, и, возможно, поглотила бы часть Украины (Малороссии). Общее восприятие поведения польских войск в России (российские мемуаристы постоянно возлагают вину за большую часть жестокостей в западной России скорее на поляков, чем на французов или другие национальности в пестрой наполеоновской армии) еще более настраивало российское общественное мнение против поляков.
Заявления Александра о поляках оставались примирительными. Накануне вторжения он писал Чарторыскому, спрашивая, когда было бы наиболее приемлемо снова поднять вопрос о восстановлении Польши, и теперь не видел причин менять свои намерения. В январе 1813 года он снова уверял Чарторыского: «Месть — чувство мне незнакомое»[157]. Александр издал в Вильне манифест, прощающий поляков за действия против него. Позднее он освободил польских военнопленных в России и дал польской армии во Франции безопасный проход для возвращения домой. В мае 1814 года он писал Тадеушу Костюшко (который возглавлял восстание поляков против Екатерины II в 1794 году после второго раздела Польши):
Мои лучшие желания исполнены. С помощью Всемогущего я надеюсь осуществить восстановление смелой и порядочной нации, к которой Вы принадлежите… Еще немного времени и мудрой политики, и поляки вернут свое истинное имя, а я буду иметь удовольствие убедить их в там, что человек, которого они считали своим врагом, забыв прошлое, исполнил все их чаяния. Как бы меня обрадовало, Генерал, Ваше участие в столь полезном труде![158]
Позднее, в Париже, Александр провел с Костюшко несколько бесед, в которых ставил вопрос о возможности возвращения Польше земель, потерянных при разделах. В то же время он вел разговор с С. А. Поццо ди Борджо (сардинец, на российской службе с 1805 года) и снова о том, что по отношению к Польше была допущена великая несправедливость, которую необходимо исправить, восстановив страну, включая земли, входящие в Россию (с чем его собеседник не соглашался). С другой стороны, он счел предложение Чарторыского о расширенном Польском королевстве под управлением брата царя Михаила преждевременным. Он также информировал Чарторыского, противореча своим заявлениям Костюшко и Поццо ди Борджо, что считает земли, полученные в результате разделов, неотъемлемыми от России. Не удивительно, что Чарторыский остался в неведении об истинных взглядах Александра на Польшу. В июне 1813 года он сообщал по этому поводу Рейхенбаху, что было «невозможно определить, искренен ли он, или лукавит; существует достаточно причин предполагать последнее»[159].
Именно польский вопрос обсуждался дольше всего на мирных переговорах 1814–1815 годов. Александр предложил теперь из всех польских земель, приобретенных в разное время Пруссией, создать новое королевство, династически связанное с Россией; русский царь был и польским королем. Пруссия должна была получить в компенсацию за потерю польских территорий Саксонию. Конечно, австрийцы враждебно отнеслись к этим планам, усиливающим одновременно и Россию, и Пруссию. Ни их, ни британцев не удовлетворили утверждения Александра о непременной независимости проектируемой им Польши, как и обещание отдать ей часть территорий, полученных Россией при разделах; в их глазах все предложения царя преследовали лишь интересы России. Секретное оборонительное соглашение, призванное сдерживать расширение России, было достигнуто 3 января 1815 года между Австрией, Британией и Францией и намеренно сделано известным (просочилось) России. Это вынудило Александра достичь соглашения с Британией и Австрией; в феврале был найден компромисс, согласно которому Россия уступила часть того, что было Герцогством, сразу и Пруссии, и Австрии, а Пруссия получила лишь две пятых Саксонии. Новое Королевство Польское имело величину 127 000 квадратных километров и 2,5 миллиона населения.
Польская конституция от 27 ноября 1815 года связывала Польшу и Россию личностью царя, принявшего титул короля Польши. Хотя польские историки, вполне справедливо, сравнивают эту конституцию с конституцией 1791 года не в пользу первой, Польше все же были даны выборная нижняя палата (Сейм), который должен был выбираться на каждые два года, право «habeas corpus»[160], свобода прессы и вероисповедания, армия (которая не могла быть использована вне Польши) и обещание, что польский язык будет использоваться во всех официальных делах и что общественные должности будут зарезервированы за поляками. Двухпалатный сейм обладал ограниченной властью, у него не было права законодательной инициативы, его мог созвать, отсрочить и распустить лишь король, который имел также право «вето» на его резолюции. Сверх того, наиболее важным постом в Польше был пост вице-короля, и Александр назначил на него своего брата Константина. Чарторыский, который так много трудился для восстановления Польши, не получил реальной власти. Тем не менее круг избирателей в Польше был шире, чем во Франции в 1814 году, — от 106 000 до 116 000 польских граждан были наделены избирательным правом по сравнению с 80 000 французских граждан в стране, население которой больше чем в 10 раз превосходило польское. На бумаге, наконец, поляки оказались в более выгодном положении, чем финны после 1809 года, чья «конституция» была подтверждена, но которым не было дано никакого документа, устанавливающего их права.
Заявления и действия Александра по отношению к Польше между 1812 и 1815 годами полны противоречий (хотя не больше, чем в 1806 или между 1807 и 1812 годами), но кажется, что в его мотивах прагматизм смешивался с идеализмом. В ноябре 1812 года он в разговоре с М. Огинским заявил: «Я воссоздам Польшу… Я сделаю это, потому что это согласуется с моими убеждениями, с чувствами моего сердца, и еще — с интересами моей империи…»[161]. Это было несомненно выгодно России — расширить свои границы к западу и иметь контроль над большей частью Польши. Но Александр также находился под влиянием своей дружбы с Чарторыским и разговоров с поляками, такими как Костюшко и Огинский, и часто выражал мнение, что Екатериной II была совершена великая несправедливость. Он был, конечно, готов мириться не с созданием независимого государства, которое могло бы представлять опасность для России, — это стало ясно после 1807 года — но только государства, подчиненного России. Александр еще раз продемонстрировал свое упрямство определенным желанием придерживаться этого плана наперекор советам своих дипломатов и советников; они боялись, что его действия только разожгут польские страсти и что конституция послужит опасным вдохновением для российской молодежи.
Устройство 1815 года должно было сохраняться и сдерживание Франции — гарантироваться продлением Четверного союза. Более того, союзники согласились встречаться «через равные интервалы». Александру, тем не менее, этот союз виделся более чем в просто прагматических рамках, он хотел формально внедрить в него свои новые религиозные убеждения. В ноте к полномочным представителям Австрии, Британии и Пруссии в декабре 1814 года он предлагал реформу Четверного союза на новой основе «…принципов христианской религии» как «единственного основания политического и социального порядка, с которым монархи, действуя совместно, облагородят принципы своих государств и гарантируют отношения между народами, порученными им Провидением»[162]. С энтузиазмом и наивностью неофита Александр, очевидно, предполагал, что его убеждения разделяют все.
В следующем году он представил свой проект Священного союза Францу I Австрийскому и Фридриху-Вильгельму III Прусскому, которые и подписали его должным образом 26 сентября 1815 года. Священный союз провозглашал, что все три монарха представляют одну христианскую нацию и согласны действовать в братском единении, руководствуясь христианскими принципами справедливости, милосердия и мира во всех своих шагах на общее благо. Три монарха поручились действовать вместе в духе братства и обеспечивать взаимную поддержку. В это время Александр был частым ночным посетителем салона мадам Крюденер, но все указывает на то, что текст Союза был написан им единолично. Очевидно, он дал текст мадам Крюденер непосредственно перед тем, как представить его монархам Австрии и Пруссии, но непохоже, чтобы она сделала что-либо кроме минимальных исправлений. Позднее она утверждала: «Бог и Император сделали все… Я одобрила его проект и посвятила себя служению этому великому делу, предпринятому им»[163]. В то время в их отношениях наметилось некоторое охлаждение после того, как член кружка Крюденер в присутствии Александра вошел в транс, произнося якобы снизошедшее на него пророчество, которое оказалось божественной просьбой о некотором количестве денег для обустройства небольшой группы около Хейльбронна.
Священный союз вызвал язвительные замечания. Кестльри назвал его «куском возвышенного мистицизма и чепухи» и утверждал, что «разум Императора не вполне здоров». Хотя Меттерних отзывался о Союзе как о громко звучащем «ничто», он принимал его достаточно всерьез для того, чтобы изменить формулировки и сделать его менее опасным. Он убрал упоминания братства «подданных» и утверждение, что европейские армии — «часть все той же армии, созванной для защиты мира и справедливости». Еще раньше он выказывал равную тревогу об опасных формулировках декларации в Калише. Россия была в 1815 году господствующей континентальной европейской державой, и, в отличие от 1804 года, было уже невозможно игнорировать предложения Александра, даже если их не слишком принимали всерьез. Только принц-регент в Британии и папа отказались от приглашения подписать союз (Кестльри готов был удовлетворить требования Александра, но принц-регент ограничился личным письмом Александру с выражением симпатий к его целям); турецкий султан приглашен не был.
Некоторые историки утверждали, что Священный союз был хитрой уловкой Александра, предназначенной замаскировать его намерения с помощью высокопарных христианских фраз. Но эмоциональный переворот, испытываемый Александром с 1812 года, — его духовное пробуждение, ужас наполеоновского вторжения (он говорил мадам Шуазель-Гуфье, что это состарило его на десять лет), чтение им Писания и мистических трудов, его встречи и разговоры с иностранными мистиками и дружба с Голицыным и Кошелевым, — все это заставляет верить, что Священный союз отражал настоящий образ его мыслей и не был холодно просчитан. Ранние заявления в Калите и Четверной союз уже шли в этом направлении. Это было также отражением духа времени и сочинений современников. Например, в работе Адама Мюллера «Elemente der Staatskunst», опубликованной в 1809 году, утверждалось, что христианство должно быть средством объединения Европы в нечто вроде Федерации; а в 1814 и 1815 годах Александр получал меморандумы от германского католического теолога, Франца Ксавьера фон Баадера, который предлагал Христианскую теократию и Европейский союз. В более общем смысле, сильный акцент в Союзе на общности европейских народов, их «морального духа», образе «великой европейской семьи» отражал тенденцию, вслед за французской революцией, обращаться к «народам», а не только к правителям. Александр уже делал это в своих прокламациях к народам Германии в 1813 году. Опасения Меттерниха по поводу возможного распространения подобного подхода сказались в его колебаниях при присоединении к Четверному союзу и привели затем к правке им текста Священного союза.
Существуют другие свидетельства того, что Александр принимал Союз всерьез. Он приказал зачитывать его в церквах по всей империи (в его оригинальной версии, без поправок Меттерниха) не только в 1815 году, но ежегодно в день годовщины подписания Союза: практика, продлившаяся вплоть до правления Николая I. В марте 1816 года Александр выражал восторг по поводу Союза в письме к Ливену, с уверенностью, типичной для его заявлений того периода:
Мои союзники и я… имеем, намерение более эффективно применять принципы мира, согласия и любви, являющиеся плодами веры и христианской морали, к гражданским и политическим отношениям между государствами… никто не может обольщаться надеждой плодотворно трудиться ради процветания народа без абсолютного возвращения к тем же самым принципам, без торжественной декларации, которая послужит определению эпохи и которая подчинит этому постоянному руководству взаимные отношения между нациями и монархами, которым они вверены.[164]
В 1822 году он сказал Голицыну, что Союз оформился на Венском конгрессе и «увенчал его работу там», но что только после поражения Наполеона под Ватерлоо он получил возможность «осуществить план, который лелеял со времени Конгресса»[165].
Это, конечно, не значит, что у Александра были ясные понятия о том, как подобные чувства должны быть приложены к актуальным после 1815 года проблемам, или какие, на самом деле, отношения он предлагал для христианских монархов и их народов, если народы действуют наперекор тому, что монарх считает наилучшим образом отвечающим их интересам. Нужно еще рассмотреть, как Александр воспользовался своей новой властью в Европе и что получили его собственно российские подданные в сравнении с тем, что он дал полякам и установлению чего способствовал во Франции.
ГЛАВА 7
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕВРОПЫ: 1815–1825
От Вены до Экс-ля-Шапели
Возросший авторитет России и ее монарха, приобретенный после поражения Наполеона, был признан современниками. Наполеон писал из ссылки на Св. Елене, предостерегая: «…в течение десяти лет вся Европа будет либо казачьей, либо республиканской», и еще: «Россия по природе своей — агрессор». В 1819 году французский епископ и политический деятель Дюфур де Прадт писал, что Россия, с ее огромным населением, могла бы
завоевать мир. Сто миллионов русских крестьян… представляют собой зрелище, заставляющее трепетать любого…
В 1828 году он охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Англия правит морем, а Россия — сушей: таково реальное разделение мира». Американец Александр Н. Эверетт дал в 1828 году исторический анализ роста российского влияния, заключив, что царь
…наконец-то… поднял своих подданных, в смысле цивилизации, до уровня остальной Европы, эти князья… заняли теперь свои места, не столько в ней, сколько над ней. Россия сразу же стала не просто ведущим, но, по существу, правящим государством[166].
Александр был на вершине власти и авторитета в период между Венским конгрессом и конгрессом в Экс-ля-Шапели 1818 года; его влияние всерьез пошло на убыль лишь в начале 20-х годов. Он выдвигал грандиозные планы переустройства Европы и лидирующей роли России в этом переустойстве еще в те времена, когда не мог существенно повлиять на положение дел. До поражения Наполеона остальные государственные деятели могли игнорировать или отклонять эти идеи. Однако к 1815 году Александр мог уже добиваться ясного ответа других держав на свои предложения. Он неоднократно по различным поводам заявлял, что желает мира. Французский посол Ж. де Ноай сообщал, что трудно было «проникнуть в сущность подобных мыслей монарха», но, несмотря на это, его суждение об Александре в конце 1816 года было следующим:
Я не верю в то, что император Александр замышляет завоевательные войны; сохраняя свою огромную армию, он хочет лишь и в дальнейшем играть роль третейского судьи в Европе…
В феврале следующего года он так подытожил свое понимание целей Александра:
Император продолжает с тем же интересом следить за всем, что в общем и в частностях касается его армии. Управление внутренними делами также является предметном придирчивого внимания. Если кто-нибудь искал бы дополнительно к этому других вещей, занимающих его мысли, то мог бы порадоваться, видя его поглощенным религиозными идеями. Они ежедневно оказывают на него величайшее влияние, и это моральное расположение, счастливое для Его Императорского Величества в Европе, дает новые гарантии верности России намерению исполнять свои обязательства и его любви к миру…[167]
Тем не менее действия Александра в годы после Венского конгресса заставляют думать, что он хотел играть более позитивную роль в европейских делах, чем это заявление предполагает. Далекий от проявлений хотя бы небольшого интереса к иностранной политике, он был поглощен тем, чтобы испытать свою новую власть и убедиться, что его взгляды на мир в Европе и на методы и институты, которые он полагал наиболее соответствующими для его достижения, стали бы широко известны и получили общее одобрение. Александр не был чистым альтруистом или идеалистом; на самом деле его внешняя политика показывала, что он ясно понимает, в чем состоят интересы России. Проницательная оценка тщеславия Александра, но также и его твердости в принуждении остальных держав признать значение России, была сделана австрийским послом в России в записке, переданной Меттерниху в 1818 году: «Его [Александра] цель — чтобы мир в Европе был бы делом его рук, и чтобы Европа осознавала бы, что поддержание этого мира зависит от него»[168].
Хотя Александр осознавал свою новую силу, ему все же болезненно дали понять на конгрессе в Вене, что сочетание Британии, Австрии и бывшего его врага Франции изолировало Россию; это вынудило его пойти на уступки в польском вопросе. Он понимал, что Британия будет хитрить в преследовании своих интересов на море, обходя интересы континентальных европейских держав, связанных территориально условиями Венского договора. Он также понимал, что англо-австрийская дружба может быть снова использована в Четверном союзе, чтобы помешать российским интересам. В годы между Венским конгрессом и конгрессом в Экс-ля-Шапели Александр преследовал несколько политических целей, чтобы справиться с ситуацией. Некоторые историки полагают, что Священный союз был сознательной попыткой Александра создать альтернативу Четверному союзу, чтобы ограничить мощь Британии. Тем не менее этому нет прямых подтверждений. Он надеялся, что Соединенные Штаты будут придерживаться союза, но когда этого не случилось, трудно сказать, как это отразилось на балансе сил в Атлантике. На деле Священный союз в форме союза почти всех европейских государств, больших и маленьких, никогда не рассматривался Александром как противовес Четверному союзу. В основном он предполагал, как и остальные правители и министры больших государств в то время, что принятие решений должно быть сферой деятельности лишь ведущих европейских держав.
Более значительными были предложения, сделанные Александром Франции после 1815 года. Восстановление положения Франции в качестве великой державы согласовывалось с его желанием казаться главным гарантом сохранения европейского мира и гармонии. Это могло бы продемонстрировать его великодушие к бывшему врагу, его христианское всепрощение («месть — чувство, мне не знакомое», как объявил он Чарторыскому) и его персональную роль в установлении стабильности в Европе. Он часто выражал личное расположение к Франции и ее народу (всегда давал понять, что его враг — Наполеон, а не французский народ) и свое желание установить добрые отношения между двумя странами. Было также немаловажным, что восстановленная и реабилитированная Франция могла бы служить противовесом неформальному союзу Британии и Австрии против России. Александр настаивал на уменьшении репарационных выплат Франции и на прекращении ее военной оккупации. Его комментарий французскому послу де Ноай в 1816 году был прагматичен настолько же, насколько апеллирующим к тщеславию французского короля, который, без сомнения, не меньше русского царя стремился к восстановлению французского влияния в Европе:
Союз моей и Вашей стран может быть только полезным обеим сторонам. Мы не можем сталкиваться друг с другом, не можем предъявлять друг другу какие-либо претензии: пожав друг другу руки, мы обеспечим мир в Европе.
Александр продемонстрировал также, как идеализм может смешиваться с реалистичными заботами об интересах России, своими предложениями Британии в 1816 году об «одновременном сокращении вооруженных сил всех видов, которое державы должны предпринять для сохранения безопасности и независимости своих народов». Он выразил надежду, что Россия и Британия будут «способны осуществить вместе и способами, более всего соответствующими настоящей ситуации и отношениям между различными державами, сокращение вооруженных сил всех видов, поддержание коих в боевой готовности ослабляет доверие к существующим соглашениям и ложится тяжким бременем на каждый народ». По завершении кампании против Наполеона в Европе оставалось мало сомнений в силе российской армии. Предложения Александра о некотором уменьшении войск временами рассматривались как циничная уловка, позволяющая ему представиться борцом за мир, а на деле уменьшить силу своих потенциальных врагов, скрывая при этом собственные огромные силы, держа их в резерве в его так называемых военных поселениях. Такая интерпретация оставляет без внимания разорительные финансовые последствия для России нашествия 1812 года и отчаянную необходимость сокращения огромных расходов на армию. В 1816 году царь жаловался австрийскому послу, что его войска должны быть так широко разбросаны по всей империи, что он может послать в бой меньше людей, чем Пруссия. В сентябре 1816 года рекрутский набор был отложен на год. На деле все эти предложения были сходны с предложениями 1804 года: демонстрируя миролюбие царя, они предполагали, как обычно, что великие державы (и в частности Британия и Россия) будут инструментами проведения этой политики. Не удивительно, что ни Британия, ни Австрия не испытывали энтузиазма по поводу российских предложений об ослаблении их собственных морских и военных сил, и Александр так и не получил положительного ответа на свои предложения.
В Вене Александр выразил одобрение «умеренным и мудрым» конституциям, которые, как он полагал, обеспечат стабильность Европы, и поддерживал введение таких конституций во Франции, германских государствах и Польше. В марте 1818 года он открыл первую сессию Польского Сейма в Варшаве. Александр не предвидел конфликта со своими новыми польскими подданными на этой встрече. Более того, он намекал, что конституционное устройство, подобное введенному в Польше, также, возможно, станет доступно российским подданным. Он, очевидно, не ожидал, что это приведет к политическому вызову его власти. Когда Сейм отважился выразить недовольство незаконными действиями королевской администрации, его холодный ответ на эту дерзость депутатов был следующим:
Согласно статье 154 Конституции, Сейм не имеет права обвинять правительство или указывать на его ошибки; он обязан выражать свои взгляды только по тем вопросам, по которым правительство его запрашивает[169].
На конгрессе в Экс-ля-Шапели в 1818 году сразу после своей варшавской речи он все еще, видимо, верил, что умеренные конституционные реформы полезны для мира и стабильности. Он использовал конгресс, чтобы отстоять свои общие взгляды на организацию Европы и, в частности, воплотить в жизнь планы восстановления Франции как великой державы. Он предлагал заменить Четверной союз новым союзом пяти держав, который включал бы Францию. Внося это предложение, Александр действительно отказался от любых эгоистических интересов. Напротив, это предлагалось как шаг, который принес бы пользу всей Европе. Как сообщал Каподистрия, Александр с привычной скромностью предлагал эту политику «не для себя, не для России, но в интересах всей вселенной»[170]. Предложение было выдвинуто в поддержку принципа законности, согласно которому Франция, с ее восстановленным монархическим режимом (Александр ссылался на французскую монархию, как на «законную и конституционную»), могла бы способствовать монархической солидарности великих держав и, таким образом, стабильности Европы, — нечто, чему Австрия, в частности, с трудом могла бы противостоять. Несомненно, Александр также сознавал, что Франция сможет обеспечить полезный противовес альянсу Британии и Австрии в настоящем союзе четырех держав. Он далее утверждал, что вывод союзных войск из Франции поможет обеспечить мир. Кроме того, царь безуспешно пытался заставить Испанию присоединиться к Союзу, что еще больше ослабило бы союз четырех держав.
Более того, Александр пытался изменить саму природу Четверного союза таким образом, чтобы она более согласовывалась с принципами, которые он выразил в Священном союзе. Он хотел сделать обязательства союзников и формальные установления структурой, гарантирующей европейский порядок. Он полагал, например, что державы должны достигнуть соглашения о правовом обеспечении исполнения своих договорных обязательств и о военных мерах, которые союзники могут предпринимать, а также о порядке созыва конгрессов и участия в них других государств. Он ясно выразил свои взгляды об обязанностях союзников:
…необходимо, чтобы принцип общей коалиции был установлен и развит рассмотрением всех случайностей. Необходимо, в свою очередь, чтобы коалиция была способна действовать и чтобы четыре двора могли бы положиться на единодушное содействие всех государств Европы, если того потребует случай[171].
Таков был Александр в зените своей власти — уверенный, что сможет не только добиться практических преимуществ для России путем присоединения Франции к Союзу, но отваживающийся формировать Союз согласно своим собственным взглядам и представлениям о европейской организации. Не удивительно, что его наиболее смелые замыслы были встречены остальными державами с подозрением и враждебностью. Попытка Александра установить общие гарантии («моральные гарантии», по его словам) европейского обустройства, которые подписали бы не только державы-победительницы, но и остальные страны, встретила сопротивление. Ни Меттерних, ни Кестльри не хотели связывать себя обязательствами защищать конституции отдельно взятых государств. Понятно также, что его предложение о морской лиге или интернациональной армии не были встречены Британией с большим энтузиазмом. Со стороны Меттерниха тоже не наблюдалась симпатия к предложениям «этого ужасного императора Александра». Он жаловался императору Францу в августе 1818 года перед открытием конгресса:
…император Александр и его кабинет позволяют себе заходить все дальше и дальше в желании морально и политически обращать в свою веру. Отсюда все интриги, маленькие и большие, которые ставят нас в тупик, нас и, можно сказать, все правительства; отсюда полчища эмиссаров и апостолов[172].
Идеи Александра, тем не менее, не могли быть полностью проигнорированы. Окончательным итогом конгресса в Экс-ля-Шапели был компромисс и в соглашении, и в ответе на наиболее амбициозные предложения Александра. При российской поддержке была выведена оккупационная армия и улажен вопрос французских репараций. Хотя Франция снова, к удовлетворению Александра, присоединилась к Союзу в качестве великой державы, в то же самое время Четверной союз был обновлен, подтвердив таким образом обязательства союзников поддерживать устройство 1815 года, посредством этого обеспечив ограничение французских запросов. Хотя остальные державы противостояли попыткам Александра ввести общие гарантии и расширить масштабы Союза, он одержал частичную победу в том, что сам язык протокола в Экс-ля-Шапели подтверждал наконец дух Священного союза:
Они [монархи] формально признают, что их обязанности по отношению к Богу и народу, которым они правят, предписывают им дать миру настолько, насколько это возможно, пример справедливости, гармонии и умеренности: счастливы быть способными посвящать отныне все свои усилия защите мира, увеличению внутреннего благосостояния своих государств и возрождению религиозных чувств и морали, столь упавших в последнее время[173].
Этим подчеркивалось, что великие державы признают некоторую общность интересов и продвигаются по пути установления принципа коллективных действий.
Александр даже ухитрился произвести впечатление на хитрого и циничного Фридриха фон Гентца, помощника Меттерниха, искренностью своего желания мира и тревоги за Европу, которые ставились им впереди частных интересов России:
… он [Александр] выражал истинные мысли о расторжении Четверного союза как о преступлении и предательстве Европы: он хотел установить мир, соблюдать соглашения и поддерживать политическую систему, которую великие державы приняли и следовали ей три года. Эти декларации сделаны с выражением истинного, благороднейшего энтузиазма ради общей пользы, ради религии, ради морали, ради всего самого возвышенного в действиях людей. Эти декларации произвели наиболее непосредственное и сильнейшее впечатление. Сомнения и страхи улетучились… в течение конгресса его [Александра] отличала мудрость, совестливость и умеренность. Его августейшая персона стала центром конгресса в Экс-ля-Шапели, он был подстрекателем, вдохновителем, героем[174].
И это от человека, который тремя годами раньше язвительно отзывался о Священном союзе, как о «монументе эксцентричности людей и князей в дипломатическом выражении девятнадцатого века»[175].
В 1818 году Александр не особенно скромничал, говоря о своих достижениях. Он писал из Экс-ля-Шапели 21 ноября графу Христофору Ливену, своему послу в Лондоне:
Собрание в Экс-ля-Шапели, чьи труды подошли к концу, — это решающий период для продолжительности и стабильности европейской системы. Результаты, которых оно достигло, характеризуют второй период великой политической эры, которая началась с момента, когда монархи стали братьями в понимании религии и доброго порядка, справедливости и человечности…[176].
На встрече с Томасом Кларксоном, английским квакером, который боролся с работорговлей, Александр выразил свою приверженность миру, сказав так: «…Я уверен (положа руку на сердце), что Дух Христианства является решительным противником Войны», и вера Кларксона в то, что мир в Европе теперь гарантирован, выражалась следующими словами:
В настоящее время он не видел в Европе ничего, что с годами могло бы стать источником войны… Он повсюду, сколько мог, искал причины для войны, но не мог найти ни одной. Его намерениям соответствовало то, что разные монархи были теперь достаточно хорошо знакомы друг с другом, чтобы назначать собрания между собой каждые три года, во время которых они могли бы обсуждать дела Европы в целом с целью предотвращения будущих войн, и он надеялся, что если его план будет принят, то желаемый эффект будет достигнут[177].
Восстания и конгрессы начала 20-х годов XIX века
В течение двух лет самоуверенность Александра самым печальным образом была развеяна. В марте 1819 года Август Коцебу, немецкий драматург, чьими работами Александр восхищался и который долгое время трудился во благо русской интеллигенции, был убит студентом в Мангейме. Меттерних использовал это как предлог для введения летом того же года репрессивного Карлсбадского декрета, целью которого было искоренение того, что рассматривалось как упадок в немецких университетах, и усиление цензуры в прессе. Карлсбадские меры в то же время призваны были противостоять влиянию Александра как самозванного защитника конституций в германских государствах, основанных в 1815 году. Первая половина 20-х годов была знаменательна вспыхнувшими восстаниями на Пиренейском и Апеннинском полуостровах. В марте король Испании Фердинанд VII был вынужден восстановить либеральную конституцию 1812 года. В июле восстание разразилось в Неаполе, особо обеспокоив Меттерниха, так как оно угрожало итальянским провинциям Австрии и ее господствующему положению на полуострове, приобретенному в 1815 году.
Меттерних в Экс-ля-Шапели уже предупреждал Александра об угрозе революций. Теперь он стремился извлечь пользу из возвышенных заявлений царя о единстве интересов великих держав, сделанных в 1818 году, обратившись к этому содружеству для поддержки в подавлении революций. Хотя в 1815 году Австрия опиралась на поддержку Британии в противодействии русскому влиянию, но теперь, когда Кестльри ясно дал понять, что Британия не собирается позволять использовать Четверной союз для подавления революций, Меттерних был вынужден обратиться за помощью к России. Хотя Меттерних мог бы воззвать непосредственно к принципам Александра по поводу совместной деятельности великих держав, в его намерения входило манипулирование чувствами, выраженными царем в Экс-ля-Шапели, в двух важных направлениях. Во-первых, ему необходимо было утвердить не принцип совместной деятельности великих держав против маленьких государств, а общего одобрения односторонних действий Австрии в тех областях, которые представляли для нее угрозу. Во-вторых, нужно было убедить Александра (который публично одобрял умеренные конституции, по крайней мере вне России), что подобные конституционные уступки, особенно в Неаполе, сами по себе являлись гибельными и угрожали порядку в Европе. Короче, Александр должен был понять, что Европа стоит перед лицом революционной угрозы, и Меттерних лично предпринял энергичную попытку убедить царя в этом.
К тому времени Александр с большей восприимчивостью относился к аргументам Меттерниха. Он был шокирован убийством Коцебу и начал подозревать, что источником революционных идей снова является Франция. В результате его дружеское отношение к этой стране, так же, как и вера в то, что французская «мудрая конституция» гарантирует стабильность, уменьшились. Французский посол Огюст де ля Феррон заметил, что события за границей после февраля 1820 года (т. е. до введения конституции в Испании и Неаполе) вызвали перемену в настроениях Александра. В результате поуменьшилось намерение царя ввести конституцию в России, выраженное при открытии польского сейма:
…то, что случилось в Германии, вечные волнения, которые имели место во Франции, чрезмерные злоупотребления свободой прессы — все это послужило причиной перемены его взглядов относительно либеральных идей и убедило императора полностью отменить все проекты, представленные ему, для воплощения в жизнь которых требовалось ограничение его власти[178].
Растущее разочарование Александра в конституционном правлении усугубилось поведением депутатов во время второго польского Сейма, созванного в сентябре 1820 года. Депутаты, особенно братья Немоёвские, вовсе не собираясь благодарить Александра за дарованную им конституцию, осмелились критиковать правительство в присутствии царя. Сейм опрометчиво отменил правительственные предложения расширить прерогативы общественного обвинителя, назначил закрытое слушание в суде, а также ввел Устав Сената. Немоёвские особенно нападали на то, что они считали неконституционным поведением правительства. Когда Новосильцев недвусмысленно представил позицию Александра в отношении конституции резкими словами: «Имейте в виду, господа, что вам как даровали конституцию, так могут и отобрать ее», В. Немоёвский ответил: «Тогда мы станем революционерами». Слова царя не увеличивали любви поляков к нему. Его речь, которая закрыла это бурное собрание, по своему тону очень отличалась от его обращения в 1818 году и содержала явную угрозу правительству, обязанному пресекать революционные беспорядки. Он сказал депутатам:
Взывая к вашей совести, предупреждаю, что ваши дискуссии могут привести к гибели Польши[179].
В этой атмосфере, так отличной от той, что была два года назад, великое противостояние усилилось. Вопрос о праве вмешательства во внутренние дела государства для подавления революций был главным на конгрессе в Троппау (с октября по декабрь 1820 года), Лайбахе (с января по май 1821 года) и Вероне (с октября по декабрь 1822 года). Александр представил два предложения на конгрессе в Троппау, оба составленные Каподистрией, который в это время разделял ответственность в решении внешнеполитических вопросов с Нессельроде. Первое предложение отстаивало основные принципы права вмешательства всех пяти держав во внутренние дела всех государств. Это не понравилось Британии и увеличило ее разногласия с Австрией. Второе предложение Александра позволяло маленьким государствам самим проводить внутренние реформы при согласии этих пяти держав. Это, следовательно, было неприемлемо для Меттерниха. Александр, однако, не без задней мысли, чуть не единственный отстаивал мнение о том, что умеренные конституции для них обеспечат стабильность. Когда дошли слухи о восстании в Мадриде, Александр посоветовал Фердинанду VII обратиться к восставшим с предложением конституции[180]. Это была испанская конституция 1812 года, а не радикальная французская конституция 1791 года, которую Александр считал главной причиной его конфликта с Наполеоном. Он также инициировал предложение Каподистрии Неаполю о принятии «национальной конституции». Меттерних, однако, не был намерен делать уступки Неаполю и предлагал союзникам принять обязательства об интервенции на Апеннинский полуостров.
Меттерних постоянно намекал Александру о тайных обществах, подтачивающих общественный и политический порядок. Когда в ноябре Александр узнал о так называемом мятеже Семеновского гвардейского полка, он усмотрел в этом признак общеевропейского революционного заговора. 4 ноября он писал княгине Софье Мещерской:
…Один Спаситель может указать от этого средство[181].
Тревога Александра по этому поводу вылилась в подписанном 19 ноября 1820 года в Троппау протоколе о совместных действиях правительств Австрии, Пруссии и России на случай беспорядков. Это позволяло Австрии произвести интервенцию в Неаполь. Неофициальное австро-британское и франко-российское дружелюбие заменяло союз трех восточных государей и изолировало Британию и Францию.
Конгресс переместился из Троппау в Лайбах (Любляна, в настоящее время — в Словении) в начале января 1821 года. В следующем месяце вспыхнули восстания в Пьемонте, и, все еще потрясенный восстанием Семеновского полка, Александр написал Голицыну о «враге», который угрожает христианской религии. Ученик Лагарпа добавил: «Словом, это лишь применение на практике доктрин, проповедуемых Вольтером, Мирабо, Кондорсе и всеми мнимыми философами, известными под названием энциклопедисты»[182]. В результате всего этого Александр радикально изменил свои взгляды. Томас Джефферсон, президент Соединенных Штатов, писал своему послу в Санкт-Петербурге Левитту Харрису в 1821:
Я боюсь, что наш Александр отклонился от истинной веры. Он стал членом Священного союза и признал его антинациональные принципы. Его становление проводником принципов, угнетающих человечество с варварских времен, будет пятном на его репутации, которое нелегко будет смыть[183].
Однако Александр все еще защищал учреждение конституций, хотя теперь он предполагал, что возможно не все нации готовы к этому. Он высказал свое предположение французскому послу ля Феррону, указывая на события в Испании и Италии:
Я люблю конституционные учреждения и думаю, что каждый добропорядочный гражданин должен любить их, но могут ли они быть утверждены во всех странах без исключения? Не все народы готовы в одинаковой степени для их принятия. Конечно, свобода и закон, которыми может наслаждаться ваша просвещенная нация, не подходят народам обоих полуостровов[184].
Александр редко высказывал свои соображения относительно конституций настолько ясно; анализ готовности стран для получения этого блага имел значение не только для формирования его мнения о конституционных изменениях за границей, но также для развития конституции внутри России.
Греческий вопрос
В марте 1821 года возникла непосредственная угроза российским интересам, когда Александр Ипсиланти, грек, служивший в российской армии, поднял восстание против турок в княжествах Молдавии и Валахии. До этого царь балансировал между раздражением, вызванным невыполнением турками условий Бухарестского соглашения (1812 год), и другими целями внешней политики. Русские обвиняли турок в невыполнении условий, гарантировавших полную автономию Княжеств, и возмущались их территориальными претензиями на Кавказе. Но до 1821 года ближневосточные интересы были подчинены более важным европейским; в 1817 году граф Г. А. Строганов, российский посол в Константинополе, не должен был позволить дискуссиям по вопросу о Бухарестском соглашении перерасти в войну, потому что Александр «подчинял успех переговоров в Константинополе достижениям в европейском союзе»[185]. Александр желал пользовать конгресс в Экс-ля-Шапели для создания общеевропейской гарантии русско-турецкого урегулирования, но пожертвовал этой целью в пользу поддержки союза с западными странами. Переговоры между Россией и Оттоманской империей продолжались безуспешно с 1819 по 1820 год. Русские требовали, чтобы Бухарестское соглашение было основой для переговоров. Следовательно, напряженность возросла еще до греческого восстания. Ипсиланти осложнил ситуацию для Александра тем, что обратился к нему как защитник греческой православной веры («…Sauvez nous, Sire; sauvez la religion de ses persécuteurs»)[186]. Александр, однако, остался верен позиции Меттерниха относительно мятежников, которую он принял в Троппау, и сообщил Ипсиланти, что никогда не одобрит попытку получить свободу с помощью вооруженной силы. Если Ипсиланти искренне надеялся получить одобрение Александра, то для последнего его восстание не было своевременным. Почти в истерическом припадке царь выразил негодование по поводу восстания своему другу Голицыну:
Нет никакого сомнения, что импульс этого повстанческого движения был дан центральным комитетом, управляемым из Парижа, с целью помочь Неаполю и помешать нам разрушить одну из синагог Сатаны, основанную исключительно для того, чтобы распространять антихристианскую доктрину.
Секретные общества, добавил он, имеют своей целью «парализовать христианские принципы в Священном союзе»[187]. В то время Александр был убежден, что восстания являлись частью общеевропейского плана, исходящего от Франции. Он сообщил квакеру Вильяму Аллену:
…Это восстание против турок было организовано в Париже революционерами, которые желают развязать войну в Европе из-за Греции?..[188].
Меттерних считал, что Александр должен поддержать его мнение, и верил, что России нельзя вмешиваться во внутренние дела на Балканах, как это сделала Австрия на Апеннинском полуострове. Точно так же, как при попытке ограничить российское продвижение в Центральную Европу в 1815 году, Меттерних теперь стремился ограничить русскую экспансию на Балканы. Англия разделяла опасения Австрии относительно российского продвижения в этой области, и обе страны боялись, что российское вмешательство на Балканах подтолкнет Францию к организации вооруженной интервенции для подавления восстания в Испании. Англо-австрийское соглашение, нарушенное совсем недавно, снова было подписано. На конгрессе в Лайбахе (с января по май 1821 года) австрийцы и русские достигли согласия, признав греков мятежниками, но не стали помогать туркам в подавлении восстания. Мятеж Ипсиланти не имел шансов на успех без российской поддержки, к 7 июня он был подавлен, а сам Ипсиланти был вынужден искать прибежища на австрийской территории; вследствие этого он провел следующие семь лет в австрийской тюрьме. Тем временем второе восстание началось на Морейском полуострове, быстро распространившись по греческим островам, и вскоре превратилось в угрозу турецкому господству над этой областью. Отношение турок к мятежникам очень интересовало Россию. Она имела законное право защитить единоверцев от турецкого беспредела, выражавшегося в диких нападениях на греческих христиан: в апреле греческий патриарх Григорий был повешен в Константинополе, а в следующем году свыше 20 000 греков убиты на острове Хиос. Много сочувствия было выражено при дворе в Петербурге и среди армейских офицеров по поводу греческой трагедии. Каподистрия, остававшийся одним из наиболее влиятельных советников Александра, убеждал начать действия против турок от имени греков. Нападения на русские корабли в Черном море и постоянное нанесение ущерба российской торговле зерном (объем товаров, экспортируемых морским путем из Одессы, упал от 4 739 000 серебряных рублей в 1820 до 3 745 000 в 1822 году) обостряли отношения между двумя странами.
Проблема для Александра, однако, состояла в том, что законная власть, которой он должен был бросить вызов, принадлежала оттоманскому правительству. Летом 1821 года он рассмотрел возможность российских односторонних военных действий против турок. Он также обратился к Франции с предварительными предложениями о союзе, который привел бы к разделу европейцами Турции. Но в то же самое время он уверял ля Феррона: «Я не имею и никогда не имел других намерений, кроме сохранения и поддержания мира: это мой лозунг, во имя которого я готов жертвовать всей славой»[189]. Прошлым летом Александр окончательно отказался действовать в одиночку и начал поиски возможности коллективных действий («Это очень сложное дело и, я повторяю, Европе удастся выпутаться только в том случае, если она останется объединенной», — писал он ля Феррону)[190]. Это свидетельствовало об ослаблении влияния Каподистрии при дворе; он отметил с некоторой горечью, что Александр пожертвовал российскими интересами ради укрепления европейского союза.
В действительности же Александр никогда не впадал в отчаяние от этой дилеммы. Он никогда не проявлял особую преданность движению православных христиан на Балканах или большого интереса к православной религии в России. В то время он глубоко интересовался работой протестанте кого Библейского общества в России и выражал свои собственные симпатии к квакеризму. Он избегал участия в какой бы то ни было военной кампании, особенно без поддержки других стран. Война с Наполеоном привела к большим людским и финансовым потерям. Хотя много лет прошло с того времени, когда Оттоманская империя могла быть страшна России, она оставалась серьезным противником. Царь не был готов подвергать опасности свои отношения с остальными державами, ставя под угрозу идею коллективного действия, которой он придерживался начиная с конгресса в Вене. Следовательно, и на практическом, и на принципиальном основаниях Александр искал мирное коллективное решение восточного кризиса, и только в самом конце своего правления он отклонился от этого курса. Он оказался более последовательным в своих принципах относительно восстания и придерживался более искреннего «европейского» взгляда на обязательства великих держав в этом вопросе, чем Меттерних, чье отношение всегда определялось интересами Австрии.
Конгресс в Вероне (с октября по декабрь 1822 года) был озабочен последствиями Испанского восстания 1820 года. Александр, помня о греческом вопросе, поддерживал принцип коллективного действия и предложил послать 150 000 солдат, чтобы помочь Франции в подавлении восстания. Его щедрое предложение неожиданно было встречено без энтузиазма как Меттернихом, так и самой Францией. Александр в течение всего своего правления выражал свои взгляды относительно многих дел в европейских государствах, которые практически не имели стратегического значения для России, но теперь он не только имел реальную возможность вмешаться в эти дела, но даже мог оправдать такое вмешательство ссылками на принципы, установленные в Троппау. Другие державы не имели никакого желания снова видеть российские войска в Европе, но ответ Меттерниха раскрыл его двуличную позицию: вооруженное подавление восстаний, угрожающих Австрии, но отказ от односторонних или коллективных военных действий в Греции и Испании. Меттерних пытался сохранить видимость единства великих держав, предлагая всем монархам одновременно послать ноты протеста конституционному правительству в Испании (Фердинанд VII принял конституцию), считая, что это должно восстановить абсолютизм. Но он не смог договориться о сотрудничестве с Англией, и когда в апреле 1823 года Франция послала 100 000 солдат в Испанию, чтобы подавить восстание, Австрия и Британия не смогли ничего сделать, чтобы предотвратить это.
Не много было сделано в Вероне относительно греческого вопроса. В августе 1822 года дипломатические отношения между Россией и Оттоманской империей были разорваны, и задача представления турецкой стороне российских требований легла на британского посла Стренгфорда, который в этом вопросе поддерживал Турцию. Он представил султану требования российской стороны, которые не оспаривались другими державами: гарантии будущего свободного правительства в Греции; уменьшение турецкого влияния в Княжествах; возобновление свободной торговли в Черном море. К концу сентября Стренгфорд получил согласие с третьим требованием. Остальные державы сошлись на мнении, что Россия имеет некоторые права защищать единоверцев на Балканах. Это не имело большого значения для Александра, но его заявление на конгрессе французскому министру иностранных дел виконту Шатобриану было не только одобрением принципов коллективного действия, но также попыткой заверить другие державы в том, что Россия не имеет никаких личных интересов в этой области:
Невозможно более придерживаться английской, французской, русской, прусской или австрийской политики; сейчас возможна только одна общая стратегия, которая для всеобщего блага должна быть принята как народами, так и правителями. Я первый утвердил принципы, на которых был основан союз… Что я должен сделать для увеличения моей империи? Провидение не дало мне восемьсот тысяч солдат, чтобы удовлетворить мои стремления защищать религию, этику и правосудие и гарантировать господство принципов порядка, на которых построено человеческое общество[191].
Несмотря на ораторское искусство Александра и его дипломатическую активность, переговоры с турками не продвигались. Кестльри покончил жизнь самоубийством в августе 1822 года, и в марте 1823 года его преемник, министр иностранных дел Джордж Каннинг, объявил греков противниками. Это было провокацией по отношению как к Австрии, так и к России. В январе 1824 года Россией был предложен план создания трех автономных княжеств в Греции, подобных княжествам Молдавии и Валахии. Грандиозные планы Александра относительно разрешения греческого вопроса были выражены буз излишней скромности, что вообще было характерно для его заявлений после 1815 года:
Гарантировать права человека без кровопролития, устанавливать правила для долгосрочных отношений… чтобы парализовать влияние революционеров во всей Греции, обеспечивать мир во всем мире — вот в чем заключается работа союза[192].
К несчастью, Британия не смогла оценить пользу для человечества и славу, которую приобрели бы союзники, если бы план Александра был принят (Каннинг прокомментировал: «Когда план состоит из множества сложных частей, он является глупым и не приносит никакой пользы»)[193], а вместо этого боялась, что он увеличит влияние России в Греции. Каннинг, следовательно, не одобрял план, в чем нашел поддержку Австрии.
Следующая конференция держав в Санкт-Петербурге в июне 1824 года состояла всего из двух встреч, так как ни греки, ни турки не были подготовлены к принятию предложения об автономии княжеств; греки потому, что это давало им слишком мало, а турки потому, что это давало им слишком много. Отношение Британии и Австрии к идее коллективной стратегии заставило Александра признать ее недостатки, хотя он все же придерживался своих принципов. Он писал ля Феррону: «… Я снова доказал, что не желаю действовать кроме как в согласии с моими союзниками… Без них я не взялся бы за оружие или, по крайней мере, не стал бы действовать без их согласия»[194]. Разрыв отношений с Англией был неизбежен, и Каннинг отозвал английского посла, сэра Чарльза Бэгота, из Санкт-Петербурга. Александр дал понять, что раздражен этим. Каннинг писал 17 января 1825 года:
Император России в ярости…. На сегодняшний день он довольствуется тем, что приказывает графу Ливену послать мне депешу, смысл которой состоит в следующем: царь будет проклят, если когда-либо вновь заговорит с нами о Греции[195].
Вторая санкт-петербургская конференция в 1825 году проходила без участия Британии. В ходе конференции не удалось достигнуть консенсуса ни в одном из рассматриваемых вопросов. Франция и Австрия выступили против любого типа вмешательства, будь оно коллективным или односторонним. Меттерних пытался создать такую ситуацию, выйти из которой можно было только признав независимость Греции. Александр добился относительного успеха, создав в апреле протокол, который установил то коллективное вмешательство, которое последует, если Оттоманская империя откажется пойти на уступки. Но нежелание Меттерниха согласиться на любое военное вмешательство сделало этот проект бессмысленным. К концу конференции Александр начал отказываться от своих принципов коллективного действия, которые он поддерживал еще с восстания Ипсиланти, разочаровавшись в действиях союзников и, в частности, Меттерниха.
Каннинг надеялся использовать безвыходное положение Греции, чтобы перегруппировать великие державы и, в частности, заставить Александра порвать с Австрией. Он пользовался услугами графини Доротеи Ливен (жены российского посла в Лондоне, в 1818 году ставшей любовницей Меттерниха), которая ездила в Санкт-Петербург и стала неофициальным посредником между ним и Нессельроде (Нессельроде полностью отвечал за иностранные дела после отставки Каподистрии летом 1822 года). Накануне отъезда Доротеи из Санкт-Петербурга в Англию, в конце августа, Нессельроде сообщил ей о разговоре с Александром, который состоялся прошлым вечером. Царь высказал свое мнение:
Турецкая держава разрушается; сколько бы агония ни длилась, она завершится смертью. Я все еще здесь, вооруженный властью и принципами умеренности и бескорыстности. Как это может не радовать меня, принимая во внимание мое отвращение к любому завоеванию ради решения вопроса, который постоянно волнует Европу?.. Мои люди жаждут войны, мои армии полны желания вступить в бой, возможно, я не смогу больше сдерживать их. Мои союзники отказались от меня. Сравните мою политику с их политикой. Все имеют свои интересы в Греции. Я один остался чистым. Я отбросил все сомнения так далеко, что даже не имею в Греции ни одного агента, и я еще должен довольствоваться теми объедками, которые падают со стола моих союзников. Пусть Англия задумается над этим. Если они обменяются с нами рукопожатием, мы сможем управлять событиями на Востоке и установить там порядок, соответствующий интересам Европы, законам религии и гуманности. Это должно лечь в основу для наставления мадам Ливен[196].
Александр энергично, даже довольно раздраженно, защищал собственную невиновность и резко обвинял своих союзников в предательстве, но он также все еще говорил о возможности совместных действий великих держав для блага Европы. Коллективное действие доказало свою несостоятельность, и теперь он, как и в 1804 году, обратился к Англии как к державе, наиболее подходящей России для поддержания благосостояния Европы.
Однако на этой стадии Александр, казалось, был готов к вооруженному выступлению против турок следующей весной, если бы они отказались уйти из Княжеств. Во время его последней поездки на юг, в Крым в сентябре 1825 года, русские войска начали стягиваться к границам Молдавии и Валахии. Только смерть Александра в Таганроге в декабре остановила дальнейшие действия.
Александр и русская торговля
То, как Александр понимал интересы России и ее силы после 1815 года, можно было наблюдать по его торговым отношениям с другими европейскими странами, в частности с Англией. Александр никогда не показывал большого интереса к экономическим вопросам, но, тем не менее, после 1807 года он узнал о непопулярности Континентальной системы, к которой был вынужден присоединиться в Тильзите. Система предназначалась для того, чтобы разрушить британскую торговлю, и после поражения Наполеона в России английские купцы, конечно, надеялись, что их торговые привилегии будут полностью восстановлены. Но хотя торговые отношения между двумя странами были формально восстановлены в 1811 году, Александр не сделал ничего, чтобы снять пошлины с британских товаров или отменить бойкот, объявленный британским купцам в 1807 году, чтобы заставить их присоединиться к российским гильдиям и платить такие же налоги, какие платили российские торговцы. В 1816 году Александр ввел новый тарифный закон, которым удалил часть запретов на ввоз импортных товаров и понизил пошлины на некоторые из них, но свободная торговля так и не была полностью восстановлена. В том же году были приняты меры для ограничения контрабанды товаров через Финляндию. Сдвиг в политике Александра произошел в результате давления других держав на конгрессе в Вене (в частности, Пруссии), а вовсе не из-за какой-либо философской идеи, хотя свободные торговцы в России рассматривали уменьшение тарифов как победу принципов Адама Смита. В следующем году умеренный тариф действовал на товары из Азии, где Россия, конечно, была вне конкуренции.
Объявление Одессы свободным портом в 1818 и снижение тарифов в 1819 году привели к большому увеличению импорта товаров в общем от 155 454 992 рублей в 1819 до 227 349 564 в 1820 году. Поднимая тарифы указами 1822 и 1824 годов, Александр нашел прагматический подход к этой проблеме. За созданием нового тарифа в 1822 году последовало предупреждение, что налог на алкоголь (регулируемый новым законом с 1817 года) не даст так много дохода, как того ожидалось. Тарифная политика Александра показала, что царь понимал потребности российской промышленности; британская хлопчатобумажная ткань были обложена значительным налогом, чтобы защитить внутреннюю текстильную промышленность, в то время как хлопок-сырец и ненабивной ситец не облагались пошлинами, чтобы они могли быть использованы русскими фабриками. Он также дал понять своим отказом ответить на жалобы британских торговцев, что больше не желает играть зависимую роль в торговых отношениях с Англией. Он полагал, что Россия должна быть признана великими державами равной в экономических вопросах так же, как была признана ее важность в дипломатических отношениях.
Торговые российско-американские связи на западном побережье Северной Америки никогда не представляли для Александра главного интереса, а поддерживались лишь ради сохранения дружбы с правительством Соединенных Штатов. В 1818–1819 годах Александр отказался поддержать предложение Российско-Американской компании относительно Гавайских островов. В 1821 году в ответ на давление компании Александр заявил, что территория Аляски севернее 51-й параллели «исключительно» русская, и иностранцам было запрещено вести там торговлю. Он также потребовал права использования вод в радиусе сотни миль от побережья исключительно Россией, а также права конфисковать грузы иностранных судов. Однако несогласие правительства Соединенных Штатов сделало невозможным выполнение этого требования. В 1824 году соглашение было достигнуто, открыв богатства России для американских торговцев и рыбаков на десятилетний период. Александр однозначно дал понять, что не приветствует инициативу Компании, которая может повредить отношениям с Соединенными Штатами. В 1825 году Компания предложила основать другое поселение на Медной реке. Александр тогда призвал руководителей Компании «к самому строгому ответу за неуместность предложения и указал, что они должны неизменно следовать решениям и планам правительства»[197]. Торговцы получили выговор за свою дерзость. Депрессия овладела Александром ко времени встречи держав в Вероне в 1822 году. К этому моменту его уверенность в стабильности Европы после поражения Наполеона была разрушена восстаниями в Европе и беспорядками дома. Стало ясно, что угроза революции не была отдалена победой союзников. Различия между союзниками и несовместимость их интересов были продемонстрированы восстаниями на Апеннинском и Пиренейском полуостровах и на Балканах. Однако Александр не мог найти коллективное решение греческого вопроса почти до самого конца своего царствования. Существовали прагматические причины его позиции, однако его деятельность была оправдана не только военными или финансовыми интересами. Он искренне верил не только в права, но и в обязанности великих держав коллективно определять судьбу меньших государств для блага всей Европы.
Александр, конечно, предполагал, что Россия будет играть ведущую роль в определении нового европейского порядка. Это стало ясно из его предложений Питту в 1804 году. В промежутке между конгрессами в Вене и Экс-ля-Шапели такая роль России казалась осуществимой в соответствии с дипломатией Союза и была принята, хоть и неохотно, другими государствами. Восстания в первой половине двадцатых годов поколебали веру Александра в стабильность новой Европы, которую он помог создать; ответ союзников на его попытки разрешить кризис в Греции в конечном счете поколебал его веру в способность великих держав действовать коллективно для блага всей Европы. Но его сближение с Англией в самом конце царствования показывает, что он не изменил своего отношения к роли России в европейских делах. Хотя Александр далеко отошел от идеи коллективного действия, он все еще хотел работать с прежней силой, чтобы уладить греческий кризис с той же самой честолюбивой целью творить добро для Европы в соответствии с законами религии и гуманности. Военная сила, которую продемонстрировала Россия, победив Наполеона, означала, что ко времени смерти Александра никто не будет сомневаться в ее важной роли во всех аспектах дипломатической политики. Россия стала великой европейской державой во время правления Александра.
ГЛАВА 8
ХРАНИТЕЛЬ ДОМА: 1815–1825
Конституционный вопрос
Действия Александра после поражения Наполеона были направлены на то, чтобы, оправдывая надежды по крайней мере части русской образованной элиты (которая желала изменений внутри России), использовать недавно приобретенный международный статус и поднять Россию до уровня западноевропейских держав и во внутренних, и во внешних вопросах. Александр одобрил конституционные изменения в Швейцарии и Германии и даже дал Польше конституцию. По мнению князя А. Б. Куракина (российского посла во Франции), между 1813 и 1815 годом Александр «открыто выражал свое отношение к нынешнему административному устройству страны» и в ближайшем будущем «собирался вплотную заняться этим вопросом»[198]. В 1826 году генерал А. Д. Балашов, член Государственного Совета, заметил, что Александр «с 1815 года прилагал усилия, чтобы внести некоторые изменения в административное устройство государства»[199]. Александр еще сильнее укрепил надежды своей речью на открытии Польского Сейма в 1818 году и другими высказываниями того времени, которые свидетельствовали о том, что он предполагал ввести этот тип конституции и в России. Его речь выражала надежду, что польская конституция окажется «полезной для всех стран, которые Провидение отдало под мою опеку». Текст речи Александра для Сейма был написан им самим, хотя Каподистрия безуспешно пытался его изменить (Александр разрешил ему изменить только грамматику и пунктуацию). Царь был восхищен эффектом собственной речи. Он писал генералу П. Д. Киселеву из Варшавы в марте:
…перед лицом всей Европы было не просто выступить с речью, тогда я снова обратился к Спасителю, и Он, услышав меня, вложил эту речь в мои уста…[200]
Остальные были в меньшем восторге от его речи, боясь потенциального воздействия его слов, особенно на российскую молодежь, но ее значение было признано всеми. А. А. Закревский говорил: «Речь, которую произнес император, была очень красива, но могла иметь ужасающие последствия для России»[201]. Н. Карамзин писал поэту И. И. Дмитриеву в апреле 1818 года: «Варшавская речь произвела мощный эффект на молодые сердца: они мечтают о конституции; они судят, они устанавливают закон; они начинают писать… Это забавно и позорно». Ростопчин, генерал-губернатор Москвы, писал в следующем году: «…речь Императора в Варшаве вскружила головы; молодежь требует от него конституцию»[202]. Многие предполагали, что скоро выйдет российская конституция. Писатель, экономист и будущий декабрист Николай Иванович Тургенев позже писал:
Этим действием император Александр дал надежды полякам, русским и всему человечеству. Мир увидел, возможно впервые, как завоеватель дал побежденным права вместо цепей. Делая это, император также обязал себя решать многие другие проблемы[203].
В журнале «Сын отечества» вышла статья «О конституции», написанная профессором Санкт-Петербургского университета А. П. Кунициным в ответ на варшавскую речь. В ней высказывалось предложение о создании ассамблеи, которая должна была просто советовать «верховному правителю». Там же высказывалось мнение о том, что конституционное правление было теперь единственной приемлемой формой правления. Даже те, кто выступал против конституционной реформы, понимали, что она могла оказаться полезной. Когда Карамзин узнал, что Новосильцев уполномочен написать конституцию для России, он послал Александру письмо, в котором критиковал конституционную реформу и убеждал его отменить польскую конституцию. Он считал, что «дать России конституцию… — все равно, что надеть на уважаемого человека клоунский колпак». В 1818 году он высказался еще конкретнее: «Россия — не Англия… ее душа — самодержавие»[204].
Согласно воспоминаниям Константина, младшего брата Александра, следующий диалог, случившийся между ними после варшавской речи, иллюстрирует цели Александра и его нетерпимое отношение к критике, даже если она исходила от членов его семьи:
Александр: Скоро наступит радостный момент для России, когда я дам ей конституцию, тогда я буду ехать по Петербургу с Вами и моей семьей ко дворцу, окруженному радостными людьми.
Константин: (сначала я потерял дар речи; потом, наконец, смог произнести): Если Ваше Величество отбросит в сторону абсолютную власть, я сомневаюсь, что это будет соответствовать желаниям ваших подданных. Александр (резко): Я не спрашиваю Вашего совета, я лишь объясняю Вам мои намерения относительно одной из моих проблем[205].
Александр долго не отступал от своей цели. Через несколько месяцев после варшавской речи на конгрессе в Экс-ля-Шапели он объяснил свою позицию достаточно просто маршалу Мейсону: «Люди должны быть освобождены от произвола политического режима; я установил этот принцип в Польше, я установлю его в остальных частях моей империи»[206]. Однако, несмотря на поставленные самим Александром цели, Россия так и не получила конституцию, а правительство не было изменено. В мае 1818 года Бессарабии (отошедшей от Турции в 1812 году) была предоставлена «конституция» Александра, который посетил Кишинев на обратном пути из Варшавы. Бессарабия, конечно, не была этнически русской, но Александр доказал своей политикой, проводимой в балтийских областях, Финляндии и Польше, что различные формы правления были приемлемы для нерусских частей его империи. Бессарабская «конституция» должна рассматриваться в этом свете. Она не затрагивала «права» населения, но занималась учреждением отдельных форм правления. Вся территория была отдана во власть военного генерал-губернатора, в то время как повседневное управление находилось в руках гражданского губернатора. Установленная структура власти возглавлялась Высшим Региональным Советом. Были введены правила относительно языков, которые нужно было использовать в управлении и в суде, формы гражданского права (согласно местным законам и обычаям) и уголовного кодекса (русского), который должен использоваться в суде. Румынская общественная структура была несколько упрощена; румынским боярам было дано российское право собственности, но крестьяне сохранили их персональную свободу. Подобное устройство, принятое Грузией в 1801 году, показало, что Александр, по крайней мере, не был готов ввести крепостное право в области, где крестьяне были свободны. Несмотря на тот факт, что введение конституции явилось не просто перестройкой правительственной структуры, Александр одобрил конституцию Бессарабии вопреки предостережениям многих своих советников. В начале 1819 года он назначил Балашова генерал-губернатором пяти областей России (Тула, Орел, Воронеж, Тамбов и Рязань), что говорило о том, что, возможно, империя будет разделена на более крупные части.
Сперанский вернулся из изгнания в 1819 году и был назначен ответственным за преобразование Сибири, которая страдала от деспотичного правления Ивана Борисовича Пестеля (отца будущего декабриста Павла Ивановича Пестеля). Инструкции, которые получил Сперанский, показывают, что царь был искренне заинтересован административными изменениями внутри империи:
…Вы исправите все, что можно исправить, Вы выявите людей, которые злоупотребляют своим положением, Вы будете привлекать их к суду, если так будет нужно. Но Ваша наиболее важная задача состоит в том, чтобы определить на месте наиболее подходящие принципы организации управления этой удаленной областью. Когда будет готов план такой реорганизации, Вы привезете его мне лично в Санкт-Петербург, так, чтобы я знал действительное положение вещей в этой важной области и мог создать твердую основу для ее благосостояния в будущем[207].
В 1821 году Александр создал специальный Сибирский комитет для исследования отчетов и рекомендаций Сперанского и вслед за этим в 1822 году ввел новую административную структуру для Сибири.
Новосильцев был уполномочен Александром написать конституцию или устав для России. В отличие от своего публичного заявления на открытии Сейма в 1818 году, Александр сделал это в секрете, и поэтому неизвестно, когда именно Новосильцеву была поручена эта задача. Последнее исследование русского историка Мироненко оспаривает представление о том, что работа была начата немедленно после варшавской речи Александра. Автор предполагает, что работа над этим Уставом должна рассматриваться не как плод минутного энтузиазма Александра на открытии Сейма, а как свидетельство того, что несколько позже, в 1818 и 1819 годах он был все еще серьезно настроен на введение конституции в России.
В мае 1819 года Шмидт, русский генеральный консул в Варшаве, информировал Российское министерство иностранных дел, что работа над конституционным проектом завершена, но при этом он упоминал только о первом проекте, появившемся в октябре 1819 года. Этот проект (озаглавленный «Precis de la charte constitutionnelle pour L’Empire Russe»[208]) был представлен Александру в октябре, и царь одобрил его; желая видеть работу завершенной как можно быстрее, он дал Новосильцеву два месяца, чтобы тот завершил проект. К концу 1819 года подготовка перестала быть секретом — в ноябре парижская газета «Le Constitutionel» сообщила: «Император Александр заложит основы представительного правительства в своей обширной Империи, предложив России конституцию»[209].
Ранним летом 1820 года Александр все еще проявлял значительный интерес к работе и в разговоре с поэтом и администратором П. А. Вяземским заметил, что «надеется без сбоев разрешить эту проблему». Он также говорил о нехватке денег, необходимых для такого шага, и о том, что знает, что такое преобразование встретится с трудностями, препятствиями, людским непониманием. Однако Александр хотел продолжать работу и даже оказывал Вяземскому помощь с переводами с французского языка на русский. Александр по-своему понимал значение слова «конституция». Он предложил, чтобы французское слово «конституция» было переведено как «государственное уложение». В заключительной версии проекта статья 34, называемая во Франции «Princi pes constitutifs de la charte» была переведена как «Регулирование Устава».
Заключительный текст проекта Новосильцева предлагал федеральную структуру империи. Он внес предложение, чтобы Россия была разделена на двенадцать административных частей, которые были бы названы «наместничествами». Внутри каждого наместничества должна быть создана дума, включающая верхнюю и нижнюю палаты. Члены верхних палат должны назначаться Александром, члены нижних палат — избираться дворянством и городскими жителями. Интересно, что в проекте Новосильцева внутри этой федеральной структуры Польша и Финляндия теряют свои специальные статусы и конституции и просто становятся наместничествами. Наверху этой структуры учреждалась Государственная Дума с санкт-петербургским и московским отделениями Сената.
Некоторые историки посчитали этот Устав очень умеренным (советский историк А. В. Предтеченский в книге, изданной в 1937 году, писал, что Устав совсем не предусматривал ограничения абсолютной власти и, следовательно, не пытался создать «конституционную монархию»). Содержание, структура и формулировка Устава указывают на влияние польской конституции 1815 года, но Новосильцев был также знаком с конституциями Франции, Соединенных Штатов и южных немецких государств. Черновой конспект Устава давал значительные законодательные полномочия Государственной Думе, но заключительная версия уменьшила их. Статья 12 Устава категорически заявляла, что «монарх является единственным источником всей власти в империи». Однако если бы Устав был введен, то наложил бы некоторые ограничения на власть правителя. Царь сохранял право законодательства, но законы должны были исследоваться и одобряться Думой прежде, чем выйти в свет. Кроме того, Дума получала право отклонять эти законы, а также налагать вето. Принцип представления арестованного в суд для рассмотрения законности ареста, предложенный А. Р. Воронцовым и отклоненный Александром в начале правления частично из-за возражений Новосильцева, теперь был записан в Уставе.
Почему Александр, потерпев неудачу в воплощении Устава, который он не только сам поручил делать, по и видел его первый проект, заставил Новосильцева продолжать работу? Его разговоры с Вяземским свидетельствуют, что он знал о настроениях в некоторых кругах при дворе против любой конституции. Александр, однако, своей тактикой по отношению к Польше показал, что чувствует себя достаточно уверенно, чтобы действовать вопреки мнениям самых близких советников. Он, конечно, осознавал возможную угрозу собственной власти в результате конституционных изменений; так, и в начале правления, и в 1809 году он был против ее ограничения. Но ограничения власти царя, которые следовали из Устава Новосильцева, были ясно видны в проекте, однако Александр не остановил работу, напротив, он хотел, чтобы проект был завершен как можно скорее. Единственный отрицательный отзыв Александра о проекте касался выбора депутатов. Возможно, уже чувствуя недовольство депутатов польского Сейма (второй польский Сейм, который действительно оказался менее надежен, чем первый, не собирался до 1820 года), он заявил, что можно выбрать в Российскую Думу неподходящих депутатов, «Панина, например». Отступление Александра от конституционализма можно объяснить только событиями, которые происходили в России и за границей в 1820 году. К концу этого года, как мы видели, он разочаровался в Польше после бурной встречи второго Сейма в сентябре, и пришел к выводу, что французская конституция не предотвратила развития революционных настроений в этой стране. Восстание на Апеннинском и Пиренейском полуостровах встревожили его и убедили в существовании общеевропейского революционного заговора; мятеж Семеновского полка показал, что Россия не защищена от проникновения революционных идей. В этой атмосфере вопрос введения конституции в России был отложен. В 1821 году Александр говорил французскому послу ля Феррону, что, говоря о любви к конституционным учреждениям, он имел в виду их пригодность только для опытных народов и «просвещенных наций», типа французской. Александр никогда прямо не отказывался от конституционного правления, но, тем не менее, в разговоре с ля Ферроном он не упомянул Россию как просвещенную нацию, достойную получить конституцию. События 1820 года убедили Александра, что Россия и русские не были готовы даже к умеренному типу «конституционных учреждений», которые он приветствовал. В 1823 году М. С. Воронцов изменил структуру правления в Бессарабии, показывая, что это необходимо из-за «конституции», хотя автономия была формально отменена лишь в 1828 году при Николае I.
Крепостное право
Другой фундаментальный вопрос, к которому Александр обратился после поражения Наполеона, касался крепостного права. Александр испытывал отвращение к крепостным порядкам. В 1812 году крестьяне сыграли значительную роль в разгроме армии Наполеона, нанося значительный урон отступающим французам и разрывая их систему обеспечения. В сентябре 1812 года российская газета «Северная почта» сообщила:
Крестьяне, вооруженные топорами, косами, вилами и баграми, храбро боролись с французами и победили их, защищая отечество и веру.
Среди некоторых образованных русских и части крестьян бытовало мнение, что в награду за свой патриотизм они будут освобождены. Непосредственно после поражения Наполеона казалось, что Александр собирался заниматься этой проблемой, хотя, как и с конституционным проектом Новосильцева, он не выказывал свои намерения и убеждения публично. Крестьяне освобождались в балтийских областях: в Эстонии (1816), Курляндии (1817) и Ливонии (1819). За время всего своего правления Александр показал, что был готов проводить различную политику в нерусских частях империи. Он рассматривал балтийские земли как базу для проверки возможности освобождения крестьян всей империи, но их социальные и экономические условия настолько отличались от условий в остальной части империи, что немного можно было получить из этого опыта. Одно из важных различий состояло в том, что в балтийских областях землевладельцы (в большинстве это были шведы и немцы) сами желали отмены крепостного права, в то время как лишь некоторые российские помещики были готовы к этому шагу. Даже в балтийских областях Александр и генерал-губернатор Ливонии и Курляндии итальянец Филипп Паулуччи оказывали давление на ливонскую знать, чтобы она следовала примеру освобождения в Эстонии. Крепостные освобождались без земли и были вынуждены заключать контракты с землевладельцами, чтобы продолжать работать. Нет никакого сомнения, что больший, чем в России, экономический прогресс в балтийских областях был достигнут вследствие освобождения крестьян, но сами крестьяне оказались в невыгодных условиях при заключении контрактов, и это, вместе с продолжительным существованием трудовых повинностей и отсутствием помощи со стороны землевладельцев, привело к ослаблению прогресса. По словам декабриста Павла Пестеля, балтийские крестьяне оказались в худших условиях, чем крестьяне в России, несмотря на «мнимую свободу», которую они получили.
Александр снова проявил заинтересованность положением крепостных крестьян, предложив ввести некоторые обязанности для дворян, после поездки на Украину (Малороссию) осенью 1816 года:
Я нашел крестьян в нищенском состоянии, но при этом пастбища дворян были хорошо ухожены. Это — модель иностранных ферм, а не наших: в России хороший землевладелец и хороший хозяин должен заботиться о богатстве своих крестьян; собственное пастбище не должно быть его единственной целью[210].
Однако позиция Александра по отношению к крепостным подверглась сомнению после его ответа в разговоре с шестьюдесятью пятью санкт-петербургскими дворянами, которые обратились к нему с предложением освобождения крестьян. Александр, предположительно, ответил генералу Иллариону Васильевичу Васильчикову (генерал-губернатору Санкт-Петербурга, который представил предложение) словами: «Как Вы думаете, кому принадлежит законодательная власть в России?». Получив ответ, что только царь обладает такой властью, он холодно заметил: «Тогда оставьте мне провозглашать законы, которые я считаю наиболее полезными для моих граждан» [211]. Александр, конечно, всегда сохранял за собой инициативу в реформировании и никогда не относился доброжелательно к тем, кто брал это на себя. Самое последнее исследование этого предмета русским историком Мироненко не оставляет сомнения в дате инцидента. Большинство историков думали, что он имел место в 1816 году; но Мироненко показал, что это случилось позже, в 1820 году, когда события дома и за границей заставили Александра изменить свое отношение к реформам.
Александр продолжал рассматривать возможность фундаментальных изменений в положении крестьян и после 1816 года, казалось, был готов сопротивляться неизбежной оппозиции со стороны дворян. Он дал тайную команду С. М. Кочубею (полтавскому предводителю дворянства, будущему декабристу) подготовить законы для освобождения крестьян. Кочубей писал:
В 1817 году генерал-губернатором мне тайно был передан приказ императора о создании законов об освобождении крепостных. Я работал над ними более года, после чего законы были представлены монарху.[212]
В 1817 году Александр сообщил своему адъютанту П. П. Лопухину (члену Союза Благоденствия, сыну П. В. Лопухина, председателя Государственного Совета), что, конечно, он хочет освободить и освободит крестьян от ига помещиков. Александр знал о настроении дворян и угрожал: «Если дворянство выступит против моего решения, я поеду со всей моей семьей в Варшаву и издам указ там». М. Муравьев говорил о желании Александра осенью 1817 года издать манифест об освобождении крепостных в Варшаве. К концу 1817 года Александр получил отчет Кочубея, но был разочарован тем, что тот уделил мало внимания урегулированию отношений между крепостными и помещикам до того, как будет решен вопрос крепостничества в целом.
В 1818 году Александр поручил Аракчееву, снова секретно, составить проект освобождения крепостных. Аракчеев не был известен как откровенный противник крепостного права, но и не защищал его. Выбор такого близкого советника показывает, что царь взялся за решение вопроса серьезно. Задача оказалась трудной, практически нерешаемой из-за непреодолимого желания императора сделать проект таким, чтобы он никоим образом не оскорбил дворянство. Аракчеев, следовательно, занимался только финансовой стороной проблемы. Он предложил ввести соглашение, согласно которому правительство будет ежегодно покупать у дворян часть их земли, вместе с крепостными, живущими на ней. Но поскольку сумма, предусмотренная Аракчеевым для проведения такой операции, составляла лишь пять миллионов рублей в год, было подсчитано, что, даже если все дворяне охотно поддержат проведение такой политики, потребуется две сотни лет, чтобы полностью решить эту проблему. Александр так же тайно уполномочил и министра финансов Д. А. Гурьева подготовить проект освобождения крестьян, который не сохранился, хотя некоторые факты свидетельствуют о том, что работа над ним велась в 1818 и 1819 годах[213].
Александр оставил идею освобождения крепостных к 1820 году. Он знал о враждебном отношении большинства дворян к любому изменению крепостных порядков, что, возможно, объясняет, почему работа над законами об освобождении крестьян велась втайне. Многие дворяне боялись, что освобождение будет неизбежно следовать за попыткой создания конституции, и в этом отношении судьбы конституционной реформы и освобождения были связаны. Ростопчин писал С. Р. Воронцову в 1819 году, что после варшавской речи Александра молодежь требовала конституции и освобождения крестьян в соответствии с ней, что противоречило желаниям дворянства. Любые разговоры о конституционном изменении неизбежно поднимали вопрос о крепостничестве. Крепостничество не было упомянуто в конституции Новосильцева, поскольку не упоминалось в проекте Сперанского 1809 года. Сперанский же полагал, что политические свободы могут и должны быть объявлены прежде, чем гражданские, которые требуют освобождения крестьян. Но другие государственные деятели полагали, что с крепостным правом нужно покончить в первую очередь. Н. И. Тургенев писал: «Мы имеем рабство, которое должно быть полностью искоренено прежде, чем русские люди получат политическую свободу; сначала все должны быть уравнены в гражданских правах»[214].
Хотя Александр не принимал участия в этих интеллектуальных спорах, он знал, что разговоры о возможности конституционного изменения приведут к вопросу о крепостном праве в рамках этого конституционного режима. Он также осознавал возможность беспорядков в деревне, к которым может привести поспешное освобождение крестьян. Русское правительство предполагало, что восстание крестьян могло произойти во время вторжения Наполеона в 1812 году после его призыва к освобождению крепостных или грандиозного беспорядка и анархии, царивших во время войны. Несмотря на то, что были зафиксированы только единичные случаи насилия, правительство продолжало настороженно относиться к возможности нарушения порядка крестьянами. В 1819 году Александр получил сообщение о беспорядках в деревнях. Это усилило внимание его советников к слухам об отмене крепостного права, которые могли способствовать волнениям. К концу 1820 года, конечно, Александр осознал наличие революционного движения, которое нарушает спокойствие Европы и от которого не застрахована Россия. При сложившихся обстоятельствах он опасался правительственной политики, которая может привести к социальному взрыву. Крепостные из Курской области подали жалобу в Сенат, когда хозяин продал их без земли. Сенат решил, что помещик не преступил закона, но в начале 1820 года Александр проинструктировал Комиссию по созданию законов решить эту проблему «без отлагательств» и представить Государственному Совету новый закон по этому вопросу. Закон был должным образом представлен Совету и обсуждался в марте и декабре 1820 года. Совет не одобрил предлагаемые изменения и отложил окончательное решение до тех пор, пока все его члены не представили свои письменные комментарии по этому вопросу. Александр, который так желал скорейшего утверждения закона в начале года, теперь был готов оставить свои замыслы. Он знал о сопротивлении Совета и потерял интерес к дальнейшим реформам. В результате он ничего не сделал для того, чтобы ускорить рассмотрение дела, и проблема, которой он занимался с самого начала своего правления, осталась нерешенной.
Военные поселения
Решая проблемы крестьян (в основном, государственных) Александр основывал так называемые военные поселения. Идея не была совершенно новой для России. Казачьи войска традиционно выступали в роли защитников южных границ страны, выполняя те же функции, что и военные поселения. Были и искусственные попытки создать военно-сельскохозяйственные поселения в России. Крестьяне ответили массовым дезертирством. Петр I использовал так называемое ополчение для охраны юго-западных границ. Это ополчение в 1751 году было заменено шестью полками, состоящими, в основном, из сербских эмигрантов, выполняющими такую же функцию до их роспуска в 1769 году. Во время царствования Екатерины II Григорий Потемкин поселил отряды легкой кавалерии в Новороссии и основал военные поселения на вновь приобретенной территории между Бугом и Днестром. В 1804 году генерал Русанов попытался вдохновить уволенных со службы солдат на ведение сельского хозяйства, дав им землю, скот, орудия труда. Александр был знаком с практикой создания солдатских колоний в Австрии, на южной границе с Оттоманской империей, и решился на создание подобных в России.
Были практические причины для обдумывания организации действующей армии в мирное время. Содержание армии обходилось стране в огромную сумму (больше половины бюджета). Война с Наполеоном нанесла большой материальный урон стране. Срок службы в российской армии составлял 25 лет, что не могло не сказаться на дальнейшей жизни призывников. Солдаты, вернувшиеся из армии, уже не могли восстановить утерянную связь с родной деревней и надеялись лишь на проведение остатка жизни в монастыре или в специальных солдатских домах.
Первое поселение было основано в Могилевской губернии в 1810 году. Земля, выбранная для этого, принадлежала царю. Местные крестьяне были выселены, а в 1812 году их заменили 40 000 государственных крестьян из Новороссии. Вторжение французов в Россию помешало дальнейшему развитию проекта, поскольку французы оккупировали сам город и часть Могилевской губернии, однако Александр вернулся к своей идее в 1814 году. На этот раз для поселения было выбрано место недалеко от поместья Аракчеева Грузино. В 1816 году на Аракчеева была возложена вся ответственность за проведение операции. Смысл создания поселения состоял в том, чтобы солдаты оказывали помощь крестьянам в мирное время, за что те, в свою очередь, обеспечивали семью солдата, когда он участвует в военной кампании. Крестьянам оказывалась финансовая помощь. Им в пользование давалась земля, лошадь, и они полностью освобождались от налогов. Для поддержания здоровья колонистов были построены госпитали, лекарства выдавались бесплатно. Рост населения гарантировался обеспечением акушерской помощью, а также выплатой 25 рублей молодоженам. Особое внимание уделялось обучению детей солдат и крестьян, которые должны были составлять основу новой армии. Аракчеев получил 350 000 рублей для обеспечения проекта. Было подсчитано, что поселения заключали в себе 90 батальонов пехоты на севере, 12 в Могилеве, 36 — на Украине (Малороссия) и 240 эскадронов кавалерии на юге (всего 160 000 солдат). Если добавить солдатских жен, детей, солдат, уволенных со службы, а также 374 000 крестьян, то получится, что к концу царствования Александра в военных поселениях жило три четверти миллиона людей. Когда старые деревни разрушились, жители переехали в специально построенные для них жилища, расположенные симметрично относительно главной дороги. Крестьяне и помещики, чьи владения лежали в пределах земли, отобранной для колоний, выселялись. Колонии включали не только солдат, но и крестьян (обычно государственных), которые либо жили на земле, выбранной для колоний, либо были специально переселены в новые деревни. Александр всегда проявлял любовь к лаконичности и порядку. Поэтому на него произвел огромное впечатление его визит в 1810 году в поместье Аракчеева Грузино. В своем письме к сестре Екатерине он описывал увиденное:
(1) порядок царит повсюду;
(2) опрятность;
(3) строительство дорог и плантаций;
(4) симметрия и элегантность видны во всем. Таких опрятных дорог я не видел даже в городах…[215].
Однако нет оснований думать, что Аракчеев убедил царя скопировать его модель поместья для военных поселений. Аракчеев старательно выполнял инструкции Александра, хотя после подавления восстания в Чугуевском полку в 1819 году он сказал: «Я открыто вам заявляю, что устал от всего этого».
Александр был движим не только практическим желанием сэкономить деньги на армии и навести порядок в деревне, но и гуманистическими, идеалистическими и даже утопическими идеями. Он верил, что поселения послужат созданию нового класса полезных, образованных подданных государства:
В военных поселениях солдат будет иметь постоянное место жительства, а во время военных действий его имущество, жена и дети будут поддерживать его боевой дух. Он служит с надеждой и возвращается с радостью… Кроме того, образование поселенцев увеличивает число полезных людей, дороги улучшаются, люди не должны ездить 10–15 верст, чтобы учиться, и ютиться в тесных жилищах[216].
Возможно, после победы над Наполеоном Александр почувствовал, что может изменить русское общество так же хорошо, как политическую карту Европы. Один французский наблюдатель заметил, что желание образования для обоих полов, которое предполагалось в военных поселениях, демонстрирует, что Александр «желает проникновения прогресса в страну для создания среднего класса, потребность России в котором становится сильней с каждым днем»[217]. Это наводит на мысль, что Александр желал создания класса крестьян-землевладельцев. Он, конечно, выражал свое желание освобождения крестьян, и хотя его политика практически не влияла на крепостных, живущих на помещичьих землях, она могла являться важным доводом в споре с землевладельцами, считавшими крестьян неспособными жить в рамках отличной от крепостной системы. Если бы поселения функционировали так же хорошо, как представлял себе Александр, то новый класс крестьян процветал бы, так как финансовых средств было затрачено немало, а земля, оборудование и скот, выделенные для поселений, были хорошего качества. Аракчеев, возможно, присваивал часть средств, поскольку сам был главой многочисленных комитетов, основанных для управления поселениями. Эти комитеты могли распоряжаться землей по своему усмотрению и даже изъять ее у крестьянина, если она не используется должным образом. Это значит, что земля и имущество давались крестьянам только в обмен на отличную службу. Если земля принадлежала государству, то оно могло изъять ее, если считало, что поселенец ее больше не заслуживает. Александр не делал заявлений, проясняющих имущественные права поселенцев, но, так как он знал о политике Аракчеева, то нет причин предполагать, что был против его методов.
Развитие поселений с самого начала встретило сопротивление крестьян. Привлекательность бесплатных лекарств и хорошего оборудования не могла перевесить их негодование по поводу насильственного переселения из родных домов, установления военного режима и перспективы того, что их сыновья станут солдатами, а дочери должны выходить замуж в поселениях. Вся крестьянская жизнь была полностью изменена: крестьяне должны были носить форму, брить бороду, подвергались муштре. Посетители отмечали порядок и опрятный внешний вид колоний. Путешественник Роберт Лиал обнаружил, что крестьянам не представлялось компенсации за прохождение ими военных дисциплин, происходило постоянное вмешательство в личную жизнь:
Заходя в дом крестьянина, удивляешься, где же грязь и беспорядок, обычный для русского жилья! Даже простое ведро имеет свое место. Случись так, что его найдет не на своем месте офицер во время утренней проверки, последует суровый выговор, а может, даже наказание палками[218].
Недостаток опыта у офицеров и финансовая коррупция мешали общему делу. В 1819 году в Чугуевском уланском полку произошло восстание, которое было жестоко подавлено. В поселении Зыбкой (Херсонская губерния) староверы и духоборы были насильственно привлечены на военную службу. Сопротивлявшихся прогоняли сквозь строй. В 1825 году крестьяне деревни Аракчеева, которые так поразили Александра, выразили благодарность, убив свою хозяйку. Некоторые поселенцы проявили трогательную веру в Александра, надеясь, что он защитит их от жестокости начальников. Крестьяне деревни Высокое в 1816 году написали Александру петицию с просьбой защитить их от Аракчеева. Поселенцы безуспешно пытались просить помощи и у братьев царя — Николая и Константина во время их путешествия по России. На самом деле Александр одобрял наказания, практикуемые Аракчеевым, несмотря на их жестокость. В итоге двадцать пять из пятидесяти двух участников Чугуевского бунта, приговоренных к прогону сквозь строй, умерли от побоев.
Упрямясь, Александр отказывался признать недостатки своего плана. В разговоре с генералом-майором Ильиным он настаивал на том, что недовольства в колониях вызваны только повседневными проблемами: трудностями перевозки, поздним севом зерна, нехваткой корма для скота. К визитам Александра в поселениях, естественно, готовились. В итоге он встречал парадно одетых солдат и процветающих крестьян. Александр хотел увидеть результаты своего эксперимента, чего бы это ни стоило. Он говорил: «…военные поселения дадут результаты в любом случае, даже если придется выложить дорогу от Петербурга до Чудова человеческими телами». Французский посол ля Феррон тринадцатого февраля 1820 года писал: «Александр устраивает свои колонии с необычайным рвением и энтузиазмом»[219]. Царь выражал надежду, что его поселения расширятся до размеров целой армии. В 1818 году в Сенате он говорил: «Когда с Божьей помощью поселения станут такими, какими мы их задумали, тогда в мирное время не придется набирать рекрутов со всей империи». В 1822 году он попросил Аракчеева прислать ему «генеральную карту строительства поселений в рамках всей армии»[220].
Продолжение развития системы поселений встретило сопротивление со всех сторон. Лиал заметил: «Колонии сохранялись при полном отвращении крестьянства и ненависти регулярной армии… и при крайнем неодобрении всех слоев дворянства»[221]. Некоторые дворяне подозрительно относились к поселениям, так как видели в них попытку создания класса, подчиняющегося только царю, что привело бы к созданию военного государства внутри России. Несмотря на то, что Александр не пытался использовать колонистов в таких целях, фактом остается то, что поселенцы были изолированы от остального российского общества и подчинялись только внутренним законам поселения. Правительственные чиновники не могли посещать поселения без разрешения военного командования. Суд поселенцев осуществлялся на основе собственных законов, не завися от всероссийской юридической системы. Образованная элита также не поддерживала поселения. Гавриил Степанович Батеньков, будущий декабрист, работавший помощником Аракчеева, писал: «Военные поселения демонстрируют нам ужасную картину беззакония, угнетения, показухи, подлости, всех черт деспотизма»[222]. Писатель Александр Герцен считал основанные Александром поселения «самым большим преступлением за все время его царствования»[223]. Однако все это не мешало Александру продолжать выполнение своих грандиозных планов с прежней энергией. Не отступил он от них и в последние годы царствования, когда были оставлены идеи конституционализма и равенства. Организация поселений была существенно изменена при Николае после ряда восстаний в новгородских поселениях (площадь земли, отданной под них, и количество поселенцев увеличились при его правлении). Идея поселений была оставлена только после поражения в Крымской войне.
Религия, образование и филантропия
Создание военных поселений демонстрирует нам желание Александра не только улучшить материальное благосостояние солдат и крестьян, но и повысить уровень их образования и коренным образом изменить их образ жизни. В годы, последовавшие за победой над Наполеоном, Александр показал свою уверенность в способности управлять духом своих подчиненных. Он одобрял распространение религиозных идей посредством Библейского общества, а также проводил образовательные реформы. Если в Европе Александр пытался использовать свой авторитет для создания Четверного союза в соответствии со своими вновь приобретенными религиозными идеями, то дома утешением и вдохновением для него служили попытки улучшить благосостояние своих граждан.
Британское и Иностранное Библейское общество было основано в Лондоне в 1804 году. Главной его целью было донести Новый Завет до людей всего мира, делая переводы, если это было необходимо. Представитель общества в Финляндии в 1811 году Джон Патерсон просил у Александра разрешения перевести Библию на финский язык. Александр дал свое согласие и пожертвовал 5000 рублей для выполнения этого проекта. Получив поддержку, Патерсон и преподобный Р. Пинкертон, находившийся в то время в Москве, решили открыть Библейское общество в России. К счастью, их деятельность совпадала с планами Александра, и в начале 1813 года он формально разрешил основание общества. В письме к Александру Голицыну царь выражал свою искреннюю поддержку работе общества:
Ваше последнее письмо об открытии Библейского общества заинтересовало и тронуло меня. Пусть Всевышний дарует свое благословение этому начинанию. Я придаю всему этому большое значение и полностью согласен с вашим мнением, что Святое Писание заменит пророков. Это общее стремление приблизиться к Христу Спасителю — большая радость для меня. Вы можете располагать любыми средствами для издания Библии[224].
Александр пожертвовал обществу 25 000 рублей в феврале 1813 года и пообещал делать ежегодный взнос в размере 10 000 рублей. Скромно заявив, что не достоин чести быть покровителем общества, Александр вместе со своими младшими братьями Константином и Николаем вступил в него в качестве простого члена.
Нет никаких причин сомневаться в искренности энтузиазма Александра по поводу работы Библейского общества. Воспоминания его членов и квакеров, которые встречали Александра после 1815 года, свидетельствуют о силе его религиозных чувств и показывают, как легко можно было разбудить его эмоции. Джон Патерсон свидетельствует, что во время встречи Александра с Вильямом Алленом и Стефаном Греллетом в 1819 году все трое молились вместе, после чего Александр поцеловал руку Аллена; «все трое совершенно обессилели, так что император поспешил в другую комнату»[225]. Стефан Греллет писал по этому поводу, что когда Александр присоединился к нему в его молитве, лицо царя было «мокро от слез»[226]. Аллен приводит беседу, состоявшуюся три года спустя, во время которой Александр сказал: «когда я с вами и подобен вам, так любящим Спасителя, я могу дышать»[227]. Александр, конечно, любил производить приятное впечатление, но у него не было особых причин пытаться понравиться невлиятельным членам зарубежной религиозной секты, кроме того, Аллен, Греллет и Патерсон сходятся во мнении относительно искренности его чувств. Два года спустя произошло торжественное открытие общества. Александр продолжал предоставлять ему поддержку и финансовую помощь. Еще один член общества Э. Хендерсон в январе 1817 года писал:
Вы знаете, что наш щедрый монарх уже сделал для общества… Несколько дней назад он обратился к нашему любезному президенту по поводу того, что Библейское общество перестало влиять на духовный облик жителей империи: «В чем причина? Вы остановились из-за нехватки денег? Дайте мне знать, и я к вашим услугам»[228].
В результате работы общества к концу 1818 года были выпущены 371 000 экземпляров Библии в 79 редакциях на 25 языках и диалектах, используемых в России.
Александр не жалел средств, поддерживая инициативу зарубежных обществ. В 1817 году он основал Министерство религиозных дел и народного обучения (известное как Двойное министерство) с Голицыным во главе. Оно включило в себя Синод, отделение зарубежных конфессий Департамента религиозных дел и Министерство народного образования. Соответствующий указ гласил: «Желая, чтобы христианское благочестие всегда было основой истинного образования, мы утверждаем плодотворность объединения Министерства народного образования с делами всех вероучений под единым управлением». Карамзин назвал новое министерство «министерством упадка»[229].
Новая религиозная ориентация Александра сама по себе не благоприятствовала деятельности православной церкви, которая в результате замены Синода новым министерством потеряла часть своего влияния. Еще до того как взойти на престол, Александр демонстрировал свои западнические взгляды другу Чарторыскому, делая язвительные замечания о неспособности русских понять его идеи и рассказывая о своей мечте жить в счастливой пасторальной идиллии на берегу Рейна или в Швейцарии. В религиозных делах он проявлял ту же тягу к иностранцам, будь то квакеры, протестанты или такие организации, как Библейское общество. Двойное министерство ведало делами не только православной церкви, но и всех религиозных конфессий, объединяя в одном министерстве четыре департамента: Русскую православную церковь и староверов, римский католицизм, протестантскую церковь, секты и нехристиан. Такое положение вещей не только отменяло превосходство в империи православной веры над остальными, но, формально связывая православие со староверами, бросало вызов его положению в государстве в качестве официальной веры и единственно истинной религии. Новизна такого подхода, по-видимому, установившегося по инициативе Александра, вызвала следующий комментарий одного историка: «После того, как Двойное министерство было упразднено в 1824 году, подобное устройство было организовано вновь лишь в 1965 году, когда Советское правительство создало Совет по делам религии»[230].
Судьба староверов (тех, кто отвергал нововведения православной церкви в церковные обряды в середине XVII века) была достаточно переменчива. При царствовании Екатерины II к ним стали относиться с большей терпимостью. Александра это вполне устраивало, но в 1816 году в общине Феодосии разгорелся спор по вопросу женитьбы. Внутренние разногласия в общине привлекли внимание гражданских властей, а к весне 1820 года заинтересовали самого Александра. В результате им был создан, как обычно, тайно, специальный комитет для рассмотрения дел староверов. Комитет получал отчеты о так называемой бесчестной деятельности нескольких староверских общин. Два члена этого комитета, Михаил Десницкий (митрополит Новгорода и Санкт-Петербурга) и Филарет Дроздов (епископ Твери) осуждали их деятельность и призывали Александра принять какие-то меры. В результате их давления комитет принял решение ограничить участие староверов в местном правлении. Комитет был также вовлечен в управление делами староверских общин. Таким образом, внутренние разногласия в староверских общинах привели к восстановлению тайного комитета по делам староверов, от которого Екатерина II предусмотрительно отказалась в 1763 году. Забавно, что это произошло при Александре, который публично заявлял о своей веротерпимости. К несчастью, злополучный спор разгорелся в 1820 году, когда Александр начал подозревать любого, кто как-либо протестовал, в неподчинении закону. Он писал в январе 1820 года: «К нашему удивлению, это общество отказывается от мирных правил», имея в виду людей, «не признающих авторитеты, не уважающих закон, имеющих искаженное представление о женитьбе и так далее»[231].
Александр не продвинулся дальше и в решении вопроса экономического и социального статуса евреев в России. В апреле 1817 года он основал Общество израильских христиан, которое оказывало финансовую помощь евреям, желающим принять христианство. Хотя официально политика терпимости продолжалась, в этот период делалось меньше попыток приспособить евреев к русской социальной системе. После неурожая в Белоруссии в 1821 году местные помещики обвинили евреев в ограблении крестьян. Александр создал новый комитет для разработки нового закона взамен прежнего, изданного в 1804 году. Прямым следствием этого было насильственное переселение евреев в Белоруссии из деревни в город, что привело к миграции 20 000 человек.
Хотя новое Двойное министерство состояло из двух отделов, один из которых ведал религиозными делами, а другой — делами образования, тесная связь религии и образования уводила от реформ, начатых в первые годы правления Александра. Екатерина II организовала светские школы, учителя в которых не должны были быть священниками (хотя это не всегда выполнялось). Александр последовал этой традиции во время образовательных реформ в начале своего правления. Программы в школах и новых университетах были преимущественно светскими. Положение образовательных и религиозных дел характеризовалось хотя бы тем, что глава Департамента образования В. М. Попов являлся также одним из секретарей Библейского общества.
Александр надеялся, что образование будет процветать под управлением Двойного министерства. Кочубей поддерживал эту надежду:
Главная цель образования — это развитие морали. Опыт показывает, что мораль не имеет лучшей основы, чем религия. Поэтому религия должна стать первым поводырем в образовании юношества… естественно, объединение министерств по делам образования и религии может быть полезным для образования[232].
Последствием образования новой административной структуры было учреждение правительственного контроля за кадрами и образовательными программами. В 1819 году Михаил Леонтьевич Магницкий был избран инспектором университета Казани, известного студенческими беспорядками и невыполнениями приказов. После проведения ряда расследований Магницкий был шокирован пренебрежением правилами в этом университете и рекомендовал его закрыть. Александр не хотел разбирать этот вопрос, кроме того он не был готов признать провал одного из своих ранних проектов. «Зачем разрушать, если можно улучшить?»[233] — спрашивал он Голицына. Он решил вплотную заняться этим университетом и назначил его куратором Магницкого. В результате была сделана «чистка» профессоров нерусского происхождения и введены религиозные курсы. Менее драматичные изменения были произведены в остальных университетах, наиболее значительным из которых была смена начальства на основе новых взглядов Александра: А. П. Оболенский, член Библейского общества, заменил М. И. Кутузова в Москве; Е. В. Карнеев, сторонник Библейского общества, сменил Потоцкого в Харькове. Цензор, ответственный перед министерством, был приставлен к каждому университету. В средней школе «вредные» предметы (например, философия) и практические предметы (политическая экономика, коммерция, технологии) были заменены на более важные: историю, древние языки, географию. Утилитарный, технический уклон ранних образовательных реформ Александра был изменен. В начальных классах было отменено изучение естествознания и технологий и возобновлено ежедневное чтение Нового Завета. Однородность образования обеспечивалась высылкой иезуитов (которых терпели еще при Екатерине II из-за их системы образования) сначала из Санкт-Петербурга в 1815 году, а затем из всей империи в 1821 году, что означало закрытие Иезуитской академии в Полоцке. Иезуиты противостояли Библейскому обществу и создали свою собственную систему образования.
В то же время так называемая ланкастерская система обучения, примененная впервые в Англии Джозефом Ланкастером и Эндрю Беллом, была введена в России. Преимущество этой системы состояло в том, что основные знания могли быть даны большому количеству учеников небольшим количеством учителей по методу «взаимного обучения». Учителя инструктировали старост, которые доносили полученную информацию (обычно заученную наизусть) до групп учеников, а те, в свою очередь, опрашивали друг друга. Привлекательность системы для Александра и его советников заключалась в том, что элементарные религиозные знания могли быть даны гораздо большему количеству детей. Квакер Вильям Аллен предложил послать трех или четырех молодых русских людей в Англию для обучения этой системе, чтобы продемонстрировать российскому послу в Лондоне графу Ливену, что хотя противники системы существуют в Британии, в их число входят лишь те, «кто с предубеждением относится к системе обучения религии и предпочитает, чтобы бедняк остался невеждой». Но в России «такого препятствия не существует, и ее просвещенный император может показать миру пример поразительного эффекта этой системы»[234]. На самом деле Александр имел небольшое желание использовать православную церковь и ее священников для обеспечения начального образования в России и был согласен заимствовать методы обучения у отличных от русского по менталитету народов.
Несколько ланкастерских школ были открыты в России частными лицами (например Джеймс Артур Херд основал такую школу в Гомеле, в Белоруссии, а Сара Килхэмв — в Санкт-Петербурге), а также в военных поселениях. В 1819 году был образован Комитет основания школ взаимного образования. Аллен придерживался мнения, что школы должны иметь тесную связь с царем, и предложил основывать их через Императорское филантропическое общество с целью «воспитания учащихся в духе религиозных принципов; возбуждения в них чувства достоинства и любви к своим ближним; развития их возможностей и приобретения ими трудолюбия, аккуратности и послушания». Такие многообещающие перспективы могли привлечь Александра, который был очень заинтересован этим вопросом и «выражал желание иметь школьное общество, организованное на основе Библейского общества»[235]. Он самолично жертвовал 5000 рублей ежегодно и платил жалованье двум учителям ланкастерской школы в Петербурге; кроме того, он пожертвовал 10 000 рублей, организовал ежегодный взнос в размере 7000 рублей и плату жалований гомельской школе[236].
Как при организации военных поселений, так и при проведении своих реформ в области образования, Александр верил, что сможет создать новый класс в российском обществе. Граждане этого класса будут счастливее и гораздо полезнее для государства. Это мнение было отчасти результатом самоуверенности Александра после победы над Наполеоном, хотя он всегда выражал желание улучшить положение своих несчастных подданных и вдохновлял филантропические общества в надежде помочь людям. В первые годы своего царствования он позволил основать благотворительные общества. В 1816 году эти и другие общества были объединены в Императорское филантропическое общество с Голицыным во главе, получавшее государственную субсидию 150 000 рублей. Кроме заботы о бедных общество брало на себя строительство домов и приютов, обеспечение орудиями труда ремесленников, распространение литературы об оказании первой помощи и обеспечение приданым бедных, но достойных девушек. Это общество не было, строго говоря, правительственным институтом, хотя денежная и моральная поддержка царской семьи была для него решающей. Таким образом, остальные частные благотворительные организации создавались по образу этого общества и попадали под его покровительство. К концу правления Александра насчитывалось примерно двадцать одно официально зарегистрированное благотворительное общество, пять обществ для оказания помощи заключенным, семь обществ для оказания общей помощи. Филиалы общества появились в Москве, Вильне, Казани, Воронеже, Уфе, Слуцке.
Александр был также занят разработкой тюремной реформы, которая началась при Екатерине II. Он позволил англичанину Уолтеру Веннингу, члену Лондонского общества реформации тюрем (основанного Джоном Ховардом, посещавшим российские тюрьмы во время правления Екатерины и умершим в России), побывать в российских тюрьмах и высказать свое мнение по их состоянию. Веннинг представил свой доклад, в котором подверг суровой критике систему российских тюрем и предложил разделение преступников по половому признаку и на основе совершенных ими преступлений, а также введение исправительных работ. Затем, весной 1819 года, Александр встретился с братьями Веннингами, Джоном и Уолтером, и занялся с ними детальной разработкой проекта тюрьмы. Он выражал интерес в создании общества, занимающегося делами тюрем, и сыграл большую роль в написании правил для такого общества, которое было организовано в 1819 году и называлось Обществом надзора над тюрьмами. Александр стал его покровителем и самолично пожертвовал 10 000 рублей с обещанием ежегодного взноса 5000 рублей. Он также выслал необходимое церковное облачение и другие атрибуты службы, когда в Петербургской тюрьме открылась часовня.
События дома и за рубежом в 1820-е годы оказали влияние не только на религиозную и филантропическую политику Александра, но и на его мнение относительно конституционализма и крепостного права. Александр, убедившись в наличии секретных обществ, с большим подозрением начал относиться к любым обществам, имевшим хоть какое-то отношение к загранице. Патерсон писал в 1822 году:
Это правда, что попытки революций в Неаполе и Испании встревожили Императора и заставили его с подозрением относиться ко всем обществам и ко всем попыткам обучения людей[237].
Масонские ложи образовались в России в середине восемнадцатого века, но были запрещены Екатериной II. В начале девятнадцатого века масоны вновь появились и не вызывали раздражения у правительства (Константин стал масоном, и говорят, что Александр сам был тайным членом ложи), но в августе 1822 года все тайные общества, включая масонское, были запрещены. К концу своего правления Александр стал более чувствительным к предостережениям консервативных функционеров церкви, таких как архимандрит Фотий и митрополит Серафим, относительно Библейского общества и Голицына. Это, в конце концов, привело к упразднению Двойного министерства и увольнению Голицына. В 1824 году Фотий и Серафим атаковали немца Иоганна Госснера, чьи работы издавались в России и для кого Голицын получил 18 000 рублей на покупку здания для проведения проповедей. Госснер был представлен Александру как скрытый революционер, чьи мнения расходятся с постулатами христианской религии и чья «новая религия» проповедует «веру в приход Антихриста, свершение революций, жажду кровопролитий, воплощение духа Сатаны»[238]. Фотий послал серию писем Александру относительно Госснера и его связи с Голицыным, завершившуюся письмом в начале мая, в котором предупреждал Александра о революционных планах секретных обществ в России. Неделей спустя Двойное министерство было закрыто, а Голицын освобожден от должности президента Библейского общества. В течение лета 1824 года Фотий пытался запугать Александра связью Библейского общества и Европейского революционного тайного общества, а также тем, что тайные общества связаны с английскими методистами, которые, по его словам, планировали поднять революцию к 1836 году. Замена Голицына консервативным адмиралом А. С. Шишковым на посту главы Министерства народного образования также способствовала разоблачению Библейского общества в его связи с масонами и английскими методистами. Хотя Александр никогда официально не выступал против Библейского общества, он не сделал ничего, чтобы защитить его от всех нападок, поэтому влияние этого общества ослабло. Патерсон описал ситуацию, сложившуюся к концу 1824 года:
Любезный Император все еще оставался нашим защитником и не позволял врагам сокрушить нас, хотя, увы, вверил им все дела государства и отдал им всю власть. Приходится смириться с тем фактом, что он потерял свою энергичность и больше не интересуется государственными делами. Все его достижения потеряны. Его нервная система расшатана, в чем нет ничего удивительного, учитывая события, происшедшие с 1812 года[239].
Официальная приостановка деятельности Библейского общества произошла при Николае I в 1826 году. Естественно, что Александр потерял интерес к работе в последние годы жизни, отклонился от своих филантропических принципов. В 1822 году он приказал перестроить бараки Литовского полка в тюрьму, потеряв интерес к этому проекту после провала Голицына. И когда тюрьма была открыта, она представляла собой обычное тюремное здание без нововведений, рекомендованных Обществом, которое, в свою очередь, было обвинено в присвоении денежных средств. Ланкастерские школы потеряли былую привлекательность для Александра после того, как стало очевидным использование этого метода сторонниками декабристов (генерал-майором Михаилом Федоровичем Орловым и майором Владимиром Федосеевичем Раевским) для воспитания у солдат опасных взглядов. Достижения Александра после 1815 года не впечатляют: Россия так и не приняла конституцию; крепостное право не было отменено; крестьяне и солдаты снова загонялись в поселения против своей воли; учебные программы в школах и университетах стали более традиционными. Некоторые историки описывают этот период как реакционный, с одной стороны, отмеченный злобным Аракчеевым, с другой — реакционерами и мистиками, такими как Магницкий и Фотий. Такой взгляд является упрощением действительности тех дней. Александр полностью верил в свои способности, по крайней мере в период с 1815 по 1820 год, и такие министры, как Аракчеев, Магницкий были далеки от того, чтобы оказывать на него влияние. Даже после событий 1820 года Александр не позволил навязать себе политику против его воли. Царь видел свои военные поселения, религиозную и образовательную политику только с положительной стороны. Он верил, что сможет принести материальное и моральное благополучие людям. Это не было только самообманом; крестьяне в поселениях были богаче и могли пользоваться бесплатно медицинскими услугами и получать образование. Идея ланкастерских школ заключалась в том, чтобы начальные знания получало большее количество людей. Александр также верил, что сможет создать новый класс граждан, которые будут не только более образованными, но и более счастливыми. Насколько он был уверен, что сможет обеспечить процветание Европы за счет объединения великих держав на основе христианских принципов, настолько он верил в возможность сделать своих подданных счастливыми. В 1820 году реформы Александра стали ослабевать из-за событий за рубежом, проникновения мистицизма в Россию и увеличившегося влияния на Александра его советников. Но даже тогда не все реформы были прерваны; Александр продолжал снабжать военные поселения, постепенно теряя интерес к филантропическим учреждениям. К несчастью, все планы о военных поселениях и образовательных реформах не были приняты российской образованной элитой. Александр обманул надежды многих молодых образованных россиян тем, что не смог сделать для России того же, что сделал для Франции, Финляндии, Польши, а застой в России способствовал их сопротивлению существующему режиму.
ГЛАВА 9
ЭПИЛОГ: РАСХОЖДЕНИЕ ПУТЕЙ
Смерть Александра?
18 сентября 1825 года Александр уехал в Таганрог и прибыл туда 25 сентября. Его жена, Елизавета, все лето болела, и врачи рекомендовали ей пожить в умеренном климате для улучшения здоровья. Выбор маленького провинциального городка, расположенного в малярийной местности, был странен и даже фатален. К тому времени Александр смирился с опасением возможного начала военных действий со стороны Турции, а Таганрог располагался близко к русским военным и морским базам на Юге, требующим его посещения. Кроме того, отсюда удобно было посещать и многие другие места, интересовавшие его: монастыри, мечети, синагоги, а также немецкие поселения и госпитали. После посещения монастыря Святого Георгия 8 ноября Александр почувствовал себя плохо и не мог есть; сначала, казалось, не было причин беспокоиться, но ко времени его приезда в Мариуполь 16 ноября он уже был болен тяжелой формой лихорадки. Пришлось вернуться в Таганрог; самочувствие не улучшалось, но Александр отказался от какого бы то ни было лечения и не позволил пустить себе кровь, несмотря на настояния сэра Джеймса Виля, его личного врача, и Тарасова, его частного хирурга. По словам Виля, как записал Роберт Ли, бывший медиком семьи Воронцовых, Александр страдал «желчной перемежающейся крымской лихорадкой»[240]. Он слабел от ее приступов и поноса, и когда, наконец, согласился на медицинское лечение, сделать можно было уже немного. Александр умер утром 1 декабря 1825 года, за несколько недель до своего сорок восьмого дня рождения. После вскрытия труп был переправлен в Санкт-Петербург, куда он прибыл через два месяца. Императрица покинула Крым в апреле следующего года, но заболела и умерла в пути.
Практически в то же время поползли слухи, что Александр не умер в Таганроге и что на самом деле тело, лежащее в гробу, принадлежало курьеру Маскову, который умер во время поездки на Юг. Появилась легенда, что Александр при помощи своих докторов, жены и друга, князя Петра Михайловича Волконского, инсценировал свою смерть. Через одиннадцать лет после таганрогских событий в Сибири появился схимник Иван Кузьмич, сложением похожий на Александра, образованный и подозрительно хорошо знакомый с деталями придворной жизни в Санкт-Петербурге и с событиями из жизни Александра, особенно с кампанией против Наполеона. Ходили слухи, что члены царской семьи секретно навещали Кузьмича, а его почерк совпадал с почерком Александра. Кузьмич умер в 1864 году. Такие легенды о царях, конечно, неудивительны; если кто-то считал, что казак Пугачев на самом деле был Петром III, то не более невероятным казался факт, что Кузьмич являлся Александром I.
Александр часто говорил о нежелании править и стремлении отойти от мира. Летом 1819 года (как раз перед тем, как он разочаровался в событиях за границей и дома), по воспоминаниям Александры, жены Николая, император сказал:
Я решил избавить себя от обязанностей и отойти от мира. Европа как никогда нуждается в молодых правителях, которые находятся в расцвете сил; что касается меня, то я уже давно не тот, что был, и я уверен, что мой долг — своевременно уйти[241].
Увидев, что его слова вызвали испуг, он уверил своих слушателей, что это не произойдет немедленно. Позже он говорил об уходе во время поездки в Крым. Его так поразила красота крымского побережья, что он завел разговор о строительстве здесь дворца, когда можно будет оставить пост: «Когда я отрекусь от трона, я вернусь и поселюсь на Ореанде и буду носить костюм Тавриды»[242]. Так мог говорить человек, которого не оставляла мысль об инсценировании своей смерти, готовый предстать перед неясным будущим. Однако, Александр никогда не выражал желания вести грубую жизнь самоотреченца и стать отшельником в Сибири.
Некоторые люди, близкие Александру, заметили его депрессию в 1825 году. За год до смерти он перенес личную трагедию и увидел, как страдают его подданные. Летом 1824 года София, его незаконнорожденная дочь от любовницы Марии Нарышкиной, умерла от чахотки в возрасте восемнадцати лет. Тогда же Александр был глубоко потрясен великим наводнением в Санкт-Петербурге в ноябре 1824 года, унесшим тысячи жизней. В день отъезда из Санкт-Петербурга он встретился с массой народа у монастыря Александра Невского. Проходила служба по усопшим, и Александр был глубоко тронут. Он всегда посещал службу перед тем, как отправиться в долгую поездку, принимая религиозные церемонии очень близко к сердцу, так что его реакция не была столь необычной. Настроение Александра поднялось в Крыму; казалось, у него улучшились отношения с женой, и ему доставляли удовольствие частые экскурсии, драматичный пейзаж.
Дальнейшие споры поднялись вокруг смерти Александра из-за несовпадающих сведений о его болезни и необычных процедур после смерти. Имелись разногласия между сведениями очевидцев развития его болезни. Это, однако, может быть объяснено не только неполнотой воспоминаний спутников Александра, но также и природой болезни. Она перемежалась частичным выздоровлением и новыми приступами лихорадки и тошноты. И еще: доктор Тарасов позже заявил, что не подписывал заключения о вскрытии, а это наводит на мысль, что он отказался присоединиться к заговорщикам. Его подписи действительно не было в заключении. Дальнейшие подозрения вызвал тот факт, что прошел слишком долгий срок в тридцать шесть часов между смертью Александра и вскрытием трупа, то есть, в принципе, было достаточно времени, чтобы подменить труп, этому же способствовали смятение и неразбериха после неожиданной смерти. Гроб не был выставлен в Санкт-Петербурге для прощания с усопшим. Роберт Ли, который слышал о смерти Александра от Виля, на самом деле видел тело Александра, выставленное для прощания в Таганроге, но не видел его лица, так как ему сказали, что лицо было закрыто потому, что «уже совершенно изменилось и сильно почернело»[243]. Предположительно поэтому труп не был представлен на всеобщее обозрение. Правда, когда значительно позже гробница была открыта, она оказалась пустой, и есть легенда, что тело было секретно унесено из гробницы в 1866 году и предано земле на кладбище Александра-Невской лавры.
Несмотря на загадку пустой гробницы, очевидцы утверждают, что Александр действительно умер в Таганроге. Заключение вскрытия неясно, но нельзя с уверенностью утверждать, что оно было подделано и что мертвое тело в гробу и вскрытый труп не принадлежали одному и тому же человеку. И, кроме того, нет доказательств, что Кузьмич был Александром. Его хорошие знания событий 1812 года только наводят на мысль, что он просто присутствовал при кампании или знал кого-то, кто участвовал в ней. Действительно, Кузьмич часто восхвалял Кутузова, чего никогда не делал Александр, потому что это напоминало ему все его ошибки в кампании 1805–1807 годов и причиняло боль. Кузьмич также вспоминал о вступлении в Париж во главе войск бок о бок с Меттернихом, чего просто не могло быть. Также трудно поверить, что Александр, имевший несколько серьезных проблем со здоровьем, мог дожить до восьмидесяти шести лет (Кузьмич умер в 1864 году). Тот факт, что Александр умер очень далеко от Санкт-Петербурга при довольно неожиданных обстоятельствах и что болезнь поразила его очень быстро, вероятно, являлся основой для этих слухов[244].
Александр и декабристы
После смерти Александра I настало время фактического междуцарствия. Так как у Александра не было сыновей, а дочь умерла, его брат Константин оказался главным претендентом на престол. Но еще в 1819 году он говорил с Александром о том, что отказывается от своих прав на трон ради морганатического брака с польской женщиной не королевской крови. В 1823 году Александр официально принял это отречение, подготовив манифест, который передавал право наследования его младшему брату Николаю. Хотя самого Николая поставили в известность об этом решении, манифест был сохранен в секрете. Запечатанные копии этого документа, помеченные словами «Открыть только после моей смерти», были переданы на хранение в Успенский собор в Москве, с ведома Сената и Государственного Совета в Санкт-Петербурге. Неуверенный в преданности гвардейских полков и сознающий потенциальную угрозу со стороны польских сил Константина (Константин управлял Польшей), Николай сначала не решился принять трон и принес присягу Константину 9 декабря, вместе с гвардией и государственными служащими. Только после публичного отречения Константина от трона Николай твердо решил принять власть, и 24 декабря гвардейским частям было приказано принести присягу вторично, теперь уже Николаю. В этой обстановке члены тайной организации, известной в истории как Северное общество, решили поднять в Петербурге восстание 26 декабря (отсюда — «декабристы»), формально в пользу Константина (который заслужил почему-то репутацию либерала) и потребовать введения конституции. Распространенная легенда гласит, что гвардейские солдаты весело восклицали слово «Конституция!», считая, что это имя жены Константина. Около 3000 человек под командованием тридцати офицеров пришли на Сенатскую площадь, но, сумбурно управляемые и сбитые с толку, они не представляли действительной опасности, а большая часть гвардии вообще осталась верной своему государю. «Бунтовщиков» в конце концов с легкостью разогнали, когда артиллерия открыла огонь (было примерно подсчитано, что потери составляли 70–80 человек). За этим неудачным выступлением следовало восстание на Юге, поднятое Южным обществом вместе с Обществом объединенных славян, но оно было с легкостью подавлено царскими отрядами, и к середине января с ним было покончено.
Почти через месяц после смерти Александра разгорелись новые восстания, причем, определенно, они являлись протестом против его наследника, Николая I. Понятно, что эти восстания очень потрясли Николая и его окружение (его мать все время повторяла в день восстания в Санкт-Петербурге: «Господи, что скажет Европа?»)[245]. Николая убеждали, что революция была частью деятельности европейских заговорщиков, что эти низкие идеи распространяются из Западной Европы, особенно из Франции, которая традиционно представлялась рассадником революций. В этом Николай уверился в ходе работы Следственной комиссии, которая занималась участниками обоих выступлений; так: например, декабрист А. Н. Муравьев признался Комиссии, сказав, что приобрел свои «ненормальные либеральные идеи во время пребывания за границей»[246]. Николай проявил огромный интерес к работе Комиссии и до конца своего правления хранил копии отчетов на своем столе, что напоминало ему об угрозе революции. Восстание декабристов, однако, имело важное значение не только потому, что оказало влияние на Николая и его политику, но и потому, что явилось результатом проблем и неудач царствования Александра. Правление, которое, казалось, обещало далеко идущие внутренние реформы и во время которого Россия стала господствующей континентальной державой, закончилось с уходом части образованной элиты русского общества.
Казалось, Александр имел много общего с офицерами, которые вели свои подразделения на восстание 1825 года (мы знаем немного о мотивах простых солдат, которые шли за своими офицерами). Большая часть лидеров Северного и Южного обществ были выходцами из привилегированных аристократических семей и получили замечательное образование с западным уклоном. Они знали иностранные языки и были знакомы с работами виднейших европейских деятелей того времени; библиотека Павла Пестеля, лидера Южного общества, содержала книги Руссо, Гельвеция, Гольбаха, Дидро, Кондильяка, Вольтера, мадам де Сталь, Беккариа и Бентама. Как и Александр, многие декабристы были в восторге от завоеваний Французской революции, также не имея никакого революционного опыта (декабристы, находясь в ссылке в Чите, пели «Марсельезу»). Многие из них участвовали в кампаниях против Наполеона и вошли в Париж вместе с Александром в 1814 году. Многие также остались во Франции (между 1814 и 1818 годами там находилось 30 000 русских солдат и офицеров, и подсчитано, что примерно треть декабристов были офицерами), или, как и сам царь, путешествовали по другим странам. Они интересовались конституционными установлениями в разных странах, исповедовали гуманистические взгляды и проникались отвращением к крепостничеству. Некоторые из них были не менее религиозны, чем сам Александр (например, декабрист Михаил Орлов был членом Русского Библейского общества, а Михаил Сергеевич Лунин обратился к римскому католицизму).
Общие взгляды Александра и многих декабристов послужили причиной того, что царю так и не удалось провести решительную акцию против этих тайных обществ, несмотря на информированность об их существовании. В самом деле, казалось, он даже разделял взгляды раннего тайного Союза Благоденствия. Ознакомившись с содержанием конституции Союза, так называемой «Зеленой книгой», которая была основана на конституциях немецкого патриотического тайного общества Тугендбунд, Александр отметил, что правила конституции «замечательны», но предупредил, что слишком многие тайные общества начали с чисто филантропических целей, а затем повели заговорщическую деятельность против государства[247]. По словам Константина после смерти Александра, царь часто разговаривал с ним о Союзе Благоденствия и в 1822 или 1823 году дал ему почитать устав этого союза. За кажущимся преобладанием чисто филантропических задач Союз Благосостояния на самом деле ставил целью создание конституции для России, но Александр не знал его точных планов. Не позднее 1821 года (после потрясений дома и за границей в 1820 году), получив рапорт о деятельности тайных обществ от Васильчикова, генерал-губернатора Санкт-Петербурга и командующего императорской гвардией, Александр сказал: «Ты, который служил мне с самого начала моего правления, точно знаешь, что я разделял и одобрял эти иллюзии и ошибки!»[248]. Историк Цетлин писал, что Александр «являлся первым декабристом — старшим братом тех людей, которые позже так сильно ненавидели его» и что «всю жизнь, даже с трудом двигаясь в темном лабиринте мистических поисков, в душе он оставался их единомышленником». Но Александр не настолько симпатизировал будущим декабристам, чтобы игнорировать их деятельность, и одобрил предложение Васильчикова учредить небольшую секретную полицию для наблюдения за ними в Санкт-Петербурге и его окрестностях.
Сходство между Александром и декабристами на самом деле было поверхностным. Александр умер в возрасте сорока семи лет, а декабристы представляли, с некоторыми исключениями, более молодое поколение (средний возраст их — между двадцатью и тридцатью годами, причем сорок процентов были моложе двадцати пяти). Александр получил образование в конце восемнадцатого века и воспитывался на книгах французского Просвещения. Декабристы, преимущественно, получили образование в начале девятнадцатого столетия и находились под влиянием наполеоновских событий не менее, чем революционная Франция, кроме того, они были последователями раннего романтизма (некоторые декабристы были выдающимися литературными деятелями). Образование, которое многие из них получили — в таких учебных заведениях, как линей в Царском Селе, Московская школа артиллерии или Московский университет, — возбуждало умы студентов и очень отличалось от частного, полученного Александром от Лагарпа. Декабристы не только были знакомы с конституцией революционной Франции, но знали и конституции начала девятнадцатого века, например, французскую конституцию 1814 года, которая была опубликована в журнале «Сын Отечества». Русские журналы также печатали переводы испанской и норвежской конституций и писали о форме правления в Англии.
Хотя события 1812 года сильно потрясли Александра, его опыт очень отличался от опыта многих декабристов, которые участвовали в кампании против Наполеона (некоторые из участвовавших в восстании 1825 года, были, конечно, слишком молодыми для этого). Они, в отличие от Александра, встречались не только с врагом, но и общались с крестьянами партизанских отрядов (декабрист Михаил Орлов сражался в партизанском отряде под командованием генерала И. С. Дорохова), что было для них необычно. Торжество изгнания иностранных захватчиков из Отечества породило всеобщее чувство гордости и патриотизма в молодых офицерах. Будущий декабрист Н. А. Бестужев писал: «Огромная Россия поднялась как один человек… Народный гнев в России был так велик потому, что это была народная война»[249]. «Мы — дети 1812 года», — сказал декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол[250]. Смесь восхищения иностранным с великой гордостью за Россию была обычна для молодых впечатлительных офицеров. А. В. Чичерин, поручик Семеновского полка, погибший во время освобождения Европы от Наполеона, писал из Бунцлау:
…любовь, которую я чувствую к своему Отечеству, горит, как чистый огонь, облагораживающий мое сердце… Здесь мы постоянно видим достижения цивилизации, так как они проявляются во всем — в способе обработки полей, строительстве домов, народных обычаях — но несмотря на это, никогда, даже ни на одну минуту, не пожелаю я поселиться под чужим небом, на земле, отличной от той, где я был рожден и где покоятся мои предки [251].
Впечатления декабристов о загранице после 1815 года также значительно отличаются от впечатлений Александра. Хотя он имел как официальные, так и частные контакты с заграницей, ему не нравились фамильярность и панибратство многих молодых офицеров русской армии в общении с иностранными офицерами того же возраста и положения. Такие контакты оказали влияние на декабристов братьев Бестужевых. Михаил Александрович Бестужев писал: «Наш флот, находящийся в Англии в 1812 году, и наши морские офицеры, ежегодно посещающие военные корабли Англии, Франции и других иностранных государств, поняли форму управления в этих местах». Николай Бестужев, его брат, в 1815 году провел 5 месяцев в Голландии, что позволило ему «впервые понять пользу законности и гражданских прав»[252]. Декабрист барон Андрей Розен (балтийский немец) писал в своих воспоминаниях о влиянии на молодых интеллигентных офицеров их первого пребывания во Франции: от беседы о литературе, поэзии и прозе они непроизвольно и незаметно перешли к обсуждению якобинцев и жирондистов, карбонариев и тугендбундгеноссен…
Экстраординарные события 1812 года также свидетельствовали о необычайном мужестве людей в то время и патриотизме, который трудно представить. Под нежным небом в новом окружении, которое носило отпечаток более высокой цивилизации, под влиянием более мягких манер и более человечного взгляда на жизнь многие русские офицеры приобрели некоторые новые понятия о правительстве их собственной страны [253].
Нельзя сказать, что Александр имел какие-либо контакты с германскими масонами и тайными обществами, как некоторые его молодые офицеры. Генерал И. Дибич (бывший прусский офицер, служивший позже при русском Генеральном штабе) рапортовал из Мейсена о духе «свободомыслия» среди русских офицеров, которые вступали в контакт с немецкими обществами, и предостерегал о «так называемом тугендбунде, распространении слухов, о разном отношении прусских офицеров к своему правителю, о связях этих обществ с Франкфуртом, Берлином, Дрезденом, Лейпцигом, Бамбергом, Мюнхеном, Варшавой и Санкт-Петербургом»[254]. Знакомство некоторых декабристов с иностранными масонскими ложами и тайными обществами было отражено в конституционных проектах ранних секретных обществ в России. Конституции таких обществ, как Орден русских рыцарей и Союзы Спасения и Благоденствия, повторяли некоторые правила и иерархию масонских лож. Влияние германского Тугендбунда особенно хорошо просматривалось в конституции Союза Благоденствия.
Хотя Александр разделял основные филантропические идеи некоторых немецких обществ, они не оказывали на него особого влияния, на самом деле он даже не полностью знал их цели. Декабристы были исполнены чувства глубокого патриотизма, которое возросло в результате вторжения 1812 года, они интересовались новыми идеями национализма и историей романтического движения начала XIX века. Эти люди гораздо лучше Александра понимали исторические традиции и гордились ими. Хотя декабристы не менее, чем сам царь, разрабатывая новые конституционные модели для России, следили за Западной Европой, их проекты отражали этот новый интерес к русской истории и гордость за нее. В конституции, предложенной Северным обществом, составленной Никитой Муравьевым, представительное собрание называлось народным вече, которое существовало в Новгороде и Пскове с X века. Конституция, предложенная Южным обществом, составленная Павлом Пестелем, называлась Русской Правдой — название первого русского свода законов в XII веке. Александр никогда не проявлял особого интереса к прошлому России, ее традициям, помимо этого его западная ориентация была объектом критики. Поэт К. Ф. Рылеев, член Северного общества, охарактеризовал Александра следующими словами: «Царь наш — немец русский, носит мундир прусский» [255].
Национальная гордость страдала при сравнении России с иностранными государствами, особенно после того, как Россия спасла Европу от тирании Наполеона. Предисловием к конституционному проекту Северного общества служили такие слова: «Все европейские нации добиваются конституции и свободы. Русская нация, большая, чем любая из них, заслуживает таковую не менее, чем они»[256]. Декабрист князь Сергей Григорьевич Волконский писал: «В общем, все события, происходившие в Европе с 1813 по 1914 год, возбудили чувства всей молодежи, убедившейся в том, что Россия полностью отстала в социальной политической жизни». Декабрист Михаил Александрович Фонвизин считал, что влияние заграницы на многих молодых русских являлось причиной их недовольства:
Во время кампании в Германии и Франции наши молодые люди познакомились с европейской цивилизацией, что произвело огромное впечатление на них, поэтому они могли сравнивать все увиденное за границей с тем, что постоянно проявлялось дома. Рабство огромного большинства русских, не имеющих никаких прав, жестокое обращение власть имущих, их скверные манеры и оскорбления, всеобщий произвол — все это возбуждало недовольство, оскорбляло патриотические чувства образованных русских. Многие из них поняли это во время кампании, общаясь с германскими офицерами и с членами Прусского тайного общества… В откровенных разговорах с ними наши молодые люди незаметно для себя научились свободно мыслить и захотели конституционных установлений, стыдясь за Россию, в которой царил унизительный деспотизм[257].
Один из братьев Бестужевых, Александр, так писал о патриотизме и крушении надежд многих людей:
Наполеон вторгся в Россию, и тогда впервые русский народ почувствовал свое могущество; в то время во всех сердцах пробудилось чувство независимости, сначала политической, затем национальной. Это было началом свободомыслия в России… Военные, от генералов до простых солдат, возвратившись домой, говорили только о том, как хорошо в иностранных землях. В этом сравнении родился естественный вопрос: почему там не так, как здесь?[258]
Хотя менталитет и образ мышления декабристов и Александра очень отличались, в первые несколько лет после изгнания Наполеона казалось, что их стремления совпадают. Речь Александра в 1818 году в польском Сейме подтверждала, что он думал о введении конституции в России, и многие русские ожидали этого в ближайшем будущем. Как и царь, будущие декабристы были знакомы с двумя главными вопросами, которые следовало разрешить в России — отменой или реформированием крепостного права и установлением единого закона — и были уверены, что этого можно достичь только с помощью конституции. Декабристы ненавидели крепостное право не меньше, чем сам Александр. М. М. Спиродов, например, сказал Следственной комиссии, что его либеральные идеи родились в результате наблюдения за состоянием крепостных крестьян:
Я понял, что плодородная провинция платит дань только помещикам; я видел непрерывную работу крестьян, плоды которой шли только на обогащение помещиков. Я видел богатейшие урожаи зерна, тогда как к концу года у крестьян его не оставалось не только для продажи, но и для еды… Я чувствовал, как мое сердце сжимается от жалости к ним[259].
И Северное и Южное общества понимали, что крепостное право должно быть отменено, но они расходились в методах, которыми это предполагалось сделать. Северное общество выступало за освобождение крепостных без отдачи им земли (как было сделано в балтийских губерниях), но не рассматривало проблем, которые возникли бы при лишении крепостных этой земли, а дворян — свободной рабочей силы. Общество не больше, чем Александр или Аракчеев, хотело рисковать, вызывая раздражение дворян, заставляя их отдать земли крестьянам. Пестель, напротив, отстаивал радикальное решение, которое было принято Южным обществом. Он предложил все земли отдать государству и разделить на две категории. Земля первой категории делится на участки, достаточные для семьи из пяти человек, и отдается крестьянам или еще кому-нибудь, кто захочет обрабатывать ее. Эта земля остается у государства, она не может быть продана, обменена или отдана в залог. Земля второй категории может быть продана или отдана в аренду частным лицам. Это предложение было радикальной и оригинальной попыткой разрешить наболевшую проблему, хотя оно не совпадало с интересами помещиков, и принимать его пришлось бы с помощью силы, к чему не были готовы ни Александр, ни Северное общество. В самом деле, было рискованно принуждать дворянство освобождать крестьян против своего желания, так как представители дворянства составляли почти весь офицерский корпус и целый сонм провинциального чиновничества.
Непреодолимое препятствие, стоявшее перед Александром-реформатором, заключалась в том, что царь должен был добровольно ограничить свою власть, и Сперанский очень хорошо понимал это. Декабристы тоже должны были осознать эту проблему, и вопрос стал ребром, когда возможности Александра в проведении конституционной реформы сузились после 1820 года. Конституционный проект, предложенный Северным обществом, предусматривал во главе государства монарха с властью, ограниченной конституцией. Царь должен был стать «высшим должностным лицом русского правительства», сохраняющим право вето, контроля над военными силами и проведения иностранной политики. Законодательная власть, однако, передавалась национальному собранию, состоящему из верхней и нижней палат. При выборе в нижнюю палату избирательный ценз был очень высок (могли выбираться только образованные мужчины старше двадцати одного года, обладающие движимым имуществом ценностью не меньше 500 рублей). Страна преобразовывалась в национальную федерацию, что очень приветствовалось Муравьевым, восхищавшимся конституцией Соединенных Штатов, и полностью отрицалось Пестелем. Вопрос, состоящий в том, как заставить монарха принять такую конституцию, однако, не был решен.
Конституционный проект Северного общества отражал трезвый взгляд своих лидеров, но большинство декабристов настаивало на более радикальном решении. Многие разочаровались в Александре еще перед его отступлением от реформ в первой половине 1820 годов. Среди членов Северного общества ходили разговоры о желательном убийстве Александра (А. И. Якубович и П. Г. Каховский объявили о своем желании привести это в исполнение), но для многих такой акт казался крайним решением. Пестель был одним из декабристов, уверенных в том, что будет невозможно уговорить правителя ограничить свою власть. В его конституции утверждалось, что Россия станет республикой. Все мужчины старше двадцати лет могли выдвигать свои кандидатуры в окружные собрания; согласно этому сами собрания могли выбирать представителей в высшие учреждения, а национальные собрания имели право выбирать пять членов в Государственную Думу.
Восстания в Испании и Италии, а также мятеж Семеновского полка в 1820 году заставили царя расстаться с попытками фундаментально изменить структуру правительства или положение крепостных крестьян. Начало 1820-х годов ознаменовалось для Александра отступлением от реформ; это также был критический период в развитии идей декабристов и полного расхождения их стремлений со стремлениями самого Александра. События в Европе упрочили радикальные убеждения декабристов в то же самое время, когда эти события уменьшили желание Александра заниматься реформированием.
Русские периодические издания держали образованных русских людей в курсе событий, происходящих на Пиренейском и Апеннинском полуостровах. Николай Тургенев писал о том времени так: «Мы вдыхали европейские новости». Взрыв революции наполнил русскую молодежь оптимизмом и уверенностью в том, что начался процесс европейского масштаба, в котором Россия примет участие и который установит свободу всех европейских людей, включая их самих. Васильчиков говорил князю Петру Михайловичу Волконскому в 1821 году: «Новости о пьемонтском восстании произвели здесь сильное впечатление. Здравомыслящие люди в отчаянии, но большая часть молодежи в восторге от того, что произошло, и уже не скрывают свои идеи»[260]. Ответ Александра был решительным. Он приказал Аракчееву повысить готовность гвардейских полков и в начале 1821 года учредил секретную полицию.
Испанское восстание оказало особое влияние на декабристов. Они романтически относились к судьбе этой страны, частично из-за того же чувства ненависти к Франции в 1812 году. Декабрист А. П. Беляев был свидетелем поражения испанской революции, так как служил морским офицером русского фрегата в 1824 году. Даже поражение восстания вдохнуло в него и его товарищей «еще большее желание свободы»[261]. Особенно многих декабристов интересовала тактика испанского восстания, первоначальный успех которого мог быть достигнут без кровопролития и с использованием небольшого числа солдат. Это было актуально для России, имевшей прецеденты свержения царей небольшими войсковыми группами. Еще один урок декабристы получили из поведения испанского короля Фердинанда VII, который сперва принял конституцию, выдвинутую повстанцами, а затем, через три года, отменил это соглашение и разбил повстанцев с помощью французских отрядов. Многие из декабристов решили, что правителям нельзя доверять и что реформирование в сотрудничестве с монархом невозможно. Уверенность в этом была усилена отношением Александра к испанскому восстанию. В 1812 году он принял ту же самую конституцию, которую восставшие требовали принять в 1820 году; но сейчас он открыто был на стороне Фердинанда. В своих показаниях Следственной комиссии Пестель писал:
События в Неаполе, Испании и Португалии в то время оказали на меня огромное влияние. Я увидел в них неоспоримые доказательства нестабильности монархических конституций и нашел достаточно причин не верить искреннему согласию монархов, принявших конституцию. Эти соображения полностью упрочили мою уверенность в правильности моих республиканских и революционных идей[262].
Каховский зашел дальше: «Нарушение конституции во Франции и ее полная отмена в Испании послужило причиной, которая заставила меня согласиться с уничтожением императорской семьи». Об Александре он говорил так:
Он помог Фердинанду обойти законные права испанских людей и не предвидел вред, который причинил своему царскому положению. Это заставило всю Европу закричать: не может быть соглашения с царями![263]
Портреты Риего и Кироги, лидеров испанского восстания, были представлены в книгах Санкт-Петербурга во время неудавшегося декабрьского восстания. На Юге «Православный катехизис» Сергея Ивановича Муравьева-Апостола (серия вопросов и ответов, схожих по своей форме с катехизисом, но ясно ставящих целью использовать религиозный язык для развенчания, чтобы противостоять царской власти) был создан по образцу политического катехизиса, использованного в Испании, чтобы объяснить солдатам основы конституции. Муравьев-Апостол использовал драматическую версию испанского катехизиса, описанного во французской новелле накануне декабристского восстания. Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, который работал с ним над катехизисом, заявил: «Мысль о таком произведении долгие годы существовала в обществе. Истоками ее являлся катехизис, подготовленный испанскими монахами для людей в 1809 году»[264].
Греческое восстание оказало меньшее влияние на декабристов, но укрепило убеждение в том, что все люди Европы требовали перемен. Ипсиланти контактировал с членами Южного общества, основанного в Кишиневе и Тульчине, и восстание укрепило связи между Южным обществом и Союзом объединенных славян, основанным братьями Борисовыми, который ставил целью установление республики в России, отмену крепостного права и освобождение, а затем федерацию всех славян (включая бывших славянских болгар).
В то же самое время обострилось положение в армии. Военные поселения вызывали ненависть солдат, офицеров и сгоняемых в них крестьян. Г. С. Батеньков, бывший ассистент Сперанского, посланный на службу в военные поселения Аракчеевым, предложил, чтобы Северное общество выступило не только в центре Санкт-Петербурга, но и на Пулковских высотах, на юге города. Таким образом можно было получить помощь от военных поселенцев Новгородской губернии (где произошло главное восстание в 1831 году). В самом деле, это чувство «невыносимой трудности и ненавистной работы в военных поселениях» сыграло важную роль в осуждении им существующего режима и решении вступить в Северное общество[265]. В мирное время солдат (военных поселенцев в том числе) изматывала утомительная муштра и предпарадные упражнения. Наиболее крупным армейским мятежом, конечно, было восстание Семеновского полка в 1820 году, хотя термин «мятеж» на самом деле не совсем подходит; это был прорвавшийся стихийный ответ на чрезмерные дисциплинарные требования полковника Ф. Е. Шварца, но власти истолковали событие как мятеж. Полк был распущен, и многие офицеры переехали на Юг, где полностью разделили идеи Южного общества. Кроме того, примерно подсчитано, что между 1820 и 1825 годом всего было по крайней мере пятнадцать коллективных военных протестов.
Разочарование в проведении постепенной внутренней реформы заставило многих людей присоединиться к декабристскому движению незадолго до восстания. Батеньков, например, еще верил в возможность постепенных перемен летом 1825 года. Он написал «Очерк о теории правительственных постановлений», который намеревался представить на рассмотрение Александру. Батеньков предлагал учреждение Депутатского совета с ограниченной властью для информирования царя о «нуждах народа» без «нарушения прав самодержавия». Но растущее сомнение в вероятности реформирования сверху, а также увольнение с должности из-за неосторожных замечаний, имело результатом его вступления в Северное общество накануне восстания. Глубокое возмущение Александром, который обещал так много, а сделал так мало, было в сердцах многих декабристов. Вот что Каховский писал о царе: «Он зажег искру свободы в наших сердцах, и не он ли в итоге так грубо потушил ее?»[266]. Полное разочарование многих образованных русских людей к 1825 году было выражено в письме Александра Бестужева после ареста к Николаю I; он вложил эти слова в уста солдат, вернувшихся после европейской кампании:
Мы проливали кровь, а теперь опять вынуждены потеть на непосильных работах. Мы освободили нашу родину от тирании, но теперь государь стал нашим тираном… Зачем освободили мы Европу, неужели для того, чтобы заковать себя в кандалы? Если мы дали конституцию Франции, почему мы не можем осмелиться говорить о ней? Если мы доказали кровью наше превосходство над другими нациями, так почему нас угнетают дома?[267]
Слова Бестужева стали обвинением правлению Александра. Отчаяние и разочарование многих представителей российской элиты выросли не только потому, что Александр не смог оправдать их ожидания, но и потому, что положение России в Европе было сильнее, чем когда-либо ранее. В то время как Россия спасла Европу от Наполеона и играла решающую роль во всех европейских вопросах, она не могла предпринять, как считали декабристы, естественный шаг к выбору западноевропейских форм управления и социальной организации.
Такие реформаторы, как Сперанский и декабристы, видели, что развитие России тормозится крепостным правом и самой природой российского абсолютизма. Александр, конечно, тоже был против крепостничества и верил, что Россия должна управляться справедливым законом. Но в конечном счете он не был готов к отмене крепостного права и решил, что Россия еще не созрела для конституции. Александр, Сперанский, Новосильцев, декабристы и другие деятели девятнадцатого века встали перед лицом той же дилеммы: как освободить крепостных крестьян, чтобы не обидеть дворянство и не вызвать социальные волнения; как ввести современную западноевропейскую форму правления и заставить царя добровольно ограничить свою власть? В свою очередь, это подняло вопрос: что должно идти первым — политическая реформа или отмена крепостного права? В ранние годы правления «молодые друзья» Александра верили в абсолютную власть царя и, следовательно, были против того, чтобы она ограничивалась Сенатом или любым другим органом. Сперанский думал, что вернее всего было бы произвести политические перемены в России в 1809 году, на время откладывая освобождение крепостных, но в конце концов он не смог убедить Александра принять его конституционный проект. Александр серьезно рассматривал возможность улучшения положения крепостных крестьян и проведения конституционной реформы до 1820-х годов, создавал комиссии для рассмотрения различных предложений по обоим вопросам; но он всегда сознавал враждебность дворянства к освобождению крепостных и всегда был осторожен в вопросе ограничения своей власти. Затем он испугался возможности революции и социальных волнений и даже разочаровался в эффективности «постепенной перемены» и в будущей стабильности и спокойствии в европейских государствах.
Александр сделал Россию более могущественной и влиятельной европейской державой, чем она была раньше, но, добиваясь этого, разочаровал образованных русских людей, которые ожидали, что трансформация международных российских отношений будет проходить одновременно с трансформацией ее политической и социальной структур.
Пестель и многие другие декабристы окончательно поверили, что фундаментальная перемена невозможна, пока существует царизм, и что даже конституционной монархии нельзя верить. К 1825 году надежда этих русских людей на то, что реформирование придет сверху, умерла. Разрыв между царем и, по крайней мере, частью образованной элиты, который мучил Россию в девятнадцатом и начале двадцатого века, произошел ко времени смерти Александра.
ХРОНОЛОГИЯ
Даты даны по новому стилю
1777 Рождение Александра, 24 декабря
1796 Смерть Екатерины II и воцарение Павла I, 17 ноября
1801 Убийство Павла I, 23 марта
Воцарение Александра, 24 марта
Договор между Россией и Британией, 17 июня
Изгнание Палена, 29 июня
Мирный договор и секретное соглашение с Францией, 8 октября
1802 Амьенский договор (Франция и Британия), 27 марта
Указ о Сенате, 20 сентября
Указ о создании министерств, 20 сентября
1803 Закон о вольных хлебопашцах, 4 марта
Война между Францией и Англией, 17 мая
1804 «Инструкция» Новосильцеву для союза с Британией, 11 сентября
1805 Ратификация договора о военном союзе России и Британии, 28 июля
Битва при Аустерлице, 2 декабря
Договор в Пресбурге (Франция и Австрия), 26 декабря
1806 Битва при Йене и Ауэрштадте, 14 октября
Турция объявляет войну России, 16 декабря
1807 Соглашение в Бартенштайне (Пруссия и Россия), 16 апреля
Битва при Фридланде, 14 июня
Первая встреча Александра и Наполеона в Тильзите, 25 июня
Тильзитский мир, 7–9 июля
1808 Александр провозглашает присоединение Финляндии к Российской империи, 9 мая
Встреча Наполеона и Александра в Эрфурте, сентябрь-октябрь
1809 Сперанский предлагает Российскую конституцию
Фридрихсгамский мир (Россия и Швеция), 27 сентября
Шёнбруннский мир (Австрия и Франция), 14 октября
1810 Первое военное поселение в Могилевской губернии
Указ об образовании Государственного Совета, 13 января
Россия выходит из Континентальной блокады, 31 декабря
1811 Указ о реорганизации министерств, 7 июля
1812 Удаление Сперанского, 29 марта
Бухарестский мир (Россия и Турция), 28 мая
Великая армия форсирует Неман, 23–24 июня
Великая армия занимает Смоленск, 18 августа
Битва при Бородино, 7 сентября
Французы входят в Москву, 14–15 сентября
Великая армия выходит из Москвы, 19 октября
Битва при Малоярославце, 24–25 октября
Великая армия форсирует Березину, 26–29 ноября
Великая армия уходит за Неман, 13–14 декабря.
1813 Калиш, договор между Россией и Пруссией, 28 февраля
Рейхенбах, соглашение между Россией, Пруссией и Австрией, 27 июня
Битва при Лейпциге, 16–19 октября
1814 Договор в Шомоне (Британия, Австрия, Пруссия и Россия), 9 марта
Русские войска в Париже, 31 марта
Отречение Наполеона, 6 апреля
Первый Парижский договор, 30 мая
Визит Александра в Британию, 6–27 июня
1815 Битва при Ватерлоо, 18 июня
Венский договор, 19 июня
Священный союз (Россия, Австрия, Пруссия),26 сентября
Второй Парижский договор, 20 ноября
Конгресс Королевства Польского, 27 ноября
1816 Аракчеев возглавляет военные поселения
1817 Указ об освобождении крестьян в Курляндии, 6 сентября
1818 Александр на первом польском Сейме, 27 марта
Конгресс в Экс-ля-Шапели, сентябрь-ноябрь
1819 Указ об освобождении крестьян в Ливонии, 7 апреля
Бунт военных поселенцев в Чугуеве, август
1820 Подавление восстания в Неаполе, 2 июля
Конгресс в Троппау, октябрь — декабрь
Мятеж Семеновского полка, 16–17 октября
1821 Конгресс в Лайбахе, январь-май
Восстание Ипсиланти, 6 марта
1822 Конгресс в Вероне, октябрь — декабрь
1824 Удаление Голицына, 27 мая
1825 Смерть Александра, 1 декабря
Восстание декабристов в Санкт-Петербурге, 26 декабря