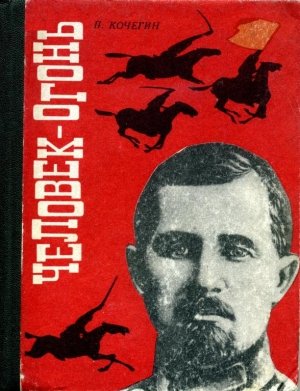
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В БЕССОННУЮ НОЧЬ
Исход февраля 1918 года. Над Троицком, распластавшимся в отлогой котловине, плывут лохматые тучи. Они цепляются за гребни степного перевала, окружившего, словно крепостными стенами, и каменные купеческие дома, и подслеповатые хибары мастеровых. Из туч, будто из дырявого полога, сыплется и сыплется снеговая крупа, порывами ветра ее несет по глухим улицам.
У гранитного подножия Пугачевой горы, опоясывая город с севера, изогнутой ветвью лежит речка Увелька. Южнее прямым стволом вытянулась ледяная гладь другой реки — шире, крупнее — реки Уя. На противоположном берегу ее чернеют невысокие скалы. В полыньях шумит водоворот.
Ветер разорвал тучи. Улицы города осветились лунным светом. Троицк кажется мертвым, опустевшим.
Но вот вдали прошел патруль, постукивая каблуками застывших ботинок. Вдоль забора крадется пропойца с бутылкой под полой. У ворот дома, что фасадом обращен к горе, никак не могут распрощаться парень и девушка.
В морозной тишине скрипнула калитка добротного крестовика. Вышел толстяк и, озираясь, пивным бочонком покатился по теневой стороне улицы.
Какой-то салган[1] отправился на тайное сборище.
В центре города видны желтые столбы света, которые поднимаются из окон большого двухэтажного дома. Советчики решают вопрос, как схватить за горло белогвардейскую казачью контру.
На вершину Пугачевой горы взошел человек в папахе и солдатской шинели. Остановился, перевел дыхание, внимательно осмотрелся.
Перед военным лежит беззащитный город. Сегодня уехал домой последний взвод, в Троицке остался уставший и поредевший от боев с дутовцами 17-й Сибирский стрелковый полк да небольшой красногвардейский отряд из необстрелянных юнцов.
Вокруг рыщут банды Дутова. В любой момент они могут нагрянуть, порубить гарнизон, разогнать Советы.
Тяжело вздохнув и поплотнее запахнув полы шинели, военный стоял несколько минут, не шелохнувшись, потом быстро начал спускаться к реке, направляясь к центру города.
Кирпичный дом купца первой гильдии Луки Платоновича Гирина стоит в глухом переулке. В каменные стены ограды вмурованы осколки бутылок. Кладовые, завозни, амбары окружают обширный двор и скрывают его от постороннего глаза. Строения приземистые. Однако в невзрачном снаружи доме высокие хоромы. Из узкого, темного коридора налево ход на половину хозяйки, филенчатая дверь прямо — в кабинет хозяина. Смежная комната всегда находится за семью замками.
Сегодня Гирин ждет важную персону: тайного посла от самого атамана Оренбургского казачьего войска, Александра Ильича Дутова. Знает он и чего ради послан человек. Потому-то и пригласил к себе кержака-купца, чуть ли не мильонщика, Пуда Титыча Тестова, обладателя множества салотопен и сыроварен. Впрочем, в Троицке Пуда Титыча звали куда проще: Усатый Нос.
…Хозяин и гость сидят в креслах, перекидываются через стол пустыми фразами. Но вот Лука Платонович откинулся на спинку, вытянул длинные руки по подлокотникам, погладил прохладное дерево волосатыми пальцами. Холодные, как стекла, глаза его уставились на собеседника.
Скрестив на мягком животе пухлые руки с короткими толстыми пальцами, Пуд Титыч юлит маленькими глазками под холодным взглядом купца. Троицкому салгану явно не по себе.
А хозяин — без обиняков:
— Мы с тобой, кум, одного поля ягода, таиться с тобой не стану. За войну и я не без прибытка остался. Ты это знаешь. Ну и ты, кум, не дремал. И Керенский нас тоже не изобидел! Я уж, прямо сказать, силенку в себе почуял немалую. Сначала, думаю, мелкоту, мальков — ам, ам! А там и покрупнее которых — мыловаров, салотопенников, бакалейщиков…
— Так, стало быть, и меня?! — с деланным смешком пропищал гость.
— Что делать! Коммерческое дело таковское: хоть сват, хоть брат!.. На то, говорят, и щука в море, чтобы карась не дремал…
— Ерша-то и щука не берет! — возразил гость, задорясь.
— С тобой, кум, поладим. В компаньоны возьму, — примирительно сказал Гирин. — Разве о тебе речь! Я бы и за братьев Якушевых взялся, и за челябинских, и за оренбургских… — выкрикнул Гирин, — А там, глядишь, и с которыми всероссийскими тузами схватился бы! — Он сжал кулаки, словно перед ним был незримый борец-противник…
И вдруг обмяк, опустил тяжелый кулак на стол.
Дверь бесшумно открылась, просунулась круглая бритая голова, послышался робкий голос слуги-киргиза:
— Козяин, гость пришла.
— Веди, — ответил Гирин и встал. С превеликим усилием поднялся и Пуд Титыч.
В кабинет вошел мужчина в дождевике, башлык опущен на ворот шинели, на офицерской папахе красный бант.
Купец и заводчик обменялись тревожными взглядами.
— Не узнаешь, Лука Платоныч? — спросил простуженным голосом гость.
— Эко, как ты, Вениамин Петрович, принарядился! — узнав казачьего офицера Полубаринова, воскликнул Лука Платоныч. — Настоящий красный боевик.
Гирин помог гостю раздеться, повесил одежду на передвижную вешалку.
Пуд Титыч с нескрываемым интересом рассматривал есаула. Это был вышесреднего роста, широкоплечий, безукоризненной выправки офицер. Светлые лоснящиеся волосы прилизаны на прямой пробор, густые длинные белобрысые брови срослись над переносицей.
Одернув новенький френч английского сукна, Полубаринов обменялся рукопожатиями с Гириным и Тестовым, устало опустился в кресло.
— Чертовски умаялся, — заговорил гость. — Вы удивляетесь моему наряду? Не удивляйтесь. Словно через слоеный пирог к вам пробирался. Что на белом свете творится — сам черт ногу сломает! В одной станице Советы верховодят, в другой — атаман властвует, а в иных и Советы и атаман сидят. Одним патрулям кресты да мандат наказного атамана в нос суешь, перед другими красным бантом да удостоверением солдатского комитета трясешь.
— Неужто от Верхнеуральска всю дорогу пешком? — спросил Лука Платонович.
Полубаринов лениво улыбнулся, отрицательно покачал головой. Немного помолчал, прищурив глаза, и нехотя ответил:
— До Менового двора на перекладных — и свои, и красные наилучших рысаков подавали. Так спешил, что с утра во рту маковой росинки не было.
— Зубы гостю заговариваешь, а про утробу забыл? — пискляво вставил Тестов.
Лука Платоныч извлек из тумбы стола бутылку коньяка, тарелки с хлебом, икрой, маслом, солеными грибами, ломтиками голландского сыра, кружками краковской колбасы, и все это поставил на стол.
— Пока замори червячка, а там и ужин готов будет.
Хозяин первым предложил тост за здоровье Александра Ильича Дутова.
— Александр свет Ильич приказал вам кланяться, — уплетая за обе щеки закуску, проговорил Полубаринов.
— Покорнейше благодарим, — без особого, впрочем, восторга ответил Гирин.
— Как здоровье наказного? — скорее для приличия, чем из искреннего побуждения спросил купец.
— Спасибо. Горит желанием быстрее встретиться с вами в Троицке.
— Дай-то бог! Дай-то бог! — просипел Тестов, ладонью руки вытирая влажные жирные губы. — Скоро ли мы его, долгожданного, примем в своих хижинах? Житья нет, хоть в гроб ложись!
— Бог-то бог, да и сам не будь плох, господа хорошие. Дутов на днях прибыл в Верхнеуральск, под его знаменем пять тысяч штыков и сабель, завтра их будет десять, послезавтра — двадцать тысяч. Все они не адамы боговы, их надо одеть, накормить, дать в руки оружие, кулаками немного навоюешь. Армии нужны деньги, много денег.
Лука Платонович насторожился, верхняя губа стала приподниматься, он уже что-то решал, прикидывал. Пуд Титыч хоть, и кивал в лад головой, призадумался.
— Александр Ильич уполномочил меня переговорить с вами, он уверен, что вы поможете любимой Родине в это трудное для нее время.
Полубаринов закурил дорогую папиросу, выжидательно посмотрел на Гирина.
Тестов брезгливо сморщился, стал отгонять от себя дым руками. Гирин прошелся из угла в угол, а потом повернулся к послу атамана и, взвешивая каждое слово, проговорил:
— Есть и деньги у нас, и хлебушко, и товаришко.
— Как не быть, — вставил Тестов.
— Пожертвуем на армию-освободительницу столько, что атаман не обидится. Но сперва пусть он выгонит из Троицка Советы, а потом и денежки на кон.
Полубаринов поерзал на стуле и раздраженно произнес:
— Вы или простаки или прикидываетесь ими. Я русским языком вам говорю, что без армии Троицка не освободить! А чтобы ее иметь, нужны деньги.
— У верхнеуральцев их не меньше. Казачишки справные, у них перехватит. Пусть сперва они дадут. А придет сюда — милости просим, перед соседями в грязь лицом не ударим… Посудите сами, какой нам резон раскошеливаться раньше времени: мы вас нагрузим золотом, а кто его знает, в чьи руки оно попадет. Когда сюда пожалует атаман, — неизвестно: может он до второго пришествия, так сказать, не придет… Нет, это не дело.
— Умно, умно говорит Лука Платоныч. Денежки зря бросать на ветер нельзя, полушка к полушке они копились, — поддержал Тестов.
— Вы, господа, рубите сук, на котором сидите. Сегодня жалеете, а завтра пожалеете. Видать, мало вас большевики тряханули, ну да скоро повывернут наизнанку ваши мошны.
— Э, ангел мой, бог не выдаст — свинья не съест! — иронически отвечал Гирин. — Все знают, что наши деньги лопнули в банке, а что осталось — пойди найди… А Советам рога пообломаем все равно. Не Дутов, так другой сыщется.
— Так, стало быть, вы отказываетесь от борьбы с большевиками? — сухо спросил Полубаринов.
— Зачем так говорить, ангел мой? На первый случай тыщонок пятьсот золотишка наберем. Я полста тысяч пожертвую, Пуд Титыч столько же…
— Что ты, что ты, Лука Платоныч! — замахал пухлыми руками Тестов. — Побойся бога! Где мне, бедному салгану, за тобой тягаться! Половину твоего-то едва наскребу.
— Не прикидывайся казанской сиротой, знаю ведь про твою калиту, — грубо оборвал Гирин и затем начал пригибать пальцы руки, называя фамилии богатеев и кто сколько может подкинуть авансом на «спасение Родины».
Насчитал чуть побольше полмиллиона.
— Ну как, пока хватит?
— Можно мириться. Дивизию Томинскую казачью расформировали? — вдруг изменил тему разговора Полубаринов.
— Славу богу, сегодня последняя сотня разъехалась, — поспешил сообщить Лука Платонович.
— А Томин?
— Этот смутьян еще здесь, я его вечор видел, — проговорил Тестов.
— Сделать все, чтобы Томин был с нами. А не удастся — убрать! — тоном приказа произнес Полубаринов. — Такова воля наказного. Томин имеет колоссальный авторитет у казачьей голытьбы, и не безразлично нам, на чьей стороне он будет.
С подносом в руках в комнату вошла Наташа. На ней поверх ситцевого платьица — белый передник, на голове — цветная косынка. Косы покоятся на высокой груди, глазка опущены.
Полубаринов жадным взглядом впился в девушку, а потом развел руки в стороны, удивленно протянул:
— Так ведь это же Наташка! Повзрослела, похорошела!..
— Старые старятся, молодые растут! — заметил, щурясь, Лука Платоныч.
— Как быстро летит время…
Молча поставив жаркое, Наташа легкими быстрыми шагами покинула комнату. Прикрыв дверь, остановилась.
— Я уже сказал, что Томина надо убрать только после того, как не удастся перетянуть к себе. Повторяю, это воля самого Александра Ильича, — услышала Наташа голос Полубаринова, и кровь хлынула к вискам.
Девушка хотела убежать, но какой-то необъяснимый страх словно припаял ее к полу.
— Подкупить надо, — лениво пробормотал Пуд Титыч.
— Когда он вел дивизию с Украины, то и Каледин, и Скоропадский пытались это сделать, только ничего не вышло. И теперь это можно испробовать. За расформированную дивизию он зол на Советы, и надо ковать железо, пока горячо, а у меня в кармане ни гроша ломаного.
— Да, эта птица стоит заряда! — выдавил из себя Гирин.
— Тогда миллион давали, — уточнил Полубаринов.
— За дивизию давали. Теперь он один, как перст, и пусть носа не задирает, — возразил Лука Платонович.
В комнате загремели стульями. Наташа отпрянула от двери.
…Без особого энтузиазма шел Полубаринов по пустынным улицам города на встречу с Томиным. Когда он прибыл к Дутову, то рассчитывал, как и в царской армии, устроиться в штаб, на теплое местечко. Однако атаман, в наказание за работу в революционном солдатском комитете, дал ему это поручение, строго предупредив: «Не выполните — голову снесу».
Он как сейчас видит грозного атамана — коренастого толстяка с жирным лицом монгольского покроя, с чуть раскосыми глазами, с коротким ершиком жестких волос на голове.
В длинном здании бывшего Третьего отдела Оренбургского казачьего войска расположился военный комиссариат и штаб обороны Троицка. Небольшую комнату в одно окно, выходящее на Оренбургскую улицу, занимает бывший председатель солдатского комитета и начальник Первой Оренбургской казачьей дивизии Николай Дмитриевич Томин.
Здесь он провел не одну бессонную зимнюю ночь. Стремительно летело время. Разоружались полки, сотни и батареи. Митинги и напутственные речи, прощание с друзьями, призывы к фронтовикам защищать революцию, если их позовет партия большевиков, — все это до предела заполняло дни.
Каждый раз, когда казаки с радостными лицами уезжали домой, великая тоска охватывала Николая Томина. Казалось, в эту минуту с болью отрывался кусок его собственного сердца.
«Вот расформирую дивизию, тогда успокоюсь, отосплюсь за все ночи — и в Куртамыш к Аннушке», — думал Николай.
Наконец пришла эта последняя ночь, а покоя все нет: чует сердце — неладное вышло с расформированием.
Томин подошел к лампе, вывернул фитиль. Свет выхватил из полумрака его лицо. На широкий упрямый лоб опустились темно-русые мягкие волосы. Прямой нос от бессонных ночей обострился. Щеки ввалились, скулы резко обозначились. От ноздрей к краешкам губ дугой пролегли глубокие бороздки. Однако светлые усы по-прежнему аккуратно подстрижены, подбородок чисто выбрит, суконная солдатская гимнастерка, со следами от погонов, крестов и медали, туго облегает сухощавую фигуру.
Быстрым движением Николай достал из кармана бумажку и, в который раз за вечер, начал читать.
«СправкаНастоящим удостоверяется, что Томин Николай Дмитриевич, будучи председателем дивизионного комитета Первой Оренбургской казачьей дивизии, в январе месяце 1918 года прибыл с одиннадцатым и двенадцатым полками в город Троицк Оренбургской губернии. Прибывшие во главе с товарищем Томиным части были революционно настроены, и никаких эксцессов со стороны указанных частей не было. Личный состав частей был организованным порядком распущен по домам, имеющееся оружие и боеприпасы были сданы в троицкую военную организацию».
Ниже две подписи и круглая печать с гербом новорожденной Советской Республики. Буквы расписавшегося красными чернилами закручены, как пружина.
«Эксцессов! Выкопали словечко!» — с раздражением подумал Томин. Отшвырнул листок и нервной походкой заходил по комнате, время от времени поплевывая на пальцы правой руки и потирая ими. Эта привычка осталась у него от многолетней работы у купца Гирина, когда ему приходилось пересчитывать пачки чужих денег, и, когда волновался, — прорывалась.
В трубе голосит ветер.
Томин быстро ходит из угла в угол и, как бы кому-то доказывая, мысленно говорит:
«Фронтовики в станицах создают Советы, а над этими Советами петля вьется! Дутова выгнали из Оренбурга, он перебежал в Верхнеуральск и снова собрал пятитысячную банду. И сейчас по станицам его офицеры рыщут. Одних уговорами заманивают, других — нагайками, а тех, которые наотрез отказываются, вешают, расстреливают, рубят. Те, что нынче по домам разъехались, вольно или невольно могут оказаться у Дутова.
Расформирование дивизии — недомыслие. В то время, когда решалась судьба дивизии, делегация оренбургских железнодорожников сидела у Ленина и просила защиты от произвола Дутова. По распоряжению Ленина из Питера на Урал был послан 17-й Сибирский стрелковый полк и отряд моряков. Две тысячи пятьсот штыков. С Петроградского-то фронта снять войска, когда там каждый солдат дорог, каждый штык на учете! А здесь революционную дивизию разоружили, да еще какую дивизию — кавалерийскую!»
Мозг настойчиво сверлит одна и та же мысль:
«Не верят, казакам не верят! И мне, выходит, не верят!»
От горестной обиды и бессонных ночей Томин чувствует страшную усталость.
«Чему не верят? Жизни моей?»
ПЕРЕД ГРОЗОЙ
Прямыми улицами поселок Казачий Кочердык Усть-Уйской станицы на востоке устремился к сосновому бору. На юге от поселка раскинулись заливные луга с множеством озер, за лугами на могучих плечах Казахского плато покоится горизонт.
С запада к поселку прижалось круглое, как блюдце, озерко, прозванное Казачьим. Поблизости — колодец с покосившимися столбами и полусгнившей крышей. А чуть дальше от Казачьего озерка стоит сторожевая вышка. Издали она походит на ободранную ветряную мельницу без крыльев: наблюдательная башня ее изрешечена дождями и ветрами. От вышки уходит ровное, как стол, поле бывшего манежа, по границе которого видны следы обвалившихся пороховых погребков, крепостного вала.
Все здесь напоминает о землепроходцах, которые пришли сюда в первой половине восемнадцатого века и основали Казачий Кочердык. Из поколения в поколение передаются были и небылицы, ставшие легендами, о том таинственном и героическом времени, воспламеняя воображение и чувства казачат.
Манеж, пороховые погребки и сторожевая вышка — излюбленное место игр поселковых ребят.
Настала горячая пора — весенний сев, все казаки и малолетки (так назывались у казаков семнадцати-двадцатилетние парни допризывного возраста) в поле. Сегодня здесь хозяйничают казачата.
Солнце ушло за горизонт. С призывным мычанием, вздымая тучи пыли, возвращаются с лугов табуны коров. Над тополями затихает крик галок.
И только за околицей поселка, у сторожевой вышки по-прежнему идет жаркая «баталия». Ребятишки верхом на прутьях несутся в лихую атаку, размахивая деревянными саблями, вонзая в «противника» пики-самоделки. А самые отчаянные забрались на наблюдательную башню и, подражая своим прадедам, кричат в старенькие рупоры:
— Слу-ша-й!
Эхо над лугами и полями уплывает в сторону станицы Усть-Уйской.
В старину между поселками, отрядами и станицами Уйской оборонительной линии важные вести передавались протяжными голосами через рупор на утренней и вечерней заре.
Вдруг ребячий гвалт оборвался, наблюдатели заспешили вниз, да так быстро, что гнилые перекладины лестницы не выдерживали, ребятишки падали, но, не ойкнув, поднимались и давали стрекача. В одно мгновение всех словно ветром сдуло. И когда старшие с вицами в руках пришли к месту «баталии», там стояла полная тишина и безмолвие. И только брошенные «кони» и «пики» выдавали недавнюю битву.
Большая семья отставного полкового чеботаря Афанасия Михайловича Томина жила в старом, по окна вросшем в землю, пятистеннике.
Летом на ночлег разбредались по двору: в амбар, на сеновал, на телегу под полог. В доме оставался дед Афанасий с бабкой Анной. Когда же спать на дворе становилось холодно, дом превращался в улей. Горницу занимала семья старшего сына Дмитрия, кухню — младшего Леонтия. Для стариков оставалась печь, а для ребят — полати.
Ели в одно время, за одним столом, из одной чашки. Дед садился в передний угол, под образа. Рядом с ним сыновья, а там — внучата. Дед начинал хлебать первым деревянной ложкой, прошедшей с ним всю военную службу, а потом все остальные. Пока он не встанет, никто не смел ломать стола: все сидели и молча ждали, когда поднимется глава семьи.
Тот, кто опаздывал за стол, оставался без обеда или ужина.
В этот вечер за ужином было просторно: Дмитрий и Леонтий уехали в поле, а старший внук Николай где-то заигрался. Хотела было бабушка покликать его к ужину, да мать не разрешила.
— Останется голодом, будет знать, как допоздна бегать.
Домой Коля пришел с расквашенной губой и подбитым глазом.
— Вот он, явился! Теперь вместо ужина ешь хныкалку, — послышался из горницы строгий голос матери.
За внука хотела было вступиться бабушка. Но дед строго оборвал:
— Цыц! Пусть с малолетства привыкает к порядку. А то какой же из него казак будет?
Коля, посапывая носом, полез на полати, но в это время из горницы вышла мать.
— А ну-ка, ну-ка, подойди к свету, — и мать подтолкнула Колю к огарку свечи.
— Батюшки! Да где же это ты так разукрасился? И рубашку порвал!
— Я, мы… с Санькой Алтыновым на вышке… лестница обломилась…
— Горе мое, — закричала мать, — у людей дети как дети!..
— Не шуми! Казак чать он! Терпи, атаманом будешь, — снимая сапог с колодки, защитил и подбодрил внука дед.
— И что думает атаман?! Давно бы надо эту развалину свалить, до беды недолго, все ребятишки перебьются, — не унималась мать.
Но дед прервал ее:
— Нельзя рушить память о былом. Ругай атамана за нерадение, оставил вышку без присмотра. Разрушить не хитро, сделать труднее.
Коля незаметно для взрослых залез на полати и сразу же притворился спящим. Но уснуть еще долго не мог.
Горит распухший глаз, ноет плечо, саднит губа. Но не это мучает мальчика. Он никак не может разобраться в происшедшем. Мама лишила ужина, бабушка хотела заступиться, но дед прицыкнул на нее. Мама чуть не дала затрещину, дед заступился. Вот и пойми.
— Ну, Кольша, хватит тебе баклуши бить, едем завтра на пашню, — проговорил отец вскоре после злополучного происшествия на сторожевой вышке. — Земля поспела, сеять пора. Боронить будешь.
Весь день Николай ходил радостный, задирал нос перед младшими сродными братишками, а на сестренок и внимания не обращал. С нетерпением ждал, когда пройдет ночь и он поедет на пашню. Не всех берут! Как только казачата начинают ходить, отцы таскают их за собой на луга, на пашню, приучают ездить верхом. А кто победней даже семилетних ребятишек ставит бороноволоками.
С восходом солнца в поселке послышался скрип телег, ржание лошадей, голоса мужиков, перекличка мальчишек.
Вереница подвод потянулась по дороге.
Впереди с отцом Сашка Алтынов. Он вращает маленькой головкой на длинной шее, словно кулик на болоте, что-то кричит Коле.
Справа потянулась стена соснового бора, слева раскинулась необъятная ковыльная степь. Под скользящими лучами солнца степь кажется серебряной. Прыгают тушканчики, встав на задние лапы, свистят суслики, поспешают в свои норы полевки. Над степью и в бору разноголосое пение птиц.
Полевые избушки Томиных и Алтыновых прижались к небольшому космачку — узкой полоске берез.
— Отдыхать потом, — сказал дядя Леонтий и, взмахнув над головой бичом, поехал пахать. Отец нагреб из мешанинника зерна в лукошко, перекинул широкий ремень через плечо, развернув плечи, широко расставляя ноги, валко пошел по вспаханному полю.
Коля идет рядом и с любопытством наблюдает, как ловко получается у отца. Берет он горсть пшеницы и бросает, а зерно, ударившись по ободу лукошка, веером разлетается и падает на землю.
Вот брошена последняя горсть. Отец вытер рукавом рубашки катившийся градом пот, поднял берестяной туяс, с жадностью, большими глотками испил квасу. И снова, с тяжелой ношей через плечо, на полосу. Мокрая рубашка прилипла к широкой спине.
От заимки соседей показалась полоса пыли, а вскоре обозначилась вереница лошадей. Впереди отец и сын Полубариновы, за ними брички с мешками, сеялка, бороны. Венька, ухватившись обеими руками за гриву, неуверенно сидит на рыжем холеном мерине.
— Помогай бог, Дмитрий Афанасьевич! — небрежно приподняв картуз, бросил Петр Ильич Полубаринов, поравнявшись с Томиными.
— Спасибо, благодетель, — скрежетнув зубами и не останавливая шага, ответил Дмитрий Томин. — Живоглот проклятый, забрался на чужую землю, да еще и насмехается!
Обоз с семенами остановился посредине поля. Земли эти еще недавно принадлежали Томиным, Алтыновым и другим беднякам. Их незаконно присоединил к своему наделу атаман Полубаринов.
Пока одни работники заправляли сеялку, другие уже начали боронить сразу в три следа, на шести лошадях. Крайней правил татарчонок Ахметка, круглый сирота, прибившийся в Казачьем Кочердыке. Следом пошла сеялка.
Коле не терпелось посмотреть, как работает это чудо-машина. Отец, разгадав желание сына, строго проговорил:
— Хватит глазеть и бездельничать, боронить надо.
Коля забрался на Буланку, отец взял лошадь под уздцы, провел несколько шагов, отпустил повод и сказал:
— Ну, с богом!
У Коли сразу куда делась былая уверенность. Его руки задрожали, сердце онемело.
Так скоро! Как ему хотелось, чтобы отец еще хоть несколько шагов прошел впереди.
— Правь ровнее! — крикнул отец.
Лошадь ежеминутно мотает головой, бьет ногами, хлещет хвостом. С противным писком несметная стая комаров облепила лицо мальчика. Он смахивает их, рвет за повод то правой, то левой рукой. Пот ест глаза. Кошомка сбилась, и острый хребет лошади больно давит и мозолит тело.
За бороноволоком потянулся зигзагообразный след.
— Тпру! — в отчаянье кричит Коля.
Буланка остановился. И тут же удар кнута ожег спину парнишки.
— Не разевай рот! — рассердился отец и, выйдя вперед, повел лошадь в поводу.
Горькие слезы застилают глаза мальчика.
— Перестань реветь, а то пешком домой отправлю, — сурово проговорил отец. — Лошадь не дергай, поводья отпусти, она без тебя прямее пойдет, внял?
Эти полдня показались Коле вечностью. Отец, не глядя на сына, все шагал и шагал по полю, методично взмахивая правой рукой.
Когда же мальчик слез с лошади, ноги подкосились и он опустился на землю. Ломит поясницу, горит искусанное комарами лицо, зудят руки. Еле вошел в избушку и замертво повалился на старый тулуп.
— Истомился мальчишка, — с жалостью проговорил дядя Леонтий.
— Зато знать будет, как хлеб насущный достается.
К концу недели Коля втянулся в работу и уже не чувствовал такой усталости, как в первый раз. Зажили и ссадины, при бороньбе не стала выбиваться кошомка.
Теперь после рабочего дня он вместе с ребятами играл дотемна в шаровки и чижика, гонялся за сусликами и тушканчиками.
В субботу, когда послышались звуки колокола, казаки поехали домой.
Отец был в хорошем настроении и всю дорогу мурлыкал себе под нос песню:
— Кольша, а ты что закручинился? Аль вспомнил, как я тебя учил боронить? Забудь, брат! Обозлился я на кровососов, а на тебе сорвал. Ну и славно мы поработали. Вот отпарим в баньке комариный зуд, завтра к обедне сходим, грехи замолим и снова в полюшко.
Много было у Коли развлечений и дел, но больше всего он любил проводить время с дедом. Афанасий Михайлович Томин слыл в поселке мастером на все руки. Кому надо сапоги стачать или полушубок сшить — идут к нему. Он сошьет так, что на людях показаться не стыдно. А телегу смастерит — не налюбуешься. Дуги и полозья так гнет, что даже из станицы заказы получает. Поломается молотилка или веялка, опять же к деду Афанасию — он исправит.
Только мало дает это ремесло. Богатеи за труд старика расплачиваются грошами, поселковое начальство считает, что Томин обязан работать на него бесплатно, ну а у сирот и вдов он сам не берет.
Летний, жаркий день.
Афанасий Михайлович сидит на своем складном стареньком стульчике, который привез со службы, тачает голенище сапога и тихо напевает:
Внук примостился рядом. Он усердно раскалывает колесики на тонкие плашки, заостряет их с одного края и колет на равные дольки. Получаются шпильки — сапожные гвозди.
Коле жарко, хочется на Казачье озерко, где сейчас ребятишки купаются до гусиной кожи, но он терпит, знает — пока не выполнит задание — не отпустят.
— Деда, расскажи про Стеньку Разина, — просит внук.
Старик вынул изо рта конец дратвы, заправленной в щетинку, украдкой улыбнулся в седую редкую бороду.
— Ишь чего захотел знать? Так и быть, расскажу. Давным-давно наши прапрадеды под барином жили. Лютый был барин, зверь-зверем. Томил он своих крестьян непосильным трудом, томил голодом, жаждой, зноем, до смерти забивал арапниками. Не вынес такого лиха народ, расправился с барином и подался на Дон. Прослышали, что там человек объявился, который за бедных заступается. Встретили Степана Тимофеевича и ходили с ним по Каспию в Персию, по Волге-матушке удалые песни распевали, бояр да помещиков громили. А за это один твой пращур от царя получил награду: веревочный галстук с перекладиной. Кто в живых остался, подались на реку Яик и начали казаковать. Слава у нас стала казачья, а жизня — собачья.
Старик умолк. Коле не терпится узнать, что было дальше, и он тихонечко трогает его за руку.
— Казаки служили царю-батюшке, на охране Руси стояли. Одним летом дедов наших по тревоге комендант крепости поднял, бабушки даже хлебы не успели из печей вынуть. Погрузили скарб на брички, посадили ребятишек и — в дальнюю дорогу. Недалеко от впадения Кочердыка в Тобол обоз остановился. Здесь срубили крепость и жилье. Не смирились Томины с собачьим житьем. И когда в Куртамыше объявился есаул Емельши Пугачева Иван Алферов, пошли они к нему, ударили челом, возьми, мол, нас к себе за правду биться. Под селом Кипелью супостаты одолели отряд Ивана Алферова, не дали ему соединиться с главным войском Емельяна Ивановича. Да и в штабе Пугачева измена вышла. Скрутили руки Ефиму Томину — и на перекладину. Серафим и Матвей Томины укрылись за Тоболом, в киргизских степях. Много лет они странствовали. Вернулись домой, и стали их прозывать степняками. Под корень наш род вырубили, а он вновь отрастал и плодился. Терпелив бог, да и его терпению конец приходит. Ниспошлет он нам нового защитника.
…Закончилась горячая пора — уборка урожая. Наступила осень, а вместе с нею подошло время начинать занятия в школах.
Афанасий Михайлович сидит на лавке у порога, чинит хомут. Коля вбежал в избу, бухнулся деду в ноги.
— Чего тебе? — строго спросил старик, а у самого молодо заблестели глаза: знал, чего надобно внуку, и ждал этой минуты.
— Отпусти, дедуся, в школу.
— Благословляю, внучек. Может, ученый человек из тебя выйдет.
Школа. Полная военная форма и шашка на боку, только деревянная. Изучение приемов рубки тоже на деревянном коне. Все казачата мечтают о всамделишных конях и шашках.
Домой Коля прибегал всегда веселым и радостным. Выучит уроки, усядется на подоконник, вырезает из бумаги всадников и приклеивает их к стеклу. Окно превращается в поле боя. Тут и шашками рубят, пиками колют, конями мнут супротивников.
За это, конечно, от матери получал нагоняй, но дед заступался.
Любил Коля читать вслух книжки. Залезут с дедом на печь, поставят светильник на брус, Коля читает, а старик слушает и чего-нибудь добавит от себя. Читать приходилось вполголоса, чтобы младших сестренок и братишек не разбудить. Проснутся — качай до полуночи.
Однажды мальчик смастерил маленькую молотилку. Все, как у настоящей, только из дерева. Колосья даже обмолачивала.
Дед похвалил внука и в награду подарил набор своего инструмента:
— Мне он теперь уж ни к чему, глаза плохо видеть стали, руки трясутся.
Вскоре Томиных постигло большое горе: умер дед. Большая семья разделилась, Дмитрий Афанасьевич стал строить свой дом. Но беда не ходит одна — скоропостижно скончался отец Коли. Мать осталась с тремя детьми, ждала четвертого. Все хозяйство легло на щуплые плечи старшего сына.
Спустя два года после смерти отца мать вышла замуж за другого, уехала с ним в соседнее село. Имущество было разделено.
Коля не захотел жить с отчимом, остался в Казачьем Кочердыке. Переселился к дяде Леонтию, где жила бабушка Анна, а дом сдали в аренду.
Школу пришлось оставить и пойти работать на маслозавод к богатею Харинасу.
На холодном каменном полу стоит Коля и крутит тяжелую маслобойку. Штаны закручены до колен, русые волосы спадают на лоб. Перед глазами качается серая стена. Его товарищ, маленький худенький татарчонок Ахметка, поскользнувшись, упал, тяжелая фляга вырвалась из рук, и молоко разлилось.
Распахнулась дверь, на пороге выросла грузная фигура Харинаса. Он стоит, словно глыба на каменных тумбах, зло прищурив заплывшие жиром глаза. Хозяин подошел к перепуганному Ахмету, приподнял его за шиворот, и удары тяжелых кулаков посыпались на голову мальчика.
Коля кинулся на защиту товарища. Он с разбегу ударил головой Харинаса в отвислый живот, но тут же могучий удар выбросил его на улицу.
В голове звон, из глаз сыплются разноцветные искры.
Ахмет после побоев тяжело и долго болел. Колю Харинас выгнал с работы.
С этого дня, на удивление всем казачатам, Ахмет Нуриев и Коля Томин стали неразлучными друзьями.
…Тобол, сделав крутой поворот, устремил свои воды в сторону Казахского плоскогорья, но слишком твердой оказалась каменная гряда, и река, покорившись, устремилась вдоль кряжа.
Воскресенье. Жаркий, солнечный день. На приплеске сидят три паренька: Коля Томин, круглолицый, худощавый, и его товарищи — Веня Полубаринов и Саша Алтынов. Веня — белоголовый крепыш, Саша — сухой, высокий и длинный, за что ребята прозвали его «каланчой».
Товарищи следят за поплавками, а Коля, подперев руками щеку, задумчиво глядит вдаль. К подножию горы Пика прилепился Кобеков аул. Деревянный дом крупнейшего скотовладельца Кобека горделиво возвышается над землянками работников. В ауле визжат ребятишки, ссорятся женщины. За рекой слышно щелканье бичей пастухов, время от времени в вибрирующем мареве проплывают всадники.
Коля смотрит на эту картину, вспоминает рассказы деда о далеком прошлом своих предков. И видится ему:
…Предутреннюю тишину нарушил набатный звон колокола с наблюдательной вышки. В поселке тревога. Казаки седлают коней и вихрем несутся к месту сбора. Здесь они узнают, что их земляка, Ефима Томина, сегодня будут казнить в станице Усть-Уйской за участие в Пугачевском бунте. Скорее на выручку! Впереди всех, быстрее ветра, летит на своем скакуне он, Николай Томин. На площади станицы многолюдно. Палач, окруженный стражей, уже накинул петлю на шею казака. Николай прорывается сквозь толпу, взмахивает клинком, перерубает веревку. От второго удара слетает голова палача. Миг — и Ефим Томин за спиной Николая. Стражники опомнились, с гиканьем и свистом бросаются в погоню за храбрецом. Над головой свистят пули, земля дрожит от топота конских ног. Но где им догнать томинского скакуна. Тот будто летит на крыльях, дух захватывает…
— Тяни, тяни! — кричит Венька Полубаринов.
Коля машинально хватает удилище, в воздухе блеснула рыбка и булькнула в реку.
— Уснул, тетеря! Какого окуня прозевал! — укоряют товарищи.
Солнце палит нещадно. Воздух тяжелеет, дышать становится труднее. Попрятались в траву комары, не слышно жужжания овода. Тобол как будто засыпает: меньше стало круговоротов, медленнее перекат воды. Все замерло. Внезапно из-за Казахского плоскогорья громадным клином выползла тяжелая, свинцовая туча.
— Гроза идет, домой! — крикнул Веня.
— Самый клев начался, а ты — домой, — возразил Коля.
Тобол потемнел. Вдруг земля и тучи соединились ломаной ослепительной линией. Началась гроза. Зашлепали по воде капли, пузырясь на зеркале реки.
Саша озирается, но старается не показывать вида, что ему страшно. При каждом ударе грома Веня боязливо втягивает голову в плечи, прижимается к обрывистому берегу.
— Эх ты, трус несчастный! Боишься грома — сиди дома! — бросает Коля.
— Правильно, сынок, говоришь. Грома не надо бояться, — раздался за их спинами мужской твердый голос.
Ребята повернули головы. Над обрывом стоит незнакомый мужчина. Он высок ростом, широкоплеч. Густые брови срослись над переносицей, а под ними веселые карие глаза.. Черная бородка подстрижена клинышком, усы густые, короткие. Белая вышитая косоворотка перетянута узким ремнем с металлическими блестящими концами. Темные брюки в полоску заправлены в охотничьи сапоги.
Раздался новый раскат грома, и вдруг туча разорвалась пополам, выглянуло яркое солнце. Все оживилось, повеселело. Мужчина легко соскочил с обрыва, сел на приплесок рядом с Колей, положил на его давно не стриженную голову загрубелую руку и словно бы прикоснулся к сынишке, которого оставил далеко-далеко в Новгородской губернии. Вздрогнуло и сердце мальчика: вспомнил он родную руку деда.
Тем временем на небе не осталось ни облачка.
Незнакомец назвался Андреем Кузьмичом и сказал, что он богомаз и приехал в Кочердык писать для церкви иконы.
— Старые-то боги пооблупились, вот я и намалюю новых, молитесь на здоровье, — с иронией проговорил он, а глаза при этом весело блестели.
В поселок возвращались на закате солнца. Дядя Андрей рассказывал о жизни в далеких городах, о заморских странах, о чудо-машинах.
Веня Полубаринов сообщил дома о встрече на Тоболе.
— Ну и о чем же он с вами беседовал? — заинтересовался отец.
— Намалюю, говорит, новых богов, молитесь на здоровье.
— Вот что, Веня, если еще раз встретите с ребятами богомаза, запоминай все, о чем речь вести будет. Смекнул?! А я вот тебе новый ремень купил в станице. Примерь-ка.
…За свои политические убеждения Андрей Кузьмич Искрин был приговорен царскими властями на вечное скитание по земле русской: ему был выдан паспорт, с которым он не имел права проживать в одном селе дольше установленного срока. Но церковный староста, узнав, что политический — художник, оставил его обновлять иконы в церкви.
Вскоре к Андрею Кузьмичу, как на пригретую солнцем полянку после длинной зимы, потянулись и пожилые, и молодые казаки.
За поселком, на краю бора росла старая сосна с мощными ветвями, с потрескавшейся корой на стволе в два обхвата. Она перешагнула «царскую» дорогу и остановилась впереди бора, приняв на свою широкую грудь удары степного ветра. У этой сосны, окруженной молодой порослью, часто встречались поселковые парни с Андреем Кузьмичом.
Воскресенья Андрей Кузьмич проводил с Колей Томиным. Они удили рыбу, собирали грибы, ягоды, купались. Коле нравилось, что дядя Андрей разговаривал с ним, как со взрослым. Мальчик узнал, как появились на земле бедные и богатые, какая будет жизнь, когда не будет буржуев и нищих, а все люди станут равными. Только такая жизнь сама не придет. За нее надо бороться, и борьба эта жестокая, страшная. Того, кто пойдет по этому пути, ожидают тюрьмы, каторга, а может быть и виселица.
Андрей Кузьмич как-то сказал Коле:
— Тебе, сынок, со мной одному скучно. Пригласи-ка за грибами Сашу и Ахмета. Веселее будет.
Дядя Андрей и его юные друзья вышли на опушку бора с полными корзинами грибов и присели отдохнуть под кроной сосны-великана.
Над лесом поднялось яркое солнце.
Андрей Кузьмич прищуренными глазами взглянул на небо и громко продекламировал:
— Дядя Андрей, а кто такие псы и палачи, — несмело спросил Саша.
— Большой дом в ауле за Тоболом видел?
— Видел.
— В нем живет палач Кобек. Он грабит людей и глумится над ними. И в вашем поселке есть палачи, которые сосут кровь из трудового народа — маслозаводчик Харинас, атаман Полубаринов.
— Кобек-то бусурман, а наш атаман… — возразил Саша, но дядя Андрей перебил его:
— Оба они одним миром мазаны. Кобек имеет табуны лошадей и овец, а ваш атаман сотни десятин земли.
Ахметка пожаловался.
— Работай, работай — атаман била, Харинас била. Шибка плохо.
— Над всеми этими палачами есть главный палач, — продолжал дядя Андрей. — Царь. Подрастете, вас научат саблями рубить, пиками колоть, нагайками бить рабочий люд, псов царских постараются из вас сделать.
— Я никогда не буду псом, — сказал, как клятву дал, Коля.
— Заговорился я с вами, а мне пора к атаману, отметиться надо, что я дома. Боится ваш атаман разлуки со мной, вот как он меня любит.
…Страда в том году была нерадостной: палящее солнце и суховей выжгли хлеба. Коля вырывает редкие низкорослые стебли пшеницы и складывает их в кучи. Пот ручьями катится по лицу, ест глаза. Разломило спину. Невмоготу стало, и он разогнулся. Со стороны Усть-Уйской станицы показалась пыль. Через минуту на пригорок выползла телега с двумя конными стражниками по бокам. Коля приложил ладонь ко лбу, вгляделся — и ему показалось, что он летит с обрыва.
— Дядя Андрей! Андрей Кузьмич! Куда вы едете, куда?!
— Не я, сынок, еду, меня едут, — шуткой ответил Искрин.
Андрей Кузьмич поднял руки, и звон цепей сполохом отозвался в юном сердце.
В воздухе свистнула нагайка, по щеке дяди Андрея потекла струйка крови. Второй стражник стукнул плашмя саблей по спине возницу, который сидел до этого истуканом, надвинув на глаза картуз. Возница с остервенением стал хлестать коня, и телега, дребезжа по «царской» дороге, скоро скрылась в лесу.
Коля упал на траву и горько заплакал.
Подавленный случившимся он медленно побрел с пашни.
Кому рассказать о своем горе? Кому излить обиду?
Неожиданно для себя он оказался у маслозавода.
— Коля? Кто тебя била? — встревожился Ахмет.
— Дядю Андрея увезли.
— Зачем везли? Куда везли?
— Стражники…
— Ай-ай-ай! Хороший человек — тюрьма садил; плохой человек — дома гулял. Зачем так, Коля?
— Не знаю, Ахмет, не знаю, — ответил Коля, сдерживая навернувшиеся слезы.
Оставшееся после раздела с матерью имущество Николая Томина поселковый сход решил продать, а деньги положить в банк до призыва на службу, когда ему нужно будет купить коня, сбрую, обмундирование, шашку и пику. А потом начались торги. Каждый богатей не прочь был взять парня под опеку, благо подопечный здоров, трудолюбив и исполнителен. Бородачи сцепились. Николай стоял посреди толпы и, чтобы не видеть ощеренные рты «благодетелей», хулящих друг друга, отвернулся. На пригорке его сверстники играют в догонялки, у них никаких забот.
— Что, тебе, за скотинушку торгуются, — раздался голос казака Гордея Алтынова.
Эта оброненная как бы невзначай фраза больно ударила по самолюбию подростка.
Громко, перебивая шум, Николай сказал:
— Вы, господа старики, торгуйтесь, а я пойду.
…После схода дядя Леонтий в раздумье проговорил:
— Сам видишь, Кольша, у меня своих ртов много, и вряд ли я их прокормлю до нови. Подайся-ка ты в Куртамыш, там знакомый купец живет, он, бог даст, пристроит тебя к делу.
Взяв котомку, Николай вышел, понуро опустив голову.
Так, не поднимая головы, медленно плелся он по улице. Завернув за церковь, Николай столкнулся с Ахметкой Нуриевым.
— Ахмет! Ты зачем здесь, промерз ведь?
— Ай-ай! Почему так говоришь? Твоя идем провожать.
— Меня?!
И как-то сразу посветлело у паренька на душе.
По бору шли молча. Вот лес оборвался, перед подростками раскинулась бескрайняя степь. Остановились у памятной сосны.
— Куда идешь?! Зачем Ахмета бросал? — дрожащим голосом спросил Нуриев.
— Надо, Ахмет, — еле сдерживая слезы, ответил Коля. — Негде мне жить. Не нужен здесь я никому. А тебя я никогда не забуду.
Друзья крепко обнялись. Коля резко повернулся, поправил котомку и быстро зашагал навстречу неизвестности.
Повалил первый снег. Ахмет, сунув руки в рукава, не ощущая холода, с тоской смотрел затуманенными глазами вслед другу. В снежной мгле фигурка расплылась в бесформенное пятно, а затем совсем растворилась.
РАСКАТЫ ПЕРВОГО ГРОМА
Куртамыш ошеломил мальчика звоном колоколов церквей и пятиглавого Вознесенского собора, шумом снующих людей, блеском купеческой знати, попрошайничанием нищих.
Основанный в 1745 году как крепость Куртамыш оказался на пути из Казахстана в Сибирь и на Урал, превратился в большое торговое село Зауралья с развитым кустарным производством.
Ярмарка. Базарная площадь запружена. В центре ее карусель. От желающих покататься нет отбоя. Рядом — длинная палатка из пологов. Над входом Николай прочитал: «Лучшие сибирские пельмени здесь».
Паренек зашел. В углах стоят две жестяные печи с кипящими чугунами. Плахи на козлах — стол. Вместо стульев тоже плахи, на чурбаках. Все места заняты. Пришлось ждать. Когда принесли десяток пельменей величиной с ноготь, Николай простодушно спросил:
— А почему такие маленькие?
— А тебе что за копейку-то с пирог пельмень подать? Ишь чего захотел! — ответил парнишка-официант.
Полуголодный Николай вышел из пельменной. Пара гнедых рысаков, запряженная в кошовку, несется по горшечному ряду. Из-под копыт лошадей летят глиняные черепки. Торговки с визгом разбегаются. В санках, держась за плечо кучера, стоит мужчина, громко хохочет и выбрасывает из кармана деньги. Бумажки плавно опускаются на битую посуду.
Кони завернули за угол, а возмущенная толпа все продолжала негодовать.
— Налил зенки-то!
— С жиру бесится.
А Николай дивился: вот так Куртамыш! Одни копеечку Христа ради просят, другие сотни выбрасывают для потехи. Где-то найдет он угол в этом большом незнакомом мире.
И хлебнул-таки горя-горького, работая у купца Гирина мальчиком на побегушках.
Жил Николай в приказчичьей — в сыром и мрачном полуподвале, спал на деревянном топчане у дверей. Каждый раз, когда открывалась дверь, съеживался: серое старое одеяло грело плохо.
Когда освоился на новом месте, в длинные зимние вечера вспоминал, как читали с дедом. Но в публичной библиотеке за книгу требовали задаток и поручательство хозяина. Николай не раз обращался к купцу и получал один и тот же ответ: «Читать! А работать когда? Зачитаешься, еще с ума сойдешь!»
На этом разговор и кончался.
Осенью 1905 года хозяин поставил Николая Томина за прилавок, положил жалованье.
Скряга купец решил не тратиться на содержание мальчика на побегушках. Исполнять эту обязанность он заставил свою родную племянницу, маленькую шуструю девочку лет десяти. У Наташи Черняевой мать скончалась при родах, а отец с горя начал пить и умер в больнице для душевнобольных.
Девочка осталась сиротой, но с наследством. Лука Платонович Гирин не замедлил оформить опекунство над малолетней родственницей.
Как-то, возвращаясь из магазина, Николай с тоской подумал о сестренках: сколько времени прошло, какие они уже выросли, наверно. На улице он увидел Наташу, в этот день ее привезли к родственникам.
Неожиданно из-за угла выскочили сыновья урядника, известные в селе забияки, окружив девочку, стали насмехаться над ней, обзывая сорочьим яйцом.
Николай разогнал озорников.
— Еще тронете мою сестренку — влетит!
У Наташи радостно блеснули глаза. Неужели исполнилась ее детская мечта иметь старшего брата, который бы защищал от обидчиков!
— Коля, ты это вправду сказал?
— Что?
— Ну, что я твоя сестренка…
Николаю стало жалко девочку, и он поспешил заверить ее.
— Конечно, вправду, ты и в самом деле моя сестренка, двоюродная, — уточнил он, — в обиду тебя никому не дам.
Этот разговор слышал Лука Платонович. За обедом он рассказал об этом жене, и та, чтобы еще больше унизить девочку, стала над ней подсмеиваться.
— Ну, как твой братец поживает? — Или:
— Сходи-ка сестрица за братом.
Но все насмешки не достигли цели. Девочка окончательно решила, что Коля, действительно, ее брат, такой заботливый и внимательный.
Николай же, тоскуя по семье, привязался к девочке: то к празднику ленточку подарит, то исполнит за нее поручение хозяина.
И вот первая получка. Как ее ждал Николай! Первой покупкой была книга Тараса Шевченко «Кобзарь», а для Наташи — платок.
Вслед за «Кобзарем» в сундучке появились произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Льва Толстого. Юноша читал каждую свободную минуту, читал с жадностью, с забвением.
4 декабря 1905 года. Утром было чудесное настроение, Николай ожидал поздравления товарищей и родных, внимания хозяина по случаю восемнадцатилетия. Поздравила же его только Наташа, а Лука Платоныч приказал работать до полуночи. Сегодня праздник святого Николая, а по праздникам магазин закрывался позднее обычного.
День клонится к вечеру. Хмурые тучи плывут над селом. Пустынно. Ни одного покупателя в огромном магазине Гирина.
«Почему так мир построен: кто работает, тот ничего не получает, а кто ничего не делает, тому все? Почему? — раздумывал в одиночестве юноша. — Эх, жизнь, какая ты несправедливая, невеселая. Противно. Кругом лгут, кругом льстят лишь для своей выгоды. Так хочется убежать куда глаза глядят из этого тухлого болота, так бы и дал по противной морде урядника. Найти бы сейчас дядю Андрея, тот бы все объяснил».
Николай достал книгу и углубился в чтение:
Юноша задумался над последней строкой, стараясь понять ее смысл.
— Плохо торгуешь, молодой человек, — услышал он грубоватый голос.
Вздрогнув, Николай сунул книгу под прилавок. Подняв глаза, увидел двух незнакомцев. Один пожилой, коренастый, пухлощекий, в полосатой кепке, надвинутой на глаза. На пышных усах и висках седина. Второй повыше ростом, молод. Рабочую фуражку с высоким околышем и блестящим козырьком держит в руках. Оба в дешевых пальто из грубошерстного сукна. Улыбаются чему-то.
— Чего угодно? — тихо спросил Николай.
— Нам ничего не надо, только вот узнает твой хозяин, как ты принимаешь покупателей, — перепадет тебе на орехи, — ответил пожилой.
— Да и за такое чтение не погладит по головке, — добавил второй.
— Книга дозволена и отпечатана в типографии Его Императорского Величества.
— Так-то оно так, да времена изменились, — продолжал седоусый. — В каком году она дозволена-то?
— Издана в 1898 году.
— А теперь — девятьсот пятый, то-то! В то время на Руси святой была тишь да гладь, и Его Императорскому Величеству спокойно спалось. А теперь… Что же это мы заговорились, давай поначалу знакомиться: Яков Максимович Другов, портной и фотограф. А это мой сын — Владимир, он тоже на все руки мастер.
— А что, браток, не знаешь ли ты, кто квартиру сдает? — спросил Владимир Другов. — Отдельный домишко бы не худо: большегнездные мы, да и клиентов надо будет где-то принимать.
Так познакомился приказчик Николай Томин с первыми политическими ссыльными. А потом, гремя кандалами, разминая снег и грязь, в Куртамыш стали приходить новые партии революционеров.
Богатеи на политических смотрели с презрением, называли их бандитами, оскорбляли, издевались.
Вместе со своими друзьями Николай помогал изгнанникам устроиться с жильем, найти работу.
Тайно от хозяина приказчик Томин зачастил в домик с вывеской: «Портные и фотографы Друговы».
В 1902 году отец и сын Друговы были заводилами крестьянского волнения на родине. Из Тамбовской губернии их выдворили на Урал в заводской поселок, под негласный надзор полиции. Но и здесь они продолжали революционную агитацию. На расстрел мирной демонстрации в Петрограде 9 января 1905 года рабочие, руководимые Друговыми, ответили массовым выступлением против самодержавия. Руководителей арестовали и после следствия отправили на вечное поселение в Куртамыш с предписанием: под негласный надзор, без права выезда.
Запрет не устраивал их. Необходимо было установить связи с политическими ссыльными, которые были разбросаны по всему Зауралью.
Друговы подали прошение в жандармское управление о разрешении выезда в села по условиям их работы.
Куртамышский жандарм приложил положительную характеристику и свое заключение.
Это он сделал неспроста. Жена жандарма, увидев на Гириной хорошо пошитое Друговыми пальто, решила перещеголять купчиху. И Яков Максимович постарался. Потом он пошил жандарму такую шинель, что ахнули даже жандармы в Челябинске.
К заключению жандарма присоединились некоторые куртамышские купцы. Замолвил, где нужно, словечко владелец мельницы, член губернского земства.
Наконец-то Друговым разрешили выезд на расстояние семидесяти верст от Куртамыша с ведома жандарма и непременной отметкой старосты на месте.
Это была победа!
В конце апреля Яков Максимович Другов сказал Николаю:
— Приедет один товарищ, отпразднуем Первое Мая по-нашему.
Утро выдалось чудесное: тихо, тепло, ярко светит солнце. В одиночку к назначенному часу пробирались в условное место.
В излучине реки Куртамыш, на поляне, окруженной сосновым бором, собралось человек сорок: политические ссыльные, рабочие, приказчики.
Для отвода глаз захватили еду, квас в бутылках, гитару, балалайку, гармошку. На случай появления стражников выставили дозорных.
На пригорок поднялся приезжий мужчина в пенсне. Он говорил не громко, но каждое слово его так и брало за сердце. Оратор рассказывал, как рабочие Москвы дрались на баррикадах и умирали за счастье трудящихся.
Как удивился и обрадовался Николай Томин, узнав в выступающем Андрея Кузьмича Искрина. Дядя Андрей очень изменился. Сбрил бородку, отрастил пышные усы. Не стало вьющейся шевелюры. На груди — темный галстук с белыми горошинами. Не изменились только ласковые карие глаза, весело поблескивающие под пенсне.
А знакомый голос продолжал:
— Декабрьское вооруженное восстание в Москве потоплено в крови, враги народа и их прихлебатели пропели отходную революции, но рано они злорадствуют. На борьбу поднимаются новые миллионы рабочих, проснулся от спячки крестьянин. Вождь трудящихся Владимир Ильич Ленин говорит: демократическая революция в России идет к новому подъему, и вооруженное восстание в скором времени примет наступательную форму вооруженной борьбы! К этому мы должны готовить рабочих и крестьян. Дорогие друзья! Сегодня нас собралось немного, но за нами пойдут тысячи. Поднимем же выше наше Красное Знамя с боевым девизом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Будем собирать силы для грядущих боев! Раздувайте искры в деревенских потемках!
Подталкиваемый товарищами Николай Томин занял место на пригорке, Во рту пересохло, от смущенья не знает, куда деть руки, растерянно смотрит на старших товарищей.
— Смелей, Николай! — услышал подбадривающие слова Якова Другова.
— Правильно большевики говорят. Бить надо буржуев, — сорвалось у него, и он не узнал своего голоса. — Рабочие кровь на баррикадах проливали, а мы отсиживались, как мыши в норах. Закатить бы вот на Хмелевскую гору пушки и бахнуть по куртамышским буржуям, чтобы и духу от них не осталось!
Искрин улыбнулся наивному пониманию юношей революции.
Яков Другов бросил реплику:
— Дойдет и до этого!
Тут дозорные предупредили об опасности, поляна быстро опустела. Многие перешли вброд Куртамыш, скрылись в лесу, другие образовали компании за скатертями-самобранками.
По просеке проехали три стражника.
Когда опасность миновала, снова собрались все вместе. Искрин тихо запел «Интернационал». Все подтянули. Холодок пробежал по спине от этой песни.
Вот она настоящая жизнь!
Николай подошел к Искрину, и они медленно пошли по лесу.
— Выходит правду говорят: гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдется. Так вот, Коля, никто не должен знать, что мы с тобой знакомы, что я в Кочердыке был богомазом. Забудь про дядю Андрея. Андрей Кузьмич Искрин утонул в Шилке при побеге из Нерчинской тюрьмы. Перед тобой другой человек, волостной писарь Скворцов Петр Семенович. Встречи не ищи: надо будет, сам тебя найду. Договорились?
— Все понял.
Наконец-то Николай снял комнату с отдельным ходом. Вечером, раскрыв тетрадь в твердом переплете, он записал:
«1906 год, июнь, 1-е, четверг. В эту ночь я последний раз спал у хозяина, с первого перешел на хлебы. Сейчас могу спокойно провести вечер, могу писать, читать все, что вздумается. Когда начали закрывать магазин, мне сказали, что приехал С. П. С. и что они ушли в лес. Я пошел в лес, но там их не нашел».
Затем он вытащил из кармана маленькую записную книжку. На первой странице ее размашисто написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А далее — убористым, мелким почерком текст пролетарского гимна «Интернационала».
Николаю вспомнилась конспиративная маевка: в тот день была записана эта песня.
В дальнейшем в заветную записную книжку будут переписаны: «Отречемся от старого мира» («Марсельеза»), «Вихри враждебные веют над нами» («Варшавянка»), «Слезами залит мир безбрежный» и другие революционные песни.
Часто у Николая стали собираться товарищи: читали, обсуждали, спорили. Хозяйка не могла нарадоваться своим постояльцем: не пьет, не курит, и знакомые все степенные, обходительные.
На этажерке появились произведения Максима Горького, Ивана Никитина, зарубежных писателей, учебники.
В дневнике — новые записи:
«Воскресенье, 4 июня. В лесу собрались товарищи, разговаривали, пели. Было много новеньких. Решили до осени организоваться, а потом предъявить экономические требования.
Понедельник, 5 июня. Товарищи обещание исполнили. Читали, чем у нас занимаются депутаты.
Пятница, 9 июня. Когда закрыли магазин, я пошел гулять. Мне попались товарищи. Вместе пошли на берег, сидели, разговаривали о предстоящем.
Понедельник, 12 июня. Когда получили почту, я вышел на коридор и начал читать газеты. Подошли несколько мужиков и начали слушать. Но вдруг выходит хозяин и приказывает не читать. Я начал ему возражать, что за причина. Но он сказал, что причины никакой, но не читай.
Вторник, 13 июня. Сегодня хозяин призывает служащего И. Х. У. и говорит, что я тебя рассчитаю. Вот как нашего брата пролетариата. Сегодня живешь, завтра убирайся к черту. Нужно самим себя чем-нибудь оградить. Первым долгом нужно организоваться, а потом предъявить… Спать не нужно.
Среда, 14 июня. У нас привезли из Троицка товар. Дорога грязная. Кони устали, возчики замучились, оборвались, голодные. Бедный русский наш мужик! Вечно он работает и вечно голоден и наг.
Воскресенье, 25 июня. Сегодня после торговли пошли с Яшей в народный дом. Я там встретился с одним молодым человеком из Кургана. Товарищ по делу…
Четверг, 6 июля. Жара стоит невыносимая. Хозяин уехал купаться… Пришел хохол, едущий из Сибири. Переселенец. Истратив 300 рублей, он едет обратно. Больше нищих плодит по России наше правительство с переселением.
Понедельник, 10 июля. Сегодня получили телеграмму о роспуске Государственной Думы. Вечером с Колей Трущевым ходили к И. П., толковали о думе и о своих делах. Ничего не решили, не готовы.
Четверг, 13 июля. Ходил к Рогалеву, он рассказывал про шпика».
Однажды Наташа, выполняя задание тетушки, пошла к Друговым за фотоснимками. Оттуда в магазин принесла Николаю записку: «Карточки готовы, можешь забрать. Я. Д.» Томин едва дождался закрытия магазина — и сразу же к фотографу.
Яков Максимович, окинув Николая внимательным взглядом, спросил:
— Когда в Курган поедешь?
— На той неделе. Хозяин решил какую-то махинацию провернуть.
— Добро. Найди портного на Набережной и передай ему: «Яков Максимович низко кланяется, просит вернуть ему долг». Запомни, не перепутай. Он тебе даст листовки, будь осторожен.
И вот эти таинственные листовки, которые зажигают сердца и будоражат умы, в его руках. Через него они пойдут в народ, расскажут правду. Николай начал с жадностью читать.
Листовок требовалось много, а привез Томин небольшую пачку. Надо размножить. Но как? Стали советоваться.
— В Куртамыше живет один старик Фомич, мастер — золотые руки, — вспомнил Николай. — Схожу к нему, может быть и выручит.
— Не Прохор ли Оглоблин? — спросил Яков Максимович. — Знаю его, он мне фотоаппарат чинил. Испытай. Только, чтобы он ни о чем не догадался.
…Прохор Фомич Оглоблин жил на рабочей окраине села. Занимал со старухой избу, в горнице — мастерская.
Когда зашел Николай Томин, Фомич мастерил для какого-то купца домашний сейф с секретом. Много он понаделал таких сейфов, и у каждого свой секрет, который знал только мастер да хозяин.
Николай с любопытством огляделся.
На одной стене висят замки размером от дамских сережек до пудовой гири. Замки амбарные, квартирные, шкатулочные. Замки с винтовыми и поворотными, с ударными и нажимными ключами; с одной, с двумя и тремя замочными скважинами, и для каждой свой ключ.
На другой стене — часы различных форм со звоном и кукушками, с петухами и колокольчиками.
Чего только нет в мастерской Фомича! Действительно, мастер — золотые руки!
— Пришел к тебе, Фомич, в праву ногу падать, — проговорил Николай.
— Падай в обе, — шуткой ответил тот. — Чего тебе?
— Библиотечка у меня своя собирается. Люблю читать.
— Хорошее дело.
— И надумал я на каждой книге штампики поставить: где купил, когда, свою фамилию. Буквочки мне надо. Маленькую, ручную типографию.
— Что книги печатают?
— Да. Только хотелось бы с секретом, пусть люди думают, что это еще одна книжка на полке стоит. Ну вот хотя бы как эта, — и Николай, развернув бумагу, положил перед мастером библию в деревянном переплете с застежками.
— Дело не хитрое, смастерю. Через две недели приходи.
Фомич сдержал слово. На деревянной обложке под кожей образ Иисуса Христа из металлических пластин, а по краям парят ангелы. Корешок весь в бугристых узорах. Надо знать, какую из множества головок нажать, чтобы открыть застежку. Откинешь обложку, а там разрисован титульный лист, и на двадцати страницах божественное писание. Чтобы открыть заднюю обложку надо тоже знать секрет. А там и шрифт, и все, что к нему положено для печатанья. «Вот бы такой мастер пригодился революционерам», — подумал юноша и, чтобы доказать старшим товарищам, на что он способен, решил сагитировать старика.
В благодарность Николай подарил Фомичу томик сочинений Максима Горького. Вручив подарок, он направился к выходу.
— Эй, парень, вернись! Ты что-то не то мне дал. За книжку премного благодарен, а листок возьми. Что надо смастерить — пожалуйста, а этим делом заниматься — нет: я тебя не видел, и ты меня не знаешь. Ступай с богом.
— А я думал, что вам, мастеровому человеку, будет интересно, — растерялся Николай.
— Истинно мастеровой. Мое дело мастерить, а не царей свергать. Насвергались — хватит: в Питере свергали, в Москве свергали, а что из этого вышло? Свергальщиков-то всех на веревочку да в Сибирь. Эвон их сколько везде нагнали.
— Ну, ладно, Фомич. Спасибо за работу.
— Не обессудь.
Юноша шел от Фомича расстроенный. Выдаст или нет? Что скажут Друговы, Искрин? Ведь без их ведома он вручил Фомичу листовку.
Показав Друговым книгу-типографию, Николай рассказал о необдуманном поступке.
Яков Максимович опустил вниз глаза, пощипал остренький кончик бородки. Владимир Яковлевич, обронив: «М-да!», почесал затылок. Установилось неловкое молчание. Николай ждал разноса.
— Повтори-ка, что он ответил? — попросил Яков Максимович.
Юноша повторил из слова в слово.
— Ну, если Фомич сказал, что ни ты его, ни он тебя не знает, надо полагать, что он никому не сообщит, — заключил Владимир Яковлевич.
— Мне так же думается, — согласился Яков Максимович, — все же надо принять меры предосторожности. Типографию на квартире держать опасно. О месте ее хранения придется Николаю подумать. Если же и попадется она в руки полиции, отвечай так, как говорил Фомичу, когда заказывал. Больше ты ничего не знаешь. Такая самодеятельность может привести к провалу. Ты это понял? А печатать лучше не в Куртамыше.
Николай сказался больным, отпросился у хозяина и уехал в Казачий Кочердык. Уже начался покос, и все старшие были на лугах. Дома только бабушка с маленькими ребятишками.
Николай пил парное и кипяченое молоко, бабушкины травяные навары. А вечером уходил в баню и печатал листовки.
В воскресенье вместе с Ахметом и Сашей поехали на луга. Николай рассказывал о жизни Куртамыша, за что в это захолустье сосланы правительством хорошие люди.
— Правду говорить — плохой будешь. Ай-ай-ай! — горячо отзывался Ахмет.
— Учиться тебе надо, Ахмет, — посоветовал Николай.
— Как учиться? Большой я. Школа мусульманской нет. Книга татарской нет. Как учиться?
— Учись русской грамоте. Саша поможет, а я букварь и арифметику пришлю, тетради, карандаши.
— Спасибо, Коля. Больна хорошо учиться.
Александр согласно кивнул головой.
Привал сделали на берегу Тобола, у горы Пика.
Разожгли костер, на треноге повесили над огнем котелок с водой.
Вспомнили детство, дядю Андрея.
— Я слышал, что он погиб при побеге из тюрьмы, — сообщил Николай.
— Вот какой человек был, ничего не боялся, — с грустью проговорил Александр. — А ведь его выдал Венька Полубаринов.
— Ты откуда знаешь?
— Сам Венька проболтался. «Вашего, — говорит, — богомаза на каторгу, а мне тятенька новую шинель сшил, как у генерала!»
— Иуда проклятый! — вскричал Николай. — Я бы за дядю Андрея жизнь отдал. А ты, Ахмет?
— Я отдала бы, как не отдать за хорошего человека.
— А если тебя будут пытать, гвозди будут под ногти забивать, чтобы узнать, кто тебя вовлек в борьбу с царем, ты сказал бы?
— Ахмет умеет молчать.
— А ты? — Николай посмотрел в глаза Александра.
— Я не выдержал бы гвоздей под ногтями. Тут занозишь и то боль страшная. А гвозди!.. Я орал бы, но никого не выдал.
— Верю, друзья!
Николай осмотрелся, вынул из внутреннего кармана пиджака листовку. Развернул.
— Слушайте. «Товарищи! Силой ваших рук создаются все богатства на земле; вашим трудом питаются все от царя до нищего; ваша кровь — цемент, которым связаны покой и счастье всех людей, и вы, давая всем все, — сами не имеете почти ничего».
— Совсем ничего не имеем. Рука один, — вставил Нуриев.
— Не перебивай, Ахмет. Читай, Коля.
— «Вы строите дворцы, где свободно и богато живут ваши владыки, и тюрьмы, где гниют ваши друзья; вы делаете оружие, которым убивают вас, когда вы выходите из душных стен заводов и мастерских на улицы города, чтобы требовать человеческих прав».
— Верна писал! — не выдержал Ахмет. — Моя масло делай, все кушал. Ахмет не кушал. Деньга нет.
— Каждую осень мы за гроши продаем самую хорошую пшеницу, а едим что придется. С долгами надо расплатиться, одеться, обуться. Весной берем семена втридорога. Никак не можем из нужды выкарабкаться, — с волнением проговорил Саша. — А что делать?
— Вот что, — и Николай продолжал: «Товарищи рабочие и крестьяне! Кто бы вы ни были — русские, татары, казахи, башкиры, стройтесь в единую колонну, готовьтесь к решительному штурму. Довольно терпеть тиранов и палачей! Долой кровавого царя и всю его свору! Да здравствует братский союз и свобода!»
Минуту стояла тишина. Первым ее нарушил Александр:
— Надо всем казакам знать, что тут написано.
— Надо, — подхватил Николай. — Руками казаков задушена революция. И пусть они знают, кого они защищали и кого убивали в прошлом году. Оставляю тебе листовку.
— Зачем одна! Ахмет тоже надо: будем память учить, говорить. Прятать будем.
Николай выполнил просьбу друга.
— А если найдут, что скажете? Где взяли?!
— Ездил в станицу, подобрал бумажку на базаре, тятеньке на цигарки.
— Почему сразу не отдал атаману?
— У атамана хорошая бумага есть, а тятеньке и эта ладно.
— А ты где взял?
— Куртамыш масло возил. Ехал домой, карман лежит. Кто клал не знал, как попал — не знал.
Николай захохотал; просмеявшись, протер от слез глаза, проговорил:
— Ладно придумали. Молодцы. Ну вот что. Вы взрослые и понимаете насколько опасно хранить эти бумажки и говорить о них. Но надо, надо.
В это лето Николай Томин впервые самостоятельно исполнял обязанности ярмарочного приказчика. Хозяину привозил большие барыши, а друзьям оставлял книги и листовки.
«Когда закончили торговлю, я пошел к И. П., передал ему квитанции», — записал в дневнике Николай и улыбнулся. Квитанциями они называли прокламации и листовки.
«Суббота, 22 июля. В пять часов мы с Осипом выехали к нам в Кочердык. Повидался с приезжими товарищами. Вечер провел у друзей, читали. Думаю, что Ваня Головачов, Паша Копылов, Сеня Драпишников, Ваня Дудин, Миша Григорьев не будут палачами народа. Оставил товарищам газеты, несколько книжек».
Летним вечером подводы остановились на берегу Тобола, у водяной мельницы. За плотиной видны крыши домов большого старинного села. Пока возчики распрягали коней, Николай решил прогуляться. Он пошел берегом реки к лесу. Только спустился в лощину, как увидел Скворцова в крестьянской одежде, с прутиком в руке.
— Вот так встреча! — хитро улыбаясь, воскликнул Петр Семенович. — Посидим у бережка — умаялся. Сегодня весь день с людьми.
Разожгли маленький костер. Пламя причудливо отражается в реке. Тихо и плавно двигается по воде луна, цепляясь одним рогом за верхушки отражавшихся в глубине реки тополей.
— Все хочу спросить вас, дядя Ан… — Николай прикусил язык, — Петр Семенович.
— О чем?
— Казак я нежеребьевый, один кормилец в семье. От военной службы в регулярной армии освобожден. Однако на будущий год мне на военные учения. Палача из меня собираются готовить. Посоветуйте, как от военной службы отделаться.
— Нет, Коля, это не дело, — ответил Скворцов. — Подводя итоги революции 1905 года, Владимир Ильич Ленин писал о том, что руководители социал-демократического пролетариата в декабре оказались похожими на того полководца, который так нелепо расположил свои полки, что большая часть его войск не участвовала активно в сражении. Пролетариат должен иметь своих полководцев, командиров, без них он не победит. Мой наказ: изучай военное дело серьезно, досконально. А теперь расскажи-ка мне, как хозяина на посмешище выставил перед всем честным народом.
Николай вспыхнул.
— Как это вы узнали?
— Я обязан все знать о своих друзьях и помощниках.
Николай, смущаясь, стал рассказывать:
— Позвали мы хозяйку к обеду. Приказчик Григорий спрашивает:
— Чем же ты нас, добродетельница, кормишь?
— Как чем? Сухарики к супу подали.
— Сухарики?! Так они же из кусков нищих! Ты что?! — Он свирепо взглянул на хозяйку, схватив кухонный нож, заревел: — Зарежу…
С визгом и воем «режут» выскочила наша квашня во двор. Это мы ее так зовем, очень она толстая.
— Ну, ну, как-нибудь пойму, рассказывай дальше.
— А я взял, да и написал крупными буквами объявление и рано утром вывесил на ворота дома: «Здесь покупают у нищих куски для питания приказчиков». Собралась толпа зевак. Читают, хохочут. Хозяин узнал, кто писал, и вызвал меня. Сначала заговорил елейным голосом:
— Что же ты, Коленька, позоришь нас? Мог бы мне сказать и тихонечко все уладили, а теперь скандал на весь Куртамыш. Из уважения к твоему дядюшке оставляю тебя, но чтоб такое было последний раз!
И вдруг зарычал:
— А дружка твоего, разбойника Гришку, — на отсидку, и ноги его у меня не будет!
— Вот видишь, к чему привело ваше ребячество. Один угодил в тюрьму, ну, а ты еще дешево отделался. Тебе поручили ответственное дело быть связным между уездными и губернским партийными комитетами. И ты добросовестно его выполняешь: тебе, ярмарочному приказчику, проще, чем другим, это делать. Провалишься или выгонят с работы — разрыв цепи. Понял? Нельзя размениваться на мелочи!
На всю жизнь запомнил Николай этот разговор, а слова «не размениваться на мелочи» стали девизом.
Каждый ярмарочный приказчик отдельно отчитывался перед хозяином. У Николая Томина оказалась выручка больше всех. Просмотрев отчеты, в которых сходилось все из копейки в копейку, Гирин потер руки и проговорил:
— Неужели, Коленька, ты так и не погрел руки у такого огонька?
Николай стиснул зубы, сжал кулаки. Хозяин вскочил со стула, как бы приготовившись к защите.
— Не хочу о грязные деньги руки марать, — запальчиво ответил юноша, подергивая плечом.
В первое мгновение, когда Николай говорил о грязных деньгах, Гирину так и хотелось пристукнуть молокососа. Но вдруг в его голове мелькнула мысль: «Ведь такой-то мне и нужен, а не слюнтяй. Если его прибрать к рукам да направить, куда нужно, толково дело поведет. Через шесть-семь лет Наташка невеста будет, пристраивать куда-то придется, не чужая ведь. Да и он к тому времени не перезреет. Чем не пара, а мне — не компаньон?»
— Ну полно, полно, пошутил я. Что обиделся? Эх, молодо-зелено! Иди в магазин, покупатели ждут.
Николай только успел зайти за прилавок, как в магазин прибежала Наташа. Она чем-то напугана, в больших открытых глазах страх.
— Коля, Колюшка, — зашептала девочка. — Сейчас у нас была жандармиха, говорила нашей квашне, что будет повальный обыск у всех политических и у тех, кто с ними якшается. Что про тебя-то говорила! Будто ты душу сатане продал, с политическими спутался. Правда это?
— Чепуха все! Сестренка, ты мне не поможешь в одном деле?
Наташа обрадовалась. Наконец-то и она сможет оказать помощь брату, отплатить ему за все хорошее, что он для нее делает.
В углу из-под ящиков Николай вытащил красивую книгу с Христом и ангелами на обложке и небольшой сверток…
— Вот это, Наташенька, надо куда-то положить, чтобы ни при каком обыске не нашли.
— Я знаю куда. К дяденьке в книжный шкаф. Он только раз его открывал, когда я пыль на книгах обтирала. Давно, давно.
— А если он увидит тебя?
— Не увидит, уехал куда-то. Сердитый. Тетеньки тоже нет дома.
— Молодец, Наташенька. Положи и мигом к дяде Яше, скажи ему, что слышала.
— Я бегом, Коленька. Ой, какая тяжелая книга!
…Полицейские усердствовали. Обыск начался одновременно у всех политических ссыльных и кто с ними в какой-то мере был связан.
На складах и в магазине купца Гирина обыск был проведен особенно тщательно. В комнате Томина тоже все перерыли, ничего компрометирующего не нашли, но под негласный надзор полиции все же взяли.
Двух товарищей не успели предупредить, у них нашли немного нелегальной литературы.
Утром у Николая произошло объяснение с хозяином. Тот встретил молодого приказчика со злостью.
— Докатился до негласного надзора!
— О чем вы говорите, Лука Платонович, мне ничего неведомо, — удивленно произнес Николай.
— Зато мне ведомо. С политическими компанию водишь, запрещенные книжки читаешь!
— С какими политическими?
— Не притворяйся! С Друговыми встречался? Встречался! Все знаю.
Юноша окончательно успокоился, взял себя в руки.
— Ко мне они в гости не ходят, смею вам доложить, Лука Платонович, а у вас чаи распивают.
Купец опешил, не ожидал такого поворота. Он откинулся на спинку кресла.
— По делу приходили, сам приглашал. Портные.
— А я у них был с дядей Леонтием. Снимались на карточку. Это вам, Лука Платонович, ведомо, дядюшка и карточку вам показывал. Так что — все это напраслина, и если уж на то пошло, Лука Платонович, то — не пойман, не вор. Позвольте откланяться, — и Николай, резко повернувшись, вышел.
Лука Платонович, оставшись один в обширном кабинете, призадумался.
— А здорово он меня уел с чаями-то. Не пойман, да не вор — мудро, ох мудро. Воруй, грабь, но не попадайся. Подсолю-ка я этим солдафонам.
Николай пришел домой поздно. Он сильно устал, хотелось сразу же лечь в постель, но пересиливая себя, сел за стол и записал.
«Четверг, 10 августа. Товарищей Ильиных и Рогалева сегодня увезли в челябинскую тюрьму. Мы, Трущев и я, находимся под надзором полиции. С хозяином вышел крупный разговор».
В последние дни записи в дневнике отражают душевное состояние юноши.
«Пятница, 11 августа. Про нас тут болтают, будто нас арестовали.
Суббота, 2 сентября. Как-то скучно, газеты пишут нерадостно. Все аресты, казни, тюрьмы. Кругом контроль. Все льстят, только чтобы быть верноподданными и надежными сатрапами».
Гирин-таки исполнил свою угрозу и «насолил» полиции: их поднадзорного Николая Томина он поставил своим доверенным и отправил с первым поручением в Екатеринбург.
Поездка оказалась удачной. В Челябинске Николай получил от связных книги Маркса, Энгельса, Ленина, а затем выполнил и задание хозяина. Возвратился через две недели.
Брюзжанием встретил его купец:
— Ты что так долго катался, можно было и за неделю обернуться.
— Дела, Лука Платоныч, дела, — и с этими словами приказчик извлек из новенького портфеля крокодиловой кожи бумагу, скрепляющую выгодную сделку с одной заграничной фирмой.
Гирин прочитал контракт. Николай впервые увидел, как улыбается хозяин.
— Молодец, Колюшка, молодец! Бросил бы ты своих дружков, развернули бы мы с тобой такие дела, на всю Расею-матушку. Полились бы денежки. И тебя бы не обидел. А что тебе политика та даст? Шиш!
— Да нужна она мне, ваша политика: есть заботы поважнее, — и Николай начал рассказывать о встречах с нужными людьми, о том, какие выгодные контракты можно заключить с известными фирмами.
— На правильную дорожку выходишь, парень. Только вот расходик-то не по карману, — и хозяин постучал пальцами по портфелю.
— Лука Платоныч! У доверенного такого купца, как вы, все должно говорить о именитости. Встречают-то по одежке.
— Убедил, убедил, Колюшка! Одаряю тебя этим портфелем.
В 1905 году, когда революция охватила только крупные промышленные центры, местные богачи чувствовали себя довольно-таки спокойно.
— Это нас не касается, — рассуждали они. — Пошумят, покричат, да и перестанут. Не впервой. Армия надежная, казаков пустят на усмирение.
Но вот с появлением ссыльных в Куртамыше началось брожение среди народа. Частенько стали появляться листовки. Купцы серьезно обеспокоились за свои капиталы. Стали подумывать о том, как поглубже упрятать денежки от «дурного» глаза.
Фомич был завален заказами на изготовление сейфов с секретами, с мудреными замками.
Зимой Гирин увез Фомича в Троицк делать тайник в новом доме. Из Троицка мастер не вернулся.
— Как в воду канул Фомич-то, — судачили соседи.
1907 год начался тяжелыми провалами большевистских организаций в промышленных центрах Урала. Связь с партийными комитетами прервалась. А вскоре остались без руководителя и куртамышские революционеры.
Провокатор донес на волостного писаря. Сразу Скворцова не стали арестовывать, а сообщив в губернское управление, установили за ним слежку. Распоряжение об аресте Петра Семеновича пришло быстро. Из Куртамыша выехал жандарм.
Но не дремали и товарищи. Связной от Друговых прискакал в село двумя часами раньше.
Чтобы нагрянуть внезапно, жандарм за версту до села подвязал колокольчик. И был весьма доволен выдумкой. Каково же было его изумление и возмущение, когда он узнал: Скворцова и след простыл. Только как память о нем осталось на заборе несколько большевистских листовок.
…Во всех политических ссыльных Николай Томин видел друзей народа, мучеников за народ.
Он не замечал того, что одни политические в тяжелых условиях ссылки не пали духом и продолжали борьбу. Другие — ныли, сетовали на свою судьбу, стали приспосабливаться. У некоторых оказались богатые родственники, с помощью которых они купили лавочки, стали торговцами, хозяйчиками мастерских, пимокатен.
Но вот произошли провалы. Встал вопрос: что делать?
Друговы решили собрать оставшихся товарищей.
Яков Максимович рассказал о тяжелой обстановке. Пощипывая кончик бородки, спокойно спросил:
— Что будем делать, товарищи? Прошу высказаться.
Сторонники плехановской оценки революции «не надо было браться за оружие» заявили, что надо покориться судьбе. В таком захолустье, как Куртамыш, своими активными действиями ничего не сделать, а тюрьмы или каторги не миновать.
— И не стыдно вам, господа хорошие, говорить такое, — с гневной отповедью выступил Владимир Яковлевич. — Когда революция побеждала, вы кричали: «Свобода, равенство, братство. Ура!» А теперь в кусты, дескать, моя хата с краю, я ничего не знаю. Ну что ж, торгуйте. Это дело вашей совести, а нам с вами не по пути.
«Друзья народа» с надменным видом удалились.
Поднялся Николай Томин.
— Я жизнь так представляю. Жизнь — поле, выходят, борются. Кто может продолжать борьбу, тот остается, кто не в силах, тот уходит добровольно. Я остаюсь на поле борьбы.
Яков Максимович сказал, что придется менять методы работы.
— Надо использовать легальные организации, — продолжал он. — В нашем селе хорошая самодеятельная труппа, но последняя пьеса, поставленная ею, никуда не годится: проповедь упадничества, разложения, зависимости человека от судьбы. Необходимо, чтобы на сцене народного дома шли пьесы, призывающие людей к борьбе, поднимающие у них веру в победу разума и справедливости. В Куртамыше нет профсоюзных организаций. Для начала мы и поручим Николаю Томину организацию союза приказчиков. Пусть не забывает и своих друзей в станицах и поселках. Среди казачества должна вестись работа особо. А Владимир Другов займется организацией воскресной школы для рабочих.
Встали все в круг, обнявшись, вполголоса спели «Вихри враждебные». Расходились с уверенностью в завтрашний день. Томин энергично принялся выполнять новое порученное дело. В своем дневнике он делает записи:
«Сегодня вечером устроили собрание наших служащих, но ничего не решили, оставили до завтра».
На другой день:
«Сегодня на собрании выбрали депутатов, сделали сбор. Вечером получил устав Омского союза служащих».
А далее:
«В четверг было собрание служащих насчет урегулирования торгового или рабочего времени, восьмичасового рабочего дня».
— Не за свое ты дело взялся, Николай, — высказал свое недовольство Гирин. — И зачем он нужен, этот восьмичасовой рабочий день приказчикам? Что они будут делать в свободное время? Пьянствовать, шарлатанить?
— Я не по доброй воле, Лука Платоныч, мне поручили это дело приказчики на общем собрании. Думаю, что свободное время будут использовать для учебы. Станут грамотными, лучше будут торговать, вам же польза от этого.
— Так-то оно так, — протянул Гирин.
Остальные купцы злились на Николая.
— Вон смотри-ка, Томин-то казак, а корчит из себя барина. Из грязи лезет в князи, хоть паренки ест, да с салфеткой, — говорили они.
Союз был создан, но вызвал только огорчение у организатора. В руководство в большинстве пролезли хозяйские холуи.
«18 марта, воскресенье, 1907 год. Грусть страшенная. Все как-то противно. Из Челябинска ничего не пишут, черт знает что такое».
Плохое настроение у Николая было вызвано не одними неудачами в союзе приказчиков. Хозяйка уехала в Троицк обживать новый дом и увезла с собой Наташу.
…В магазин зашла черноволосая девушка с большими карими глазами, в пуховом платке и длинном, до пят, пальто, с опушенными мехом рукавами и подолом.
В ней Николай узнал дочку горничной купчихи — Анну Клопову. Раньше он с ней не разговаривал, встречались мельком, хотя дома их хозяев стояли рядом. И вообще он не обращал на нее никакого внимания.
— Моей хозяйке потребовалась дюжина вязальных спиц. Выберите самые лучшие и упакуйте аккуратнее, — с легким пренебрежением проговорила она и бросила на прилавок деньги. Монеты запрыгали, и одна свалилась на пол. Пришлось ползать на коленках, искать ее между ящиками.
«Ну, всучу же я тебе сейчас товарчик за такие фокусы, даст хозяйка тебе за него перцу», — подумал Николай. Он быстро упаковал товар, и девушка ушла.
Через несколько минут с шумом открылась дверь и со слезами на глазах вбежала покупательница.
— Лука Платоныч, Лука Платоныч! — кричала она. — Смотрите, какой товар продает ваш приказчик! Я просила для барыни выбрать самые лучшие спицы, так он какую-то ржавчину завернул. — Хозяйка велела бросить их вам в глаза.
— Николай, ну-ка, подь сюда. Как ты смел такой почетной госпоже отпустить эту дрянь? Как ты смел, я тебя спрашиваю? Сейчас же замени, выбери самые наилучшие и, если я еще раз замечу, не жди добра.
Когда девушка ушла, хозяин подошел к приказчику и начал читать нотацию.
— Ты знай, кому какой товар продавать. Разве можно суседским делом, да еще именитой купчихе, третьесортицу всучивать? Ты бы мог их завернуть и другому покупателю, ну, какому-нибудь мужику или кухарке. А то…
— У купчихи денег много, а у кухарки — гроши.
Гирин с минуту стоял пораженный этими словами, а потом затопал ногами, закричал.
— Не смей мне больше думать об этом! Эти голодранцы мне на гроши прибыли дают, а купчиха сразу на сотни берет!
Покричав, он ехидно улыбнулся.
— Вот уж и доверенным стал, а все ума-разума не набрался. Верно, облапошивать их надо, только не на вязальных спицах, а нагреть, так уж нагреть, сразу на тысячи! — И Гирин поднял кверху правую руку. — С конкурентами надо так делать, чтобы — раз! Пух! И в трубу, как дым.
«Вот так звери! — подумал Николай. — Так и норовят клыки друг другу в глотку всадить».
После скандала с вязальными спицами Николай, сам не зная почему, стал искать встреч с Аней. В дело и не в дело заходил во двор к купчихе с надеждой хоть мельком взглянуть на кареглазую. Анна решила совсем не разговаривать с нахалом, но любопытство брало свое: то наблюдает, как парни играют в бабки, и заметит, что она неравнодушна к успехам Николая, то забежит в магазин, да так и не купит ничего.
Случилось, что в один из вечеров молодежь играла в разлучки. Глянула Аня и сердце встрепенулось: среди играющих был он, Николай. Ну как было усидеть, устоять перед соблазном? Только они подошли с подругой, Николай стал разнимать пары. Пришла их очередь, а он все еще не мог поймать никого. Что было духу бросилась бежать Аня, но быстро очутилась в руках Николая. Весь вечер не нашлось ни парня, ни девушки, чтобы разлучить их.
Когда выпадали такие счастливые, свободные от работы вечера, они встречались, садились на лавочку и, любуясь луной, тихо разговаривали. Летело время. Он любил ее все больше и сильнее, но сказать об этом не решался.
Однажды с друзьями пробыл в лесу допоздна. По пути домой нарвал большой букет цветов.
Подходя к дому, Николай увидел Аню.
«Вот сейчас самый удобный случай сказать ей все, что я думаю, о чем мечтаю».
Увидев Николая с букетом цветов, Аня удивленно вскинула глаза и мягким голосом спросила:
— Откуда ты и чему радуешься?
— Аня, мне надо что-то сказать тебе, очень важное. Знаешь что, — тут его язык словно окаменел, и он с трудом выдавил: — Посмотри, какой букет я тебе нарвал.
Она благодарно приняла букет. И долго в тот тихий, теплый вечер они сидели, разговаривая и улыбаясь друг другу.
Выполняя наказ Андрея Кузьмича Искрина, Николай много и усердно занимался военным самообразованием: изучал стратегию полководцев древнего мира, читал произведения Суворова и Драгомилова, Мольтке и Клаузевица, разбирал операции в Отечественную войну 1812 года.
Каждый год Томин ездил в лагеря, где проходил практическую подготовку.
Сборы для поездки на военные учения были в Кочердыке. На родине Николай навестил бабушку, родных, встретился с друзьями. Ребята собирались, читали книги, запрещенные брошюры, газеты, учились. Успешно постигал грамоту Ахмет. Все это радовало Томина.
…До Троицка ехали в одной повозке с Александром Алтыновым.
— О чем думаешь, Сашок?
— О земле, Никола, думаю. Как погорели мы в прошлом году, так и пошла у нас жизнь комом. Надо на сборы ехать, а у меня ни коня, ни седла. Пришлось еще часть надела продать. А как его теперь вызволять — ума не приложу. А без земли какие же мы хозяева! В батраки придется наймоваться. Вот и стану как бы и свою землю пахать, а не для себя. Мы погорели, нам беда, а Полубариновым радость. Дома работы полно, а мы едем черт знает за чем.
— Едем, Сашок, военному делу учиться. Я тоже думал, как бы отбрыкаться от этого занятия, да мне Андрей Кузьмич растолковал, что без знания военного дела революции не совершить.
Алтынов даже приподнялся.
— Он живой? А говорил, что погиб?!
— Так надо было. А теперь можно правду сказать. Он жив, скрывается.
— Ну раз Андрей Кузьмич приказал учить военное ремесло, так тому и быть.
— Давай споем, Сашок, тихонечко нашу Крестьянскую марсельезу.
Александр приподнялся, увидел, что односельчане далеко впереди.
— Запевай.
тихо запел Николай.
О первой встрече в лагере с начальством Николай записал в дневнике:
«29 мая. Вот я и на ученье. Выстроились. Немного потоптались. Вошли в манеж. Начали: ра-з, два, три! Потом как нужно отдавать честь. После этого пришел полицейский урядник и начал нас наставлять:
— По вечерам никуда не ходить!
Я спросил:
— А к товарищу можно?
— Нельзя!.. — и опять продолжал, пересыпая свою речь бранью.
Так вот где дрессируют казачьих, ничего не видевших, забитых детей, вот где гибнут светлые умы, вот где все хорошее, светлое забивается грязью! Чему он может научить хорошему, когда он сам ничего не знает. Да впрочем тут ума не надо, только бы было тело, и чтобы оно слушалось приказа.
Потом нас гоняли в церковь, горланили «Боже, царя храни». После церемониальным маршем перед атаманом отдела шагали. Он нас похвалил, а мы орем: «Рады стараться», как будто он нас чем одарил. Вечером на гимнастику. Там заставляли петь. Хоть и не хочешь, а пой. Как машину, заведут тебя, ну ты или пой, или пляши! Перед каждой чинушей тянись, хоть и не хочется, но ничего не поделаешь. Здесь какую-то злобу на всех наших начальников заимел».
На второй день смотр лошадей, снаряжения, оружия.
Подошел инструктор к томинскому коню, посмотрел неказистого жеребчика, покачал головой.
— При первом же прыжке через барьер будешь валяться в канаве.
Но вот начались упражнения на конях, и неожиданно для всех конь Томина Васька показал исключительную резвость, способность брать препятствия, которых другие, видные, лошади не могли взять.
По́том обливались молодые казаки, постигая военную науку. В лагере господствовал мордобой, за малейшую оплошность ставили казака с полной выкладкой под палящее солнце на несколько часов. Многие не выдерживали, падали в обморок, Николай скрепя сердце терпел, настойчиво учился.
— Вот, Сашок, теперь ты узнал, где и как готовятся царские псы и палачи народа, — говаривал Томин своему другу.
Учение закончилось смотром. Привели к присяге. Казаки думали, что наутро отправятся домой. Но не тут-то было! Утром сыграли тревогу. Всех выстроили на плацу, инструкторы впереди, белее полотна. Вдоль строя бегает полицейский урядник, трясет бумажкой с текстом «Солдатской марсельезы» и неистово кричит:
— Кто посмел такую крамолу завезти сюда?! В тюрьме сгною, повешаю, на каторгу сошлю подлецов! Никто отсюда не уйдет, пока не выдадите смутьяна!
Приехал атаман отдела. Лагерь объявили на военном положении. Пять дней безуспешно работала специальная комиссия атамана Оренбургского казачьего войска и губернского жандармского управления.
Тщетно.
В годы столыпинской реакции Николая Томина порой охватывало смятение, разочарование во всем, ему казалось, что положение безысходное.
В 1908 году, после длительного тюремного заключения, в Куртамыш прибыла новая группа участников революции. Томин записывает:
«12 апреля. Здесь сослано десять человек административно из Малороссии. Бедные, вдали от родины, от родных и близких, без крова и пищи, и за что? За то, что правду сказали. И все это для того, чтобы искоренить крамолу и обставить спокойствие буржуев, дармоедов».
Только Аня, как ясный лучик, манила его к себе.
«Аннушка, милая моя! Отрада и надежда моя! Весь вечер я просидел с Аней. Уж и о чем мы с ней только не говорили. Как хорошо я провел вечер, если бы вся жизнь протекала так».
Отец и сын Друговы поддерживали в Николае уверенность, придавали силы в борьбе.
— А у меня тебе очень важная весть, — после взаимных приветствий проговорил Яков Максимович. — Кузьмич привет шлет.
— Андрей Кузьмич! — обрадовался Николай.
— Вот почитай-ка, — и Яков Максимович передал Томину газету центрального органа Российской Социал-Демократической Рабочей Партии «Пролетарий» со статьей Искрина. В ней писалось:
«Ураганом пронесшееся в России аграрное движение не прошло бесследно и у нас за Уралом в деревне. Зарево пожара крестьянского восстания, охватившего деревню в России в борьбе с царским правительством и помещиками, осветило и нашу, сравнительно сытую и спокойную, деревню. Крестьяне Каминской волости Челябинского уезда при выборе уполномоченных во вторую думу, решили дать наказ. Они писали: «…Страна задыхается под гнетом виселиц, расстрелов и исключительных охран. Исстрадавшийся народ ждет от новой думы разрешения всех своих неотложных, наболевших нужд и пламенных надежд. Между тем мы видим, что министры с еще большим упорством, чем раньше, отстаивают старый порядок и ничем не обузданный разгул чиновного произвола. Очевидно, что новой думе придется с самодержавным правительством вести еще более ожесточенную борьбу, чем в 1-й думе — борьбу не на жизнь, а на смерть…
…Поэтому мы наказываем вам выбирать в Государственную думу тех, на чьем знамени написано: «Вся воля и власть — всему народу! Вся земля, воды и леса — всему трудящемуся народу».
Статья заканчивалась словами:
«Известно, что посеешь ветер — так и пожнешь бурю: и эта буря не заставит себя долго ждать. Сами царские слуги только и делают, что озлобляют и грабят и без того разоренный народ. Скоро лопнет терпение народа. Грянет снова буря и сметет ненавистное народу иго самодержавия со всеми его приспешниками.
Ларион».
Николай откинулся на спинку стула и минуту сидел в глубокой задумчивости.
— Сильно написано! Надо обязательно размножить статью — и в деревни, — проговорил Томин.
— Вот это и надо было мне услышать от тебя. Печатай, борьба продолжается, — и Яков Максимович отечески обнял Николая за плечи.
1910 год. Весна пышная, буйная. Николай возвращается с ярмарки. Настроение чудесное и он вполголоса поет. Домой приехал поздно. С думой о завтрашней встрече он ложился спать. Но что это?! Под подушкой письмо от Ани. С волнением вскрыл.
«Колюшка, милый, хозяйка говорит, что если я еще раз встречусь с тобой, то меня и маму выгонит. Что делать?»
Николай едва дождался рассвета. На вопрос любимой; — «Что делать?» ответил: «Пожениться!»
И вот они муж и жена.
ШКВАЛ НАД ОКОПАМИ
Июль 1914 года.
Солнце поднимается все выше, палит все сильнее.
По улицам Куртамыша огромным ужом ползут в туче пыли подводы с новобранцами. От причитания и воя баб, пьяных песен и заливистого рыдания гармошек, от крепкой брани над селом стоит раздирающий душу стон.
В казачьей форме, туго подтянутый ремнем медленно идет Николай Томин.
Левой рукой держит под уздцы коня Ваську, правой сжимает руку подруги. Аня в темном платье, легкая косынка опущена на плечи, толстые косы туго скручены на затылке.
Идут молча, только все крепче и крепче сжимают друг другу руки.
За рекой поднялись на увал, остановились. В большой чаше, как на ладони, раскинулось огромное село. К западной окраине его темной стеной подступил сосновый бор. Из леса вырвалась река и, пропетляв около огородов, ивовых и тополевых рощ, вбуравилась в частокол могучих сосен. И вспомнились в минуту разлуки первые встречи, тихие лунные ночи, дорогие сердцу места.
День жаркий и тихий. Только редкие дуновения ветерка слабо колышут косынку, яркие блики срываются с кокарды и пуговиц Николая.
По пыльной дороге непрерывно движутся подводы. Взревела однорядка, и пьяные голоса затянули прощальную:
Ее подхватили на других телегах, и разноголосый вой полетел в степь:
Тисками сдавило сердце Ани.
— Коля, милый, — тихо зашептала она, — зачем все это, кому нужна наша разлука?
Николай взглянул в карие влажные глаза жены.
— Не плачь, родная. Нас только двое, у нас нет ревунов. А зачем отрывают отца от этой оравы? — и он показал рукой на дорогу.
Тощий пегашка, еле переставляя ноги, тянет телегу. На ней сидит хмурый бородатый крестьянин в старом заплатанном картузе и пестрядинной рубахе. На руках — грудной ребенок, мальчик лет трех стоит у отца за спиной, обхватив его шею ручонками. Две девочки, чуть постарше, с тоской заглядывают тятьке в глаза. Слева, придерживаясь за телегу, чинно шагает подросток, справа, — низко опустив голову, обливаясь слезами, бредет убитая горем жена.
— Тять, а тять, зачем едешь от нас? — спрашивает одна из девочек.
— Царь гонит, доченька, царь. Не один, чать, еду, многолюдство.
— Ох, Коля! Надолго ли наша разлука? — прошептала Аня.
— Видать, надолго. В большом котле заварили кашу хозяева, а народу придется расхлебывать. Ну да палка о двух концах. Не горюй, пиши чаще письма. Ну, Аня, родная, мне пора, — закончил Николай; горячо поцеловав жену, вскочил в седло.
Всадник взлетел на холм и через мгновение скрылся в лощине. А минуту спустя растаяло за ним и пыльное облачко. На душе у Ани стало пусто.
Три года Николай Томин провел на фронте.
В одном письме Анна посетовала мужу, что другие казаки, как Полубаринов, не по одному разу были в отпуске, а он почему-то не может приехать даже на один денек. В ответ Николай написал:
«…Вот, сама видишь, моя дорогая, какие порядки. Кто еще и позиции не видел, того отпускают на семь недель, а я все время на позиции, но об отпуске даже не думаю».
Много крови и смертей видел, много товарищей потерял за эти годы Томин и среди них задушевного друга Александра Алтынова.
При дивизии формировался партизанский отряд. Перед тем, как нести список на утверждение начдиву, адъютант генерала есаул Полубаринов вычеркнул первую попавшуюся на глаза фамилию и вписал Алтынова.
Операция партизанского отряда прошла успешно: были захвачены документы штаба неприятельской дивизии, пленен немецкий офицер.
— Развяжите руки, — попросил пленный, когда отряд темной ночью подошел к линии фронта.
— Дайте честное офицерское, что не побежите, — потребовал Томин.
— Честное офицерское. Нарушу — стреляйте из моего пистолета, — ответил тот. — Бой точный.
При переходе небольшой речушки, что разделяла противников, отряд был обнаружен и обстрелян. Пленный метнулся в сторону, но меткая пуля свалила его наповал. Томин подбежал к врагу и, сокрушаясь, сказал:
— И надо же было тебе бежать!..
Раньше командир сотни Каретов, стройный, бравый казачий офицер, недолюбливал Томина за прямоту и смелые выступления в защиту казаков от произвола офицеров. Самолюбивый сотник, в присутствии командиров, с иронией отвергал предложения Томина по тактическим вопросам. Но поразмыслив наедине, принимал решение, подсказанное рядовым казаком. И получалось неплохо.
Но вот в бою был убит командир взвода, Томин принял подразделение и блестяще завершил операцию. Рейд же партизанского отряда, во время которого командиру вновь сгодился совет нижнего чина, сблизил этих людей, разных по характеру и званию.
Если прежде сотник выговаривал Томину за его откровенные разговоры с казаками, то теперь «не стал замечать их».
— Пусть учит казаков уму-разуму, — решил он и махнул рукой.
И Каретова война кое-чему научила, и он стал прозревать.
…В сотню пришла почта. На этот раз счастливчиком оказался Николай Томин. Его окружают товарищи, спрашивают о новостях.
— А вот, слушайте…
Жена подробно писала о своей жизни, о знакомых, о родственниках, о том, что нынче небывалый урожай, о делах купца Гирина.
Когда началась война, Гирин смекнул, что на поставках фронту можно нажить немалые капиталы. Куртамыш же, находясь вдали от железной дороги, стал «тесным костюмом», и Гирин переехал в Троицк, оставив там доверенного.
В Троицке Лука Платонович купил небольшой кожевенный завод, и через несколько месяцев он превратился в крупнейшее предприятие на Южном Урале, заложил суконопрядильную фабрику, переоборудовал мельницу, во много раз увеличил перемол зерна; в Тургайских степях распахал большой клин земли, в Кустанае организовал крупорушное производство. Для перевозки товаров за бесценок скупил у казахов восемьдесят верблюдов.
Так Лука Платонович Гирин стал не только купцом, но промышленником и землевладельцем.
— Богачу везде рай. И на войне — кому кресты на грудь, а кому в брюхо штык, — пробасил односельчанин Томина богатырь Дорофей Тарасов. — Полубаринов-то пороху не нюхал, а два ордена уже нацепил, есаулом стал.
— Эх-хе-хе! — вздохнул пожилой широкоплечий казак с окладистой черной бородой Федор Гладков. — Какая нечистая сила меня сюда занесла? Дома Настасья одна с ребятишками. Пятеро у ней на руках, из сил выбивается, а купцам да буржуям людская кровушка в мошну течет. Эх, дела, дела!
Раздалась команда дежурного по сотне. Все побежали строиться.
Командир зачитал приказ на разведку. Среди назначенных и Федор Гладков.
— Разрешите мне за него пойти, — обратился Томин к офицеру.
Каретов недоуменно посмотрел на казака.
— Что за причина этому?
— У меня ревунов нет, а у него — пятеро.
— Ну, вольному воля. Ты и будешь за командира.
…После занятий по рукопашному бою Томин присел отдохнуть под развесистым кленом. Тут и разыскал его Владимир Яковлевич Другов.
Николай обрадовался и пригласил Владимира Яковлевича в землянку.
— Нет, Коля, не стоит. Меньше глаз — меньше расспросов. Пойдем-ка лучше к реке.
Облюбовали пригорок, присели.
Владимир Яковлевич, рассказав, что он служит в армейской артиллерии, штаб которой находится недалеко отсюда, поинтересовался, чем казаки занимаются в свободное время.
— В дурачка режутся, кто помоложе — в шаровки, в чижика играют. Читать совсем нечего — армия же вне политики, а казаки тем более. Иногда достану журнал какой-нибудь. Аня недавно несколько номеров «Нивы» прислала. Письма из дома читаем.
— Это хорошо. Каждое письмо, в котором говорится, кто нажился, кто разорился, должно быть известно всему взводу, всей сотне. В письмах все казаку близко, понятно. Война, Николай, по всему видать, будет затяжной. Маневренный период ее кончился, противники полезли в землю, наступил период позиционный. Кончилось и шапкозакидательство, армия и народ просыпаются от шовинистического угара. Надо рассказывать людям, кому выгодна война, за чьи интересы воюет народ.
Другов извлек из потайного кармана брошюру.
— Здесь статья Ленина и решение партии большевиков о войне. Есть куда положить?
— У казака дом один — седло. Там у меня три книги дозволенные: «Наука побеждать» Суворова, высказывания Драгомилова и партизанские действия в период Русско-Турецкой войны. В этих книгах и брошюра будет храниться.
— Вот и хорошо, припрячь. Будь осторожен. Мне пора, не провожай.
Томин хотел что-то спросить, но не решался. Другов заметил это.
— Спрашивай, чего мнешься?
— Я вот о чем. Вот я буду агитировать против войны, за поражение нашей армии, за превращение империалистической войны в гражданскую и в то же время убивать ни в чем не повинных немецких солдат. Как же это все в душе приладить?
— Да, противоречие! Если ты будешь симулировать, отлынивать от задания — потеряешь авторитет у казаков и можешь попасть под военно-полевой суд. Если не будешь убивать ты, тебя убьют. Выходит надо и агитировать против войны, и воевать. Так-то, дорогой друг.
Томин агитировал и воевал.
Осенью 1916 года 1-я Оренбургская казачья дивизия совершила марш из-под Ковеля в Румынию.
На румынском фронте и встретил Николай Томин весть о февральской революции. А некоторое время спустя был избран председателем солдатского комитета дивизии. Заместителем председателя избрали офицера из Верхнеуральска Ивана Дмитриевича Каширина. В дивком вошли от офицеров штаба есаул Полубаринов, от командиров 12-го оренбургского казачьего полка Каретов, казаки Тарасов и Гладков.
В сентябре 1917 года в Троицке проходил съезд казаков-фронтовиков, и провинциальное захолустье несколько недель буквально жило этим событием.
Как-то вечером у Луки Платоновича Гирина собрались гости. Среди них оказался и есаул Полубаринов. Вместе с кухаркой и горничной Наташа подавала на стол и слышала пьяный разговор господ. С нескрываемой злобой они произносили фамилию Томина, называли его бандитом с большой дороги, босяком, большевистским холуем.
— И чего церемонятся с ним казаки, — выкрикнул кто-то. — Давно ему пора на тот свет!
— Здесь, господа, ничего из этой затеи не выйдет, — возразил Полубаринов. — Головорезы Томина от своего коновода ни на шаг. Но отец мне дал строгий наказ: вернешься на фронт — первая пуля Кольке Томину. А пока сделаем над его персоной «вольтование», как средневековые колдуны.
Полубаринов вынул из гимнастерки групповую карточку, отхватил ножницами Томина и с ожесточением изорвал на мелкие куски.
— Так его, сукина сына, так, — с наслаждением приговаривали пьяные голоса.
Затем Полубаринов попросил одного плюгавого офицера в пенсне писать, а сам начал диктовать. Что он диктовал, Наташа не слышала.
«Коля здесь! Значит, жив! Батюшки, где же увидеть его»? — едва не запричитала от радости Наташа.
На второй день издали Наташа увидела казаков, которые стояли у здания окружного суда, громко разговаривали и весело хохотали. В центре невысокий худощавый урядник. На его груди позвякивали георгиевские кресты и медаль.
Наташа подошла ближе и услышала знакомый голос.
— Это же маскарад, а не съезд фронтовиков, — разведя руки в стороны, говорил он. — Собралась толстопузая сволочь и трезвонят, что фронтовики решают вопросы о войне до победного конца!
— Ничего, Томин, круши их, мы тебя в обиду не дадим, — шумели казаки.
— Боже мой! Коленька! — вскрикнула Наташа и чуть не выронила из рук сумку. — Живой? Давно здесь? Чего же ты не заходишь в гости? Забыл?
— Наташенька, сестренка! — воскликнул Николай.
Подхватив Наташу под руку, Николай повел ее по тротуару.
— Ты уж совсем невеста, на выданье.
Наташа улыбнулась.
— А ты привез жениха с фронта? У нас девчата даже об этом частушку сложили:
— Складно? — И девушка озорно посмотрела на Николая своими большими черными глазами, всегда немного удивленными, всегда немного грустными. — Заходи к нам, Колюша, в гости.
— Нет, Наташа, мне путь к Луке Платонычу заказан.
Оглянувшись вокруг, Наташа припала к его уху и что-то быстро-быстро зашептала.
— Спасибо, сестренка, только ничего у них не выйдет, — поблагодарил Николай. — Мне пора, Наташенька.
— Да и я заговорилась, давно, наверное, ждут меня с покупками.
Николай догнал своих товарищей, которые уже направлялись под высокую арку окружного суда.
В большом зале первые ряда заняли атаманы, станичная знать, офицеры штаба третьего отдела Оренбургского казачьего войска, именитые купцы и промышленники. Сзади них — фронтовики. Их человек тридцать.
— Слово предоставляется члену Государственной думы, казачьему атаману господину Полубаринову, — объявил председательствующий.
— Томину слово! Он вчера первым записался! Почему Томину слово не даете? — раздались требовательные крики.
— Тише вы, горлохваты! Говорите, Петр Ильич, говорите, — гудит председатель, правой рукой вытирая пот с лица, левой названивая в колокольчик.
Полубаринов со слезами на глазах заговорил о многострадальной Руси, об опасности, нависшей над отечеством:
— Народ требует продолжать войну до победного конца, и мы, станичники, должны прислушаться к его голосу, горячо одобрить политику Временного правительства! — крикливо закончил он.
Раздались дружные рукоплескания богачей и негодующие выкрики фронтовиков. Среди всего этого многоголосого хаоса прозвенел голос Томина:
— Что?.. Что?.. Воевать до победного? Мы навоевались, хватит!
— Тебе никто слова не давал, — закричали из президиума.
— Сам возьму! — ответил Николай и легко взбежал на трибуну.
— Товарищи! — произнес Томин, и в зале сразу стало тихо, словно после взрыва бомбы.
— Товарищи! — повторил он.
— Я запрещаю тебе произносить это слово! — взревел председатель.
— Долой с трибуны! Гнать в три шеи! — заорали атаманы станиц. Они кинулись к трибуне, чтобы расправиться с Томиным. Дорогу им преградили фронтовики, среди которых выделялась коренастая фигура Федора Гладкова.
— А ну, назад, тыловые крысы! — внушительным тоном сказал он, кладя правую руку на эфес шашки. — Громи их, Николай!
Вооруженные фронтовики охладили пыл казачьей верхушки. И в установившейся тишине зазвенела пламенная речь председателя солдатского комитета 1-й Оренбургской казачьей дивизии Николая Дмитриевича Томина:
— Товарищи фронтовики! Сегодня я получил грамоту. Вот она, — и Томин вынул из кармана листок бумажки, прочел: «Большевистский холуй! Если твой длинный язык не прекратит болтать, то с тобой будет то же, что с твоим изображением».
Николай бросил на стол президиума клочки карточки.
— Запугать решили, чтобы я не говорил правды. Не выйдет! Я не большевик, но горжусь тем, что иду вместе с ними. Только большевики говорят правду в глаза, только большевики искренние друзья народа!
— Правильно, Николай! Правильно! — одобрительно прокричали товарищи.
— Изменник! Немецкий шпион! Исключить предателя из казаков! — на разные голоса горланили казачьи атаманы.
Николай терпеливо ждал тишины. Постепенно буря стихла. Председатель, повернувшись к Томину, закричал:
— Запрещаю говорить тебе! Слышишь, запрещаю!
— Правде рот хочешь заткнуть, господин полковник? Не выйдет! Дивизия дала мне наказ сказать, что думают казаки. И я скажу. Сейчас член Государственной думы атаман Полубаринов пел о войне до победного конца. Эту песню мы слышим здесь каждый день. И все от имени народа. Давайте посмотрим, что это за народ, которому нужна война до победного конца? — Указывая рукой на Полубаринова, Томин продолжал: — Этому правителю война нужна, чтобы сплавлять прелый хлеб за первосортный. Серая скотинушка все сожрет. И этому господину война нужна до победы, — Томин указал на Гирина, — чтобы суконную труху продавать за добротный материал. Не важно, что только до первого надева — денежки-то в кармане.
— Не накормивши, врага не наживешь, — бросил реплику Гирин.
— Спасибо за хлеб-соль, благодетель: до сих пор они в горле костью стоят. — И этому, господину Тестову, — он указал на местного салотопа, — тоже война нужна, как же! Он вместо мыла куски глины всучивает военному интендантству. Недаром говорят: борода Минина, а совесть глиняна!..
— Ха-ха-ха! Господа, господа, что он говорит? Что? Нахал, вот нахал! — вращая толстыми пальцами, сложенными на животе, просипел Тестов.
Не обращая внимания на злобный вой врагов, Томин продолжал:
— Теперь спросим батарейца Гордея Родионовича Алтынова нужна ли ему война, — и он посмотрел на галерку, где сидел отец Александра Алтынова, батареец-запасник. — Что дала ему она? Один сын погиб, второй еще мальчишка, а тоже на фронте. Самого вот забрали. Дома жена больная, снохи и внучата батрачат на правителя Полубаринова. А землю он у них за долги забрал. Выходит, война нужна не беднякам, а фабрикантам, купцам, кулакам-мироедам и прочим кровососам. Вам, господа хорошие, нужна война, так идите и воюйте, а с нас хватит! Мы сыты по горло! Долой войну, да здравствует мир!
— Долой войну! Мир! Домой! Хватит! — подхватили фронтовики.
— Станичники! Это речь немецкого шпиона, — выскочив на трибуну, закричал полковник, представитель Совета союза казачьих войск, прибывший на съезд из Петрограда. — Ваши братья на фронте кровь проливают, а Томин приехал сюда разлагать тыл. Исключить его из казачества!
— Исключить! Исключить! — завопила станичная знать.
— Кто разлагает тыл? Я или вы — это еще вопрос, — поднявшись с места твердо заговорил Томин. — Я с первого дня на фронте, с коня не слажу, шашка притупилась. А вы в Питере отираетесь, к власти пробрались, пьянствуете, развратничаете, капиталы нажили на чужой крови.
— Долой тыловую крысу с трибуны! Долой! — требовали фронтовики.
К трибуне подбежал Гладков и, потрясая увесистым кулаком, прокричал:
— Исключить Томина из казаков? Дудки! Тут вы что-то не то затеяли. Учтите, за Томина мы порубим вас всех. Вот и весь сказ!
Две недели в зале окружного суда гудели голоса, скрещивались страсти, летели призывы, слышались угрозы. Съезд одобрил политику Временного правительства: вести войну до победного конца. Однако съезд показал, что казаки уже не те, что были в 1905 году…
В отсутствие Томина был арестован и отправлен в Верхнеуральск на суд станичников заместитель председателя дивкома Иван Дмитриевич Каширин. Начальник дивизии приказал разоружить шестую сотню, откуда шла вся смута в соединении. Председатель сотенного комитета Тарасов и член дивкома командир сотни Каретов решительно противились намерению генерала. Приезд Томина сорвал планы начдива. Вместо арестованного Ивана Каширина дивизионный комитет избрал Ефима Мироновича Каретова.
Стремительно развивались события.
В то время, когда в Петрограде шел штурм Зимнего Дворца, а второй съезд Советов принимал исторические декреты о мире, о земле и избирал первое в мире советское правительство — Совет Народных Комиссаров, контрреволюционные генералы в союзе с соглашателями начали поспешно готовиться к разгрому революционных сил фронта. Враги народа всячески пытались помешать проникновению в войска сведений о революционных событиях в Петрограде. Однако известие о революции докатилось и до казаков Первой Оренбургской дивизии.
Через несколько дней после октябрьского переворота в Петрограде в дивизию вернулся из штаба фронта подъесаул Каретов, ездивший туда с поручением дивкома. Он приехал утром. Несмотря на ранний час, землянка солдатского комитета была уже переполнена.
Раздвигая своими широкими плечами товарищей, потрясая над головой листком газеты «Рабочий и солдат», Каретов громко сообщил:
— Товарищи! Временщиков спихнули, Керенскому по шее дали…
Томин взял из рук своего заместителя газету, взглянул на ее первую полосу. Там было напечатано обращение Военно-революционного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов «К гражданам России». Пробежав волнующие строки и обращаясь к членам дивкома, радостно произнес:
— Товарищи! Дорогие друзья! В Питере революция!
— Ура! Ура-а-а! — рявкнули казаки так, что задрожало единственное окно землянки.
Томин зачитал обращение. Газета пошла по рукам.
— Обращение-то написано 25 октября, а сегодня 29-е? — удивленно протянул Федор Гладков. — А сейчас там что делается?
— Вы видите, что офицерье скрывает от казаков события в Питере. Надо сейчас же потребовать от командования все ленты и установить дежурство у аппарата. Сегодня же провести митинги во всех частях, — распорядился Томин.
Телеграфист, высокий, стройный казак с лихим чубом, с грозным окриком: «Нельзя! Не видите, что написано на дверях?» — двинулся навстречу вошедшим.
— Что передавали из Питера? — глядя в упор на него, спросил Томин.
— Ничего не передавали, — не сдавался тот.
— Врешь, шкура. Рассказывай! — И Гладков потянулся к кобуре маузера.
— Ленту! — потребовал Томин.
Казак обмяк, отошел в сторону и, боязливо озираясь на сослуживцев, тихо проговорил:
— Лента у генерала, передавали декреты о мире и о земле. Еще что-то передавали, да разве все упомнишь.
Гладков остался дежурить у аппарата, а Томин с друзьями пошли к начдиву.
Часовой вытянул вперед правую руку, в которой держал винтовку, и проговорил:
— Не велено никого пущать!
Каретов взял казака за воротник шинели и отодвинул в сторону. Томин открыл двери. Генерал, оторвавшись от бумаги, строго проговорил:
— Прежде чем врываться, надо разрешение спросить.
— Ленты! — потребовал в ответ Томин.
Генерал встал, уставил остекленевшие глаза на Томина.
— Изменники! Под суд!
— Ленты! — повторил Томин.
Рука генерала потянулась к телефону. Каретов отодвинул аппарат в сторону. Члены комитета придвинулись к столу.
— Ленты! — третий раз потребовал Томин и добавил: — Ключи от сейфа!
— Предатели, изменники Родины! — гневно крикнул генерал и кинул ключи на стол.
Томин открыл сейф и достал ленты с телеграммами из Петрограда. Сообщали о втором съезде Советов.
В полках, сотнях, на батареях весь день митинговали.
Казаки шестой сотни на полковой митинг пришли первыми. В старых шинелях и прокопченных пороховым дымом папахах они окружили Томина и наперебой сыпали вопросы.
Николай поднялся на трибуну, сложенную из снарядных ящиков. Охватил взглядом полк, выстроенный посотенно.
— Товарищи! Дорогие земляки! Станичники! — голос его звенел, набирая силу.
Сотни замерли. Пробежал по рядам ветерок, прошелестел ветками в роще и затих.
— Двадцать пятого октября в Петрограде рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, взяли власть в свои руки. Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов обратился к народу с воззванием. Вот оно:
К гражданам России!
Временное правительство низложено… Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»
Мощное, многоголосое «Ур-а-а-а!» покрыло последние слова оратора.
Эхо затухающими волнами укатилось к горизонту, утонуло в рощах и дубравах.
В воздух полетели папахи.
— Да здравствует Советская власть! Мир! Земля! Да здравствует Ленин!
Полк единогласно принял резолюцию, в которой признал власть Советов единственной властью в стране.
К вечеру митинги прошли во всех частях и подразделениях дивизии и везде было единодушно принято решение бороться за власть Советов.
Поздним вечером этого же дня между генералом и Полубариновым произошел такой разговор:
— Вениамин Петрович! Вы должны остаться в дивизии.
— Ваше превосходительство! Это невозможно, на кого я вас брошу? — испуганно возразил Полубаринов.
— Теперь я не начальник дивизии и от должности адъютанта вы освобождены. Я не маленький, в няньках не нуждаюсь, — оборвал генерал. — Слушайте внимательно. Вы член дивизионного комитета и выполняйте эти свои обязанности. России и казачеству вы нужны здесь.
Полубаринов понял, какое опасное дело поручается ему. Сердце сжалось в комок от охватившего страха.
В ту же ночь генерал скрылся. Вместе с ним покинули дивизию многие офицеры.
Темная ночь. Непрерывно моросит мелкий осенний дождь. Тишина. Кажется нет кругом живой души. Но это только кажется. В окопах и землянках, за колючей проволокой, словно за крепостной стеной, мокнут и кормят вшей казаки 1-й Оренбургской казачьей дивизии.
В землянке двое — Томин и Гладков.
Федор, расправив черные усы, редкими глотками пьет крепко заваренный чай: он разгоняет дремоту. Николай в накинутой на плечи солдатской шинели, облокотясь на стол, глядит в маленькое окно.
Идут дни, а вопрос о мире не решен.
«Кто его будет решать? Когда?» — вот о чем думает председатель дивизионного комитета, глядя в темноту.
Звонили в армейский комитет, но оттуда толком ни на один вопрос не ответили. Томин с нетерпением ждет Ефима Каретова.
Угадывая мысли товарища, Гладков охрипшим голосом заговорил:
— Вечор у батарейцев был. Спрашивают: когда перемирие будет? Самим, говорят, надо переговоры вести с австрийцами.
Дверь с шумом растворилась, и в землянку ввалился Каретов.
— Радиограмма!
Известие о радиограмме из Питера молнией облетело дивизию. Казаки валом валили к дивкому.
— Давай радио!
— Чего тянешь волынку! — требовали кавалеристы.
Члены дивкома вышли из землянки. Томин взошел на крышу и громко прокричал:
— Слушайте, тихо! Радиограмма Ленина. «Всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота.
Совет Народных Комиссаров сообщает всему народу и всей армии о том, что генерал Духонин саботирует решение Второго съезда Советов о мире, не выполняет распоряжений правительства о ведении переговоров с целью заключения перемирия»…
Среди казаков рокот негодования.
— «…Но когда предписание вступить немедленно в формальные переговоры о перемирии было сделано Духонину категорически, он ответил отказом подчиниться», — продолжал читать председатель дивкома.
— Дышло ему в глотку, — выкрикнул возмущенный казак и поднял над головой винтовку.
— Кол осиновый! — поддержал рядом стоящий.
— «Солдаты! — продолжал читать Томин. — Дело мира в ваших руках…»
— Дельно сказано, — раздался голос сзади.
— Не перебивай! — одернул другой.
— Читай! — нетерпеливо требуют третьи.
— «…Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира, вы окружите их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда»…
— Наш сморчок загодя в шесток, — бросил кто-то, намекая на побег генерала.
— Дальше петли не убежит.
— Тихо, товарищи, тихо, — успокаивают люди друг друга, увеличивая шум и гвалт.
Когда успокоились, Томин продолжал:
— «Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок»…
И снова не сдержались.
— Томин, принимай дивизию! Принимай, принимай! — кричат с разных сторон.
На землянку поднимается Каретов.
— Кто за то, чтобы Николая Дмитриевича Томина избрать начальником 1-й Оренбургской казачьей дивизии, прошу поднять руки.
Взметнулись штыки. И тут же требование:
— Читай!
— «Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем»…
— У-ра-а-а! Даешь мир! Да здравствует Ленин! Ленину ура, ур-а-а-а… Ленину-у-у-у…
На участке, занимаемом дивизией, в тот же день произошло братание русских и австрийских солдат.
Вопрос «Что делать?» снова встал перед Томиным и его друзьями.
С фронта одиночно, подразделениями и частями, с оружием и без оружия неудержимым потоком хлынули солдаты. Это разлагающе действовало на казаков. Они все настойчивее стали спрашивать: когда же домой?
— Все идут, а мы что? — требовали однополчане.
Дивизия дислоцировалась на территории Украины, где власть захватило буржуазно-националистическое контрреволюционное правительство. Оно поспешно готовило армию. В дивизии появились агитаторы Центральной Украинской рады, сманивая в свои войска казаков.
Поймали двух лазутчиков от генерала Каледина, которые призывали станичников вступить в войско донского казачества.
Над соединением нависла смертельная угроза: или оно расползется по одиночке, группами, или будет уничтожено контрреволюцией.
Томин собрал дивком, рассказал о положении, в котором оказалась дивизия, попросил высказать свои мнения.
Первым выступил Полубаринов. Он имел задание любыми средствами задержать дивизию на месте.
— Мы не можем открыть фронт перед противником и поэтому должны оставаться на позициях. Уход дивизии с фронта считаю предательством революции, изменой молодой республике Советов, позорным дезертирством. Открыть фронт перед врагом, это значит вонзить нож в грудь любимой Родине. Народ и Советская власть не простят нам такого подлого предательства.
Высказав свое мнение Полубаринов сел, сложив нога на ногу, скрестив на животе руки.
Некоторое время среди членов дивкома была растерянность.
— Как быстро перенарядился, — подумал Томин. — Когда решался вопрос: с кем идти? — Полубаринов отсиделся в штабе, не подавая своего голоса ни за, ни против. А теперь — на тебе! Другом Советов стал.
Слово попросил Каретов.
— Полубаринов не видит, что творится вокруг. Одной нашей дивизией фронта не закрыть, он уже открыт на сотни верст. Поэтому я присоединяюсь к мнению начдива и председателя дивкома товарища Томина, организованно идти в Москву, стать на службу Советской власти. А там уж дело командования, где нас использовать.
Проголосовали. Томин зачитал приказ о переходе дивизии в Москву.
Приказ одобрили все казаки и командиры.
Погрузившись в эшелоны, полки, соблюдая революционную дисциплину, двинулись на север, к Москве.
Томин ехал в первом эшелоне, его заместитель Каретов — в последнем.
В пути соблюдали строгий порядок: пока последующий эшелон не прибудет на станцию, впереди идущий не имел права выходить с нее.
На площадках мешки с песком, пушки и пулеметы, готовые к бою. Караулы беспрестанно несут свою службу.
На одной из станций в вагон Томина заявились три представителя от генерала Каледина — офицер и два нижних чина.
Каледин предлагал Томину повернуть эшелон на Дон, взамен обещал оставить его начальником дивизии, присвоить звание полковника и в придачу дать столько золота, сколько сможет унести.
Возмущенный Томин выгнал парламентеров.
В Киеве произошла задержка.
Начальник эшелона Тарасов доложил, что Томина требует к себе военный комендант станции.
— Ого! Видал, какой фрукт нашелся! — возмутился Томин. — Как, Федор Степанович, ты думаешь?
Гладков погладил широкий лоб и, подумав, ответил:
— А я так думаю, Николай Дмитриевич, что если коменданту нужно встретиться с начдивом Первой Оренбургской казачьей дивизии, то пусть он придет к нему.
— Слышал, Дорофей Глебович, что сказал Федор Степанович. Так и передай коменданту наш ответ. Здесь нам придется подождать прихода всех эшелонов, а пути заняты. Передай еще коменданту, что если он не явится сюда и если через десять минут не начнет освобождать пути для эшелонов дивизии — начнем говорить языком пушек и пулеметов.
Военный комендант станции Киев явился к Томину в сопровождении трех гайдамаков в шапках с кисточками. Офицер пристукнул каблуками, вскинул руку к папахе:
— Гос… ваш… товарищ начдив! Имею честь представиться: штабс-капитан…
— А я, штабс-капитан, не имею чести знать офицера доблестной русской армии, который лижет зад украинским буржуям. Говорите, что нужно?
— Вас желает видеть пан Петлюра, — преодолевая страх и сдерживая злобу, ответил офицер.
— Зато я не имею никакого желания встретиться с вашим паном Петлюрой и не имею чести его знать. Если через час не будут освобождены все пути для эшелонов, — Томин встал и, уже стоя, закончил: — Первой Оренбургской казачьей дивизии, то ни от вас, ни от вокзала ничего не останется, да и Петлюре вашему не поздоровится. Идите!
В последних числах декабря 1917 года дивизия прибыла под Москву, на станцию Люберцы.
Томин в сопровождении своих друзей едет к командующему Московским военным округом и докладывает:
— Первая Оренбургская казачья дивизия в полном составе, со всем вооружением и имуществом поступает в распоряжение Советской власти!
НА РАССВЕТЕ
…На лестнице застучали стылые валенки, дверь открылась, и в комнату ввалился Полубаринов.
Томин удивился. Расстались они в Самаре, где расформировывались два полка дивизии. По поручению дивизионного комитета Полубаринова оставили там для сдачи имущества, оформления документов, на что должно было уйти не более двух-трех недель. Однако прошло уже более месяца, а Полубаринова все не было. Уж не перекинулся ли Вениамин к врагу? — думал Томин.
И вот он — нате вам, собственной персоной!
Томин затопил буржуйку, сразу стало теплее. Вскоре из рожка жестяного чайника стали вылетать струйки пара, крышка задребезжала.
Собирая на стол, Томин рассказывал о событиях последних дней.
— Не мешало бы за встречу выпить, случай подходящий, — предложил Полубаринов.
— Ни по случаю, ни без случая — не пью! — проговорил Томин. — Да и что за случай? Не сумели сберечь дивизию!
— А что бы ты сделал? — спокойно спросил Полубаринов.
— Как что?! Да в Питер надо было махнуть, к Ленину! Вот почитай-ка, — и Томин подал Полубаринову «Правду», в которой была напечатана речь Ленина на проводах первых эшелонов социалистической армии.
— Читал. Напрасно волнуешься, Николай. В Питер ты бы поехал или за Питер, от этого положение ничуть не изменилось бы.
Полубаринов встал, подошел к Томину, обнял за плечи и, увлекая к дивану, заговорил:
— Давай-ка, дружок, сядем рядком да потолкуем ладком.
Томин движением плеч освободился от рук Полубаринова, но все же сел на диван.
— Не обижайся на меня, Коля, но я тебе скажу правду: мелко ты ныряешь, — заискивающе глядя в глаза, начал Полубаринов. — Ты забываешь, что мы казаки, а казакам у Советов ни на грош доверия нет, так что, хоть из кожи лезь вон, все равно в добрые к ним не войдешь.
В груди Томина закипала злоба, хотелось прервать этот разговор (он уже догадался, куда гнет Полубаринов), но решил выслушать до конца.
— Большевики никогда не простят казакам девятьсот пятого, и заруби себе на носу, что хода нам при Советах не будет. Подожди, подожди, не кипятись, — видя, как темной тенью подернулось лицо Томина, поспешил предупредить вспышку гнева Полубаринов. — Ты не подумай, что я собираюсь защищать самодержавие. Отнюдь нет. Сотни лет мы были его сторожевыми псами. А что получили за верную службу? Вот ты три года воевал, с твоим талантом тебе бы дивизией командовать, в генералах ходить, с твоей храбростью полным георгиевским кавалером быть, а что получил? Два Георгия да медаль, да и те голосовые, сотня наградила, а не командир. И дослужился всего лишь до младшего урядника. Победила Советская власть. С открытой душой пришли мы к ней на службу, а вместо благодарности — звонкая пощечина. А придет время — большевики нам новый ошейник наденут и затянут его посильнее, чем Николашка. Выходит, хрен редьки не слаще.
Томин слушал, стиснув зубы, и только покачивал головой. Полубаринов понял это как сочувствие и продолжал:
— Где же выход для нас? Мы, казаки — особая нация. И настало время создать свое казачье государство, свое войско, свою власть! Без царя и большевиков! Вот тогда ты станешь действительно вольным. В этом деле, безусловно, будут мешать большевики… Следовательно…
— Государство Оренбургского казачьего войска! — воскликнул Томин. — А что оно мне даст?
— Да тебе все карты в руки! Казак по национальности, хлебопашец по происхождению, пролетарий по положению с талантом полководца — быть тебе главнокомандующим всеми вооруженными силами. Кстати, я вот тебе письмо привез, тут, наверное, сказано.
Томин поставил на стол лампу, разорвал конверт без адреса и начал читать исписанный бисерным почерком лист. Полковник Дутов сожалел о том, что такие казаки, как Томин, заблудились, словно малое дитя в лесу, и сбились с дороги. Просил его одуматься, опомниться, не прыгать в пропасть, а вернуться к своим братьям — казакам, покаяться, и тогда они простят ему все грехи и с распростертыми объятиями примут в свою семью. Он же, вождь Оренбургского казачьего войска, Дутов, вверяет ему дивизию и благословляет на святое дело борьбы с большевиками, за вольное казачество. Ни званиями, ни наградами, ни должностями Томин не будет обижен, никогда не поступят с ним так подло, как это сделали Советы.
Томин читал, а Полубаринов смотрел на него, но лицо Николая было замкнутым.
— Как поет, что соловей залетный! А давно ли на Первом съезде казаков-фронтовиков в Питере орал: «На первой осине надо Томина повесить!»
У Полубаринова поколебалась уверенность в успехе, и он решил незамедлительно пустить в бой «новое оружие».
— Вместе с письмом Александр Ильич послал тебе небольшой подарок, — и с этими словами он положил на стол кожаный мешок.
Томин метнул взгляд на Полубаринова, развязал мешок, и золотые монеты блеснули перед его глазами.
— Сколько?
— Пять тысяч.
— Врешь, — приподнимая мешок, проговорил Томин. — Здесь не больше четырех. Отсыпал.
Полубаринов невольно скользнул руками по карманам. Потом опомнился, отвел взгляд в сторону.
— Отвалил, гусь лапчатый! Скоропадский и Каледин куда больше давали.
— Александр Ильич приказал передать, что…
— И ты, сума переметная, взялся выполнить роль сводника?! Да я тебя, сволочь!.. — прорвалось у Николая.
У Вениамина задрожали колени.
— Тебе же добра хочу.
— А ты забыл, с чем послы Скоропадского и Каледина ушли?! — грянул Томин. — Так я тебе напомню! Он схватил мешок за угол, размахнулся и золотой град ударил в лицо офицера. Полубаринов сгреб шапку, шинель и, озираясь, кинулся к двери. У выхода Томин нагнал его и такого дал пинка, что тот лбом отворил двери и, посчитав ступени, оказался на нижней площадке лестницы.
— Мы еще встретимся на узенькой дорожке, большевичок! — угрожающе пробасил снизу Полубаринов.
— Не советую, — ответил Томин и погрозил кулаком.
Было темно, но чувствовалось приближение рассвета. В казачьей папахе, в накинутой на плечи шинели Томин быстро шагал по пустынной улице.
«Иуда, презренный Иуда»! — с отвращением думал он о Полубаринове.
Злой и возбужденный Томин пришел в исполком Троицкого Совета. Его опахнуло табачным дымом.
За столом сидит председатель исполкома Светов. От бессонницы глаза его ввалились и казались обведенными черной тушью. Рядом с ним, навалившись грудью на стол, стоит председатель укома партии Абрамов. Вокруг стола толпятся члены исполкома и укома. Все выглядят до предела усталыми.
— Вы уже работаете? — спросил Томин.
— Да, мы еще работаем, — ответил Абрамов, делая ударение на слове «еще». — А вы еще не уехали?
Томин стремительно подошел к столу, развязал тяжелый кожаный мешок и проговорил:
— Это подарок революции от Дутова.
— Каким образом он прислал? — спросил недоверчиво Абрамов.
— С одним паразитом, подкупить хотел. В горячке не подумал задержать гада. Ну, да еще встретимся.
— Революционную бдительность вы, товарищ Томин, потеряли, — осудил председатель укома. — Чем же вы теперь займетесь?
— Я записываюсь в красногвардейский отряд рядовым боевиком. Надеюсь, винтовку-то доверите? А…
Светов перебил его.
— Мы тут всю ночь мозговали. Никак не могли подобрать начштаба войсками уезда. Теперь, я думаю, этот вопрос решим. Считаю, что кандидатура товарища Томина подойдет на эту должность. Он, правда, беспартийный, но преданный революции товарищ, и я за него ручаюсь.
Председатель исполкома вопросительно посмотрел на Абрамова и других членов комитета.
— Подойдет! Доверяем! — поддержали другие.
По предложению Светова, Николай Дмитриевич был введен в исполком и единогласно избран председателем казачьей секции.
От неожиданного поворота дел Томин немного растерялся, тихо проговорил:
— Спасибо за доверие. Постараюсь оправдать!
Когда все стали расходиться, к Николаю Дмитриевичу подошел мужчина среднего роста, со шрамом через все лицо.
— Коля! Поздравляю большой должность, — пожимая Томину руку, проговорил он.
— Ахме-ет! — обрадовался Николай. — Вот так да! Где ты пропадал?
— Моя по уезду гулял, мусульманский отряд привел.
Николай взял Ахмета за плечи, лицом повернул к свету.
— Кто это тебя так?
— Казак мала-мала плеткой гладил.
Когда началась война Нуриев уехал в Кустанай, там и работал на крупорушном предприятии Гирина. В 1916 году участвовал в национально-освободительном восстании, которым руководил Амангельды Иманов. Шрам на лице — память о бое под Актюбинском. Был схвачен, осужден. С каторги освободила Февральская революция. Сейчас руководит мусульманской секцией исполкома горсовета.
— Теперь вместе будем работать, чтобы быстрее пришла конец Гириным и Харинасам, — смеясь, закончил рассказ Нуриев.
В ОСАДЕ
Полночь. Уснул Верхнеуральск после дневной суеты, забот и тревог. Только в одном кабинете второго отдела Оренбургского казачьего войска ярко светит окно.
Полковник Дутов сидит в кожаном кресле, склонив голову над топографической картой, испещренной красными и синими линиями. Пухлыми пальцами потирает широкий смуглый лоб, приглаживает жесткие короткие волосы.
Вошел подтянутый, молоденький адъютант и доложил о прибытии есаула Полубаринова. Полковник лениво повел рукой.
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — приложил руку к папахе Полубаринов.
Не отрываясь от карты, атаман глухим, усталым голосом проговорил:
— Прибыли наконец-то! Докладывайте!
Полубаринов сообщил о разговоре с купцами и заводчиками Троицка. Дутов слушал внимательно, лицо его было спокойно, маленькие колючие глаза холодно блестели.
— Только четыреста тысяч с вами выслали?! — спросил Дутов. — Скряги несчастные. Погодите! Доберусь — повытрясу! Ну, а с этим как?
Полубаринов рассказал о встрече с Томиным, но, разумеется, умолчал о том, как он считал ступеньки.
Наказной поморщился.
— Как только наши войска подойдут к Троицку, там поднимется восстание. Силы для этого уже подготовлены, сигнал к восстанию — убийство Томина анархистами. Организацию заговора возглавляет Лука Платоныч Гирин.
— Этот сделает, — с удовлетворением отозвался Дутов. — Вы, есаул, будете моим недремлющим оком в Троицке.
Полубаринов отказаться от опасного поручения не посмел.
Полковник занялся картой, давая понять этим, что разговор окончен.
Март 1918 года.
Обстановка в крае с каждым днем усложнялась: дутовские банды не только свирепствовали в станицах и селах, а стали появляться у стен города. В это трудное время исполком Совета решил назначить Томина командующим войсками уезда.
На самом юру редкие окопы дугой охватили Меновой двор. В них залегло боевое охранение. Над степью звенящая, настороженная тишина.
Тает ночь.
Сжимая одеревеневшими от мороза пальцами винтовки, вглядываясь в безбрежную степь, боевики ждут смену. А ее все нет.
— Забыли видно о нас, — поеживаясь от холода, переговариваются красногвардейцы.
Предутренняя поземка усиливается, порывистый ветер пронизывает до костей. Медленно наступает рассвет. Крепчает мороз. Нехотя поднялось над увалом оранжевое солнце и зажатое желтыми столбами стало карабкаться по ледяному небосводу.
Послышался цокот копыт, тяжелое дыхание лошадей, из-за угла Менового двора выскочила группа всадников. Один из них на полном скаку остановил рыжего коня, молодцевато спрыгнул. Боевики узнали командующего войсками.
— Как служба идет, товарищи? — спросил Томин.
— Какая служба на голодный желудок?! — ответил начальник боевого охранения.
— Что, опять мать порядка подвела?
— Мать беспорядка, туды ее… — уточнили бойцы.
— Что ж, товарищи, давайте вместе как следует возьмемся за анархистов. А смена сейчас придет, — заверил Томин.
Обойдя участок, перекинувшись шуткой с бойцами, он отдал распоряжение начальнику сектора, где и что необходимо сделать, чтобы усилить оборону, легко вскочил на своего Киргиза и ускакал.
Красногвардейцам понравился этот подтянутый и решительный командующий, простой и острый на язык.
В казармах бывшего запасного полка разместился красногвардейский отряд. Одну комнату занимает рота анархистов. Время подошло к полудню, но многие, завалившись в верхней одежде на койки, храпят, другие, злющие с похмелья, слоняются между коек с думой о бутылке самогона. В дальнем углу режутся в очко.
Пройдя между рядами коек, Томин остановился возле игроков. Те продолжали свое дело, не обращая никакого внимания на подошедшего.
— По банку! — выкрикнул мужчина с манерами шулера.
Из-под тельняшки на волосатой груди видна татуировка — голова змеи. Он двинул мышцами, и змея зашевелилась. Широченные штаны затянуты резинками поверх валенок.
У Томина от гнева сжались кулаки.
— Враг у ворот, бойцы в окопах, а вы, паразиты, в карты дуетесь!
— Но-но! Потише на поворотах, оглобли сломаешь! — метнув на Томина угрожающий взгляд, пробасил мужчина с татуировкой. — Что за птица прилетела к нам беспорядок вводить?
— Я командующий войсками. А ты?
— Я был в Италии, был и далее, был в Париже, был и ближе, а теперь из Питера прямым путем прикатил в Троицк. Короче — революционный моряк, комиссар отряда Забегиназад, прошел огни и воды, и медные трубы.
— Видать сову по полету, — презрительно проговорил Томин. — Ты не революционный моряк, а предатель!
Забегиназад побагровел, вскочил, схватился за кобуру. Повскакивали с мест, забряцали оружием и другие игроки. Подступая вплотную к Томину, неказистый мужичок с заячьей губой, прогнусавил:
— А ну, повтои, шо сгавкал? Повтои!
— Вы, гады, предаете революцию. И если сейчас же не прекратите безобразничать, будем судить вас революционным трибуналом. Ты, моряк, немедленно подними своих бродяг, и на передовую…
— Ха-ха-ха! Уморил! Мы революцию делаем, а он нас будет судить! — бухнувшись в кресло, захохотал Забегиназад.
— Мне некогда с вами тут болтать. Приказ отдан, попробуйте не выполнить! — с угрозой отрубил командующий, повернулся и быстро вышел из казармы.
«Эту шатию надо немедленно брать в ежовые рукавицы, а то она натворит дел», — думал Томин, идя по улице. От встречи с анархистами у него на душе остался тяжелый осадок.
В штаб Томин вернулся поздно. Среди ожидавших он сразу заметил Русяева, высокого юношу, с открытым взглядом бархатных глаз. Широкий нос и пухлые губы придавали лицу выражение неподдельного добродушия. Форменная шинель учащегося технического училища, с блестящими металлическими пуговицами в два ряда, плотно облегала высокую фигуру. Фуражку юноша смущенно мнет в руках.
Виктор Русяев недавно окончил техническое училище и приехал в Троицк с поручением Златоустовского партийного комитета. Выбраться из города не удалось, пришлось встать на партийный учет и записаться боевиком в Коммунистическую дружину.
— Так вот, дорогой Виктор, как тебя по батюшке?
— Сергеевич.
— Так вот, дорогой Виктор Сергеевич, нам нужен начальник снабжения гарнизона. Мы тут посоветовались с товарищами из укома и решили на этот пост назначить тебя.
— Меня-я-я-я? — мягким баском протянул Русяев. — Не справлюсь я.
— Как это так не справишься? Нужно — значит, справишься. Продовольствия в городе много, только надо суметь взять его. Действуй решительнее. Завтра вечером жду первый доклад. — И более мягко, отечески закончил: — Не теряйся, в случае чего поможем.
Русяев вышел, и тут же в кабинет стали заходить все новые и новые люди, и все с неотложными важными делами.
Закончив прием, Николай Дмитриевич пошел на заседание исполкома и в дверях встретил бывшего однополчанина, члена солдатского комитета дивизии Федора Гладкова. Тот был бледен, пошатывался.
— Федор Степанович! Что с тобой? — подхватывая товарища под руки, воскликнул Томин. — Садись.
— Ни-ни! Сиделка у меня в кровь исхлестана… Шомполами, — пытаясь пошутить, ответил Гладков.
— Значит, дутовцы агитнули?
— Известно, «друзья народа».
Николай Дмитриевич положил на стол кусок сала и горбушку хлеба, налил воды в жестяную кружку и поставил перед Гладковым.
— Ты тут подзакуси да передохни, а я на исполком. Потом поговорим.
— Не-е, сейчас перекушу и за тобой пошкандыбаю.
Заседания исполкома в те дни проводились почти ежедневно и затягивались до утра. На этот раз первым слушали доклад члена исполкома Томина о состоянии гарнизона, о мерах по укреплению обороны города.
Томин начал свое выступление с оговорки, что оратор он плохой.
— Не оговаривайся, поймем, — перебил его Ефим Миронович Каретов, — не раз тебя слушали.
Рядом с Каретовым сидит Дорофей Глебович Тарасов добродушный, мягкий и застенчивый богатырь.
— Говори, Николай Дмитриевич, здесь своя братва, — подбодрил Тарасов.
Томин нарисовал неприглядную картину. В отрядах царит разболтанность, боевая подготовка не организована. Снабжение проводится по принципу: кто смел, тот два съел, а кто прозевал, тот воду хлебал. Анархисты бражничают и безобразничают, от несения караула отлынивают, зато жрут за пятерых, а кто мерзнет в окопах, перебивается с хлеба на воду. Кто-то не дюже умный ввел ежемесячную выдачу обмундирования. Он, Томин, издал приказ о проведении боевой учебы, об усилении питания боевикам, находящимся на передовой, лишил продовольствия дезорганизаторов, отменил ежемесячную выдачу обмундирования, запретил выдавать водку, а самогонщиков потребовал отдавать под трибунал.
Расправив складки под ремнем, Николай Дмитриевич продолжал:
— Еще пару слов. Дутовцы бешено формируют части, а мы сидим, сложа руки, и ждем у моря погоды, ждем, когда к нам придет человек и запишется в отряд. Я предлагаю обратиться к казакам с призывом и начать формирование казачьего полка.
— Что, что ты сказал?! — не удержавшись, перебил Абрамов. — Казакам дать оружие, а если они пятый год повторят?
Нуриев подбежал к столу и, обращаясь к Абрамову, проговорил:
— Казак два. Томин, Каретов, Тарасов — один казак. Дутов да Полубаринов — другая. Томин да Каретов оружие даем, Дутов да Полубаринов улгэн[2] делам.
— Теперь не пятый, а восемнадцатый, — раздался твердый бас Тарасова.
— Я сказал то, что думаю, — продолжал Томин. — И прав товарищ Тарасов, что сейчас не пятый, а восемнадцатый. Вы посмотрите, что творится в станицах.
— Федор Степанович, зайди-ка сюда, — отворив дверь, позвал Томин. — Покажи, казак, товарищам, как с тобой офицеры разделались.
Гладков осторожно приподнял рубашку, и все увидели исполосованную шомполами спину, вздувшуюся багровой, кровоточащей подушкой.
— Вот что дутовцы творят над трудовым казачеством! А вы ему боитесь оружие дать.
О формировании казачьих частей спорили долго.
— А где денег возьмем? — спросил кто-то из членов исполкома.
Томина зло взяло.
— Деньги, деньги! — воскликнул он. — А буржуи на что?! Тряхнуть надо их за мошну — и золотой дождь посыплется. Продовольствие, обмундирование, деньги — все это пускай толстосумы дадут, а нет, так душа с них вон!
Полуночные жаркие прения в махорочном дыму закончились решением создать в селах и станицах всего уезда дружины самообороны. Принято было и открытое письмо рабочих и солдат к казакам, предложенное Томиным. В этом письме исполнительный комитет Совета обращался к казачьей бедноте с призывом: вместе со всем народом встать на защиту Советской власти, прекратить междоусобную войну, арестовывать и предавать суду контрреволюционеров. Трудовых казаков приглашали в Троицк на уездный съезд казачьих депутатов. Однако предложение Томина о создании кавалерийского казачьего полка все-таки не прошло.
После той памятной ночи водоворот жизни так захватил Николая Дмитриевича, что он уже не только не мог «все бросить и уехать домой навсегда», а даже не имел возможности оставить город на час.
С однополчанином Томин отправил домой своего коня и письмо жене. Трогательным было расставание Николая Дмитриевича с Васькой, с которым прошел всю империалистическую войну.
Конь был дважды ранен, но всякий раз выносил хозяина из самых отчаянных положений. Годы, ранения и плохой корм при следовании с фронта в Троицк взяли свое: у Васьки открылись старые раны, шея вытянулась, нижняя губа отвисла, ребра выступили.
Поглаживая грудь Васьки, Томин говорил:
— Спасибо, друг, за верную службу, пришла пора отдыхать тебе.
А тот положил голову на плечо хозяина и, словно предчувствуя разлуку, смотрел вдаль грустными, влажными глазами. Вот Николай Дмитриевич поцеловал Ваську в морду, подал товарищу повод и, не оглядываясь, быстро пошел в штаб. Васька повернул голову и жалобно заржал вслед удаляющемуся хозяину.
Жене Николай Дмитриевич написал, что сейчас не может приехать домой, просил не волноваться за него.
…Вместе с Анной жила ее мать Евдокия Ивановна. Женщины погоревали, поплакали и смирились. С любовью и заботой Анна стала ухаживать за конем. Давала вволю отборного овса, выбирала лучшее сено, каждый день промывала и смазывала раны, чистила скребницей, выводила на прогулки. К марту коня было трудно узнать: раны зарубцевались, золотом переливала на солнце шерсть, он гордо стал держать голову, веселым ржанием встречал хозяйку.
В первой половине марта Анна вновь получила письмо от мужа. Она с нетерпением распечатала конверт и стала быстро читать. Евдокия Ивановна сидела за столом напротив, и, хотя не знала, о чем пишет зять, волнение дочери передалось и ей.
— Ну что же ты молчишь? Читай вслух, — попросила мать. — Жив-здоров? Может быть, скоро приедет?
— Жив-здоров, тебе привет шлет. Просит скоро не ждать. Пишет, что с патронами в Троицке плохо, а у нас они лежат в земле без толку. Вот если бы каким-то чудом они оказались в Троицке, хорошую бы службу сослужили. Вот я ему и устрою чудо, — проговорила Анна, и глаза ее озорно заблестели.
— Аннушка, да ты что задумала? — тревожным голосом спросила мать. — Уж не ехать ли решилась? Одна?! В такую даль?! — Евдокия Ивановна всплеснула руками и зарыдала.
— Мама, ну ты пойми, что это нужно Коле! А раз ему нужно, так о чем плакать. Перестань причитать, я еще не умерла, — осердившись, произнесла Анна. — Заводи лучше тесто.
Ночью Анна выкопала три ящика с патронами, пулеметными лентами, гранатами и уложила в сани. Все это Николай Дмитриевич привез еще в сентябре 1917 года, когда приезжал на съезд казаков-фронтовиков в Троицк. Тогда в Куртамыше много болтали про Томина, что он, мол, ограбил имение какого-то помещика и теперь им с Аннушкой на всю жизнь хватит золота. Николай же закапывая ящики, с усмешкой думал: «Это золото еще пригодится!»
С последними бледными звездами провожаемая тяжелыми вздохами матери Анна выехала из ворот дома. Васька, как бы чувствуя скорую встречу с хозяином, с места взял крутой рысью по знакомой дороге.
Позади остались больничные бараки, справа потянулась темная полоса соснового бора.
Два дня пути прошли благополучно.
Чем ближе Анна подъезжала к Троицку, тем реже попадался лес, шире становились степные просторы. День клонился к вечеру, солнечный диск становился все больше и больше, расплывался, багровел. Вот он стал походить на огромную кровяную каплю. «Успею ли доехать до станицы Белоглинской? Как бы не застал буран в пути?» — тревожно думала Анна, ощущая порывистый западный ветер. Понесло поземку. Начался буран. Небо затянулось серой пеленой. Потемнело. Дорогу быстро перемело. Конь, еле переставляя ноги, часто останавливается.
— Вывози, вывози, Васенька, к хозяину едем! — просила Анна.
Конь, как бы понимая мольбу хозяйки, с трудом срывал сани и, отворачиваясь от снежного потока, шел дальше. Вот он стал и, как ни понукала его Анна, не трогался с места. Она ударила его кнутом. В ответ он повернул к ней голову и тихо заржал. В то же время сквозь свист ветра, словно из-под земли, донесся мужской голос:
— Кого бог привел?
Конь подвернул к воротам крайнего дома станицы Белоглинской. Хозяин оказался однополчанином Томина и, узнав, что к нему случайно заехала его жена, принял Анну радушно.
Утром, провожая ее в дорогу, казак рассказал, что кругом Троицка рыщут дутовские банды, и советовал быть осторожнее. Через станицы не следует ехать, а между Зеленым колком и Левобережной свернуть на Черный хутор. Оттуда спуститься на лед реки. Держаться следует левого берега, по правому — полынья. На сугорке будут видны каменные красные здания салотопен. Здесь надо пересечь реку прямо, а там уже свои.
За ночь буря стихла, ударил крепкий мороз, дорога затвердела, и отдохнувший Васька шел легко. На восходе солнца Анна проехала хутор Зеленый колок.
Вот и сверток. Проселок в лощине перемело, и лошадь едва тащила сани. Анна любовалась зимним нарядом берез. Закуржавевшие ветви казались издали гроздьями белого винограда. Солнечные лучи играли в колючих иглах инея…
Вскоре перелесок кончился, дорога поднялась из лощины, и впереди открылась ровная степь. Васька побежал легко, как по первопутку. Все ярче и ярче вырисовывались на горизонте очертания высоких тополей и ветвистых ив.
Мечты Анны о скорой встрече с мужем были прерваны показавшимися всадниками. Они ехали к Зеленому хутору по-над берегом реки. Казаки заметили Анну, пришпорили коней.
— В атаку, Васька! В атаку! — приподнявшись, на колени, взяв вожжи в обе руки, крикнула Анна.
Конь рванул и понес. Ветер свистел в ушах, комья снега из-под копыт били в лицо.
Враги стремительно приближались. Анна схватилась за грудь: пистолет на месте, единственный спаситель от надругательства и пыток.
— Выручай, Васька, выручай! — с отчаяньем в голосе кричит Анна.
Конь мчится. В глазах мелькают строения, тополя, ветлы. При быстром спуске с горы крутой поворот вправо, удар полоза о наледь, и все завертелось. Анна вместе с поклажей очутилась на льду.
— Стой!
Но конь и без того остановился, как вкопанный. Не чувствуя боли в плече и коленях, Анна с лихорадочной быстротой выправила сани и начала забрасывать в них поклажу. Откуда взялась сила? Часто бьется сердце, руки и ноги дрожат. Вот она хватает последний узел и с криком: — «Понес!» — падает в розвальни. Мелькнули скачущие всадники, их искаженные злобой лица. Васька взял галоп, и обрывистые, с бурыми пятнами берега Уя полетели назад.
Река сделала крутой изгиб, Анна увидела на сугорке красные кирпичные здания скотобойни. Слева — обрыв берега, впереди — полынья, справа — Пугачева гора, позади — враги. Куда?
«Э, будь, что будет!» — решает Анна, направляя коня между скалами, лежащими сторожевыми львами при слиянии двух рек. Под копытами его поднялся фонтан брызг.
Преследователи остановились, и Анна услышала их крики:
— Куда, куда чертова баба?
Справа мелькнула в полынье прозрачная вода, а в следующее мгновение Васька выскочил на берег. Красногвардейцы выстрелами отогнали преследователей. Васька несколькими прыжками взял кручу и, качнувшись из стороны в сторону, рухнул.
В исполкоме Совета обсуждался вопрос об усилении обороны города. В то время на местах все военные вопросы решались большинством голосов. Томина это коробило, но скрепя сердце он слушал эту разноголосицу.
Заседание окончилось, все разошлись по своим делам, в кабинете остались трое.
— Вот что, товарищи! — заговорил Томин. — Решение, которое сейчас приняли, пусть остается для будущих историков. Нельзя распылять артиллерию по всем участкам обороны. — На плане города он поставил точку северо-западнее вокзала, продолжил: — Все орудия установим здесь, на господствующей высоте, отсюда, в случае необходимости, мы можем поддержать огнем любой сектор обороны. Здесь же расположим и наши главные силы — 17-й Сибирский стрелковый полк, коммунистический отряд, взвод кавалерии. С остальных направлений город прикроем красногвардейским и мусульманским отрядами и рабочей дружиной.
— Но решение уже принято, и мы не можем его не выполнить.
— Решение, решение!.. Не бумага воюет, а люди!..
— Почему же вы на заседании не сказали об этом? — спросил Абрамов.
— Потому, что такие вопросы голосованием не решаются.
Дверь распахнулась и два красногвардейца ввели белоказака. Парламентер вручил Светову пакет.
Прочитав ультиматум, председатель исполкома передал бумагу Томину.
«Требую немедленного роспуска Совета и частей гарнизона, все оружие и боеприпасы сдать. Атаман Оренбургского казачьего войска, командующий Оренбургским военным округом полковник Дутов».
— Что ж, — рассмеявшись, проговорил Томин, — пускай уж «его высокоблагородие» пожалует сам для такой работы.
— Так и передай Дутову, — сказал председатель укома.
Парламентера увели. В комнате минуту стояла тишина. Первым нарушил молчание Томин.
— Болтаем, а противник нам уже ультиматум предъявил. Решайте, или принимаете мой план, или снимаю с себя ответственность за оборону города и складываю полномочия.
— Не горячись, не горячись! Слишком горячий, — дружелюбно проговорил Светов. — Так и быть, вместе будем ответ держать перед революцией.
Дел у Томина каждый день сверх головы, этот оказался особенно загруженным.
С исполкома он поспешил к начальнику продовольственного снабжения. Большая комната завалена буханками хлеба, банками консервов, колбасой, мясом, мешками с сахаром и солью. Оставался маленький проход к столу, за которым, углубившись в бумаги, сидит Виктор Русяев.
— Ну как, Виктор, дела идут? — с порога спросил Томин и пожал большую руку товарища.
— Смотрите сколько! — глуховато пробасил Русяев, показывая на продукты.
— Добро, — похвалил Томин. — Нам с тобой этого надолго хватило бы, но у нас сотни, скоро будут тысячи. Потребуется много продовольствия, очень много! Лишнего не будет. «Лишнее» можем в Питер, в Москву отправить. Поэтому надо, чтобы тебе не булками носили, а возами везли, обозами. Конфискуй у буржуев самые лучшие склады, возьми на учет все имеющиеся в городе запасы, организуй охрану, бережно расходуй.
— На учет взяты все пекарни, мельницы, скотобойни.
— Вот это правильно. Входишь в курс дела, молодец.
До наступления темноты Николаю Дмитриевичу хотелось побывать у бывших военнопленных мадьяр, австрийцев, немцев. Но они пришли в штаб сами. Их командир доложил, что все, как один, вступают в Красную Армию.
— Спасибо, дорогие товарищи, — растроганно заговорил Томин. — Советская власть никогда не забудет вашей братской помощи. Но все ли вы крепко подумали, прежде, чем решиться на это. Предстоят жестокие бои, а у вас на родине остались семьи. Подумайте. Время еще есть, не поздно отказаться.
Командир повернулся к строю лицом. Подняв над головой сжатый кулак, выкрикнул:
— Все за Советскую власть?!
— Все, все, все! — единым дыханием ответили бойцы. — Да здравствует Советская власть! Ленину — ура-а-а-а, ур-а-а-а!
— Поздравляю вас, товарищи, с организацией интернационального батальона, желаю успеха.
С песней, под развернутым знаменем, батальон стройным шагом прошел по улицам к вокзалу.
…В кабинете командующего Каретов, Тарасов, Гладков. Разговор идет о срочном формировании кавалерийского взвода.
В комнату вошел старик в замасленном пальто, перетянутом сыромятным ремнем. Он снял шапку, обнажив лысую голову с редкими седыми волосами на висках и затылке. На голове резко выделяется глубокий шрам.
— Иногородних берешь к себе? Мастеровой я, пригожусь.
Томин вышел из-за стола, приблизился к старику. Изучающе посмотрел на него.
— Что уставился, купить хочешь? Я ведь не часы с кукушкой.
— Не узнаете, Прохор Фомич?
— Чтой-то запамятовал.
— Книгу вы мне мастерили, библию.
— А-а-а! Как же, как же! Книжечка с буковками. А после листок «Товарищи рабочие!». Купца Луки Платоныча Гирина приказчик.
— Да, имел такое счастье им быть. А что же вас к нам привело, вы же политикой не занимались?
— Эх, парень, парень! — сокрушенно качая головой, дрогнувшим голосом заговорил Фомич и из его выцветших глаз выкатились две крупные слезы. — К чему спросил про то? Сколько годов прошло?! А время, что тебе рашпиль заготовке. Сам посуди: где мне теперь быть? Сын отказался служить царским опричникам, так его повесили, сноху опозорили, дом спалили. Лютуют господа офицеры.
— Успокойся, отец, мы рассчитаемся за тебя с палачами, — сурово заверил Каретов и приподнял шашку.
— Спасибо, парень, но я из своих рук хочу долг вернуть господам хорошим.
— Больно стар, Фомич, куда же мы тебя пристроим? — заметил Томин.
— Мыло серо, да моет бело, не такой уж я хил, как ты думаешь.
Томин немного подумал.
— Пойдете на время в продовольственный отряд, а там видно будет.
— Вот так-то оно лучше… А то — стар…
Домой Николай Дмитриевич пришел поздно ночью. Он занимал комнату, разделенную надвое старым солдатским одеялом. В передней — рабочий стол, телефон, за занавеской — спальня.
Внимание Томина привлек блестящий предмет на столе. Это был трофейный пистолет с империалистической войны. Николай Дмитриевич подошел и с радостным изумлением воскликнул: «Бельгиенок!» Осмотрелся: на диване — гранаты, на полу — ящики с патронами.
— Вот те на, каким это чудом все сюда попало? — протянул Томин. — Дежурный!
…Ласковые, родные руки закрыли глаза. Так Аня часто делала в молодости: подойдет сзади, закроет глаза — угадай, мол, кто?..
— Аннушка! Родная моя! — проговорил Томин, обнимая жену.
Анна прижалась лицом к его плечу.
Вдруг он слегка отстранил ее, не выпуская, взволнованно и гордо любуясь ею, сказал:
— Нет, какая ты, Аннушка? Отныне ты — боевой мой товарищ, Анна… Любимая ты моя!..
Гроза над городом собиралась быстро и неотвратимо. 26 марта дутовские банды перерезали железнодорожный путь на Челябинск, завершив окружение Троицка. В Солодянку, что в пяти верстах северо-западнее Троицка, прибыл сам наказной атаман. Получив на ультиматум отказ, Дутов начал готовиться к штурму.
В городе воспрянули духом враги и недоброжелатели Советов. В купеческих домах ночи напролет шли кутежи, с ехидными улыбками зашныряли по улицам какие-то подозрительные личности. Нахально повела себя рота анархистов. Она отказалась идти в окопы. Главари анархистов, «сшибая» рюмки в купеческих домах, гуляли напропалую.
Томин чувствовал, что дутовцы и троицкая контрреволюция действуют согласованно, но ниточку, связывающую два стана противника, нащупать никак не удавалось.
Ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое марта. Не спится. Чтобы не разбудить жену (Анна Ивановна целые дни проводила в госпитале, приходила поздно, усталая), Николай Дмитриевич тихонько поднялся с постели.
— Ты куда в такую рань? — спросила Анна.
— Спи, спи. Я уже отдохнул.
Николай Дмитриевич освежился студеной водой. Позвонил начальникам участков обороны и, как обычно, действуя по пословице — «лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать», стал готовиться к поездке на передовые позиции.
С улицы донесся шум. Томин быстро вышел в коридор и тут лицом к лицу столкнулся с Наташей Черняевой.
— Сегодня утром, Заячья губа собирается напасть, — быстро произнесла она и тут же от страха прижалась к простенку, кутаясь в шаль. За окном послышался глухой рокот, который вскоре перерос в громкие крики, угрожающую брань.
— Господи! Как же теперь мне, куда? — испуганно спросила Наташа.
— Иди к жене, — ответил Томин и быстро вышел.
Сон улетел, а стук захлопнувшейся за мужем двери болью отдался в сердце Анны. Вместе с Наташей они подбежали к окну и остолбенели: у подъезда освещенная желтоватым светом фонаря бушевала вооруженная толпа. Часовой отчаянно отбивался, но толпа наседала с криками:
— Томина! Томина на расправу!
— Я Томин. Что нужно? — проговорил командующий, выйдя на крыльцо.
Внезапное появление и спокойный, уверенный голос словно холодной водой окатили анархистов: крики оборвались, толпа сдала назад.
— Я вас слушаю, говорите! — звонким, ледяным голосом произнес Томин.
— Зачем отдал этот паршивый приказ! — подступая к нему, с угрозой спросил угрюмый высокий анархист. Папаха, словно узкодонное ведро, надвинута на глаза, в высоко поднятой руке винтовка.
— Пошто обмундировку за март не даешь?
— Сними часовых от погребков!
— Чего с ним разговаривать?
— Бей его! Коли! — стараясь перекричать друг друга, орали остальные.
Томин стоял, не шелохнувшись, ни один мускул не выдавал его волнения. Высокий в узкодонной папахе поднялся на ступеньку крыльца и, обдавая Томина самогонным перегаром, прохрипел:
— Зачем, говорю, обижаешь людей?
— Не глухой, осади! — нажимая на плечо анархиста, потребовал Томин.
— Ты что толкаешься?! — заорал тот. — Рукоприкладством заниматься!
Потрясая винтовкой перед Томиным, поддерживаемый одобряющими криками собутыльников высокий не переставал сыпать угрозы.
— Не ори, говори толком, что надо? — сказал Томин.
Сборище пьяных головорезов, разоружив часового, плотнее придвинулось к Томину, угрожая смять, растоптать его. В стороне стоял Забегиназад. Его взгляд словно говорил: «Рад бы тебе помочь, да не могу, сам заварил кашу, сам и расхлебывай!»
Надо было выиграть время. Вот-вот должны подойти красногвардейцы. Томин быстро сбросил ремень и, распахнув шинель, охрипшим голосом проговорил:
— А ну, колите, стреляйте, гады! Я один и безоружен, вы вооружены и вас много. Колите! Но знайте — приказа своего не отменю. Только последние сволочи могут разбазаривать народное добро. Ежедневно к нам приходят новые бойцы, их надо кормить, одевать. А вы хотите каждый месяц новое обмундирование получать, чтобы тут же его пропить, в карты проиграть. В городах дети с голоду мрут, а вы в три горла жрете, водкой заливаетесь!
— Доволь-но! — как под ножом завопил Заячья губа. — Бваточки, кого вы слухайте! Мы сважались, а он лишает нас всякого удовольства!
Заячья губа, отчаянно работая кулаками, стал пробиваться вперед, с визгом крича:
— Кто в пятом году нашему бвату квовь пускал?! Кто нас в кандалы заковывал? Казаки, бватки, казаки! Так что вы смотвите на казачье отводье?
Томин насквозь видел эту толпу. Основную массу ее составляли бывшие солдаты царской армии, привыкшие к муштре, а теперь развращенные и разболтавшиеся. Многие попали в банду анархистов случайно, тяготятся своим положением, но порвать с ней боятся. Надо сейчас, сейчас вот не упустить решительного мига и взять в руки эту распоясавшуюся толпу.
Заячья губа пробился вперед и, прокричав: «Коли его!», присел, чтобы сделать выпад штыком.
— Смир-р-но! — внезапно прогремела властная, как труба боевого сигнала, непреклонная команда То-мина.
И толпа замерла. Еще секунду назад плюгавый человечек был страшен своим безобразным, злым видом: на голове величиной с кулак, большая, опушенная заячьим мехом шапка с завязанными назад ушами, из-под шапки сверлили маленькие, словно у хорька, злые зеленые глаза. Теперь же этот человек был жалок до смешного. Он застыл в том положении, в котором застала его команда. Сердце у него от страха зашлось, он зажмурился, ожидая удара.
А в морозном воздухе звонко и неотвратимо раздавалась команда, которая не давала людям опомниться, заставляя только повиноваться:
— Кру-гом! Ша-го-м, ар-ррш! Стой! Кру-го-мм! Рав-няйсь! Смирно!
Томин твердым шагом подошел к строю и, выхватив из рук анархиста древко с черным полотнищем, строго спросил:
— Что это за тряпка?
— Знамя, — ответил тот неуверенно.
— Зна-а-мя! — протянул Томин.
Он сорвал с древка полотно, распластнул его надвое и швырнул под ноги.
— Запомните: у революции есть одно знамя — красное!
Затем Томин приказал Забегиназаду и Заячьей губе выйти вперед.
— Бросайте оружие!
Побросав на землю маузеры, шашки и гранаты, запевалы бунта попятились назад.
В это время из-за угла вышел небольшой продовольственный отряд. Виктор Русяев с тревогой спросил:
— Что случилось?
— Кое-кому мозги вправляю, — ответил Томин и приказал арестовать главарей бунта.
Повернувшись к строю, Томин отдал команду рассчитаться по порядку номеров.
— Тридцать пятый, два шага вперед ар-рш!
Им оказался высокий анархист в папахе, похожей на узкодонное ведро.
— Фамилия?
— Верзилин.
— Верзилин — командир. Веди этот взвод на вокзал. А ты, — обратился Томин к коренастому бородачу, — командир второго взвода. На Меновой двор! Через полчаса всем быть на местах. Там кровью искупите свою вину перед революцией.
Атаман Дутов в Солодянке ждал сигнала из Троицка о поднявшемся мятеже. Назначенное время прошло. Дутов, поминутно поглядывая на часы, нервничал, метал громы и молнии. Разведка донесла, что рабочие отряды Блюхера, посланные из Екатеринбурга и Челябинска, стремительно приближаются, сбивая по пути казачьи пикеты, восстанавливая мосты и железнодорожные пути.
Атаман решил во что бы то ни стало взять Троицк до подхода к противнику подкрепления.
— Ну, есаул, где ваше восстание? — сурово, с нескрываемой злостью спросил Дутов Полубаринова.
Тот отвел глаза от пристального взгляда, замешкался с ответом.
— Я кого спрашиваю? — повторил Дутов, бычья шея побагровела, глаза налились кровью, брови свирепо нахмурились.
— Не могу знать.
— Как «не могу знать»! — взревел атаман. — Вы кол осиновый, а не казачий офицер. Разве не вам я приказал, чтобы лично руководили восстанием? А вы?! Надежные люди, надежные люди… Вот вам и надежные! Вы на кого работаете?
Наказной глянул на часы.
— Полковник, — наступать! Досидимся, что Блюхер нам на хвост наступит. Эту дерюгу послать в самое пекло, — махнул он рукой в сторону Полубаринова, — да не спускайте с него глаз. Мне сдается, что он оборотень.
Солнце поднялось и растопило туман.
Командный пункт в районе железнодорожной станции — это большой окоп с высокими краями из снежных кирпичей. Томин приник к биноклю, оглядывая холмы.
Тишина… Кажется, что все живое застыло в этот морозный мартовский день: и город, раскинувшийся в котловине, и безбрежная степь, замкнувшая его со всех сторон. В окопах, сжимая окоченевшими руками винтовки, замерли боевики. Позади правого фланга пехоты, на склоне сугорка, замаскирована артиллерия. За паровозным депо резерв: батальон интернационалистов и взвод кавалерии.
Все приготовлено к отпору. Войска расположены так, как приказал командующий, но все же Томину тревожно, как никогда.
Вдруг земля чуть-чуть вздрогнула. В противоположном конце города, в районе Менового двора, разорвался первый снаряд.
— Ишь, канальи, комедию разыгрывают, — процедил сквозь зубы Томин.
Под прикрытием артиллерийского огня вражеские цепи пошли в атаку, сбили маленькую горстку защитников рубежа, захватили Меновой двор. Красногвардейцы отошли к Степановской мельнице.
На минуту Томина взяло сомнение в правильности принятого решения и появилось неудержимое желание открыть по наступающим артиллерийский огонь. «Отставить!» — приказал он себе и с холодным спокойствием продолжал наблюдать за ходом боя.
Вот по лицу командующего пробежала довольная улыбка. Противник не бросает резервы в бой, не развивает успеха. Значит, не туда направлен главный удар, и правильно сделали, что не раскрыли врагу свои карты.
Между тем не все понимали это. В бою часто бывает, что бойцы, не зная положения на других участках обороны и не разгадав замысла врага, считают: именно на них противник бросил все свои силы, поэтому их направление является главным.
На взмыленном коне к командному пункту прискакал вестовой, передал Томину записку. Начальник сектора обороны требовал немедленной помощи.
— Передайте Нуриеву — резервов нет, — ответил Томин. — Приказываю отбить Меновой двор и занять прежние позиции.
Вестовой ускакал, а через минуту новое требование: если не будет подкрепления, отряд оставит тюрьму и красные казармы.
И снова тот же ответ:
— Помощи не ждите, держитесь до последнего!
Красноармейцы, находящиеся возле командного пункта в районе вокзала, зароптали:
— Товарищи там из сил выбиваются, а мы сидим, куда только командир смотрит.
Все чаще стали раздаваться телефонные звонки: требовали, угрожали трибуналом, приказывали дать срочно объяснения.
— После боя разберемся. Некогда! Не мешайте!
Николай Дмитриевич понимал чувства несведущих в военном деле людей и поэтому относился к ним терпеливо. Но когда с таким же требованием пришли к нему старые вояки Каретов и Тарасов, Томин рассвирепел:
— По местам! Расстреляю как предателей революции…
Волной воздуха, взбудораженного пролетевшим снарядом, с Томина сорвало папаху. Раздался взрыв. До основания разрушило стену КП.
Рвутся снаряды, гудит земля под ногами, стонут раненые, а Томин все с тем же стальным спокойствием продолжает наблюдать за безлюдной степью.
У горизонта, над лощиной, все еще стояла темно-фиолетовая изморозь. Из нее, как из дымовой завесы, муравьиной цепочкой выкатилась пехота. Артогонь внезапно прекратился, и стали хорошо различимы фигуры солдат, идущих враскачку, словно по зыбкому болоту. Цепи приближаются все быстрее и быстрее. Нависшая над окопами тишина оказалась для боевиков страшнее самого сильного огневого шквала. Томин понимал, как тяжело бойцам сохранить самообладание перед надвигающимся врагом, и опасался, чтобы кое у кого не сдали нервы, не раздался бы выстрел раньше времени. Тогда откроется беспорядочная пальба, которую уже ничем нельзя будет остановить, и все будет испорчено.
Командующий некоторое время выжидал, потом требовательно глянул на связиста. Тот завертел ручку полевого телефона.
— Артиллерия! Шрапнелью по врагам революции, огонь! — скомандовал Томин.
Могуче выдохнули пушки, над головами атакующих с треском разорвался воздух, повисли дымчатые шары. Шрапнель пачками валила дутовцев, но подгоняемые сзади офицерами солдаты бежали вперед. Вот цепи миновали поражаемое артиллерией пространство и кинулись на окопы.
Томин вскочил и рванулся вперед, подняв над головой наган, прокричал:
— За мной, в атаку! У-рра-аа-а!
— У-р-ра-а! У-р-р-а-а! — упругой волной покатилось по снежному полю.
Враги столкнулись. Дрались молча. Только изредка у кого-либо вырывался крепкий мат или тяжелое «хах!».
Томин оказался в самой гуще схватки.
Чуть поодаль маячила папаха-ведро бывшего анархиста Верзилина. Под его могучими ударами снопами валились дутовцы.
— Молодец! Бей их, круши! — спеша на помощь, прокричал Томин.
Люди, кажется, только и ждали этого возгласа.
— Бей! Круши буржуйских холуев! Так, так! Бей! Коли! — в грозный, могучий клич слились разрозненные крики.
Центр неприятеля, где дрался Томин, не выдержал, побежал. Покатились и фланги. Командующий распорядился подобрать своих убитых и раненых и залечь в окопы.
Передышка была короткой. Дутовцы вновь открыли ураганный огонь.
— Казаки! Казаки! — раздался панический вопль.
Белоказаки с диким криком и свистом вынеслись из лощины и стальным валом покатились на окопы. Их расчет был прост: стремительной атакой разрубить надвое оборону, все смять, изрубить, открыть ворота пехоте.
На правом фланге началась паника. Еще минута — паника охватит всех, тогда конец.
Томин, быстро отдав приказ резервным отрядам, вскочил на коня и помчался туда, где красногвардейцы спасались бегством.
— Стой! Назад! — отрезав путь паникерам, закричал он. — Ложись! По врагам революции, огонь!
Застрочили пулеметы, захлопали винтовочные выстрелы. А Томин уже мчится к центру, куда направлен основной удар.
Тем временем артиллеристы, рискуя поразить своих, открыли ураганный огонь прямой наводкой. Падали кони, кубарем валились казаки, а лава неудержимой волной катилась вперед, угрожая слизнуть редкие цепи защитников города.
— Молодцы!.. Молодцы!.. — восхищается Томин работой пушкарей. — Только бы вот резервы не подвели…
Еще минуту, ну, самое большее две — и вражеский удар, хотя и ослабевший от ураганного огня, но все еще могучий, обрушится на цепи красноармейцев.
Но вот снова застрочили пулеметы, раздался дружный винтовочный залп. Это отряд интернационалистов ударил по флангу врага. И как бы отвечая пулеметной скороговорке, справа раздалось громкое ура. Из засады выскочил взвод кавалеристов Каретова.
— Окружены! Засада! Окружены! — завопили белоказаки, вздыбив коней.
— В атаку! — гаркнул Томин, и его клинок, со свистом описав дугу, блеснул на солнце.
Случилось невероятное. На вражескую кавалерию поднялась в атаку красная пехота. На такой подвиг могли пойти только бойцы новой революционной армии, знающие, что они защищают, за что идут в бой.
Показалась знакомая фигура перебежчика Полубаринова. Тот, увидев Томина, начал отчаянно хлестать и пришпоривать коня.
— А, бестия! Встретились! — в азарте закричал Томин и натянул повод. Киргиз быстро набирал скорость, дистанция заметно уменьшалась. Полубаринов стал «бросать» коня из стороны в сторону. Еще мгновение и Томин снес бы предателю голову, но вдруг Киргиз засек переднюю ногу, стал припадать на нее, заметно отставая. Полубаринов на глазах уходил. Вот он спустился в лощину и скрылся с глаз.
В час жестокой сечи, когда все спуталось в один громадный катящийся клубок, троицкая артиллерия перенесла огонь на станицу Солодянку. Это явилось как бы сигналом для рабочих отрядов Блюхера, которые подошли с севера. Цепи поднялись и с криком ура ударили по флангу противника. Бросая убитых и раненых, дутовские банды кинулись бежать. Впереди всех на резвом белом скакуне уносил ноги наказной атаман, полковник Дутов.
У опушки небольшого колка встретились командующий Восточным отрядом Василий Константинович Блюхер и командующий войсками Троицкого уезда Николай Дмитриевич Томин. Они обменялись крепкими рукопожатиями, как старые боевые друзья, хотя до этого встречаться им не приходилось.
Над городом опустилась звездная ночь. На горизонте по небосводу разливается багровый отсвет горящей Солодянки. Пылает осиное гнездо контрреволюции.
Держа коней под уздцы, в молчании идут Блюхер и Томин. За ними с опущенными головами шагают красноармейцы и интернационалисты. На носилках, сделанных из винтовок, несут погибших товарищей.
В ворота Гирина вошли четверо: Русяев и Фомич в сопровождении вооруженных боевиков.
Прочитав мандат начальника продовольственного снабжения гарнизона, Гирин расплылся в умильной улыбке и протянул:
— Русяев Виктор. Уж не Сергея ли Русяева сынок?
— Он самый.
— Витюша! Ну давно ли ты под стол пешком бегал. А вот уже и до начальника дорос, подстригаешь купчикам крылышки. Молодец, Витюша, молодец! Революция требует жертв…
— Мне некогда с вами, дядя Лука… гражданин Гирин, разговоры разводить, — прервал купца Русяев. — Нам нужны деньги.
— Деньги?! Витюшенька, ну какой же купец в кубышках держит деньги? В банке мои денежки лопнули.
— Ну, положим, в Челябинском банке у вас лопнуло триста тысяч. Четыре вы отдали Полубаринову на подкуп Томина. А остальные где?
Когда Русяев назвал цифру четыре тысячи, у купца чуть не сорвалось с языка «пять». Но он сдержался, а про себя отметил: «Тысчонку все же хапнул». И поймал себя на том, что подумал об этом без сожаления.
— Найдете — ваше, — проговорил Гирин. — Не найдете — не обессудьте. На нет, как говорят, и суда нет. Можете разобрать дом весь по кирпичику — денег у меня нет.
— А ты, милый купец, открой сейф, может, и не придется разбирать дом, — потребовал Фомич. — Недосуг нам твои хоромины рушить.
Гирин вошел в боковую комнату. Единственное окно, выходящее в чулан, закрыто на железный ставень.
— Ищите! — бросив на кассу ключи, проговорил купец и опустился в кресло.
Боевики начали осматривать сейфы, а Фомич, сняв шапку и обнажив свой лоб с глубоким шрамом, навалился спиной на печь. Он прищуренным взглядом смотрел на Гирина и улыбался в седые усы. Гирин заметил эту улыбку, этот прищуренный взгляд, и вдруг сердце его словно опустили в холодную воду. Что-то мелькнуло из прошлого, но работа бойцов отвлекла его от воспоминаний, он постарался отогнать прочь мелькнувшую догадку.
Красногвардейцы нашли в сейфе несколько золотых монет да кипу деловых бумаг.
— И это все? — спросил Русяев, показывая на монеты.
— Все, — ответили дружинники.
— Все ли? — все с той же усмешкой переспросил Фомич. — Дай-ка я гляну, — и он шагнул к сейфу.
С диким рычанием Лука Платонович метнулся навстречу старику. В этот миг единственным желанием купца было схватить Фомича за глотку. Но тот ловко увернулся, а дорогу Гирину преградили штыки и маузеры.
— Не скандалить, гражданин купец! — спокойно посоветовал Русяев.
— Аль узнал, Лука Платоныч, старого мастера? Давненько, давненько это было. Почитай, больше десяти лет прошло, как ты кокнул меня по темячку. Тяжелая рука у тебя и тогда была, а теперь, небось, еще потяжелела от капитала-то! — явно издеваясь над купцом, говорил Фомич не спеша. — Хорошо ты тогда меня угостил за труд мой праведный, метинка-то и сейчас живет. Думал вместе со мной захоронить тайну сейфа, как Демидовы хоронили. Обмишулился. Спасет тебя господь за то, что глубоконько ты меня в снег закопал, а то бы, прежде чем очухался, замерз. Хотел на тебя в суд подать, и то подумал: «С богатым судиться — лучше в море утопиться». Свидетелей у меня не было, кто поверит. Махнул рукой — и дай бог ноги. Зато теперь сквитаемся.
Гирин опустился в кресло и, принял свою обычную позу, устремил ничего не видящий взгляд на печку.
Фомич залез в средний сейф пошарил рукой по стенке, нажал… и распахнулся купеческий тайник.
МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ
Рабочие отряды Красной Гвардии под командованием Василия Константиновича Блюхера гнали дутовцев все дальше и дальше на юг от Троицка. Эхо боев затихало. Над степью вставало безоблачное небо. Наступила весна, первая советская весна для хлебопашца.
Однако то тут, то там вспыхивали кулацкие мятежи, да и белоказачьи банды не давали покоя. Троицкий Военный Комиссариат спешно создал Экспедиционный отряд для борьбы с бандитизмом и контрреволюцией. Командовать им поручили Томину.
Ранним апрельским утром отряд выступил в поход.
Вместе с мужем из Троицка выехала Анна Ивановна. У развилки дорог Николай Дмитриевич простился с женой.
Анна Ивановна проводила мужа печальным взглядом, тяжело вздохнула и погрузилась в невеселые думы. «Сколько же раз можно провожать любимого в неизвестность, сколько же раз может болеть сердце? Говорят, что привыкают к разлуке. Нет, неправда это. Новые проводы, новые расставанья — сердце болит еще сильнее. Оно не болело так, когда провожала мужа первый раз на войну, в июле четырнадцатого года.
Много ли годов прошло? Кажется, повидаться не успели, и вот снова разлука. И снова — под пули, навстречу смерти!..»
Выполнив задание, Экспедиционный отряд вернулся в Троицк и был расформирован.
Многие не поняли обстановки. Решили, раз контрреволюция в их крае разбита, то можно и по домам: жена ждет, земля тянет, зовет.
Вместе с председателем укома партии Абрамовым, председателем исполкома Световым и другими товарищами Томину пришлось не один раз выступать в ротах 17-го Сибирского полка, объясняя красноармейцам, что рано еще разъезжаться по домам.
Часть была не только сохранена, но и пополнена новыми бойцами. Она получила другое наименование — 17-й Уральский стрелковый полк.
А тем временем военная обстановка в крае снова осложнилась.
Отряды Блюхера, разбив в апреле основные части дутовцев, не сумели захватить главаря: Дутов бежал в Тургайскую степь, и весеннее половодье помешало преследовать его. Теперь атаман вновь выполз.
Двадцать пятого — двадцать шестого мая восстал белочешский корпус в Сызрани, Златоусте, Челябинске. Стало ясно, что внутренняя и внешняя контрреволюция действуют по единому, заранее разработанному плану.
Томин, Каретов, Тарасов, как только узнали о восстании белочехов, сразу же явились в уездный комитет партии и предложили организовать красные казачьи части.
— Напрасно вы, товарищи, паникуете, — устало и с недовольством заговорил Абрамов. — Все это временное явление и…
— Советам конец, если белочехи ударят с севера, а дутовцы — с юга, — подхватил в тон ему Томин. — Вы все еще не верите казакам, а без кавалерии нам не обойтись.
Для обсуждения столь важного вопроса созвали Чрезвычайный уездный съезд Советов.
— Мне непонятно, почему товарищ Абрамов и некоторые другие против организации кавалерийских частей из казаков, — начал свое выступление Томин. Он весь внутренне собрался, словно сжатая пружина. — Эту политику еще кое-как можно было понять в период первой обороны Троицка: тогда вы не верили казакам и боялись, что они повторят девятьсот пятый год. За это время трудовое казачество, хватившее фронта, доказало, что оно за Советскую власть! Вот в газете один молодой казак сказал вроде бы за всех нас.
Томин зачитал:
«Армия нам необходима, это защита от наших врагов. Если придет враг, буду биться с ним до смерти, если Дутов попадется, ему несдобровать, если даже отец пойдет против Советской власти, я его убью».
Так думает и говорит трудовое казачество. Оно нынче ума набралось — большевики и Ленин ему многое растолковали. Так-то, времена другие и казаки стали другими.
Споры были жаркими, и наконец съезд большинством голосов решил сформировать кавалерийский полк из казаков-фронтовиков, а для этого направить в станицы агитаторов.
С восходом солнца агитаторы в разных направлениях выехали из Троицка.
Станица Соколовская вытянулась ровными, словно шеренги солдат на смотру, улицами.
В ясный теплый полдень Томин ехал по улице, ведущей к центру. По щиколотку утопая в песке, Киргиз шел медленно, устало.
На площади, перед станичным. Советом, многолюдье.
«С чего бы это сход? Неужели дутовские агитаторы опередили?» — подумал Николай Дмитриевич.
К станичному Совету Томин подъехал никем не замеченный. Привязал коня и подошел к крыльцу, которое служило трибуной.
За столом, накрытым красной скатертью, стоял председатель станичного Совета Федор Гладков. Низкорослый, с широкими покатыми плечами, он уверенно вел сход. Молоденький казачок, секретарь Совета, низко опустив голову, так, что его рыжие волосы касались бумаги, строчил протокол.
Сход решал вопрос о переделе сенокосных угодий. Казачья беднота и иногородние требовали разделить покос по едокам. Зажиточные казаки отстаивали прежние порядки, при которых иногородние и женщины-казачки земли вообще, а значит и покосов, не имели.
— Царя-батюшку провоевали, Расею немцам продали, над верой христовой надругались, а теперь на чужое добро заритесь? — сыпал добротно одетый дядя с окладистой бородой; черные волосы кустятся у самых глаз. В станице его прозвали «Мохнатый Пес».
— Земля ничейная и по Декрету Советской власти на нее равное право имеют все, — раздался голос из толпы.
— Не перебивайте гражданина Гибина, — потребовал Гладков. — Пусть выбрешется до конца.
— Брешет твой кобель, — огрызнулся Гибин.
— Мы его брехню давно слышим, надоело, — недовольно откликнулись казаки.
— А ты, Федор, взялся за дело, так веди сход, как положено. Декрет о земле у тебя есть, вот и действуй, как там написано.
А Гибин продолжал:
— Понаслухались смутьяна Томина и как энти самые птицы твердите: Советы, Советы… Часуют ваши Советы, не сегодня-завтра отходную им пропоем, — распалился он и топнул подкованным сапогом. — А из Томина вашего саморучно кишки выпущу и на плетень развешаю сорокам на корм. И вот вам, а не земля! — Гибин выставил кукиш.
Гладков не стерпел, стукнул по столу и крикнул:
— Бреши, да знай меру!
Народ взбудоражился. Большинство требовали прогнать выступавшего с крыльца, богатеи поносили большевиков, поддерживали Гибина.
— Разрешите пару слов, — и Томин в один миг оказался на крыльце.
— Томин! Кольша!.. Николай Дмитриевич! — смешались воедино удивленные, радостные и злобные возгласы людей.
— Николай Дмитриевич! Как это тебя занесло к нам? — спросил обрадованный Гладков.
— Сейчас узнаешь, — спешно пожимая руку Гладкова, ответил Томин.
— Слово имеет председатель казачьей секции Троицкого Совета рабочих, крестьянских, казачьих и мусульманских депутатов товарищ Томин! — объявил Гладков.
Томин обвел всех пристальным взглядом.
Две враждебные группы стояли перед ним. Слева фронтовики, казачья голытьба, иногородние крестьяне, которых казаки называли «мужланами», справа — богатеи в казачьей форме, при крестах и медалях.
— Товарищи! Вот вы кричите на гражданина Гибина за то, что он накаркивает беду на Советскую власть, а ведь он прав. Вы спорите здесь о покосах, а тем временем буржуи наступают Советской власти на горло. В Челябинске, Кургане, Златоусте, Уфе, Самаре, в Омске Советская власть свергнута белочехами. Как змея ползает по нашей земле атаман Дутов. Ежели сумеем мы отстоять свою власть, — и пашни, и покосы будут наши, и все мы будем свободными. Не сумеем — то все пойдет по-старому, и по-прежнему из нас будут тянуть жилы кулак Гибин и такие же кровососы, как он.
— Голодранец! Ты што-о, большевистский холуй, поносишь честного человека?! — завопил Гибин, хватаясь за рукоять бебута[3].
— В клинки его! — рявкнуло сразу несколько голосов, и сторонники Гибина прихлынули к крыльцу.
Фронтовики и беднота поднажали сбоку, оттеснили станичников. И началось! Каждый хотел перекричать других, пустить в ход кулаки и оружие.
— Кончай базар! — гаркнул Гладков и так хватил кулаком по столу, что граненый стакан, подскочив, упал на пол и разлетелся вдребезги. — Народ притих, а Федор продолжал: — Очумели, что ли, черти полосатые? А вас, гражданин Гибин, за угрозы оружием можем привлечь к ответственности.
— Заткнуть ему, Мохнатому Псу, брехалку! — выкрикнул кто-то из фронтовиков.
— В холодную его, обдиралу, — поддержали другие.
— Нашумелись? — спросил Томин. — Теперь давайте спокойно о деле поговорим. Так вот, чтобы гражданин Гибин и ему подобные не верховодили, надо с оружием в руках защищать родную власть, свои права. Вы помните, о чем мы с вами договаривались зимой?
— Помним! — отозвались однополчане.
— Раз так, то пришло время точить клинки и седлать коней. Вчера Чрезвычайный съезд Советов Троицкого уезда принял решение о создании кавалерийского полка. Кто хочет вступить в полк красных казаков, стройтесь в две шеренги! Кто думает отсидеться в такую годину в кустах — может идти до дому!
Наступило гнетущее, тяжелое молчание. Федор Гладков медленно спустился по ступенькам, повернулся лицом к Совету, вытянул в сторону правую руку и скомандовал:
— Становись!
Добровольцы построились, выровнялись.
— Завтра с восходом солнца выступаем, — объявил Томин. — А сейчас по домам, готовиться в путь.
Всю ночь не спала станица. Одни готовили обмундирование, сбрую, другие до рассвета проговорили о будущих походах, о том, успеют ли справиться с врагом до сенокоса, давали наказы близким, родным. С рассветом добровольцы собрались на площади. Провожать пришла почти вся станица.
Казаки, окруженные семьями, тихо беседуют. В одном месте слышится плач, здесь — наставления беречь себя, в другом — отец наказывает ребятишкам слушать материно слово.
Федора Гладкова провожает вся большая семья.
— Не любишь ты нас, Федя, — шепчет жена.
— Люблю я вас, Настенька, всех люблю, да без Советов жизни нам все равно не будет.
— По коням! — раздается команда.
Площадь заголосила, застонала.
— Не пущу! Не пущу, не уезжай, тятенька!.. На кого ты нас покидаешь? Погибнем без вас!.. Замучают нас проклятущие!
Добровольцы, отрывая от себя близких, садятся на коней.
— Дай хоть за крепость проводить, — умоляюще просит Анастасия Гладкова.
— Не надо, Настенька: дольше проводы — больше слез.
С первыми лучами солнца отряд в шестьдесят сабель выехал из станицы. Впереди Томин и Гладков с развернутым Красным Знаменем.
Когда кони вступили на мост, грянула старинная песня казаков:
Справа от дороги потянулись пашни: в трубку выходила рожь, зеленым ковром тянулась пшеница, кустился овес. Возле берега реки раскинулись заливные луга с белесыми кустами тальника. Склонились кисточки метлика; голубеют колокольчики; бодро держит фиолетовые головки дикий клевер; бледные ниточки вязиля обвивают дудочки камышинки; кустится дикий лук; распускает шапки над пышной порослью молочай. С реки тянет прохладой.
Песня смолкла, добровольцы призадумались.
— Управимся ли до Петрова дня? — тяжело вздохнув, спросил один казак своего соседа.
— Бог даст, небось, справимся…
Из молодого березового колка выехали два всадника и рысью направились к отряду.
Первый — Аверьян Гибин, младший сын того Гибина, который выступал против Томина. Картуз ухарски сидит на затылке, из кольца в кольцо вьются смоляные кудри. От быстрой скачки и утреннего солнца горят щеки. Острый нос с горбинкой нависает над тонкими губами. Темная вышитая косоворотка перетянута узким ремешком, на ногах — хромовые сапоги.
С ним работник Гибиных — Павел Ивин. На его голову словно брошен пучок переспелой соломы, серые глаза с желтым оттенком наивно улыбаются, круглое лицо усеяно конопатинами. Домотканая рубаха подпоясана плетеным пояском, пестрядинные полосатые штаны засучены до колен, босые ноги мокры от росы. За спиной старенькая балалайка с красным бантом на грифе.
— Аверьян?! Зачем пожаловал? — настороженно спросил Гладков.
— В отряд записаться, — выпалил тот.
— А знаешь ли ты, кудрявый, куда и зачем мы едем? — задал вопрос Томин.
— Знаю, — поспешил Гибин. — За Советы биться едете.
— Это как же так? Твой отец наш вражина, а ты к нам? — допытывался Гладков. — Убег, что ли?
— При Советах, говорят, кого любишь, на той женишься, — объяснил Аверьян и покраснел.
— Интересно, интересно! Расскажи-ка поподробней, — попросил Томин, отъезжая в сторонку.
И Аверьян поведал о том, что в селе у него есть любимая девушка, а отец хочет женить его на горбунье из хутора, единственной наследнице богача. Так он поступил со старшими сыновьями, а теперь добирается и до него. Когда отец узнал, что Аверьян будет отцом, а его любимая — матерью, сильно разгневался, выпорол Аверьяна и подачкой решил откупиться от бедной сироты.
— Правду он говорит? — спросил Томин товарищей.
— Правду, — ответили казаки.
— Что же ты в отряде будешь делать?
— Что? Рубить!.. — Парень вдруг вздыбил коня, помчался по дороге.
Аверьян мастерски выполнил «ножницы», на полном скаку сделал на руках стойку. Вот он повернул Игривого, бросил повод и вскочил коню на спину. Даже у бывалых рубак оборвалось сердце. Аверьян бултыхнулся вниз головой, обвив шею жеребца ногами, повис безжизненно. Конь остановился, а в следующее мгновение Аверьян был уже у него на спине.
— Молодец! Молодчага! — похвалил Томин. — Ну как, товарищи, возьмем?
— Возьмем, — хором ответили добровольцы.
— А что ты умеешь делать? — спросил Томин Ивана.
Павел улыбнулся:
— Я целый день могу играть на балалайке и куплеты складывать.
— Прихвастнул! Так уж и целый день?
— Вот те крест, — сказал Павел и перекрестился.
— Ну, раз побожился, то проверим и возьмем. Бой без музыки, что чай без самовара.
Дружки заняли место в строю рядом с Томиным. Павел ударил по струнам и запел:
Он передохнул и заиграл снова. Аверьян продолжил:
— А ведь и впрямь здорово получается! — воскликнул Томин. — А ну, что-нибудь повеселее…
Под собственный аккомпанемент Павел загорланил:
И с этими словами он повернулся к Аверьяну. Тот надулся и грубым басом прогудел:
Раздался взрыв хохота.
Гибин привел восемнадцать лошадей. Добрый подарок сотне.
В пути отряд пополнялся: в него вливались и одиночки, и группами — все, кто сообразил, что за печью не отсидеться от дутовцев.
На закате солнца сотня вступила в Троицк.
Возвратились с добровольцами и Каретов с Тарасовым.
Но не все агитаторы вернулись, часть погибла от рук белогвардейского казачества.
На призыв Троицкого Совета проселочными дорогами и трактами потянулись в город добровольцы. Безлошадные пополняли 17-й Уральский полк. Мадьяры, немцы, австрийцы направлялись в интернациональный батальон. Кавалеристов свели в полк, который на общем собрании, по предложению Томина, торжественно нарекли 1-м Революционным Оренбургским социалистическим полком имени Степана Разина. Командиром полка избрали Ефима Мироновича Каретова, командиром первой сотни — Томина, второй — Тарасова, третьей — Гладкова.
Николай Дмитриевич энергично начал готовить конников своей сотни к боям. Базарную площадь превратил в учебный плац, из конца в конец ее расставил лозы.
Рубит Аверьян Гибин. Одна лоза, срезанная ловким ударом, оседает, вторая — падает.
— Повторить! Руби лезвием на четверть от конца, а не срединой, — терпеливо объясняет Томин.
Аверьян выезжает для повторной рубки. Перед тем, как пустить коня, оглянулся. Проскакав по мосту, на площадь стремительно несется пара вороных, запряженная в дрожки.
— Отец! — встревожился Аверьян. — Вот принесла нелегкая.
Гибин-старший, с взлохмаченной бородой, с горящими от гнева глазами, легко выпрыгнул из коробка и с угрожающим хрипом:
— Сучий ты сын! Из дома родного бежать, мать бросить! — подбежал к Аверьяну, стащил с коня.
— Тихо, батя! Чего шумишь? — будто тисками сжимая руку отца, прошептал Аверьян.
Егор Гибни как-то сразу обмяк. Он понял, что это уже не тот безответный Аверьян, из которого можно веревки вить и, сдерживаясь, попросил:
— Пойдем к ходку, побалакаем.
— Ладом поговорить можно, — согласился сын.
— Слышь! Забирай коней и домой, свадьбу справлять, уж бери свою Ольгу!
— Поздно! — отрезал Аверьян. — Я присягу принял.
— Что? Что ты сказал, сучий сын? Сатане продался?! Забирай коней и домой, — шипел отец. — Христа продаешь! Смутьяна Томина послушал. Я кому сказал, собирайся! Живо!
Аверьян молчал, и это еще больше взбесило отца. Он замахнулся плеткой, но сзади руку задержали.
— Не маши, дядя, нынче это тебе не дозволено, — спокойно проговорил Томин.
Зверем взвыл Гибин-старший.
— Будьте вы трижды прокляты, анафемы! — прокричал он, пал в коробок, и кони понесли, взбивая серую пыль.
А тучи снова собрались над городом.
13 июня 1918 года белочехи предприняли первое наступление на Троицк.
Главный удар врага приняли 17-й Уральский стрелковый полк, батальон интернационалистов, коммунистическая рота и троицкая батарея. Неприятельские цепи наступали под прикрытием бронепоезда. В критический момент боя машинист депо большевик Афанасий Гаврилович Мотов повел паровоз навстречу бронепоезду. Затаив дыхание, красноармейцы смотрели, как локомотив на большой скорости врезался в бронепоезд, и оба свалились под откос…
— Все! — проговорили друзья и сняли шапки.
Но Мотов остался жив: он на ходу выпрыгнул из паровоза.
Потеряв много убитыми и ранеными, противник откатился. Началась спешная подготовка к обороне города. Ночь с 17 на 18 июня пролетела в жарких спорах, в обсуждении множества планов отпора врагу.
Когда командиры вышли из прокуренной комнаты на крыльцо, на горизонте уже показался гребень оранжевого солнца. Начался тихий, безоблачный день. Внезапно в центре города разорвался снаряд. За ним второй, третий. В городе, как пожар в жаркую погоду, вспыхнула паника. Красноармейцы 17-го Уральского полка, размещенные по частным квартирам, не имея точных указаний, как действовать на случай тревоги, заметались по улицам. Бойцы коммунистического отряда спешили к сборному пункту.
Командование растерялось, и части, не имея над собой единого руководства, действовали по своему усмотрению, на свой страх и риск.
Первым на пути врага встал отряд интернационалистов. Но не выдержал, отошел к мосту. Белочехи заняли Амур (так называется часть города по левому берегу Увельки).
В этот лихой час командиры полка имени Степана Разина прибыли к казармам. Здесь уже все было готово к бою. Кавалеристы держали под уздцы скакунов.
— Разрешите доложить! — нарушая воинские порядки, обратился прямо к командиру сотни Аверьян Гибин. — От Бобровки на Троицк идут казаки.
— Далеко? — спросил Томин.
— Версты две, — отчеканил тот.
— Положение хуже некуда. Решай, Ефим Миронович.
И комполка Каретов, сам немного растерявшийся, приказал сотням Томина и Тарасова немедленно выступить против белочехов, сотне Гладкова — против дутовцев. Сам он с резервом остался на командном пункте.
Томин повел свою сотню. По руслу мелководной Увельки вышел незамеченным на сопку и беркутом накинулся с тыла на цепи белочехов. Одновременно по левому флангу противника ударила сотня Тарасова. Налет был столь стремителен, что белочешские части в панике кинулись к вокзалу. На время катастрофа была отведена.
Пуля пробила навылет руку Томина. Аверьян разорвал рубашку, перевязал рану. С рукой на повязке Томин повел своих бойцов в новую атаку. Несколько часов бились конники, но от командования не поступало никаких приказов. Что же делать дальше? Какова обстановка на других участках? Томин посылает одного связного за другим, но идут минуты, связные не возвращаются.
Томину пришлось отвести сотню за реку. Здесь он узнал, что командование решило оставить город, а обозы с деньгами, имуществом и ранеными уже перешли Уй.
Прикрывая отход, последними по узенькому, шаткому мосту через Уй прошли томинцы. Вот позади остался Меновой двор. Сотня поднялась на увал. Томин остановился.
Перед ним лежал внизу истерзанный город. Томин с тоской обвел взглядом знакомые улицы. Вот он упрямо качнул головой: «Мы еще вернемся!», резко щелкнул плеткой о стремя и поскакал догонять свою сотню.
СКВОЗЬ ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО
Вздымая тучи бурой пыли, все дальше отходят от Троицка вооруженные отряды, обозы, беженцы. В монотонном гуле вдруг громко вскрикнет ребенок, и мать поспешит успокоить его грудью; то замычит протяжно корова, и хозяйка погладит ее по спине дрогнувшей рукой, а где-то, в середине обоза, в коробке, подвешенном на заднем выступе дрожины, закукарекает петух и обескураженный оборвет свой одинокий крик…
Тяжелы думы людей под скрип телег, топот и шарканье ног. Тревожно и тоскливо на душе. Еще вчера они имели свой кров, не думалось, что придется когда-нибудь бросить родные, насиженные места. Многие оставили в городе семьи, у других погибли в бою кормильцы, третьи, бросив нажитое трудом и потом, бредут без куска хлеба.
Под вечер людской поток свернул с большака и на берегу степной речушки остановился на отдых.
Последней подошла сотня Томина. Начав ранним утром бой с белочехами, она закончила день, отбивая атаки дутовцев.
Устало сойдя с коня, передав повод ординарцу, Николай Дмитриевич направился к штабу. Болит правое плечо, жар от раны нехорош, сух… «Не свалиться бы!»
— Коля! Ты ранен? — подбегая к Томину, испуганно спросила Наташа. В ее больших черных глазах бьется тревога.
— Никак нет, белочех сличил с мушкой, — шуткой ответил Николай Дмитриевич, похлестывая плеткой по голенищу.
— Шутишь, а повязка в крови, — перебила Наташа и, взяв Томина за руку, повела между повозок к медпункту. Еле заметно задрожавшими руками она бережно сняла окровавленную тряпку, промыла рану, наложила новую повязку.
Во время перевязки Николай внимательно следил за ее быстрыми, ловкими, ласковыми руками. От нежной заботы, осторожного прикосновения к ране боль стала утихать.
— Вот видишь, сестричка, ничего страшного, спасибо, — поблагодарил Томин и быстро ушел.
«Сестричка! Странно, какая я ему сестричка?» — впервые так подумала Наташа, провожая Николая Дмитриевича грустными глазами.
В тот сентябрьский день, когда Наташа увидела среди казаков-фронтовиков Томина, ее сердце впервые дрогнуло от непонятного незнакомого чувства. Оно было несравнимо с тем, которое испытывала раньше к Николаю, как к старшему, заботливому брату.
Какое первое чувство запало в сердце девушки при встрече с Анной Ивановной, она и сама себе не могла объяснить. Тогда, в страхе, они вместе переживали за жизнь самого дорогого для них человека. Домой Наташа не вернулась. Без сожаления сбросила свое девичье убранство и надела военное обмундирование. Дрогнуло только сердце, когда толстая коса упала под скрип ножниц. Но нечего было и думать, чтобы такую косищу можно было упрятать под мужскую шапку.
Работая вместе с Анной Ивановной в госпитале, Наташа привязалась к ней. Выбирались такие минутки, когда они рассказывали друг другу вполголоса, чтобы не разбудить раненых, о своей жизни. «Вот она какая! — думала Наташа. — Боевой товарищ командира». Они так привыкли друг к другу, что расставаясь, обе расплакались.
Все это время Наташа силилась заглушить чувство к Николаю Дмитриевичу.
«Вдруг догадается Анна Ивановна! Нет-нет, этого нельзя допустить!»
Она старалась и не думать о нем.
Но сегодня чуть было не выдала себя, перевязывая рану. Сколько потребовалось силы, чтобы сдержаться.
«Негодная девчонка!» — ругала себя Наташа.
…Перекатывается через каменистые пороги речка. При бледном свете луны темнеют тальниковые островки, тихо колышется в воде тень одинокого тополя.
На щербатой площадке скалы, нависшей над берегом, идет собрание членов исполкома и командиров частей.
Кто-то подбросил в костер сухого ковыля, пламя взметнулось, озаряя утомленные лица. Заслонившись от яркого огня ладонью, председатель собрания Светов говорит о том, что с потерей города Советская власть не погибла. Все, кому дорога свобода, будут драться до победного конца. В боях за город командование растерялось, потеряло связь с частями и не справилось с задачей. Судьбу людей уком и исполком должны вручить надежному, преданному партии человеку, волевому и смелому, знающему военное дело. Таким показал себя Николай Дмитриевич Томин. Его решительные действия, инициатива и находчивость спасли гарнизон от полного истребления.
Предложение Светова приняли единогласно. Тут же поручили Томину сформировать штаб.
Трубач проиграл подъем. Бивуак ожил, над степью поднялся разноголосый гомон.
Ровные ряды кавалеристов, пехотинцев и батарейцев образовали огромную букву «П». В центре два стареньких броневика с экипажами впереди. Рядом — походная мастерская, оборудованная на пароконной бричке, на которой гордо восседает Фомич. Томин пристроил-таки старика к делу. Кучками, между телег и бричек, собрались беженцы — женщины, дети, старики.
Поднявшись на телегу, Томин поправил ремень на кожанке, обвел ряды внимательным взглядом.
Вот чубатые разинцы — Каретов, Тарасов, Гладков. Эти проверены, не подведут!
Рядом — 17-й Уральский, крепкий слиток из большевиков и беспартийных. Здорово лупили дутовцев сибиряки!
Левее — батальон интернационалистов. По велению сердца вступили они в Красную Армию, и нет сомнения в том, что будут драться до последней капли крови.
Коммунистический отряд! Почти вся партийная организация города. Надежная опора командования!
На самом левом фланге — батарейцы.
— Товарищи! — произнес Томин глухим голосом. В горле все пересохло. Прокашлялся. — Вчера исполнительный комитет Троицкого Совета рабочих, крестьянских, казачьих и мусульманских депутатов и командиры частей избрали меня командующим Троицким социалистическим отрядом Красной Армии. А теперь самое главное. Без порядка и дисциплины нам не видать победы. Что делается в других городах и селах нашего края мы не знаем. По зато хорошо знаем, что по отдельности врага не победить. Поэтому штаб решил: отряд пойдет на Верхнеуральск, там соединится с отрядом Ивана Каширина. Вместе — мы сила!.. У кого сердце из репы, тому лучше оставаться дома, лизать сапоги живоглотам.
— Нет таких!
— Все за Советы!
— Умрем, а служить буржуям не будем!
Томин выждал, когда строй успокоится:
— Ну, коли так, — и он крикнул, как перед атакой: — Да здравствует мировая революция! Ура!
И в ответ загромыхала, заревела степь. Полетели вверх фуражки и шапки, блеснула на солнце сталь штыков.
Отбивая наскоки дутовских банд, Троицкий отряд 22 июня пришел в Верхнеуральск.
Утомленные войска, обозы и беженцы расположились на берегу Урала. Запылали костры, облизывая подвешенные на оглоблях толстобокие котлы. Хозяйки доят коров, вынимают из коробков свежие яйца. Матери возятся с ребятишками. Ротные и сотенные повара растопляют походные кухни.
В ожидании обеда собрались любители побалагурить, перекинуться шутками.
— Э, Павлуха, где твое обещанное целый день частушки петь? — спросил Федор Гладков. — Кишка, чай, тонка, сбрехнул тогда…
Настроив быстро балалайку, Павел провел большим пальцем по струнам, ударив пятерней, запел:
— Ты все про Дутова, а вот про любовь не сложить, — не унимался, подзадоривал Федор.
Павел хотел было ответить ему занозистым словом, но вдруг смолк и прикрыл рот ладонью. К бойцам легкой походкой подходила Наташа. Павел уважал эту чернобровую смуглянку. Но в ее присутствии он почему-то стеснялся, не знал, как вести себя, чтобы чем-либо невзначай не обидеть девушку.
— Помешала? Я на минутку, узнать не заболел ли кто, — просто, по-деловому и даже строго, сведя брови для важности, спросила Наташа.
— Живы-здоровы, что буйволы, — ответил молодой казак. — Что замолчал? Правду дядя Федя сказал, что про любовь — не можешь?
— Давно готова, — взметнув рыжим чубом, ответил Ивин. — Вот, слушайте:
— Делать вам вижу нечего, вот и зубоскалите, — бросив сердитый взгляд на Павла, Наташа повернулась и ушла.
А Павел, словно не заметив этого, продолжал:
Лукаво замолк, приглушив ладонью свою балалайку. Вдруг закончил, глядя на Аверьяна Гибина:
Раздался взрыв смеха и возгласы:
— Аверьян, это про тебя с твоей зазнобой!
Гибин вскочил, обдал холодным взглядом всех и быстро ушел в прибрежные кусты.
— Что ржете? — строго проговорил Гладков. — У парня на душе и так неспокойно, а вам хаханьки. И ты, Павлуха, не ко времени придумал этот куплет.
Павел пошел разыскивать Аверьяна, тот сидел на берегу и остервенело бросал плоские гальки в воду.
— Ты что осерчал? — положив руку на плечо друга, виновато спросил Павел.
Аверьян был зол, но, чувствуя, что друг раскаивается, смягчился.
— Не знаю, Пашка, что и думать. Теперь батя мой обозленный, кончит он Ольгу, чует мое сердце. А что я могу сделать? Как помочь? Сами отступаем, а куда — неведомо!
Томин шел к Ивану Дмитриевичу Каширину, командующему Верхнеуральским красноармейским отрядом, как к лучшему фронтовому другу.
Командующие сообщили о своих силах, обменялись мнениями, как действовать дальше.
— Вот увидишь, всю белогвардейскую свору в неделю разгромим, отберем Троицк, — уверенно заявил Каширин.
— Обстановка, Ваня, потяжелее, чем ты думаешь.
Вечером состоялся совет командиров отрядов, который избрал командующим объединенного отряда Ивана Каширина. После длительных споров решили наступать на Троицк. Томин доказывал, что из этой затеи ничего не выйдет, предлагал идти на Белорецк, в рабочие районы, но его предложение было отвергнуто.
Утром зачитали приказ главкома о походе на Троицк. Последние слова приказа: «Мощные духом, с верой в победу, с железной товарищеской дисциплиной, мы выступаем против врагов и предателей трудового народа. Пощады никакой, борьба не на живот, а на смерть. Смело вперед!» — были встречены криками ура.
Троичане радовались: они шли освобождать родные станицы. Счастливая, блаженная улыбка не сходила с губ Аверьяна Гибина: скоро он встретится с Ольгой, и если отец вновь встанет на его пути — уберет с дороги.
А борьба только начиналась. Люди не понимали всего размаха разразившейся грозы и считали, что с освобождением родного края закончится битва. Дорого они заплатили за это заблуждение!
Троицкие богатеи встретили белочешские и дутовские войска колокольным звоном.
На площади собрались купцы, заводчики и салганы, попы, монахи и монашки местного монастыря.
Впереди Лука Платонович Гирин. Он в новом костюме-тройке, лаковые остроносые сапоги ослепительно блестят.
Со стороны вокзала, при развернутом знамени, под бой барабанов и звуки медных труб показалась белочешская пехота. Из-за угла Набережной вывернулся дутовский отряд. Впереди на белом скакуне — сам атаман Дутов, рядом с ним есаул Полубаринов.
Оркестр заиграл встречный марш. С высоко поднятой головой навстречу «избавителям» с хлебом-солью на серебряном подносе двинулся Лука Платонович. Сопровождая его, размахивают кадилами два дюжих попа в блестящих на солнце ризах.
После торжественного вручения хлеба и соли, попы отслужили молебен, окропили знамена.
Полковник Дутов пожурил купцов и заводчиков за их скупость и провал восстания в марте, заверил «почтенных граждан в том, что с корнем истребит большевистскую заразу». Все контрреволюционеры и уголовники были объявлены Дутовым «жертвами красного террора» и выпущены из тюрьмы.
Вступление в город «освободители» ознаменовали глумлением над трупами погибших красноармейцев. Затем они разрыли могилу учительницы Ираиды Дмитриевны Селивановской и члена исполкома Петра Григорьевича Ильина, павших в борьбе с дутовцами в начале года и похороненных с почестями в городском сквере. Останки героев белогвардейцы увезли на свалку.
Сотни невинных были расстреляны, повешены, изрублены шашками, тюрьма оказалась переполненной.
Белым стало известно, что Абрамов скрывается в городе. Они сбились с ног в поисках его, но все было безрезультатно. Утром заборы города пестрели объявлениями, в которых Дутов давал большую награду за поимку руководителя троицких большевиков.
Председатель укома партии Абрамов не успел выехать из города и нашел сперва убежище в бедной рабочей семье. Однако повальные обыски угрожали не только ему, но и хозяину. Абрамов решил перебраться в более безопасное место. Он был выслан в Троицк за участие в первой русской революции и за годы жизни в городе завел знакомство со многими зажиточными семьями. У богатеев часто чинил старинные часы, репетировал купеческих недорослей, учил играть на пианино избалованных дочек. Товарищам по работе Абрамов частенько говаривал, что Советская власть не может стричь под одну гребенку всех богачей, что и среди них есть такие, которые могут быть не бесполезны Советам. Таким добреньким буржуем Абрамов считал, в частности, Пуда Титыча Тестова.
Рассчитывая получить у него надежное убежище, Абрамов ночью пробрался огородами и закоулками к его дому, постучал в окно.
— Амос Зиновьевич! — удивленно воскликнул Тестов. — Батюшка мой, родненький мой. Тебя ищут.
— Знаю. Поэтому и пришел к тебе. У тебя обыска не будет. Спрячь на время.
Пуд Титыч увел Абрамова в пустовавшую мастерскую и, проговорив:
— Сейчас принесу ужин, — ушел.
А через час нагрянули каратели…
Сплошным потоком движется колонна на запад, туда, где синеют Уральские горы.
Горячая пыль забивает нос, хрустит на зубах. Жара, что в печке. Расстегнув ворот гимнастерки, Аверьян Гибин тяжело глотает горячий воздух, облизывает потрескавшиеся губы. В боях на Троицком фронте он узнал, что его отец — у белых. Надежды на скорую встречу с Оленькой не оправдались, и вот он все дальше и дальше едет от дома.
Рядом, с неразлучной балалайкой за спиной, Павел Ивин. Он то и дело оборачивается, смотрит с надеждой вдоль колонны.
Впереди, словно влитая в седло, подтянутая фигура Томина. Справа от него Виктор Русяев, начальник штаба, на маленьком чалом коне. Вместо седла — сложенный вчетверо половичок, веревки заменяют подпругу. Длинные ноги чуть не задевают за землю. Через плечо — ученическая сумка, набитая штабными документами, картами, все та же у него черная фуражка учащегося технического училища, только теперь с расколотым козырьком.
Промчалась по степи вдоль колонны красная легковая машина главнокомандующего.
Нахмурившись, Аверьян вспоминает минувшие дни.
В четырехдневных кровопролитных боях красные боевики дрались смело, самоотверженно.
Пример отваги показывал сам Иван Каширин. Его плотную фигуру видели в самой гуще боя.
Не слезал с коня в эти дни и Николай Томин. Трудно было первое время ординарцам Аверьяну и Павлу. Они то отставали, то вырывались вперед. А потом пообвыкли, стали умело держать коней на полкрупа сзади от томинского Киргиза.
Фронт растянулся на пятнадцать километров. Понеся большие потери, каширинцы начали отходить к Верхнеуральску. Томинцы оказались в тяжелом положении, им угрожало окружение.
Батальон интернационалистов, отбросив врага, дал возможность всему отряду организованно отойти.
Много бойцов погибло в этом бою, и среди них — председатель исполкома Светов.
Дорога все круче сбегает вниз. Открылась панорама древнего Белорецкого завода, в свое время служившего опорным пунктом Емельяна Пугачева.
Еще шли жаркие споры на совете командиров о том, что делать дальше, а по войскам с быстротой молнии летели провокационные слухи: отряды надо распустить, оружие спрятать, боевикам разойтись по домам.
Такое предложение на совете было выдвинуто начальником штаба Енборисовым.
Главком Каширин высказал предложение: в виду того, что в Белорецке не удержаться, а большой армии незамеченной не пройти, надо разбиться на мелкие отряды и просачиваться к главным силам небольшими группами.
Выступавшие затем командиры своих предложений не вносили, а склонялись то к одному, то к другому.
Томин встал и гневно заговорил:
— Теперь я скажу несколько слов. Начальник штаба предложил распустить отряды, спрятать оружие, разойтись по домам. — Голос Томина, как всегда в напряженный момент, холодный, звенящий. В прищуренных глазах мечутся злые огоньки. — Хитро придумано. А я вот что скажу: предложение начальника штаба — предательство революции, — как ушатом холодной воды окатил Томин присутствующих. — Ему, бывшему золотопогоннику, хорошо, он покается, его простят, а в Троицком отряде триста коммунистов, отряд интернационалистов, их всех порубают беляки. А обоз? Дети, старики, женщины — все будут уничтожены. — А ты, товарищ Каширин, обосновал свое предложение тем, что мы не знаем обстановки, что связи с Блюхером и Николаем Кашириным нет, а одним нам не удержаться. Мол, пока не поздно, разбегайтесь, кто куда хочет, спасайся, кто как может. И это, по-вашему, выход? Хорошее дело?! Для связи с Центром России посланы два члена Совета. Но их еще нет. Сегодня надежных товарищей направили в Оренбург, они должны связаться с Блюхером. Если в ближайшие дни связь не будет установлена, Троицкий отряд один пойдет на соединение с Красной Армией и добьется этого. А вы, — Томин глянул в упор на Енборисова, — спасайте свои шкуры!
Командиры Троицкого отряда и большинство из Верхнеуральского отряда поддержали Томина, высказались за организованный поход.
С совета командиров Николай Дмитриевич вернулся злым и возбужденным.
…В штабе Троицкого отряда на столах кучи паспортов.
— Это еще для чего? — войдя, спросил Томин.
— Как для чего? — растерянно переспросил интендант. — Документы, без них куда пойдешь…
— А, дошло. Так ведь мало…
— Еще есть, вот чистых пачка, печать достал, — интендант выложил из ящика паспорта.
— Крысы корабельные! — процедил сквозь зубы Томин. — Корабль-то не тонет, а крысы уже заметались.
Томин начал рвать паспорта и бросать их в огонь.
— Виктор Сергеевич! — приказал он, рассчитать этого труса за весь договорный срок. — А теперь — вот бог, а вот — порог, катись на все четыре стороны, скатертью дорога.
В это время в комнату вошел Каретов.
— Улыбаешься, словно крашеным яичком одарили, — недовольно проговорил Томин.
— Бери выше, Николай Дмитриевич! Тебя приглашают в штаб главкома. Василий Константинович приехал.
— Блюхер! Вот это здорово! В самый раз!
У штаба часовые проверяют документы.
— Зачем? — удивленно спросил Нуриев, поднимаясь на крыльцо.
— Язык не у всех подвешен ладно, и у стен есть уши, — ответил Томин и пояснил: — Мы должны хранить оперативную тайну.
Троичане вошли в дом, где собрался совет командиров.
В большом зале — дым коромыслом. Выступает командир Южного отряда Николай Каширин. После падения Оренбурга его отряд с боями прорвался в Белорецк. Рядом с Иваном Кашириным его брат Николай выглядит скромно. Он чуть пониже Ивана, одет в старый офицерский френч. Говорит голосом, который никак не идет к его росту.
— Перед всеми нами стоит общая задача, — выбравшись из горной и бедной хлебом полосы, двинуться в направлении севернее Верхнеуральска, к линии железной дороги. Перейти железнодорожную магистраль на участке Челябинск — Златоуст и, двигаясь дальше в северном направлении, соединиться с нашим центром. Ближайшая же наша задача — обеспечить временно себе тыл, овладев узлом грунтовых дорог, выходящих из Верхнеуральска в необходимом для нас северном направлении. Подавляя контрреволюционные силы здесь, мы тем самым приносим пользу общему делу. Надо учитывать и то, что казаки стремятся как можно быстрее освободить от белогвардейской контры свои родные станицы.
Николая поддержал младший Каширин, Иван.
Некоторые командиры вносили предложение отсидеться в Белорецке, защищать «свои земли».
Третьи — разойтись по домам.
Томин нервничал, хмурился. Наконец он не выдержал, вскочил, поставил левую ногу на стул и, положив на нее раненую руку, похлестывая плеткой по голенищу заговорил:
— Нам надо биться, спасать революцию, а не отсиживаться в горах. Досидимся, выбьемся из сил, белые голыми руками нас возьмут. Что делать? Идти, и быстро к главным силам. В этом спасение. А трусы пусть отсиживаются и ждут, пока их беляки по одному передушат.
Все это время командир Уральского отряда Блюхер сидел спокойно, как будто был равнодушен ко всему, что говорилось. Только от нервного напряжения пульсировала на виске жилка и часто подергивалось левое веко — сказалась контузия, полученная еще в германскую войну.
Вот он взял слово. Обвел присутствующих внимательным, изучающим взглядом синих глаз, провел ладонью по коротко остриженным волосам и спокойно начал. Каждое слово его было весомо, убедительно.
— По сообщениям белогвардейских газет красные части дерутся где-то в районе Екатеринбурга. Предлагаю идти на соединение с главными силами Красной Армии через рабочие районы Урала. В рабочей среде отряд получит радушный прием, продовольствие, оружие. Рабочие пополнят партизанскую армию крепкими, надежными бойцами. Двигаясь же на Верхнеуральск, мы ослабим свой отряд, так как часть казаков неминуемо разойдется по домам. Дальнейший поход на Троицк, как предлагают некоторые товарищи, приведет к потере всего Верхнеуральского отряда, и с оставшимися силами дальнейшие боевые операции станут невозможны.
Блюхер предложил два маршрута. Тирлян — Катав-Ивановский завод — Юрюзань и далее в направлении к Екатеринбургу или Красноуфимску; или через Авзянопетровский — Кагинский — Богоявленский заводы мимо Уфы, в район действия красных войск на Бирском направлении.
Многие командиры неодобрительно загудели: от дому, мол, далеко.
Мнения разошлись. При такой обстановке стало ясно, что к единому выводу прийти на столь обширном совещании немыслимо, доверили решить вопрос командующему и штабу, который он сформирует, учитывая все высказывания.
Не менее острые споры разразились по хозяйственному вопросу. Блюхер предложил все деньги и ценности отрядов сдать в армейский фонд и всем этим должен распоряжаться главнокомандующий.
Стерлитамакцы были самые «богатые» и наотрез отказались принять такое предложение.
— Мы имеем строгий наказ от рот — не сдавать имущество и казначейство, — заявил командир отряда. — Спросят, что ответим?
— Революция потребовала, — не стерпел Томин. — Драться будем вместе и все у нас должно быть общим.
— Наши бойцы скорее уйдут из отряда, нежели попустятся своим добром.
— Пойдут — пули догонят. Только они этого не сделают, с ними всегда можно дотолковаться, вас — не сдадите, будем судить, — резко отчеканил Томин.
Предложение Блюхера прошло подавляющим большинством голосов.
Для тайного голосования на пост главнокомандующего были выставлены кандидатуры братьев Кашириных, Блюхера и Томина.
В первом голосовании равное количество голосов получили Каширин-старший и Блюхер. После переголосования главнокомандующим Сводным Уральским отрядом был избран Николай Дмитриевич Каширин.
Звездное небо над темными силуэтами гор. Заводской поселок спит. Только окрики часовых да топот конных патрулей изредка нарушают тишину.
Скоро рассвет. Направляясь к своим отрядам, Блюхер и Томин остановились на перекрестке улицы. Молча постояли.
— Вот мы и второй раз встретились, — заговорил Блюхер.
— Когда я узнал, кто командует Троицким отрядом, обрадовался. Значит, думаю, отряды боеспособны и дисциплинированы, можно с такими воевать. Сегодня ты, друг, зверски выступал.
— А что толку, план-то наш не принят.
— Знаю, что маршрут неправильный, но во избежание разрыва приходится согласиться.
— В том-то и дело. Единым кулаком, может быть, и через Верхнеуральск пробьемся, а будем действовать, как лебедь, рак и щука, наверняка дело погубим.
— Николай Дмитриевич! Почему ты не коммунист? — вдруг переменил тему Блюхер.
— А тебе обязательно партбилет нужен? — вспылил Томин. — Я не коммунист, но дрался за революцию.
— Дерешься ты хорошо, но…
— Что «но»? При слове «коммунист» всегда вспоминаю своего первого учителя Андрея Кузьмича Искрина, сравниваю себя с ним. И что же? Всякий раз прихожу к выводу, что я не готов носить это высокое звание, не достоин, не заслужил. Коммунист никогда не думает о своем «я» и любое задание партии он считает ответственным, любое поручение — законом. А у меня самолюбия хоть отбавляй, чуть что не по мне, кровь в лицо ударяет, в голове звон. Второе — я казак и кто мне поверит, что я служу честно партии? Еще скажут, примазывается, карьерист. Вот если сумею побороть себя, изжить недостатки, сумею завоевать себе право называться коммунистом, тогда попрошу у тебя рекомендацию. Не откажешь?
— Тебе я и сейчас бы дал, — ответил Василий Константинович. — Такие люди нашей партии нужны. Ну, до встречи, — Блюхер крепко пожал руку Томина.
Шумит сосновым бором в непогодь партизанская армия в Белорецке. Женщины оплакивают близких, угрюмо молчат мужики: раздражены, не трожь! Страда на пороге, а бог знает, когда вернутся к родным полям. Казаки точат клинки — притупились в недавних сечах. Артиллеристы драят орудия, на стволах синеватый закал — память о походе на Верхнеуральск. Пехотинцы чинят обувку, поистрепалась о каменистый торговый тракт.
У белого двухэтажного здания заводоуправления ординарцы, связные, посыльные балагурят, смеются. Видно, никакие беды не могут выбить из молодости веселья.
Одиноко сидит, навалившись на ствол тополя, Аверьян Гибин. Пучки солнечного света, пробившиеся через листву кроны, облепили его фигуру белыми пятнами. Одиночество мучает, в сердце закипает злость на Павла. В последнее время все чаще стал испытывать потребность в близости друга, а тот, как назло, чуть выберет свободную минуту, бежит в походный лазарет: то палец расцарапал, то живот заболел.
— Опять, наверное, увивается около этой чернушки, — подумал Аверьян.
Сзади грустно затренькала балалайка. Аверьян обрадовался, но не подал вида, не оглянулся.
Павел сел рядом, задумчиво сказал:
— Знаю, что тяжело тебе. А чем поможешь? Вот разобьем буржуев, заживешь со своей Ольгой! Тебе тошно, а мне того тошнее: втрескался я, брат, в нее по уши, житья никакого нет…
— Ну и скажи ей.
— Куда там! Почуяла она, наверное, и сегодня отрезала: «Не смотри, говорит, на меня так, и вообще, пока не выйдем к своим, больше сюда не заглядывай, нечего тебе здесь делать». Вот брат, какое дело!
Каким-то шестым чувством ординарцы узнали, что совещание командиров подходит к концу. Все кинулись к коновязям.
А через минуту из штаба стали выходить возбужденные командиры. Впереди Василий Константинович Блюхер, рядом, опираясь на костыль, Николай Дмитриевич Каширин. Сзади, в сопровождении Каретова и Русяева, с рукой на марлевой повязке, Николай Томин.
После десятидневных боев белые оставили Верхнеуральск. Однако и красные полки, раскинувшись лагерем у горы Извоз, не входили в город. Командование узнало, что Екатеринбург занят белыми, и фронт проходит где-то далеко на западе. Пришлось возвращаться в Белорецк.
На совете командиров вместо раненого Николая Каширина главнокомандующим Сводным Уральским отрядом был избран Василий Константинович Блюхер.
Новый главнокомандующий рассказал о тяжелой обстановке, в которой очутилась партизанская армия. В боях под Верхнеуральском потеряли более пятисот человек, израсходованы боеприпасы и продовольствие, много раненых, а медикаментов и бинтов нет. Город окружен врагами, которые не сегодня-завтра начнут наступление. Только решительные действия, организованность, железная пролетарская дисциплина, воля к победе могут спасти и армию и многие тысячи беженцев. Надо немедленно идти на соединение с главными силами.
Огромным четырехугольником, с многотысячным обозом в центре, движется партизанская армия по Уральским горам. Высокие перевалы, горные реки, белогвардейские полчища встают на ее пути, а она неудержимой лавой катится к цели. В контрреволюционных газетах «банды» Блюхера неоднократно бывали уничтожены, «окончательно разгромлены», а армия тем временем росла, катилась вперед, громила отборные полки белочехов, отвлекала большие силы белых с Волжского фронта, помогая этим регулярным частям Красной Армии.
Это двигалась армия-семья, в которой жизнь шла своим чередом. Здесь любили и ревновали, дружили и ссорились, рождались новые люди…
В арьергарде шел Троицкий социалистический отряд. Для усиления партийной работы во всем отряде была расформирована коммунистическая дружина.
19 августа партизаны вошли в трехречье, где горные реки Сим, Инзер и Зилим впадают в Белую.
С востока партизанскую армию прижимал к реке Белой Уральский хребет, с севера преграждала путь широкая лента бурного Сима, на юге протекал Зилим. Пересеченная, болотистая местность перерезана множеством мелких речушек.
В этом мешке белое командование, уже в который раз, решило окончательно уничтожить партизан. В Уфе, Стерлитамаке. Златоусте и других городах срочно формировались новые части и бросались на «внутренний фронт».
Белое командование, получив строгое приказание не пустить красных на правый берег реки Сим и ликвидировать их в трехречье, ввело в бой более 13 полков и много отдельных отрядов, хорошо вооруженных и имеющих в избытке боеприпасы.
А партизанам приходилось считать каждый патрон. Главком Блюхер издал приказ:
«Следить за экономным расходованием патронов и снарядов, обстреливая лишь ясно видимые цели, представляющие группы или цепи противника…»
…Километрах в десяти восточнее Белой, на равнине, покрытой кудрявыми кленовыми и липовыми рощами, в которых шелковыми нитями вплетены белые березы, раскинулось село Ирныкши.
Лунная теплая ночь. Однако село живет, как днем. Крестьянки пекут хлеб, стирают и чинят белье, дымятся бани.
Фомич и Ахмет Нуриев в чистых рубашках идут по селу и мирно разговаривают. На одном переходе измученные лошади Фомича встали. Тут погодился взвод Нуриева, бойцы облепили бричку и закатили мастерскую на вершину сопки.
— Премного благодарен, парень. Друга выручишь, себя выучишь. Закашляет часом оружие — вылечу.
На привале рядом со взводом Нуриева остановилась мастерская Фомича. Они опять оказались вместе. И так во время всего похода.
Поглаживая от удовольствия грудь, Ахмет проговорил:
— Баня, о-о-о! Очень хороша.
— Э, парень, в который день паришься, в тот день не старишься. А им вот и банькой недосуг побаловаться, — и Фомич качнул головой на пятистенник.
— Командир! Работа ой-ой-ой! — посочувствовал Нуриев.
В доме из бревен в обхват, с высокой тесовой крышей расположился штаб.
В кути раскатывает хозяйка калачи. Засучив рукава гимнастерки, чистит картофель Наташа. На широкой лавке стоит сумка с красным крестом.
Рядом с Наташей, пристроив ученическую тетрадь на уголке стола, закусив нижнюю губу, молча трудится над сложением Павел Ивин. Он изредка, украдкой бросает влюбленный взгляд на девушку.
После того, как Наташа отрезала ему путь к сердцу, прошло много времени. Однако, находясь все время при командире, им волей-неволей приходилось часто встречаться.
Как-то Наташа узнала, что Павел неграмотный. На первом же привале отозвала его в сторону, расчистила песок и начала учить грамоте, вычерчивая буквы палочкой. Павел с усердием принялся за учебу. Потом раздобыл тетрадь, карандаш, букварь, и дело быстро стало продвигаться вперед. А вот с арифметикой нелады.
— Четырежды пять сколько? — спрашивает Наташа, не глядя на ученика и не прекращая работы.
Павел засопел, наморщил лоб. Эти проклятые «жды» никак не может уразуметь.
Наташа терпеливо ждет, но наконец терпение лопнуло, и она начинает разъяснять всю премудрость «жды» на картофелинах.
В переднем углу, разметав кудри по столу, спит Аверьян Гибин. Скрежещет зубами, сжимает кулаки. Снятся кошмары.
Недавно станичник, перешедший к красным, сообщил Аверьяну страшную весть: с Ольгой и ее матерью отец жестоко расправился. Нет больше любимой черноокой казачки. Места не находил Аверьян, сердце требовало отмщения. Вскоре между перестрелками он услыхал с противоположного берега реки голос отца:
— Эй, вы, краснопузые, сдавайтесь, а то всех искрошим!
— Не стращай, зверюга! Вернусь, расплачусь за все, — ответил Аверьян.
Отец узнал сына, разразился потоком брани.
«Ну, посмотрим кто кого!» — решил Аверьян и разрядил обойму в кусты.
После этого случая немного легче стало на душе.
В горнице Николай Дмитриевич Томин информирует командиров о сложившейся обстановке, сообщает о приказе главкома:
— Троицкому отряду демонстрировать наступление на Уфу — отвлечь противника от переправы через Сим. Надо довести до каждого боевика поставленную задачу.
— Ясно, товарищ Томин, — разрешите идти?
— Идите. Каждая минута дорога.
Командиры ушли. Под диктовку Виктора Русяева Наташа начала печатать приказ.
В ожидании, когда приказ дадут на подпись, Николай Дмитриевич решил выйти на улицу, подышать свежим воздухом.
В сенях послышалась какая-то возня, распахнулась дверь.
— Дутовского агитатора привели, — доложил Павел.
В комнату втолкнули широкоплечего мужика в широких штанах, внизу затянутых шнурками.
— Э, старый знакомый, — ничуть не удивившись встрече, протянул Томин.
— Этот леший листовки разбрасывал, — доложил Фомич.
— Сильный шайтан!. — добавил Нуриев.
— Докатился, — заговорил Томин, — все время под ногами революции путался и вот конец.
Военно-революционный суд приговорил изменника и провокатора Забегиназада к расстрелу.
На рассвете в Ирныкши прибыл Блюхер. Томин показал ему листовку.
Белогвардейцы призывали партизан переходить на их сторону, писали, что большевики продали Россию немцам и что их командующий — чистокровный прусак. Обещалась награда деньгами, быками и баранами тем, кто живым «или мертвым доставит Блюхера, бандитов братьев Кашириных и Томина в распоряжение белого командования.
— Старая песня, — проговорил Блюхер.
— Старая, не старая, все же любопытно, как тебе, чистокровному русаку, прилепили немецкую фамилию.
— Прадеда моего так окрестил барин за ясный ум и острый язык, в честь прусского фельдмаршала. Ну, а с годами кличка в фамилию перешла.
На стену обрушился удар страшной силы. Дом содрогнулся, лопнули стекла. Из пазов полетели комья глины.
Блюхер и Томин выскочили из дома. Бросился в глаза впившийся в угол трехдюймовый снаряд, к счастью, неразорвавшийся. Из-за горного хребта выглянуло солнце, ослепительным светом залило деревню, заиграло на куполах церкви. Снаряды рвались в разных концах деревни, на площади, в расположении батареи. Запели колокола от ударов осколков и шрапнели. Пламя огненными столбами поднялось над селом. Со стороны нарастает пулеметная трескотня, ружейные хлопки.
— Прошляпили! — вырвалось у Блюхера.
Томин скрипнул зубами, смолчал.
Неискушенному глазу показалось бы, что в селе царит паника. Вот бегут два боевика в одних кальсонах, на головах шапки мыльной пены. Изогнувшись в три погибели, Трофим Верзилин катит станковый пулемет. Он без рубашки, одна нога босая, второй сапог успел натянуть кое-как, распаренная нога не влезла. Резким движением ноги Трофим на ходу сбрасывает сапог. Обмотавшись пулеметными лентами, перекинув через плечи коробки с патронами, бегут рядом остальные бойцы расчета.
Паники нет. Все действуют молча, по неписаному закону партизан, бежать на выстрелы, встречать врага лицом к лицу, — бить!
Несутся к орудиям пушкари. Грянул залп. Вздрогнула, загудела земля.
Придерживая левой рукой сумку, выскочила из дома Наташа и побежала к месту боя. Павел проводил ее тревожным взглядом — так бы и кинулся вслед за ней, да куда от командира!
Загумок — ровный, как ладонь, ни одного деревца, ни одного кустика. В полуверсте дугой изогнулись белогвардейские цепи. Идут обманутые башкиры и татары. Всяк на свой лад кричит победный клич.
Верзилин нажал на спусковой рычаг. Задрожал корпус пулемета. Щелкают залпы винтовок. Падают беляки, но цепи, дрогнув, идут, как очумелые.
Вот враг перевалил канаву, приближается.
Вспомнились Трофиму вчерашние слова командира: «В нашем положении один боевик может решить исход дела».
Белеют губы Трофима, а руки до боли сжимают рукоятки пулемета. «Максим» изрыгнул огонь и вдруг смолк: перекос ленты…
— Блюхер! Главком здесь! — пронеслось по цепи.
Из проулка выскочила сотня разинцев. Впереди главком Блюхер и Николай Томин.
— Урр-рааа! У-р-р-р-р-а-а-а! — взревело поле.
Партизаны поднялись в контратаку, начался рукопашный бой.
Дрогнули беляки, попятились, а потом и затылки показали.
Под главкомом убило лошадь. Отбили партизаны врага, прижали его к Белой, надежно укрепились. К Блюхеру и Томину подошли казаки. Дорофей Глебович Тарасов держит под уздцы вороного скакуна. Конь бьет копытами, храпит, косит диким глазом. Не конь — огонь!
— Василий Константинович! — проговорил Тарасов. — Добро ты рубал беляков. Посоветовались мы меж собой и решили считать тебя, рабочего человека, почетным казаком второй сотни. Прими от нас этот подарок. Гони на нем вперед, круши супротивников, а мы не отстанем. Куда рабочий класс, туда и казак, что нитка за иголкой!
— Спасибо, друзья! Тронут, сердечно тронут дорогим подарком и честью быть казаком, — ответил растроганно Блюхер, обняв и расцеловав Дорофея Глебовича.
— Какая честь! Заслужил, полюбили тебя казаки и за слово, и за дело хорошее, — пробасил Тарасов.
Блюхер закинул поводья. Скакун присел на задние ноги, хотел увернуться, но Василий Константинович уже сидел в седле. Почувствовав твердую руку, конь изогнул шею, потерся о ногу всадника и понес.
За Троицкий отряд главком был спокоен.
…Сражение развернулось на трех участках — Зилим, Ирныкши и Бердина Поляна. Каждый участок был решающим, главным.
12 дней не прекращалась ружейная и пулеметная стрельба, уханье пушек, лязг кавалерийских клинков. Огромными кострами горели села.
До темноты шел жаркий бой на берегу Белой. Уверившись в том, что партизанская армия здесь наносит главный удар с намерением захватить Уфу, командование белых срочно перебросило свои части с других участков «внутреннего фронта». Чтобы не разуверить противника, Томину пришлось, как на шахматной доске, маневрировать частями и подразделениями, создавая видимость скопления сил именно на этом участке.
Понаделали трещоток, и лавиной трещоточного огня приводили врага в трепет. Орудия часто меняли огневые позиции, экономя снаряды, стреляли редко, но непременно двумя снарядами за одну наводку: это в глазах неприятеля удваивало число стволов.
Взвод мусульман и несколько человек из 17-го Уральского полка были отрезаны белыми в пересохшей старице небольшой речушки. Впереди — враги, позади — открытая полоска земли, каждый дюйм которой взят на прицел, по бокам непроходимая топь. Нет никакой возможности сообщить своим.
Мины и шрапнель измочалили впереди кусты, обработали землю, словно под посев. Тихо сползает к горизонту солнце. Закаркало воронье. Русло пересохшей реки покрыто трупами.
— Ахмет, — тяжело глотая воздух, зовет Трофим Верзилин.
— Передай Николаю Дмитриевичу, что я вину свою перед революцией искупил.
Верзилин ранен в грудь, осколки перебили руки и ноги. Дышать все труднее, мучает жажда.
Нуриев прикладывает к губам пулеметчика мокрую землю, стараясь хоть чем-нибудь облегчить смертельную жажду товарища.
— А еще… останешься живой, на-пи-ши же-не в Си-би…
К раненому подползла Наташа. Ее лицо в крови и поту, рукав гимнастерки распорот, на обнаженном плече ссадина.
Наташа взяла руку бойца, безнадежно покачала головой.
Ахмет осторожно опустил на землю безжизненную голову пулеметчика. Взял винтовку убитого красноармейца, лег и начал стрелять. Выстрел, второй, и магазин опустел.
Тем временем Фомич разобрал пулемет, замок закинул в топь, а ствол зарыл.
— Беги, доченька, может, проберешься каким чудом, беги, — отечески погладив девушку по волосам, проговорил Фомич.
— Назад, дедуся, нет хода…
Наташа не успела досказать, удар прикладом по голове лишил Фомича сознания. Наташе и Ахмету скрутили руки.
У обрывистого берега Белой стоит деревня, искалеченная бурями сосна, толстый сухой сук торчит обрубком руки над рекою.
Ахмет сидит, покачиваясь. Рядом стоит Наташа. Ее руки прикручены веревкой к бокам, гимнастерка изорвана.
Кругом хохочут, издеваются враги.
— Попалась, собачья морда! — выкрикнул кто-то.
— В реку его, свинячье ухо! — требуют другие.
— А эту красотку нам, разговеться, — просят третьи, облизывая губы и дружно гогоча.
Подскакал на взмыленном коне Полубаринов.
— Вот, вашеблагородие, двух приволокли, — доложил Гибин-старший, — что прикажете делать?
— О, сюрприз! Племянница Луки Платоныча?! Приятная встреча, — с гнусной, похотливой улыбкой проговорил Полубаринов, протягивая задрожавшую руку к смуглой груди девушки.
Наташа отшатнулась и плюнула офицеру в лицо.
— О, нет! — прохрипел Полубаринов. — Дешево решила отделаться. Не выйдет! В штаб ее, — вытирая лицо, приказал офицер.
Потом носком сапога приподнял голову Ахмета.
— Шайтан! Мала был — предавал, большой стал — убивал.
— Этого — на сук! — распорядился предатель.
Казаки схватили Нуриева за ноги и поволокли к дереву.
— Что вы делаете, бандиты! — громко вскрикнула Наташа, рванулась и упала, потеряв сознание.
Когда Наташа открыла глаза, ей показалось, что все, что она видит, происходит во сне. К ней галопом мчатся разинцы. Впереди Томин.
Пришпорив коня, Томин нагнал Полубаринова и, словно ком глины на кавалерийских учениях, одним ударом шашки развалил голову предателя.
В погоне за белоказаками сотня проскакала мимо, а Павел кубарем свалился с коня, разрубил веревки. Когда первое возбуждение прошло, он взглянул на девушку и стыдливо отвел глаза.
— Там иголка и нитки, — проговорил Павел, подавая Наташе фуражку.
В этот день кавалеристы Ивана Каширина, переплыв Сим, захватили плацдарм на правом берегу. Под артиллерийским обстрелом противника саперы построили мост. Партизанская армия, разрывая обруч, хлынула на север, захватила станцию Иглино, перерезала железнодорожный путь Уфа — Челябинск.
В Уфе поднялась паника. В Вашингтон от генерального консула Гарриса ушла тревожная телеграмма:
«Положение на Волжском фронте критическое. Новые трудности возникают из-за блюхеровских большевистских войск, состоящих приблизительно из 6000 пехоты и 3000 кавалерии с 30 пулеметами. Войска эти хорошо организованы и способны прекрасно маневрировать. У нас нет надежных войск против этих сил».
Перевалив через железнодорожную линию, партизанская армия двинулась на север.
Оконфузившиеся белогвардейские газеты были вынуждены признать, что «босяков» не удержать».
В одном белогвардейском листке было написано.
«Банды Томина захватили Иглино и разрушили путь»[4].
Заметка попала на глаза Куртамышской контрразведке.
Анну Ивановну взяли на допрос. В кабинет ее ввели два вооруженных чеха. Словно откормленный под закол боров, сидел за столом начальник контрразведки Сычев. Заплывшие жиром колючие глаза в упор встретили Анну Ивановну. Она не отвела взгляда.
Этот палач появился в Куртамыше вместе с головным отрядом белочехов. Первыми жертвами его оказались Яков Максимович и Владимир Яковлевич Друговы. Их бросили в тюрьму и каждый день подвергали пыткам.
Куртамышский застенок был переполнен сторонниками Советской власти. Полиции пришлось занять под тюрьму кладовую одного богатея.
И вот очередь дошла до Анны Ивановны.
— Ну-с, мадам, где муж? — спросил Сычев.
— Не знаю я, где муж. Слышала, будто убит в Троицке…
— Не знаешь! — схватив газету, закричал Сычев. — Так вот знай: банды Томина разрушили железную дорогу под Уфой, а за его проделки ты расплатишься.
Известие о том, что муж живой обрадовало Анну Ивановну, но тут же до ее сознания дошел смысл конца фразы.
Она знала, какую лютую злобу против Николая носят его враги. Они поклялись поймать Томина и по всем станицам и поселкам провести, отрубив нос, уши, выколов глаза. «А что же звери уготовили мне?» По всему телу прошла дрожь, похолодели руки и ноги. Она поплотнее натянула пуховый платок и ответила:
— Значит, Коля жив и здоров. Спасибо за приятную новость.
Кровь, словно от тяжелой пощечины, прихлынула к лицу палача. Он выступил из-за стола и шагнул к Томиной.
Дверь распахнулась. Сычев метнул угрожающий взгляд в сторону двери, готовый разразиться потоком брани, но вдруг умильно улыбнулся и поспешил навстречу вошедшему полковнику.
Офицер повернул голову в сторону Анны Ивановны, и взгляды их встретились.
Мысль у Анны Ивановны лихорадочно заработала, отыскивая во множестве закоулков памяти что-то уже полузабытое. Мелькали годы, события, люди…
…Тысяча девятьсот одиннадцатый год. Омск. Николай приехал туда с поручением хозяина. Анна уговорила мужа взять ее с собой. Они жили в гостинице две недели, и почти каждый день приходил к ним именно этот мужчина. А может, не он?! Ведь прошло столько времени! Нет-нет, она не может ошибиться. Тогда с Колей он встретился, как со старым другом. Сразу же заговорил о товаре, о ценах и прибылях. Но уже в первую встречу Анна поняла, что не это их интересует. Позднее она узнала, что товары, цены, прибыли и прочие торговые выражения в переводе на язык конспираторов означали товарищи, литература, потери друзей, новички.
— Андрей Кузьмич! — с теплотой произносил это имя Коля.
Но тот был революционер-подпольщик, а этот?! Но глаза, глаза! Разве может она забыть их? Улыбчивые, веселые, карие.
Полковник небрежно кивнул в сторону Анны Ивановны, как бы приказывая: уберите! Положил на стол фуражку, бросил в нее белые перчатки.
Затем предъявил Сычеву мандат особоуполномоченного по борьбе с большевизмом, в котором приказывалось:
«Всем властям оказывать предъявителю сего всяческое содействие и помощь».
Полковник поинтересовался, как идут дела у начальника контрразведки, похвалил за рвение к службе, пообещал доложить о нем, кому следует. Тут же, как бы между прочим, поинтересовался Томиной.
Выслушав намерения Сычева увезти Томину на расправу, полковник сказал:
— Не спешите. Пока отпустите домой. Мы имеем насчет красных командиров из казачества особое мнение. Наше доблестное войско победоносно наступает, и сейчас самое удобное время перетягивать их на свою сторону. Попытайтесь ее обработать, чтобы она написала мужу письмо такого содержания, какое нам нужно, а как переправить — забота не ваша.
…Ночью в окно тихо постучали. Анна Ивановна открыла дверь и отступила. Перед ней предстал немощный калека. Она узнала знакомого казака из Звериноголовской станицы.
Вошедший осмотрелся и, убедившись, что в комнате нет посторонних, шепотом заговорил:
— Ждите предупреждения. Сами будьте осторожны, в случае чего, сумейте вовремя скрыться. Пока ничего страшного нет.
Словно корабль, стоящий на якорях, возвышается село Красный Яр над лугами и полями. Внизу плавно несет свои воды широкая, величавая река, Уфа. Среди лугов неподвижными шлюпками кажутся кусты тальника.
Выполняя приказ главкома, вплавь и на паромах переправились на правый берег Уфы Верхнеуральский и 1-й Уральский полки.
Скрылись за горизонтом стрелки Павлищева, осела пыль за казаками Ивана Каширина.
Блюхер оторвал взгляд от горизонта, повернулся. Медленно въезжали в село повозки с ранеными, телеги беженцев, брички обоза.
К берегу подошли работники штаба, командиры частей, на взмыленном коне подскакал Томин.
Обращаясь к адъютанту, молодому, щеголеватому командиру Михаилу Голубеву, Василий Константинович сказал:
— Мост надо построить быстро и прочно.
— Но у меня ни одного специалиста. Через Сим мы кое-как навели переправу, а здесь, — начал было Голубев.
— К народу обратись, там люди всех специальностей найдутся, — посоветовал Блюхер.
— Выручу тебя, Миша, — вступил в разговор Томин. — Есть у меня в отряде дед, мастер на все руки, пришлю.
— Где рабочих, материалы взять? — озадаченно проговорил Голубев.
— Рабочих найми из местных. Покупай сараи, амбары, все необходимое. Мост построить за сутки!
— Пришлю агитатора и переводчика Ахмета Нуриева, — пообещал Николай Дмитриевич.
Блюхер развернул карту и обратился к Томину:
— Ваша задача: удержать противника, пока не закончится переправа.
— Все ясно, товарищ главком. До встречи на том берегу.
Ахмет Нуриев, приехав в Красный Яр, сразу же нашел общий язык с башкирами.
Саперам помогли и работники штаба. В сейфе бежавшего кулака нашли долговые расписки крестьян. Ахмет объяснил башкирам, что партизаны освобождают их от долгов. Собрали сход и на глазах всех присутствующих сожгли расписки.
В благодарность крестьяне стали отдавать бревна, срубы, амбары, и всем селом пошли на строительство моста.
Михаил Голубев иногда срывался, ругал строителей за нерасторопность.
— Э, парень, скоро-то не споро, тихо-то не лихо, — урезонивал его Фомич. — Надежно надо — армия пойдет.
…Томин обошел позиции. Рассказал бойцам, что от стойкости Троицкого отряда зависит судьба всей армии, жизнь детей, женщин и стариков.
…Солнце опускается к горизонту, заливая поле и перелески ярким светом. С командного пункта Томин хорошо видел, как пехота противника развернулась в цепь и стала приближаться к нашим позициям.
Троичане молчали.
Белые посчитали, что деревня занята малыми силами красных, и бросились в атаку.
Восемьсот… Шестьсот… Пятьсот шагов до противника. Вот уже хорошо различимы злобные лица.
И… грянула артиллерия, застрочили пулеметы, раздались ружейные залпы. Не ожидая такой встречи, противник побежал.
— В самый раз пустить кавалеристов Каретова, — проговорил Русяев.
— Чтобы все дело погубить, — в тон ему продолжил Томин, не отрывая глаз от бинокля.
Командующему Троицким отрядом стало ясно, что позиции у Немислярово неудачны: растянут фронт, не обеспечены фланги.
С разрешения главкома троичане ночью отошли, и заняли оборону у деревни Ново-Кулево.
Второго сентября бой продолжался с утра до вечера. Порою белые приближались до ста пятидесяти шагов, но встреченные дружным огнем откатывались.
С каждой новой атакой противника редели ряды боевиков. На исходе боеприпасы.
В ночь на 3 сентября томинцы отошли к деревне Старо-Кулево. До Красного Яра осталось три версты.
Белые выпустили по деревне Старо-Кулево несколько зажигательных снарядов. Громадным кровавым пологом зарево нависло над Красным Яром.
— Э, какую свечу поставило нам их благородие, — проговорил Фомич, не отрываясь от дела. И он мысленно обратился к Томину: «Подюжь, парень, еще немного, стараемся».
Утром 3 сентября командир Отдельного Сибирского отряда полковник Моисеев связался с Уфой.
— Докладываю, что деревня Ново-Кулево занята, но при движении на деревню Старо-Кулево отряд задержан красными. Прошу срочно прислать помощь.
Полковник преувеличил силы противника в несколько раз, чтобы не уронить своего престижа.
Саперы выполнили приказ главкома: в полдень оба берега реки были соединены.
Василий Константинович осмотрел мост. Сооружение признал надежным, но приказа на переправу не давал. Он ходил из угла в угол, думал. Главком медлил с переправой потому, что не знал на чьей стороне и где будет перевес сил. От Каширина и Павлищева никаких сообщений. Здесь главком имеет резервы и сможет еще ими маневрировать. Переправим раненых, беженцев, обозы… А что, если там поражение? Тогда — конец!
Часы отсчитывают секунды: тик-так, тик-так…
Сколько этих секунд еще пройдет…
Над селом разорвались снаряды.
Блюхер выскочил на улицу.
— Переправа! Даешь переправу! — кто-то нервически крикнул, и первая повозка двинулась к мосту, за ней хлынули другие.
В один миг главком оказался на мосту и, высоко подняв кулак, скомандовал:
— Стой! Ни с места!
В это время прискакал связной от Ивана Каширина.
Блюхер прочитал:
«…Белые разбиты. Двести человек взято в плен, остальные зарублены».
А через несколько минут поступили хорошие вести от Павлищева: противник разбит, захвачено 50000 патронов.
Главком прислушался. Эхо боя на юге, где дерутся томинцы, доносилось все слабее и слабее.
Блюхер отдал приказ на переправу.
К вечеру полковнику Моисееву пришло подкрепление.
Из последних сил сражаются бойцы 17-го Уральского полка и интернационалисты, забрасывают врага гранатами, бьют в штыковой атаке.
— Кавалерию! — устало произнес Томин.
Выстрелила пушка. Из укрытия вынеслись конники Каретова.
На командном пункте полковника Моисеева валяется новый полевой телефонный аппарат. Все поле усеяно трупами белогвардейцев в новеньком обмундировании. Рядом с ними лежат новые иностранные винтовки.
— Не помогла белочехам эта заморская вертушка, — пнув ногой телефонный аппарат, проговорил Федор Гладков.
— Вот тебе и отборные, — вытирая клинок о траву, с иронией бросил Дорофей Тарасов.
— Что отборные, что подзаборные — один черт, — презрительно процедил сквозь зубы командир полка Ефим Каретов.
…Светает.
Фомич переехал через мост, отвел лошадей в сторону, привернул. Стоит на берегу, радуется переправе.
Вот прошла сотня Федора Гладкова, за ней — Дорофея Тарасова. Простучали по настилу копыта коней Томина и Каретова и их ординарцев.
— Фомич, не задерживайся! — приказал Томин.
— Догоню, — ответил тот, а сам направился следом за командой, оставленной для уничтожения переправы.
Саперы натаскали соломы, подожгли ее.
— Фомич, идем, — пятясь от огня, позвал Ахмет.
— Иди, иди, я прыткий, догоню.
Показался белоказачий разъезд. За ним — цепи неприятеля.
«А вдруг беляки затушат огонь?» — тревожно подумал старый мастер.
Фомич лег на живот, свесился с настила и, наставив бродок в крепление быков, ударил по нему молотком. Еще, еще, но скрепка не поддавалась.
Рядом разорвались один за другим два снаряда: первый убил лошадь Фомича, второй отрезал ему отход. Но он продолжал стучать молотком. Белые уже у моста, заливают огонь. А Фомич все стучит. Вот последний удар и мост затрещал, тронулся. Середина его поплыла, увлекая все сооружение. Фомич поднялся.
— Вот вам секрет! — крикнул старик и рухнул в водоворот.
Огненное кольцо прорвано.
Сбросило осеннюю дремоту село Аскино, раскинувшееся среди лугов и полей в предгорьях Среднего Урала. Сотня разинцев под командованием Русяева вышла из села на рассвете. Она имела приказ главкома Блюхера установить связь с передовыми частями Красной Армии.
Вся партизанская армия остановилась на очередную дневку.
Со стороны кузницы доносятся удары кувалды и звон металла. Засучив рукава, повязав прожженные фартуки, пушкари и водители броневиков наваривают лемеха, перетягивают колеса, сваривают литовки.
На гумне составлены в козла винтовки. В овинах сушатся снопы, а на токах стучат цепы. За поскотиной пашут зябь. Боевики работают добротно и платы с крестьян не берут.
На току Павел Ивин учит Наташу молотить цепом. Вначале у Наташи ничего не получается. Павел смотрит на неумелые взмахи и переживает: как бы дубец цепа не задел ее головы. За спиной Наташи он берет цеп в свои руки и вдвоем продолжают молотить.
— Иди, девонька, к нам, здесь не надо сноровки, — зовут ее крестьянки, обивающие лен.
Наташа упряма: она решила научиться орудовать цепом.
В перекур вокруг Павла собрались товарищи, попросили рассказать, как он ездил к Блюхеру за патронами.
— Это было во время тяжелых боев у Ново-Кулево. Нам с Николай Дмитриевичем житья не стало: на глотку посыльные наступают, давай патроны и никаких гвоздей. А где мы их возьмем, — немного бахвалился Павел. — Завод, что ли, у нас, в самом деле? Ну вот и посылает меня Николай Дмитриевич к Василию Константиновичу и дает наказ: без патронов на глаза не показывайся.
Написал он ему, конечно, записку, что если, мол, патронов не подбросите, не ручаюсь за исход боя. Прискакал я в Красный Яр. А там — батюшки мои, светопреставление! Народу тьма-тьмущая. Повозками весь берег заставлен, хоть пруд пруди. Все ждут, когда мост будет построен саперами. Василь Константинович в штабе был. Прочитал записку. Темнее тучи сделался, жилка на виске так и запрыгала.
— Передай Томину, что патронов нет.
Я стою.
— Ну чего ты стоишь? — спрашивает.
— Без патронов ехать не могу, с патронами, — говорю, — веселее драться.
— Нет патронов, — говорит, — а сам улыбнулся.
Я стою, думаю, раз улыбнулся — даст.
— Идите.
— Разве вы не знаете Томина? — спрашиваю. — Он меня назад пошлет да еще окрестит. Не могу я без патронов явиться, и все тут.
Взглянул он еще раз на записку.
— Две тысячи? Жирно очень! Мотовством занимаетесь. Вот получай полторы тысячи и убирайся.
— А какое мотовство, когда на брата израсходовали по пяти обойм за все представление. Схватил я бумажку и к заведующему снабжением.
Вдругореть встретил я главкома на переправе. Донесение привозил от Томина: «Переправляйтесь спокойно, беляки прижаты к земле плотно». Обрадовался Василь Константинович, проговорил:
— Передай Томину, что будет у него патронов, сколько нужно.
На прощанье Василь Константинович пожал мне руку, да так, вроде бы я дружок его.
— А ты как думал, — проговорили с завистью партизаны. — Ежели бы на твоем месте мы были и нам бы пожал. Тут всех нас одна дорога друзьями сделала.
В это время, с трепещущим Красным Знаменем над головой, проскакал Аверьян Гибин. Не сбавляя хода, он прокричал:
— Встретились! Встретились!
Вечером Николай Дмитриевич записал в своем дневнике:
«12 сентября 1918 года. Поход закончен».
В огромной котловине, между каменистых гор, раскинулся старейший город седого Урала — Кунгур. С каждым днем все медленнее перекатывает свои воды Сыльва, все ниже опускаются мохнатые папахи туч на уральский отрог.
И, как бы бросая вызов надвигающейся непролазной грязи осени, с развернутым красным полотнищем, с залихватскими песнями, с озорным присвистом, чеканя шаг, к клубу Коммун стройными рядами идут красные боевики.
…Обширный зал клуба заполнили командиры частей и подразделений, представители пехоты, кавалерии, батарейцев. Они собрались по приказу командующего «для обсуждения назревших в отряде вопросов».
— Товарищи! — раздался знакомый голос.
Шум мгновенно стих, все взоры устремились к столу на сцене.
— Дорогие товарищи? — начал Томин. — Прежде чем приступить к решению наших вопросов, есть предложение от боевиков послать письмо Владимиру Ильичу Ленину.
Предложение командира встречено бурными аплодисментами, криками ура.
Когда овация стихла, Томин начал читать:
— «Двадцатое сентября 1918 года. Кунгур.
Товарищ Ленин!
Мы, рабочие, крестьяне и казаки Троицкого отряда Красной Армии, пробившиеся через цепь белогвардейских и чехословацких банд, приветствуем вас, — вождя русской революции, — как истинного защитника пролетарских идей и верим, что контрреволюция, созданная удачной подтасовкой международной буржуазии, в самом непродолжительном времени будет ликвидирована в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, и Красное Знамя труда вновь разовьется на сопках Урала.
Да здравствует всемирная революция и ее оплот Красная Армия!»
Как по команде поднялись боевики.
начали первые ряды, и звуки «Интернационала» из-под сводов зала вырвались на улицу.
Тридцатое сентября 1918 года. Москва. Кремль.
На заседании ВЦИК РСФСР решается вопрос, кто достоин награждения только что учрежденным, по предложению Владимира Ильича Ленина, орденом Красного Знамени.
Председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов предлагает первым в Республике Советов наградить Василия Константиновича Блюхера.
Это предложение было принято единогласно.
Затем Яков Михайлович стал называть имена героев легендарного рейда:
— Николай Дмитриевич Томин — первый казак, который встал на Урале под знамя Советской власти, стал вооружать казацкие советские части и оказал огромную, неоценимую услугу революции.
Он награждается золотыми часами с надписью: «Честному воину РККА Н. Д. Томину. ВЦИК. 1918 год».
ГЛУБОКИЙ РЕЙД
Легендарный поход Сводного Уральского отряда стал историей. Уже давно армия Блюхера преобразована в Тридцатую стрелковую дивизию, а Троицкий отряд — во вторую бригаду этой дивизии.
Никто из бойцов и командиров не думал тогда о том, что пройдут годы — и знамена дивизии украсятся многими орденами страны Советов, а грядущее поколение будет петь:
Войдя в состав Третьей Армии, действовавшей на левом фланге огромного Восточного фронта, Тридцатая стрелковая дивизия оказалась в самом пекле сражения.
Зимой 1918—1919 года белые наступали по всему фронту от Верхотурья до Александров-Гая.
Плохо вооруженные, раздетые и голодные, истекая кровью, красные полки защищали каждую пядь родной земли. Однако белогвардейские полчища, одетые в заморское обмундирование, с английским, американским и французским оружием, вдоволь накормленные хлебом сибирских земледельцев, продвигались на запад.
Обстановка на левом крыле Восточного фронта усложнялась предательством спецов (так называли бывших офицеров царской армии, служивших по договорам в Красной Армии), беспечностью многих командиров, нарушением законов советской власти по крестьянскому вопросу и принципов мобилизации в Красную Армию.
Пробравшись в Совдепы и Комбеды, кулачество использовало декрет о чрезвычайном налоге для борьбы с Советской властью. Налог раскладывался не по имущественному признаку, а по едокам: многодетным беднякам приходилось сдавать хлеба государству больше, чем кулакам.
Это озлобляло крестьян, и нередко они дезертировали из армии.
24 декабря пала Пермь. Красная Армия отошла за Каму.
Тяжело переживал падение Перми комбриг Томин. Трехмесячные бои в районе Кунгура бригада вела с переменным успехом. Была надежда, что вот-вот придет подкрепление, и красные полки погонят врага на Урал. И вдруг отступать — за Каму!..
Февраль 1919 года. От мороза в бездонной высоте ежатся звезды. Осташковский полк занимает оборону на правом берегу Камы. Он состоит в основном из крестьян, деревни и села которых находятся рядом, но заняты врагом. Полк только прибыл в распоряжение бригады.
Тоскливо на душе в эту ночь у красноармейца Пастухова. Он лежит в окопе голодный, пронизываемый до мозга костей холодом, а там за линией фронта — его родная деревушка Сысойка, рядом дом, семья, тепло…
Фрол Ермилович доживает пятый десяток. Его виски от непрерывных забот рано побелели, лицо изборождено глубокими морщинами, руки от тяжелой крестьянской работы натружены. Предки Пастухова были самыми бедными людьми в деревне, и каждое лето пасли скот, отсюда и фамилия его пошла. Ему же кое-как удалось выйти в «люди». В деревне он теперь не голь перекатная — в хозяйстве, хоть и плохонькая, а лошадка; обзавелся и коровенкой. Только бы жить да радоваться, но тут война началась с Германией. Вернулся домой, поправил хозяйство. Пришла Советская власть, а что изменилось?..
Был старостой кулак Гречухин, председателем Совдепа стал кулак Жилин, а Гречухин секретарит там. Скрутили они бедноту пуще прежнего. По чрезвычайному налогу Еремин за трех едоков тридцать пудов отвез, а Пастухову семьдесят приказали сдать. А где их взять — самим до нового урожая не хватит.
Чем дальше отходили войска Красной Армии на запад, тем все чаще и чаще появлялась думка у Пастухова, как бы незаметно отстать от своей части, а там потихоньку добраться до дому и переждать, пока кончится заваруха.
Неожиданно в окоп свалился человек, на маленькую голову которого нахлобучена заячья шапка. Похлопав красноармейца по плечу, он спросил:
— Как живем, папаша?
Из его рта дохнуло на Пастухова водкой и колбасой.
— Жизнь, хоть полезай в кису![5] — раздраженно пробурчал Пастухов и почувствовал ноющую боль под ложечкой и головокружение. А Заячья губа, как бы не замечая мучений Пастухова, поудобнее расположившись в окопе, начал есть колбасу и пахучий хлеб. Когда же он завернул цигарку и глубоко, со смаком затянулся, Фрол Ермилович не выдержал и попросил табачку.
— Не бавуют вас бовьшевики, — ехидно прошипел Заячья губа. — Небось, и говодный, как тот севый вовк? Ха-ха-ха, говодный да свободный! Знаем мы эту свободу. Вишь? — спросил Заячья губа, показывая на разваленную губу. — Это ваш комбвиг Томин угостив меня запвавду-матку. Вот она, их свобода. Эх, деевенщина темная! Оковпачиви вас большевики. И за что ствадаете?!
— Не своя воля, едрен корень, — тяжело вздохнул Пастухов.
— Воя, воя! — передразнил Заячья губа. — Ты шо, пивязан? Как начнет синеть — поднимайся и иди. На том беегу тебя встетят. Пево-напево — две чавки водки, фунт ковбасы и два фунта хвеба. А там иди, куда хош…
— А в спину пулю…
— Все пойдут, некому будет ствевять.
Заячья губа сунул Пастухову тоненький ломтик колбасы, кусочек хлеба и щепотку махорки. Не успел Пастухов поблагодарить, как тот уже скрылся.
В соседнем окопе красноармеец попытался задержать провокатора, но удар ножом в живот заставил навеки умолкнуть бойца…
…Штаб бригады расположился на краю деревни, в небольшом пятистеннике.
После недельной голодовки, сегодня за ужином пир горой: лепешки из отрубей, мерзлый картофель, кипяток из самовара.
Николай Дмитриевич сидит на лавке в переднем углу, слева от него Павел, справа — Аверьян.
— Чего замешкались? Не отставать! — шутит Томин, беря горячую картофелину.
— Догоним, товарищ комбриг, — ответил Аверьян.
Хозяйка глядит из кути и дивится, с каким аппетитом едят военные отрубные лепешки и сладкий картофель без соли.
— Хорошо! Ни соли, ни сахара не надо, — шутит Николай Дмитриевич, — все тут.
Быстро управившись со своей порцией, Паша облизнул губы и довольный хлопнул себя по животу:
— С таким приварком меньше хлеба идет!
Все засмеялись. Вторя взрослым, залились колокольчиком на полатях ребятишки, девочка и мальчик — погодки.
Пока хозяйка разливала чай, Аверьян вынул из полосатого мешочка три кусочка сахара, положил на стол. У ребятишек заблестели глаза, они глотнули слюну.
— Передай, Аверя, мой пай ребятишкам, — попросил Томин.
— И мой, — протянул руку с сахаром Павел.
Аверьян расколол свой кусочек пополам и наградил ребятишек сладостями поровну.
— Правильно, — одобрил Томин. — Ребятишкам сахар полезен. А нам, старикам, без толку.
Самому «старику» шел тридцать третий год.
Полночь… Разморенный теплом, крепко спит на верхнем голбце Аверьян. Павел ворочается с боку на бок на нижнем.
Николай Дмитриевич, склонившись над картой, сидит в горнице. Перед ним лампа-трехлинейка. Подперев одной рукой щеку, комбриг время от времени делает отметки на карте и тихо напевает:
«Все на запад, все на запад, — с тоской думает он. — Где же конец отступления? А как отход, так Осташковский полк недосчитывает двух-трех десятков красноармейцев: дезертируют, домой тянет. Рабочих в полку почти нет, все — крестьяне, среди которых немало кулаков — лютых врагов Советской власти. Работники особого отдела прибрали несколько провокаторов, зато оставшиеся стали ловчее, сеют смуту исподволь».
А тут еще в Москву на курсы уезжает Виктор Русяев. Этот был испытан в боях и походах, на него Томин мог положиться, как на самого себя. А кого дадут?
К тревоге за судьбу бригады у Томина в последние дни прибавилось личное: дошли слухи, что казачьи атаманы грозят расправиться с женой.
За окном забрезжило. Томин взглянул на золотые именные часы. Дверь распахнулась, и в дом вошел начальник штаба Русяев.
— Пришел попрощаться, Николай Дмитриевич, — с грустной улыбкой проговорил Виктор.
— Бросаешь меня? Ну, Витюша, доброго пути, — пожелал комбриг и обнял друга.
Раздался телефонный звонок.
— Измена! — услышал Томин тревожный голос Нуриева. — Осташка белым пошла!
— Русяев! Кавэскадрон в брешь! Дальше действуй по обстановке, — застегивая на ходу шинель, распорядился Томин.
Ординарцы пулей выскочили из избы.
В неподвижной дымке утра Томин заметил маячащие фигуры в шинелях. Удар плетки прибавил резвости Киргизу, и дезертиры стали быстро приближаться. Вдруг — пулеметная очередь. Конь Аверьяна споткнулся, ординарец кубарем полетел через его голову. Гибин вскочил, схватился за гриву коня Нуриева, который скакал сзади, и побежал дальше.
Перемахнув через пулеметное гнездо, Томин, спрыгнув с коня, отбросил от пулемета прислугу, развернул его в сторону дезертиров, нажал на спуск.
Пулеметная очередь прижала изменников к земле.
Подскакали Гибин и Нуриев. Они припали к пулеметам, а Томин с Ивиным помчались к цепям.
— За мной! В атаку! — скомандовал комбриг, оказавшись впереди перебежчиков.
Цепи поднялись и с криком: «Ура-а-а!» — покатились на вражеские позиции.
В деревне, отбитой у врага, захвачено много оружия, боеприпасов и продовольствия. Впервые за страшные дни отступления красноармейцы наелись досыта.
Полк сняли с передовой.
Томин быстро идет перед шеренгой, мечет холодный взгляд на притихших бойцов. Вот комбриг остановился около Пастухова, пристально посмотрел в глаза.
— Попутал, нечистый попутал, — бормочет Фрол Ермилович. — Как защекотало у меня в носу колбасой да махорочкой, словно бес под ребро ткнул: — Иди!.. Прости меня, старого дурака, сынок, прости, — и с этими словами красноармеец бухнулся Томину в ноги.
— Встать! Я не ваше благородие! — зло крикнул Томин, взбешенный таким унизительным поступком.
Он вырвал из рук Пастухова винтовку, снял с него ремень, сорвал с шапки пятиконечную звезду.
— Иди! Вдоволь отведай колчаковской колбасы. Когда вернешься, всем расскажешь, чем она пахнет.
Пастухов медлит.
— Иди! — сурово приказал Томин.
Сгорбившийся, жалкий, Пастухов побрел вдоль строя.
— Кто еще хочет колчаковской колбасы — идите!
Строй не шелохнулся.
Только к полудню вернулся начштаба с передовой. Обращаясь к Томину, Виктор без сожаления сообщил:
— Товарищи уехали. Подожду до следующего набора.
С каждым днем все тревожнее становилось в Куртамыше. Люди ложились спать, не зная, что их ожидает утром: колчаковский застенок или смерть.
Приуныл рабочий люд слободы. Только глаза не могли скрыть ненависти к вешателям и насильникам.
В лесах и балках собирались партизанские отряды, батраки и сельская беднота копили силу на супостатов.
Да и кержаки окрестные не с Колчаком стали! Вот тебе и «несть власти, аще не от бога». Метались контрразведчики по раскольничьему селу, выискивали смутьянов — тщетно! Молчал кержак, а налогов не платил, хлеба и скота не давал: «Нет!» А раз кержак сказал: «Нет!», не выколотишь.
Прибыл карательный отряд каппелевцев. Новая волна белого террора покатилась по селам. Кряхтел мужик под плетьми и шомполами, но молчал, только еще сильнее в душе разгоралась ненависть.
Тревожными вестями с надвигающегося неотвратимо фронта шепотом делятся в купеческом доме за преферансом местные воротилы. Да и вокруг самого Куртамыша — тревожно, пожалуй, лучше и не выезжать!
Буржуазия недовольна работой своих кровавых лакеев — местной полиции и карателей.
Только напрасно перепуганные толстосумы сетуют на них: пластаются — руки по локоть в крови!..
Ночь…
В стороне от юргамышского тракта, у опушки рощи, плотно прижавшись плечом к плечу, стоят девять узников.
В центре Яков Максимович Другов. Левой полой короткого, дубленого полушубка он прикрыл щуплые плечи рядом стоящего подростка. Раздетый и босой паренек дрожит, слышен дробный стукоток зубов.
Рядом с отцом — Владимир Яковлевич Другов. Он в шинели, накинутой на плечи.
Слезами блестит в лунном свете наледь на березах. Вдали, над темным гребнем соснового бора, тихо ползет луна — холодная, равнодушная.
В звенящей тишине щелкнули затворы. Каратели навели винтовки. Всхлипнул подросток, пригретый Друговым. И снова зловещая тишина.
И вдруг тишину потряс сильный голос Владимира Другова, он запел:
Могуче и грозно примкнул к нему голос отца:
Грянул залп…
Словно подкошенные, упали юные безвестные герои. Медленно опустилось на холодный снег грузное тело Якова Максимовича Другова. А Владимир Другов, покачнувшись вперед, продолжал стоять.
Подняв над головой правую руку, он громко прокричал:
— Вы еще стрелять не умеете, палачи! Научитесь сначала стрелять, гады!
Раздался второй залп. А Владимир Яковлевич все стоит.
Суеверные солдаты перепугались: завороженный большевик-то! Опустили винтовки, попятились назад.
— Пли! — визгливо командует офицер.
Солдаты ни с места.
Офицер выхватил винтовку у солдата и одну за другой всадил в тело Владимира Яковлевича три пули, а он… стоит.
Белогвардеец подбежал к Другову, ударом приклада по голове сбил его с ног.
Две недели каратели не разрешали родственникам хоронить убитых. Смотрите, мол, всем, кто пойдет за большевиками, будет то же самое. Хотели запугать трудовой народ.
Весть о том, что большевика пули не берут, быстро разнеслась по окрестным деревням и селам.
— Советскую власть вздумали расстрелять, — говорили между собой крестьяне. — Ишь, чего захотели?! Советы — народ, а его не перебьешь!
И потянулись крестьяне в леса, к партизанам.
Ни на один день за все эти долгие зимние месяцы тревога не покидала семью Томиных. Вскоре после расстрела большевиков Анну Ивановну предупредили, что нужно скрыться. В темную пасмурную ночь ушла она из Куртамыша: решила пробраться в село Птичье, близ Шумихи, где работала в больнице ее давняя подруга.
В начале января 1919 года в Третью Армию прибыла комиссия Центрального Комитета партии и Совета обороны, которой руководили члены ЦК РКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин и Феликс Эдмундович Дзержинский. Комиссия расследовала причины сдачи Перми, помогла командованию и местным органам навести порядок в армии, укрепить ее тыл.
Результаты работы комиссии не преминули сказаться на боеспособности всех частей Третьей Армии, и уже в январе она на некоторых участках перешла в наступление.
На решающем направлении действовала Тридцатая стрелковая дивизия. Стремительным ударом она нанесла серьезное поражение отборным штурмовым батальонам врага, обратила их в бегство, вышла на реку Каму.
Во всех частях и подразделениях соединения была зачитана телеграмма:
«Начдиву тридцатой Каширину. Братский привет славным бойцам Вашей дивизии, разгромившим штурмовые батальоны врагов родной России.
Сталин, Дзержинский».
И вот — на тебе — позорный случай с Осташковским полком! Томин ругал себя за ротозейство и всю вину за случившееся брал на себя. Комбриг отвел полк в резерв, решил очистить его от враждебных и неустойчивых элементов и вновь бросить в бой.
А тут приказ: Осташковский полк вывести в резерв дивизии. На смену ему в бригаду перевести полк имени Малышева.
Эта мера высшего командования ударила по самолюбию комбрига. Читая приказ, он между строк как бы угадывал мысли начдива: «У тебя 17-й Уральский, имени Степана Разина, Второй Горный полки. А теперь вот еще получай лучший полк в Армии, полк имени Малышева, раз ты сам неспособен навести порядок в бригаде. С такими частями и бездарь может здорово воевать».
Сгоряча Томин решил написать рапорт об освобождении его от должности, как неспособного командира. Но не успел.
Четвертого марта Колчак перешел в наступление. Начались ожесточенные бои. Тут уж не до личных обид.
В разгар боев из бригады вывели кавалерийский полк имени Степана Разина. По приказу командования фронтом Верхнеуральский полк и полк имени Степана Разина были сведены в кавалерийскую бригаду и под командованием Ивана Каширина направлены под Оренбург.
Это, как говорится, только подлило масла в огонь. Томин позвонил начдиву Николаю Каширину и, едва сдерживаясь, спросил, что за причина переброски двух полков под Оренбург?
— Командование фронтом объясняет это тем, что в наших условиях бездорожья и глубоких снегов кавалерии трудно воевать, — ответил начдив.
— Пока Иван доберется до Оренбурга, у нас снег растает, — не унимался Томин.
— Командованию виднее, где какие части использовать. Я хотел тебе позвонить, но раз ты меня опередил, то приезжай в штаб, дело есть.
Нетрудно представить, с каким настроением прибыл Томин к начальнику дивизии. Сердце его ныло, в голове вихрем носились злые думы, и весь он был охвачен нервным ознобом.
— Знакомься, Николай Дмитриевич, твой комиссар Евсей Никитич Сидоров, — после взаимного приветствия представил Каширин сидящего в его кабинете смуглого мужчину в кавалерийской шинели и охотничьих сапогах.
Словно тень упала на Томина, передернулись плечи, плетка невольно хлестнула по голенищу, холодный взгляд скользнул по сухощавому смуглому лицу комиссара, и они без особого восторга обменялись рукопожатиями.
Томин давно требовал и ждал политработника, но сейчас воспринял назначение в бригаду комиссара, как недоверие к себе, и не сдержался:
— Как же, надо Томину комиссара, а то чего доброго сбежит.
— Не придумывай, Николай Дмитриевич! Во все бригады направлены комиссары, — спокойно проговорил Каширин. — Задача у вас одна, желаю успеха.
Это сообщение начдива до некоторой степени успокоило Томина. Он сообщил Каширину обстановку в бригаде и, как бы между делом, спросил:
— А кто у вас заведует картами? Его бы мне увидеть.
Через минуту в комнату вошел невысокий толстячок в военной форме.
— Так вот каков начальник над картами? — подойдя к топографу, хлестнув плеткой по голенищу, процедил Томин. — Если сейчас же не будет выполнена заявка начштабрига — душа из тебя вон!
— Как? Вы еще не получили карт! Айн момент, — попытался отшутиться тот и под угрожающим взглядом Томина выскользнул за дверь.
Через пять минут топографические карты были в кабинете.
— Давно бы так, — бросил Томин, — без волынки.
Дорога петляла между перелесков, огибала поля, уходила за горизонт.
Впереди ехали Томин и Сидоров, позади — Гибин с Ивиным.
Поправив белую папаху, Евсей Никитич первым нарушил молчание. Томин отвечал на вопросы лаконично, ни разу не взглянув на комиссара. Казалось, он был погружен в свои думы. Однако это не смутило военкома, и после минутного молчания он вновь заговорил.
— Слушай, Николай Дмитриевич, нам с тобой работать и мы должны познакомиться поближе. Расскажи что-нибудь о себе.
— Тебе, наверное, обо мне много порассказали.
— Рассказали. Будто ты суров с людьми.
— Ладно сказали. С бездельниками и трусами. Еще что?..
— Будто рисуешься перед бойцами.
Военком напомнил случай, когда Томин под обстрелом противника читал карту, сидя на коне.
— Ерунда! Надо было молодым доказать, что не каждая пуля в лоб. Еще?
— Будто рискуешь своей жизнью напрасно, мчишься через огонь.
Николай Дмитриевич вспомнил, как однажды он повел эскадрон через горящий мост и захватил предмостное укрепление противника.
— И тут надо было, иначе сорвалась бы операция. Ну, хватит с меня! Рассказывай о себе.
— Из породы жженопятых[6] я.
Томин бросил на военкома взгляд исподлобья, правая бровь взметнулась вверх. Сидоров перехватил этот взгляд, который как бы спрашивал: «Что это еще за порода такая?», и продолжал:
— Босоногим мальчишкой пошел работать на чугунолитейный завод. В декабре пятого года участвовал в вооруженном восстании. Каторжанил в Нерчинске. Во время войны кормил вшей в окопах и за большевистскую агитацию снова попал в тюрьму. В марте семнадцатого вступил в партию большевиков, штурмовал Зимний. Подавлял восстание левых эсеров в Москве. А теперь комиссар у комбрига Томина.
Евсей Никитич говорил спокойно, как будто читал чей-то послужной список. Чем больше слушал Томин, тем заметнее отходило его сердце. Он всматривался в лицо комиссара, и теплый взгляд черных глаз его, и густые брови вразлет теперь уже не вызывали у Томина отчуждения.
…Середина мая, а погода осенняя: несколько дней подряд шел холодный дождь со снегом. На берегах реки Кильмезь бригада вела тяжелые бои с частями генерала Пепеляева.
Комбриг Томин и военком Сидоров встречались редко. Накоротке обменивались впечатлениями дня, договаривались о дальнейшей работе — и снова в части.
Под покровом темной дождливой ночи полторы сотни всадников переправились вброд через Кильмезь и по проселочной дороге углубились в дремучий лес.
Ехали молча, осторожно. Под шум дождя комбриг и комиссар изредка полушепотом перекидывались короткими фразами.
На пути попалась небольшая деревушка. От нее лесом надо добраться до села Старые Зятцы. Без проводника ехать в такую темень через лес опасно. Разыскали старого охотника, который согласился провести отряд.
Лес внезапно оборвался и в предутреннем тумане показались очертания домов.
— В атаку! — скомандовал Томин, и сотни копыт зачмокали по раскисшей поляне.
Комбриг повел конников на центр села, комиссар — на восточную окраину, чтобы отрезать путь бегства белякам.
Кавалеристы захватили штаб соединения белых, скрутили двух офицеров и обезоружили много солдат. В штабе обнаружили сервированный стол.
— Ого! Вот это гостеприимные хозяева. Не только хлеб-соль, но и кое-что повеселее припасли их благородия, — потирая руки, шутил Томин. — Не будем гордыми: закусим, чем Колчак послал. А ты, друг любезный, — Томин обратился к одному из офицеров, — от имени генерала Пепеляева передай приказ по частям о немедленном отступлении. Передай: штаб окружен красными, командование спаслось бегством.
На командном пункте Виктор Русяев заметил, как части белых начали сниматься и поспешно отходить. Заговорила артиллерия. Полки бригады под прикрытием артогня перешли в наступление. Замысел комбрига блестяще осуществился. Переломные бои на реке Кильмезь завершились.
Минули тягостные дни. В середине июня 1919 года 3-я Армия перешла в наступление, а первого июля освободила от колчаковцев Пермь. В этот же день частями 2-й Армии был занят Кунгур.
Владимир Ильич Ленин прислал освободителям телеграмму:
«Поздравляю геройские красные войска, взявшие Пермь и Кунгур. Горячий привет освободителям Урала. Во что бы то ни стало надо довести это дело быстро до полного конца…»
— Даешь Урал! — так ответили бойцы томинской бригады на поздравление вождя.
Отступая, колчаковцы поспешно отрывались от красных, а затем вгрызались в землю и оказывали упорное сопротивление.
И опять, в который раз, Томин задумывался над тем, как быстрее и успешнее преследовать врага, не давать ему возможности пустить корни на новых рубежах. Мысли вновь и вновь возвращались к созданию армейской кавалерии.
Как-то Виктор Русяев сказал:
— Вот бы нам пехоту посадить на подводы, быстрее б погнали беляков.
— Эх, Витюша! Не пехоту на подводах, а настоящую кавалерию нам нужно, — возбужденно воскликнул Томин. — Давно я такую думку имею, да не знаю, поддержат ли.
— Завтра еду в политотдел, передам комиссару дивизии о твоей «думке», — пообещал Сидоров.
Образование армейской кавалерии было крайне необходимо, и командование Третьей Армии одобрило предложение Томина.
Первый Путиловский стальной, Красных гусар, Сводный Петроградо-Уфимский кавалерийские полки и отдельный кавдивизион были объединены в Сводный кавалерийский отряд. В нем было 3400 сабель, четыре десятка пулеметов и конно-артиллерийский взвод из двух орудий.
Командовать сводным кавотрядом поручили Николаю Дмитриевичу Томину.
…Как только первые косые лучи солнца осветили крыши домов, и сизоватый парок стал подниматься над ними, к штабу Сводного кавотряда, в сопровождении эскадронных и ординарцев, подскакал командир полка Красных гусар Фандеев, Его Бурный, словно вылитый из вороненой стали, на полном скаку встал, нагнул голову с длинным белым пятном на лбу и начал медленно опускаться на колени.
— Загнал! Командир коня загнал! — закричали красноармейцы.
На крик из дома выбежали Томин, Русяев и командиры кавдивизионов.
— Циркач! Ну и циркач! — с восхищением проговорил Томин, наблюдая, как Фандеев слез с опустившегося на колени коня, потрепал его по шее и дружелюбно сказал: «Валяй отдыхать!» Конь поднялся, встряхнулся и с гордо поднятой головой, обежав вокруг дома, остановился.
— Здравия желаю, товарищи! — приложив руку к фуражке, бодро поприветствовал Фандеев командиров.
— С добрым утром, Сергей Гаврилович, — ответил за всех Томин.
Вид у командира полка Красных гусар праздничный. Нет и той суровости, которую привык видеть Томин на лице друга и за которую его прозвали «суровым командиром». На его припухших губах играла улыбка, она светилась и в темно-карих глазах.
— Все в сборе, товарищ командир, — доложил начальник штаба Русяев.
— Что ж, начнем.
Командиры сообщили о состоянии частей, настроении бойцов, их наступательном порыве.
Несколько минут Томин оценивал обстановку. Потом энергично встал и с некоторой торжественностью начал излагать план операции.
— Сводному кавалерийскому отряду приказано разрубить оборону противника, захватить горнозаводскую железную дорогу на участке Верх-Нейвинский завод — железнодорожная станция Шайтанка протяженностью пятьдесят верст и внезапным ударом разъединить группы генералов Пепеляева и Войцеховского.
Выслушав нужды и предложения командиров, Томин зачитал приказ по отряду и пожелал всем успехов в боях.
Из района Кунгура кавалеристы выступили 13 июля.
Совершая марш по горам, болотам и лесам, разрывая, словно паутину, коммуникации противника, красные конники освободили от белых горнозаводской район севернее Екатеринбурга, заняли города Алапаевск, Камышлов и Ирбит, разгромили отборные полки и дивизии белых, захватили большие трофеи и много пленных.
На станции Егоршино была захвачена подрывная команда.
— Англичан поймали, англичан! — с нескрываемым удивлением говорили кавалеристы.
— Чё каркаешь, сам ты англичан, едрен корень, — огрызнулся худой пожилой подрывник.
На ходу соскочив с коня и бросив поводья ординарцу, Николай Дмитриевич подошел к пленным.
— Чего это вас бросили их благородие? Сами пятки смазали, а вас оставили на расправу красным?
— Свинье не до поросят, коль ее на огонь тащат, — отозвался тот же подрывник.
— Кажется, знакомый голос?
— Знакомый и есть, Николай Дмитриевич, — отозвался Пастухов, отведя взгляд в сторону.
Томин, усмехнувшись, спросил:
— Ну, расскажи, расскажи про колчаковскую колбасу. Досыта наелся?
— Вот так наелся, едрен корень, — проведя рукой по горлу, ответил Пастухов. — Перво-наперво с меня содрали штаны, посля всыпали пятьдесят горячих и загнали в эту чертову команду, — под добродушный смешок конников рассказывал Пастухов. — Ох и злой я стал на их благородие. Прикажите, Николай Дмитриевич, дать мне коня и шашку…
— Связка-то с тобой, как со вшивой шубой, а до Тихого океана еще далеко, всякое может быть, — ответил Томин.
— Нет, ты уважь мою просьбу, не покаешься.
— Ну, верю, верю. Но кавалериста из тебя все равно не получится: устарел. Пойдешь помощником санитара.
Когда весть о занятии крупного железнодорожного узла и важного стратегического пункта дошла до Москвы, Владимир Ильич Ленин в атласе железных дорог России очертил точку с надписью «Егоршино».
В районе Камышлов — Ощепково Первый Путиловский стальной кавполк вышел из состава Сводного Кавалерийского отряда, двинул на Тюмень. Главные силы, не многим более двух тысяч всадников, Томин повел на юго-запад.
Кавалеристы и подошедшие части второй бригады 4 августа овладели Шадринском.
Река Исеть никогда не видела на своих берегах такого множества людей, как в этот жаркий полдень. Вода кипит от купальщиков. Лошади от удовольствия фыркают, мотают головами.
Берег пестрит солдатскими гимнастерками, рабочими блузами, девичьими косынками. Несмолкаемый гул стоит над зеркальной гладью воды.
Вокруг Павла Ивина собралась компания.
Разгладив несуществующие усы, озорно улыбнувшись, Павел ударил по струнам и запел:
Аверьян, подмигнув стоящим рядом парням, гаркнул:
Ну и пошло, и полилась русская упругая частушка, посыпалась ухарская дробь.
— Глядите, девка в брюках идет?! — удивленно проговорил заводской паренек.
— В фуражке со звездой! — протянул второй.
Подошла Наташа. Молодежь почтительно расступилась. Бронзовое от загара лицо, огнем горящие черные глаза, тонкие брови с надломом, чуть вздернутый нос, алые влажные припухшие губы притягивали взгляды заводских парней, впервые видевших девушку в военной форме.
— Красноармеец Ивин, на боевое задание! — приказала Наташа.
— Есть на боевое задание.
Через несколько минут Павел сидел за массивным столом и писал диктант. От напряжения на лбу выступили росинки пота, крепко прикушена губа.
— Написал? — спрашивает Наташа.
— Ага.
— Не ага, а да. Проверим.
Она берет у Павла тетрадь, читает. Тот видит как румянец заливает лицо девушки.
— Вот как, я стараюсь диктую, а ты пишешь совсем другое. Да как пишешь? «Я люблю тибя Наташа». В слове «тебя» пишется не «и», а «е». Если будешь и дальше так относиться к учебе — брошу заниматься.
Павел склонил голову, пряча улыбку.
Тоскливо и тягуче шли дни в Птичанской больнице. Дорогой Анна Ивановна простыла и попала на больничную койку, а когда поправилась, ее по просьбе подруги взяли нянечкой-санитаркой.
В первое время врач Агния Яновна, жена белого офицера, с холодным недоверием относилась к Анне Ивановне. Но когда Томина рассказала, что ее муж, казачий урядник, погиб на германском фронте, и в подтверждение показала фотографию Томина с георгиевскими крестами, в папахе и нашивками на погонах, врач круто изменила отношение.
— О, я обожаю казаков! — рассматривая фотографию, восхищалась она. — Они все подтянутые, стройные и нахальные. Красавец! Большой успех имел бы у наших женщин.
— Нет, нет! Мой муж не такой, — вспыхнув, проговорила Анна Ивановна.
— Наивно, милая, — бросив холодно в ответ, Агния Яновна вышла из комнаты.
Только что прошел теплый дождь. Тучи разошлись, и солнце медленно катится к горизонту.
Анна Ивановна сидит в кабинете главного врача, смотрит в окно на спокойный закат, а на душе тоскливо, тревожно: «Жив ли Николай? И что с мамой? Ни одной весточки из Куртамыша».
Вошла Агния Яновна.
— Вы случайно не знаете казака Томина? — спросила она. (Анна Ивановна жила под чужой фамилией.)
— Томина? — протянула она, с усилием поборов душевное смятение. — Томина? А что такое? Никакого Томина я не знаю…
— Отчего вы побледнели? Я просто спросила, ведь ваш муж тоже казак, может быть, знакомы.
— А что случилось?
— Ничего особенного. Вот в газете «Русская армия» пишут, что кавалерийская банда Томина прорвалась в тыл, но в районе Егоршино была окружена и полностью уничтожена. Главарь изрублен на куски нашими кавалеристами, и его труп растаскивает воронье.
У Анны Ивановны сердце зашлось.
— Страх-то какой!
— Не понимаю, чего тут страшного, — Агния Яновна повела плечами.
Три дня Анна Ивановна изнемогала от кошмаров. На четвертый день в «Русской Армии» вновь появилась статья о том, что банды Томина окружены в Ирбите и уничтожаются. Через пару дней эта же газета сообщила читателям, что банды Томина уничтожаются в Камышлове.
Анна Ивановна была теперь уверена, что ее муж жив, здоров и продолжает громить белых.
— Так кто же этот Томин? Странно… Его уничтожили в Егоршино, он воскрес в Ирбите. Уничтожали в Ирбите, воскрес в Камышлове. А теперь где ждать его воскресения? — возбужденно говорила Агния Яновна.
— Видать, в Кургане, — спокойно ответила Анна Ивановна.
— А мы куда? Они же могут прийти сюда и всех нас перебить…
— Может, и не всех…
— Вы хотите остаться у большевиков? Милое дело! Нет уж, я хоть на край света, но с большевиками жить — упаси боже!
В начале августа до Птичьего долетела радостная весть, что отряд Томина освободил Шадринск, двинулся на Шумиху.
Муж Агнии Яновны прислал за ней двух солдат, и она, в спешке упаковав чемоданы, уехала.
Анна Ивановна с часу на час ждала встречи с мужем.
Однако встречи в Шумихе не произошло. Выполняя приказ командующего Восточным фронтом Михаила Васильевича Фрунзе, Томин повел отряд из Шадринска на станцию Юргамыш с целью выйти на железную дорогу Челябинск — Курган, отрезать путь отхода белым перед фронтом Пятой армии. Но боевая обстановка сложилась так, что начальник Тридцатой стрелковой дивизии Николай Каширин вынужден был изменить маршрут Томинскому отряду. Томин повел конников на Курган.
…Греет солнце. Двое суток в седле, слипаются глаза, хоть пятаки вставляй. Аверьян прижимает Игривого ближе к Пашиному Чалке, хватает товарища за нос.
Павел вздрагивает, видит смеющихся товарищей.
— Что, клюешь, Павлуша?
— Ага. Слышал я — на сытый желудок плохо спится. Кому как, а я плохо спал, когда голодуху гонял. А как брюхо навалишь под завязку — сплю хоть бы хны.
— Значит, сытому веселее, чем голодному? — нарочито серьезно спрашивает Томин.
— Ага.
— Ну сколько надо тебя учить, как отвечать, — с укоризной протянула Наташа. — Николай Дмитриевич! Он просто невозможный ученик, хоть плачь с ним.
— Паша, если я услышу про тебя еще такое, не видать тебе больше черных глаз.
— Вам шутки, а я серьезно, — обиделась Наташа.
…Огромным треугольником раскинулся на всхолмленной Зауральской равнине Илецко-Иковский лесной массив, пересеченный множеством речушек, дорогами и лесными тропами. В восточном углу этого треугольника — Курган, цель рейда кавотряда.
В эту чащобу, словно надевая на себя огромный маскхалат, двинулись красные кавалеристы. Лес, хорошо укрывая всадников, был одновременно и противником их. Не давал возможности биться в конном строю. Пришлось сражаться пешим против белой пехоты.
Солдаты противника переходили к томинцам по одиночке и целыми группами.
Среди перебежчиков оказался двоюродный брат командира Павел Леонтьевич Томин. Николай Дмитриевич слышал, что Павла Томина, семнадцатилетнего юнца, мобилизовали колчаковцы. О дальнейшей его судьбе он ничего не знал. И вот их пути так неожиданно сошлись под Курганом.
Томин узнал, что брат артиллерист и послал его к пушкарям.
В жестоких боях кавотряд во взаимодействии с 270-м Белорецким стрелковым полком разгромил войска генерала Джунковского и к вечеру 12 августа занял кордон Лесной Просвет. Вечером в штабе Сводного кавотряда Томин собрал командный состав частей и подразделений и поставил боевую задачу — овладеть Курганом. Все было разработано и предусмотрено до мельчайших подробностей.
— Курган! Ворота в Сибирь! — повсюду слышались радостные возгласы красноармейцев.
Командование белых решило покрепче закрыть эти ворота, остановить наступление красных на Тоболе и спешно перебросило сюда свежие силы.
Жаркий, боевой день 13 августа. Петроградо-Уфимским полком заняты Введенское и Зайково. Впереди Курган!
Как всегда перед большим сражением Томин лично выехал на рекогносцировку местности. Он внимательно просматривал в бинокль каждый бугорок, перелесок, овраг. Места до мельчайшей подробности знакомы. Много раз приходилось бывать ему в этом городе по заданию хозяина. Из каждой поездки в Курган он привозил в Куртамыш пачки политической литературы для своих товарищей-единомышленников.
В бинокле — панорама деревни Курганки, прижавшейся к обрывистому берегу Тобола. Томину известно, что там скрывается отряд белоказаков, однако численность его разведке установить не удалось. Это беспокоит командира.
К штабу подскакал на взмыленном коне всадник. Его голова безжизненно опустилась на гриву, плетьми повисли руки. Ординарцы сняли красноармейца с коня. Он открыл помутневшие глаза и, тяжело вдыхая, прошептал: «Приказ… седле… о-ох…»
Боец еще что-то хотел сказать, но из его груди вырвался глухой хрип.
Когда Павел нашел зашитый в седле приказ и принес его Николаю Дмитриевичу, возмущению командира не было границ.
— Отставить наступление на Курган! Так мы уже в Кургане! — возбужденно выкрикнул Томин. — Что будем делать, Виктор?
Русяев прочитал и хладнокровно бросил:
— Наступать!
— Правильно! У нас есть приказ командующего фронтом, и мы не имеем права его не выполнить. Героя похороним утром в Кургане, а сейчас — вперед! — приказал командир.
Томин вынес командный пункт ближе к передовым позициям, на холм. Отсюда хорошо видно, как после беглого обстрела передовой линии обороны врага из единственной, оставшейся в отряде пушки пошли в атаку Красные гусары. В районе железнодорожного моста застрочили пулеметы 270-го Белорецкого полка.
Белые отбивают две атаки Красных гусар. Кавалеристы идут в третью. Пробита брешь в проволочном заграждении. Бой завязался в первой линии окопов.
— Молодцы, молодцы, ребята! Круши их! — воскликнул Томин.
Солнце садится все ниже. Вот огромный диск коснулся земли и раскаленным чугуном пополз по горизонту. От деревни Курганки стаей птиц оторвались всадники. По всему видно, белоказаки целят в правый фланг наступающих.
Командир Сводного кавотряда не спеша садится на Киргиза, поправляет кобуру пистолета. Вот он потрогал бороду, повернул голову назад, одобрительно кивнул бойцам и негромко сказал:
— Понес!
Скрежетнула сталь клинков о металлические оправы ножен. Красные кавалеристы волной перекатились через холм.
Увидев красных, белые делают разворот влево и вскоре огромные валы столкнулись. Лязг металла, ржание коней, стоны и проклятия раненых наполнили долину. В свалке боя Аверьяна Гибина оттеснили от командира. Он видит, как к Томину рвется пожилой белоказак с черной окладистой бородой. По сердцу словно ножом полоснули. Аверьян на миг закрыл глаза. Нет, сердце его не ошиблось.
— Отец! — сколь есть мочи крикнул Аверьян. — Отец, — назад!
Гибин-старший метнул на сына злобный, полный ненависти взгляд, дал шпоры коню, и шашка его блеснула над Томиным.
— Отец! И-ах!
Казак обмяк и сполз с коня.
— Эх, отец, отец, — склоняясь над мертвым, шепчет Аверьян. Бой быстро удаляется к Тоболу, шум его затихает.
— Где командир! — как молнией обожгла мысль ординарца. Аверьян пришпорил Игривого и помчался догонять своих.
При подходе полка имени Степана Разина к Троицку Пуд Титыч Тестов поставил в коробок чугунный сундучок с золотом и погнал на восток. Его тройка обгоняла шикарные, покрытые дорогими коврами кареты купцов и промышленников, брички казачьей верхушки с награбленным добром, пешеходов, идущих куда глаза глядят от большевистской «расправы».
Но как ни резво бежали кони Пуда Титыча, лихая пара Луки Платоновича Гирина обогнала его.
— Как наяривает, шельмец! — позавидовал Пуд Титыч, с грустью глядя вслед удаляющейся карете.
Только в селе Шмаково Пуд Титыч нагнал Луку Платоновича. Вместе остановились на ночлег. Проснулся салотоп раньше обычного, хотел было подтрунить над Лукой Платоновичем: «Эх, засоня!», а того и след простыл! Нет ни Гирина, ни его кареты, нет и сундучка с золотом.
Со слезами и проклятиями, не помня себя от ярости, катался Тестов по полу горницы, издавая страшный крик. Перепуганные хозяева еле привели его в чувство.
Опомнившись и оставшись в комнате один, троицкий салотоп ощупал пазуху: последнее его достояние — кожаный мешок — был при нем.
В прокуренном, грязном ресторане Кургана Пуд Титыч сел за стол с знакомым офицером. Откуда-то издалека доносятся одиночные пушечные выстрелы.
Пуд Титыч неспокойно ерзает на стуле, втянув массивную голову в плечи, поглядывает по сторонам испуганными глазами.
Протирая пенсне, офицеришко пьяным голосом говорит:
— Не волнуйся! Под Курганом томинская банда сломит шею, а там подкрепление придет и погоним опять эту мразь до Москвы.
Тестов не успел открыть рта для ответа, как в переполненном зале на мгновение установилась напряженная тишина, а потом все разом вскочили с мест и кинулись к выходу.
В дверях образовалась пробка. Люди колотили друг друга по головам, неистово кричали, ругались и выли.
— Что, что случилось? — спросил Тестов опешившего офицера.
Офицер, отругнувшись, кинулся в свалку.
Пуд Титыч не помнит, как выбрался на улицу. Беспорядочная стрельба и панические крики: «Томинцы в городе! Окружены! Красные!», нагнали на заводчика такого страха, что он, не чуя под собой ног, побежал вместе со всеми к гужевому мосту. Людской водоворот занес его на середину, прижал к перилам.
— Господа, что же вы это?! — кричит Тестов, чувствуя, как трещат его ребра.
В ответ услышал брань соседа. Перила не выдержали, рухнули, и люди посыпались в воду.
Пуд Титыч схватился за грудь — кошель на месте. В сознании тонущего мелькнул сундучок с золотом…
Начштаба ввел в бой резервы, подошедшие по вызову Томина. Оборона колчаковцев между вокзалом и мостом прорвана. Напряженность боя ежеминутно нарастает. Белые офицерские части упорно защищаются, превратив каждое строение в крепость.
Отступая под прикрытие вокзальных стен, колчаковцы облили керосином и подожгли наглухо запертую, с решетками на окнах теплушку в тупике товарного двора. Сухие доски мигом охватил огонь, пламя взметнулось вверх, отбрасывая темень высоко в небо.
На какое-то мгновение, как обычно бывает на пожарах, все кругом замерло. И внезапно из огня донеслись истошные крики, взывающие о помощи, стоны, ругань, удары в стену. Но вот в эти крики вторглась песня сильных голосов:
Кавалеристы бросились спасать узников, но было поздно. Пламя быстро охватило крашеную обшивку. Задохнулась в дыме и огне песня.
…До полночи продолжались ожесточенные бои за железнодорожный мост. Белые переходили в отчаянные контратаки, но каждый раз с большими потерями откатывались.
Где-то за Тоболом ухнула пушка. В ответ раздался ружейный залп. Все смолкло. Через несколько минут Томину доложили: железнодорожный мост занят надежно.
Томин посмотрел на часы, вырвал из блокнота лист и написал:
«Начдиву 30.
Частями вверенного мне отряда в 24 часа 13 августа с боем взят город Курган. Переправы через реку Тобол противник не успел разрушить. Захвачены пленные и трофеи, количество которых выясняется.
Командир сводного кавотряда».
И стремительная, как и он сам, подпись: «Н. Томин».
17 августа 1919 года. Вечер.
На огромном пространстве Зауралья противник выброшен за реку Тобол, на которой он рассчитывал остановить натиск красных полков. Над степями, перелесками, озерами и реками установилась тишина.
В штабе Пятой Армии раздается требовательный звонок. Командующему Михаилу Николаевичу Тухачевскому сообщают, что его просит к аппарату товарищ Меженинов, командующий Третьей Армией.
Между командармами происходит разговор.
Командарм 3: Могу ли теперь же отдать приказ о выходе отряда Томина из Кургана?
Командарм 5: Поздравляю со взятием Кургана. Левофланговая бригада 5-й дивизии тремя полками стоит в городе и районе Кургана, где находится и ваш отряд. Таким образом, связь полная.
Командарм 3: Отряд Томина после занятия Кургана получил распоряжение присоединиться к 30-й стрелковой дивизии.
Михаил Николаевич повесил трубку, призадумался. Окинул взглядом карту театра военных действий на Восточном фронте и про себя произнес:
— Блестяще! Блестяще исполнена операция казаком Томиным.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В ШАДРИНСКЕ
Вскоре после освобождения Кургана томинский кавалерийский отряд расформировали. Вернувшись в родную бригаду, Николай Дмитриевич еще долгое время выражал недовольство: в то время, как на Южном фронте успешно действовали конные соединения, на Восточном фронте не было сколько-нибудь внушительной кавалерийской силы. Между тем в Сибири необозримые просторы, несчитанные косяки коней, невешанные закрома овса. Сибиряки — прирожденные конники. Отведавшие колчаковщины, они ничего теперь не жалели для Красной Армии. Еще в дни рейда в отряд Томина вливались одиночно и группами крестьянские парни. Они приходили со своим снаряжением. Вот где можно небольшой кавотряд развернуть в крупное соединение, а затем и в армию. И насколько ускорился бы разгром белых на востоке
…В сентябре 1919 года в районе Мокроусово бригада попала в отчаянное положение и была вынуждена отойти. Только исключительный героизм и самообладание комбрига Томина спасли положение.
Не разобравшись, командующий фронтом объявил Томину выговор. Это вызвало вспышку гнева комбрига, и Николай Дмитриевич написал рапорт, в котором потребовал освободить его от занимаемой должности.
Томина вызвали в штаб дивизии.
Начальник дивизии Евгений Николаевич Сергеев приветливо улыбнувшись, встретил комбрига крепким рукопожатием.
— Вас, Николай Дмитриевич, в первую очередь интересует судьба рапорта? Вот и начнем с него, — и, предложив Томину кресло, заговорил: — Выговор — недоразумение, результат неосведомленности фронта о действиях бригады. Командующий отменил приказ.
Незаметно Сергеев перевел беседу на кавалерию. Томин сразу же преобразился, с азартом начал доказывать настоятельную необходимость в кавалерии на фронте, излагать свои планы.
Прервав беседу на полуслове, Сергеев передал Николаю Дмитриевичу бумагу.
Томин прочитал:
«Приказом по войскам 3-й Армии командир 2-й бригады 30-й стрелковой дивизии товарищ Томин назначается начальником 10-й кавалерийской дивизии. Уход товарища Томина с поста командира второй бригады — тяжелая утрата для 30-й дивизии, которая сформировалась и окрепла, благодаря неустанному труду и огромной энергии немногих лиц, среди которых товарищ Томин занимал одно из первых мест.
Решительность, умение управлять частями и исключительная доблесть, которые красной нитью проходят через всю службу тов. Томина, дают основание предположить, что и в новой должности товарищ Томин принесет огромную пользу революции.
От лица всей дивизии приносим товарищу Томину искреннюю благодарность за боевую и организаторскую работу в 30-й стрелковой дивизии, поздравляем с повышением по службе и желаем успешной работы в новой должности».
— Жаль мне вас отпускать, да ничего не попишешь, — проговорил Сергеев.
…Через несколько дней, распрощавшись с друзьями, Томин приехал в Шадринск, где формировался штаб. Костяком будущей кавалерийской дивизии стали полки Красных гусар и Путиловский стальной.
В Шадринск Анна Ивановна ехала с надеждой на то, что они будут с мужем наконец-то вместе. Но жизнь сложилась иначе. Дома Николай Дмитриевич появлялся, как ясный месяц. Инспекторские поездки по полкам и бригадам, разбросанным на сотни верст, работа в штабе и военно-трудовом бюро, председателем которого он был, призывные комиссии, воскресники и субботники, выступления на собраниях и митингах — все это требовало уйму времени.
И как бы ни был энергичен и расчетлив в работе начдив, домой приходил всегда за полночь.
Анна Ивановна погрустила и смирилась.
Томиным предложили поселиться в доме бежавшего из Шадринска купца. А несколько дней спустя им пришлось потесниться.
— Два товарища приехали заготовлять хлеб для Москвы, — сказал Николай Дмитриевич за обедом. — Не придумаю, куда их на квартиру поставить.
— Пусть занимают угловую комнату, нам и одной хватит, не балы собирать, — ответила Анна Ивановна.
— Вот и спасибо! Решила за меня задачу.
Вечером представители из Москвы переселились в квартиру Томиных и нашли здесь радушный прием.
Из многодневной поездки по полкам и бригадам Томин вернулся поздней ночью. Он похудел, осунулся и, как показалось Анне Ивановне, постарел.
Войдя в дом, Николай Дмитриевич на ходу закинул на гвоздь плетку, снял бинокль, сбросил шинель и только после этого прижал к груди голову жены.
— Как съездил, Коля? — спросила Анна Ивановна.
— Отлично, — ответил муж.
Анна Ивановна поставила на стол самовар.
— Эх, давненько чаю из самовара не пил, а чай без самовара, что свадьба без музыки, — пошутил Николай Дмитриевич и, расстегивая ворот гимнастерки, присел к столу. — Аверьян, ты что там, как невеста на смотрины собираешься? Давай быстрее за стол.
Аверьян за поездку загорел, возмужал. Взглянув на ординарца, Анна Ивановна проговорила:
— Тебе, Аверя, полезно путешествовать, поправился-то как…
— А мне везде дом родной. Недаром говорят: отчего казак гладок? Наелся и на бок, — невозмутимо ответил Аверьян.
Разливая чай, Анна Ивановна рассказывала о домашних происшествиях, а Николай Дмитриевич от души хохотал над тем, как окатил кипятком холодные стаканы Павел, и пришлось их выбросить, а «посудомойку» отчислить с кухни; над тем, как сонный котенок Пушок свалился с печи в валенок.
— Так-таки турнула Павла с кухни? — переспросил сквозь смех Николай Дмитриевич. — Где же он?
В коридоре скрипнула дверь. Анна Ивановна быстро вышла.
— Прогулял, а Николай Дмитриевич уже дома, — сказала она вошедшему. — Предупреждала: не прозевай поезд, иначе нагорит. Теперь отчитывайся сам.
Павел вошел и стал несмело переминаться у порога с ноги на ногу.
— Ты где это до такой поры шлялся? Почему коней не подал? — спросил Томин.
— В саду гулял.
— Причина уважительная, раз в такую непогодь в саду гулял до полночи. Теперь садись чай пить, — добродушно пригласил его Николай Дмитриевич.
Веселье, шутки царили за чаем. Томин подтрунивал над Павлом, рассказывал забавные истории, случившиеся с Аверьяном.
— А как наши соседи из Москвы живут-поживают? — неожиданно спросил Николай Дмитриевич. — Жаль, не догадались пригласить к чаю.
— Ох, что-то не нравятся они мне, Коля. И никакие они не заготовители, а самые настоящие спекулянты.
— Ну! Скажешь тоже — спекулянты! Почудилось!
— Да какое там почудилось. Каждый день к ним какие-то темные людишки ходят, шепчутся, торгуются. Приехали заготовлять продовольствие для рабочих, а сами только и делают, что по десять посылок в день домой отправляют.
— Ты, Анна, не шутишь?
— Какие шутки?!
Томин вышел в коридор, плечом толкнул дверь в угловую комнату.
На подоконнике, на столе, на стульях, на полу — всюду в беспорядке валялись мешочки и кульки с крупой, мукой, сахаром, у стены стояли фанерные ящики. Постели, одежда жильцов покрыты мучной пылью. Толстый, похожий на снежную бабу, мужчина воровато прятал под матрац молоток и щипцы, а второй «заготовитель» с круглой лысиной на макушке спешно подметал веником пол, оставляя белые следы.
— Николай Дмитриевич! Товарищ начдив приехал! А мы вас заждались! — наперебой заговорили жильцы.
— Подарочки решили сегодня домой приготовить, дети малые с голоду мрут, — зачастил толстяк, похожий на снежную бабу.
— Вот-вот, — пробормотал его товарищ.
В глазах Николая Дмитриевича блеснул недобрый огонек.
— Так… Ну, а вчера чем занимались? Позавчера? Доложите, сколько продовольствия для рабочего класса Москвы заготовили? Начальнику гарнизона надо знать, — перебил Томин.
— Сию минуту нарисуем вам полную картину нашей деятельности, — засуетились заготовители, вытаскивая из карманов записные книжки. — На каждом шагу невероятные трудности. Кругом саботаж, спекулянты мешают…
— Сколько вагонов хлеба отправили в Москву?
— Позвольте… Ни одного…
Сдерживая гнев, Томин спокойным голосом потребовал командировочные предписания.
— И какой дурак мог снабдить вас такими документами?! — разрывая бумажки в клочья, проговорил он. — Забирайте, мерзавцы, свои узелки и немедленно убирайтесь, чтобы духу вашего в Шадринске не было!
— Как вы смеете! Мы будем жаловаться! — завопили «представители центра».
— Это дело ваше. А сейчас — марш отсюда! — вырвав из блокнота листок, Николай Дмитриевич написал:
«Начальнику вокзала. Отправить этих подлецов с первым поездом».
Подавая записку, предупредил:
— Не уедете — расстреляю!
Заготовителей, как ветром, сдуло.
Когда волнение улеглось, Николай Дмитриевич вынул из кармана гимнастерки месячную зарплату и, подавая жене, проговорил:
— Знаешь, Аннушка, не удивляйся, что мало. Понимаешь, дело какое… Троицкий Совет отпустил мне пять тысяч рублей на формирование полка. На две тысячи девяносто шесть рублей две копейки у меня сохранились счета. А документы, подтверждающие расход остальной суммы, вместе с канцелярией сотни остались у чехов. Приходится рассчитываться своими. Об этом я написал в Троицк и перевел первый взнос.
— Но ведь ты их не прикарманил…
— Чем я это докажу?
— Ладно уж, проживем. А теперь спать. Время позднее, да и с дороги ты устал.
Из кухни уже доносился богатырский храп ординарцев.
Утром Томин разыграл в лицах сценку с «заготовителями» перед командиром первой бригады Сергеем Гавриловичем Фандеевым.
Комбриг от души смеялся. А потом серьезно заметил:
— Здорово они обвели тебя вокруг пальца. Да впрочем, так тебе и надо. Впредь не будешь таким доверчивым.
В это время в кабинет вошел военком дивизии Евсей Никитич Сидоров. Пристукнул каблуками, улыбнулся:
— Товарищи начальство! Комиссар Сидоров прибыл с Девятого съезда Российской Коммунистической партии большевиков.
— Товарищ Евсей! С приездом! — радостно заговорили наперебой начальник дивизии и комбриг. — Как Москва живет? Видел Ленина?
Сидоров отвечал сбивчиво, перескакивая от одного события к другому.
— В Москве люди сутками стоят за осьмушкой хлеба. Часто бывает, что уходят без крошки.
У Томина собрались упрямые складки на переносице. Он поставил ногу на стул и, положив руки на плечи друзей, спросил:
— Чем же мы можем помочь Москве?
— Давайте подумаем, — проговорил Фандеев. — Братьев-рабочих надо выручить.
Сидоров зажал подбородок в кулак.
— Надо бы, — сказал он, — обратиться к дивизии с предложением послать в подарок рабочим Москвы эшелон с продовольствием. Уверен, бойцы поддержат.
— А что, здорово! — одобрил Томин.
— Дельно! За свою бригаду ручаюсь, — заверил Фандеев.
Весть о посылке трудовой Москве подарка быстро облетела всю дивизию. В полках, эскадронах, на батареях прошли митинги. Выступая, красноармейцы отдавали месячные оклады, вносили в фонд подарка любимому вождю и братьям-рабочим часть продовольственного пайка. В письмах домой бойцы и командиры-зауральцы просили родных принять активное участие. В села выехали агитаторы, политработники. Были созданы отряды по закупке продовольствия. И вскоре подводы вереницей потянулись к станции. На перроне росли штабеля мешков с зерном и мукой, горы свиных и овечьих туш.
Вот к станции подъехал обоз. Мужичок в зипуне, перехваченном широкой полосатой опояской, бойко соскочил с дровен и, подойдя к командиру, спросил:
— Где тут хлебушко принимают в Москву? Сын мой Иван у Томина служит, письмо прислал. Энти три куля как бы от него, а ниже кои лежат — от нас со старухой. Они метку имеют. А как же…
Мужик разгрузил подводу, получил квитанцию на имя сына и на себя и, погоняя лошадей, поехал в город, чтобы найти сына и сказать, что просьбу его выполнил.
Штаб дивизии крестьянин нашел без труда. Он помещался в двухэтажном белом каменном здании бывшего богатея, на углу Набережной и Церковной. Ветви тополей и молодых березок гнулись от прозрачных сосулек, с крыш со звоном падала капель.
У штаба крестьянин растерялся: такой массы людей ему не приходилось видеть даже на ярмарке. Весь берег заставлен подводами. Штатские и военные, мужчины и женщины, и не поймешь, что к чему. К счастью, он встретил кума Егора, приехавшего сюда вместе с сыном из соседней деревни. Втроем пошли разыскивать Ивана.
В это время Томин и Фандеев в сопровождении командиров штаба вышли на улицу.
Выслушав просьбу мужичка в зипуне, Томин поручил одному из штабных работников помочь ему найти сына.
— А у вас что, папаша? — спросил Томин у кума Егора.
— Вот пособничка растил, да запросился к тебе. Не пустишь, бает, убегу. Одного пущать страшно, молод еще. Вот и приехали вместе. Примай подмогу. Бахилы он сам себе сшил. Мы, чай, известные шилокопы. Шубенку спроворил. Добрый конь при нем, сбруя справная.
Парень смотрел на командиров широко открытыми глазами.
— Как твоя фамилия? — спросил Томин.
— Типа Тарахтун, — выпалил тот.
— Чу, мели, Емеля, — рассердился отец. — Это ведь прозвище наше, бабка моя Лукерья тарахтела без меры, так и пошло. По пачпорту мы Барановы. Стало быть Антип Егорович Баранов.
— Спасибо, папаша, за подмогу. Будет твой Антип конником в полку Красных гусар, — проговорил Томин и, обратившись к командиру первой бригады Фандееву, закончил:
— Принимай, Сергей Гаврилович, пополнение.
В солнечный воскресный день подали состав. Отложив все дела, Томин прибыл на станцию. Под навесом несколько командиров оживленно о чем-то разговаривали. На товарной площадке не торопясь работали красноармейцы.
— Так дело не пойдет! — раздался вдруг голос начдива. — В Москве рабочий люд голодает, а мы тут разговорчиками помогаем? Так руководите погрузкой?
— Бойцы работают, нам-то что делать? — невозмутимо спросил ответственный за эшелон.
— Сейчас узнаете, что вам делать. А ну, за мной!
Подведя командиров к штабелям, Николай Дмитриевич пригнулся, уперся руками в колени, приказал:
— Кладите мешок!
Два красноармейца подхватили куль и переложили его на плечи начдива. Поудобнее поправив ношу, Николай Дмитриевич медленно взошел по мосткам в вагон. Следом за ним занес в вагон другой пятеричок командир, отвечавший за погрузку.
— Сам начальник гарнизона, сам начдив стал на погрузку! — пронеслось из конца в конец по эшелону.
Быстрее забегали красноармейцы, дружнее пошла работа. Сбросив шинель и шлем, Николай Дмитриевич работал, пока не был уложен в вагон последний мешок.
Оформлены документы. Сопровождающие заняли места. Раздался паровозный свисток, медленно сдвинулся с места состав. На вагонах — красное полотнище: «Братьям-рабочим Москвы от красных кавалеристов». Когда состав скрылся за сосновым бором, Николай Дмитриевич облегченно вздохнул, повернулся и пошел к коню.
Последний день апреля. Над городом опустился теплый вечер. В воздухе пахнет сосной, ароматом ранних цветов, листьями тополя и клена.
Над Исетью стелется сизым шлейфом туман. Приближается время отдыха от дневных хлопот и суеты.
По прямым и широким улицам к драматическому театру идут люди.
Важно, не спеша, словно совершая вечернюю прогулку, шагает уже немолодая пара. Мужчина в черном фраке, в белой сорочке с бабочкой. По внешнему виду — бывший чиновник земской управы. Рядом с ним дама в платье из зеленого бархата, в широкополой, низкой шляпе. На лицо опущена вуаль.
Пара остановилась у рекламы.
«Праздничное выступление самодеятельных артистов.
В программе: Н. В. Гоголь. Женитьба (комедия).
Концерт. Песни, пляски, акробатика».
— О, боже! — воскликнула дама. — Ну куда лезут со своим назёмным рылом: настоящие артисты и те не все справляются с этой вещью.
— Все же, душечка, посмотрим ради интереса, — предлагает мужчина.
Мимо прошла группа красноармейцев в начищенных сапогах, новеньких гимнастерках.
— Этим что ни покажут, все равно будут рады, — с нескрываемой злобой процедила сквозь зубы дама.
И ранее, когда начала выступать художественная самодеятельность, организованная Анной Ивановной, городской драмтеатр не пустовал. Сегодня же в зрительном зале негде яблоку упасть. Рядом с красноармейскими гимнастерками белые и цветастые кофточки, рабочие блузы, декольтированные платья.
В зале многоголосое гудение, нетерпеливое ожидание.
— Начинай!
— Чего тянешь?! — раздались выкрики с разных рядов.
Анна Ивановна глянула в зал и растерялась, к вискам прихлынула кровь, но тут же успокоилась: в переднем ряду Николай, Сидоров, Фандеев и другие командиры, которые, она знает, не осудят артистов.
Раздвинулся занавес. Зрители притихли.
— Кто барином-то нарядился? — спрашивает один красноармеец другого.
— Погодь, не мешай слухать, — сердится сосед.
Чем дальше развивается действие, тем оживленнее в зале, тем сильнее разгорается любопытство зрителей: кто же исполняет роли?
— Слуга-то, слуга-то барина, так это ж Типа Тарахтун, — кричат с задних рядов, узнав Антипа Баранова.
— А барин с трубкой — ординарец начдива Павел.
— Не мели…
— Тихо! Но где там — тихо! То разразится взрыв смеха, то грянут аплодисменты.
— Ну и сваха, вот бы мне такую найти, вмиг бы окрутила, — острит кто-то.
— Так это же Анна Ивановна. Ну и здорово хлопочет!
При распределении мужских ролей никаких недоразумений не было. Но когда стали распределять женские — никто не соглашался играть сваху. Пришлось эту роль Анне Ивановне взять себе.
На сцене появляется невеста.
— Наташа! Сестра! — сразу раздалось несколько радостных голосов.
Гомерическим хохотом разразился зал, когда все женихи собрались у дверей, чтобы в замочную скважину взглянуть одним глазом на невесту.
Подколесин бежит от невесты через окно.
— Куда ты?!
— Беляков не трусил, а тут!.. Эх, ма!..
— От такой красотки бежать!
Занавес закрылся. Зал стоя награждал артистов аплодисментами.
Второе отделение вечера — концерт художественной самодеятельности.
На сцене трое: скрипач, гармонист и Павел с неразлучной балалайкой.
Выходит красноармеец в буденовке, низко раскланивается публике и, под аккомпанемент трио, поет:
Вторую часть частушки подхватывают музыканты:
Красноармеец уходит. Его место занимает Наташа. На ней поверх белой кофточки цветной сарафан. Полушалок подвязан под подбородком узлом.
Разъединив концы полушалка, она звонко запела:
Трио подхватило:
Томин возмущается, досадует:
— Вот шатия!
Публика хохочет, аплодирует.
— Вот наяривают! — восхищаются бойцы.
Узнав в парне Антипа Баранова, Николай Дмитриевич про себя подумал: «Посмотрим, посмотрим, каким ты будешь боевым».
Концерт окончен.
— Ишо!
— Браво!
— Даешь еще! — кричат люди, остервенело хлопая в ладоши.
Пожилые зрители ушли домой: одни отдыхать, у других еще дела есть.
Молодежь осталась танцевать.
Это был праздничный и прощальный вечер.
Наступил день смотра готовности полков к боям и походам.
Первого мая 1920 года все бойцы, командиры и их семьи участвовали во всероссийском субботнике: чистили улицы, ремонтировали дороги и мосты, наводили порядок на железнодорожной станции.
Утро второго мая — солнечное и тихое. Город, украшенный флагами, портретами Маркса, Энгельса и Ленина, выглядел помолодевшим.
Все выше поднимается солнце, все ярче разгорается майский день.
На площади Революции ровными рядами стоят эскадроны при развернутых знаменах. Улицы запружены рабочими, крестьянами из окрестных деревень.
В центре — деревянный, скромный обелиск жертвам колчаковщины. Рядом с ним маленькая трибуна, у которой — представители партийных, советских и общественных организаций, командиры штаба.
Хор трубачей грянул встречный марш.
В конце улицы показались три всадника. Павла и Аверьяна Анна Ивановна узнала. Но кто же на Киргизе скачет? Ведь Николай никому не разрешал на него садиться. Кто за него принимает парад? Кто-то знакомый.
— Батюшки! Да это — Коля!
Николай Дмитриевич сбрил усы и бороду, надел, новое обмундирование, в котором Анна Ивановна его еще не видела.
Подскакав к площади, ординарцы круто повернули коней влево и встали позади строя первого эскадрона путиловцев.
Томин принял рапорт начальника штаба, объехал строй, поздоровался с каждым поздравлением. Навстречу неслось громкое ура.
Начдив взошел на трибуну, произнес краткую речь, и эскадроны под звуки марша Десятой кавалерийской дивизии двинулись по площади.
Томин вспомнил, какой была кавалерия третьей Армии тогда, в трудные месяцы отступления. Вместо седел — потники и половички, стремена из веревок, захудалые избитые кони. А сейчас перед ним шла настоящая конница. Цокали подковы, поскрипывала кожа новеньких седел, добротное, новое обмундирование красило кавалеристов.
Сила-силища!..
ОТ ДВИНЫ ДО ВИСЛЫ
Среди сумрачных елей, дубовых и кленовых рощ течет Дисна. Над рекой неподвижно висят серые облака, моросит дождь. Река и ее бесчисленные притоки вздулись, местами вышли из берегов, затопив болота и пойменные луга с островерхими стожками сена.
И дождь, промочивший до нитки, и незнакомые места, и длительное ожидание, — все это угнетающе действовало на красноармейцев. Хмурые, неразговорчивые, они бесцельно слонялись от хаты к хате в небольшой белорусской деревушке Ружмонты. В ней разместился штаб 10-й кавалерийской дивизии.
— Эх, и распогодушка ты, разокаянная! — измученный бездельем, присаживаясь на порог, раздраженно сказал Павел Ивин.
В углу на елтыше[7] сидит Аверьян, чинит узду. За столом помощник начальника штаба по оперативной службе Николай Власов, в накинутой на плечи новой шинели, наносит на карту последние данные разведки.
Начдив понимает настроение друзей. Совсем недавно у самого было не лучше и тому были свои причины.
Распрощавшись с родной дивизией, передав командование Фандееву, Томин в начале мая выехал в распоряжение штаба Западного фронта и здесь вынужден был бездельничать несколько недель. В конце мая на фронт начали прибывать части дивизии, но без штаба, который был расформирован командованием Приуральского военного округа. В частях почти не велась политическая работа, чем воспользовались враги и предательски увели 59-й кавалерийский казачий полк к белополякам. И хотя Томин в это время не имел никакого отношения к полку, он мучился и чувствовал себя виновным: полк-то сформирован из земляков-казаков.
Во второй половине июня все части дивизии сосредоточились в районе Полоцка, а двадцать пятого июня Томин принял командование дивизией. Пришлось срочно формировать штаб из незнакомых командиров.
На счастье, Томин встретил бывшего начальника 30-й дивизии Евгения Николаевича Сергеева, возглавлявшего Северную группу Западного фронта. Он поддержал Томина и оказал большую помощь в формировании штаба. По его же настоянию политуправление округа отпустило в дивизию Сидорова.
Сейчас Томин с благодарностью вспоминает Сергеева, всегда спокойного, чуткого и внимательного товарищами осуждает свою горячность и вспыльчивость, которые никак не может преодолеть.
Навсегда запомнилась Николаю Дмитриевичу первая встреча с командующим Западным фронтом Михаилом Николаевичем Тухачевским. Она произошла в штабе фронта, в Смоленске.
Удрученный вынужденным бездельем Томин решил встретиться с командующим и рассказать ему о своем неопределенном положении, просить назначение.
Тухачевский принял Томина сразу же после доклада адъютанта.
— Очень рад познакомиться с вами лично, Николай Дмитриевич, — мягким голосом заговорил командующий фронтом. — Как устроились с квартирой, с питанием?
— В этом отношении все нормально. Вот уже неделю бездельничаю, и не знаю когда это кончится. Решил обратиться к вам.
— Хорошо, что пришли. Через несколько дней ваше положение определится. 10-я кавалерийская дивизия находится в пути. В скором времени прибудет с юга пятнадцатая кубанская кавдивизия. Но вопрос еще не решен, как использовать кавалерию. Есть мнение специалистов придать ее бригадами армиям, — Тухачевский при этом внимательно посмотрел на Томина. — Каково будет ваше мнение?
Томин не спешил с ответом. Командующий не торопил.
— Я не знаю, кто предложил разбросать кавалерию по армиям, но такое мнение не одобряю. Надо всех кавалеристов собрать в один кулак, тогда будет больше пользы. Об этом говорит опыт конницы на Урале.
— Расскажите, Николай Дмитриевич, подробнее о действиях вашего конного отряда.
Командующий фронтом и начдив подошли к большой карте, которая занимала всю стену, и Томин около часа рассказывал о боевых действиях Сводного кавалерийского отряда Третьей Армии. Тухачевский слушал внимательно, время от времени задавал вопросы. Иногда восклицал: «Блестяще! Отлично!».
— При окончательном решении вопроса о кавалерии, я думаю, штаб фронта учтет ваше мнение.
Командующий проводил Томина до дверей, пожелал хорошего настроения и терпения.
И Томин терпеливо ждал.
Дивизия продвигалась на фронт крайне медленно, эшелоны выходили из графика. Запоздалое решение штабом фронта вопроса об использовании кавалерии привело к тому, что подготовка к боям проходила в спешке. Гая Дмитриевич Гай принял третий конный корпус буквально за несколько дней до начала боев.
В комнату вошел связной из штаба корпуса, вручил Томину пакет.
Десятой кавалерийской дивизии, наконец, ставилась боевая задача: взаимодействуя с частями 164-й отдельной стрелковой бригады, прорвать линию обороны противника и к исходу четвертого июля 1920 года выйти в район Коринка — озеро Дединское, а к исходу пятого июля занять озерное дефиле Струсты — Дресвяты — местечко Красносельцы. И далее, развивая успех, двигаться на Свенцяны. В заключении командир 3-го конного корпуса Гай писал:
«От начдива десять требую стремительности, смелости и точного исполнения боевого задания».
В одно мгновение Томин преобразился: куда девалась раздражительность и недовольство всем и всеми.
Все пришло в движение. Зазвенели полевые телефоны, захлопали двери штабной хатенки, поскакали в разные концы связные, застучала старенькая штабная машинка.
Только за полночь закончилось совещание. Командиры уехали в свои части. На полу, в углу, спят побратимы Аверьян и Павел. Натянув на голову шинель, похрапывает Коля Власов.
— Ты, кажется, не в духе? — спросил Сидоров.
Томин пристально взглянул на комиссара.
— Вот, Евсей Никитич, как будто все расписано правильно. Но бригады сформированы не совсем удачно, командиров и политработников тоже надо бы по другому расставить. За штаб тревожусь. Только один начальник штаба Мацук нам с тобой известен как толковый мужик и преданный товарищ. А остальные?..
— И остальные тоже наши, хорошие люди, — почесав кулаком подбородок, — ответил Сидоров. — Отдыхай, а я поеду во вторую бригаду.
Проводив комиссара, Томин ненадолго уснул.
Утром 4 июля 1920 года сотни орудий Западного фронта обрушили на головы пилсудчиков шквал огня.
Томин видел в бинокль, как взлетали бурые султаны земли, падали, словно подкошенные, могучие ели, рвалась проволочная сеть заграждений, рушились укрепления врага.
Вдруг грохот орудий смолк. Цепи 164-й бригады пошли на штурм. После многочасового боя три ряда проволочных заграждений были смяты. Укрепленный узел Дрегучи оказался в наших руках.
Враг бросил в бой резервы. Со стороны рощи, в тыл нашим пехотинцам, ринулись вражеские цепи.
— В атаку! Марш-марш! — уловив решающий момент, скомандовал Томин.
— В атаку! Марш-марш! — словно эхо прокатились команды по бригадам, полкам и эскадронам.
И словно тысячи маленьких солнц блеснули над конниками.
В раскатистом ура, в свисте и топоте утонула пулеметная и ружейная трескотня.
Проскакав через цепи своей пехоты, конники начали жестокую рубку.
Преследуя противника, 10-я кавдивизия к вечеру достигла озера Багудель, и после двухчасового боя заняли деревни Узгоны и Орцы.
Наступившая темнота помешала дальнейшему преследованию врага.
Перед наступлением комкор Гай приказал Томину все время держать связь с 164-й стрелковой бригадой. Это сдерживало наступление дивизии, отвлекало силы.
Шестого июля в местечке Слободка Томин отправил комкору рапорт.
Оценив обстановку, сообщив Гаю, по каким направлениям отходит противник, Томин писал:
«В силу изложенного, полагаю, что дивизию наивыгоднее бросить для занятия г. Вильно через узловую станцию Ново-Свенцяны и местечко Свенцяны. Если такая задача будет дана, то необходимо, чтобы дивизия не была связана с пехотой, то есть не приковывать дивизию к определенной линии фронта директивами высшего командования, и в выборе направления для достижения конечной цели предоставить дивизии полную инициативу».
Прочитав рапорт, Гай взял карандаш и на углу написал:
«Читал — ответить, что взвод для связи с 164-й стрелковой бригадой не посылать. Гай».
А машинистке продиктовал приказ:
«На случай моего выбытия из строя, своим заместителем назначаю начдива десятой Томина Николая Дмитриевича».
Дальнейшие события показали, что Томин не только предвидел задачу, но и подсказал комкору наилучший способ ее решения.
10 июля дивизия освободила город Свенцяны. Здесь Томин узнал, что наступление 15-й Кубанской кавдивизии застопорилось, и ей надо срочно оказать помощь.
Помогли военная смекалка и опыт боев с колчаковцами. Томин принимает дерзкое решение. На узловую станцию Новые Свенцяны под видом порожняка отправляется блиндированный поезд с казаками. Поляки не ожидали «гостей» и были ошеломлены, когда из теплушек выскочили красноармейцы. Кавалеристы из 60-го полка без боя захватили станцию и штаб полка. Польский полковник пустил себе пулю в лоб.
Оборона противника прорвана на всю глубину. Красные полки хлынули в прорыв.
Еще не успели остыть кони от бешеных скачек, еще не успокоились нервы конников, а кавалерийский корпус Гая получил новый приказ — занять город Вильно.
Три дня жарких боев на подступах к городу остались позади.
Высота 232 с плешиной на макушке замыкаете запада Свенцянскую гряду. Широкая просека, раскроив холм пополам, вышла к шоссе.
Небольшой отряд всадников остановился на опушке. Нагромождением скал открылся город перед кавалеристами. Центр раскинулся на речных террасах, и древние каменные дома сбегают к прохладным водам Вилии и Вилейки. Окраины разбросаны на широких плато.
Томин взглянул на часы и тихо проговорил:
— Сейчас начнется…
Первыми вынеслись из леса и лавиной покатились к месту путиловцы.
В бинокль Томину хорошо видно, как, прижавшись к гриве, вытянув вперед правую руку с обнаженным клинком, скачет комбриг Фандеев. Еще несколько минут, и конники будут на чугунном мосту, перекинутом через Вилейку.
В центре строя взметнулись огненные столбы, земля вздрогнула от разрывов, ударили пулеметы. Живая волна разбилась о волнорез из огня и камня. Часть кавалеристов кинулась врассыпную в придорожные рощи, другие укрылись за крупами послушных лошадей, третьи, распластав руки, легли навсегда, их кони, потеряв хозяев, мечутся по полю боя среди рвущихся снарядов.
— Не выйдет! — стиснув зубы, процедил Томин. — Понесли, ребята! — и, выхватив клинок, пришпорил коня.
С небольшой группой смельчаков Томин проскакал сквозь шквал огня, захватил мост. Кавалерийский поток хлынул в улицы.
Тем временем эскадрон под личным командованием Томина занял железнодорожную станцию и высоту, прилегающую к ней. В десять часов 14 июля начальник дивизии доносил об успешном ходе операции. Томинская дивизия оказалась первой в древней столице Литвы.
В небольшом скверике, в тени стройного тополя, накрытый продырявленной пулями шинелью лежит Павел Ивин. Слева — шашка, справа — балалайка с отбитым грифом. Струны скрутились колечками. Павел часто теряет сознание, в груди хрипит. Он дышит все тяжелее и тяжелее, придя в себя, обводит всех печальным мутным взглядом, просит пить.
Все знают, что Павел умирает, но все надеются на что-то, ждут.
Томин не скрывает своих слез.
Аверьян на коленях, наклонившись над другом, смотрит в потухающие глаза. А Павел пытается еще пошутить, тихо шепчет:
— Умирать худо, Аверя, жить лучше…
Подскакал Коля Власов. Не выпуская из рук повода, подошел к Ивину, присел на корточки. Павлуша узнал товарища, прошептал:
— Возьми мою шашку на память, в бою добыл…
— Павлик! — голос Власова сорвался, в горле перехватило. — Письмо вот тебе пришло, от Наташи.
— Про-чи-и-и-т…
Отскакал казак. Отсверкал клинок в его руке. Отзвенела лихо балалайка.
Восемь веков стоит на берегу величавого Немана Гродно. Возникнув, как пограничная крепость Киевской Руси, город несколько раз переходил к полякам, литовцам и снова возвращался в семью русских городов. Всякий, кто захватывал Гродно, старался сделать его неприступным.
Узнав о приказе взять крепость силами кавалерии, некоторые работники штаба усомнились в его реальности, сославшись при этом на то, что ни у Клаузевица, ни у Мольтке, ни у других теоретиков военного искусства нет подобных примеров.
— Не было, говорите? Тогда и Красной Армии не было. А теперь есть. И у наших теоретиков будут такие примеры, — вспылил Томин. — Мы не на бумаге воюем, а на местности. Через тридцать минут поедем на рекогносцировку.
Оставив конников на опушке соснового бора, командиры выехали на открытое поле. Вид города закрывали холмы. Пришлось придвинуться еще на несколько сот сажен вперед, подняться на гребень.
Величественная панорама открылась перед всадниками: блестели купола церквей и шпили костелов, в окнах метались лучистые отблески, зеленели сады, парки, длинным зеркалом пролег Неман. Вокруг города — пояс каменных фортов.
От небольшой рощицы, примыкавшей к крепости, оторвался маленький сизоватый клубок, впереди кавалеристов разорвался снаряд. И, как по сигналу, грянула канонада.
Киргиз под Томиным занервничал. Начдив потрепал его по гриве, и тот успокоился.
Не отрывает бинокль от глаз комбриг Фандеев. Отмечает на карте огневые точки противника Николай Власов. Только слегка прищуривается от близких взрывов Аверьян. Он знает — трусь не трусь, а пока начдив не выполнит задуманного, придется стоять.
Когда вернулись в лес, Николай Власов простодушно спросил Томина:
— Неужели, Николай Дмитриевич, вам не было страшно?
— Война — работа. Когда занят, о постороннем думать недосуг. А теперь можно подумать даже и об обеде.
У походной кухни толпились красноармейцы. Свесив ноги с обрыва, примостившись у сосны с обнаженным корнем, готовится к ужину молодой красноармеец.
— Хлеб да соль! — услышал он позади знакомый голос. Боец не успел вскочить на ноги, Томин уже сидел рядом. — О, старый знакомый, товарищ Тарахтун! — с веселой улыбкой воскликнул Николай Дмитриевич.
— Никак нет, красный кавалерист первого эксадрона полка Красных гусар Антип Баранов! — ответил боец.
И оба вспомнили, как заявились в Шадринск в штаб дивизии Антип с отцом.
— Хвались, как живешь-поживаешь, потчуй гостя.
Баранов протянул котелок и ложку. Взяв котелок, Томин покачал головой и осуждающе проговорил:
— Из такой посудины добрый хозяин пса кормить не станет. Как ты его запустил, хуже неряшливой хозяйки. — Попробовал, сморщился. — Вас всегда таким кондером кормят?
— Бывает и хуже.
— Ах подлецы, ну и подлецы. Позови повара.
Через минуту, длиннущий, как жердь, стоял перед начдивом эскадронный повар.
— Ты — повар?! — удивился Томин.
— Я, товарищ начдив, — ответил тот, вытянувшись, отчего стал казаться еще длиннее и тоньше.
— Не может быть, — помотал головой Томин. — Если повар — такая худоба, то какие ж тогда могут быть красноармейцы?..
Вокруг засмеялись.
— Плохой ты повар. Завтра мы будем штурмовать крепость. На пустой желудок такие дела не делают. А как ты кормишь бойцов? Что это за похлеб? Пригорел, постный, жидкий. Сейчас же весь запас сала положить в котел, выдать всем еще по порции хлеба.
— Есть, товарищ командир!
Томин быстро встал.
— Плотнее ужинайте и спать. Завтракать будет недосуг.
Обедали томинцы в Гродно. Богатые трофеи, и в их числе три танка, новенький английский самолет, тысячи пленных — таков был итог беспримерного боя. Советские военные историки получили блестящий пример взятия конницей сильно укрепленной крепости, который и много лет спустя приводился в военных журналах и на кафедрах военных академий.
В обед начдиву представили героя дня, подбившего танк.
— Баранов! Ну и молодчина, ну и молодчина! — обнимая и целуя красноармейца, приговаривал Томин. — Как это ты его?
— Я, я нечаянно, — заикаясь от смущения, начал Баранов. — Лежу в канаве, земля гудит, думаю — все, раздавит. Потом рукой-то до пояса дотронулся. Батюшки мои, что это, думаю, у меня такое?! От страха-то про гранаты забыл. Отцепил и почувствовал в руке силу. Хвать — есть! Другой — бух! Вот и все.
— Молодец! Вот тебе мой подарок, — и Томин вручил Баранову свои именные часы, полученные за бои на Восточном фронте в районе села Калиновское в феврале 1919 года.
Враг отходил на Ломжу. Колонна конников двигалась по дороге. Слева и справа снопы, составленные в кучи.
Начдив строго приказал не топтать и не травить крестьянские поля. Но вот он увидел бойца не в походной колонне, а едущего по полю. Тот ухитрился, не слезая с седла, кормить коня. Острый конец пики продел через уздечку и нацепил на него сноп овса. Другой конец держит в руке.
Томин не стерпел. Подскакав к всаднику, он рванул узду так, что тот чуть не вылетел из седла.
— За что? — взмолился боец и обернулся.
— Баранов?! И не знаешь за что? Ты так честь красного конника бережешь?
Баранов быстро свалился с коня, снял сноп, вытащил пику из уздечки.
— В следующий раз, если замечу, коня отберу и безлошадному казаку отдам, так и знай. А пока пойдешь на кухню картошку чистить. Понял?
— Понял, товарищ начдив!
К Баранову подъехал военком дивизии, спросил:
— Ну, как, здорово влетело?
— Сам виноват, вот и влетело.
В Ломже конный патруль доставил в штаб мужчину в сапогах и галифе, но поверх гимнастерки — фрак, на голове шляпа, на руках белые перчатки.
— В магазине барахолил, товарищ начдив, — доложили конники.
— Кто такой? — спросил Томин, приходя в ярость.
— Командир роты, — ответил вызывающе тот, — требую отпустить немедленно.
— Командир, говоришь?! Мерзавец ты, негодяй, а не командир. Я тебе сейчас покажу, подлец!
— Товарищ Томин, не марайте рук, — отстраняя начдива от мародера, спокойно проговорил Сидоров.
— Увести подлеца в особый отдел! — приказал Томин.
Как потом выяснилось, этим типом оказался бывший приказчик, офицер царской армии, в 1920 году призванный в Красную Армию.
Суд был суровым.
Конный корпус Гая стремительно двигался на запад.
Были блестящие победы. Они доставались нелегко. Хоронили под ружейные залпы одних, отправлялись в госпиталь другие.
В занятую красными Млаву прибыл в тот же день член Военного совета Четвертой Армии и вручил Томину орден Красного Знамени.
И опять день и ночь походы и бои, бои и походы.
…Горделиво катит воды красавица Висла. Щедро палит летнее солнце. На отлогом песчаном берегу лагерем раскинулись красные полки. Куда ни кинь глазом, всюду кавалеристы. Одни стирают портянки, купают лошадей, чинят обмундирование, другие пишут домой письма, поют песни.
Варшава осталась в тылу, и все ждут приказа: «На Варшаву!». У всех на устах одно: «Даешь Варшаву! Варшава!».
Проходят партийные собрания, командиры и политработники разъясняют красноармейцам, какие задачи стоят в этой войне, рассказывают, как должен вести себя с мирным населением красный боец — освободитель.
…Полдень.
Вдали над Вислой показался дым. А некоторое время спустя из-за изгиба реки выплыл пароход с баржей.
— Захватить пароход! — приказывает Томин.
Десять лодок ринулись к пароходу. Капитан, заметив их и войска на берегу, направляет пароход в противоположную сторону. Качаясь на волнах, открыв стрельбу вверх, красноармейцы подводят лодки к борту, быстро взбираются на палубу.
— Туда, туда правь, — приказывает Баранов капитану.
Тот возмущается, что-то говорит не по-русски, но выполняет приказ.
На пароходе французские офицеры-советники плыли в Варшаву. В трюмах баржи — американское продовольствие, вооружение и снаряжение.
Французских офицеров переправили на противоположный берег, а содержимое баржи забрали, как трофеи.
…На рассвете перед дивизией была поставлена задача — взять Плоцк.
Полки пошли в противоположную сторону от польской столицы.
Плоцк — сильно укрепленный город на берегу Вислы. На улицах города баррикады. Белополяки подтянули артиллерию, резервы.
Два дня гремел жестокий бой. Противник разгромлен, но бойцы не радуются.
Погиб комбриг Сергей Гаврилович Фандеев. Он жил гордо и умер на лету, возглавляя атаку лавины конников.
В этот скорбный час Томину вручили приказ: отступать.
Это было так непонятно и неожиданно для всех, что в первое мгновение не хотелось верить. Победа — и отступать? Эти два понятия не укладывались в голове Николая Дмитриевича. Не знал Томин в эту минуту, сколь тяжелое положение создалось на всем Западном фронте.
Хоронили героя в деревне Клеки, на пути отступления.
Сергей Гаврилович лежит под яблоней, в помещичьем саду.
Марлевая повязка на лбу Фандеева в крови, скрещенные руки покоятся на широкой груди. Он кажется живым, и никто не хочет верить в его смерть.
Поодаль несколько гусар роют могилу. Глухие удары лома больно отдаются в сердцах.
Томин держит в руках бинокль, шашку комбрига и внимательно, словно в первый раз, читает надпись на серебряной пластинке шашки:
«Командиру 55-го полка Красных гусар Сергею Гавриловичу Фандееву за высокопроявленную воинскую доблесть при взятии города Ирбита 21 июля 1919 года от Реввоенсовета трударма 1».
Эту награду Томин вручил другу в Шадринске.
Вспомнились Томину бои и походы, проведенные с Сергеем Гавриловичем по горам седого Урала и равнинам Зауралья.
— Сберечь это надо, — проговорил Томин, передавая шашку и бинокль работникам штаба.
Короткий траурный митинг. Эскадрон Красных гусар дает три залпа, навсегда расставаясь с любимым «суровым» командиром.
На могиле установили дощечку с надписью красным карандашом:
«Здесь похоронен красный герой Сергей Гаврилович Фандеев, павший храбро в бою под городом Плоцком 18 августа 1920 года».
Опасение главкома Каменева, высказанные в разговоре с командующим фронтом Тухачевским одиннадцатого августа 1920 года, подтвердились: «Центр Западного фронта под напором превосходящих сил противника лопнул, как перетянутая струна».
Оторвавшиеся на сотни километров от тылов и баз снабжения, уставшие и сильно поредевшие части правого крыла Западного фронта попали в окружение. На севере граница с Германией, на востоке, западе и юге — вражеские войска.
С непрерывными кровопролитными боями пехота и конница пробиваются на восток. Несколько раз кавалеристы разрывали вражеский обруч, и через прорыв выходили утомленные, обескровленные части. Но кольцо окружения смыкалось в новом месте и еще туже стягивалось.
Кончились боеприпасы, продовольствие, зарядил моросящий дождь, расквасил дороги и тропы.
Короткий привал. К чайной, где расположился на обед начдив, словно воробьи, слетелись деревенские беспризорники. Оборванные, грязные, голодные, они молча стоят у дверей и жадными глазами смотрят, как Аверьян Гибин распластывает на ломти ржаную буханку.
— Накорми ребятишек, — проговорил Томин, глядя на маленьких оборвышей.
— Нечем, Николай Дмитриевич, все тут, — ответил Аверьян.
— Дай по ломтю хлеба и куску сахара на рот, а что останется — нам.
— Хм! Я их корми, а они вырастут большими и наших же ребятишек убивать станут.
— Э, Аверя! В Польше к тому времени править будет народ. Так что не бойся за наших детей, они еще чаевничать из одного самовара будут.
Быстро управившись с хлебом и сахаром, ребятишки повернулись к Томину, низко склонили головенки и хором проговорили:
— Дзенкуе, пане.
— На здоровье, — улыбнувшись, проговорил Николай Дмитриевич.
— Слышишь, Аверьян, ребятишки спасибо нам говорят. Всю жизнь будут, помнить русских.
Николай Дмитриевич погладил косматые головы ребятишек и уехал. Вслед ему устремились несколько пар благодарных детских глаз.
К исходу дня двадцать первого августа все части корпуса и остатки стрелковой дивизии сосредоточились в районе деревни Вышень, юго-западнее города Млавы.
Утром следующего дня комкор Гай собрал командиров и комиссаров соединений. Отдав приказ на очередной прорыв, комкор изложил свой план дальнейших действий: по-прежнему двигаться вдоль границы, прорываться до последней возможности, пока не подойдет помощь.
— Разрешите, — попросил Томин, когда комкор закончил. — Близость границы действует разлагающе, и у нас сил нет удержать бойцов от перехода кордона. Громоздкие обозы нас привязывают к местности, это на руку полякам. Надо бросить все обозы к чертовой матери, пехотинцев прикрепить к кавалеристам и прорваться на юг, в глубь Польши, и затем к своим. Несомненно, что основные силы противника прикованы к нам. А там их меньше, — и Томин плеткой хлестнул по голенищу.
Гай поправил плащ на плечах. Выглядел он болезненно, под глазами мешки, цвет лица с желтизной.
— Смело, но рискованно. Мы не знаем обстановки и на легкую победу рассчитывать не приходится.
Гая поддержали и другие командиры.
Томин решил пробиваться со своей дивизией на юг.
— Нет, товарищ Томин, мы этого сделать не сможем, — твердо проговорил Сидоров. — За невыполнение приказа командир корпуса вправе и даже обязан будет тебя расстрелять.
Взгляды военкома и начдива скрестились.
— Знаю, Николай Дмитриевич, что ты не боишься смерти, но какой?! В бою, а не от пули своих.
Жуткое зрелище представляет несущая лавина из двух тысяч повозок, по тридцать-сорок повозок в ряд. Иногда две повозки сцепятся и тогда, — если бойцы не успели перескочить на летящую рядом, — пиши — пропало: оплошавших лавина смешает с землей.
Томин смотрит на этот бешеный поток, в бессильной злобе кусает губы, подергивает плечами. Повозки обтекают идущую по дороге артиллерию. Попробуй ее теперь применить в деле! Ничего не выйдет!
В только что пробитую конниками во вражеской стене брешь прошла пехота, промчались обозники, и последним двинулся штаб дивизии.
Где-то сзади, сдерживая напор неприятеля, идет вторая бригада.
Казаки отбивают наскоки шляхтичей справа. Как будто все идет хорошо. Но вот на мосту через небольшую речку образовалась пробка. Томин с товарищами поспешил к месту затора, но не успели они проехать вдоль колонны и ста шагов, как услышали паническое:
— Гони! Штаб дивизии проехал!
— Остановить! Штаб дивизии на месте! — грозно скомандовал Томин. — Паникеров буду расстреливать!
Паника пресечена вовремя. Но не прошло и пяти минут, как по скоплению войск молнией ударил новый панический вопль:
— Кавалерия! Спасайся!
Из редкого леса, который несколько минут назад миновали красные войска, выскочили польские уланы.
Томин окинул взглядом задние повозки и, подскочив к последней, падает в нее. Прямо с повозки открывает из пулемета огонь по атакующим. В рядах противника смятение. Кавалеристы заканчивают дело: враг частично порублен, частично скрывается в лесу.
«В чем дело? — спрашивает себя Томин. — Где казаки? Где вторая бригада?»
Он трет рукой грудь, от этого боль немного затихает.
Надо ж такому было случиться! Вчера в кромешной темноте его Киргиз упал в окоп и крепко подмял всадника. Боли в груди все еще не затихли, и все тело будто измолочено цепами.
— Коля, бери ординарца, найди вторую бригаду. Передай приказ, чтобы немедленно шли на соединение с главными силами. К вечеру догонишь. Ночевать будем в деревне Винценты, — и Томин поставил точку на карте северо-западнее города Кольно.
На короткий отдых войска расположились лагерем у небольшой приграничной деревушки Винценты.
Наступила ночь с двадцать пятого на двадцать шестое августа 1920 года. Томин сидит под кроной старого дуба. Рядом Аверьян ворошит костер, чтобы не погас огонь от непрерывного моросящего дождя. Он где-то раздобыл несколько картофелин и теперь поджаривает ломтики.
Со стороны границы показались силуэты трех всадников. Все насторожились. Николай Дмитриевич внимательно посмотрел и крикнул:
— Колька!
В следующее мгновение Томин стаскивает Власова с коня, тискает в объятиях, глотая соленые слезы, приговаривает:
— А я-то думал больше тебя не увижу, на погибель парня послал. Ну, рассказывай.
— Вторая бригада и казаки там, — проговорил Власов, махнув рукой в сторону границы. От усталости и переживаний он не может стоять и опустился на землю.
— Без приказа перешли? — охнул Томин.
— Разговаривал с комбригом через границу. Он говорит, что перешли границу после того, как узнали, что Томин погиб и первая бригада разгромлена. Пробирался к ним через болота: шляхтичи загнали. Коней еле вытащили: дорога перерезана, и возвращались то по польской, то по немецкой земле, — сдерживая слезы обиды, рассказывает Власов.
В это время Томина вызвали в штаб корпуса.
Командиры хмурые, злые, уставшие. В их глазах комкор читает вопрос:
— Что дальше?
— Мы сделали все, что в наших силах, — поднявшись с поваленного дерева, заговорил Гай. — На наши неоднократные вызовы штаб фронта не отвечает. — Голос его Дрожит, срывается. — Совесть красных кавалеристов чиста перед Родиной. Приказываю всем частям перейти границу.
В штаб дивизии Томин вернулся словно после тяжелой, продолжительной болезни. Сразу дали себя знать старые раны и недавний ушиб. В ответ на вопросы друзей он почти прошептал:
— Хор трубачей ко мне! — И, опустившись на пень старого дуба, зажал голову руками.
— Трубачи в сборе, — доложил начальник штаба.
Доклад начальника штаба вернул Николая Дмитриевича к действительности, заставил вспомнить, что он, Томин, начальник дивизии, что подчиненные ждут его приказаний.
Томин встал, привычным движением расправил складки на гимнастерке и знакомым для всех, бодрым, звенящим голосом приказал:
— Хор трубачей, «Интернационал!»
Под звуки пролетарского гимна, с развернутым боевым красным знаменем полк Красных гусар двинулся к границе. Последним перешел границу Путиловский Стальной кавалерийский полк.
— Все?! Организуй, Евсей Никитич, я не могу, — попросил Томин.
С брички сложили на землю документы штаба. Застучали ломы и лопаты.
— Товарищ начдив, все готово, — сообщил комиссар.
Томин подошел, опустился на колени, поцеловал холодный шелк знамени.
Молча приложился к знамени комиссар, красноармейцы, охранявшие святыню дивизии. Николай Власов приблизил шелк к губам и потом отделил его от древка.
Гибин долго возился у кучи бумаг. Наконец ему удалось разжечь костер.
Пламя озарило свежую яму, вырытую под могучим, трехстволым дубом. Завернув полотнище в непромокаемую бумагу и в чехол, комиссар бережно опустил его на дно.
Засыпали яму землей, заложили дерном, забросали листьями.
— Запомните, друзья, это место. Детям расскажите о нем, если нам не суждено будет вернуться к этому дубу, то они, наверняка, придут, — проговорил Томин.
Все сели на коней. Постояли минуту молча.
— Пора! — произнес Томин и направил Киргиза вслед за уходящими частями. Две крупные слезы скатились по щекам начдива.
Костер погас. Темнота окутала старый дуб. Гудит зловеще ветер. Хлещет дождь…
Чужой мир встретил конармейцев холодом штыков, высокомерными усмешками прусских военных чинов. Утром всех разоружили и под конвоем отправили в лагерь.
— Позор, позор-то какой! — Смотря на растущую груду оружия, покачав головой, прошептал Томин.
В лагере города Арис немецкие офицеры сразу же стали отделять командиров от красноармейцев.
Узнав об этом, Николай Дмитриевич собрал командный и политический состав.
— Немецкие власти выделяют командный состав в особую группу, — начал начдив. — Они обещают создать для нас хорошие условия. Я требую от всех вас остаться на своих постах, исполнять свой служебный долг. Советская власть поручила вам командование, только Советская власть может снять вас с постов. Мы обязаны спасти дивизию как боевую единицу для Красной Армии. Мы не имеем права бросить красноармейцев на произвол судьбы в такое время. Разъясните бойцам обстановку, в которой мы оказались, ободрите людей, не давайте им падать духом. Держитесь стойко, мужественно, ведите себя достойно. О нашем положении знает правительство. Оно ведет переговоры с немецким правительством и скоро мы вернемся на Родину.
Как и прежде, бойцы видели каждый день своего командира чисто выбритым, подтянутым, в начищенных сапогах, с блестевшей на фуражке пятиконечной звездой. Он ободрял приунывших, много шутил, заботился о раненых и больных.
Не добившись своего, — расслоения и развала дивизии, немецкие власти создали для людей невыносимые условия: наполовину убавили и без того скудный паек, совсем лишили фуража коней. Начался страшный голод, эпидемия. Чтобы как-нибудь продержаться самим и поддержать коней, бойцы продавали снаряжение, личные вещи, обмундирование.
— Надо бежать, — предложил Власов.
— Подберите надежных людей и бегите. Здесь заблудиться нельзя. Доберетесь до своих, расскажите всю правду о нас, — одобрил Томин.
— А вы? — спросил Евсей Никитич Сидоров.
— Я командир дивизии, и мне не к лицу бросать бойцов. А вам тоже следует отсюда бежать и как можно быстрее. Чем быстрее узнают в Москве о нашем положении, тем быстрее вызволят нас из беды. Действуйте!
Выполняя волю командира, первым исчез из лагеря с группой красноармейцев Николай Власов. На вторую ночь Томин проводил в дальний путь Евсея Никитича Сидорова.
А сам вместе с красноармейцами терпеливо переносил все лишения лагерной жизни: часами стоял в очереди за поварешкой баланды, вместе с другими по ночам лазил под колючей проволокой на поле за брюквой…
Чтобы сломить организованное сопротивление интернированных, немецкое командование стало разъединять части и отправлять в глубь Германии.
Под стук колес на стыках рельсов у Томина зрел свой план. Теперь уже дивизии нет, надо действовать…
На подъеме поезд замедлил ход. Томин пожал руку Аверьяна — сигнал к действию.
Аверьян бесшумно, с ловкостью кошки, прыгнул на часового, отбросил. Еще мгновение, и друзей поглотила кромешная темнота.
Кубарем скатившись с насыпи, Николай Дмитриевич вскочил. Рот и нос забиты землей, в глазах разноцветные искры, в голове звон. Выплевывая окровавленную землю, Томин услышал стон и бегом кинулся на него. Аверьян сильно ушиб колено и не мог встать.
Николай Дмитриевич взвалил на спину ординарца, поспешил к лесу. Темная ночь и чащоба надежно укрыли от погони.
К утру вышли к озеру, окруженному кустарником. Тихое, прохладное утро. Скупо пригревает солнце.
— Красота-то какая! Теперь мы сами себе хозяева. Свобода!
Захотелось по-мальчишески засвистеть от радости.
— Как мы только доберемся до нее, до свободы-то? — с унынием заметил Аверьян. — Чужбинушка, врагов так и жди из-за каждого куста.
— Так уж из-за каждого! Эх, Аверьян, Аверьян! Ничему, знать, ты в Красной Армии не научился. Да там, где есть рабочие и крестьяне, там есть и наши друзья, — возразил Томин.
— Балакать-то по-ихнему не умеем…
— Ну, ты, похоже, неисправимый худодум. Рабочий и крестьянин всегда дотолкуются. Ну, нечего зря время терять. В дорогу!
…Только на третьи сутки друзья перешли германо-польскую границу. Голодные и усталые, они подошли на заходе солнца к деревушке, прижавшейся к темной стене елового бора. Ветвистые ели свечой уходят ввысь, словно подпирая острыми вершинами небосвод. В бору тихо и прохладно. Длинные тени бороздят землю.
— Николай Дмитриевич, так это же та деревушка, где мы перед переходом границы привал делали, — проговорил Аверьян.
— Да. Ты лежи, а я схожу на разведку, возможно, здесь найдем пристанище.
Томин постучался в оконце крайнего дома. Его встретила хозяйка, пожилая полная женщина:
— Русский большевик? Прошу, пане, прошу.
Через некоторое время Томин и ординарец лежали на сеновале и жадно ели хлеб с отварным картофелем, запивая молоком.
Вечером с поля приехал хозяин. Жена встретила его быстрым рассказом. Николай Дмитриевич и Аверьян, не разбирая слов, догадались, что речь идет о них. Что будет? Что скажет хозяин?
Тот сначала распряг и поставил на выстойку лошадей. Сбрую занес под навес. И только после этого поднялся на сеновал.
— Доброго вечера, товарищи, — проговорил он на ломаном русском языке, пожимая руки конников. — Идемте кушать, там будем говорить. У нас солдат нет.
Ужинали молча. Иногда Томин украдкой бросал взгляд на угрюмое лицо хозяина, стараясь разгадать его мысли.
— Домой идем? — спросил после ужина поляк.
— Да.
— А как быть вот с этим делом? — И Зигизмунд Нисковский, так звали поляка, вынул из бокового кармана пиджака и осторожно развернул «Манифест к польскому трудовому народу городов и сел» Временного революционного комитета Польши. — Опять и власть, и леса, и поля забрали себе паны. Как нам жить дальше?
Под вопросительным взглядом поляка Томин опустил голову. У него было такое чувство, словно он был виноват перед этим незнакомым человеком за все случившееся.
Усилием воли Томин превозмог гнетущее чувство, положил руку на плечо поляка и, глядя ему прямо в глаза, сказал:
— Этот манифест, Зигизмунд, береги пуще глаза своего. Не за горами то время, когда все будет так, как написано…
Все это время Томин не переставал думать о знамени дивизии. Судьба свела его с человеком, который может помочь. Николай Дмитриевич осторожно перевел разговор. Поляк внимательно выслушал, понял, что от него хотят русские, проговорил:
— Это пашня моего свояка… На мосту часовой. Риск большой, но знамя достать надо.
…В этот раз Зигизмунд Нисковский выехал в поле раньше обычного.
Пароконную бричку он подкатил вплотную к трехствольному древнему дубу. Много легенд сложено о нем, веками стоящем на берегу Винценты, на границе с Пруссией. И вот он, Зигизмунд Нисковский, является участником рождения новой. Пройдут годы, эта простая история о боевом знамени обрастет вымыслами, человеческое воображение добавит к ней новые подробности, и она станет легендой.
В полуверсте от дуба мост через Винценту, полосатый пограничный столб, шлагбаум, часовой.
Зигизмунд распряг коней, снял с брички плуг. От надвигающегося дождя накрыл бричку так, что концы брезента свесились до земли. Начал готовить плуг к подъему зяби: стучал ключом, гремел цепью, откручивал и прикручивал лемех.
А тем временем Аверьян Гибин спустился между дрогами под брезентом и бесшумно начал орудовать солдатской лопаткой. Вынув знамя, он немножко подумал — брать или не брать остальное?
«Возьму пистолет, хороший подарок Николаю Дмитриевичу!»
Разровнял землю, разложил дерн и забросал листьями. Забрался в бричку и стал терпеливо ждать.
Не успел Зигизмунд сделать и двух кругов, разошелся дождь. Громко ругая погоду, поляк уехал домой.
Начдив со слезами на глазах прижал к груди боевое знамя. Дивизия будет жить.
— А «бельгиенка» возьми, Аверя, себе, ты заслужил, — проговорил Томин.
Аверьян повесил пистолет на ремень, погладил кобуру.
— Спасибо, друг, за все. Прощай, — обратился Николай Дмитриевич к поляку.
— Скорая встреча.
Зигизмунд Нисковский рассказал Томину, как лучше идти, дал адреса надежных людей.
…Лесными тропами, оврагами, чащобой пробирались на родину все, кому были дороги свобода и воинская честь. Ни колючие проволоки, ни часовые с собаками не могли удержать их. В пути группы красноармейцев встречались, объединялись, росли.
Семнадцатого сентября 1920 года отряд красноармейцев численностью до трехсот человек во главе с Томиным перешел Литовско-Советскую границу. А несколько дней спустя командующий Западным фронтом Тухачевский поручил Томину формирование кавалерийской дивизии. Она формировалась, в основном, из конников бывшего корпуса Гая.
По просьбе командиров и красноармейцев новому соединению было присвоено наименование «Десятая Кубанская кавалерийская дивизия».
МЕЧ И СЛОВО
Еще никогда за свою многовековую историю древний Смоленск не видел такого ликования своих граждан, как в этот солнечный ноябрьский день. Незнакомые, чужие люди жали друг другу руки, обнимались, целовались. У всех на глазах слезы радости.
Победа! Красная Армия сбросила барона Врангеля в Черное море, полностью очистила Крымский полуостров от белогвардейщины. Конец кровопролитной гражданской войне. Победа!
Николай Дмитриевич то подхватывается людским потоком, то упорно пробирается против его течения. Он радуется вместе со всеми победоносному окончанию войны и озабочен новыми задачами, которые только что поставил перед дивизией командующий Западным фронтом Тухачевский.
— Война закончена, но враги наши никогда не смирятся со своим поражением, — говорил Михаил Николаевич. — Они будут делать все, чтобы мешать нашей мирной жизни: вредить, шпионить, засылать и всячески поддерживать бандитизм, который разъедает и подтачивает молодой организм страны Советов. В районе Пинска просочилась крупная банда Балаховича. Местность благоприятная: болота, леса, топи дают возможность бандитам безнаказанно скрываться; кулачество поддерживает их, а банда пополняется за счет уголовников и дезертиров. Если вовремя не прижать ее к ногтю, может натворить дел. Есть у Балаховича и свой идейный вдохновитель, это небезызвестный Борис Савинков, один из руководителей партии эсеров. Он опаснее Балаховича. Это надо учитывать в ликвидации банды. Демагогии Савинкова вы должны противопоставить нашу, большевистскую пропаганду. Мечом карать убежденных врагов, словом открывать глаза обманутым и заблуждающимся.
Выслушав сообщения Томина по плану операции, Тухачевский одобрил их и пожелал успеха.
До отхода поезда на Полоцк оставалось немного времени, и Томин спешил.
— Николай Дмитриевич! Товарищ Томин! — услышал он сзади знакомый голос и резко обернулся.
К нему, путаясь в длинных полах шинели, бежал Николай Власов.
— Коля! Как ты здесь оказался?
— Приехал из Москвы. Там был в распоряжении инспектора кавалерии, описывал положение наших частей, интернированных в Германию. Вообще, ваш наказ выполнил. А теперь иду в штаб за назначением.
— Никуда не пойдешь, — категорически отрезал Томин. — Поедем со мной, а направление пришлют.
Томин подхватил друга, и они быстро зашагали к вокзалу. По пути рассказывали друг другу о своих похождениях после того, как расстались в лагере Арис.
Пока Десятая Кубанская кавалерийская дивизия походным порядком перешла из Полоцка в Витебск, Балахович захватил Мозырь, угрожал Гомелю и всей южной части Белоруссии.
В Витебске дивизию погрузили в эшелон и через несколько дней она прибыла к месту боев.
…Томину известен театр военных действий еще по империалистической войне. Особенно трудно здесь воевать в октябре — ноябре, когда выпавший снег быстро тает, реки взбухают, дороги становятся трудно проходимыми.
Изложив план операции командирам частей, Томин проговорил:
— Преследовать противника будет тяжело, но и удирать ему от нас не легче. Главное — изолировать его от местного населения, сковать маневренность.
Военком Сидоров предупредил собравшихся:
— Никаких судов над пленными, ни фунта хлеба, ни стакана молока у местных жителей бесплатно. Расскажите обо всем этом бойцам. Мародеров будем сурово наказывать.
Не приняв боя в Мозыре, банда начала уходить вдоль реки Птичь. В районе местечка Копаткевичи ее встретили наши конники. Часть бандитов порублена, главарь, что скользкий линь, выскользнул из рук.
В штаб доставили группу пленных. Они затравленно озираются.
— Ну, что, отвоевались? — бросил Томин.
Бандиты стоят, опустив головы, молчат.
— Откуда будешь? — спросил Сидоров одного из них в польской фуражке, натянутой на уши.
— Из Познани, пан коммунист, — отвечает на ломаном русском языке бандит, исподлобья глядя на красных командиров.
— Ого! И за каким чертом тебя сюда занесло, в Белоруссию? Дома, наверное, семья, жена, дети ждут? — проговорил Томин.
— Сына два, дочки три. Воюю за свободу Польши, — и поляк отвел глаза в сторону.
— Твоей Польше никто не угрожает, с нами она заключила перемирие, — вступил в разговор Николай Власов.
— Мир! Россия — Польша мир! — изумился поляк. — Нам никто не говорил!
— Вот отрубили бы тебе кавалеристы твой затуманенный котелок, была бы тебе свободная Польша в болоте Белоруссии. А семья мучайся без отца, — насмешливо проговорил Томин.
…А вот белобрысый дядя с выпученными глазами и толстенными губами из-под Пинска. Он воюет «за свободу вообще», чтобы, значит, не было никакой власти.
Ему в штабе тоже растолковали, что к чему, и если в начале допроса он вел себя вызывающе, то потом понял, что был обманут бандитами.
— Поезжай в свою деревню и расскажи всем правду о Советской власти. Ну, а уж если еще попадешь — пеняй на себя, — закончил Сидоров.
Пленных снабдили документами, листовками к населению и отпустили.
Преследуя банду, один эскадрон вырвался вперед и вместе с командиром попал в плен.
— С этими делайте, что хотите, — проговорил Савинков, кивнув в сторону красноармейцев, — а командира… я с ним поговорю особо.
Красноармейцев изуверски казнили. С отрезанными ушами и носом, с выколотыми глазами вернулся в дивизию командир эскадрона. Отпустили его для устрашения других.
Увидев своего товарища изуродованным, прослушав его рассказ о недолгом, но страшном плене, бойцы поклялись мстить беспощадно.
Банда Балаховича таяла с каждым днем, как отзимок весной. На реке Горынь главари Балахович и Савинков попали в ловушку, но вновь выскользнули и убежали на территорию Польши.
В район боевых действий приехал командующий Западным фронтом Тухачевский. Многие бойцы и командиры Десятой кубанской кавдивизии за проявленное мужество получили ценные подарки.
В конце декабря 1920 года Томин и Сидоров с боевыми товарищами прибыли в станицу Уманскую на Кубань. Там находился штаб 2-й конной армии, которая свертывалась в корпус.
Нового командира и комиссара казацкая вольница встретила недоброжелательно.
Бригада Ершова взбунтовалась, отказалась выступить против банды.
Томин с Сидоровым поехали к бунтовщикам, оставив в штабе личное оружие.
Станица, где размещалась бригада, что встревоженный улей. Пьяные красноармейцы шатаются по улицам, горланят песни, собираются группами, митингуют, кому-то угрожают, кого-то хотят разнести в пух и прах, что-то требуют.
Комкор и военком прошли в штаб.
— Ты что, подлец, наделал?! — со злобой в голосе начал Томин, подходя вплотную к Ершову. — Бунт затеял! — Встряхнув комбрига за отвороты шинели, Томин продолжал: — Провокатор! А поселки и станицы бандитам на разгром отдал. Гад!
— Спокойнее, Николай Дмитриевич, — проговорил Сидоров, становясь между Томиным и Ершовым. — А вы пишите приказ по бригаде, что вы предатель революции и обманули казаков.
У Ершова куда хмель делся, он дрожащими руками взял ручку, присел к столу и начал писать под диктовку Сидорова.
Взяв приказ, комкор и комиссар вышли на улицу. У штаба, что морской прибой рокочет, волнуется многоликая толпа.
— Кто вам, станичники, приказал собраться? — просто спросил военком. — Митинг, что ли, у вас?
— Сами пришли! Куда нашего батьку Филю дели? — выкрикнули из толпы.
Аверьян Гибин незаметно «бельгиенка» из кобуры переложил в карман шинели. Крепко зажал в руке, готовый в любую минуту вступиться за командиров.
— Про какого батьку Филю речь идет? — еще более спокойно спросил военком.
— Командарма нашего, отвечай, куда дели? — прогромыхал бас конника, возвышающегося в середине толпы.
— На этот вопрос отвечу. Только прошу не перебивать.
— Гутарь, гутарь, будем слухать, — выразил согласие всех казак — руки в карманах, шинель нараспашку.
Комиссар будто не замечает вопиющего нарушения дисциплины.
— Так вот, донец, добром погутарим, — спустившись на одну ступеньку ниже, продолжал Сидоров. — Советское правительство решило демобилизовать старшие возраста. Вторая конная армия свертывается в корпус. Бывалого командира, вашего батьку Филю, вызвали в Москву. Его могут поставить на должность инспектора кавалерии Красной Армии всей нашей Советской России. Так что же по вашему больше, корпус или вся кавалерия Красной Армии?
— Ха-ха! Го-го! — раздался общий смех. — Сравнил!
Военком, обращаясь к красноармейцу-великану, спросил:
— А теперь сообрази своей головой, где твой батька? Теперь, если у тебя выйдет нужда обратиться с какой просьбой, ты будешь обращаться к самому инспектору кавалерии Красной Армии.
Лицо красноармейца расплылось в самодовольной улыбке.
— Какие еще вопросы есть? — спросил Томин.
— Батька нам сулил устроить Советскую власть без коммунистов. А теперь как? — задал вопрос седоусый казак. На его шинели большой ярко-красный бант.
— Правильный вопрос, — пробасил великан. — Отвечай!
Томин развел в сторону руки и, покачав головой, проговорил:
— Вот уж как устроить вам Советскую власть без коммунистов, я не знаю.
— Не знаешь?! Нет, ты знаешь, только боишься теплое местечко потерять. При Советах без коммунистов всех партийных с постов по шапке, к едрене матери, — пискливо выкрикнул низкорослый казак. — Власть народа будет, а не коммунистов. Сейчас ты стоишь там, а я тут. А тогда наоборот: я встану там, а ты будешь тута. Вот так!
Казака одобряют товарищи, и снова нарастает гул. Томин поднял руку. Все поспешно утихли.
— Вот теперь я понял, что такое Советская власть без коммунистов: ты будешь здесь стоять, а я там. А зачем нам ждать, когда ваш «батька» даст вам такую власть, давай сейчас поменяемся местами? — предложил Томин.
— Э, нет, сейчас не можно, ты коммунист, а я беспартейный, — возразил казак и попятился.
— Ваш комкор на партийном учете у нас не состоит, — заговорил Сидоров. — Он беспартийный.
— Беспартийный?! — раздались удивленные возгласы в разных местах.
— Чему вы удивляетесь? Мало ли в нашем государстве беспартийных занимают большие государственные и военные посты. Всех и не пересчитаешь, — продолжал военком. — Вы хотите Советскую власть без коммунистов, а кто вам ее дал? Партия коммунистов и ее вождь Владимир Ильич Ленин вам дали Советскую власть. Вот кто! Коммунисты за вас шли на каторгу, под пули, на виселицы, гнили в тюрьмах, а теперь вы их побоку! Подавай вам Советы без коммунистов! Захотели, чтобы снова на вашей шее сидели кровососы — кулаки, буржуи. Чтобы снова вас, как баранов, гнали на войну убивать немцев, австрийцев, чтобы буржуи наживали капиталы на вашей крови и слезах ваших жен, детей и отцов. Этого вы хотите?!
Толпа замерла. Только слышно кое-где посапывание да тяжелый вздох. А Сидоров продолжал:
— Нет, други дорогие, народ никому не позволит вернуть Русь к старому. Ваш комкор Томин — оренбургский казак, беспартийный, но за Советскую власть во главе с коммунистами дрался и будет драться до последнего дыхания.
Боец-великан сгорбился так, что уже не возвышается над толпой. Низкорослый казак укрылся за спинами своих товарищей:
— Прежде, чем бунт поднять, вы бы хоть о себе подумали, — снова заговорил Томин. — Я мог приказать корпусу, и никогда бы вы не увидели своих близких. А кому на руку наша драка? Кому?! Врагам нашим! Кто здесь из хутора Яблоневый?
Отозвался казак-великан.
— Наверное, у тебя и жена, и дети были?
— Не были, а есть, — ответил казак.
— Не есть, а были. Пока ты здесь батьку Филю и Советскую власть без коммунистов требовал, банда спалила хутор Яблоневый, а всех жителей от мала до велика изрубила.
— О-о-о! — прокатилось негодование и скорбь по толпе.
— Вот так! — отрубил Томин. — Банда уничтожена другими частями, но людей и хутора — не вернуть! Кто спровоцировал вас на бунт, отсиживается за стеной, боится в глаза вам смотреть. Тот батька, а этот, — Томин мотнул головой на двери, — кто? Дедка? Слушайте, какой он приказ написал.
— Комбрига! Комбрига сюда! — потребовали красноармейцы.
Великан пошел к дверям. В доме раздался выстрел.
— Какие будут еще вопросы? — спросил Томин.
— Судить нас будут? — раздалось из толпы.
— Да! Вас будут сурово судить. И судьей вам будет ваша совесть, смерть ни в чем не повинных женщин и детей, — ответил Сидоров.
— Разойдись по своим частям! — приказал Томин.
…К концу апреля корпус успешно выполнил задачу по уничтожению бандитизма на Кубани.
Кулацко-эсеровский мятеж в Тамбовской губернии, поддерживаемый и вдохновляемый мировой реакцией, угрожал молодой стране Советов. На его подавление были брошены регулярные части Красной Армии.
Шестого мая командующим войсками Тамбовской губернии был назначен Михаил Николаевич Тухачевский.
«13 мая 1921 г. Тамбов. Сегодня был у Тухачевского. Мне дали 15-ю Сибирскую кавалерийскую дивизию. Командующий одобрил мой план», —
записал в своем дневнике Николай Дмитриевич Томин.
А через день новая запись.
«15 мая 1921 года. Козлов. Сегодня принял дивизию. Части боеспособны, но плохо поставлена работа штаба, чувствуется разболтанность. По-видимому будут большие трудности с фуражом и продовольствием».
В ближайшие дни о выезде в части не могло быть и речи: надо навести порядок в штабе, в комендантском эскадроне и дивизионной школе, решить вопрос с фуражом. Томин связался по прямому проводу с Тухачевским, доложил ему о вступлении в должность, попросил помочь командным и политическим составом. Командующий пообещал исполнить просьбу в ближайшие дни.
День клонился к концу. Томин стал собираться на квартиру, в которой еще не был.
В кабинет вошел худой длинный красноармеец. Глаза глубоко провалились, щеки запали. Только один нос торчит.
— Павлик! Откуда ты, с того света, что ли? — спросил Николай Дмитриевич, узнав двоюродного брата.
— Почти что с того. В Тамбове в госпитале лежал, тифом болел. Узнал, что ты здесь, вот и приехал.
— В чем только душа держится. Куда же я тебя такого определю? — протянул Николай Дмитриевич и, подумав немного, предложил: — Пойдешь ко мне ординарцем? Одному Аверьяну тяжело, да и по штатному расписанию мне положено иметь двух ординарцев.
— Конечно, пойду, — ответил Павел.
— Все, решили. На сегодня хватит.
Томину с порученцем Власовым и ординарцами предоставили квартиру прежнего начальника дивизии. Весь второй этаж — шесть комнат купеческого дома.
Обошел Томин комнаты, поморщился.
— Завтра пришлю команду, товарищ начдив, наведут полный порядок, — поспешил заверить комендант.
— А что скажут красноармейцы, местные жители? Вы об этом подумали? Сами наведем порядок, идите отдыхайте, — перебил его Томин.
Комендант ушел, Томин еще раз осмотрел комнаты. В углах паутина, на портьерах пыль, кругом грязища.
— Ну и ну! — возмущался Николай Дмитриевич.
…Подъем сделали в четыре часа. В одних трусах начали уборку.
Через три часа квартира блестела. Ординарцы проговорились, с кем наводили порядок.
— Вот это да! Вот это начдив, никакой работы не гнушается, — заговорили в городе.
В первые же дни по прибытии в Козлов Николай Дмитриевич был введен в политическую комиссию, которая занималась вопросами борьбы с бандитизмом, организацией разъяснительной работы среди крестьянства.
В уездном комитете партии собралась большая группа крестьян из разных сел и деревень; из тех волостей, где хозяйничали бандиты, приехали тайно: Антонов под угрозой кары запрещал крестьянам выезжать. Руководитель мятежа жестоко расправлялся со всеми, у кого находил листовки, раскрывающие глаза на истинную суть восстания.
— Товарищи! Мы собрали вас, чтобы побеседовать по душам, как быстрее покончить со страшным бедствием, с антоновщиной, и заняться мирным трудом, — заговорил председатель Уездного комитета партии, обращаясь к участникам беседы. — Расскажите о вашем отношении к решениям десятого съезда партии!
Несколько минут была тишина: никто не решался заговорить первым. Председатель укома партии внимательно наблюдал, выжидал.
— Ты нам наперво расскажи о решении съезда-то, мы о нем от тебя только услышали, — заговорил пожилой крестьянин с черной длинной бородой и лысиной на голове. На его ногах новенькие лапти, а рубашка домотканая, видать, уже доживает свой век.
— Вот-вот, растолкуй, что там партия решила по хрустьянам, а то живем, как звери в берлоге, — поддержал рядом сидящий.
Председатель укома партии подробно рассказал о решениях съезда, о политике партии и Советского правительства по переходу от продналога к продразверстке, об отношении к крестьянам, которые обманом и угрозами были втянуты в мятеж.
И языки у присутствующих развязались, заговорили все сразу. Руководителю совещания пришлось успокаивать, наводить порядок.
— Мудро решили, — заговорил крестьянин с длинной черной бородой. — Так-ить крестьяне-то боятся и Антонова, и Советской власти. Куда податься, ума не приложат: пойти с покаянием к Советам — от Антонова не сдобровать, пойти с Антоновым — Советы голову снимут. Хоть так, хоть эдак — смерти не миновать. Положение наше, гражданин хороший, — хоть матушку репку пой, хоть загодя в гроб ложись.
— Хлеб у крестьян берут, скот берут, картоху берут, а нам шиш с маслом, — вступили в разговор мужики. — Ни тебе керосину, ни тебе спичек, ничевошеньки нет. Гвоздя ржавого не найдешь, хоть на деревянную соху переходи, как деды наши.
Крестьяне рассказали о зверствах бандитов, их уловках.
…Врываются в деревню антоновцы, одетые в красноармейскую форму, грабят, насилуют. А следом — бандиты, как защитники хлеборобов.
— Хлебопашцам Советской власти бояться нечего, — начал Томин. — Об этом хорошо рассказал председатель укома партии. Сегодня я получил приказ командующего войсками Тамбовской губернии товарища Тухачевского: «Всему личному составу надлежит избегать нанесения какого-либо ущерба или оскорблений честным трудящимся гражданам». А по отношению к бандитам вот что в приказе сказано: «В случае явки бандита с оружием в штаб Красной Армии в течение двух недель со дня ареста семьи, семья подлежит немедленному освобождению, имущество немедленно возвращается», — Томин сделал упор на слове «немедленно». Бандитов вам тоже не следует бояться, Красная Армия берет под свою защиту всех граждан. И не когда-нибудь, а завтра же. Трудитесь на своих полях спокойно, помогайте нам истреблять банды.
Председатель укома партии, отвечая на вопросы о промышленных товарах, сообщил, что их в большом количестве отправляют в село, но по пути они теряются, эшелоны грабятся бандитами. И чем скорее ликвидируем мятежников, тем быстрее крестьяне получат от рабочих все необходимое.
Участники совещания составили обращение ко всем крестьянам. В нем они одобрили решения десятого съезда партии, призвали всех трудящихся активно бороться с бандитами.
Томин вышел на улицу. С берегов Лесного Воронежа тянет свежестью. Солнце садится на чистый горизонт. Завтра будет ясный день.
Усталый и голодный Николай Дмитриевич пришел на квартиру, и… что это?! На столе молоко, мясо, масло, картошка и хлеб.
— Откуда? — указывая на продукты, удивленно спросил Томин Власова.
— Не знаю, — пожимая плечами, ответил Власов, — я ведь тоже только что приехал.
— Наверное, снабженцы подсунули эту свинью, — раздраженно проговорил начдив. — Сейчас же ко мне начпрода! — приказал он Гибину.
— Не надо вызывать начпрода, — перебил Власов. — Это, наверное, по распоряжению Уездного комитета партии: узнали, что мы голодаем и вот подбросили.
Томина это еще больше взбесило. Он быстро зашагал по комнате, не в силах себя сдержать.
— Начдиву подбросили, а красноармейцы сегодня по фунту хлеба наполовину с овсом получили, это как? Начдив наестся до отвала, а красноармейцы голодные лягут спать, а разве не вместе за бандой гоняемся, не под одной пулей ходим.
— Послушай, давай логически рассуждать, — старался Власов убедить начдива.
— Логически?! Какая к черту логика? Ешь сам, а я не буду. Аверьян! Павел! Садитесь ешьте, вы рядовые.
Но к еде никто не прикоснулся, хотя у всех от голодухи животы подвело.
— Почему не садитесь? — сурово спросил Томин.
— Без вас мы есть не будем, — твердо заявил Гибин. — Что получается: ординарцы сыты, а командир голодный, где логика?
— Приказываю есть, — вскипел Томин, повернулся и ушел в спальню, хлопнув дверью.
На другой день Томина вызвал к прямому проводу командующий Тухачевский. Попросил доложить обстановку. Томин рассказал о мероприятиях по повышению боеспособности дивизии, о боях с бандами, о том, что многих выловили, а некоторые пришли сами.
— Как с заложниками? — поинтересовался командующий.
— Действуем согласно вашему приказу: немедленно освобождаем, и пришедшие бандиты вместе с семьями отправляются домой.
— Расскажите о положении с продовольствием.
— Вчера выдали по одному фунту овсяного хлеба. Очень туго.
— Передайте бойцам, что губернский комитет партии и командование принимают меры к улучшению снабжения войск продовольствием. В ближайшие дни будут изменения к лучшему.
— Передам, обязательно передам, товарищ Тухачевский.
— На вас поступила жалоба.
— От кого? На что?
— От уездного комитета партии. Жалуются, что вы категорически отказываетесь принимать дополнительный паек от местных органов власти. Вы начальник дивизии, и я вам приказываю не делать этого. Вы свалитесь, кто будет командовать?
— А вы бы стали есть, видя рядом с собою голодного бойца? — спросил Томин.
— Что, что-то я вас не понял? — раздался голос Тухачевского.
Аппарат замолчал.
«Зато я понял», — подумал Томин, хитро улыбаясь.
15-я Сибирская кавалерийская дивизия занимала 4-й боевой участок. В него входили Козловский, Липецкий, часть Борисоглебского и Усманского уездов — огромная территория на Тамбовщине. Красноармейцам пришлось вести бои с бандами Лобана, Бодова, Васьки Карася, уничтожать мелкие бандитские шайки.
Томин вместе с ординарцами и порученцем Николаем Власовым целыми днями находился в седле.
Начдив только что вернулся из очередной поездки. Он был в хорошем настроении: конники помогают крестьянам в подъеме зяби, в подготовке к сенокосу. В деревнях и селах видны добротные постройки, поставленные вдовам и семьям красноармейцев бойцами дивизии. Эскадроны зорко охраняют мирный труд хлеборобов.
Ознакомившись в штабе с последними оперативными данными, отдав распоряжения, Томин собрался отдыхать. Ничего не предвещало тревоги.
Вдруг в кабинет влетел дежурный по штабу.
— Товарищ начдив! Срочное донесение. Банда Васьки Карася прорвалась со второго боеучастка, движется на Козлов! От боя с нашим эскадроном уклонилась.
Томин выслушал донесение спокойно.
— Авантюрист! Ясно, что идет в Козлов освобождать заложников, чтобы показать себя спасителем «безвинных жертв большевиков».
— Поднимите по тревоге комендантский эскадрон и дившколу, — распорядился Томин.
Пока строились конники, готовясь к походу, в штаб прискакал на взмыленном коне председатель сельского совета. Он сообщил, где намерены ночевать бандиты.
Кавалеристы пошли банде наперерез, но встречи ночью не произошло. Карась, предупрежденный сообщниками, начал запутывать следы. Бандиты спустились к реке, прошли по ее руслу несколько километров и переправились на противоположный берег.
Разведка обнаружила след банды, преследование продолжалось.
В одном селе конники спросили встречного мужика, не видел ли он антоновцев.
— Никого у нас не было, вот те крест, — ответил тот и поспешно перекрестился.
Не успели всадники проехать и несколько шагов, как из ограды одного дома выскочили бандиты и открыли огонь. Кавалеристы развернулись в атаку.
Бросая убитых и раненых, банда кинулась к лесу. Часть была порублена конниками, часть скрылась в чащобе. Командир кавэскадрона, преследуя врага, повел своих конников в глубь леса, а Томин с ординарцами и порученцем возвратились в село. Вдруг из-за угла дома выбежал бандит с винтовкой наперевес и прицелился в Томина. Но меткая пуля «бельгиенка», выпущенная Аверьяном Гибиным, уложила антоновца.
В магазине винтовки врага оказывается оставался только один патрон.
— Спасибо, Аверя, этот единственный патрон мог бы оставить тебя без командира, — проговорил Томин.
— «Бельгиенка» благодарите, Николай Дмитриевич, — ответил Аверьян.
Карась, как загнанный волк, метался из стороны в сторону и всюду натыкался на красных конников. Эскадроны двигались радиально, сужая круг.
Банда таяла с каждым днем: одни гибли от пуль и шашек кавалеристов, другие разбегались по домам, шли с повинной в ревкомы и сельские советы. Настал последний день ее существования. Она попала под одновременный удар двух эскадронов. Под главарем убили лошадь. Он, пеший, отстреливаясь, побежал к лесу.
— Васька Карась не сдается! — кричал бандит, нажимая на спусковой крючок револьвера, но выстрела не последовало. На голову главаря опустился клинок.
В Тамбове не поверили, что Васька Карась убит и потребовали его тело для опознания. В состав сопровождающей команды включили ординарца начдива Павла Томина.
Вечером Николай Дмитриевич записал в дневнике:
«Семнадцатого июля 1921 года. Козлов. Части дивизии сегодня окончательно уничтожили банду Карася, убили Карася и несколько его командиров».
Начдив умолчал о том, что этим боем руководил лично он.
С утра начался зной. Поникли листья на деревьях, попрятались под навесы и амбары с распущенными крыльями курицы. Город казался вымершим. Но палящий зной ничуть не повлиял на настроение начдива.
— Ну, шатия, живо собирайтесь купаться, — проговорил весело Томин. — Сегодня весь день в нашем распоряжении, сегодня мы сами себе хозяева! Живо, живо пошевеливайтесь, — шутил Николай Дмитриевич.
Группа всадников, промчавшись по улицам города, спустилась к Лесному Воронежу. Берег пологий песчаный, вода теплая прозрачная. Нетерпеливые кони рвутся к реке, всадники с большим трудом сдерживают их.
Раздетые конники вскочили на лошадей — и в воду. Те от удовольствия фыркают, ржут. Кавалеристы брызгают друг в друга, ныряют с лошадей, плавают наперегонки. И не разберешь, где командир, где подчиненный. Все одинаковы!
Вдоволь накупавшись, Томин объявил:
— А сейчас поедем в гости к садоводу Ивану Владимировичу Мичурину. Чур, там вести себя культурно.
— В грязь лицом не ударим, — ответил за всех Николай Власов.
Сад Ивана Владимировича Мичурина и его дом находились за Донской слободой, на берегу реки Лесной Воронеж. Ехать всадникам пришлось недолго.
Иван Владимирович встретил Томина и его друзей радостно. Мичурину шел шестьдесят первый год, но он был энергичным и подвижным. Темно-карие глаза весело улыбаются.
— Очень рад дорогим гостям, — проговорил Иван Владимирович и пригласил всех пройти в сад. — Много у меня гостей перебывало, но военные, да еще начальник дивизии — впервые. Вот не ожидал! До вас тут был начальник, так он все присылал ко мне ординарцев с записками. А вы сами пожаловали.
— Я заехал, Иван Владимирович, поблагодарить вас, — несколько смущаясь, проговорил Томин.
— Меня? За что? Если не секрет.
— За саженцы, которые вы мне присылали в тринадцатом году. Прочитал я вашу статью в журнале «Сад и огород» и решил попробовать у себя вырастить яблони.
— Позвольте узнать, откуда вы родом? — оживившись, спросил Иван Владимирович.
— Издалека. Из Челябинского уезда, с берегов реки Тобола, — ответил Томин. — А это мои друзья. Коля Власов — москвич, а Аверьян Гибин — земляк.
— Значит, сибиряки! Да что я вас все расспрашиваю, не приглашу к столу. Прошу садиться.
Гости сели за стол под развесистой яблоней. Тяжелые, сочные плоды благоухали.
Извинившись перед гостями, Иван Владимирович на минуту отлучился.
Вернулся садовод не один, с ним шли две женщины, несли вазы с яблоками, вишнями, крыжовником, малиной. Это были ближайшие и верные помощники ученого — его свояченица Анастасия Васильевна и племянница Александра Семеновна.
Поставив вазы на стол женщины, приветливо улыбаясь, поздоровались с гостями.
— Позвольте полюбопытствовать, как прижились мои саженцы у вас? — спросил Мичурин.
— Две прижились и уже давно плодоносят, а три погибли, одна в первую же зиму, а остальные позднее, без меня.
— И это чудесно. Значит, и в Сибири могут расти яблони, могут цвести сады. Замечательно. Моя мечта вывести такие сорта, чтобы в Якутии росли, чтобы за Полярным кругом плодоносили!
Иван Владимирович провел гостей по своему чудесному саду, рассказал, каких трудов стоило ему создать все это бесценное богатство.
— Всю жизнь, вплоть до Октября, мне мешали в работе тупые царские чиновники. В России о моих работах мало кто знал, — с сожалением рассказывал Иван Владимирович. — А вот в Америке знали. Несколько раз приезжал ко мне профессор Френк Мейер. Департамент земледелия приглашал переехать в Америку. Обещали перевезти все деревья, гарантировали стопроцентную приживаемость. Не могу судить о деревьях, но что я не прижился бы в Америке, в этом даю полную гарантию.
Расставались большими друзьями.
Иван Владимирович приглашал Томина заезжать к нему еще. Николай Дмитриевич обещал и исполнил обещание.
— Приехал попрощаться, Иван Владимирович, — проговорил Томин.
— И далеко путь держите?
— На Дальний Восток.
— Далеконько, далеконько. Одну минуточку, одну минуточку, — и с этими словами Иван Владимирович ушел в дом.
А еще через несколько минут два молодых парня принесли упакованные ящики.
— Это вам на дорогу, — заговорил Иван Владимирович, — путь дальний. А вот из этого ящика попробуете ближе к Новому году, вот тогда узнаете, что это за яблоки.
Николай Дмитриевич от всего сердца поблагодарил Ивана Владимировича, и они распрощались.
Банды на тамбовщине уничтожены. Жизнь входила в мирную колею.
Восемнадцатого июля 1921 года Козловский уездный комитет партии постановил от имени уездного Исполнительного комитета наградить 15-ю Сибирскую кавалерийскую дивизию Красным Знаменем.
Приказом командующего войсками Тамбовской губернии Михаила Николаевича Тухачевского многие бойцы, командиры и политработники были награждены ценными подарками.
О Томине в этом приказе сказано:
«Начальник пятнадцатой сибкавдивизии тов. Томин за время командования дивизией зарекомендовал себя выдающимся кавалерийским начальником. За энергичную работу, умелое руководство и личное участие в операциях по подавлению и уничтожению банд Лобана, Бодова и Карася награждаю начальника пятнадцатой сибкавдивизии тов. Томина золотыми часами».
По просьбе Главнокомандующего Народно-революционной Армии Дальневосточной республики Василия Константиновича Блюхера Реввоенсовет республики приказал Тухачевскому откомандировать Томина на Дальний Восток.
НА БЕРЕГАХ АМУРА
Серым сентябрьским утром 1921 года по улице Читы шли четверо — Николай Дмитриевич Томин в традиционной кожаной куртке и кожаной фуражке, порученец Николай Власов — в длиннополой шинели, с маленьким чемоданчиком в руке. Аверьян Гибин, — небрежно перекинув вещмешок через плечо, рядом с ним вышагивал второй ординарец, высокий и хмурый Павел Томин.
Четверо подошли к штабу Народно-революционной армии Дальневосточной республики.
— Главнокомандующий в командировке, придется вам подождать до его приезда, — сухо сказали в штабе.
— Где прикажите жить и чем питаться? — спросил Томин.
— Без приказа Главкома зачислить вас на довольствие не имеем права, а квартиру поищите в городе.
Когда друзья вышли на улицу, Власов посмотрел на хмурое небо, сдвинул на глаза фуражку, почесал затылок:
— М-да! Неприветливо встречает нас Дальний Восток.
— К этому, Николай, нам не привыкать, — отозвался Томин. — Лишь бы проводы были теплыми.
На окраине города сняли у рабочего маленькую комнату — угол, отгороженный тесовой перегородкой. В доме — холодище.
Оставив Власова устраиваться в квартире, Томин с Аверьяном и Павлом пошли искать работу. Вернулись поздно вечером, лица и руки в угольной пыли, в мешке с полведра каменного угля и полено.
— Принимай, Николай, казну, казначеем будешь, — весело проговорил Томин, извлекая из кармана три серебряных рубля. — В прибавку отопление вырядили, работа хоть и пыльная, зато денежная…
Томин осмотрел, как порученец прибрал комнату. Две железные койки заправлены тонкими суконными одеялами. На гвозде висит взбухшая от воды шинель, рядом три гвоздя для одежды.
— Это ты вогнал гвозди?
Власов качнул головой.
Николай Дмитриевич попросил у хозяйки катушки из-под ниток, вытащил гвозди, и вновь их забил с надетыми катушками.
— Так лучше? — спросил Томин.
— Лучше, — ответил Власов.
Аверьян затопил лежанку, и вскоре в комнатушке запахло жильем.
Главнокомандующий Народно-революционной армией Василий Константинович Блюхер приехал через две недели. Увидев Николая Дмитриевича, он бросился к нему, и два старых боевых товарища долго не разжимали объятия. Виктор Русяев, не помня себя от радости, гремя и сбивая на ходу стулья, подбежал к Томину и тоже стиснул его.
— Перестань, задушишь, — взмолился Николай Дмитриевич. — Чуть ребра не переломал, медведь!..
Внимательно рассматривая друга, покачивая головой, Блюхер заметил:
— Только три года прошло, а как ты изменился, Николай Дмитриевич. Седина проклюнулась, решеточки у глаз гуще стали. Ну, а вообще-то выглядишь неплохо, бородка без видимой деформации.
— Ты помоложе меня, а тоже инеем прихватило, — ответил Томин. — Ну, не будем седину считать, пока рановато: — И приложил руку к фуражке:
— Прибыл в ваше распоряжение, товарищ главком. Встретили нас не особенно радушно, но это неважно, не на свадьбу приехали. Дрова и уголь выгружать — тоже дело нужное, но прошу использовать по назначению.
Тяжело вздохнув, Василий Константинович хмуро обронил:
— Бюрократизм еще заедает наших штабников.
Блюхер коротко ознакомил Томина с обстановкой на фронтах, рассказал о частях Народно-революционной армии. Оказалось, что подходящего назначения пока для Томина нет. Крупных соединений в армии не было, а идти на полк главком и не решался ему предложить.
Потянулись дни, недели, месяцы вынужденного бездействия. И хотя Томин не сидел, сложа руки, выполнял поручения главкома, ездил по частям и соединениям — бригады свертывал в полки, формировал новые части, инспектировал, учил, — но все это не удовлетворяло его, настроение было отвратительным. Несколько раз намеревался подать рапорт о демобилизации. Но, как только садился за стол, вспоминал, что не сегодня-завтра здесь, на Дальнем Востоке, начнутся решающие бои, а он, как трус, как дезертир, уедет, и рвал на мелкие клочки написанное.
Возвращаясь из одной командировки, Николай Дмитриевич привел с собой коня, как две капли воды похожего на Киргиза. Томин полюбил жеребчика, всю заботу о нем и уход взял на себя.
Как-то утром Павел Томин встретил командира опущенным взглядом.
— Что случилось? — спросил Николай Дмитриевич.
Ординарец медлил с ответом, потом решился:
— Конь Виктора Сергеевича поранил Киргиза.
Рана оказалась очень тяжелой, коня пришлось пристрелить. Эта капля переполнила чашу терпения Томина. В гневе он крикнул, чтобы Русяев своего коня не показывал на глаза, а утром, положив перед главкомом рапорт, проговорил:
— Прошу отправить немедленно.
Блюхер, не спеша, начал читать. Томин, поплевывая на пальцы, быстро ходил по кабинету.
— Узнаю Николая Томина. Только ты можешь так резко и прямо написать, не оглядываясь на чины. Значит, я не желаю иметь тебя на командной должности? Ну, а что будешь делать после демобилизации? — скупо улыбнувшись, спросил Блюхер.
— Поеду новую жизнь строить, ту самую, за которую воевал. Вот! По крайней мере заработанный хлеб буду есть, а не на шее у государства сидеть. Довольно, посидел два месяца, больше — ни дня!
Василий Константинович постучал граненым цветным карандашом по столу, призадумался. В синих глазах главкома мелькнула грустинка и тут же исчезла: они приняли решительное выражение.
— Присядь. Николай Дмитриевич, поговорим. Приближается горячая пора. Военный совет решил создать Забайкальскую ударную группу войск, тебе поручить это дело, ты и в бой ее поведешь. Согласен?
— Ты хорошо знаешь меня, от дела не бегал, в кустах не скрывался. Но, — и тут Томин решил воспользоваться случаем, — при условии: Русяев — начальник штаба.
— Не возражаю.
Двадцать четвертого декабря Томин прибыл в Нерчинск, где были расквартированы части, из которых намечалось сформировать Забайкальскую группу войск..
Военный комиссар соединения Соломон Абрамович Диктович чувствовал себя неловко, стесненно. Это и понятно. Соломон Диктович, хотя и имел за плечами боевой опыт, испытал ужасы застенков, но был молод, ему только что исполнился 21 год. При назначении Диктовичу в политуправлении сообщили, что Томин — боевой, преданный революции командир, но очень горяч.
Как не робеть перед таким человеком?
Но Николай Дмитриевич с первой же минуты повел себя просто, душевно, не показывал своего превосходства перед другими командирами и быстро расположил к себе молодого комиссара.
С Нерчинского вокзала Томин с Диктовичем поехали в части.
В Троицко-Савском полку Томин встретил Антипа Баранова. Прошел год с момента их расставания. Монгольские и дальневосточные ветры, боевые походы наложили свой отпечаток на характер и внешность бойца.
Николай Дмитриевич предложил Антипу быть у него ординарцем, и тот с готовностью согласился.
С Павлом пришлось распрощаться, главкомом Блюхером он был включен в охрану эшелона с государственными запасами золота.
Николай Дмитриевич забыл об отдыхе, с утра до глубокой ночи проводил в частях, беседовал с командирами и бойцами, интересовался бытом и настроением народоармейцев. (Так называли бойцов Народно-революционной армии.) Неспособных командиров понижал в должности, враждебно настроенных — убирал, а на их место выдвигал толковых, преданных революции бойцов.
Через неделю Забайкальская ударная группа была готова к отправке.
Троицко-Савский полк погрузился в эшелоны.
Вечером 29 декабря в штабной вагон робко вошла группа ребят, обездоленных войной. Чумазые, в грязном тряпье, они потоптались у порога, боязливо осмотрелись. Старший, которому можно было дать не более десяти лет, осмелев, запел:
Запевалу поддержали девочки и мальчики:
Ребята пели от души. Девочка закрыла глаза и с усердием выводила мелодию песни, а самый маленький оборвыш в фуражке, надетой назад козырьком, привстал на цыпочки и тонюсеньким голоском подтягивал хору:
У Томина больно защемило сердце.
«Саша мой был бы вот такой же», — подумал он, пристально вглядываясь в старшего, вспоминая умершего сына.
Песня стихла, и ребята пустились в пляс.
Томин наклонился к Соломону Абрамовичу и что-то проговорил. Тот согласно кивнул головой, вышел во вторую половину вагона, где размещался штаб.
— Хорошо, ребятки, вы пели и плясали, а сейчас пойдем Новый год встречать, — встав, растроганно проговорил Николай Дмитриевич. Он взял на руки самого маленького и повел ребят в соседнее купе.
Когда Томин ввел ребятишек в комнату, освещенную свечами в настенных фонарях, длинный стол был уже накрыт.
Вокруг стола хлопотали Аверьян Гибин и Антип Баранов, они расставляли разнокалиберную посуду: алюминиевую, жестяную, глиняную, раскладывали вилки и ложки.
— Ну, ребятки, давайте за стол, посмотрим, что там под салфетками, — предложил Николай Дмитриевич и с Соломоном Диктовичем начал усаживать ребят.
В штаб вошел Виктор Русяев. Теплым взглядом он охватил всех сразу и радостно протянул:
— О, да у вас гостей со всех волостей, как я погляжу! Давайте знакомиться!
Виктор подошел к старшему и протянул ему руку.
Мальчик, опустив голову, молчал, ему на выручку пришел Диктович, проговорив что-то на ухо.
— Василка! — наконец ответил старший.
Ребятишки поняли, что от них требовали, и не успел Русяев подойти ко второму мальчику, как остальные почти хором проговорили свои имена.
— Погодите, погодите, не понял. Как тебя звать? — Виктор подошел к девочке.
Та, теребя кончик платка, наклонив голову, смущенно проговорила: — Даша!
— А тебя? — Виктор обратился к самому маленькому.
— Котя.
Раздался смех, и Василка громко выкрикнул:
— Врет он, дяденька, и вовсе он не Котя, а Костя.
— Так звала меня мама, — обиженно проговорил мальчик.
— Молодец, Котя, — и Русяев высоко поднял малыша.
— Теперь все в сборе, можно и начинать, — объявил Томин.
— По-моему, не все, — возразил Русяев, — я не вижу Николая Алексеевича.
— Власов откомандирован за Дедом Морозом, какой же без него Новый год, — ответил Диктович.
Под газетными салфетками в чашках и тарелках оказались ломтики хлеба, кусочки конины, картошка. У ребятишек разгорелись глаза, с жадностью они смотрели на еду.
Взрослые примостились рядом с детьми, а Николай Дмитриевич посадил Костю к себе на колени. Дашенька оказалась на руках у Соломона Абрамовича.
Дети поглядывали то на военных дядей, то друг на друга, то на вкусную еду, но прикоснуться к ней не решались.
— А ну, ребятишки, давайте есть будем, — проговорил Томин, — это вам новогодний подарок от народоармейцев.
Вася первым взял кусочек хлеба и несмело откусил. Его примеру последовал второй, и словно галчата, дети набросились на еду.
Ординарцы принесли чай.
— Когда у меня была мама, я тоже пил чай, только из самовара, — осмелев, заговорил Вася.
— Чай из самовара вкуснее, чем из чайника, — поддержал серьезно Томин.
Ребятишки быстро освоились, и в комнате воцарились веселье, смех, шутки.
В дверь громко постучали, и вслед за этим в комнату ввалился Дед Мороз. Шуба, вывороченная вверх шерстью, мохнатая шапка, валенки — все в снегу. За плечами большой мешок, в руках толстый посох с множеством сучков.
— Уф, уф! — тяжело дышит Дед Мороз, весело поглядывая из-под мохнатой шапки на ребят. Те в испуге прижались к взрослым. А Дед Мороз, стуча посохом, заговорил:
— Прошел много стран, сильно пристал, помогите снять, а то могу все себе взять.
Аверьян и Антип подбежали к Деду Морозу и помогли ему опустить мешок на пол.
Дед Мороз, не спеша, начал выкладывать на стол яблоки. Всем показалось, что в вагоне стало светлее.
Пирамида из красных яблок росла на столе.
— Откуда такое? — не удержался Диктович.
Николай Дмитриевич пояснил: — Есть в городе Козлове один дед-кудесник, Иван Владимирович Мичурин. Он мой хороший друг и послал с Дедом Морозом вам этот гостинец. Так, Дед Мороз?
— Истинно так, истинно, хороший человек, — забалагурил Дед Мороз. — Далеко шел, ребятки, вот и припоздал.
Как что-то хрупкое, бережно брали ребята впервые в жизни диковинные яблоки. Они разглядывали их, нюхали, прикладывали к губам, но надкусить не решались.
— Да кусайте вы их, ешьте, — весело проговорил Диктович.
Ребятишки сначала с опаской надкусывали, а потом аппетитно захрустели яблоками.
После ужина все пели веселые и смешные песни.
В вагон вошел работник штаба в сопровождении двух гражданских: женщины и мужчины.
— Ну вот, ребята, вам пора спать. Сейчас вы поедете в детский дом. Вы знаете, что такое детский дом? — спросил Томин.
— Знаем! Нет! — разноголосо ответили дети.
— В детском доме вас оденут, будут кормить, у вас будут игрушки, а когда чуточку подрастете — в школу пойдете. А вот Вася завтра же начнет учиться, — объяснил Николай Дмитриевич.
— На командира? — хором протянули ребята.
— Ну, если желаете, то и на командира можно, — с улыбкой ответил Томин, погладив головенку самого маленького.
Ребят увезли. В комнате наступила тишина. Каждый был погружен в свои думы.
…Тяжело пыхтя и буксуя на рельсах, старый паровозишко наконец-то тронул с места, полк отправился в дальний путь.
Купе Томина увешано топографическими картами. Николай Дмитриевич, нахмурив лоб, внимательно изучает местность будущего театра военных действий.
В соседнем купе находятся ординарцы.
…Аверьян Гибин чистит пистолет. Смоляной чуб его развалился, прикрыл глаза. Прикусив нижнюю губу, Аверьян усердно протирает мягкой тряпочкой каждую часть. Рядом с ним сидит Антип Баранов. Он еще не успел отрастить «ординарского чуба», подстрижен под машинку. Погладив никелированный ствол, Антип жадными глазами осматривает пистолет со всех сторон.
— Аверя, где ты такое чудо добыл? — наконец, не выдержав, спросил он.
— Николай Дмитриевич наградил, — ответил Аверьян.
— За что?
— А тебя часами за что?
— Меня-то? За танк.
— А меня-то за знамя.
Аверьян собрал пистолет. Антип повертел его в руке и так и этак, прицелился.
— Жалко, небось, ему было расставаться с этаким чудом?
— Николай Дмитричу? Жалко? — вспылил Аверьян, и одним взмахом руки закинул чуб назад. — Ты еще не знаешь своего командира, да он не то что пистолет, жизни не пожалеет за подчиненного.
И уже более спокойно продолжал:
— Ты, Антип, без году неделя в ординарцах у Николая Дмитрича, а я всю гражданскую. Так вот знай, что это за человек. Да Николай Дмитриевич умирать с голоду будет, а свой паек не пожалеет для бойца. Вот какой наш командир!
В другом купе лежит Виктор Русяев, с наслаждением ест мичуринское яблоко. Он приболел.
Рядом сидит Николай Власов и рассказывает о делах минувших.
Виктор Сергеевич в свою очередь делится впечатлениями о сражении за Перекоп, где он работал помощником военкома пятьдесят первой дивизии Блюхера.
— Вы что не спите, шатия? — присаживаясь на край полки, спрашивает Томин.
— Вспоминаем, — ответил Виктор.
— Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой, — в тон ему продолжил Власов.
— А я сейчас думал, и знаете о чем? Вот закончим поход, наступит мирная жизнь. Снимем мы свои доспехи. Виктор пойдет директором завода, я его помощником по хозяйству. Нет, отставить это! Виктор — директор стройки, я его помощник по снабжению. Заводище отгрохаем, что ни одному буржую и во сне такой не снился.
— Вот и пойми вас, — перебил Власов. — После встречи с Мичуриным Зауралье садами собирались разукрасить. А теперь…
— Говорил, Коля, говорил. От своих слов не откажусь. Эх, Витюша, с каким человеком мне посчастливилось встретиться… Кудесник, настоящий кудесник. И правда, пойду я по его дорожке, ну, а ты, закоренелый строитель, тебе и чертежи в руки.
— Строить города — моя мечта! А Коля куда?
— Военным останусь. Кому-то надо охранять ваши стройки и сады.
Вошли ординарцы. Беседа еще более оживилась.
Поезд замедлил ход и остановился.
Накинув на плечи шинель, Томин спрыгнул с подножки в темноту и тут столкнулся с военкомом.
— Комиссар! Как там настроение у бойцов?
— Настроение хорошее, да вот дорога…
— Дорога — мутище… То вспомогательный врезался в хвост, то снег, а теперь вот еще какая-то холера…
Паровоз стоит, словно умирающий гигант. Кочегар возится у потухающей топки, машинист закручивает «козью ножку».
— В чем дело?
— Не видишь? Дрова кончились, — пробурчал машинист.
— А если б мы до утра не пришли, вы бы так и стояли? — спросил военком.
— До утра нельзя, разморозить котел можно. Покурил и пошел бы вас будить.
Через несколько минут тишину тайги взбудоражил звон пил, стук топоров и громкие голоса.
Скинув шинель, утопая по пояс в глубоком снегу, Томин подошел к стройной ели, уходящей вершиной к звездам, провел ладонью по ее шершавому стволу. В другие времена пошла бы на корабельную мачту, а теперь в топке будешь пылать.
Аверьян Гибин и Антип Баранов начали пилить. Пила звенела будто шла по стали. Вот ель-великан закачалась и со стоном рухнула, вздымая снежную бурю.
Все принялись обрубать сучья.
Почти десять суток тащился первый эшелон с войсками Забайкальской группы до станции Бира Амурской железной дороги.
Станция словно вымерла. Только желтоватый глазок фонаря да заспанный дежурный в красной фуражке встретили ранним январским утром Троицко-Савский полк.
— Пойдем, доложим начальству, чем оно нас порадует, — проговорил Томин, обращаясь к Диктовичу.
От мороза лопается земля, скрипит снег под ногами, захватывает дыхание. Было уже восемь часов утра, а в штабе фронта — хоть шаром покати.
— Что за порядки? — возмутился Томин.
Через несколько минут в штаб прибыл командующий фронтом Серышев. По своему характеру оптимист, он радостно встретил Томина, сразу же заговорил о деле. Командующий приказал с хода ввести полк в бой, штаб Забайкальской группы войск разместить на станции Бира, мотивируя это хорошей связью с Читой и оперативностью управления штабом фронта.
Томин досадливо поморщился и перебил:
— За 120 верст от места боев руководили войсками в былые времена. Теперь у нас другая армия и другие командиры. Штаб будет на станции Ин. Это первое мое условие. Второе, до подхода всех частей, до приведения их в боевую готовность, разговора о наступлении не может и быть. Нельзя размениваться на мелочи и погубить все войско, бросая его по частям на бессмысленное истребление.
Серышев настаивал на своем.
Вызвали Читу. И хотя там было только шесть часов, Василия Константиновича ждать не пришлось.
Николай Дмитриевич доложил о прибытии Троицко-Савского полка, передал о разногласиях с комфронта. С минуту из аппарата бежала немая лента. И снова знаки Морзе:
«Вам дан приказ, выполняйте. Немедленно следуйте на станцию Ин. Готовьтесь тщательно. До моего приезда большого дела не начинать. Вступайте подчинение фронта, инициатива обеспечена».
…Среди безбрежных лесов и сопок затерялась небольшая станция Ин. Здесь находится штаб Инской группы войск.
При входе состава на стрелки, Томин зорким взглядом схватил неполадки — все пути забиты составами, и среди них — бронепоезда с потухшими топками.
— Вот уж и впрямь: между глаз нос потеряли. Попробуй-ка пусти их в бой. Полюбуйтесь, товарищи! Мешочники и разные спекулянты забили вокзал, а куда раненых прикажете класть? — как будто в этом виноват Русяев и Диктович, грозно спросил Томин.
Пройдя привокзальную площадь, Томин со своими товарищами повернул за угол, и тут нос к носу столкнулся с однополчанином Захаровым.
— Николай Дмитриевич! — радостно, как сын встретивший отца, воскликнул Захаров. — Каким ветром?
— Александр Николаевич! Так это ты есть Захаров — начальник штаба?! Что, думаю, за Захаров, а на тебя и не подумал, — проговорил Томин.
— Виктор Сергеевич! Вот здорово! И тебя занесло в наши края!
Весело разговаривая, они вошли в штаб.
Томин представился командующему Инской группы Попову, проговорил:
— Главком Блюхер приказал мне принять командование и возложил задачу по подготовке войск фронта к наступлению. Начальником штаба назначаю Русяева. А это, — указал он на Власова, — старший помощник начальника штаба по оперативной части: прошу любить и жаловать. Товарищ Диктович — военком.
Захаров обрадованно заявил:
— Вот это дело! Ну, посудите сами, какой же из меня, к черту, начальник штаба? Писанина заела, бумагами завалили, директивы, директивы. Бог же вас принес на мое счастье!.. Не справляюсь я, честно говорю. Выше моей головы работа.
Попов предложил пообедать, но Томин отказался.
— Везите нас сначала на передовые, — распорядился Николай Дмитриевич. — А перекусим в пути, у солдата в мешке всегда найдется кусок хлеба и щепоть соли.
Постукивая на стыках рельсов, ручная дрезина быстро помчалась на восток.
— Вот теперь на вольном воздухе и перекусим, — предложил Томин. — Раскошеливайся, Аверьян, угощай.
— Есть раскошеливаться! — улыбнувшись, ответил тот и, развязав вещевой мешок, отрезал каждому по ломтю хлеба и куску сала.
Дрезина шла быстро, тонкие шинели насквозь пронизывал ветер, а Томин с аппетитом ел хлеб и сало, расспрашивая Захарова о путях-дорогах.
Шел оживленный разговор, смех, шутки, словно все они ехали не на передовую позицию.
— Тпру, стой! — проговорил Захаров, когда дрезина поравнялась с одинокой казармой.
Командиры спрыгнули, увязая по пояс в снегу, подошли к дому. Томин первым открыл дверь. В казарме находилось двадцать народоармейцев. Одни, накинув на себя полушубки или шинели, протяжно храпели, другие, окружив рассказчика, громко хохотали, третьи обедали. У окна примостился пожилой мужчина с глубокими залысинами на лбу, длинными черными усами. Он крутил разбитый сапог и так и сяк, удивленно разводил руками, не зная, с которой стороны к нему подступиться.
На вошедших никто не обратил внимания.
— Кто старший команды? — спросил Захаров.
— А что надо? — отозвался усач с дырявым сапогом.
Томин посмотрел на усача. Их взгляды встретились. Этого оказалось достаточно, чтобы поднять «запорожца» с табуретки.
— Ну, я старший.
— Так у нас не отвечают командирам, — сказал Томин. — Но для первого раза не в зачет. Давай знакомиться. Командующий Инской и Забайкальской группами войск Томин, — и он первым протянул руку.
— Командир роты Горедум, — ответил тот.
— Вот так-то оно лучше.
В казарме установилась тишина, бросили зубоскалить, поднялись даже те, которые только что храпели.
Обращаясь ко всем, Николай Дмитриевич, представив Виктора Русяева и Соломона Диктовича, спросил:
— Как жизнь идет?
— Живем — хлеб жуем, храпака задаем.
— Это и видно! До того обленились, что побриться не хотите, а в казарме-то… в свинарнике чище. О подготовке к бою и говорить нечего.
— А чего готовиться-то, — ответил Горедум. — Придут белые, будем драться, нужно будет наступать — пойдем наступать.
— Наступать, как из Хабаровска?! До Читы далеко, а до Москвы еще дальше. На кого же вы надеетесь? Вот что, товарищ Горедум. Мы сейчас поедем дальше, на обратном пути заглянем. Думаю, подружимся, — и так глянул, что Горедум решил подружиться непременно.
Посетили другие казармы — картина та же. От последней враг находился на расстоянии трех километров. Томин удивился тому, что белые медлят. Разбросанные вдоль линии железной дороги малочисленные полуразложившиеся команды они могли смять в любое время. Из последней казармы поехали на передовую линию. Когда дрезина остановилась на железнодорожном переезде, и Томин с друзьями направился к окопам, со стороны станции Ольгохта показался бронепоезд. Остановившись метрах в четырехстах от группы командиров, бронепоезд выпустил два снаряда и дал задний ход.
— Если бы беляки знали, в кого стреляют, то снарядов бы не пожалели, — проговорил Диктович.
Николай Дмитриевич улыбнулся и, махнув рукой, продолжал обход окопов.
На обратном пути Томин заехал в первую казарму. Она преобразилась. Тепло, пол и столы вымыты до желтизны, на нарах заправлены постели, бойцы побрились, причесались, подтянулись. Вокруг помещения разгребли снег, оборудовали площадку для строевых занятий.
— Вот теперь вы походите на часть Революционной армии! — одобрил Томин.
Вернулись на станцию Ин поздно вечером. В штабе ожидал Попов.
— Иди-ка, дорогой товарищ, спать, время уже позднее. А завтра чуть свет примешь Особый Амурский полк. Наведи порядок, через два дня приеду, — проговорил Томин.
— Есть, приступить к исполнению своих обязанностей, — отчеканил Попов.
Отпустил Томин отдыхать и Захарова. С завтрашнего дня он тоже командир полка.
Николай Власов только хотел доложить о проделанной работе, но Томин перебил его.
— Подожди минутку.
Николай Дмитриевич позвонил председателю партячейки станции Ин, попросил его по возможности побыстрее прийти в штаб. Затем связался с Блюхером. Доложил о вступлении в командование Инской группой, обстановку, о состоянии частей и изложил свои соображения о разгроме белогвардейцев. Суть его плана состояла в том, что, заняв Ольгохту, пехота, продвигаясь на юг, совместно с кавалерией наносит удар по тылам врага. Томин попросил главкома, как можно быстрее прислать политработников, на первый случай хотя бы человек двадцать. «Перехватил, — подумал он, — где же столько возьмут?»
— Часть товарищей уже выехала, дня через два-три будут у тебя. Остальные выедут завтра. — Пообещав план операции сообщить Военному совету, Василий Константинович потребовал решительных действий по подготовке частей.
На станции Ин глубокая ночь.
— Теперь можно заняться и твоими делами. Выкладывай, что у тебя, — обратился Томин к Власову.
— Братва — во! — с азартом проговорил Власов, подняв большой палец. — Провел собрание молодых бойцов в пятом, сделал доклад о текущем моменте и наших задачах. Выступали здорово.
— Хорошо. Все хорошо. Вот завтра с «братвой — во!», не размениваясь на мелочи, возьмешься за наведение порядка на вокзале: организуй там образцовый госпиталь!
— Есть, организовать образцовый госпиталь!
— А теперь спать пора! — Томин выпроводил из комнаты Власова и Русяева. — Завтра хлопот полон рот.
Николай Дмитриевич устало опустился на стул, облокотился на стол и сразу веки сковал тяжелый сон. Он вскочил от какого-то внутреннего толчка, выругал себя за слабость: надо ж вести разговор с председателем партячейки, чего он задерживается, придется еще позвонить.
Николай Дмитриевич потянулся к аппарату, повернул голову и его взгляд встретился с умными серыми глазами мужчины лет тридцати, одетого в сибирскую замасленную борчатку, пушистую собачью шапку. Изрядно потрепанные шубенки-рукавицы лежали на табуретке.
— Фома Горностаев? — отгоняя усталость, спросил Томин.
— Председатель партячейки Фома Горностаев, — утвердительно ответил тот, слегка усмехнувшись.
— Что не разбудил?
— Больно сладко спал. Умаялся, думаю, мужик, пусть еще минутку-другую соснет.
На дворе мороз, колкий куржак украсил деревья, в воздухе — упругая тишина. Окончательно избавившись ото сна, Томин шел быстро, досадуя на медлительного председателя партячейки: тот все время шел чуть сзади, а Томину надо на ходу решить много вопросов, и он часто сбавлял шаг, оглядывался.
Наконец это надоело и он, остановившись, отрывисто бросил:
— Ты всегда так?
Горностаев непонимающе повел плечами.
— Я говорю, ты всегда вразвалку, как гусак, ходишь?
Фома громко засмеялся.
— Дальний Восток. Здесь сама природа характер лепит, походку медвежью.
— Вот-вот. Но сейчас, брат, некогда вразвалку ходить.
Так, отвлекшись от делового разговора, перебрасываясь шутками, они пришли в депо. Здесь уже собрались коммунисты — движенцы, путейцы, ремонтники. С ними о чем-то оживленно говорил Диктович.
— Дня не хватает, что ли? — раздался в углу чей-то голос. — В полночь поднимать людей на собрание по тревоге!
— Точно! День-то у нас ночует, — живо отозвался Томин. — Дорогие товарищи, мы не можем ни одного часа медлить… Враг не предупредит нас за неделю о своем наступлении. Мы к этому должны быть готовы через час, через день, через неделю, пока сами не перейдем в наступление. Главнокомандующий, товарищ Блюхер, поручил мне привести части в боевую готовность. А я без рабочих, без вашей помощи ничего не сделаю.
Рассказав о положении на фронте, Томин сел. Слово взял военком Диктович.
— Командующий рассказал вам о положении дел на фронте и обратился за помощью. Я не стану повторяться. Задача, по-моему, каждому ясна. Надо немедленно, сейчас же, сразу после собрания навести порядок на станции: разгрузить линии от порожняка — исправные вагоны отправить на запад, неисправные — на восток, привести в боевую готовность бронепоезда, освободить от мешочников вокзал. Повторяю — работу начинать немедленно: начнут коммунисты — поддержат все рабочие.
— Соседи на западе наши составы не принимают!
— А на восток зачем гнать порожняк?
— На соседние станции выехали представители командования и саботаж сломят. В сторону Волочаевки у каждой казармы оставить по шесть теплушек. Когда это сделаете, сами увидите — зачем. А пока военная тайна, — ответил Томин.
В президиуме поднялась высокая фигура Горностаева. Подводя итоги откровенного разговора, он басом прогромыхал:
— Решение, стало быть, принимаем единогласно; с собрания на рабочие места и — за дело. Не уходим домой, пока не выполним боевой задачи. Собрание коммунистов считаю закрытым.
Оживленно разговаривая, коммунисты разошлись. Вскоре послышался стук молотков вагоноосмотрщиков. Раздался пронзительный свисток старого маневрового паровоза. Загорелся огонь в топках бронепоездов. Затрещали телефонные аппараты, запищали «зуммеры».
Представители командования сообщили, что саботаж сломлен, путь для составов свободен.
Под утро на запад и на восток вышли первые эшелоны. Станция Ин ожила.
Вся Дальневосточная республика готовила Волочаевскую победу. Рабочие и крестьяне слали в армию своих сынов, теплые вещи, продовольствие. По партийной мобилизации на фронт прибыл большой отряд коммунистов и комсомольцев. Василий Константинович Блюхер сдержал свое слово — в распоряжение командующего Инской и Забайкальской группами войск приехало много политработников.
Томин был безгранично рад такому пополнению. С каждым товарищем беседовал, изучал, на что он способен, и только после этого направлял в часть.
Подходили Забайкальские части. Неузнаваемо изменилось лицо Инской группы. На месте одиноких казарм с крохотными заставами выросли городки с внушительными боеспособными гарнизонами. Для размещения бойцов были использованы неисправные вагоны, пригнанные со станции Ин и снятые с рельсов.
В гарнизонах с утра и до вечера шла боевая и политическая подготовка, велась непрерывная разведка обороны неприятеля.
«Вперед на освобождение Приморья!», «Раздавим белогвардейскую гидру!», «Волочаевка будет нашей!», «Привал на Имане, отдых во Владивостоке!» — эти начертанные на красных полотнищах призывы были в сердце и на устах народоармейцев.
Томин решил еще раз проверить роту Горедума.
По команде: «Становись!», бойцы пулей вынеслись из казармы, мигом построились. Все те же полушубки, борчатки, трофейные американские меховые куртки, кубанки, ушанки, мохнатые папахи, все те же подшитые и новые валенки, стоптанные сапоги, бахилы, красные американские ботинки на толстых подошвах, — но это уже не сброд разболтавшихся от безделья людей, а боевая часть.
31 января 1922 года на станцию Ин прибыл главнокомандующий Народно-революционной армией Блюхер.
Главком и сопровождающие его вошли в здание вокзала. Чисто побелены стены и потолки, до блеска вымыты полы, койки аккуратно заправлены, на подушках белоснежные наволочки, в станционном буфете — столовая и кухня. Всюду образцовая чистота.
— К наступлению готовились серьезно, — удовлетворенно отметил Блюхер.
— Это его рук дело, — кивнув в сторону Власова, сообщил Томин.
Первого февраля — парад войск. Настроение у всех праздничное, приподнятое. Жесткий морозный воздух словно спрессован. Усы, бороды, брови, воротники полушубков покрылись куржаком.
Томин отдал рапорт. Блюхер произнес краткую речь, конец которой утонул в могучем ура.
Чеканя шаг мимо трибуны, шли и шли полки: Особый Амурский, Шестой пехотный, Первый Читинский, Троицко-Савский кавалерийский, пластуны Петрова-Тетерина…
— Спасибо, Николай Дмитриевич, хорошо поработал, — проговорил Блюхер.
— Все работали, чего уж там.
— Знаю, знаю, не скромничай.
Томин вошел в штаб и, обращаясь к Диктовичу, проговорил:
— Блюхер будет осматривать передний край. Я еду с ним. Как ты?
— Поеду, обязательно поеду!
Подали лошадей. Подъехал Блюхер, поздоровался. Настроение главкома хорошее, он шутит, весело улыбается.
На переднем крае главком тщательно осматривал позиции, окопы, расстановку огневых средств, расположение командных пунктов, беседовал с народоармейцами.
— Неплохо, неплохо! — довольный осмотром и беседами, повторял Блюхер и тут же делал свои замечания, давал указания.
Группа народоармейцев окружила Диктовича, бойцы расспрашивают о командирах.
— Товарищ военком! Я слышал, что Томин и Блюхер вместе где-то уже воевали, правда это? — спросил Горедум.
— Блюхер и Томин организаторы первых частей Красной Армии на Урале, — ответил Диктович. — Оттуда и дружба их.
Диктович коротко рассказал бойцам о боевых друзьях.
— Ого! С такими нам ни один черт не страшен, — восторженно отозвались бойцы.
На обратном пути получилось так, что Томин с командирами выехал вперед. Блюхер и Диктович оказались позади их.
— Расскажите, товарищ Диктович, о своих взаимоотношениях с командующим, — попросил Блюхер. — Мне помнится, вы высказывали свое сомнение, сможете ли сработаться с Томиным.
— Было такое. Сейчас не раскаиваюсь, что дал согласие: работать с Томиным легко.
— Понять его надо, только и всего.
Блюхер интересовался работой политаппарата, спрашивал о настроении бойцов. В разговоре не заметили, что ехали уже не по той дороге.
— Э, комиссар, куда же мы едем? К белякам? — заметив ошибку, воскликнул Блюхер. — Да мы, друг, чуть к генералу Молчанову в гости не попали, — с улыбкой произнес он, показывая плеткой в сторону видневшихся на горизонте мелких кустарников.
Всадники повернули коней, быстро поскакали. Далеко в стороне раздались беспорядочные винтовочные выстрелы.
Через несколько минут Блюхер и Диктович присоединились к остальным.
5 февраля части Забайкальской группы войск под командованием Томина в кровопролитном бою заняли станцию Ольгохту и этим создали условия для развертывания военных действий по всему фронту.
Бойцам Народно-революционной армии попал в руки приказ генерала Молчанова, в котором он призывал старших начальников «вдунуть в сердца подчиненных страстный дух победы».
— Вдувай, не вдувай, а мы выдуем, — острили по этому поводу народоармейцы.
Инской группе войск, под командованием Покуса, была поставлена задача атаковать позиции белых у Волочаевки. Забайкальской группе войск, под командованием Томина, нужно было ударить по левому флангу противника, выйти на линию железной дороги восточнее Волочаевки, отрезать путь отхода неприятелю. Непосредственное руководство операцией принял на себя Блюхер.
Весь день девятого февраля продолжался изнурительный переход Забайкальской группы по кочковатому полю, покрытому глубоким снегом.
Чтобы орудия не проваливались в снег, Николай Дмитриевич распорядился поставить их на полозья. Это облегчило движение, но по-прежнему артиллерия продвигалась слишком медленно. Кони выбивались из сил, останавливались, падали. Тогда за лафеты хватались бойцы и под «Дубинушку» шаг за шагом продвигали пушки. Многие были в необычной обуви — на ногах пучки соломы, туго обмотанные веревками. Эта выдумка командующего спасла многих от обмораживания.
Отдавая такое приказание, Николай Дмитриевич еще и шутил:
— Холодно, да не оводно. Ни один комарик не укусит.
В ночь с 9 на 10 февраля, как назло, разыгралась пурга.
Двигаясь без проводника по незнакомой местности, колонна сбилась с пути. Пришлось остановиться.
Томин ходил от костра к костру: где шутку бросит, где пожурит.
Командир роты Горедум решил погреть ноги да оплошал, подметки недавно починенных сапог отпали. Он сокрушенно покачал головой.
— Ну, что сейчас делать будешь? — спросил подошедший Томин. — Какой же ты вояка? Солдат без сапог — что без ног.
На выручку тут же пришли товарищи — один предложил запасную рубашку, второй — меховые теплые носки. Горедум разорвал на портянки рубашку, обулся в меховые носки и, уже повеселев, стал отшучиваться.
— Ну, как, теперь выдуем дух у молчановцев? — спросил Томин.
— Выдуем, товарищ командующий, — озорно ответил Горедум.
…Бесконечно длинной казалась эта ночь для одних, быстро летело время для других. Кому-кому, а командирам и политработникам было не до сна. Утром — бой.
Генерал Никитин, командовавший войсками Амурского направления, потрудился на совесть. Он лично руководил сооружениями укреплений и был убежден в их неприступности.
От Амура, огибая лес и села Верхне-Спасское и Нижне-Спасское, шло три ряда колючей проволоки. Ледяные катушки, волчьи ямы, пулеметные гнезда, ряды окопов были, по мнению Никитина, той преградой, о которую разобьются полки Народно-революционной армии.
Удачно расставлены огневые средства, люди, резервы. Как будто все предусмотрел старый генерал, но только одного не учел — революционного порыва народоармейцев, их решимости во что бы то ни стало очистить свою землю от белогвардейской нечисти и интервентов. Когда Томин прослышал, кто командует Амурским направлением, то спокойно заметил:
— Приходилось бить многих генералов, атаманов, но такого еще не встречал. Ну, да леший с ним — Никитин, так Никитин.
Догорали брошенные костры. Еще темно, но ночь уже прошла.
Да и погода утихомирилась. Сориентировались. Оказалось, что уклонились на четыре версты на запад от села Верхне-Спасское. Обход не удался, внезапность упущена. На глазах противника пришлось занимать исходные позиции перед штурмом.
— Чего они тянут волынку? — недовольно пробурчал сам себе Горедум.
Позади залегших цепей грохнула артиллерия. Противник не отвечал.
— Хитрит, бестия, — проговорил Томин и, выйдя вперед, повел части в наступление.
Антип Баранов и Аверьян Гибин идут рядом с Томиным. Баранов в длинной шинели, обвешан гранатами, Гибин в полушубке и буденовке. Ему предлагали обменять буденовку на папаху — отказался: это память о друге Павлухе Ивине.
Выбиваясь из сил, в глубоком снегу, медленно приближаются цепи к укреплению врага. Идут молча, только слышится тяжелое дыхание.
Сквозь зубчатый лес проглядывают багровые куски, и через минуту показывается солнце.
— Морозюка, даже солнце шубенку напялило, а я так упрел, хоть полушубок скидывай, — переводя дыхание, проговорил Аверьян.
— Это цветочки, ягодки впереди, — ответил сзади идущий Власов и почувствовал холодок под сердцем.
Ему кажется, что все невидимые пулеметы противника наведены на него, что все винтовки целят в его шапку с маленьким козырьком. Мысленно он просит неприятеля быстрее обрушиться огнем. Когда кругом рвутся снаряды, свистят пули, лязгают штыки, тут уж не до страха!
«Я работал!» — вспоминает Николай Власов слова Томина, сказанные у Гродно, и бросает взгляд на командующего.
Томин идет спокойно и ничем не выделяется среди бойцов. Полы шинели заткнуты за ремень, на голове рыжая шапка с опущенными ушами.
Аверьян тоже в этот момент взглянул на командующего, и ему подумалось, что вечером Николаю Дмитриевичу надо приготовить горячей воды: бриться будет.
Бор впереди тяжело вздохнул, словно проснувшийся великан. Ахнула сразу вся артиллерия противника. Земля под ногами Томина покачнулась.
— Вы ранены? — поддерживая командира, тревожно спросил Баранов.
— Ничего, брат! Вперед, не останавливаться. Оглушило, да видишь, — и Томин показал на распоротый осколком рукав шинели.
Короткими перебежками, ползком среди летящих комьев земли и осколков бойцы приближаются к колючей проволоке. Падают, пересохшими губами хватают снег, и снова — вперед!
Грохот снарядов оборвался, но тут же застрочили пулеметы, защелкали винтовки.
Цепи залегли. Потянулись бесконечно длинные секунды. Командующий поднялся:
— Вперед! В атаку! За мной!
Магнитом притягивает к себе земля, усилием воли отрываются от нее бойцы и бегут за командиром.
Преодолели волчьи ямы. Не обошлось и без барахтанья в этих ловушках. Осилили ледяные катушки. Впереди новая преграда. Томин сорвал с себя шинель и кинул ее на проволоку. Прикладами, штыками, ножами, голыми руками рвали проволочные заграждения народоармейцы, забрасывали их шинелями и полушубками, где перепрыгивали, где переползали, но шли вперед, вперед!..
Навстречу поднялись белогвардейцы. Началась рукопашная. За спиной бойцов уже опустилось на снег и растаяло солнце. Наступили сумерки, а бой продолжался в селе за каждый дом, каждую баньку. К полуночи только половина Верхне-Спасского была отбита у противника.
Войдя в избу, Николай Дмитриевич опустился на лавку, привалился затылком к стене и сразу же уснул с недоеденным куском хлеба в руке.
Вповалку храпели на полу народоармейцы. Притулившись в углу, дремали Николай Власов и ординарцы.
Николай Дмитриевич открыл глаза.
— Аверьян! Антип! Что вы делаете, подлецы?
Ординарцы и помощник начальника штаба вскочили.
— Проспал, черт возьми, проспал! — соскочив со скамейки, раздраженно выкрикнул Томин.
— Вы, Николай Дмитриевич, спали всего тридцать минут, — спокойно проговорил Власов.
Томин вышел на улицу, обошел все посты, заглянул в некоторые хаты — всюду спят вконец сморенные люди.
Вернувшись в штаб — небольшую хату на углу, через дорогу от которой засели белогвардейцы, Николай Дмитриевич выслушал донесения связных, доложил обстановку Блюхеру и услышал в ответ усталый голос главкома:
— Забайкальская группа сейчас ударная на всем фронте. Противник боится окружения, срочно перебрасывает на ваш участок резервы. Как можно энергичнее, не останавливаясь ни на минуту, ведите наступление. С занятием Нижне-Спасского выйти на железнодорожную линию восточнее Волочаевки.
— Товарищ главком, для успешного окружения противника необходимо усилить Забайкальскую группу хотя бы одним полком пехоты.
— У меня резервов нет. Все силы втянуты в бой.
Томин положил трубку, провел ладонью по осунувшейся щеке.
— Как бы там, Аверя… — заговорил он и не закончил, Аверьян уже вытащил из загнетки кружку с горячей водой.
Чисто побрившись, Николай Дмитриевич вызвал командиров и отдал приказ наступать.
А в это время глубоким охватом по руслу Амура вел два батальона пехоты начальник штаба Виктор Русяев.
Уставшие бойцы валились с ног и тут же засыпали. Их тормошили, терли лица снегом, но они лишь вяло бормотали сквозь сон. И только когда снег засовывали за шиворот, просыпались и шли дальше.
Сметая мелкие сторожевые заставы, отряд в ночь с 11 на 12 февраля подошел к селу Нижне-Спасское с востока.
В селе кипел отчаянный, решающий бой.
Удар с тыла по Нижне-Спасскому быстро решил исход сражения. Немногие «добровольцы» спаслись бегством под покровом ночи.
12 февраля 1922 года. Предутреннюю тишину разорвали ружейная трескотня и пулеметная дробь.
— Беляки накрыли! Белые! — раздались тревожные крики за околицей села.
Томин, Диктович и командиры штаба выскочили из дома. Сообразив, в чем дело, Томин приказал артиллеристам открыть огонь по месту, откуда доносилась стрельба, и быстро побежал на окраину села.
— Прозевали! Что сбились в кучу?! — закричал он сгрудившимся в конце улицы народоармейцам. Вперед! — и сам повел подразделения второго полка в контратаку.
Артиллерия лупит. И снаряды ложатся в расположение противника точно.
После короткой перестрелки беляки начали отходить на Волочаевку.
Это была Поволжская бригада генерала Сахарова, шедшая на помощь Амурской группировке.
Возвратившись в штаб, Томин отдал приказ об отстранении от должности командира полка, бойцы которого прозевали беляков.
— Подпишите, — обратился Томин к военкому, только что вошедшему в дом.
Диктович прочитал приказ, помедлил и, отложив его в сторону, спокойно проговорил:
— Я не подпишу.
Военком подробно рассказал, как все произошло. Не столь уж велика вина командира полка, чтобы отстранить его от занимаемой должности.
Томин, насупив брови, быстро ходил по комнате. А когда военком закончил, круто повернулся к нему:
— Да, пожалуй, ты прав, комиссар, я погорячился. А теперь — в части.
Получив отпор под Нижне-Спасском, белогвардейцы, отступая, попали под артиллерийский обстрел рейдовой группы.
Кавалеристы Троицко-Савского кавполка, брошенные Томиным в погоню, завершили разгром противника. Более трехсот белогвардейцев зарублено, большое количество пленено.
Преследуя остатки разбитого врага, народоармейцы вышли на линию железной дороги. В тылу у белых началась паника.
12 февраля 1922 года бойцы Сводной бригады Покуса штурмом овладели Волочаевкой. Закончилось сражение, которое по героизму, проявленному революционными войсками, можно сравнить только со штурмом Перекопа.
Четырнадцатого февраля Красное Знамя взвилось над Хабаровском. Как эстафета передается из поколения в поколение песня:
В МИРНЫЕ ДНИ
Восемь лет пронеслись в боях и походах. Отгремели грозы, отполыхали пожарища гражданской войны и на Дальнем Востоке. На земле родной от моря и до моря установился мир.
Пришло время расставаний.
Первым поехал в распоряжение главкома Виктор Русяев, за ним в политуправление отправился Соломон Диктович. Вскоре был вызван в Читу Николай Томин. Николай Власов пришел проводить своего друга и командира. Он взял фотографию штаба Забайкальской группы войск, посмотрел на боевых товарищей и на обороте написал:
«Быть полезным обществу и людям — вот задача и смысл нашей жизни. Н. Власов».
Ехал Николай Дмитриевич на запад. И все думал-думал о том, как по-новому, по-разумному хозяйничать надо.
Вот запись из его дневника:
«6 марта 1922 года. Село Дормидонтовка. Местность здесь представляет долину, слегка пересеченную небольшими возвышенностями. Лес вблизи почти весь уничтожен, да его здесь и не ценят. В каждой деревне лежит масса бревен, которые гниют. Вырубка леса производится бесконтрольно и бессистемно. Кому сколько вздумается. Кедры даже срубаются для того, чтобы снять орехи. Душа болит, когда видишь все это. А крестьяне, имея кругом такое богатство, благодаря их некультурности, живут не лучше китайцев.
26 марта 1922 года. Рухлово-Сковородино. Какое великое будущее, какие еще неисследованные богатства Сибири, что даже трудно охватить это уму человеческому.
27 марта 1922 года. Дорога с Рухлово на Ерофей Павлович. Жаль бросать этот край, где можно поработать с пользой для государства.
1 апреля 1922 года. Чита. Добрались до Читы. Вечером был у главкома. Получил согласие на отпуск. Блюхер говорит, что, если узнают в Ново-Николаевске, что я еду в отпуск, то могут задержать. Есть слухи, что мне дают 10-ю кавалерийскую дивизию. На западе, видимо, назревают новые события.
4 мая 1922 года. Чита — ст. Яблоновая. С Блюхером расстались хорошо. Сегодня утром съездили с ним в горы и сфотографировались. В шесть часов вечера выехал попутным поездом до Иркутска.
8 мая 1922 года. Иркутск. Был у Мулина, который предложил мне должность помкомандарма, но я определенного согласия не дал. У меня остается в мечтах демобилизация, и вместе с ней осуществление мечты о сельском хозяйстве. (Томин хотел организовать на родине сельскохозяйственную коммуну.)»
…Как-то Аверьян зашел в умывальник и остолбенел. На полу лежал завернутый в одеяло ребенок. Аверьян не помнит, как очутился перед командиром.
Николай Дмитриевич развернул одеяльце. Там записка: «Зовут Ниной. Не от радости, от горя бросаю». Пара запасных пеленок. Крохотная, розовенькая девочка потянула ручонками, зевнула, открыла глаза и громко заголосила.
— Не плачь, дурашка, — нежно прошептал Николай Дмитриевич, перепеленывая девочку.
Как заботливая мать, ухаживал Николай Дмитриевич за ребенком, доставал на станциях молоко, поил кипяченой водой с сахаром.
— Вот обрадуется Анюта! — часто восклицал Николай Дмитриевич. — Один сын у меня был и тот умер младенцем. А тут, смотри, какое счастье привалило.
Довести Нину до дома не удалось. Девочка заболела и пришлось передать ее в детский приемник.
Чем ближе подъезжал к дому, тем тревожнее на сердце: приближались минуты расставания с Аверьяном. Он отслужил: уезжает домой.
За годы войны Аверьян возмужал и так изменился, что от прежнего казачонка остался длинный нос с причудливой горбинкой да черные глаза. Он научился ценить себя и, как часто бывает у ординарцев больших командиров, иногда пересаливал в обращении со средним комсоставом. Результат пересола — взбучка от Томина.
Проехали Курган. Здесь вышел из вагона Антип Баранов. Он едет на родину в отпуск, договорились встретиться в Ново-Николаевске. На подходе — Юргамыш. Нервозность командира передается Аверьяну, он то и дело поглядывает в окно, встает, снова садится.
Николай Дмитриевич снял чемодан и поставил его перед ординарцем.
— Это тебе, друг мой верный, неразлучный, на память… — и вышел из купе.
Аверьян бросился к выходу — поезд тронулся.
— Николай Дмитриевич, — закричал Гибин. — Понадоблюсь, покличь, как в восемнадцатом, в огонь и в воду.
— Спасибо, — ответил командир, не поднимая головы. — Будь здоров, Аверя. Прощай!..
Аверьяну не терпится. Открыл чемодан. В нем — новое обмундирование — брюки, гимнастерка, хромовые сапоги, кавалерийская фуражка и давнишняя мечта его — кожанка, точно такая же, как у командира.
Вот и родной дом. Все здесь знакомо до мельчайшей подробности — своими руками строил.
— Колюшка, милый! — вскрикнула Анна Ивановна, бросаясь к мужу.
— Валя, Валюшка! Папа приехал.
В комнату вкатилась голубоглазая девочка лет трех, с голубым бантом на голове.
Ни о чем не спрашивая, Николай Дмитриевич схватил приемную дочь, высоко поднял ее, прижал к груди, поцеловал и начал кружиться с нею по комнате, напевая что-то веселое.
— Какая же ты умница: в сердце у меня прочла! — сказал Томин, выслушав историю приемной дочурки.
Быстро пролетел отпуск. Большую часть времени Николай Дмитриевич провел с дочкой. Он придумывал разные игры — качал ее на ноге, возил на спине, играл в прятки, и она, счастливая, радостная, весело хохотала. А вечерами писал:
«21 мая 1922 года. Куртамыш. Положение края к югу от железной дороги очень скверное. Девяносто процентов населения голодает.
23 мая 1922 года. Куртамыш. Отдыхаю уже шестой день в полном смысле. Никуда не хожу, разве в лес, кушаю, сплю и ковыряюсь на огороде. Но покоя не дает совесть, что я сыт, а вокруг такое творится.
25 мая 1922 года. Куртамыш. Срок отпуска кончается. Через несколько дней еду в Ново-Николаевск. Отдохнул очень хорошо, физически чувствую, что мне гораздо лучше, но душевно неважно. Подавляюще действуют картины голода, а также меня нервирует то, что до сих пор не налажена работа местных органов власти. Есть еще произвольные действия некоторых начальников, но думаю, что рано или поздно все это изменится к лучшему».
Томина назначают командиром шестой отдельной Алтайской кавалерийской бригады. Однако мысль о демобилизации из армии его не покидает.
В Омске Томин записывает в своем дневнике:
«Командующий войсками Мрачевский обещал мне ходатайствовать и поддержать просьбу о моей демобилизации с военной службы».
А через день новая запись:
«Вчера виделся с моим бывшим боевым товарищем, который работает на селекционной станции. Тоже мечтает об устройстве хозяйства артельного».
Пока решается вопрос в «верхах», Томин крепко берется за организацию боевой учебы армии в мирных условиях.
«18 сентября 1922 года. Семипалатинск. Вот уже полмесяца, как работаю в бригаде. Работать приходится до головной боли. Хотя и тяжело, но, кажется, дело налаживается.
12 ноября 1922 года. Семипалатинск. Работы масса. Центр забрасывает бумагами и другими указаниями, которые не успеваешь провести в жизнь».
Части бригады разбросаны на сотни верст. В штабе Томин бывает редко. Он в полках и эскадронах проводит инспекторские проверки, инструктирует, учит, требует. Новый 1923 год застал его на «Гусиной пристани». И во всех поездках сопровождает комбрига ординарец Антип Баранов.
Кони с рыси перешли на шаг. Кругом степь. От яркого солнца больно режет глаза. Под ногами лошадей хрустит снег. Едут молча, каждый думает о своем. Баранов тяжело вздохнул.
— О чем вздыхаешь, Антип? — спросил Томин.
— Да что-то о доме взгрустнулось, писем давно от Даши нет, — ответил тот.
— А кто Даша-то? Невеста?
Антип вспыхнул. «Сказать или не сказать?» — подумал он и выпалил.
— Жена.
— Жена! — удивился Томин. — Выходит в отпуске женился и молчал, — укоризненно проговорил он. — Да разве так можно?
— Да как-то все случай не подвертывался, вот и молчал. Служить моему году еще долго, ну а Даша настояла. Поженимся, говорит. А то еще, чего доброго, привезешь из Красной Армии какую-нибудь кралю.
— Вот видишь, Антип, если бы я раньше знал, что ты женат, на Новый год отпуск дал бы тебе.
«7 января 1923 года. Семипалатинск. Сегодня проскакали 110 верст, но к вечеру все-таки добрались до дома, меня не ожидали. После 600 верст дороги квартира кажется особенно уютной, прямо-таки раем».
Утром Николай Дмитриевич случайно заглянул в чулан, где хранились продукты, и возмутился.
— Аня, иди-ка сюда, — позвал он жену. — Это что такое?
— Мясо, — ответила жена.
— Я тоже так думаю. Но какое мясо? Мне как командиру самую лучшую часть туши приволокли, а подчиненным что? Одни ребра. В следующий раз такого не позволяй.
Томин ушел на службу, а через час прибыл красноармеец и заменил мясо. Попало за это и начальнику, ведающему продовольственным снабжением.
«28 января 1923 года. Сегодня вечером закончили военные игры. Кажется, дивизия, которой я командовал, сыграла хорошо.
20 марта 1923 года. Семипалатинск. Сегодня приехал сюда комвойск. Я просил насчет демобилизации, но, видимо, ничего из этого не выйдет, так как он заявил, что меня не демобилизуют ни в коем случае».
Николая Дмитриевича перевели в Бийск на должность командира 4-й кавалерийской бригады. Здесь военкомом работал старый боевой друг Томина Евсей Никитич Сидоров. В соединении был и полк имени Степана Разина. Много друзей и товарищей по империалистической и гражданской войне встретил Томин в родном полку.
Дружеские отношения, взаимное уважение и доверие командира и комиссара плодотворно сказались на положении дел в бригаде. А в редкие свободные часы друзья выезжали на охоту. Работать было легко.
В городе с квартирами трудно и Томины жили на даче близ Бийска.
Как-то ординарец принес птенца. Анна Ивановна оставила дрозденка, кормила, поила его, и он быстро вырос.
Настало время, когда дрозд стал хорошо летать по комнате, теперь можно и на волю выпустить.
«Улетит», — с грустью подумала Анна Ивановна и открыла окно.
Каково же было ее удивление, когда вечером кто-то настойчиво постучал в окно. Глянула.
— Батюшки! Коля, посмотри, прилетел.
И с того дня, где бы ни летал дрозд, всегда возвращался домой. Сядет на окно и начнет выводить по своему:
— Тю-тичи! Тю-тичи! Давайте есть. — Когда не сразу открывали ему, он начинал сердиться, сильнее стучать клювом в стекло.
Николай Дмитриевич, придя с работы, часто наблюдал забавные сцены. То после еды дрозд прихорашивается, то купается в тазике и по всей комнате разбрызгивает воду.
— Ну и подлец, ну и подлец! — приговаривал Николай Дмитриевич, любуясь проделками дрозда, которого ласково называли Шалуном.
Осенью Томиным дали квартиру в Бийске. Что делать с Шалуном? Взять в город — могут кошки съесть.
— Давай унесем его в лес, — предложила Анна Ивановна.
— Согласен.
Томины идут лесом по ковру осенних листьев, тихо разговаривая. Шалун перелетает с плеча Анны Ивановны на плечо Николая Дмитриевича, что-то щебечет.
Взметнув крыльями, дрозд улетел и скрылся в лесной чаще.
— Ну вот и хорошо, что так получилось, пусть себе на воле летает, — проговорил Николай Дмитриевич.
— А все-таки, Коля, давай спрячемся, чтобы он нас не нашел.
Томины быстро спрятались в овраге и, пригнувшись, по зарослям пробирались домой.
Вот они вышли из оврага. И…
Дрозд, умостившись на плечо Николая Дмитриевича, еще громче закричал:
— Тю-тичи, тю-тичи!
— Ну разве от такого подлеца отделаешься? — проговорил Николай Дмитриевич.
После переезда Томиных в город, дрозд часто прилетал на старую квартиру и требовал:
— Тю-тичи! Тю-тичи!
Но окно не открывалось…
Томина вызвали в штаб округа и предложили поехать учиться.
«31 августа 1923 года. Лагерь на Оби. Сегодня прощался с бригадой. Разинцы преподнесли мне адрес».
В личном деле Томина добавилась еще одна аттестация.
«Тов. Томин за время совместной службы показал себя чрезвычайно энергичным и настойчивым работником. Хотя и не имеет военного образования, но за время службы на ответственных должностях приобрел большой практический опыт. Систематичен и расчетлив в работе. Правильно и быстро схватывает обстановку. Прямой, не стесняется говорить правду в глаза, что часто вызывает недоброжелательное к нему отношение. Болезненно самолюбив, но в своих ошибках сознается. К подчиненным строг, но справедлив, хороший товарищ. Работает над расширением как военного, так и общего кругозора. Недостаток общеобразовательного ценза восполняется природным умом. Трезв и безупречно честен. Предан делу революции. Политически удовлетворительно развит. Состояние здоровья хорошее. Как командир для Красной Армии чрезвычайно ценен. Желательно командирование на Военно-академические курсы высшего комсостава РККА для получения теоретических знаний. Занимаемой должности соответствует.
Комкор-военком 10 Гайлит».
С Москвой у Томина связано многое. Суровой зимой 1921 года по заснеженным улицам столицы он вез на санках своего больного друга Колю Власова. Здесь в мае 1921 года получил назначение на борьбу с антоновщиной. И вот он вновь в Москве на учебе.
«12 октября 1923 года. Занятия будут нелегкими, если будут проходить такими же темпами, какими начались. Я чувствую себя физически сносно, но учиться мне будет безусловно тяжело с моей квалификацией. Но попробую тянуться за остальными.
17 октября 1923 года. Только что пришел из Военно-академических курсов. Там у нас сегодня был товарищ из Реввоенсовета Республики. Он говорил, что пера нам научиться быть правдивыми, эта правдивость нам необходима при описании истории своих частей, а тем более при сообщении во время операции. А то у нас всегда получается очень гладко: если нас разобьют, то говорим, что силы противника велики. Вообще в отношении этого он сказал то, что я говорил десять месяцев назад на военной игре. Тогда один командир подал мне записку: «А для чего эта правдивость в армии?» Вот если бы он сегодня был здесь, то, наверное, не спросил бы для чего.
19 ноября 1923 года. Сегодня был на докладе Свешникова по вопросам дальней разведки. Выдвинутые товарищем Никулиным новые взгляды оказались только новыми словами и, по-моему, абсолютно не выдерживает критики рейд, как разведка армейской конницы».
Шли лекции, военные игры, работы с картой. А по воскресеньям встречи с друзьями.
— Виктор, забирай свою Юлечку да топай к нам на пирог с изюмом, — приглашает Томин друга.
Собирались вокруг стола, нетерпеливо ждали, когда подадут пирог.
— Моя Аннушка такой испечет — пальчики оближешь!
Анна Ивановна принесла самовар.
— Вот, товарищи, полюбуйтесь, новенький, вчера купил, настоящий тульский. Не чета вашим кастрюлькам-молчункам и чайникам-пыхтунам, — шутил Николай Дмитриевич. — Какой чай без самовара? Чай без самовара, что свадьба без музыки.
После чая — воспоминания о былых походах, вечером — театр, кино.
Томин учился отлично, смело выступал против старых теорий, высказывал свои мысли и, когда преподаватели скептически отрицали его выводы, категорически заявлял:
— Мы будем воевать не на бумаге, а на местности!
В январе 1924 года, над страной пронеслась черная гроза: умер Владимир Ильич Ленин. Эту страшную весть, раздавленный ею, оглушенный, Николай Дмитриевич принес жене.
Да он и выговорить ничего не смог: не подчинялись губы, нервно дергалось лицо, хлынули слезы. Молча положил перед женой экстренный выпуск «Правды» и «Известий».
У Анны Ивановны задрожал в руке газетный лист: в траурной рамке портрет самого близкого и родного человека. Она опустилась на диван, горячие слезы текли по щекам.
«22 января 1924 года. Это событие нужно записать не в дневнике, а в сердце и разуме, и чтоб там оно запечатлелось навсегда, до самой смерти, да так оно и случится. Как много значат два эти слова «умер Ленин», как много скорби и как тяжела эта потеря, говорить не нужно. Кто понял его учение, тот поймет, что потеря Ленина очень и очень тяжела. Верить не хотелось. Но это подтвердилось позднее. Трудно зафиксировать на бумаге то чувство глубокого горя и горя непоправимого, которое охватило меня и, по моему мнению, овладело всеми, кто боролся за освобождение угнетенных и видел в Ленине великого вождя, кто понимал и ценил его, тот, безусловно, потерял больше, чем потеря своего отца или матери.
23 января 1924 года. Сегодня ВАК в полном составе встречал останки В. И. Ленина. Когда процессия двигалась от Павелецкого вокзала, то по пути все проулки и улицы были заполнены людьми. Настроение у всех какое-то подавленное, всюду во взгляде рабочего, красноармейца чувствуется потеря, сожаление…
24 января 1924 года. Сегодня имел возможность попасть в колонный зал к телу В. И. Ленина. Стоял около получаса. Толпа двумя вереницами проходила беспрерывно, тихо, торжественно. Вот отец поднял ребенка (пяти-шести лет), который впился глазенками и все время поворачивал голову в сторону Ильича. Трудно передать то чувство, которое овладело мной, пока я находился там.
25 января 1924 года. В семь часов все Ваковцы и семьи ходили отдать последний долг Ленину и дать клятву на верность трудящимся.
26 января 1924 года. Завтра хороним Ленина. Как больно и как тяжело это сознавать! Этот факт, от которого нельзя отмахнуться и который нельзя изменить никакими силами. В Ленине не только партия и партийные потеряли близкого, родного и верного товарища и друга, но и беспартийные одинаково потеряли в нем не только государственного человека и вождя страны, но и олицетворение справедливости».
На первомайские праздники Томины собрались ехать к Блюхеру в Ленинград. Но Николая Дмитриевича вызвали с лекции в Реввоенсовет республики и вручили приказ о назначении командиром 6-й отдельной Алтайской кавалерийской бригады.
…Тихий весенний вечер. Виктор Русяев и Николай Томин прошли по Красной площади около Мавзолея Ленина и Спасских ворот, постояли у памятника Минину и Пожарскому и вышли на Замоскворецкий мост. Остановились. Помолчали.
— Значит, завтра едешь? — спросил Русяев.
— Еду.
— Но есть приказ не посылать командиров в отдаленные районы, если они там уже служили.
Томин улыбнулся.
— Знаю. Откажись, подумают, что струсил, а это для меня всю жизнь страшнее всего.
— Ну, а как с партией? Здесь за тебя все поручатся. А там новые люди, опять придется ждать…
Друг задел самый больной вопрос, вопрос вопросов в жизни Томина. С юных лет он связан с революцией, с юных лет отдавал свою жизнь народу, а вот уж и гражданская война кончилась, и в этой битве не был посторонним наблюдателем, а все еще не в партии.
Опершись на перила моста, глядя на Москву-реку, Томин постоял немного молча. А потом резко повернулся к Русяеву, дрогнувшим голосом сказал:
— Нет, Витюша, опоздал я. Что скажут? Когда Советская власть на волоске держалась — не вступал, наверное, за свою шкуру дрожал. А теперь, когда победили, — запримазывался. Опоздал я, друг, опоздал…
ДОРОГА НЕ КОНЧАЕТСЯ
Опять дорога, опять мерный перестук колес. Чем дальше на юг уходит поезд, тем увереннее чувствует себя хозяйкой весна. В открытое окно, вместе с перегаром угля, врывается теплый ветер, запах полевых цветов и сирени.
Крепко, по-детски беспечно спит Аннушка. Ветер играет ее непокорными прядями на висках.
Николай Дмитриевич — у раскрытого окна облокотился на раму, любуется раскинувшейся под лунным светом степью, радуется тому, с какой быстротой скорый поезд пожирает версты.
Невольно вспомнилось, как они тащились к Волочаевке, заготовляя в пути дрова для паровозных топок. В памяти ясно встали события минувших лет. Они то грудились, то рассыпались: какой-нибудь смешной случай вытеснял важное, тогда на лице Томина играла улыбка, но вот вновь хмурились брови, в сердце легонько покалывало.
Томин, оторвавшись от дум, записывает:
«29 апреля 1924 года. Дорога от Оренбурга к Казалинску.
Настроение у меня ничего, только боязно, что заболею малярией, а вообще служить на окраине тоже кому-нибудь нужно. Погода уже теплая, к полудню было жарко. Едем степью, на которой ничего не растет, кроме тощей полыни и кое-какой захудалой растительности, видимо, совершенно бесполезной. Но среди полумертвой степи местами встречаются целые полянки тюльпанов, белых, желтых и розовых. И странно смотреть на эти цветы среди этого поля, и кажется, что они искусственные, как на рынке в Москве.
У меня возникает мысль: неужели нельзя оживить эту степь, засадить ее такими растениями, которые могут здесь выжить и укрепить почву? Сосной, лиственницей или еще чем-то. И возможно, к этим лесам будет притягивать осадки, и будут дожди, и, может, этот край оживится. За станцией Аральское море встречаются большие болота с водой и камышом. Я думаю их тоже можно использовать хотя бы для разведения риса…»
Анна Ивановна проснулась.
— Отоспался бы хоть за дорогу, — заботливо-укоризненным тоном сказала она мужу. — Ни ночью, ни днем не спишь, а там и вовсе некогда будет.
— На том свете, Аннушка, отосплюсь за все, — отшутился Николай Дмитриевич.
…Самарканд. Вечер. Жара схлынула, от арыков веет приятной прохладой. Анна Ивановна и Николай Дмитриевич сидят молча на ступеньках лестницы, прижавшись друг к другу. Впереди у ног раскинулся сад — ярко-красные и черно-бархатные розы, пышные пионы, кактусы, фруктовые деревья. Прекрасный южный сад, о котором супруги знали ранее только по книгам. Но Анна Ивановна словно и не видит этой красоты: ее глаза затуманены слезами.
Обо всем переговорено, все решено. Николай Дмитриевич едет в бригаду, а когда представится возможность, приедет туда и она. В противном случае — вернется на родину, в Куртамыш.
Взглянув на часы, Николай Дмитриевич быстро встал. Поднялась и Анна Ивановна.
— Анна, милая, ты меня не провожай. Знаешь, что я тяжело переношу расставания, а тут еще незнакомый город, и мне спокойнее будет, если ты останешься в квартире, — Николай Дмитриевич обнял жену, быстро вышел, захлопнув калитку.
Как будто что-то оборвалось в груди, Анна Ивановна опустилась на ступеньки, уткнулась лицом в колени и тихо заплакала.
Вдруг она почувствовала легкое прикосновение детских ручонок. Приподняв голову, увидела девочку лет пяти, в тюбетейке, коротких парусиновых штанишках, без рубашки. Девочка была темно-бронзовой от загара.
— Здравствуйте, меня зовут Зульфия. Мама просит кушать. Плакать не надо, будем скрипка играть, театр будем ходить, сад гулять, не надо плакать.
— Хорошая ты моя, — и Анна Ивановна взяла девочку на руки.
В долине реки Таорсу, между отрогами Вахшского хребта и горами Джилаиг, сгрудились строения кишлака Аксу. Вот уже семьдесят дней выдерживает здесь осаду Туркестанский полк. Кончились медикаменты, боеприпасы, продовольствие, бойцы умирают от ран и болезней. Все попытки установить связь с городом Куляб или со штабом фронта терпят провал.
Первомайский праздник встречали и провожали в атаках. А несколько дней спустя басмачей словно ветром выдуло из долины.
— Какую еще каверзу затевают? — думал командир полка Щербаков, изучая донесения разведчиков.
Часть банд, объединившись, ушла в Бальджуан, другая — в район Саргозана.
В одну из лунных ночей, про которые обычно говорят: «Хоть иголки собирай», разведчики обнаружили вблизи Джартепа лагерь. Он словно из-под земли вырос. Палаток было так много, что казалось здесь остановилась армия.
По расщелинам и шершавым выступам скал подползли ближе, прислушались. Лагерь словно вымер. Ползут дальше. Еще, еще… И, о радость! До острого слуха командира эскадрона донесся русский говор.
Оставив своих друзей в укрытии, он встал и во весь рост пошел вперед.
— Стой! Кто идет? — окликнул часовой и щелкнул затвором.
— Свой, от Щербакова, — громко ответил кавалерист.
Разведчика привели в лагерь.
— От Щербакова? — удивился начальник караула.
— Да! Нада командир.
— Только пришел с обхода постов, лег отдохнуть.
— Дело срочна.
— Тогда одну минутку, — начальник караула скрылся в палатке.
— Ну, какого же шута не разбудил сразу, — донесся недовольный голос из палатки. — Зови!
У командира эскадрона захолонуло сердце: он услышал знакомый голос. «Узнает или нет?»
Томин встретил вошедшего стоя, на плечи накинута шинель, русая бородка аккуратно подстрижена, щеки чисто выбриты. Под шинелью туго перетянутая ремнем гимнастерка, через плечо — шашка, пистолет.
— Мы с вами не воевали в Сибири? — прищурившись, рассматривая командира при тусклом свете коптилки, спросил Томин. — Что вы молчите? — Томин ближе подошел к нему. — Неужели?! Ахмет! Нуриев! — радостно выкрикнул Николай Дмитриевич и схватил друга в объятия…
— Антип, как бы там насчет чайку сообразить? — обратился Томин к ординарцу.
— Подогреть надо, — ответил тот и скрылся за брезентовой дверью.
— Позови, друг, своих.
Томин усадил разведчиков вокруг стола, начал расспрашивать.
— Как же ты решился?
— Наш отец старый разведчик, не ошибается, — ответил Нуриев, кивая головой в сторону Худайберды Султанова, высокого, жилистого старика.
Баранов принес чайник, гости выложили из мешков тонкие лепешки, при виде которых Томин пришел в восторг.
— О, такие я ел в Куртамыше, Аннушка моя пекла…
Султанов рассказал об обстановке, с кем приходится воевать, сколько басмачей, назвал фамилии главарей, дал им подробную характеристику. Томин внимательно слушал.
— Выходит, что басмачи воевать умеют и сражаются отчаянно, — подытожил Томин.
— Когда курица падает в воду, тоже плавает, — ответил Султанов.
— Вы, отец, хорошо по-русски говорите. Где научились?
— Как у русских говорится: нужда заставит калачики есть. Вот и меня нужда заставила изучать русский, киргизский, казахский, английский, украинский, молдавский, да я уж и сам забыл, какие языки знаю, — широко улыбаясь, проговорил восьмидесятилетний узбек.
— Эх, отберу я вас у Щербакова. Пойдете?
— Как командир…
— Вот и договорились.
— У меня отряд добровольцев.
— Вместе с отрядом, — улыбнулся Томин.
Вечером с развернутым знаменем бригада Томина вошла в Аксу.
Басмачи рассчитывали, что вновь прибывшая армия сразу же начнет военные действия. Но Томин не спешил с боями. Он приказал помыть всех в бане, прожарить над раскаленными углями белье, постирать и починить обмундирование, посадил сапожников ремонтировать обувь. Сразу же организовали походный госпиталь, врачи занялись больными и ранеными.
Тем временем комбриг присматривался пристально к врагу, лично выезжал на разведку, изучал местность.
— Ты бы, сынок, оберегался, — как-то сказал Томину Худайберды Султанов. — Эти фанатики на все способны, за каждого командира они получают по двадцать овец. Мало ли что может случиться.
— Двум смертям не бывать, а одной не миновать, — махнув рукой, ответил Томин. — Под Волочаевкой, помню, вышел на разведку, а белогвардейцы давай палить по мне из пушек. Сколько снарядов выпустили, а только ухо от шапки оторвали. Волков бояться, папаша, так и в лес не ходить. А вот вам можно было бы и отдохнуть: старый конь овса не кушает, так, кажется, у вас говорят.
— Не говори так, сынок. Я еще любому черту рога сверну.
…Видя кажущееся бездействие Красной Армии, басмачи воспрянули духом. Принюхиваясь и озираясь, они, как шакалы, стали вылазить из своих нор, все ближе и ближе к лагерю. Обложив гарнизон со всех сторон, они готовились к внезапному броску на бригаду, чтобы растерзать ее в клочья.
Для руководства налетом прибыл сам Ибрагим-бек. Его могучая фигура, пышная раздвоенная черная борода у одних вызывали восхищение, в сердца других вселяли страх. Неутомимый, обладая крепким здоровьем и железной волей Ибрагим-бек появлялся то в банде Байтуры, то в Нерских скалах у Эгамберды, но больше всего он уделял внимания своему любимому Аланазару-курбаши. Здесь и была его ставка.
Ибрагим-бек судил, казнил и миловал. Перед ним все трепетали, при его появлении падали на колени.
Наконец, тетива врага натянулась. Одно незначительное движение руки, и стрела сорвется.
Предупреждая врага, Алтайская бригада, как огромная сжатая пружина, мгновенно развернулась, страшной силы удар обрушился на банды одновременно.
Бросая награбленное добро, краденых жен, оружие, убитых и раненых, басмачи бежали в горы.
От первого же удара банда Аланазара-курбаши раскололась на две части. Аланазар-курбаши, в тесном окружении свиты, стал удирать через Джартепе на Алимтай. Ибрагим-бек как в воду канул.
Под Алимтаем Томин настиг банду. До нее каких-то двести пятьдесят сажен. Аланазар что-то кричит. Томин пришпорил коня. Бурый скакун со звездой на лбу и белыми кольцами на передних ногах, отливая бронзой на солнце, сделал прыжок и вихрем помчал на врага. Расчищая дорогу клинком, комбриг рвется к главному курбаши. Он не заметил, как просека, вырубленная его клинком, сомкнулась. Над головой что-то просвистело, и страшный рывок чуть не выхватил его из седла. К счастью аркан затянулся на плечах. Сзади щелкнул пистолетный выстрел, и тут же аркан ослаб.
Рядом с собой Томин увидел взлохмаченную бороду Султанова, крупные капли пота на его лице.
Вперед вырвался Нуриев и рассек надвое басмача, набросившего аркан на Томина.
— Ушел, бестия, — недовольно процедил Томин.
— Не велика беда, догоним в другой раз… А вот ты, сынок, не горячись — редко так удачно кончается.
Двигалась бригада Томина по пеплу пожарищ. Отступая к Кулябу, Аланазар-курбаши сжигал все: скот, хлеб, домашний скарб бедноты, камышовые заросли. Угонял мирных жителей, а тех, которые сопротивлялись, — казнил, уродовал.
Каждый камень плевался огнем, вырывал из строя бойцов. Вдруг со страшным грохотом обваливалась скала, загромоздив узкую тропу. У завала завязывались короткие, жаркие схватки.
До подхода бригады бандиты торопились захватить город Куляб, в котором вот уже несколько месяцев выдерживал осаду полк Новика. Защитников осталось немного, но они, отрезанные от главных сил, без радиосвязи, сражались, как настоящие герои.
На дальних подступах к Кулябу, на левом берегу реки Кызыл-су, возвышается старинная крепость Курбан-Шахид. Ее высокие и толстые стены являлись надежной защитой от противника. В ней-то Аланазар-курбаши и решил, если уж не разбить, то хотя бы задержать бригаду Томина, не дать ей соединиться с полком Новика до прихода резервов, которые ему обещал Ибрагим-бек. Аланазар-курбаши предусмотрительно приказал сжечь мост через бурную Кызыл-су. Повсюду расставил свои дозоры, которые должны были сообщать о движении красных и перехватывать их связных, посылаемых в Куляб.
Спокойно спали в эту ночь после очередного пиршества главари банд. Приятные сны виделись и самому Аланазару-курбаши.
Но что это? На самом рассвете, когда так крепок сон и приятны сновидения, за крепостными стенами послышалось могучее русское ура.
— Кофир, кофир! Кофир омад![8] — в панике кричали басмачи, выскакивая на резвых конях из крепостных ворот.
Это, развернув полки, Томин повел бригаду в атаку. Из Куляба подошли новиковцы и ударили по басмачам с тыла. Впереди цепи мужественных защитников города развевалось выцветшее на солнце, пробитое пулями знамя полка. Банды Гаюрбека, Кури Ортыка, Бородавши-хабаши, Аланазара с большими потерями отступили на восток, в горы.
Константин Игнатьевич Новик выстроил полк для встречи комбрига. Когда комполка подошел к Томину с рапортом, на его глаза навернулись слезы. Под крики ура красноармейцев и дехкан командир бригады обнял героя и горячо поцеловал.
В дымке, окутавшей плотным покрывалом долину, показался Куляб. Томин приказал красноармейцам спешиться.
Окраины и улицы Куляба запружены людьми: встречать воинов-освободителей высыпали все от мала до велика.
Ведя под уздцы огневого аргамака, Томин поклоном, прикладывая правую руку к сердцу, приветствует дехкан.
— Ассалом аллейкум![9]
Его примеру следуют все воины бригады.
И в сердцах таджиков загоралось доброе чувство к незнакомому красному командиру. Они приветливо смотрят на него, на лицах играют счастливые улыбки, дети бросают цветы.
Сопка Тамошо-Тепа все ярче расцветала знаменами и флагами, полосатыми халатами, цветными повязками.
Ни уговоры, ни угрозы баев не действовали.
К вечеру многочисленная толпа мирных жителей и красноармейцев запрудила все огромное поле. Трибуной служила большая каменная плита на вершине Тамошо-Тепа. У знамен застыл почетный караул. Рядом красное полотнище — флаг страны Советов. Древко крепко воткнуто в расщелину, рядом с флагом стоит седобородый горец в высокой папахе и бурке на плечах. Торжественно спокойным взором он смотрит на людское море.
После выступления представителя Бухарской Народной Республики на «трибуну» поднялся Николай Дмитриевич Томин.
— Товарищи! — произнес комбриг, и его упругий голос покатился волной над головами. Все замерли. Молодой таджик, стоявший ближе всех к Томину, подался вперед, впился глазами в оратора.
— Дорогие товарищи! Под этим Красным знаменем, — Томин полуобернулся и показал на знамя бригады, — мы прибыли сюда по заданию партии Ленина, чтобы помочь каждой семье дехканина и рабочего сбросить со своей шеи ярмо рабства, обрести свободу, мир и счастье. Посмотрите на бойцов Красной Армии. Они такие же рабочие и крестьяне, как и вы. Они, ваши братья, подают вашим натруженным рукам свои мозолистые руки. Недавно русские рабочие и крестьяне тоже были рабами, но объединились, сбросили оковы и решили помочь вам сделать это же. Берите протянутую братскую руку смело, сжимайте ее крепко, она не подведет. Я знаю, не все из тех, кто здесь присутствует, рады нашему приходу. Для некоторых мы — незваные гости.
Показывая рукой на баев, Томин сказал:
— Вот для них мы действительно непрошеные гости. Почему? Да потому, что мы несем такие порядки, при которых никто не даст им грабить мирных беззащитных людей, зверски убивать детей и стариков. Ваши баи творят чудовищные преступления, прикрываясь аллахом и священным кораном, используя вашу темноту и невежество. Вас запугивают, одурманивают, называя братьями-единоверцами. Шакалы им братья и единоверцы да русские попы, помещики, буржуи, которых мы прогнали в три шеи.
Робкие аплодисменты раздались в толпе.
— Смотрите, какой злобой сверкают их глаза! За правду они готовы растерзать меня на части. Слушайте, баи с английскими пистолетами под халатами! Передайте своим главарям, что пощады им от Красной Армии не будет.
Баи попятились назад, стали рассасываться в толпе.
— Скрыться хотите! От народа не скроетесь. Ваши дни сочтены! Не спасут вас английские буржуи и их золото, облитое кровью трудового народа. Пелена с глаз трудящихся спадает, и они раздавят вас, как гадюк! Рабочие и дехкане, вступайте в добровольческие отряды, помогайте Красной Армии громить басмачей, гоните из своих кишлаков баев и кулаков, забирайте у них землю и награбленный у вас скот, делите между собой. Довольно, попили они вашей крови! Идите за партией Ленина, она вас выведет из кабалы и тьмы к свободе и свету. Зиндабод инкилоб![10] Зиндабод партии Ленина!
— Зиндабод инкилоб! Зиндабод партии Ленина! — кричала толпа, размахивая красными полотнищами.
На гранитную плиту вскочил широкоплечий рябой парень.
— Командир, пиши меня первым добровольцем! — быстро проговорил он, боясь, что его могут опередить… Пиши — Чары Кабиров.
Султанов записал в свою тетрадь.
— И еще, командир, разреши сказать два слова.
Чары Кабирову не приходилось говорить перед народом, но он знал, что ему надо сказать, и начал уверенно, только чуть заикаясь.
— Братья! — крикнул он, и эхо понесло его слова в долину. — Этой ночью бай вызвал меня к себе домой, как почтеннейшего гостя, усадил на палас, угостил чаем. А за это приказал поклясться перед святым кораном, что я буду верным защитником баев, так как они — посланцы аллаха, и давать их в обиду большой грех. Бай дал мне наган и велел убить русского командира. Вот наган, — и Чары вынул из-под халата новенький блестящий маузер. — За каждого русского он мне обещал по две овцы, а за каждого командира двадцать овец. Двадцать и две овцы! — ударяя по животу, кричал Кабиров. — Я дал клятву перед кораном, потому что не знал правды. А сейчас я все понял и плюю на свою клятву.
В толпе заахали, зашептались: «Как он смеет говорить об этом при всех, его убьют сегодня ночью; он отступил от корана».
Какой-то старик в белой чалме замахал на него посохом и что-то угрожающе закричал. Чары Кабиров нахмурился, до боли сжал пальцы в кулаки, строго и резко ответил:
— Не пугай, ата! С малых лет я работал по кузницам Азимбая, Каюмбека, Ратхона, а спросите, что я имею. Ничего! В прошлом году стал просить расчет за труд у Азимбая. Он меня рассчитал. Вот!
Кабиров распахнул халат. Все замерли. Грудь была покрыта сплошными рубцами.
— Вот как он со мной рассчитался — каленым железом. Тогда я был бессилен вернуть эту оплату, теперь настал мой час. Я беру свою клятву обратно! Братья! Зиндабод инкилоб!
— Зиндабод! Зиндабод! — кричала толпа.
На возвышение поднимались юноши и седобородые старики. Их записывали, поздравляли с вступлением в Красную Армию.
Все это было хоть и необычно, но особого удивления не вызывало. Но вдруг на вершину сопки мелкими шажками вбежала фигурка в парандже. Она остановилась рядом с Томиным, паранджа свалилась под ноги. Перед собравшимися предстала молодая женщина. Тугие до колен косы, на висках — седина. Глаза горят ненавистью, тонкие губы плотно сжаты. Женщина наступила на паранджу и заявила:
— Пишите, командир, Хадыча Авезова! Пишите же быстрее.
Поднялся невообразимый шум. Раздвигая толпу, к «трибуне» продвинулось несколько бородачей, впереди мулла с толстой палкой.
— Это не баба, это шайтан! Сжечь ее! — грозно требовали бородачи, а мулла пытался ткнуть женщину палкой.
Хадыча Авезова нахмурила брови, топнула ногой, властно заговорила:
— Не боюсь я вас! Вы шайтаны, а не я. — Она гордо встряхнула головой, так что зазвенели серебряные монеты в косах и на халате. — Сестры! Посмотрите на меня! Мне двадцать лет, а я седая, — она провела руками по побелевшим вискам. — Почему я седая? У меня был муж, маленький сын и совсем крохотная дочка. Теперь у меня их нет. Мужа зарезали басмачи за то, что он не захотел вступить в отряд, как они говорят, «защитников ислама», а детишек бросили в огонь на моих глазах, меня заставили рыть могилу, да не успели живой закопать — Красная Армия пришла. Сестры! — рыдая, говорила Хадыча. — Где этот аллах, о котором нам говорят мулла и баи? В чем провинились перед ним мои крошки? Почему он не спас их от злых шакалов? Эй ты, шайтан, — Хадыча обратилась к мулле, — отвечай! Командир, пиши! Я не боюсь смерти, буду мстить за мужа и детей. Сестры! Хватит унижения и позора!
Над толпой взвился дымок, раздался выстрел. Хадыча, схватившись за плечо, стала медленно оседать. Ее подхватили на руки, понесли в лазарет.
Стрелявшему басмачу скрутили руки, увезли в штаб. Женщины поднимались на вершину сопки, сбрасывали паранджи. А когда из них выросла большая куча, ее забросали сухим бурьяном и подожгли.
Митинг закончился поздним вечером. Люди веселились: плясали, пели песни, боролись, джигитовали. Они знали — их торжество надежно охраняют русские братья.
Ранним утром Томин поспешил в больницу. Бригадный врач Сегал доложил, что состояние больной после операции удовлетворительное.
Хадыча лежит в постели, натянув до подбородка ватное одеяло.
— Как дела, кахрамон?[11] — спросил Томин.
— Какая я кахрамон? Дела хорошие, командир. Доктор говорит, скоро буду ему помогать.
— Поправляйся быстрее, а что ты настоящая героиня — это факт! Ты не понимаешь значения своего подвига. Двадцать женщин последовали твоему примеру. Двадцать. Это революция, Хадыча! Завтра будет сорок, послезавтра — сто. Понимаешь, Хадыча?!
Доктор Сегал вежливо попросил Николая Дмитриевича из палаты.
— Здесь командир я, — шутливо заметил он.
…В сопровождении командиров и Худайберды Султанова Томин обошел город. Здесь каждый камень, каждый дом напоминал о седой старине. Куляб известен с первых веков нашей эры, как торговый центр, лежавший на пути из Гиссарской долины и Каратегина в Афганистан.
Сейчас Томин интересовался памятниками старины не как историк, а как военный. От его проницательного взгляда ничего не ускользнуло, что хоть в малейшей степени представляло тактический интерес. Будь это расщелина крепостной стены или дувал, упершийся в каменную глыбу, сопка, разрезанная оврагом, или крутой берег реки. Все важно, все надо запомнить. Внимательно осмотрев город и его ближайшие окрестности, ознакомившись со старыми укреплениями, Томин приказал приступить к сооружению оборонного пояса и строительству кибиток.
Кое-кто из командиров штаба попытался высказать соображения о нецелесообразности укрепления города и, в связи с этим, ненужного расхода средств и людских сил, мотивируя это тем, что, дескать, для бригады какие-то банды басмачей не страшны, и она прибыла сюда не отсиживаться за крепостной стеной, а вести наступательные действия.
— Истинную правду говорите. А я разве возражаю? Ничуть! Вот именно потому, что мы не намерены отсиживаться в крепости, а громить врага в горах, мы и должны иметь крепкий плацдарм. Да и для штаба это необходимо, не все же он будет под крылышком полков находиться. Басмачи и сами по себе серьезный противник, да надо не забыть и того, что за их спиной сидит английский дядя. И еще — как только мы подошли к Кулябу, за нашей спиной вражеское кольцо замкнулось. Вот теперь и думайте — надобны ли нам укрепления, — закончил Томин.
…В городе то там, то здесь стучат кирки и ломы, слышен звон топоров, визжание пил. Под палящими лучами южного солнца, обливаясь потом, бойцы выполняют приказ комбрига. Бок о бок работают с ними в полосатых халатах, окутав головы цветными полотнищами, рабочие, ремесленники, дехкане из ближайших кишлаков.
В козлы составлены винтовки, в тени чинар и тополей стоят кони. А в штабе идет совещание. Длинный стол с крестовинами вместо ножек отодвинут к противоположной стене. На столе, табуретках, на чурбанах расположились командиры, комиссары, работники штаба.
Среди них — командир комендантского эскадрона Ахмет Нуриев и командир отряда добровольцев Худайберды Султанов.
В комнате душно. Пахнет пороховым дымом, потом и кожей. Когда в маленькие окна повеет легкой прохладой, все быстро поворачиваются на дуновение.
Николай Дмитриевич одет в легкую белую гимнастерку, такие же брюки и хромовые сапоги. В правой руке, вместо указки, неразлучная плетка.
Ведя по карте черенком, комбриг рассказывает об обстановке, ставит задачи полкам и эскадронам.
— До сегодняшнего дня мы ограничивались отражением атак неприятеля, устраивались, разведывали, готовились. Пора приступать непосредственно к выполнению задачи, которая на нас возложена партией и Реввоенсоветом республики — с корнем уничтожить басмачество. Не допустить соединения банд, уничтожить их по отдельности — вот наша тактика. Для этого надо установить контроль за основными населенными пунктами и узловыми дорогами. Быстрота и внезапность налетов — закон наших действий. Поставленную задачу мы можем выполнить только при активной поддержке рабочих и крестьян. Отсюда вывод — тесная связь с народом. В кишлаках вы пропагандисты, агитаторы, учителя, советчики. Уважайте обычаи и нравы местного населения. Найдите общий язык с беднотой, — она ваша опора, глаза и уши.
Вопросы, касающиеся боевых операций, были решены, но Томин не отпускал командиров. Нахмурив брови, облокотившись на правую руку, он о чем-то думал. А потом решительно встал и, обращаясь к начальнику продовольственного отдела, спросил:
— Как у нас с запасами ячменя?
Тот ответил, что ячменя хватит не более чем на месяц.
— Надо помочь дехканам семенами. Время сева, а у них все позабрали басмачи. Если они сейчас не посеют, то их семьи будут обречены на голодную смерть.
Начальник продотдела что-то хотел возразить, но Томина поддержали другие командиры, и вопрос был быстро разрешен.
Перед врачами Томин поставил задачу — незамедлительно организовать медицинскую помощь местному населению, особенно женщинам и детям.
— Товарищ комбриг! Басмачи! — вбежав в штаб, выпалил связной командира дозора.
— Видали! Мы решаем, как уничтожить басмачей, а они уже нас за нос ухватили. Вот бестии, — проговорил Томин и первым вышел из штаба.
Горнист затрубил сбор. Кавалеристы схватили винтовки, шашки, подтянули подпруги — на сборный. Мирные жители поспешили за крепостные стены.
Томин с наблюдательного пункта, приложив к глазам бинокль, видит, как с сопок Сары-Маргайского перевала, от Тиболяя и со стороны Дангары, словно ужи, ползут бандиты. Стреляя на ходу из винтовок, они приблизились к городу. Ободренные пассивностью красных, басмаческие цепи поднялись и, улюлюкая и свистя, во весь рост пошли в атаку.
— Дадим, отец, перцу? — вернувшись с наблюдательного пункта, обратился Томин к Султанову.
Тот молча кивнул головой.
Рубка была жестокой. В долине осталось более шестисот басмачей. Но и на этот раз многим главарям удалось скрыться. А вечером новый налет, новая атака.
Английские инструкторы, засевшие в Афганистане, гнали связных с запросами о положении, приказывали во что бы то ни стало захватить Куляб, угрожали. Подбросили бандам Ибрагим-бека большую партию вооружения, боеприпасов. Особенно усилились наскоки басмачей в июне. За пятнадцать дней Томин двадцать семь раз водил своих бойцов в атаку.
…Знойный июньский полдень. Томин с эскадроном конников едет для инспекторской проверки одного из кавалерийских полков, подразделения которого несут службу в Дектюре, Ховалинге и Бальджуане. Как всегда, его спутники — Худайберды Султанов, Чары Кабиров, Ахмет Нуриев и Антип Баранов.
Разморенные зноем всадники, расстегнув воротники гимнастерок, едут молча. Султанов тревожно осматривает местность. В его руках готовый к бою новенький карабин. Конь Томина прядет ушами, нервно переступает ногами. Комбриг готов пустить аргамака, чтобы ветер в ушах свистел.
Худайберды Султанов, положив свою руку на плечо Николая Дмитриевича, проговорил:
— Попридержи коня, Одами-алов[12], береженого бог бережет, как у вас говорят.
— Отец, почему ты зовешь меня Человек-огонь? Насколько мне помнится я ничего еще не сжигал, ни одной кибитки не разрушил.
Султанов объяснил:
— Человек создан из четырех вещей: огня, земли, ветра и воды. Если в Человеке больше земли — он мудрый, трудолюбивый. Если в Человеке больше ветра — этот Человек и нашим, и вашим. Если в Человеке больше воды, то это такой Человек, про которого у русских говорят: ни рыба ни мясо. Ну, а если в Человеке больше огня, то он горит и зажигает других… Не один я, все дехкане тебя так зовут.
— Рахмат[13], отец, рахмат, — поблагодарил Томин.
Уже недалеко до кишлака Девона Ходжа. Там остановка и долгожданный отдых. Передовое охранение скрылось за поворотом дороги.
Тишину разорвал дружный залп. Охнул один красноармеец, свалился с обрыва второй.
Без команды конники быстро спешились, залегли, кто за валуном, кто за крупом умных животных. Ответным огнем кавалеристы заставили басмачей отступить. Перебегая от камня к камню, бандиты держат путь на кишлак Девона Ходжа. Кавалеристы преследуют их в пешем строю.
Командир видит, что басмачи могут уйти: у них наверняка в укрытии стоят лошади.
— По коням! — командует Томин и выхватывает шашку.
Более семидесяти бандитов зарублено, большая группа, побросав оружие, подняла руки. Среди них Касимов, ближайший друг главаря банды Кури Ортыка.
Влетев в кишлак, томинцы увидели жуткую картину. На улицах, у дувала, лежат изуродованные трупы дехкан. На пороге одного дома лежит молодая женщина, зажав в объятиях грудного ребенка с простреленной головой. А у кишлачного Совета — куча человеческих голов.
— Тамерланы! Только Тамерлан убивал детей, — со стоном прошептал Томин.
— Большой, неоплатный счет предъявит им дехканин, — с болью проговорил Султанов.
Главные силы банды уходили в горы. Томин повел эскадрон в погоню. Перед его взором стояла женщина с младенцем.
— Лют и хитер, как лиса, Кури Ортык. Надо поостеречься, сын, — проговорил Султанов, когда эскадрон вошел в глубокую лощину. — Да и силы у нас неравные.
Обращение Султанова вывело Томина из задумчивости.
— Что предлагаешь, отец?
Султанов не успел изложить своего плана. По эскадрону со всех сторон открыли огонь басмачи. Несколько красноармейцев убито наповал, ранены люди, кони. Эскадрон попал в хитро расставленную Кури Ортыком ловушку.
— Занять круговую оборону, — скомандовал Томин, передавая своего скакуна Антипу Баранову.
Яростная перестрелка продолжалась дотемна. С диким воем басмачи несколько раз бросались в атаку, но дружный огонь красноармейцев отбрасывал банду назад.
На высоте показался басмач. Томин вскинул пистолет.
— Эй, командир, пусть мала-мала башка больше кажет, тогда бить будет якши, — сказал Нуриев.
Басмач, держась за острые выступы скал, медленно передвигается по уступу. Нуриев, не торопясь, прицелился и выстрелил.
Басмач, истошно крича, полетел вниз, полы халата его раздулись крыльями.
— Якши! — Прищурив глаза, Нуриев улыбнулся. — Давай еще, суй башка, улгэн дам.
Но басмачи больше не появлялись над обрывом скалы.
Наступила ночь. В горах установилась тишина. С утра у красноармейцев не было во рту ни крошки хлеба, от жажды вспухли языки, потрескались губы. Кони лижут холодные камни.
Затаив дыхание, все ждут чего-то. Что предпримет командир, чтобы вырваться из ловушки.
Время словно остановилось.
Вот по цепи шепотом передается приказ «обуть» коней. Бойцы обматывают копыта лошадей кто чем может: портянками, нательными рубашками, полотенцами.
Бесшумно эскадрон сосредоточился в одном месте, словно пальцы в кулак сжались, «Разуты» кони.
И новая команда:
— По коням! В атаку!
Стремительным ударом эскадрон рассекает левое крыло вражеской цепи и вырывается из ловушки.
Беспорядочная стрельба, дикий вой неслись вдогонку красным кавалеристам. Какая добыча вылетела из рук Кури Ортыка!
Взошло солнце, а вместе с ним на землю обрушился зной. С каждым шагом все сильнее палит раскаленный диск.
Комбриг приказал надеть коням на головы белые панамы, специально сшитые по его распоряжению. Накрыли белыми платками свои головы и кавалеристы, засунув буденовки под ремни. Немного стало легче и людям, и коням.
Голодные и измученные конники прибыли в небольшой кишлак, словно прилепленный на террасе, над крутым спуском. Кони тяжело дышат, от изнурительного похода, лихих скачек и голодовки бока их глубоко ввалились, обострив ребра.
— Чем кормить людей и коней будем? — обращаясь к Султанову, спросил Томин.
— Пойдем к баю, никуда не денется, накормит, — предложил Худайберды.
К кибитке местного бая командиры шли по такой узкой улице, что местами рядом идти было невозможно. Они продвигались словно по ходам сообщения, стены которых обмазаны глиной.
На стук и неоднократный громкий зов Султанова медленно открылась маленькая калитка, закругленная вверху.
Взглянув на хозяина кибитки, Томин даже отшатнулся, изумленно повел бровями. Перед ним стоял жилистый, сгорбленный старик в рваном, засаленном халате, конец старой чалмы болтается у пояса. Жидкая, козлиная бородка словно никогда не видела гребня.
«Где же я этого типа видел?» — подумал Томин и, вспомнив, чуть не расхохотался. Так это же гоголевский Плюшкин. Видать у всех народов они есть!
Это и был бай Эралиев Санг.
Султанов объяснил причину прихода. Бай преобразился, сразу же зычным голосом показал, что он хозяин дома. Он отдал какие-то приказания батракам и нелюбимым женам, и вскоре лошади хрупали ячмень, а бойцы ели плов с горячими лепешками, пили пахучий чай.
— Сколько за угощение? — вынимая из кармана деньги, спросил у бая Томин после обеда.
— Деньга! Деньга не надо. Гость дорогой, так угощаем, — и бай наотрез отказался от платы за продукты и фураж.
— Тогда вот что, дорогой друг. Раз не берешь деньги, приезжай в воскресенье в Куляб, там говорить будем. Найди Томина.
— Томина? Одами-алов! Его все знают, найду, найду, — с готовностью ответил старый бай.
…Все дни до воскресенья Эралиева мучила мысль, зачем этот командир приказал ему явиться к самому Человеку-огню. А мучиться было отчего, у него ведь родной брат — главарь банды басмачей. «Снесут мне старую голову, снесут. Уж не лучше ли укрыться на время в горах или пойти к брату? А что будет с женами, с детьми? Красные обязательно за его голову рассчитаются с семьей».
Старый бай лишился аппетита и сна.
Еще при свете луны бай Эралиев нагрузил на старого ишака мешок ячменя, облачился в тряпье и подался в Куляб. Ячмень он вез в подарок Томину, может быть, он охладит горячее сердце командира, и тогда его седая голова останется на плечах.
А сердце все ноет и ноет, а в голове все одна и та же мысль: может, повернуть обратно, в горы, или к брату?
Порой, помимо своей воли, он останавливался. А когда выходил из задумчивости, удивлялся тому, что ишак стоит. Трогал его палочкой, и ишак снова покорно шагал, понурив голову.
Первый же красноармеец, у которого бай спросил, как найти Томина, показывая рукой в сторону конюшни, ответил:
— Вон Томин. Тот, что справа.
— О, Томин! — вырвался из груди бая не то стон, не то восторг.
И, как бы оберегая глаза от огня, он прикрыл их руками, бормоча про себя какую-то молитву. А тем временем Томин узнал бая, подошел к нему и, потрясая в обеих руках костлявую руку старика, приветливо произнес:
— Ассалом алейкум, бабай!
— Ассалом алейкум, Одами-алов, — преодолевая волнение, ответил бай.
Расспросив, как он доехал, Томин, положив на плечо бая руку, повел его к постройкам.
Вошли в конюшню. В два ряда стоят кони один лучше другого.
— Санг Эралиевич! Ты помог красным бойцам в трудное для них время и не взял денег. За это красные кавалеристы дарят тебе коня. Выбирай любого.
Старик заупрямился и наотрез отказался от такого дорогого подарка, хотя и смотрел на скакунов жадными глазами.
Видя, что упрямого старика не переубедить, Томин пошел на хитрость.
— Ты, бабай, знаешь толк в конях. Какого бы ты выбрал для командира?
Бай долго и внимательно осматривал каждую лошадь: хлопал по крупу, гладил грудь, заглядывал в зубы, щупал копыта. После осмотра он немного постоял, подумал и быстро направился к конюшням, где стояли скакуны комбрига.
Сердце Томина ёкнуло: ему были дороги оба скакуна. Не раз они выносили его из самых отчаянных положений. Огневого, с белыми кольцами на ногах и белой звездой на лбу, он назвал Васькой, в память о своем первом коне. Второму, вороному скакуну, Томин дал кличку Киргиз — в память о друге по гражданской войне.
«Которого выберет?!»
Бай еще раз посмотрел на скакунов и молча показал рукой на Киргиза.
Томин отвязал жеребца, вывел из конюшни. Подавая повод баю, решительно проговорил:
— Бери! Это мой любимец, — и так ожег взглядом сердце старика, что тот не посмел больше упрямиться.
…Солнце коснулось вершины горы и стало погружаться в нее. По узенькой тропинке к кишлаку, что прилип на террасе у крутого склона, цепочкой подходили трое: впереди ишачок с мешком ячменя на спине, за ним вышагивал старый бай, распрямив плечи и гордо подняв голову, ведя под уздцы подарок комбрига.
Весть о том, что Томин подарил баю Эралиеву своего любимого скакуна, быстро облетела кишлаки и ушла в горы.
Главарь шайки решил рассчитаться с братом за измену корану по-своему: отрезать голову и послать ее Ибрагиму-беку, доказать этим свою преданность. А получилось иначе: басмачи связали своего главаря и доставили в штаб бригады, искупив этим вину перед народом.
Яхсу течет вдоль горного хребта. Вода в ней ледяная. Отсюда и название свое получила река: Ях — лед, су — вода. На ее безымянном притоке, буйном в половодье и почти сухом в знойные месяцы лета, раскинулся кишлак Дагана.
По-над берегом притока выстроились в ряд могучие, древние чинары. Их ветви переплелись, и огромные пятипалые листья образовали шатер.
Под шатром словно раскинут цветной ковер из халатов дехкан, женских шалей, гимнастерок.
Одни сидят, согнув ноги калачиком, вторые — растянулись на земле, третьи — примостились на камнях. Раздается смех, оживленные голоса, аплодисменты. Из-за занавеса выходит конферансье Антип Баранов.
— Дорогие товарищи! — раскланивается он. — Сейчас будет исполнена боевая песня басмаческих последышей «Гулимджан», записанная военкомом банно-прачечного отряда Меднолобовым, когда он задавал им баню.
Гармонист провел по клавишам однорядки, растянул меха. А потом, мотнув головой, резко сжал меха, и грянула удалая музыка. Под аккомпанемент русской тальянки на родном языке запел Чары Кабиров:
Его поддержал Антип Баранов:
Люди восторгались: такого слаженного исполнения песни на разных языках им еще не приходилось слышать.
Артисты, под всеобщее одобрение слушателей, продолжали:
пропел таджик.
И опять двуязычный дуэт:
Голоса певцов тонут в дружном рукоплескании, громком смехе.
На «сцену» стремительно, как птица, легко и грациозно выпорхнула танцовщица с бубном в руках. Длинные, черные косы лежат на груди, яркое цветастое платье облегает ее талию. За ней степенно вышли два парня с рубобами в руках.
Полилась нежная таджикская мелодия, а танцовщица, подняв над головой бубен, словно лебедь, поплыла по поляне. Все узнали в ней сестру госпиталя Хадычу Авезову.
Танец кончился. Хадыча передала бубен юношам.
К ней легким шагом подошел Чары Кабиров и весело запел на родном языке. Вторую часть куплета Хадыча продолжила по-русски:
И снова запел Чары, озорно улыбнувшись; подхватывает Хадыча:
Раздался гром аплодисментов и крики: «Еще, повторите, браво, молодцы!»
Все время пока шел концерт, поодаль на пригорке сидел Абдул Юсупов, дехканин лет пятидесяти с черной окладистой бородой и голубыми глазами. Он внимательно слушал, часто поворачивал голову в сторону, и тогда довольная улыбка пробегала по его лицу.
Там он видел военный городок, творение рук своих. Клуб, казарма для красноармейцев и навесы для коней выделялись на фоне дехканских кибиток своей добротностью, большими окнами и новизной.
В первые же дни по прибытии полка в кишлак приехал комбриг Томин. Он распорядился построить военный городок. Оставаясь в гарнизоне, Томин ночевал у Абдула Юсупова, и при свете каганца, похрустывая гандумбурьеном — поджаренными зернами гороха, пшеницы и кунджита, они мирно беседовали до полуночи.
По случаю окончания строительства комбриг распорядился провести торжество, прислал из Куляба рис, корову: приехали самодеятельные артисты.
На поле Абдулы Юсупова растет отменный ячмень, а земляки оказали ему большое доверие, избрав председателем кишлачного Совета. Как же не быть довольным жизнью старому дехканину?
— Война войной, а жизнь идет, — проговорил Томин, подъезжая к «театру» под кронами чинар.
— Жизнь, сынок, всегда сильнее смерти, — отозвался Султанов.
Всадников увидел командир эскадрона.
— Встать? Смир-р-р-нно! — громко скомандовал он.
— Вольно. Продолжайте представление, — распорядился Томин, слезая с коня.
Когда концерт закончился, на поляну вышли Томин, Султанов и председатель кишлачного Совета Юсупов.
— Дехкане, братья! Сегодня мы получили ответ Ибрагим-бека на обращение трудящихся-дехкан и рабочих о прекращении борьбы, — обратился Томин.
— Ибрагим-угры[14], а не бек, — послышалось из толпы. — Вор он, разбойник!
Томин вытянул руку. Шум утих.
— Так вот послушаем, что ответил на мирное предложение народа Ибрагим-бек, или как теперь его все называют Ибрагим-вор. Прочитайте, отец.
Худайберды начал читать:
«Содержание вашего письма мы хорошо поняли. И мы заявляем вам, что наши стремления прежде всего забрать в свои руки тридцать две бухарские области, а затем все остальные государства».
— Вот, бес, чего захотел! Подавится! — перебили дехкане Султанова.
А Султанов продолжал:
«Имейте в виду, что мы отреклись от всего, мы не будем тужить об участи своих жен и родных и будем продолжать борьбу. Нам нужен бог и его пророки и больше ничего».
— Шайтан! — не сдержавшись, громко выкрикнул кто-то. — Шайтан его бог!
«Мы кормимся за ваш счет своей силой, заключающейся в клинке и винтовке. Население нам не нужно, оно для нас безразлично… Прибыл Тамир-бек из Афганистана с хорошими вестями от эмира. Теперь свет на нашей стороне…»
Когда Султанов кончил читать, минуту стояла тишина. Потом прокатился гул негодования, и, наконец, чувства, охватившие всех, прорвались.
— Оружие! Дайте нам оружие! Своими руками уничтожим шакала!
— Живым или мертвым, а Ибрагим-угры будет в наших руках! — возмущенно кричали дехкане.
Тут же образовалась длинная цепь из желающих вступить в добровольческий отряд. Их записывал Абдул Юсупов. Его и избрали командиром нового отряда.
— Пока вооружайтесь сами, чем можете. Скоро пришлю вам винтовки и шашки, — пообещал Томин. — Уничтожайте врага, но не убивайте безвинных, обманутых. Они прозреют и придут к вам.
В кишлачном Совете, который помещался в глинобитном, добротном доме сбежавшего бая, на полосатом паласе сидят Томин, Султанов, Юсупов. Они, не спета, пьют чай и тихо беседуют.
Николай Дмитриевич отщипнул кусочек лепешки и вместе с урюком положил в рот, отхлебнул из глубокой пиалы глоток крепкого чая.
— А что, сирот в кишлаке много?
— Сирот? Не знаем сирот, — непонимающе посмотрел Абдул Юсупов на Томин а.
Султанов пояснил Юсупову, кто такие сироты. У того потемнело лицо, шрам на щеке сделался темно-багровым.
— Много, очень много сирот, — покачивая головой, заговорил Абдул. — Бедняжки! Жалко детей, а помочь чем? Все ограблены шакалами.
— Дети не должны с голоду умирать. За них же воюем. В России детские дома для беспризорников открыты.
— У нас их еще нет, — с сожалением заметил Султанов. — А дело ты говоришь, сын. В Куляб надо сирот собрать. Там и помещение найдется.
— Бригада поможет питанием, материал кое-какой найдется. Городской совет, я так думаю, нас поддержит.
В комнату вошел Чары Кабиров.
— Шакала приволокли. Крупный! — расплывшись в улыбке, радостно сообщил Чары. — Прикажите, командир, ввести.
— Давай, давай, посмотрим на твою добычу.
Ввели Кури Ортыка со связанными назад руками. Он окинул всех презрительным взглядом единственного глаза.
Томин начал допрос.
— Развяжите мне руки, тогда буду говорить, — повелительным тоном проговорил Кури Ортык.
— Силен мошенник. Требует, как будто не он у нас в плену, а мы его пленники. Ну, да уважьте бандита.
Кури Ортыку развязали руки. Он потер онемевшие запястья, переступил с ноги на ногу.
— Прежде всего, я не бандит и борюсь не из-за какого-либо имущества, а за нашу веру. Я иду по стопам пророка. — Знайте, неверные, что мы отреклись от жен и детей, нам нужен только аллах. Мы такие люди, где мы находимся, там все наше. И если есть в этом районе жители, то их дома и хлеба и все, что у них есть, принадлежит нам. Такова воля аллаха.
— Хватит. Это мы слышали от Ибрагима-вора, а ты повторяешь, как попугай. Скажи, давно грабишь и убиваешь людей?
— Ибрагим-бек наш вождь. Если бы его ум мне, не ушел бы ты от меня и не попал бы я в твои лапы, красный беркут. Занимаюсь басмачеством давно, и если я грабил и буду грабить, то солидно, а на мелочи размениваться не нахожу нужным.
— Командир! Зачем с ним говоришь? Его надо убивать, — не стерпел Чары Кабиров, хватаясь за эфес клинка.
— Это, Чары, сделает советское правосудие. Уведите бандита.
Встреча с главарем банды воскресила в памяти недавно виденную картину, оставленную после себя этим детоубийцей. Холодная дрожь пробежала по телу. Чтобы успокоиться, Томин спросил Юсупова, как он думает организовать работу на ремонте плотины.
Беседа затянулась. Султанов предложил:
— Пора, друзья, отдыхать.
— Да, пожалуй, надо вздремнуть, — согласился Томин. Юсупов ушел домой. Томин проверил караулы, развязал скатку, разбросил шинель, положил под голову кулак и сразу же мертвецки уснул.
Эскадрон возвращался в Куляб на закате солнца. Многие жители города видели, как впереди загорелых бойцов сидели на конях маленькие оборванцы. Пока не откроется детский дом, кавалерийская бригада заменит беспризорникам родную семью.
В тени плакучей ивы, сидя на коне, Николай Дмитриевич читает донесение командира полка. Худайберды умывается студеной водой из журчащего арыка. Антип, высоко задрав голову, пьет из походной фляжки. Чары Кабиров, присев на корточки, чистит клинок.
Вдруг послышался глухой удар. Худайберды повернул голову. Комбриг с искаженным от боли лицом, схватившись левой рукой за спину, еле держится в седле. Рядом валяется здоровенный кол. Бандит словно сквозь землю провалился.
Комбриг слег в постель. В госпитале за ним с любовью ухаживала медицинская сестра Хадыча Авезова. Назначения врача она выполняла точно, аккуратно, с каким-то внутренним удовлетворением и гордостью.
А как же! Врач Сегал передает ей тайны своего искусства, а когда разобьют Ибрагим-бека, она поедет учиться на врача в большой город.
Бесшумно в комнату входит Худайберды.
Отложив на маленький столик разговорник таджикского языка и записную книжку, Николай Дмитриевич приглашает своего друга сесть рядом, на табуретку.
— Хорошим делом, сын, занимаешься, — одобрительно проговорил Султанов, рассматривая учебник. — Не знаешь чужого языка — среди людей, а как в дремучем лесу. Вот расскажу тебе, сын, случай со мной был такой.
Николай Дмитриевич любил слушать этого чудесного старика, много видевшего и много знавшего.
— В начале этого года шел я с заданием из Куляба в Каган. В Арале меня схватили, доставили губернатору. Слышу губернатор разговаривает со своими слугами на персидском языке. Когда ввели к нему, я поклонился и произнес приветствие по-персидски. Представился ограбленным купцом, попросил помочь забрать у кызыл аскеров[15] тот товар, что вез из Бухары.
— А много ли у тебя товару? — спросил жадный губернатор, сразу проникшись ко мне доверием, потому что я чисто говорил на его родном языке.
— Много. Две лавки закопал в землю, да вот опасно перевозить, и своих боюсь, и красных. Нет ли здесь такого, который бы распоряжался всеми и которому бы подчинялись все отряды «спасителей»?
— Я самый главный, — похвалился губернатор. — Мой приказ — закон для всех. Хочешь иметь дело лично со мной?
— О, да, я буду очень счастлив. Я могу перевезти сюда все мое богатство, но мне нужен какой-нибудь документ, а то могут подумать, что я от русских.
— Документ дадим сегодня же и не теряйте времени, отправляйтесь.
В ту же ночь с документами от самого губернатора отряд басмачей проводил меня до Алимтая. С этим документом я и прибыл до красных, а потом привел полк Щербакова в Аксу.
Томин долго молчал, о чем-то думал. Потом сказал:
— Отец! Второй эскадрон находится в тяжелом положении, у него нет ни продуктов, ни воды. Кого пошлем на выручку?
— Зачем так говоришь? Поеду я, мне тут каждая тропа знакома, а ущелье Терган знаю, как свои пять пальцев.
Томину не хотелось пускать в столь опасное дело этого старца, но Султанов настоял на своем.
Султанов ушел, а Николай Дмитриевич стал восстанавливать в памяти все, что рассказывал о себе Худайберды, этот высокий длиннобородый седой боец и командир.
Худайберды Султанов родился в 1843 году в кишлаке Челтуш, близ города Чарджоу. В детстве пастух, батрак, погонщик в караванах купцов. Уже взрослым встретился с русским парнем, бежавшим из Москвы, которого все звали Петькой. От него научился русскому языку, от него же и приобщился к чтению запрещенных политических книг. Потом Петька куда-то исчез, но Худайберды и его товарищи продолжали подолгу засиживаться при тусклом свете каганца над запрещенными книгами.
Однажды в Бухаре Худайберды встретил колонну каторжан, закованных в кандалы. Среди них Султанов узнал своего друга Петьку. Он был бледен, как свеча, и еле держался на ногах. Взгляды их встретились, Петька, слабо улыбнувшись, хотел что-то сказать, но покачнувшись, упал. На него набросились конвоиры, начали избивать.
— Брось издеваться над бессильным, — возмутился Султанов.
Но не успел он сделать и шага, как конвоир ударил арестованного винтовкой по голове, тот скорчился в предсмертных судорогах. Султанов выхватил у конвоира винтовку и размозжил ему прикладом голову. Каторжанил десять лет. Бежал в Афганистан, оттуда — в Иран, из Ирана — в Азербайджан, потом поселился в Тбилиси. Там и вступил в партию большевиков. Активный участник первой русской революции. Попал в список «заговорщиков», убежал из-под носа полиции. Поселился в Кишиневе, а затем перебрался в Оренбург.
Только после Февральской революции приехал на родину седым стариком. В Чарджоу склонил бойцов перейти на сторону большевиков, а после Октябрьской революции организовал добровольческий отряд.
На семьдесят пятом году женился. Над стариком смеялись, говорили, что он женился для другого, — жена была моложе его в два раза. Но они жили счастливо и вскоре родились сын и дочь.
А однажды вернувшись домой, Султанов увидел мертвую подругу на окровавленном паласе, а рядом тихо плачущих детей.
— Дети! — вскрикнул Худайберды. Но тут руки и ноги его онемели. Опустившись у изголовья жены, он поразился ее седым волосам и, погладив их, прошептал: — Что ж они сделали с нашей мамой?
Дрожащими губами он коснулся волос жены, на которых запеклась кровь.
— Смотрите, дети, как достается нам наше счастье, — шептал старик. — Вырастете, не забывайте об этом.
Прибежав в милицию, Султанов потребовал главаря банды, который убил его жену. Дежурный открыл камеру, вывел арестованного. Старик выхватил клинок.
— Видишь этих крошек? — строго спросил Султанов, показывая на своих детей. — Ты оставил их без матери. Я обещал тебя не убивать, когда брал в плен, но я не знал тогда, что ты осиротил детей. — Дайте ему клинок, пусть умрет честно.
Курбаши задрожал от испуга, но вызов принял. Бой длился пять минут.
Бандит упал разрубленный надвое.
Второй эскадрон оказался в очень трудном положении. Но и басмачам, пытавшимся уничтожить конников, было нелегко.
Противники заняли горы, разделенные ущельем. По ущелью коричневой лентой вьется дорога, которая хорошо наблюдается и простреливается с обеих гор. Каждый, кто пытался выйти на дорогу, немедленно снимался меткой пулей стрелка.
Вот и держат враги друг друга за горло в течение нескольких суток. У тех и у других кончилась вода, продовольствие, на исходе боеприпасы.
Небольшой отряд Султанова на вторые сутки пути вышел на нейтральную зону. Отряд был замечен одновременно и басмачами и кавалеристами.
— Э-эй! Худайберды-ака! Мы тоже голодные и хотим воды. Мы сдаемся, не стреляйте в нас. Давайте будем говорить мирно.
Это кричал главарь банды, который хорошо знал Султанова и его карающий клинок. Однажды этот басмач встретился с Султановым в бою, и спасли его только резвые ноги коня.
Султанов приказал отряду уйти в укрытие, а сам ответил:
— На чужой каравай рот не разевай. Знаю я вас. Подождите минутку, для мирных переговоров я сейчас вернусь.
Продукты и вода на глазах басмачей уходили к противнику.
— Стреляйте! По коням стреляйте! — закричал главарь банды.
Однако басмачи решили по-своему. Двенадцать человек бросились бежать к красноармейцам. Защелкали винтовочные выстрелы.
Только четырем удалось добежать до красных.
Курбаши повел своих головорезов в атаку. Это было безумие обреченных. Кавалеристы отбили атаку и сами с трех сторон ударили по врагу.
Еще одна банда перестала существовать.
Как только стало немного полегче, Томин, несмотря на протесты доктора, перебрался в свою кибитку, и она превратилась в своеобразный штаб. Строго по расписанию он изучал политэкономию, астрономию, таджикский язык, русскую и иностранную литературу.
Хадыча качала головой и укоризненно говорила:
— Ай, командир! Плохо слушаешь старших. Скажу доктору, в госпиталь положит.
Николай Дмитриевич бросал книжку, ложился в постель и притворно-просящим голосом говорил:
— Прости уж меня, дорогая, добрая Хадыча. Сроду больше не буду нарушать приказа. Накажи, только не жалуйся доктору.
— Смотри, командир, последний раз прощаю. Спите спокойно, Анну Ивановну вам увидеть во сне, — желала на прощание Хадыча.
В эти дни Николай Дмитриевич привел из детского дома приемную дочь, пятилетнюю Лолу. Когда он увидел ее в первый раз, сердце сжалось в тоске и боли. Она была вся в коростах, бледненькая, запавшие темные глаза. Восковая кожа обтягивала ее худенькое тельце.
— Возьму-ка я ее себе, Аннушка будет рада, — решил Томин и, приласкав девочку, посадил ее впереди себя в седло.
Томину вспомнилась Нина, которую он не сумел довезти до дома в 1922 году. Вспомнилась Валя. Когда в Зауралье миновали страшные месяцы голода, мать забрала Валю к себе. И опять они остались без детей.
В дороге, прижавшись к груди ласкового дяди, Лола уснула. Томин бережно занес ее в свою кибитку и уложил в постель.
Потом опять начались горячие дни и ребенка пришлось отдать в детский дом.
И вот они снова под одной кровлей. Николай Дмитриевич читает стихи, а Лола забавно повторяет за ним:
Сейчас в кибитке Николай Дмитриевич один. Он лежит в постели, читает, что-то записывает в блокнот. Вдруг тишину, словно колокольчик, разорвал детский голос.
— Папа! Максим идет, молоко несет! — Это кричит черноглазая пухлощекая Лола.
В кибитку входит мальчик лет семи. Он ставит на стол кувшин с козьим молоком, подходит к Томину.
Николай Дмитриевич вместо пяти копеек дает ему двадцать, гладит по голове, приговаривая:
— Хороший мальчик, хороший.
Так повторяется каждый день. И имя Максим дал ему Томин, да так оно потом и в паспорт перешло: Назаров Максим.
Лола обедает и ложится спать. Николай Дмитриевич вновь углубляется в чтение.
Наступила ночь на двенадцатое августа. На дворе темень, хоть глаз выколи. Завывает злой ветер «афганец», заглушая своим диким посвистом журчание реки.
— Спи, мой тюльпанчик, спи, завтра к маме поедешь, — заботливо укрывая легким покрывалом Лолу, говорит Николай Дмитриевич.
— Оча![16] — сквозь сон произносит Лола и крепко засыпает.
Склонившись над столом, Николай Дмитриевич пишет при свете лампы письмо жене. Время от времени отрывается от бумаги, тихо напевает:
Написав письмо, Томин вышел на улицу: надо проверить посты да заодно занести письмо дневальному, завтра Новик увезет.
Злой «афганец» хлещет камешками в лицо… На черном небе ярко мерцают звезды. Здесь, в горах, они кажутся крупнее, ярче и ближе: поднимись на вершину и снимай их, как яблоки с деревьев, клади в карман.
— Ну как дела, орлы? По дому не соскучились? — спросил Томин у дневального и дежурного по штабу.
— Немножко. Ведь и вы, наверное, скучали сначала.
— Было и у меня. Попрошу вас, не забудьте завтра с Новиком это письмо отправить.
— Мне бы тоже надо написать письмо жене, да не знаю — кого попросить, — проговорил дневальный.
— Ну что же, напишу. Жену-то как звать?
— Устя.
— Устинья, наверное?
— Может, и так по городскому. Пишите, как лучше.
Примостившись на кирпичах, заменявших стул, Николай Дмитриевич начал писать под диктовку огрызком карандаша.
— Устенька, обо мне не беспокойся, я жив и здоров, скоро уже должен приехать домой, к тебе, дорогая, и тогда заживем на славу. Немного осталось жить в разлуке, к новому году наверное вернусь.
— Что еще писать?
— Напишите, всех детей целую и всем низко кланяюсь, и чтобы Устенька берегла себя, не поднимала тяжестей.
Запечатав конверт и написав адрес, Томин сделал пометку в записной книжке:
«Школы ликбеза организовать немедленно в каждом полку и кишлаках».
В Самарканде Анна Ивановна жила в культурной музыкальной семье. Вечерами в доме устраивались настоящие концерты. На различных инструментах играли все члены семьи. Окруженная заботой Анна Ивановна все равно сильно тосковала.
Муж писал часто и в каждом письме сообщал радостные вести, но это не успокаивало. Дни и ночи она проводила в тревоге за него. Каждый день ждала провожатых, а получала письма, в которых Николай Дмитриевич советовал ей вернуться в Куртамыш.
Взбунтовалась Анна Ивановна.
Война давным-давно кончилась, а они должны жить в разлуке! Хорошее дело! Почти десять лет ждала она мужа, волновалась за его жизнь. Минутой пролетели несколько месяцев совместной жизни в Москве, снова разлука. Ну пусть там опасно, пусть нет удобств, зато они будут вместе, а вместе с милым и в шалаше рай.
И Анна Ивановна решилась.
Распростившись с гостеприимными хозяевами, она выехала в Куляб.
До города Карши ехала на поезде, от Карши до Душанбе в повозке. Осталось проехать сто пятьдесят верст верхом — и она у заветной цели.
Небольшой отряд красноармейцев вытянулся цепочкой. Каменистая тропа то спускается на дно ущелья, и тогда становится сумеречно, прохладно, то выползает на головокружительную высоту, петлей огибая отвесную скалу. Горный ветер обжигает лицо. Снежные зубчатые вершины как будто придвигаются.
И скалы, напоминающие своим очертанием то башни древних замков, то столбы, то купола церквей, и настороженная тишина, и парящие высоко в небе горные орлы — все это кажется сказочным, таинственным.
Анна Ивановна едет в середине цепочки, изредка оглядывается на молодую спутницу, жену медицинского фельдшера. Вера, ухватившись руками за луку седла, вздрагивает, зажмуривается при каждом шорохе скатившегося камушка, ожидая за ним горного обвала.
Анне Ивановне тоже страшно, но все же она старается держаться бодро и время от времени успокаивает Веру.
На полпути отряд красноармейцев и десять человек гражданских попали в засаду. Маленькую казарму внутри саманной ограды обложили басмачи.
Двое суток оборонялся гарнизон, двое суток развевался красный флаг на вышке казармы.
Перевязывая раны бойцам и ухаживая за ними, Анна Ивановна не сомкнула глаз. Вера, перепугавшаяся в первые минуты боя, мало-помалу преодолела страх, стала помогать Анне Ивановне.
На третьи сутки подошел отряд Новика, разогнал басмачей.
Узнав, что в гарнизоне находится жена комбрига, Новик представился и вручил ей письмо.
Муж писал, что здоров, настроение хорошее, просил выслать клюквенного экстракта, так как без него пошаливает желудок. Чтобы уберечься от малярии, советовал побольше есть фруктов и винограда, денег хватит, а часть, его зарплаты просил выслать Виктору Русяеву. (Виктор Русяев продолжал учиться, и Томин помогал ему ежемесячно.)
«Аннушка, — писал Николай Дмитриевич, — дай денег Новику, он купит мне топорик, пилку, стружок. Высылаю часы, их товарищ искупал в реке, отдай в ремонт и продай. Потом купим себе лучшие. Сегодня хотел варить варенье, да беда, забыл, что сначала варят, ягоды или сахар. Пришли рецепт, как варить варенье. О нашей природе, если она тебя интересует, спроси Новика, он все расскажет. Если бригада останется здесь на зиму, то подумаю, как тебя вытащить в Куляб. Подумай, может быть вернешься в Куртамыш? Целую тебя, твой Н. Т. 00-30. 12.7—24».
— Вот еще новое дело! — воскликнула Анна Ивановна. — Теперь уж возврата нет, — и она быстро начала собираться в дорогу.
За стеной Новик с кем-то приглушенно разговаривал, Анна Ивановна прислушалась.
— Нет уж, товарищ Новик, вы сами скажите ей об этом. Не могу, понимаете, не могу, — еле расслышала Анна Ивановна и вошла в комнату.
Новик и его собеседник замолчали, виновато опустив глаза.
— Скажите, что случилось с мужем? Ранен?
Командир молчал.
Начинало светать. Громадными чудовищами выползали из темноты горы, приближаясь к городу. Растаяли далекие звезды, а те, что висели низко над головой, померкли.
«Афганец» не унимается. Шумят листья чинар, шуршат ветками урючины, стонут могучие тополя. Журчит на каменистых перекатах горная река Кулябяка. Крепко спит под эту музыку надвигающейся осени комбриг Томин.
— Тревога! — тронув за плечо комбрига, проговорил Антип Баранов.
— А? Что? Тревога?
На улице слышится треск пулеметов, винтовочная стрельба. Томин быстро вскакивает, но острая боль в позвоночнике бросает обратно в постель.
— Э, черт, некстати! — выругался комбриг и, превозмогая боль, встал.
Басмачи подошли к самому городу и ведут отчаянный огонь. Взобравшись на редут, Томин знакомится с обстановкой. По густоте огня определяет центр и фланги неприятеля.
Мгновенно созрело решение. Подошел к комендантскому эскадрону. Здесь по его распоряжению уже собрались все, кто мог держать оружие: повара, санитары, портные, сапожники. Впереди ординарец Антип Баранов держит под уздцы коней.
На дружеское похлопывание по гривастой шее аргамак повернул голову и озорно, ласково схватил влажными губами руку комбрига.
— По ко-ня-ям! — скомандовал Томин и первым, без помощи ординарца, вскочил в седло.
Между вершинами гор выползло солнце, яркими лучами залило кулябскую лощину, которая словно расширилась, стала просторнее.
— Кавалерия, за мной а-арр-ш!
Перемахивая через рвы и арыки, конники помчались на центр вражеских цепей, откуда градом летели пули. Стремительный удар кавалерии надвое рассек объединенную банду. Вскакивая на коней, басмачи кинулись наутек. Чтобы запутать следы главаря Аланазара, банда делилась на части, которые уходили по разным направлениям. Томин разгадал их план и не выпускал из виду Аланазара, шел по его пятам.
У кишлака Карагач банда снова разделилась. Основные силы ее пошли в горы, небольшая горстка направилась вдоль горной цепи. В этой горстке — окруженный бандитами главарь Аланазар-курбаши.
Томин на скаку разгадывает план врага: направить красных в горы, а самому скрыться от возмездия. Комбриг посылает один взвод в погоню за главными силами противника с задачей сковать его боем. Сам же с полуэскадроном продолжает преследовать Аланазара, чтобы уничтожить его и по ущелью зайти с тыла и встретить удирающих басмачей.
Слева летят скалы самых разнообразных форм и очертаний, справа — стена камыша. Эскадрон поднимается на перевал, опускается с кручи. Позади остаются фисташковые, яблоневые, грушевые рощи, поля дехкан, арыки, водоподъемные колеса с глиняными кувшинами на ободьях.
Подковы цокают по гранитным плитам, высекают искры, поднимают столбы пыли.
Дорога, обогнув сопку, пошла по ущелью. Справа плывет величественная, спокойная гора Ходжимумин.
Бандиты сворачивают с дороги вправо, и резвые кони их начинают крутой подъем.
Томин пришпорил коня; аргамак, закусив удила, преодолевает кручу.
Эскадронный Нуриев и ординарец Баранов на своих сибирских лошадках отстали от командира. И даже Худайберды Султанов на резвом жеребце приотстал.
— Вернись, сынок, вернись, — зовет Султанов.
— Вперед! — ударяя по крупу, прокричал Томин и пригнулся к луке.
Скакун перемахнул через овраг, полетел быстрее ветра. Комбриг врезался в гущу бандитов, с тяжелым выдохом начал рубить, пробираясь к главарю.
Один за другим упали с коней трое.
Клинок блеснул над головой главаря.
— Ай-ю! — взревел Аланазар.
С горы раздались два выстрела. Раскаленным куском железа обожгло внутри, в глазах потемнело, комбриг бессильно свалился с коня.
— Что с вами, Николай Дмитриевич? — спросил подскакавший Нуриев.
— Со мной все!.. Завершайте операцию.
Николай Дмитриевич тяжело дышит, на губах запеклась кровь.
— Подметил меня, гад…
Томина уложили на носилки, сплетенные из зеленых веток. Бережно подняли на руки, тронулись в Куляб.
Сзади ординарец Баранов ведет под уздцы аргамака комбрига. В руках — буденовка, по щекам катятся слезы. Конь понурил голову, словно зная, какая непоправимая беда случилась.
В горах загромыхал гром, хлынул дождь.
Под раскаты грома и шум ливня в кишлаке Карагач доктор Сегал сделал операцию. Рана оказалась смертельной. Пуля прошла вблизи сердца. Операция длилась очень долго. Новик не выдержал, зашел в кибитку.
— Вон отсюда! — прошипел доктор.
— Не гони его, доктор, — очнувшись, слабо попросил комбриг. — Дай попрощаться с друзьями. Откройте окно.
В палату хлынул свежий воздух. Николай Дмитриевич жадно глотнул его. Тучи сбежали за вершины гор. Ярко засветило солнце. На юге зеленеет купол горы Ходжимумин.
— Султанов и Нуриев вернулись? — тяжело дыша, спросил Николай Дмитриевич.
— Вернулись, Николай Дмитриевич, вернулись. Они заарканили главаря убийц Аланазара, приволокли его под двери операционной. Султанов плачет, просится пустить его к вам.
Доктор решительно воспротивился.
— Разрешите, доктор, попрощаться с отцом. Скоро конец…
Вошли Султанов и Нуриев. Худайберды упал на колени и, захлебываясь слезами, начал целовать обескровленную, холодную руку комбрига.
— Сынок, а ведь ты говорил мне, что вместе будем обрабатывать поля. Ведь ты горячо любишь землю. Как же ты?!
— Не плачь, отец, я умираю за вашу счастливую жизнь, за детей ваших и внуков. Я верю, Таджикистан будет счастливым, цветущим краем.
В углу кибитки всхлипнула Хадыча. Словно окаменел Ахмет Нуриев, только шрам вздулся, и по нему катились скупые мужские слезы.
— Ох, как здесь душно. Вынесите меня на улицу, я хочу попрощаться с друзьями.
Желание комбрига исполнили.
Перед взором его раскинулась величественная панорама: широкая долина, зелень фруктовых садов словно островки в безбрежном море камыша, высокие горы, голубое небо, яркое солнце. Кругом стоят боевые друзья молчаливые, суровые.
Николай Дмитриевич посмотрел прощально, грустно и тихо, с перерывами заговорил:
— Прощайте, друзья! Аннушку не забудьте… Всю жизнь… сердце партии…
Солнце закатилось за крутую вершину Ходжимумина.
Эпилог
Пролетели десятилетия. Много воды утекло с тех пор, но ни героические дела ударников первых пятилеток, ни боевые подвиги героев Великой Отечественной войны, ни славные будни строителей коммунизма не затмили памяти о легендарном герое гражданской войны Николае Дмитриевиче Томине.
Во многих городах и селах его именем названы улицы, парки, школы и пионерские дружины. Имя Томина носят совхозы и колхозы, железнодорожная станция. В городе Куртамыше Курганской области создан краеведческий музей имени Н. Д. Томина.
На родине героя в селе Казачий Кочердык Целинного района Курганской области знатному земляку поставлен обелиск. В городе Куляб, в колхозе имени комбрига Томина Восейского района Таджикской ССР, в городах степного Зауралья Троицке и Куртамыше воздвигнуты памятники. У их подножья всегда живые цветы.
г. Куртамыш Курганской обл.
1952—1972 гг.
От автора
Особую благодарность выражаю вдове героя Анне Ивановне Томиной, которая предоставила в мое распоряжение архив Н. Д. Томина и помогла мне установить связь с боевыми друзьями ее мужа В. С. Русяевым и Н. А. Власовым; подполковнику в отставке, бывшему бойцу Первого Путиловского стального кавалерийского полка Алексею Владимировичу Орлову за добрые советы в предоставление в мое распоряжение архивных материалов, которые он первым обнаружил в различных архивах СССР.
Выражаю также искреннюю благодарность за помощь, оказанную мне при работе над повестью «Человек-огонь», боевым соратникам Н. Д. Томина — В. С. Русяеву, Н. А. Власову, М. П. Миловскому, Г. Г. Петрову, В. В. Писареву, И. Н. Залогину, С. Н. Богомякову, М. Д. Голубых, С. А. Диктовичу, Н. И. Любимову, Д. А. Тарасенкову; бывшим бойцам и командирам-томинцам В. Т. Беспаленко, Г. И. Пивоварову, П. С. Бочкареву, И. П. Селькову, М. Ю. Жвирину, И. З. Сергееву, В. Е. Морозову, Л. Н. Зорину, М. И. Елатанцеву, Г. И. Печерину, И. И. Карпухину, И. П. Золотухину, А. М. Кожевникову, Г. В. Хорошилову, И. Д. Гостеву, П. П. Кирьянову, Н. М. Самарцеву, П. И. Зайцеву, К. С. Лыткину, П. П. Попову; сестрам героя — М. Д. Томиной, А. Д. Томиной; брату героя — П. Л. Томину; вдове Власова Н. А., бывшего помощника начальника штаба соединений, которыми командовал Н. Д. Томин — Г. Ф. Власовой; вдове бывшего комбрига С. Г. Фандеева — З. Н. Гашковой; друзьям юности Томина — В. И. Лосеву, М. А. Осколкову, А. Д. Дегтяреву, П. М. Дегтяреву, Д. Л. Головачеву, Н. И. Жудину, Г. И. Дудину, А. И. Дудиной; писателю А. К. Югову; писателю-краеведу В. П. Бирюкову; И. С. Доценко; первому секретарю Кулябского горкома партии М. Б. Бегматову; П. Хабибову, А. Шералиеву, А. Юсупову, М. Каримову, А. Муратову; пионерам города Куляба; сотрудникам Центрального государственного Архива Советской Армии; библиотеки имени В. И. Ленина; музеев Троицкого, Пермского, Свердловского, Гродненского, Кунгурского и всем товарищам, которые оказали мне помощь в сборе материалов о жизни, революционном и боевом пути Н. Д. Томина.