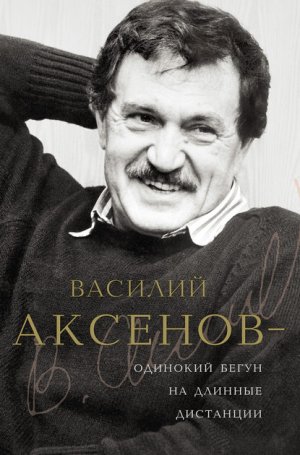
В книге использованы фотографии из семейного архива В.П. Аксенова, А.В. Аксенова, А.П. Аксеновой, из личного архива В.М. Есипова, Е.А. Попова и А.А. Кабакова, а также работы М.Н. Пазия, В.М. Есипова, В.Ф. Плотникова
Четыре жизни Василия Аксенова
Биография писателя Василия Аксенова, широко известного не только в России, но и в мире, настолько богата событиями, будто он прожил несколько жизней. Родился в 1932 году в Казани в благополучной советской семье: отец — председатель горсовета, мать — преподаватель пединститута и завотделом культуры газеты «Красная Татария». Счастливые первые годы. Затем арест родителей, спецприемник для детей «врагов народа», многодетная семья тетки, в 1948-м поездка в Магадан к находящейся на поселении матери (по существу знакомство с ней). В Магадане Василий оканчивает среднюю школу и с аттестатом зрелости возвращается в Казань, где в 1950-м поступает в мединститут: профессия врача самая безопасная и житейски полезная для сына лагерников и, значит, потенциального лагерника.
В марте 1953-го умирает Сталин. Вдруг буквально ниоткуда появляются так называемые стиляги, первая субкультура в Советском Союзе. Стиляг привлекает все западное: они любят западное кино и джаз, восхищаются Америкой. Это стихийная, не вполне осознаваемая ее участниками форма протеста против советского тоталитаризма. Василий увлечен этим новшеством: у него прическа с коком, вычурная одежда, он не упускает случая послушать джаз. В том же 1953 году он переводится в Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова, который оканчивает в 1956-м. Работает врачом в Ленинградском морском порту, в поселке Вознесение на Онежском озере, в Московском областном туберкулезном диспансере. В 1957 году женится на красавице Кире Менделевой.
Жизнь в стране начинает меняться. После прошедшего в апреле 1956 года ХХ съезда правящей коммунистической партии, на котором лидер коммунистов Никита Хрущев разоблачил преступления сталинского режима, идет массовая реабилитация незаконно репрессированных. Начинается политическая оттепель. В литературе одно за другим появляются новые имена. Возникают новые журналы и альманахи, открываются новые театры. Выходят кинофильмы, появление которых еще несколько лет назад было бы невозможно.
С изменениями этими совпали и изменения в жизни молодого врача Василия Аксенова. Так, в 1959 году известный советский писатель Валентин Катаев, главный редактор недавно созданного журнала «Юность», публикует в нем два рассказа безвестного медика. Рассказывали, что Катаев подписал их в номер, даже не дочитав до конца, восхитившись двумя метафорами начинающего прозаика. А вскоре, в 1961 году, там же выходят повести «Коллеги» и «Звездный билет». В советской литературе появляется новый герой[1] — с нравственными исканиями, презирающий советские штампы, тянущийся к западной культуре, в частности к джазу. У этого героя своя лексика с оттенками иронии и критическими нотками по отношению к окружающей его действительности. Зоя Богуславская отметила в свое время: то ли Аксенов внес в литературу городской молодежный сленг начала шестидесятых, то ли молодежь заговорила языком его героев. Наверное, и то, и другое: лексика героев аксеновских повестей и язык улицы — это были как бы два сообщающихся сосуда…
Аксенов обретает известность, он буквально врывается в литературу так называемых шестидесятников и становится одним из лидеров нового поколения. Нового во всем: в отношении к творчеству, в художественном стиле, в стиле жизни, в одежде и манере поведения.
Александр Кабаков в недавно изданной совместно с Евгением Поповым книге «Аксенов» описал это вхождение их героя в литературную среду весьма экспрессивно: «И вот Вася оказывается среди этих не худо одетых, но совершенно ему чуждых монстров, богатырей совписа. А с другой стороны — и ровесники Васины не отстают, шлюзы оттепелью открыты <…> Вот, пожалуйста, — Евгений Александрович Евтушенко. В этом случае, конечно, не столько об элегантности следует говорить, сколько об экстравагантности, но экстравагантности первосортной … А Андрей Андреевич Вознесенский! Человек, показавший всему СССР, что такое шейный платок! А Белла Ахмадулина в скромненьком черном платьице, которое вечно в моде и называется «маленькое черное платье», в точно таком же платье, как Эдит Пиаф! <…> И тут: здрасьте, я Вася. А что происходит дальше? А дальше Вася становится номер один — ну, или около того, — среди них как автор, и Вася становится номер один среди них как стиляга! Суть вот в чем: Аксенов может жить только номером первым, он просто сориентирован с молодости на это, он возмещает Казань, нищету, всю эту как бы второсортность сына «врага народа» — и теперь он номер один».
Так началась вторая жизнь Василия Аксенова. Он много пишет и печатается, его рассказы, повести и романы с восторгом принимаются читателями, особенно молодежью: «На полпути к Луне» («Новый мир», 1962, № 7), «Апельсины из Марокко» («Юность», 1963, № 1), «Товарищ Красивый Фуражкин» («Юность», 1964), «Катапульта» («Советский писатель», 1964), «Пора, мой друг, пора» («Молодая гвардия», 1965), «На полпути к Луне» («Советская Россия», 1966), «Затоваренная бочкотара» («Юность», 1968, № 3), «Жаль, что вас не было с нами» («Советский писатель», 1969). Но этот успех сопровождается неослабевающими нападками ревнителей лживой коммунистической морали и драматическими эпизодами непосредственного общения с властью. Например, с Никитой Хрущевым во время встречи руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле в марте 1963 года, где глава государства кричал и топал ногами на него и на Андрея Вознесенского.
Между тем время благотворных перемен в истории страны, время политической оттепели закончилось быстро: в октябре 1964 года был смещен с поста Первого секретаря ЦК КПСС инициатор оттепели Никита Хрущев, 29 марта — 8 апреля 1966 года прошел XXIII съезд КПСС, вернувший в Устав партии сталинские названия (Политбюро и Генсек), в том же году в Москве прошел первый политический судебный процесс над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, за ним последовали суды над правозащитниками и диссидентами, несогласных с режимом отправляли в лагеря и психбольницы. В августе 1968-го советские танки вошли в Прагу.
Для значительной части писателей, к которой принадлежал и Василий Аксенов, иллюзии о возможности существования «социализма с человеческим лицом» окончательно развеялись. Становится ясно, что любое свежее и правдивое слово будет появляться в печати с большими трудностями. Начинается эпоха застоя. Аксенова печатают все реже. В 1968 году выходит пародийно-фантастический роман «Джин Грин — неприкасаемый» (в соавторстве с Григорием Поженяном и Овидием Горчаковым), да еще в 1971-м в «Политиздате» (серия «Пламенные революционеры») повесть о Леониде Красине «Любовь к электричеству». А через несколько лет — с перерывами — детская научно-фантастическая дилогия «Мой дедушка — памятник» (1972) и «Сундучок, в котором что-то стучит» (1976).
Аксенов, словно забыв о существовании цензуры, начинает писать новый роман «Ожог», роман совершенно антисоветский, вырывающийся за пределы традиционного реализма. Стремление воспарить над элементарной достоверностью и обыденностью происходящего весьма характерно для творчества зрелого Аксенова и является, быть может, главной отличительной чертой его стиля.
Очень показателен в этом смысле рассказ «А А А А» из более поздней по времени книги «Негатив положительного героя». Весь он насыщен вполне достоверными деталями и местами даже смахивает на дневниковую запись, не лишенную, впрочем, весьма артистичных иронических эскапад, и вдруг в последней части находим такое вот авторское предуведомление: «Пришла уже пора подкручивать этому рассказу пружину». И начинается! Появляется надувной матрас, как плавучее средство для выхода из советской береговой зоны в нейтральные воды Балтики; прорезают темень прожектора пограничников; выныривают из темноты неведомые аквалангисты, которые увлекают с собой, словно «морские черти», мирную эстонскую библиотекаршу, дрейфующую вместе с героем-рассказчиком на означенном выше надувном матрасике…
Но вернемся к истории «Ожога». Он был окончен в 1975 году, и Аксенов, понимая, что на родине роман не может быть опубликован, переслал его на Запад. Это было опасно: могли последовать репрессии властей. Но, с другой стороны, таким образом автор мог сохранить роман, что бы ни случилось теперь с ним самим. Кроме того, Аксенов не исключал при определенных условиях возможности публикации «Ожога» за границей; в таком случае, получив широкую известность на Западе, роман мог защитить его самого: западная общественность поднялась бы на защиту писателя.
Так называемым компетентным органам эта акция Аксенова становится известной. Не желая допустить публикации «Ожога» за рубежом, власти в отношениях с Аксеновым идут на определенные послабления. Ему все еще разрешаются заграничные командировки и даже чтение лекций в зарубежных университетах. Допускаются отдельные публикации в периодической печати: в 1976 году в «Литературной газете» («Вне сезона»), в 1978-м в «Новом мире» («В поисках жанра»). Окончательный разрыв происходит в 1979 году, когда выходит неподцензурный альманах «Метро́поль», негласным лидером которого был Аксенов. Альманах задумывался как вполне лояльное по отношению к власти издание, в него даже не приглашали из тактических соображений уже преследуемых в то время писателей-диссидентов, например, Владимира Войновича и Георгия Владимова. Тираж «Метрополя» всего 12 машинописных экземпляров (4 закладки бумаги на пишущей машинке), но сам факт выхода издания, не прошедшего советскую цензуру, а также передача одного из экземпляров «Метрополя» в Америку, вызывает бурную реакцию писательского начальства. Из Союза писателей исключают двух молодых участников альманаха Виктора Ерофеева и Евгения Попова, в ответ на это Аксенов демонстративно выходит из Союза. В июле 1980 года писатель вместе с семьей[2] вылетает в Париж. Перед отъездом за границу на него совершается покушение, когда он вместе с женой Майей возвращается из Казани, простившись с отцом.
Начинается третья жизнь Василия Аксенова — эмиграция. Недолго пробыв в Европе, Аксеновы 10 сентября 1980 года прилетают в Нью-Йорк. Там они находят приют и поддержку в Анн Арборе (штат Мичиган) у известных американских славистов Карла и Эллендеи Профферов, посвятивших себя служению русской литературе. В издательстве Профферов, знаменитом «Ардисе», выходят главные книги Аксенова советского периода — романы «Ожог» (1980) и «Остров Крым» (1981), которые не могли быть напечатаны на родине. Кроме того, тот же «Ардис» выпускает в свет роман «Золотая наша Железка», издательство «Эрмитаж» (Анн Арбор) — сборник пьес «Аристофаниана с лягушками» (1981), а «Серебряный век» (Нью-Йорк) — повести «Затоваренная бочкотара» и «Рандеву» (1980). Но эти издания не могли обеспечить материальной независимости автору: слишком малы были их тиражи. Отношения же с отечеством были окончательно разорваны: 21 января 1981 года решением Верховного Совета СССР писатель был лишен советского гражданства.
Эмигрантская жизнь продолжалась. Аксеновы поселились в Вашингтоне. Там Аксенов начинает преподавать русскую литературу и отдается этому с удовольствием. Впоследствии он признается, что многолетнее преподавание сделало его «интеллектуалом». Профессор Василий Аксенов преподает в Вашингтонском институте Кеннана (1981–1982), университете Дж. Вашингтона (1982–1983), Гаучерском колледже и университете Джона Хопкинса (1983–1988), а с 1988 года — в расположенном неподалеку от Вашингтона (г. Фейрфакс, штат Вирджиния) — университете Джорджа Мейсона. Здесь он проработает 16 лет, вплоть до своего возвращения в новую Россию в 2004 году.
Параллельно Аксенов продолжает много писать. В первое десятилетие эмиграции написаны и изданы сборник рассказов «Право на остров» (1983), романы «Бумажный пейзаж» (1982), «Скажи изюм» (1985), «В поисках грустного бэби» (1986), «Желток яйца» (1989)[3].
Рассказы, воспоминания и эссе Аксенова печатаются в эмигрантских изданиях «Новый американец», «Третья волна», «Russika», «Страна и мир», «Грани», «Континент».
Между тем на родине вновь происходят серьезные изменения. Михаил Горбачев объявляет политическую перестройку. В 1989 году, на девятом году эмиграции, Василий Аксенов впервые посещает Советский Союз. Но эта поездка оказалась возможной отнюдь не по воле руководства страны, а по приглашению посла США в Москве Джека Мэтлока, который дружил с русским писателем-эмигрантом. И жили Василий и Майя Аксеновы в тот приезд в резиденции посла Спасо-хаусе, а не в московской гостинице.
Однако политическая ситуация менялась довольно быстро, и в 1990 году Аксенову вернули советское гражданство. Отныне он мог свободно приезжать на родину. В Москве издали «Ожог» и «Остров Крым», что было невозможно себе представить еще год назад. В августовские дни 1991 года Аксенова не было в Москве, здесь была Майя, она по телефону обсуждала с Василием стремительное развитие революционных событий. В 1992-ом и он приезжает в столицу новой России. Исторические дни августа 1991 будут запечатлены Аксеновым позднее в романе «Новый сладостный стиль»[4] (1997). В нем будут интересные предвидения: незабвенный соавтор сталинского гимна СССР, С.В. Михалков, шлепая в «верблюжьих тапочках» по площади Восстания, сочиняя на ходу, бормочет про себя слова нового гимна, гимна демократической России («Борцов демократии, сильных, свободных / Сплотила навеки великая Русь…»).
В 1993 году московские власти предоставляют Майе квартиру в высотном доме на Котельнической набережной — взамен отобранной у нее после отъезда в эмиграцию квартиры ее умершего мужа Романа Кармена. Впоследствии этот дом станет центром повествования в романе «Москва-ква-ква». На родине издаются новые книги Аксенова: трилогия «Московская сага» (1993–1994), сборник рассказов «Негатив положительного героя» (1996), упомянутый уже роман «Новый сладостный стиль». В 1995 году журнал «Юность», постоянным автором которого был молодой Василий Аксенов, издает его пятитомное собрание сочинений. В многочисленных интервью Аксенову все чаще задают вопросы об окончательном возвращении на родину.
В 2001 году писатель приобретает небольшой дом в Биаррице на французском побережье Бискайского залива и вскоре переезжает туда с женой. В том же году в Москве выходит его новый роман «Кесарево свечение», который Аксенов считает своим высшим достижением. Теперь жизнь его проходит между Россией (куда он регулярно приезжает с середины 1990-х) и Францией. Это можно считать началом четвертой, самой короткой, жизни писателя. Он, правда, еще сохраняет за собой весенние семестры в университете Джорджа Мейсона. Лишь в 2004 году он закончит свою преподавательскую деятельность и окончательно покинет Америку.
В Биаррице Аксенов работает в тиши и покое, в Москве общается с друзьями и прессой. Внимание прессы и других СМИ он привлекает своей яркой биографией и необычайной творческой активностью.
Анатолий Гладилин совершенно справедливо заметил по этому поводу: Аксенов совершил то, что суждено немногим. Он вернулся и «вновь стал популярным писателем у себя на родине»[5].
Его книги выходят в Москве одна за другой:
2004 — «Десятилетие клеветы. Радиожурнал писателя» — это аксеновские радиоочерки, которые регулярно с 1980 по 1991 год звучали в эфире радио «Свобода»;
2004 — «Американская кириллица»;
2004 — роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки»;
2005 — «Зеница ока», книга, включившая в себя публицистические выступления писателя по самым животрепещущим вопросам жизни России — в еженедельнике «Московские новости» и журнале «Огонек» с января 1996 по октябрь 2004;
2006 — роман «Москва-ква-ква»;
2007 — роман «Редкие земли»;
2007 — «Ква-каем, ква-каем… Предисловия, послесловия, интервью».
Кроме того, в 2004 году по центральному телевидению демонстрируется телевизионный сериал по трилогии «Московская сага».
За роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» Аксенов получает «Русского Букера» — первую крупную литературную премию за все годы его служения литературе. Роман переведен на французский язык и издается в Париже. В 2005 году Василий Аксенов награждается Орденом литературы и искусства, одной из высших наград Франции. Это его единственная государственная награда. В России же в день своего 75-летия он удостаивается лишь поздравительных телеграмм от президента и премьер-министра.
Тот факт, что во Франции заслуги Аксенова оцениваются выше, чем на родине, объясняется независимостью его гражданской позиции: в России такая независимость всегда только раздражает власть. Зато родная Казань встречает его с любовью и почетом во время первого «Аксенов-феста», который был устроен в его честь в октябре 2007 года и с тех пор проводится каждую осень. Возможно, идея фестиваля и его подготовка пробудили яркие воспоминания о его казанском детстве и стали стимулом для написания нового романа. Во всяком случае, ко времени приезда в Казань, роман был уже начат. К сожалению, Аксенов не успеет его закончить: 15 января 2008 года за рулем автомобиля его настигнет инсульт, после которого ему не суждено будет оправиться. Смерть наступит 6 июля 2009 года.
После смерти писателя, в 2010 году, вышли еще три его новые книги: «Логово льва. Забытые рассказы», «Таинственная страсть» и «Ленд-лизовские». На двух последних следует остановиться особо.
«Таинственная страсть» — роман об аксеновском поколении, о писателях и поэтах, вошедших в литературу в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века. Название взято из стихотворения Беллы Ахмадулиной 1959 года, где есть такая строфа:
«Не в этом ли, — задавался вопросом в статье, посвященной «Таинственной страсти», автор настоящего предисловия, — идея романа: поколение предало само себя, не сумев сохранить человеческое и творческое единение в противостоянии бесчеловечной власти. Страх перед железобетонной властью и личные амбиции разъединили их».
Роман горький и честный — о дружбе, о служении призванию, о предательстве. Он написан с той же искренностью и вдохновением, что были свойственны молодой прозе Аксенова. Роман, как выяснилось после смерти автора, писался с середины 2006 по середину 2007 года.
А всю вторую половину 2007 года Аксенов был занят уже новым романом — о своем казанском детстве, о голоде, об американской помощи воюющей России — романом, который получил издательское название «Ленд-лизовские». Роман не завершен: окончена первая часть и начата вторая, а состоять он должен был из трех частей. Он написан в совсем иной манере, чем «Таинственная страсть». Здесь — то стремление к полному авторскому освобождению, которое прослеживается во всех его последних романах, но достигает воплощения только сейчас. Если когда-то в «Ожоге» Аксенов полностью освободился от соображений о проходимости или непроходимости написанного в условиях советской цензуры, то в «Ленд-лизовских» он перестал думать о читателе: например, о том, поймет или не поймет читатель написанное им. Перестав ориентироваться на читателя, даже самого просвещенного, он обрел полную свободу самовыражения. Как будет оценена в будущем эта экспериментальная проза, покажет время…
Настоящая книга посвящена памяти Василия Аксенова: 20 августа 2012 года ему исполнилось бы 80 лет. Книга состоит из трех частей. В первой части собраны поздравления друзей Аксенова с его прижизненными юбилеями, публиковавшиеся в тех или иных изданиях, а также воспоминания о нем российских и американских авторов, написанные специально для этой книги, отклики на его преждевременный уход из жизни, заметки и записи близких ему людей, найденные в его архиве.
Во второй части публикуется переписка Аксенова с близкими людьми, где особое место занимают переписка Василия и Майи Аксеновых с Беллой Ахмадулиной и Борисом Мессерером, два письма Василия Аксенова Иосифу Бродскому и письма отца Павла Васильевича Аксенова к сыну.
В третьей части читатель найдет наиболее интересные и содержательные, на взгляд составителя и редактора, интервью с Василием Аксеновым, в том числе последнее интервью, взятое у него 12 января 2008 года, за три дня до случившегося с ним несчастья.
К сожалению, представленные здесь материалы, не могут охватить всех этапов многосторонней и яркой жизни замечательного писателя и человека Василия Павловича Аксенова. Тем не менее составитель и издательство выражают самую горячую признательность всем авторам этой книги за согласие участвовать в ее создании.
Виктор Есипов
Современники о Василии Аксенове
Марк Розовский
Дух юности и тайна гвинейского попугая
Память придуривается — пытается сохранить образ Васи в каких-то благоглупостях, деталях и кадрах быстротекущей жизни.
Вот мы играем в пинг-понг в подвальном помещении Центрального дома литераторов, и Вася злится, не любит проигрывать. Я ему: «Пинг-понг — спорт смелых!» А он мне: «Вот потому ты и тыркаешь! Научись бить!» Это после восьмой проигранной им подряд партии!
Вот на Семинаре творческой молодежи в пионерском лагере в Пахре мы сражаемся в футбол и баскетбол с комсомольскими работниками (капитан Камшалов, секретарь ЦК ВЛКСМ), теперь уже злятся они, тоже проигрывать не любят. Но, представьте, проигрывают.
Вот уже играем мы меж собой (слезли с теплохода, где «Юность»[6] отмечала свой очередной юбилей на какой-то лесной поляне) в тот же доморощенный дворовый футбол — Фазиль Искандер в воротах, Вася, Стасик Красаускас, Женя Сидоров и я — бегаем как сумасшедшие, кирные, в трусах и плавках…
Вот те же и другие юбилеи «Юности», где блещут капустными пародиями на Евтушенко и «Звездный билет» Гриша Горин и Аркаша Арканов. Вася выпивает (он тогда еще хорошо выпивал).
А вот я пишу пародию на «Письмо ялтинских шоферов», опубликованное в «Известиях» с целью оклеветать Василия Павловича, — это наш ответ «Юности» на официозные нападки. За это получаю разнос в «Комсомольской правде» и донос в докладе первого секретаря Павлова на Пленуме ЦК ВЛКСМ.
А вот мой рассказ «Вася, живи», посвященный Аксенову в 80-м году — в момент «Метрополя» — и опубликованный в «Антологии сатиры и юмора»[7] совсем недавно, но Вася успел его прочесть до проклятого инсульта, прямо на своем вечере-презентации романа «Редкие земли» на Винзаводе. И благодарно пожал мне руку, сказав:
— Жить постараюсь, но не обещаю.
Как в воду глядел. Вероятно, он хотел сказать «долго не обещаю», но слово «долго» пропустил, и получилось по-аксеновски, и горько, и весело.
А вот самое стародавнее воспоминание. Мы встретились в Болгарии, на Золотых Песках, и был чудный вечер вдвоем на берегу Черного моря — ели какую-то на наших глазах зажаренную рыбку, и Вася был невероятно красив: я впервые видел на нем шорты, большая новость в те времена, сам приехал на курорт в каких-то допотопных шароварах, и Вася, глядя на меня, смеялся:
— Каждый Рабинович хочет выглядеть Тарасом Бульбой!
И наконец отъезд в США. Финал истории «Метрополя». Всем грустно, многие бабоньки плачут, а Вася ходит меж именитых гостей и друзей и угощает всех нескончаемым шампанским. На дворе — год 1980-й. Эпоха Андропова, диалектично переходящая в эпоху Черненко. Или — наоборот.
Вот незадолго до трагедии в автомобиле Вася пришел в театр «У Никитских ворот» на премьеру «Крокодильни» по Ф.М. Достоевскому, и — тут случился казус: после интерактивного обращения лично к нему одного из персонажей Аксенов-зритель, вместо того чтобы прочесть вслух по бумажке фразу «Снести Казанский собор», прочел «Спасти Казанский собор». Оговорка, как говорится, по Фрейду! Многозначащая и заставляющая сделать вывод о том, что настоящего русского писателя-гуманиста голыми руками не возьмешь.
А вот еще одна наша встреча, нашедшая не однажды упомянутая в переписке Аксенова с Бродским. Она состоялась в родном их городе Ленинграде скоро после возвращения Иосифа из пресловутой ссылки. Я тогда работал в БДТ над «Историей лошади», и ко мне в гости приехала из Москвы на пару дней прекрасная девушка по имени Юля Варшавская, и приехала не одна, а… с гвинейским попугаем на плече. Я встретил ее на Московском вокзале, и не было человека, который бы не оборачивался на нас. И тут же, в гостинице, мы нос к носу столкнулись с Васей Аксеновым.
Он сказал:
— Шикарно!.. Вечером давайте отужинаем вместе!
Сказано — сделано. Договорились встретиться в «Европейской», там был наверху ресторан под названием «Крыша», где хорошо кормили и классно играл какой-то клевый джазик.
— С нами Рыжий посидит, не возражаешь? — спросил Вася еще на входе.
— Какой Рыжий?
— Бродский Ося.
Ого!.. Я не был знаком с известным опальным поэтом, а тут такой представился случай!
И вот мы сидим за столом втроем — действительно рыжий Бродский, Аксенов, я — и с нами моя прекрасная девушка Юля с попугаем на плече. Конечно, этот попугай был главным действующим лицом в тот вечер!..
Шутили, скабрезничали:
— У вас что, любовь втроем?
— Нет, — отвечал я. — Он не мужик. Он импотент.
Юля краснела. Объясняла:
— Я не могла его в Москве одного оставить.
Сейчас эту ситуацию назвали бы «приколом».
— А вы не боитесь, что он улетит? — спросил Бродский.
— Боюсь. Он форточку клювом все время открывает.
— А почему бы его не посадить в клетку?
Вопрос из уст Бродского, недавнего «зэка», показался мне смешным.
— Что вы, он совершенно ручной и послушный… В клетке он только спит, а по квартире гуляет и летает как хочет. Свободная птица.
— Дайте поносить! — улыбнулся Бродский. И попугай тотчас перекочевал с плеча Юли на плечо Иосифа, будущего лауреата Нобелевской премии.
Однако в тот момент он был для нас просто «Рыжий».
Вася посмеивался:
— Смотри, как бы он тебя не обделал!.. А впрочем… это будет хорошая реклама Бродскому в Ленинграде!
— Мне реклама не нужна! — заявил Иосиф совершенно серьезно, и мы с Василием переглянулись.
Вот так трепались о чем угодно, только не о литературе, жрали шашлыки и слушали ресторанных лабухов. На великих людей здесь никто не смотрел, и даже гвинейский попугай не обращал на себя внимание.
А потом была волшебная белая ночь на теплоходике, прокатившем нас по Неве. Бродский оказался открытым, общительным парнем, говорившим без умолку, захлебами, подробно — о каждом доме на набережной, меня поразили эти его знания.
— Город-музей, — сказал Вася. — Здесь каждый поэт может работать экскурсоводом.
Интересно, что дружбаны-шестидесятники, на интерес и нежность которых в тот момент было любо-дорого смотреть, впоследствии, в обстоятельствах эмиграции, вдрызг рассорились, сделались литературными врагами, злыми и нетерпимыми. Их велеречивая, с подтекстами и взаимной пикировкой, американская переписка — тому грустное свидетельство. Разрушение произошло, и это факт нашей общей и довольно-таки глупой истории.
В неразберихе словесных эскапад, в нюансах изящных уколов сегодня нам видятся и слышатся два гениальных языкотворца, чье служение Литературе оказалось под влиянием всяких окололитературных интриг и слухов.
Жаль, конечно. Но тут уж ничего не поделаешь. «Милый Василий» и «любезнейшим Иосифом» разошлись как в море корабли. Не помог им даже гвинейский попугай.
По смерти Василия, как известно, вышел в свет последний его роман «Таинственная страсть»[8], посвященный «шестидесятничеству» и «шестидесятникам». В аннотации было объяснено издателями, что «таинственная страсть» — есть нечто, зовущее к творчеству, этакое вдохновение, делающее человека свободным. Между тем в стихе Беллы Ахмадулиной, четверостишие которого приводится в романе, строка звучит иначе: «Предательства таинственная страсть…» Совсем другой смысл!..
Василий Аксенов в своем последнем романе вовсе не сводит счеты с друзьями (в чем нас хотели убедить некоторые!), а с присущими ему юмором и образной символикой припечатывает «предательство» и «предателей» эпохи шестидесятничества, видя в этом глубинные причины распада дружества, крушения исторического духовного конгломерата. Вот о чем этот роман! Вот что волновало писателя!
Метафоры Аксенова еще предстоит раскрыть. И сверить их поэтические круги с документалистикой времени. Вот только кто этим займется?.. Кому это будет интересно сейчас?
…Нет ничего горше, чем говорить о Василии Павловиче Аксенове в прошедшем времени, нет ничего печальнее, чем, узнав о его кончине, со вздохом говорить: «Отмучился». Аксенов — был? Нет, он был и остается с нами. Мы — коллеги, по его раннему определению. Но он выше нас. Он «стальная птица» нашей юности — культуры шестидесятничества.
Может быть, у нас не было подобной потери с момента ухода Володи Высоцкого и Булата, с которыми Вася был одной животворящей плоти. Он сделал не меньше для рассвобождения общественного сознания нашей страны, чем Солженицын и Сахаров. Он был властитель дум. Не властителин каких-то надуманных псевдятин — колец, а властитель именно дум поколения реальных, конкретных людей, которым суждено было готовить и поддержать грядущую перестройку — снабдив новую эпоху Горбачева своим чистым и светлым, я бы сказал, внематериальным, то есть романтичным и одновременно ироничным отношением.
Вася, следует помнить, великий сын своей великой мамы — Евгении Гинзбург — этот женский ряд от Анны Андреевны и Надежды Яковлевны тянется к Ларисе Богораз и Наталье Горбаневской, имеет продолжение и сегодня — и никакое НКВД и КГБ их, этих великих женщин, не в силах победить.
Когда нас, «метропольцев», в самую тяжкую минуту поддержал Андрей Дмитриевич Сахаров, рядом с которым, помнится, стоял, прислонившись буквально к дверному косяку, еще один святой диссидент — из рабочих — Анатолий Марченко, Василий Аксенов сказал на этой встрече:
— Чем больше они боятся нас, тем больше они сажают вас!
На что Андрей Дмитриевич мрачно пошутил:
— Ничего. Скоро вы нас догоните.
Это я к тому, что Аксенов не занимался политикой. Он занимался литературой. Но в какой-то момент честная литература становится наичистейшей и наичестнейшей политикой. Почитайте тексты его выступлений у микрофона радио «Свобода» в самый разгар нашего застоя, и вы убедитесь, что эта публицистика — высший класс писательства, эти блестящие эссе российского мастера слова посылались нам из эмигрантского далека не зря и делали свое дело.
Автор целой серии романов, которые сложите в ряд — и будет эпос быстротекущей нашей жизни, ввергнутой в совок и из него вынырнувшей. Для меня Вася — гений прозы. Хотя при этом он, когда надо, становился и поэтом, и драматургом. Жаль, что в театре после фантастического успеха «Всегда в продаже» в ефремовском «Современнике» у него не сложилась судьба по большому счету.
Но театр он любил и постоянно писал для театра в надежде, что его там поймут и воспроизведут по-аксеновски мудро и озорно. Перед отъездом в Америку он вручил мне самиздатовски переплетенный огромный том под названием «Пьесы» с такой надписью: «Дорогому Марку Розовскому для разыгрывания в уме и в сердце. 19.VII.80. В. Аксенов». Я храню этот авторский экземпляр — свидетельство обреченности сей драматургии на жизнь вне сцены. Но к театру Аксенова тянуло, и я в долгу перед ним.
Помнится, он пришел на гастрольную премьеру «Истории лошади» и привел с собой в Театр им. Моссовета самого Олби, твердившего после спектакля:
— Конгратюлейшнс! Конгратюлейшнс!
А Вася с ухмылкой добавлял:
— Конгратюлейшнс-то конгратюлейшнс, а у вас такого на Бродвее нет!
А когда «История лошади» в виде «Страйдера» все же появилась на Бродвее — это уже было, когда Вася жил там, — он мне прислал в Москву открытку с оповещением об этой американской постановке. Она кончалась многозначительно:
— Конгратюлейшнс и «Как жаль, что вас не было с нами!»
И вдруг, через несколько лет, когда меня, наконец, выпустили из Союза и я перестал носить тайную кличку «невыездной», мы встретились в Монтеррее — Вася специально приехал туда на наш концерт — и это незабываемо: город американской разведки, эпицентр, можно сказать, шпионского обучения — и мы, «метропольцы», не имеющие с ними ничего общего и тем не менее с еще не снятым клеймом «антисоветчиков», «пособников американского империализма».
Много смеялись по этому поводу в тот вечер. Было ясно, что большевистская система дребезжит не без наших усилий.
«Двадцать лет им понадобилось на то, чтобы понять, что кока-кола — это обыкновенный лимонад!» — эта аксеновская фраза, подаренная им Вите Славкину в пьесу «Взрослая дочь молодого человека» (кстати, как и само название, — ибо первоначальное название «Дочь стиляги» было «не прохонже» через тогдашнюю цензуру), сделалась крылатой.
Тут надо сказать, что Вася — весь — из джаза. Да и все его творчество — «Весь этот джаз». Все его романы, повести, рассказы — это своеобразный литературный джаз, где тема и импровизации на тему — основа аксеновской звукоречи. Писателя Аксенова, как милого по походке, мы узнаем по его языку, где сленг и фэнтези реальной жизни сливаются в картину ритмизованной полуабсурдистской натуральности, чья поэтика какофонична и абсолютно свободна и притом выплывает к гармонии, к неслыханной простоте правды характеров и сюжетов. Аксеновские герои — знаки пережитых нами исторических фантасмагорий, каждый вырос из подробностей узнаваемого быта и сделался фантомом эпохи.
Давайте вспомним хотя бы «Остров Крым» и «Москва-ква-ква», как все-таки по-снайперски точно Аксенов и мыслит, и живописует Время, — прекрасно разбираясь и в его прошлом, и в настоящем, и будущем. Аксенов — это школа.
Без Аксенова у нас не было бы ни Сорокина, ни Ерофеева, ни Пелевина, ни Акунина, ни Кабакова, ни Прилепина… Может, кто-то из них будет это отрицать, — что ж, Бог с ними, но я убежден, что расчистил для них площадку и дал идти своими дорогами именно Василий Павлович. Сначала он был свободен, они — после него.
Конечно, сам Аксенов, будучи мэтром, никому не лез в учителя и менторы. В последнее время, когда он обрушил на всех нас цикл новых романов, эта бальзаковская плодотворность стала кое-кого раздражать. Его пытались принизить, не замечая ни его активности, ни класса его последних работ. Но читатель разобрался, что к чему, быстро и чутко: Аксенов и сегодня среди лидеров у читающей публики. При слове «Аксенов» мы улыбаемся и ждем непредсказуемой речи и игры фантазии. С ним никогда не скучно. Он из тех титанов, которые умеют шкодничать и куролесить, и притом быть серьезными и глубокими.
Техника его письма удивительно легка и по-моцартовски вся в игре, в словесном многоцветье ярчайших, неожиданно выплеснутых сочетаний лексики, которую автор подчиняет своим целям весело и философично.
Чтение Аксенова приносит удовольствие, ибо озарено одновременно и вкусом, и хулиганством.
советовал, как мы знаем, Пушкин.
В наше время можно было бы сказать: «Иль перечти хотя бы «Затоваренную бочкотару»! Да и «Апельсины из Марокко» тоже, я думаю, доставят высшее наслаждение ценителям.
Тут что еще интересно?
Аксенов — прекрасный стилизатор. И вот он, на дух не переносивший «почвенников» (по справедливости, и они платили ему тем же!), помнится, пишет, публикуя в «Новом мире», серию отменных рассказов из жизни «работяг» — да так, что и тезка Макарыч позавидовал бы.
Захочет Аксенов посоревноваться с самим Набоковым — и выйдет все в лучшем виде, неподражаемо, по-аксеновски. Да и с Кафкой может иной раз перемигнуться, и с Булгаковым… А вот этот пассаж — ни дать ни взять Хемингуэй… А вот этот период своей музыкой восходит к Андрею Платоновичу Платонову, а здесь происходит перекличка с Хармсом, с Хлебниковым, с Андреем Белым… Я что хочу сказать?
Аксенов, не будучи ни в коем разе подражателем, оставаясь всегда самим собой, а именно Василием Павловичем Аксеновым, — своими языковыми связями генерирует общекультурный пласт новой российской прозы и поэтики, живущей и плодоносящей на фундаменте нашей классики, в пространстве взаимоперетекающих и взаимопреображающих ценностей.
Только так и становятся классиками — как в баскетболе, которым Вася баловался всерьез, перебрасывая мячик от одного к другому, прежде чем забросить его в корзину, — как в джазе, которым Вася увлекался так же серьезно, где инструменты переговариваются меж собой, иногда нарочно вступая в перепалку, чтобы затем излиться в мелодии коды в оркестровом «тутти», — как в литературе, где парит высоко-высоко дух незабвенной юности — журнала и лучшего времени в жизни, — вопреки всему, несмотря ни на что.
Георгий Садовников
Мой одноклассник Вася
В ту пору я жил в Краснодаре, откуда с начала шестидесятых частенько наезжал в Москву. В шестьдесят втором меня приняли в Союз писателей, выдали членский билет, открывающий двери в Центральный дом литераторов, и я в очередной приезд тут же воспользовался этим правом. И там, сидя за столиком в Дубовом зале, разглядывал жующих и пьющих писателей, гадал: кто же из них Василий Аксенов, — автор «Коллег» и «Звездного билета»? Интерес мой к этому писателю был не совсем литературный, он имел несколько мистический оттенок. Да, мне нравились его роман и повесть, особенно повесть, и можно было бы сказать — не более того, если бы не одно важное «но»: читая его сочинения, я чувствовал нечто общее, связывающее меня и автора. В войну я остался сиротой, в прямом смысле «казанским», был беззащитен, зависим от взрослых, и во мне возродилось чувство, присущее животным и ставшее у людей рудиментарным, оно подсказывало мне при встрече с людьми: держись от такого-то человека подальше, а этот для тебя свой.
Именно такое чувство, кто-то может назвать его интуицией, подталкивало меня: ищи этого человека, он тебе нужен. И я сейчас пристально всматривался в клиентов ресторана, стараясь вычислить Василия Аксенова. И, как мне показалось, все-таки вычислил! Пообедав, я пошел к гардеробу и там-то в последний момент его увидел. Лет он был моих, что и проистекало из нашей общности, такого я и искал, отсекая тех, кто постарше. У него, как, по-моему, и полагалось Аксенову, был респектабельный вид: ухоженная короткая прическа, элегантное длинное пальто, которое он в этот момент надевал возле гардероба. Крепко сжатые тонкие губы и волевой подбородок соответствовали моему представлению об Аксенове. Его портрет эффектно дополняла лежавшая на стойке стопка книг, не то взятых в клубной библиотеке, не то купленных здесь же в киоске. Ну, как можно представить Аксенова без книг?! Лично я не мог. Господь миловал, у меня не хватило духа подойти и завязать разговор, высказав комплименты «Звездному билету». Вскоре выяснилось: мой вариант Василия оказался критиком Анатолием Ланщиковым, активным борцом с аксеновской прозой!
И все же мое знакомство с подлинным Аксеновым состоялось, произошло сие принципиальное для меня событие осенью того же 62-го года. Еще летом я отдал новую повесть «Суета сует» в популярнейший тогда журнал «Юность», рукопись быстро прочли и приняли к публикации. В конце октября мне, в Краснодар, позвонила Мэри Лазаревна Озерова, «крестная литературная мать» Гладилина и Аксенова, и предложила приехать в Москву, дабы произвести кое-какую правку. Я быстро собрался и на следующий день предстал перед Озеровой. Она была не одна, — перед ней, спиной ко мне, сидел молодой человек в черном просторном свитере крупной вязки. На его светловолосой голове проглядывала ранняя небольшая плешь, — по тогдашним народным приметам признак таланта, что и соответствовало имиджу журнала. «Познакомьтесь: Анатолий Гладилин!» — сказала Озерова и представила меня. «Как же, как же, «Хроника Виктора Подгурского», — тут же вспомнилось мне. Знаменитость, повернувшись всего лишь вполоборота, показав голубой глаз, небрежно протянула левую ладонь. Мэри Лазаревна попросила меня погулять минут пятнадцать, я погулял, осуждая Гладилина за раннюю «звездную болезнь». Впрочем, его правая рука сжимала авторучку, на столе была распахнута верстка, но это не убавило моей обиды. Когда я вернулся, его уже не было. Получив свою рукопись и выслушав замечания редактора, я решил пообедать в ЦДЛ, пересек двор и устроился в Дубовом зале, выбрав свободный столик. Вскоре, тоже со стороны Воровского, в ресторан вошли Гладилин и плотный парень в светлой распахнутой куртке, открывающей темно-синюю футболку, на его плече висела большая сумка с надписью «Аэрофлот». Они свернули направо и сели за стол возле лестницы, ведущей на антресоли. А я уже выучил меню назубок, но официантки обходили меня стороной, я был для них чужаком, кого и не грех потомить, все остальные были своими, звали официанток по именам. Я произносил внутренние гневные монологи и не заметил, как ко мне подошел Гладилин, только услышал, как он произнес на языке своих героев:
— Что сидишь, как сирота? — и, не подозревая, что попал прямо в яблочко, предложил: — Присоединяйся к нам! Баб не обещаем, но рюмку водки и хвост селедки тебе гарантируем!
Разумеется, ни в этом, ни в других, последующих эпизодах не велась стенограмма, и здесь, и далее я привожу реплики тех, о ком решился рассказать, в собственном изложении, стараясь как можно точней передать содержавшийся в них смысл и по мере возможности сохранить свойственную им манеру речи.
Итак, Гладилин пригласил за свой стол, а я не стал кочевряжиться и последовал за Анатолием.
— Фамилия этого человека Аксенов. Может, я заблуждаюсь, но, по-моему, он неплохой парень, — представил Гладилин своего товарища.
Парень, названный Аксеновым, поднялся, протянул ладонь и, дружелюбно глядя мне в лицо, коротко назвался:
— Вася!
Так мы впервые встретились втроем, с этого дня началась наша почти братская дружба. На другой день, вечером после затянувшегося обеда Толя затащил нас на танцплощадку в горьковском парке культуры и отдыха. Там с первыми тактами музыки мы с Васей оробели, приткнулись спинами к ограде, смотрели, как бойко фокстротирует и твистует наш товарищ. Теперь я почти каждый день встречался со своими новыми друзьями, путешествовал с ними по Москве, чаще всего по ресторанам творческих клубов. Помню: в Доме журналистов, домжуре, все столики были заняты, постояв посреди зала, мы собрались уходить, но Васю вдруг окликнули. Это был Марк Бернес, он позвал нас за свой стол, посреди которого красовался огромный поднос с горой красных раков. И такое случалось часто, и в Доме композиторов, и ресторане ВТО, — вроде бы после публикации «Звездного билета» минуло не так уж много времени, но мне казалось: Васю знает вся творческая Москва.
У него, ясное дело, была своя жизнь за рамками нашего общения. Я вопросов не задавал, считая: если ему понадобится, он расскажет сам. Но уже кое-что знал из рассказов Гладилина. Родители Васи при сталинском режиме были репрессированы, ныне реабилитированы, сам он окончил Ленинградский мединститут, будто бы имел какое-то отношение к питерским стилягам, поэтому его прошлое в моем сознании связывалось с Ленинградом. Этот город отразился и в «Коллегах». А сейчас у него была семья: жена Кира и сын Алеша, он же «Кит — маленький лакировщик действительности», и с ними я уже общался, и не раз, бывая в квартире Аксеновых. Они тогда жили в доме на Аэропортовской, на первом этаже. Как-то Вася положил на окно мокрые любимые плавки, их кто-то спер. «В первые минуты было грустно, словно я потерял брата», — посмеиваясь над собой, сказал нам c Толей их бывший владелец.
Но однажды он открылся мне другой, не питерской стороной, оказавшейся лично для меня ошеломляюще важной. Как-то утром в вестибюле своей гостиницы, да, именно в «Варшавской», я купил свежий номер «Недели», толстенького приложения к «Известиям», зашел в кафе и, сочетая завтрак с чтением, наткнулся в еженедельнике на новый рассказ Василия Аксенова «Завтраки сорок третьего года». А дочитав его до конца, вернулся к началу и прошелся заново по тексту. Я копался в рассказе, я его изучал, проверяя себя: верно ли понял автора. Тот ли Казак, главарь нашей шпаны? Та ли училка, нагло присвоившая наши скромные и все же вожделенные завтраки «сорок третьего года»? И был у нас свой Аксенов. Его родители были арестованы как «враги народа», да не рядовые, а высокопоставленные. Видимо, поэтому его фамилия и осела в моей памяти. Словом, автор вернул меня в мое военное казанское детство, в мой класс, из которого я в конце этого сорок третьего ушел в Суворовское училище. А если я ошибаюсь? Наверное, в каждом классе имелся свой Казак, и мало ли было учителей, отнимавших завтраки у ребят? Город на Волге? Но сколько их, «приволжских», как мимоходом бросил автор, городов стоят на великой реке, от верховья до устья? И в каждой школе, наверно, было по Аксенову.
Во второй половине дня мы встретились в Пестром зале ЦДЛ, я выложил на стол «Неделю», раскрытую на странице с рассказом, и задал первый вопрос:
— Вася, «приволжский» город, случаем, не Казань?
— Казань, — признался автор.
— А школа, часом, не девятнадцать?
— Да, но откуда тебе это известно? — удивился Аксенов.
— Из твоего рассказа! Вася! Мы с тобой одноклассники. Учились вместе с первого по четвертый класс! — сказал я, возможно не удержавшись от театрального эффекта. — А потом я уехал в Астрахань, в Суворовское училище.
— Ты все это придумал, — усомнился Аксенов и обратился к Гладилину: — Признайся: ты снабдил его информацией? — Он счел Толю моим сообщником.
— Вася, о твоей школе я ни ухом, ни тем более рылом, — отрекся Гладилин: в детстве он тоже был причастен к Казани, однако недолгое время.
Признаться, у меня уже начала складываться репутация шутника, склонного к розыгрышам, этим я и объяснил Васино неверие и потому сразу бросил перед ним главный козырь:
— Если не веришь, я кое-что напомню. Урок: пословицы, поговорки и загадки. Ты посрамил нашу учительницу на глазах у всего класса. Ну, что? Теперь поверил?
— Я бы очень хотел, но не помню, чтобы мне такое удалось, — усмехнулся Вася.
То, что казалось забавным мне, возможно никогда не представляло для него особого интереса, а посему не задержалось в закромах его памяти. И я поведал ему его же собственную историю.
Да, темой того урока были пословицы, поговорки и загадки. Урок вела именно та учительница, что припечатана в его рассказе. Заканчивая урок, она сказала: «А сейчас задавать загадки будете вы сами, а мы, остальные, отгадывать!» И началось! Посыпались немудреные загадки, и каждая тут же легко разгадывалась. «Аксенов! А ты почему молчишь? — сурово спросила учительница. В классе было полным-полно ребят, к нам, казанским, добавились дети из эвакуированных семей, на последних партах безобразничало хулиганье во главе с Казаком, а она бдительно следила за яблоком, несомненно упавшим неподалеку от вражеской яблони, и чуть что к нему придиралась, как это сделала сейчас. — Аксенов, мы ждем твою загадку!» Помню, отпрыск «врагов народа» нехотя поднялся и, краснея, выложил свою загадку. Вот она: «Между двух высоких гор сидит дядюшка Егор, его не видно, а голос слышно. Кто он?» Личность дядюшки оказалась непосильной для нашего интеллекта, особенно старалась учительница, для нее-то, педагога, верный ответ был делом престижа, на нее с любопытством смотрел весь класс, но все ее старания разбивались об упорство зловредного ученика, Аксенов угрюмо бубнил свое: «Не, не то». Когда за дверью раскатился звонок, учительница недовольно сказала: «Аксенов, мы сдаемся. Кто он, твой Егор?» Вася и вовсе залился алой краской и выдавил из себя: «Задница». Наверно, эту эскападу Аксенова можно трактовать как дебют будущего автора «Звездного билета».
Но Вася и тут мне не поверил, пробурчал:
— Ты все это сочинил, в своем стиле.
Ну, коль на него не подействовало художественно оформленное доказательство, я обратился к самому простому: высыпал на Васю ворох фамилий: Газман, Плоткин, Белов, Колюжный… Интуитивно припомнил Зою Харитонову, она с нами не училась, просто жила в моем доме, но как мне потом говорили, впоследствии пробудила в нем первые сердечные чувства.
И все же еще некоторое время Аксенов сопротивлялся, его никак не устраивала участь простака, попавшегося на изощренный и вместе с тем нахальный розыгрыш. Но вскоре в Москву приехали Газман и, если я не путаю, Белов. У Васи появилась возможность разоблачить самозванца, сведя его носом к носу с настоящими одноклассниками. Очная ставка состоялась в Доме литераторов. После оной Вася подарил мне свою фотографию с надписью «Моему однокласснику» и предложил вместе смотаться в Казань. Сам он наведывался в наш родной город едва ли не по нескольку раз в год, навещал отца. Я же не был в Казани со дня отъезда, там, на городском кладбище, описанном в «Ленд-лизовских», покоились мои родители, их кончина была для меня ужасной, пугала до сих пор, и я отказался, возможно, не совсем убедительно сославшись на какие-то причины. Аксенов повторял приглашения из раза в раз, собираясь в очередную поездку, а я увиливал, вновь придумывая некие помехи, — мне мешал все тот же психологический барьер. Думаю, Вася догадывался о моих комплексах, на четвертый, а может, и пятый раз он позвонил со словами: «Сегодня вечером мы с тобой выезжаем в Казань. Билеты куплены, время отправления такое-то, вагон такой-то. Встретимся у вагона. Все!» После чего положил трубку. И я отправился на родину. Попал в другой город, почти мегаполис второй половины двадцатого века, друзья детства обратились в солидных мужчин. Словом, не было Казани сорок третьего. И мы с Василием Павловичем уже были не дети.
Я поселился в гостинице, Вася остановился у своего отца. С Павлом Васильевичем я познакомился еще в Москве, в один из его приездов к сыну, и сейчас, заходя к ним здесь, в Казани, с удовольствием слушал их дружескую пикировку. Вася шутливо называл отца «социал-демократом».
Случилась эта поездка в конце шестидесятых. С тех пор прошли многие годы, ушел из жизни мой одноклассник Вася Аксенов. И вдруг в этом 2011-ом он из небытия будто подал мне свой голос, после рассказа «Завтраки сорок третьего года» вновь вернул меня в Казань моего военного детства, в ту столовую, где я, как и Акси-Вакси, герой «Ленд-лизовских», обедал по талонам для детей из особенно бедствующих семей, в наш класс, в пионерский лагерь «Пустые Моркваши»[9] с его одноруким военруком. В лагере Акси-Вакси ведет необычные беседы с одноклассником Валерой Садовским. Садовский, конечно, не Садовников, хотя у Валеры есть кое-что, свойственное моей скромной особе. Я бы, переборов тщеславие, опустил этот эпизод, боясь показаться нескромным. Но мне помешало важное, на мой взгляд, обстоятельство: Акси-Вакси и Валера обсуждают родословную Лермонтова, их интересуют шотландские корни поэта. Тем, кто был близок к Аксенову, известен его особый интерес к Михаилу Юрьевичу.
В последние годы мое общение с Аксеновым свелось к телефонным разговорам, — Василий, по его словам, приезжая в Москву, «попадал на карнавал», я избегал тусовок, вел, в сущности, жизнь отшельника, редко вылезая из дома. Однажды, позвонив, он без обычных «как живешь, что у тебя нового» сразу возбужденно заговорил:
— Проживи Лермонтов положенный каждому век, не будь этой жуткой дуэли, наша литература получила бы еще одного писателя масштабом с Толстого! Я уверен: никак не меньше! А что думаешь ты?
Я понял: он только что — уже в который раз! — перечитал Лермонтова, очевидно, «Героя нашего времени» — вот-вот закрыл книгу. И был, наверное, тоже в который раз, потрясен. Я с ним согласился, о чем и известил.
Не думаю, что там, в «Пустых Морквашах», ученики начальных классов Акси-Вакси и его приятель и впрямь размышляли о шотландских корнях Лермонтова — не тот возраст и пока еще не те знания. Думаю, в этих строчках аукнулся эпизод, случившийся на самом деле через годы и годы и связанный с происхождением Михаила Юрьевича, к тому же одним из фигурантов этой истории оказался Садовников, имеющий нечто общее с Валерой Садовским.
А произошло это где-то посреди семидесятых. Мы тем летом работали в Доме творчества Переделкино. Потом Василий, отбыв отпущенные ему по путевке дни, вернулся в Москву, а я вместе с женой остался доживать свой срок. На другой день после его отъезда в нашу комнату постучались, я открыл дверь и увидел даму из иностранной комиссии, прозванной МИДом писательского союза, за ее спиной возвышался рыжеволосый мужчина средних лет. Не дав даме открыть рот, он на русском, но с заметным акцентом себя представил сам: «Я такой-то! (Мы услышали имя и фамилию из англоязычного мира.) Специалист по шотландскому поэту Михаилу Лермонтову!» В его голосе прозвучал вызов на тот случай, если я буду возражать. Видимо, на таковое сопротивление шотландец уже не раз нарывался в нашей стране. Но я-то не возражал, лишь выразил удивление его визитом, лестным и вместе с тем несколько неясным. И тут выяснилось: рыжий выходец из шотландских кланов приехал отнюдь не по мою душу, а к Василию Павловичу Аксенову, намереваясь с ним обсудить интересующие его проблемы. И, как видим, на день опоздал. Кто-то из администраторов, решив компенсировать его неудачу, направил шотландца к другу Аксенова, то есть в мою комнату. Таково было объяснение, разумеется, в переводе сопровождающей дамы. Я сказал, что к дискуссии не готов, но дабы их поездка не была и вовсе напрасной, предложил свою компенсацию: если гости желают, я и моя жена можем их сводить на могилу Пастернака, похороненного, как известно, здесь же, в Переделкино. Наше предложение было принято с радостью. Но у трех сосен (тогда их еще было три) мы застали чудовищную картину: вандалы разбили все вазы и стеклянные банки, предназначенные для цветов, земля вокруг знаменитой могилы была усеяна битым стеклом и растерзанными цветами. Пока Ирина и дама прибирали могилу, мы с шотландцем молчали, подавленные увиденным. Рыжеволосый Мак — помнится так начиналась его фамилия, — глядя на следы погрома, возможно, мысленно размышлял о том, что предки великого поэта сваляли распоследнего дурака, променяв прекрасную и свободолюбивую Шотландию на и впрямь «немытую» страну «рабов» и «господ».
О явлении шотландца в Доме творчества я не мог не рассказать Василию и, наверное, постарался описать в самых выразительных красках, однако, не помню, состоялась ли их встреча, а с ней и содержательный диспут, или им что-то помешало и в Москве, но несомненно эта история нашла отзвук в книге о детстве Акси-Вакси.
Но вернусь в начало шестидесятых. В январе шестьдесят третьего в «Юности» была напечатана повесть Аксенова «Апельсины из Марокко», во втором, февральском номере журнала появился гладилинский «Первый день Нового года», следом за ними, в марте, журнал опубликовал мою «Суету сует». Получалось, будто наша тройка выступила командой. Ну, а коли так, нас после мартовской встречи Хрущева с писателями начали идеологически сечь: Аксенова и Гладилина привычно, меня к ним подверстали, как новичка. Хотя на самом деле партийно-советских розог я сподобился отведать задолго до своих товарищей: еще в 1955 году меня обвинили в «зощенковщине», что в ту пору считалось едва ли не идеологической диверсией, и, не заступись за краснодарского студента сам Михаил Шолохов, еще не известно, как бы сложилась моя дальнейшая судьба. Но на всесоюзной плахе для меня это действительно явилось дебютом. Сборник моих повестей, куда вошла и «Суета сует», только что изданный «Молодой гвардией», был изъят из магазинов и библиотек и пущен «под нож».
Но особо лакомой добычей я стал для краснодарских властей, у них появилась возможность показать высокомерной столице, что и они у себя, «на местах», тоже знают толк в борьбе с идейными врагами. Меня окрестили «антисоветчиком» и начали «прорабатывать» и так, и этак. Московские друзья помогали мне, как могли, однажды я получил телеграмму: «Вылетаю вечерним самолетом сегодня Василий».
До этого ему бывать на Кубани не случалось, и все же своего великолепного Валеру Кирпиченко, героя рассказа «На полпути к Луне», он сделал парнем из Краснодара. Еще в первые дни нашего знакомства Василий дотошно пытал меня о танцплощадке «над Кубанью», где некогда отплясывал его Валера, опасаясь, все ли описано точно, не было ли им, автором, допущена «лажа». На второй день после его приезда я сводил его на эту площадку, оказалось: он угадал, все совпало. Утром дня третьего мы взяли такси и покатили в Новороссийск. В пути дурачились, изображая лихих людей, бритый затылок нашего бедного водителя весь маршрут пребывал в напряжении. Но, слава богу, он нас не выбросил вон посреди трассы — помнится, мужик был здоров.
Аксенова в ту пору называли знатоком городского быта. «Есть «деревенщики», а в городе он, Аксенов». В Новороссийске мы шлялись по экзотическим для сухопутного человека портовым забегаловкам, где оттягивался морской люд, наш и заграничный. Помню, в одном из таких злачных заведений к нам прилип долговязый голландский матрос, компанейская душа. Его судно стояло в долгом ремонте, и этот голландец стал достопримечательностью города, местный народ дал ему прозвище: «хер голландский». Его так и окликали: «Эй, ты, хер голландский», — и он охотно отзывался. Мы ему чем-то пришлись по нраву, особенно Василий. Отлучившись к стойке буфета, я любовался этой парой со стороны, они, отхлебывая из кружек мутное пиво, что-то обсуждали и заразительно хохотали — может потому, что объяснялись на сквернейшем английском и ни черта друг друга не понимали. Потом мы долго не могли избавиться от этого «хера». Я был уверен в том, что когда-нибудь голландец выплывет в аксеновской прозе, но, кажется, голландцу не повезло. Впрочем, вокруг нас бродили и другие потенциальные Васины персонажи — его конкуренты. А пока я с интересом наблюдал, как мой товарищ жадно прислушивается к разношерстной речи на улицах этого Зурбагана, своими находками он тут же делился со мной, что было в характере Аксенова — делиться найденным. Когда могучая буфетчица с руками борца времен Поддубного и Заикина и хилый портовый хмырь обменивались обидными репликами, Василий, навалившись на стойку, едва не влез между ними, стараясь не упустить ни единого слова из их роскошной словесной дуэли. «А ты не суй свой длинный нос», — требовала буфетчица от своего оппонента, и Василий мне сейчас же радостно прокомментировал: «Посмотри, у самой-то какой шнобель!» А рядом, за нечистым столом общались двое рослых мужчин в вязаных шапочках, видимо докеры, один просил другого, размазывая пьяные слезы: «Ген, когда я помру, ты протопчешь к моей могилке дорожку?» Второй твердо отвечал: «Не трухай, Петя, я к твоей могилке проложу целое шоссе!» Если я не ошибаюсь, этот душераздирающий диалог я позже у Аксенова где-то встречал, разве что Василий изменил имена. Да и я их взял с потолка.
Не оставили мы, разумеется, без внимания и знаменитое «Абрау-Дюрсо». И, все разумом понимая, душой не могли принять: дегустатор, омочив рот мелким глотком из преогромной рюмки, наполненной до краев шампанским, все остальное ее содержимое — на наших глазах! — выливал в сосуд для отходов, расположенный в центре стола. «Но мы не будем огорчаться, верно? Все-таки это была не водка, а всего лишь шампанское, пусть и лучшее в стране», — подтрунивал Аксенов над нашими переживаниями, когда мы покидали дегустационный зал.
В конце 1964-го я, после годичного романа, женился на Ирине и переехал в Москву. В ЗАГС мы пошли вчетвером. Моим свидетелем был Аксенов, сторону невесты представлял Гладилин.
Это событие, казалось бы важное лишь для моей семьи и близких друзей, было отмечено на улице Кирова, в ЦК ВЛКСМ, там, на совещании редакторов комсомольской печати, кто-то из секретарей посетовал: уж эти писатели-евреи, никак не уймутся, они не только сами мутят нашу литературу, но и сбивают с верного пути некоторых нестойких русских коллег, вот женили Георгия Садовникова на еврейке. Мне об этом поведал один из участников оного собрания. Под евреями подразумевались мои друзья: у Васи и Толи мамы по национальности считались еврейками. Четверть еврейской крови бегала и по сосудам моей жены.
Аксенов и Гладилин были особой слабостью комсомольского вождя Сергея Павлова. После их поездки в Тулу, в гости к Анатолию Кузнецову, он публично обвинил Василия и двух Анатолиев в возмутительной выходке, — они появились на встрече с читателями в… свитерах! То есть одевшись по подобию своих идейно незрелых героев.
В одну из зим к нам в Дубултах присоединился Георгий Владимов с женой Натальей. Наташа писала о цирке, сочиняла репризы к цирковым номерам, часто ездила в рижский цирк, благо город был под боком, и однажды вернулась из очередной поездки с заманчивым известием: она договорилась с дрессировщиком тигров, он готов допустить нас в святая святых — в тигрятник. Мы приехали в цирк и вступили в помещение, где вдоль стен стояли клетки с могучими полосатыми кошками. Нас было пятеро, четверых хищники начисто игнорировали, словно тех не было, талантливых и известных, все внимание они сосредоточили на мне, а если быть справедливым, на белом тулупе, в который я был одет. Тулуп пошили где-то на Памире из шкуры горного козла. Его острый дух пронзил ноздри тигров, они взбеленились, неистово рвались сквозь прутья клеток, желая разорвать меня на куски, видимо аппетитные с их гастрономической точки зрения. Я, бедный, обратился в их цель — вожделенную добычу. Реакция зверей вызвала у друзей приступ бурного веселья, я старался не отставать, тоже рассыпался в шутках. Но, признаться, в душе-то испытывал жуть, глядя в горящие желтые глаза, видя страшные когти, подобные зубьям вил, тянущиеся в мою сторону, слыша яростное рычанье. Они окружали меня, я слышал их за своей спиной, видел затылком. Наконец в тигрятник прибежал где-то задержавшийся дрессировщик и, осыпая нас проклятиями, выгнал вон. Вечером ему выступать, а мы вывели из равновесия его артистов, наделенных тончайшей нервной организацией.
— И каково себя чувствовать дичью? — сочувственно поинтересовался Василий, после того как нас выдворили из тигрятника.
Я ответил:
— Как тебе объяснить? Представь: ты оказался в кабинете Суслова. А если серьезно… Вася, о чем ты спрашиваешь, елы-палы? Можно подумать, сам никогда не был в этой шкуре!
— Приходилось, и не раз. Скверное чувство, — печально вздохнув, подтвердил мой товарищ.
Аксенов раздражал идеологических чинов своей яркой индивидуальностью. Помню, еще до знакомства с Василием я был приглашен на семинар молодых писателей. Официозный критик Б. резвился, иронизируя над внешним видом аксеновских литературных героев, их прическами, стремлением парней и девушек вырваться из навязанного им стандарта, он изгалялся и так, и этак, наконец, завершая пассаж, пустил последнюю, убойную саркастическую стрелу: «Как видите, полный джентльменский набор». У самого же борца с «влиянием Запада» плечи черного москвошвеевского пиджака были густо усыпаны серой перхотью.
А вот какую историю мне поведал сам Аксенов, когда я, в очередной раз спасаясь от хулителей, прилетел из Краснодара в Москву. Руководство Союза писателей СССР устроило международную встречу писателей, куда пригласило ряд иностранных знаменитостей, а заодно позвало и Аксенова с Гладилиным — пусть видят западные клеветники: у нас в чести и такие авторы. После официальных мероприятий для участников встречи была устроена прогулка на шикарном речном теплоходе. Пока хозяева и гости, собравшись на палубе, любовались живописными берегами Московского моря, Аксенов, Гладилин и присоединившийся к ним Эдвард Олби, можно сказать, по духу ровесник Васи и Толи, обосновались в буфете, попивали коктейли за стойкой бара. За этим непристойным занятием их застала группа секретарей во главе с Леонидом Соболевым. Увидев столь циничное подражание западному образу жизни, дородный глава Союза писателей РСФСР впал в праведный гнев:
— Безобразие! От этих хиппи нет спаса, они даже пролезли на наш теплоход!
Сопровождавшие его чиновники из иностранной комиссии растолковали обозленному секретарю: один из так называемых хиппи известный американский драматург — автор знаменитых пьес, а одна из них, именно «Кто боится Вирджинии Вульф», обошла почти все мировые сцены. Что-то растерянно пробормотав, Соболев выскочил из буфета. «По-моему, он понял, что публично отхлестал себя по физиономии мокрой половой тряпкой», — сказал Вася, заканчивая свой рассказ. Потом я от него услышу таковой приговор еще и еще, когда наши власти на глазах у всего цивилизованного мира в очередной раз устраивали себе порку, возили по собственным мордам той же грязной тряпкой. Только вот беда: после экзекуции утрутся и будут беспредельничать дальше.
После низвержения Хрущева покрылись льдом последние завоевания «оттепели», а вместе с ними окончательно исчезли и наши наивные надежды на торжество светлого и доброго. Авторы, которые «кучковались» (сказано Аксеновым) вокруг «Юности» и породили «молодую литературу» или, как ее еще именовали, «исповедальную прозу», поняли: писать, как прежде, более нет никакого смысла. Сказалось и личное возмужание каждого, а тут еще ко всему советские идеологи задушили «пражскую весну». Перед нами замаячил болезненный вопрос: а что писать теперь? И как? Некоторые растерялись и долго искали в этом не лучшем мире свою новую творческую ипостась. Первым из нас определился Василий Аксенов, неофициальный лидер уходящей «исповедальной прозы», и написал «Затоваренную бочкотару», снова став флагманом, подавшим сигнал: «Следуй за мной!»
Он был лидером не только в творческом смысле, но и как яркая сама по себе личность. От него исходила некая магическая сила, привлекающая к нему не только сверстников, но и людей старшего возраста. Или назову это флюидами. Вокруг Василия или просто Васи, собирались, его любили, к этому располагала и Васина открытая и доброжелательная натура. Именно Аксенова попросил о встрече Юлиан Семенов, когда решил изменить свое писательское кредо, и объяснялся с ним как с самым авторитетным представителем нашего поколения, к которому до этого принадлежал сам. Мы сидели небольшой компанией в Дубовом зале, не было только Аксенова. Наконец он появился, пребывая, судя по виду, в некоторой растерянности. «Сейчас встречался с Юликом Семеновым, я как бы представлял всех вас», — сказал Василий и выложил нам все то, что просил передать Юлиан. «И скажи ребятам, — будто бы попросил он Василия, — если кто-то из них плюнет мне в лицо, я не обижусь, пойму!» Однако я не знаю случая, чтобы кто-то из ребят воспользовался разрешением Юлиана и плюнул. Тот год для Семенова был чрезвычайно сложен. Кажется, что-то было связано с классической «трагедией на охоте», но это уже другая история, возможно, искаженная молвой, к тому же она совершенно не касалась его недавнего единомышленника Аксенова.
Сейчас я выскажу то, что кому-то, вероятно, покажется кощунством: когда Василий «завязал», в Дубовом и Пестром залах ЦДЛ стало скучно — ушла «эпоха Аксенова». Его стол, когда он появлялся в ЦДЛ, превращался в центр веселья, да что там, настоящего праздника, вокруг Палыча собирались многолюдные компании, гудевшие до закрытия Дома литераторов. Василий, а для многих любовно просто Вася, был щедрым, радушным хозяином, угощавшим порой на последние не только друзей, но и чужих, подсевших. И выделялся он среди нас не только добрым разгульным нравом, но и своим несколько экзотичным видом, то ли необычной «заморской» курткой, то ли темно-зеленым твидовым пиджаком. Ах, если бы эти праздники ему не вышли боком! Аксенов обладал знаниями врача и волей, однако покончил с питьем только со второй попытки, после чего Дом литераторов сразу прижух.
Но в истории писательского клуба остались другие «аксеновские страницы», непосредственно не связанные с питьем, хотя действие порой формально разыгрывалось именно в ресторане и кафе. Коснусь только двух, и случились и первая, и вторая после того, как он принял для себя «сухой закон».
Итак, наша компания расселась вокруг столика у входа в Пестрый зал, мы обсуждаем что-то важное для нас, под кофе себе «позволяем» по рюмке коньяка, не более того, Аксенов уже по привычке попивает сок. Мимо нас проходит поэт Г. и, задержавшись возле нашего стола, бросает Белле Ахмадулиной реплику, начиненную оскорбительным смыслом. Я не смею ее здесь повторить, чтя священную для меня память Беллы. К тому же слова этого Г. были совершенно несправедливы. Нас точно парализовало, нам кажется невозможным — сказать такое гадкое нашему товарищу, нашей богине. Возможно, не пошел нам впрок и хмель, пусть и легкий. Мы остолбенели, но не все. Из-за стола поднялся Вася Аксенов и предложил Г. выйти в холл. Этот Г. слыл умелым драчуном, поговаривали, будто он в молодости серьезно занимался боксом. Васе это было известно, и все же он бесстрашно бросился на подонка, врезал ему по скуле и, не мешкая, вошел с ним в клинч. Бойцы, сцепившись, катались по полу, пока их не разняли администраторы. Обычно дирекция карала и за более мелкие проступки, но на этот раз Аксенова не тронули, а Г. я более не встречал в нашем клубе. Видимо, ему было стыдно, а может, мое предположение ошибочно, но мне хочется думать именно так.
Вторая история была повеселей. Мы собрались за столиком в Дубовом зале, помнится, слева от входа, связывающего «новое» здание ЦДЛ со «старым». В противоположном конце ресторана в одиночестве обедал поэт Ярослав Смеляков, автор знаменитой поэмы о Любке Фейгельман. Он был поглощен своим излюбленным занятием — попивал из графинчика водку и, казалось, был отрешен от всего остального мира. Но вдруг Ярослав Васильевич обратил взгляд к нашей компании и повелительным жестом позвал к себе Аксенова. Василий вышел из-за стола и подошел к Смелякову. Они обменялись короткими фразами, и наш друг, проследовав мимо нас, покинул зал, не сказав нам ни слова.
Увидели мы его минут через десять с необычной ношей. На его плече ленинским бревном лежал вырезанный из дерева Михаил Пришвин, выставленный недавно в холле Дома литераторов, под лестницей, ведущей в правление Московской организации. За Аксеновым бежали дамы из администрации, умоляюще восклицая:
— Василий Павлович, будьте любезны, верните скульптуру на место!
Василий Павлович отвечал:
— Ярослав Васильевич желает отобедать в обществе Михаила Михайлыча. Попросил посодействовать. Я не мог ему отказать, я уважаю Ярослава Васильевича.
Он направился к столу Смелякова и установил Пришвина по его левую, а может, правую, руку. Были ли какие-то для Аксенова неприятные последствия, не помню, но, судя по всему, обошлось и на этот раз.
В отличие от флагмана я менял галсы, долго не мог найти свою новую прозу, а пока переводил национальных писателей. Работа с подстрочниками — занятие невеселое, рутинное, и я в конце концов решил себя развлечь, сочинил в жанре «вранья» повесть для подростков. Мой «Продавец приключений»[10] был издан «Детгизом», через год его переиздали, затем перевели на многие языки. Мой неожиданный и при этом будто бы успешный прыжок в детскую литературу заразил и Аксенова, и Гладилина, и они решили последовать моему примеру. Я привел Василия к своему редактору Елене Константиновне Махлах и представил: «Знакомьтесь: начинающий детский писатель Василий Аксенов!» Редакция встретила такого новичка с восторгом. Детская литература давно ждала этого автора.
С ним тотчас был заключен договор, Аксенов быстро написал современную сказочную повесть «Мой дедушка — памятник», в издательстве прочли, восхищенно заахали, и… рукопись легла в пыль, на полки. На звонки автора издатели отвечали что-то невразумительное. Аксенов привык к издательским выкрутасам, но тогда неприличные игры касались «взрослых» книг, а эта абсолютно безобидная, светлая, веселая. И такие непонятки растянулись на месяцы.
У меня появилось чувство вины: в эту историю он влип, доверившись мне. Я донимал звонками нашу замечательную Елену Константиновну, но она, бедная, не понимала сама, почему начальство препятствует выходу книги. И вдруг ее звонок: «Вы можете приехать? С вами хочет поговорить заведующая нашей редакции. — И вполголоса: — Речь идет об Аксенове». Я предстал перед заведующей, она была не одна, у окна стоял мужчина, его я не раз встречал в издательских коридорах. На столе лежала раскрытая Васина рукопись.
— Георгий Михайлович, мы просим вас быть с нами откровенным, — начала заведующая, — где, в каких главах этой рукописи Аксенов завуалировал свои намеки, скажем, на события в Чехословакии? Мы знаем: вы с ним дружны. И просим вас помочь. Это в его же интересах. Чем раньше мы исправим огрехи, тем раньше выйдет книга.
Поначалу мне показалось, будто я ослышался, а потом вспомнил, что передо мной типичный пуганый советский редактор, и потому вразумляющее пояснил:
— В повести Аксенова нет ничего похожего на намеки, тем более на ввод советских войск Чехословакию, не ищите какого-либо особого подтекста, ни прочих тайн. В повести все открыто нараспашку. Она по-своему даже простодушна. Ее герой — советский мальчик, пионер. Куда же больше? Да вы читали сами. Вам ли мне говорить?
— Вроде бы все так, — смущенно согласилась издательская дама и в отчаянии произнесла: — Ну, не мог, не мог Аксенов обойтись без намеков, без чего-то такого. Мы же не дети! Аксенов есть Аксенов. Где-нибудь тут, — она положила ладонь на рукопись, — замаскированы танки и Прага. Но где? Не найдем мы, найдет цензор!
— Не найдет! Хотя кто знает, — признал я. — Гена Стратофонтов путешествует в иных краях, в тропиках, а там попадает на остров.
— Вот-вот, именно на остров! — оживился мужчина и, оторвавшись от окна, переместился к нам. — А кто высаживается на острова? Наемники! И если подумать, кто они? Не наши ли войска? И остров ли это? Может, что-то иное?
— Наемников, которых вы имеете в виду, называют «дикими гусями», как правило, они бывшие коммандос. Эти птицы перелетают из страны в страну, где их нанимают, кого-то, скажем, свергнуть или учинить другую заваруху. — Для примера я назвал африканскую страну, где недавно был устроен государственный переворот. — Ну что у них общего с нашими доблестными солдатами? Кстати, Гена борется с этими «гусями» как образцовый пионер!
Книга вышла! Я не ставлю это себе в заслугу — трусость и идиотизм, проявленные в этой истории, были очевидны. Понимая это, издатели старались загладить вину, к тому же книга тотчас разошлась по читателям, словом, Аксенову предложили написать новую книгу и сразу заключили договор, выдали аванс, что было важно при нашем безденежье. Вторую книгу о Гене Стратофонтове, «Сундучок, в котором что-то стучит», он писал в Доме творчества в Дубултах, куда мы приехали небольшой компанией, работал над ней без прежнего куража, принуждая себя. О чем мне и говорил. То ли так и не отошел от неприятной истории, случившейся с первой книгой, то ли охладел к этому жанру. И все же книга получилась замечательной. «Аксенов есть Аксенов» — в этом-то заведующая была права.
Я в это время там же, в Дубултах, подступал к своей второй детской книге. Мучил свое воображение, не зная о чем писать. Размышляя об этом на завтраке, решил, дабы разогнать свою фантазию, начать с имени своего героя, придумаю, а дальше авось покатится само. Я посмотрел на Аксенова, поедавшего творог или овсянку по ту сторону стола, и спросил:
— Ты не будешь возражать, если я назову своего странствующего слесаря Базилем Аксеночкиным?
— Тогда уж лучше Аксенушкин, — подумав, посоветовал Вася.
Так с подачи Василия и стал главный персонаж «Спасителя океана»[11] Базилем Тихоновичем Аксенушкиным. Отчество я позаимствовал у Гладилина.
Ребячество уходило из нас с большой неохотой, в те годы веселье, шутка были защитным куполом от идеологической мерзости, разлитой в атмосфере. Мы подтрунивали друг над другом даже на страницах наших книг. Аксенов в «Джине Грине — неприкасаемом»[12] обыгрывал фамилии и Гладилина, и мою. Помню премьеру фильма в Доме литераторов — автор сценария Василий Аксенов. В финале картины какой-то милицейский чин за кадром командует голосом Аксенова: «Гладилин и Садовников, уведите арестованных!» В зале это вызвало оживление, сидевший рядом со мной Владимир Максимов недовольно пробурчал: «Вы обнаглели! Разве можно так обращаться с искусством?!» Володя был дружен с Аксеновым, но осуждал его молодежные куртки и джинсы; сам же, обзаведясь деньжатами, что с ним случалось нечасто, покупал в комиссионках дешевые «респектабельные» костюмы. Не нравился ему и «вольный, непричесанный» стиль аксеновских рассказов и повестей. Мне он говорил: «Представляю, как Юра Казаков, читая Аксенова, скрежещет зубами». Максимов ошибался. Юра, блистательный продолжатель русской классической традиции, обладал широким литературным вкусом, с удовольствием читал американца Фолкнера, немца Ремарка и Васину прозу, я слышал это от самого Казакова, прожив рядом с ним целое лето в дачном поселке Абрамцево. Кстати, туда ко мне приезжал на зеленой «Волге» и сам Аксенов, и я видел, насколько глубоко он и Казаков друг другу симпатичны.
Впрочем, сближало их и некоторое общее прошлое. Когда-то, в тех же шестидесятых, Вася и Юра, а за компанию с ними и Виктор Конецкий, отправились в Одессу, намереваясь слепить сообща сценарий морской киношной комедии. Впрочем, наверное, профессиональный моряк Конецкий и был инициатором этой затеи. Обосновавшись в гостиничных номерах на Дерибасовской, писательская артель бурно отметила канун предстоящего творческого сотрудничества, канун растянулся на второй и третий день и перетек в каждодневное пьянство. Василий и Юрий поняли, что сотрудничество в такой форме не приведет к добру, и вернулись в Москву, на поле боя остался самый пьющий Виктор. И что удивительно: в конце концов, эта нелепейшая и авантюрная история в результате каких-то новых комбинаций-пертурбаций увенчалась замечательной кинокомедией «Полосатый рейс»[13], но Аксенов и Казаков к ней уже не имели ни малейшего отношения. Впрочем, если обратиться к жанру абсурда, то можно сказать и так: они стояли у истоков этого шедевра.
Работа писателя за письменным столом, как известно, — «тайна тайн». Однако в домах творчества мы видывали своих друзей-коллег, как говаривали гусары-рубаки, «в деле», литературном, разумеется. В Ялте Аксенов и Гладилин поселились в соседних комнатах, выходящих на общую лоджию. «Сижу как-то за столом, не пишется, — потом рассказывал мне Анатолий. — Я подумал: любопытно, а что сейчас делает Васька? Работает или валяется на постели поверх одеяла, тоже валяет дурака? Вышел на балкон, заглянул в его окно. Представляешь? Что-то царапает на бумаге и сам же хихикает над тем, что только что соскочило с его пера».
Порой мне казалось, будто Толя считает Васю хитрецом. «Мы с тобой перелопачиваем рукопись по несколько раз, правим, а он сразу пишет начисто и тащит в издательство или журнал». Отчасти я был с ним согласен. Но, видимо, такова была у Аксенова метода: Василий словно бы, прежде чем воспроизвести на бумаге, вынашивал в голове текст, все до последней строчки. Он любил в компании делиться тем, что, скажем, написал с утра, как бы проверял на будущем читателе. И потом в его уже готовой рукописи — а мы тогда читали рукописи друг друга — я встречал знакомые фразы.
Васина мать Евгения Семеновна Гинзбург, автор «Крутого маршрута», подолгу жила в Переделкино, сначала снимала часть дачи, потом сама стала владелицей, но тоже только части деревянного дома. Василий ее навещал, он был заботливым сыном. Однажды я, работая в переделкинском Доме творчества, вернулся с прогулки и обнаружил в дверной ручке обрывок желтоватой туалетной бумаги. Сейчас он перед моими глазами. На его шероховатом поле нацарапано шариком: «Вместо того чтобы писать нетленку, ты где-то шляешься. 13.00!!! Вася». Ниже: 8/Х.
«Нетленки», «нужники» — словечки из нашего тогдашнего жаргона. По ЦДЛ ходила шутка: «Весь год тужился, писал «нужник», теперь, наконец, займусь «нетленкой».
В начале семидесятых Аксенов снова ввязался в коллективную авантюру. На этот раз местом действия стал Дом творчества в Ялте. В бригаду вместе с ним входили поэт Григорий Поженян и прозаик Овидий Горчаков, бывший лихой разведчик, прототип семеновского майора Вихря. Бригада придумала себе звучный псевдоним: Горпожакс, сложенный из фамилий участников этой затеи. Горпожакс решил написать пародию на западные шпионские романы и тем самым решить денежные проблемы; каждой трети псевдонима предстояло сочинить десять авторских листов. И работа началась! На нее ушли едва ли не месяцы, и сам процесс проходил очень бурно.
О написании «Джина Грина — неприкасаемого» в писательском фольклоре слагались разные версии, кто-то «переместил» Горпожакса из Дома творчества на борт теплохода «Грузия», капитаном которого был друг Поженяна. В конце концов, завершив черновой вариант будущей книги, бригада вернулась в Москву, имея на счету сломанную не то руку, не то ногу Горчакова, скатившегося с лестницы. Рукопись взяли в издательстве «Молодая гвардия», но поскольку героем книги был американский разведчик, детищем Горпожакса сразу же активно заинтересовался КГБ. После изощренной редактуры книга вышла к читателю в истерзанном виде, из ее живой ткани были вырваны, по Васиным словам, многие шутки и розыгрыши друзей. Роман Аксенову принес больше разочарований, нежели творческого и денежного удовлетворения.
И все же итог этого пребывания в Ялте был для Аксенова эпохальным, круто развернувшим его дальнейшую жизнь. В любимом крымском городе он обрел Майю, свою будущую вторую жену. Майя Овчинникова тогда была супругой именитого режиссера-документалиста Романа Кармена, сама трудилась в кинематографе и приехала в Ялту в составе съемочной группы. Здесь ее случайно встретила вторая треть Горпожакса — поэт Григорий Поженян, свой человек в киношном мире. Он пригласил прекрасную блондинку Майю в Дом творчества писателей, на вечеринку в компании с Гором и Аксом. Там, за накрытым столом в комнате у Поженяна, и познакомились Вася и Майя. Между ними, как однажды было сказано и затем бесчисленно повторено, пробежала искра. Майя в тайне от Поженяна, чьей дамой она будто бы считалась на этот вечер, пришла в Васину комнату и осталась у Аксенова на ночь. А утром произошло неучтенное. Потеряв голову от восторга, влюбленный забыл закрыть комнату на ключ. В комнату без стука вошел Григорий, решивший позвать товарища на завтрак.
— Я растерялся, смотрю на Гришу, он от нас в трех шагах и тоже опешил, мы под одеялом, все ясно, — рассказывал мне Василий. — Но молчать дальше было невозможно, следовало как-то объясниться с оторопевшим другом, и я пробормотал: «В общем, Гриша, как в твоей песне: «Если мой друг влюблен, а я у него на пути, таков закон: третий должен уйти». Гриша вышел из комнаты и потом ни разу не обмолвился об этой истории.
На другой день они встретились на набережной. И снова рассказ Василия: «Я пришел раньше, стою, жду, и вот появилась она, ветер развевает ее золотистые волосы, она летит ко мне, будто созданная из солнечного света. Я с восторгом думаю: «Неужели это чудо принадлежит мне?»»
Пусть простят меня другие женщины, любившие Аксенова, я пишу о том, что происходило с ним в ту пору, а Вася сказал мне именно так.
Потом Майя станет его женой, разделит с ним все тяжкие испытания и судьбу эмигранта. Но, сказав о его второй жене, нельзя не помянуть добрым словом первую: Киру. О том, что происходило между Васей и Кирой, знают только они сами, и они сами же себе судьи. Я же, часто бывая у них дома, видел любящую жену и мать его сына Алеши. Кира тоже красивая женщина, но на свой лад. И тоже делила с мужем судьбу писателя, неугодного властям. Мне она казалась человеком с сильным характером. И не мудрено: мать Киры в войну была полковником — танкистом, отец Лайош Гавро[14], герой нашей Гражданской войны, «венгерский Чапаев», его подвиги, как мне говорили венгры, изучавшие его биографию, частично приписаны Матэ Залке. Говорили, что природа одарила Киру замечательным голосом, которым она пожертвовала ради семьи. Позже Вася и Кира пригласили меня на концерт, где она выступала вместе с известным чтецом Дмитрием Журавлевым[15]. Мы втроем сидели в Концертном зале имени Чайковского, Аксенов привел с собой молодого журналиста Александра Кабакова, который впоследствии вырастет в знаменитого прозаика. А на сцене перед нами царил Журавлев. Чуть поодаль от него, перед своим микрофоном, стояла Кира в потрясающем вечернем платье. Ее пение как бы дополняло чтеца. Вася нервничал, переживал за Киру: «Сейчас даст петуха! Сейчас даст!» Но Кира великолепно справилась со своими вокальными номерами. У нее был низкий приятный голос. Если не ошибаюсь, его называют контральто. Но я не знаток вокального искусства.
При всей неприязни властей Аксенова временами выпускали «за бугор». Однажды он был приглашен в американский университет в Беркли. Хозяева несомненно учли особенности этого русского писателя и предложили тему для семинара, связанную с природой литературного творчества. Василий серьезно готовился к предстоящим занятиям, составил вопросник и разослал коллегам, попросив ответить на каждый пункт. Помню вопрос, показавшийся мне особенно важным: «Что, по-вашему, в прозе первично: реалии или воображение?» Его семинары в Беркли растянулись на целый месяц. Кто бы мог тогда подумать, что они были репетицией долгой профессорской работы в одном из американских университетов.
Василий издавна занимался английским языком, я нередко заставал его лежащим на диване со словарем и книгой американца или англичанина, изданной на языке оригинала, более того, он перевел для русского читателя роман Доктороу «Рэгтайм». И все же университет приставил к Аксенову переводчицу — американку русского происхождения, из тех русских американцев, что проживали в маленьких городках неподалеку от университета. Отец Васиной помощницы, бывший белогвардейский полковник, ушедший из России вместе с армией Врангеля, наслушался от дочери добрых слов о писателе, своем соотечественнике, и настойчиво звал к себе в гости. У Василия сложились с переводчицей добрые отношения, и он уважил просьбу полковника. Как он рассказывал, дверь им открыл высокий сухощавый старик с военной осанкой и сразу бухнул: «Василий Павлович, эти иностранцы совершенно невыносимы!». «А сам, — смеясь, говорил мне Василий, — живет в Америке столько лет, а по-английски ни бум-бум. Вот он, наш русский характер!»
Потом полковник нанес ответный визит, наведавшись во вторую столицу некогда «единой и неделимой». Первым делом бывший воспитанник кадетского корпуса изъявил желание посмотреть на суворовцев — советских кадетов. Аксенов привез его к воротам Московского суворовского училища, однако полковнику не повезло: было лето, и ребят увезли в лагерь. Меня, в прошлом суворовца, тоже не было в Москве, о чем Василий сожалел, я бы пришелся кстати, показал фотографии и, возможно, подарил старому кадету свой суворовский значок.
Впрочем, опекать иностранцев, с той или иной целью нагрянувших в Москву, стало для него занятием привычным. Обычно это были те, с кем он познакомился в своих заграничных поездках, или знакомые тех знакомых, рекомендованные Аксенову письмом, а то и звонком по телефону.
Я не помню, по какой статье «проходила» Марина Влади, да это и неважно. Приехав сниматься на «Мосфильм», она оказалась под надежным присмотром Василия. Фильмы тогда снимали многими месяцами, поэтому знаменитая русская француженка приехала надолго и, кажется, привезла своих детей. Это было еще в «довысоцкий» период ее жизни — роман, перешедший в замужество, только начинался. Аксенову в его благом деле помогал Гладилин. Они часто приводили подопечную в Дом литераторов.
Так случилось и на этот раз. Съемки у Марины были назначены на вторую половину дня, и сейчас она сидела вместе с нами в Пестром зале. Мы выбрали столик в дальнем углу, подальше от любопытных глаз, пили кофе и болтали о том о сем. Наша собеседница отлично владела русским, как и полагалось человеку, выросшему в русской семье, пусть и во Франции. Стояло лето, зал был практически пуст. Между столиками одиноко слонялся долговязый поэт Семен Сорин, некогда служивший в пограничных войсках и теперь славящий в стихах товарищей по оружию. Сейчас он явно не знал куда себя деть. Побродив по залу, бывший пограничник направился к нам и, прихватив по дороге свободный стул, без спроса подсел к нашему столу. В ЦДЛ подобное поведение считалось неприличным: нахала гнали вон. Сорин, или попросту Сеня, слыл безобиднейшей личностью, и посему мы промолчали: бог с ним, пусть сидит. И надо отдать ему должное, Сеня, найдя для себя спокойную гавань, просидел все оставшееся время, не проронив и слова, будто бы даже задремал, опустив голову, едва не касаясь груди длинным носом и острым подбородком. Но вот пришла пора, за артисткой с «Мосфильма» прикатила машина. Марина поднялась, встали и мы, все, кроме будто бы прикорнувшего Сорина. И тут случилось то, о чем до сих пор рассказывают в писательских компаниях, а иные авторы даже вставляют в документальные книги, посвященные быту и нравам творческой среды. Марина простилась с Гладилиным и со мной, подала руку одному, второму, когда она проносила ладонь мимо Сени, тот вдруг встрепенулся, перехватил кисть Марининой руки, поднес к губам и, высунув длинный фиолетовый язык, лизнул ее возле большого пальца. Это было не просто моветоном, это было черт знает чем! Влади оцепенела, мы тоже обалдели, я взглянул на Аксенова, некогда бившегося за честь Беллы, он, как и Толя и я, не знал что делать: отметелишь безобидного доброго Сорина — потом не отмоешься от издевок. Но Сеня, оказывается, еще не закончил свое действо: пока мы мучились, не зная, что предпринять, поэт извлек из внутреннего кармана пиджака химический карандаш и запечатлел на Марининой руке номер телефона, обратив тем самым свою, казалось бы, оскорбительную выходку в шутку. Она была вульгарной, но все-таки шуткой. Марина засмеялась — у нее с чувством юмора все было в порядке, мы тоже не жаловались на его отсутствие. Наша компания проводила Марину к машине и там простилась вторично, а Сеня остался за столом, снова погрузившись в дрему.
На другой день Аксенов встретил Сорина в ЦДЛ. «Мы-то думали: Сеня-то каков остряк, а он, оказывается, был всего-навсего пьян. И ничего не помнил. Когда я ему рассказал, он покраснел от стыда. Мне же еще пришлось его утешать», — посмеиваясь над собой, посетовал Василий.
А это случилось, по-моему, весной 1975 года, хотя назвать случайностью то, что мы с Аксеновым узнали, было трудно. Мне позвонил Гладилин и попросил приехать в ЦДЛ. Аксенова он уже известил. Он собирался сообщить нам кое-что чрезвычайно важное. Толя был чем-то взволнован. Я примчался в клуб и там, в холле, встретил хмурого Васю. И спросил: «Где Гладила?» — «Там», — коротко ответил Аксенов и указал на лестницу, ведущую в правление Московской писательской организации. Я снова спросил, начиная тревожиться за Толю: «Что стряслось? Ты в курсе?» — «Точно не знаю, но, кажется, начинаю догадываться, — сказал Вася. — Но подождем, может, я ошибаюсь».
Не помню, сколько длилось наше томительное ожидание, но вот наверху, в дверном проеме появился Толя и медленно спустился к нам. Он был бледен, губы крепко сжаты.
— Ребята, я уезжаю, — произнес Гладилин в ответ на наши вопросительные взгляды. Он не сказал, куда именно, но догадаться было нетрудно.
Формально он подал документы по «еврейской» линии, еврейкой была его жена Мария, дочь покойного писателя Якова Тайца, но всем, и друзьям, и недоброжелателям, было ясно: причины, толкнувшие Гладилина на отъезд, связаны с идеологическим прессингом, под которым он находился все последние годы, а после письма «двадцати двух» давление и вовсе стало невыносимым. Мы это понимали, особенно Вася — один из этих двадцати двух «подписантов». Он тоже подвергался «санкциям». Понимать-то понимал и я и все же был ошарашен. Васе, судя по выражению его лица, также стало не по себе.
Мы перешли в Дубовый зал, молча, ну разве что иногда отвлекаясь на малозначительные реплики, выпили по рюмке водки, то есть ее пили мы с Толей, Вася ограничился соком. Он первым заговорил о главном и с горечью произнес:
— Толя, ты совершаешь глубочайшую ошибку. И эта ошибка тем ужасна, что непоправима! Уехав, ты уже никогда не вернешься в страну. Для тебя перекроют все дороги!
Говоря это, он не ведал о том, что вскоре сам проследует по Толиному пути. Но, к счастью, Вася ошибался, придет время, и мы, оставшиеся, будем их встречать в Шереметьево, обнимем на нашей общей родной земле. А пока он сказал, как сказал, на что Толя ответил:
— Наверное, ты прав, и все же я чувствую: не знаю, как именно, но должен круто изменить свою судьбу, сделать что-то очень важное.
После отъезда Толи, наша тройка распалась, мы с Васей встречались все реже и реже, к тому же я надолго пропадал в Алма-Ате, занимаясь переводами. И все же наша дружба не тускнела, прочитал я в рукописях его самые важные в те годы сочинения «Ожог» и «Остров Крым». В памяти осталась картина: сидим мы у него в квартире на Красноармейской, нас трое: Володя Максимов, Юлик Эдлис и я. Аксенов читает главы из «Ожога».
Работая над «Островом», он мотался в Крым, Ялта оставалась для него любимым городом. Мне он рассказывал: «Шпарю по Симферопольскому шоссе, устал, не ел целый день, останавливаюсь возле придорожного кафе, на стойке ничего, кроме вареных яиц, взял два и стакан чая. За мой стол присаживается гигант — водитель самосвала, я видел, как он подкатил, в лапищах глубокая суповая тарелка с горой яиц, десятка два, а может, и более того. Говорю, уверенный в солидарном согласии: «Докатились! Жрать нечего, на прилавке пусто!» А шоферюга мне весело: «Как пусто? А яйца? Ты, брат, даешь!» Жора, с таким народом делай все, что угодно, хоть на голову гадь, он будет доволен, скажет: «Ништяк, зато тепло башке, не надо шапки».
Однажды после долгого сидения в алма-атинском Доме творчества я вернулся домой, позвонил Аксенову, предложил пообедать в Доме литераторов. «Встретимся у входа», — коротко сказал Василий, и я понял: у него ко мне разговор, не предназначенный для чужих ушей. Мы встретились, побрели в сторону Никитских ворот. По словам Аксенова, он тайно переправил «Ожог» в Италию, одному из тамошних издателей, соблюдалась самая тщательная конспирация, и все эта акция стала известна Лубянке. «Каким образом?! Об этом знали только двадцать человек, всего-то!» — недоумевал конспиратор. Пришлось ему напомнить тезис, ставший расхожим: если в тайное предприятие посвящено хотя бы десять участников, оно заведомо обречено на провал. «Но они все такие надежные! Нет, я им верю, каждому из них!» Аксенов твердо решил: эта аксиома верна для кого угодно, только не для его товарищей. Я уточнил: по-моему, тезис в большей степени считает губителями тайн не предателей, а болтунов, среди коих попадаются и люди весьма порядочные. «Ну, тогда не знаю что и думать», — устало пробормотал Василий.
Наверно, так и было. Я знавал их всех, из этой славной двадцатки. Сомневаюсь, чтобы кто-то «стукнул», намереваясь подставить Аксенова. Скорей всего этот некто, тщеславный, сболтнул, желая придать себе значительности, щегольнув близостью к знаменитому писателю. Сболтнул, да кому не следует. А далее поползло по цепочке. И приползло.
Эта история, разумеется, не добавила властям любви к автору уже далекого «Звездного билета» и матерому «подписанту» еретических писем. А потом началась трагическая эпопея с «Метрополем».
Идея создания своего журнала давно обсуждалась в нашей компании, ему даже придумали название: «Лестница», журнал для экспериментальной прозы. Именно на этот несуществующий журнал и донес Анатолий Кузнецов, приплюсовав к писателям Олега Ефремова и, кажется, другого Олега — Табакова. Аксенова и Евтушенко выгнали из редколлегии «Юности», Гладилина уволили из «Фитиля», и идея на время заглохла, а потом возродилась из пепла. Теперь к этой идее подключили и Валентина Петровича Катаева, у которого уже был опыт создания неординарного журнала «Юность». К тому же он любил Аксенова и Гладилина, о чем мне говаривал сам и не однажды. Мэтр охотно согласился, группа писателей, самых именитых из нашего поколения, во главе с Катаевым даже сходила с нашим проектом к Демичеву, руководившему советской культурой. Но поход закончился полной неудачей.
И вот наконец «Метрополь». Когда его готовили, со мной Василий об альманахе не обмолвился и словом, хотя из этой затеи не делали особого секрета. До меня доходили слухи, будто Аксенов собирает авторов в некое свое издание, а помогают ему Виктор Ерофеев и Евгений Попов, тоже мне не чужие люди. Я помалкивал, был уверен: Вася позовет и меня. Но он не позвал. Потом, когда вокруг альманаха началась свистопляска и на авторов посыпались репрессивные меры, я все-таки поинтересовался у Аксенова: почему он не позвал меня? Он пояснил: ты — партийный, мы тебя решили не подвергать риску, по этой же причине обошли и Булата, и других подобных ребят. Им была памятна участь Бориса Балтера, подписавшего письмо «двадцати двух»: всех наказывали, отлучая от издательств, а его покарали особо — исключили из партии, что в ту пору было равносильно гражданской казни. «Не переживай, — посоветовал Вася с улыбкой, — когда будем собирать второй номер, мы тебя выведем из партии». Или он шутил, или в разгар погрома и впрямь подумывал о следующем номере «Метрополя».
Наверное, этот заезд в переделкинский Дом творчества стал для него последним. Он поселился в коттедже, в комнате на втором этаже. Я жил в корпусе, который теперь называют «старым». Временами к Василию приезжала Майя. Ее я застал и на этот раз, зайдя к Аксенову по какому-то делу, а может, всего лишь почесать язык. Майя тотчас заварила в стаканах чай, предварительно вскипятив воду с помощью спирали, именуемой кипятильником, — спутником командировочных в те годы. За чаем Василий спросил: не желаю ли я обзавестись щенком? Спаниель Майи Степан произвел на свет потомство, одного из Степановых сыновей и предлагал мой товарищ. Я ответил: таким желанием не горю, я — кошатник, что тебе, Вася, известно, к собакам равнодушен, и вообще после потери нашего кота, кстати, тоже Василия, мы с женой твердо решили более не заводить в доме живность. Аксенов меня уговаривал и так, и этак, расписывая достоинства щенка. Напомнил историю из моей холостяцкой жизни: Наташа Владимова при его поддержке пыталась меня женить на миловидной цирковой артистке, дрессировщице собак. «Представь: ты утром проснулся, а перед постелью шпиц на задних лапках, принес твои шлепанцы, держит их в зубах», — посмеиваясь, искушал Аксенов. Но я тогда не поддался, устоял и сейчас.
Вскоре мы оба вернулись в Москву. А дня через два он позвонил, сказал: «Я и Майя сейчас рядом с вами. Вы с Ирой не будете возражать, если мы ненадолго заедем к вам?» У нас, разумеется, не было возражений. Открыв дверь, я увидел перед собой Василия, за ним стояла Майя. «Покажи ладони!» — потребовал гость. Я выставил перед собой ладони, и в них тотчас легло что-то мягкое, теплое. Это был щенок размером с тапочку, большую часть его тельца составляли длинные уши цвета шоколада. Это трогательное существо в мгновение завоевало наши души. Крошечный спаниель все еще оставался без клички, мы, вчетвером, рассевшись за столом на кухне, азартно принялись подыскивать малышу подходящее имя. Аксенов предложил одарить щенка грузинским именем Ушанги. Однако оно так и не прижилось, постепенно забылось, мы все время оговаривались, называя собачку Васькой, как и нашего кота, прожившего у нас около пятнадцати лет. И щенок охотно откликался. А через полгода нам пришлось отдать Ваську своей родне. Я часто бывал в отъездах, жена часто и серьезно болела и не управлялась с собакой. Об этом можно было бы не рассказывать, если бы не одно обстоятельство. Лет через семь, когда Аксенов уже преподавал в Америке, с его подарком случилась удивительнейшая история, почти в духе Андерсена. Я бы ее назвал так: «Пес и королева».
В тот день Леонард Георгиевич, хозяин Васьки, прогуливал теперь уже зрелого спаниеля в палисаднике возле хореографического училища Большого театра. Пес бегал по травке, наш родственник сидел на скамейке, поглядывал на резвящегося любимца и по сторонам. Спустя какое-то время его взгляд засек процессию из трех черных лимузинов, они важно прокатили по улице и затормозили перед зданием училища. Из машин вышли крепкие мужчины в черных же костюмах, затем появилась элегантная дама и в сопровождении мужчин направилась к подъезду. Даму заметил и Васька и вдруг возбудился — он-то, обычно не подходивший к людям незнакомым, сейчас перескочил через невысокую ограду палисадника и, виляя обрубком хвоста, подбежал к ногам дамы. Дама ласково потрепала пса по холке, говоря при этом какие-то слова. Встревоженный Леонард Георгиевич бросился к месту происшествия, однако на его пути встал мужчина в черном и вежливо произнес: «Не волнуйтесь, эта женщина — испанская королева София. Она сказала: «Здравствуй, земляк!» Хозяин Васьки не нуждался в расшифровке, он знал: исторической родиной спаниелей была Испания, где греческая принцесса стала королевой. Поприветствовав своего земляка на московской земле, августейшая особа скрылась за дверью подъезда, а пес, тоже выполнив свой долг, вернулся к хозяину. Будучи склонным к фантазиям, испытывая вечную тягу к многообещаещему «если бы», я представил в своем воображении встречу русского писателя Аксенова с королевой Испании. «Ваше величество, при вашем посещении училища Большого театра, вас у порога приветствовал спаниель по имени Васька», — начал бы Аксенов свой диалог с королевой. «Это был приятный сюрприз: встретить на вашей земле, можно сказать, своего соотечественника, — вспомнила бы София и затем сообразила: — Василий Палыч, как я, наверное, догадываюсь, этот славный пес имел какое-то отношение к вам?» — «Он был сыном нашего Степана!» — торжественно ответил бы Аксенов. Кто знает, может, этот диалог состоится на самом деле, в свое время, конечно, Там!
Незадолго до отъезда Вася и Майя обвенчались в переделкинской церкви, там же, в Переделкино, на дачном участке отметили это событие. Свадьба одновременно стала и прощанием «молодых» с друзьями. В день их отъезда я заболел, простился с ними по телефону. Каждый раз, провожая наших товарищей в эмиграцию, мы испытывали чувства, схожие с теми, что испытывают на похоронах. Единственным утешением служило то, что они были живы. Так было и со мной, когда я говорил с Василием. Прощались мы навсегда. Однако временами между нами восстанавливалась пунктирная связь, мы передавали друг другу приветы через общих товарищей и знакомых, ездивших в Штаты. Однажды Михаил Рощин привез мне от него великолепные часы «Ролекс». Так долгие годы он жил без нас, мы без него. А потом произошло то, что ранее считалось неосуществимым чудом.
Вначале мы увиделись с Майей. Ее одиночный приезд внешне походил на разведку: ну-ну, посмотрим, что на самом деле происходит в стране. Иные из эмигрантов не спешили с приездом — Гладилин в свое первое появление в Москве долго стоял перед входом в ЦДЛ, не решаясь войти, и не вошел, сделал это только на другой день. Но что касается Аксенова, лично его, возможно, не отпускали лекции, семинары, словом, все, связанное с учебной программой. А пока Василия представляла Майя, собравшая нас, друзей, в просторной и вместе с тем по-домашнему гостеприимной мастерской Бориса Мессерера на Воровского.
И все-таки мы его дождались! Я приехал в Шереметьево с Юлиу Эдлисом. Кроме нас, Васю и Майю встречала небольшая команда журналистов и директор не очень-то крупного издательства, сам из писателей, каюсь, его фамилия выпала из памяти. Вот и все «представители общественности». Но, может, сие было и к лучшему — у Аксенова была возможность успокоиться. А вышел он к нам из недр таможни в некотором ошеломлении и от того, что под ногами московская земля, и от встречи с до боли знакомым и, казалось бы, уже забытым, типично советским. Его восторги мешались с возмущением, порой превращаясь в бессистемную речь. Перестройка перестройкой, а таможенники учинили затяжной скрупулезный шмон, перебрав и перерыв все его вещи до каждого шва. Как в старые недобрые времена.
Я вспомнил Васин рассказ из прошлых времен. Он возвращался из зарубежной поездки, на этот раз ехал поездом. Поездка была замечательной, с обилием прекрасных впечатлений. «Забылись все мерзости нашей жизни, но вот состав пересек границу и остановился на первой станции, там, за окном вагона, на стене вокзального здания был растянут красный плакат с призывом: «Решения партии в жизнь!» Меня едва не стошнило», — признался Василий.
Из аэропорта мы поехали к Эдлису, жившему тогда в доме на углу Воровского и Садового кольца. Его многокомнатная квартира на некоторое время и будет пристанищем для Васи и Майи.
В первые годы после его возвращения мы встречались поначалу довольно часто, но постепенно наше общение свелось к телефонным звонкам. В средине девяностых серьезно заболела моя жена, сам я работал в писательском издательстве ПИК, и на встречи у меня практически не было времени. А после смерти Ирины я и вовсе стал затворником. Василий, со своей стороны, жил на две страны. В свои приезды он, по его словам, «попадал на карнавал» — он снова привлекал к себе огромный интерес, его новые книги тотчас выходили к читателям, он был нарасхват у газет и телевидения. Словом, наши дорожки никак не совпадали, его жизнь протекала от меня в стороне. Редкие встречи случались — уходили из жизни наши товарищи, там, посреди печали, мы обнимались, что-то говорили друг другу, намереваясь встречаться, и на этом все кончалось. Поэтому я ограничил свои краткие воспоминания годами шестидесятыми и семидесятыми, когда наша дружба подкреплялась тесным общением. О том, каким Аксенов стал после эмиграции, расскажут друзья, которые были рядом с ним в последние его годы.
Свой рассказ о моем однокласснике Васе хочу закончить так: кому-то в шестидесятые — семидесятые Василий Аксенов представлялся баловнем судьбы, своего рода плейбоем. Да, он любил радости жизни, одевался со вкусом, даже с особым изыском, обожал джаз, казался весельчаком-кутилой. Но только близкие ему люди знали о сложной, часто мучительной работе, не дававшей покоя его душе. Подтверждаю это отрывком из его письма, написанного мне в Паланге 26 августа 1971 года:
«…Очень обрадовался твоему письму, этой весточке с Большой земли, страны конных и пеших стиппль-чезов[16], столь далекой от нашего песка, где мы от суетных трудов освобождены, учимся в истине блаженство находить, которое было утрачено в стране стиппль-чезов, на Большой земле, откуда прилетело сиречь твое дружеское послание, преподнося тебе это заглавное колечко, я серьезно думаю о том, каким событием порой становится такая элементарная штука, как письмо. В день своего рождения (20 августа 1971 г. — Г.С.) я много думал о непрочности наших человеческих, литературных пьянок и плейбойских связей, о скудости нашей духовной жизни и о полнейшей самоизоляции даже в этой скудости.
Ведь мы же никогда не ведем друг с другом бесед на философские, религиозные, историко— (это слово я не разобрал. — Г.С.) темы. Ведем ли мы такие беседы сами с собой? Мы дико провинциальны, мы спокойно миримся с тем, что нас отрезали Иваны Иванычи от духовной жизни большого мира. Мы боимся стукачей, а надо, чтобы они нас боялись, и не потому, что мы какие-нибудь политики, а потому, что мы свободные люди.
Даже о своем ремесле мы почему-то перестали говорить друг с другом. Когда здесь Стас Красаускас (кстати, человек очень тонкого вкуса и понимания) завел со мной разговор о своей графике и вообще о путях искусства, я невольно поймал себя на мысли «да что это он, всерьез ли?».
Мы слишком легко, Жора, поддаемся капризам погоды и в заморозки спрятались в вонючий угол за печку».
Сам-то Аксенов, как мы знаем, не отсиживался в безопасных местах, потому-то его и выдавили из «страны стиппль-чезов».
Анатолий Гладилин
Аксеновская сага[17]
Аксенову 75. Ни хрена себе. А мне? Лучше помолчать в тряпочку. Но мы же так не договаривались! Клянусь, мы так не договаривались, не помышляли, не предполагали. Нам с Коллегами казалось, что Вася, выигравший Звездный билет и подкрепившийся Апельсинами из Марокко, Катапультирует Под небом знойной Аргентины на своей любимой Затоваренной бочкотаре и, зацепившись за Золотую нашу железку где-то На полпути к Луне, будет купаться там в лучах громкой славы. Ну и мы, вместе с Товарищем Красивым Фуражкиным и Местным хулиганом Абрамашвили, каким-то чудом подтянемся к нему и останемся там вечно задорными, веселыми и молодыми, говоря потом следующим поколениям: «Жаль, что вас не было с нами». Но случился очень сильный Ожог, в результате которого нас всех разбросало по разным странам и континентам, а уж когда от России отделился Остров Крым, то вообще пошел сплошной Бумажный пейзаж, на котором изредка просвечивал Негатив положительного героя. Наступили времена — Всегда в продаже…
Чуда не произошло. Чудес вопреки законам природы не бывает. Однако, как я теперь понимаю, настоящих чудес мы не заметили, вернее, воспринимали их как должное. В шестидесятые годы, словно по мановению волшебной палочки и вопреки всем законам и традициям страны победившего социализма, в литературе появились молодые яркие таланты: Андрей, Булат, Белла, Володя, другой Володя, Женя, Жора, Роберт, Юра… (Список пускай читатели продолжат по собственному усмотрению, я назвал лишь тех, кто тогда был первым.) Чудом были поэтические вечера в Политехническом музее, на которые студенты прорывались через милицейские кордоны. Чудом были номера «Юности» с аксеновскими повестями и романами, которые читали в каждом вагоне метро и электрички. Чудом было и то, что никто из нас никому не завидовал, наоборот, мы любили друг друга, помогали и с каждой новой публикацией поздравляли примерно так: «Ну, старичок, гениальную написал штуковину!» Привыкшие к миллионной читательской аудитории, мы не понимали, что это само по себе чудо. И уж, конечно, подумать не могли, что доживем до времен (те, кто дожил), когда книги будут издаваться крошечным пятитысячным тиражом.
Аксенов заглядывает в мой текст. Строго:
— Чего тебя на сентиментальность потянуло? Уже возрастное? И почему ты Этого из списка не вычеркнул? Я с ним не разговариваю. Вот он показал себя демократом, а как до переделкинских дач дошло, так он с Феликсом Кузнецовым стал обниматься.
Я говорю Аксенову, что мои воспоминания из древней истории, из прошлого тысячелетия, а в прошлом тысячелетии так оно и было, и ничего нельзя вычеркивать. А ты, Вася, пойди побегай и не мешай мне работать. Ты же знаешь, с каким трудом я пишу. Помнится, сижу я в зимних Дубултах и с ненавистью гляжу на чистый лист бумаги…
Но сначала надо рассказать о зимних Дубултах. Несколько лет подряд мы с Аксеновым ездили в Дом творчества «Дубулты» именно зимой, когда Рижское побережье пустынно и засыпано снегом, и успевали за месяц пребывания в Дубултах написать каждый по новой книге. Собиралась в зимних Дубултах такая компания, перечисляю: Стасик Рассадин, Григорий Поженян, Аркадий Ваксберг, Алла Гербер, Герман Плисецкий, Стасик Куняев… Аксенов не был тогда таким строгим, он был, что называется, «хорошим парнем», и все с ним дружили или хотели дружить. (И Стасик Куняев тоже, я ничего не выдумываю.) Ну а дружба с хорошим парнем, по русской традиции, сами знаете, во что выливается. А я ввел правило: до семи вечера все сидят, работают, никто ни к кому не заходит, никто никого не трогает. Вот после семи — пожалуйста, гуляй на здоровье. Однажды до обеда Поженян увел Аксенова, и вернулись они в столовую сильно навеселе, так я такой скандал устроил Поженяну, орал на него, как на проштрафившегося мальчишку. Кажется, он так мне этого и не простил…
Так вот, сижу я в своей комнате, в старом флигеле Дома творчества «Дубулты», и с ненавистью гляжу на чистый лист бумаги. Так обычно у меня начинается работа: час гляжу с ненавистью, потом появляется первая строчка. А в соседней комнате Аксенов. Значит, в тот день я несколько часов испепеляю ненавистью чистый лист и ничего не появляется. Дай, думаю, загляну к Аксенову — что он там делает и не увел ли его опять Поженян? Тихонько открываю балконную дверь, прохожу по снегу к окну Аксенова (тайком заглядываю в чужую жизнь!). И что я вижу: Аксенов, сволочь, вдохновенно пишет, пера не отрывает от бумаги, и лицо у него такое счастливое! Таким счастливым я больше никогда его не видел.
Помню и другое. Седьмое марта 1963 года. Я жду в ЦДЛ, когда вернутся наши ребята. Наши ребята (смотри по списку) — на встрече Партии и Правительства с творческой интеллигенцией. Наши ребята держатся молодцом, вчера хорошо выступал Роберт… Но почему-то долго затягивается эта встреча с Партией и Правительством. Наконец, в Пестрый зал входит Аксенов. Лицо белое, безжизненное. Впечатление, что никого не видит. Я молча беру Аксенова под руку, подвожу его к буфету, говорю буфетчице, чтоб налила полный фужер коньяку, и медленно вливаю в Аксенова этот коньяк. Тогда он чуть-чуть оживает и бормочет: «Толька, полный разгром. Теперь все закроют. Всех передушат…» Далее мы сидим за столиком вместе с Эриком Неизвестным, тоже вернувшимся со встречи, и Эрик, которому после Манежа уже ничего не страшно, внятно рассказывает, что происходило на встрече с Партией и Правительством. Хрущев топал ногами на Вознесенского. Хрущев стучал кулаком по столу и кричал Аксенову: «Вы мстите нам за своего отца!» А Вася, по его словам, отвечал Хрущеву, дескать, почему я должен мстить, мой отец вернулся из лагеря живым. А по словам Эрика, Вася стоял на трибуне совершенно растерянный и повторял: «Кто мстит? Кто мстит?»
Между прочим, для полноты картины: в те времена никто из наших ребят не умел выступать с трибуны, кроме Того, которого Аксенов сейчас хочет вычеркнуть из списка. Тот был талантлив во всем, даже в области политической демагогии.
После Международного женского праздника 8 Марта советская пресса как с цепи сорвалась. В сельскохозяйственных и промышленных изданиях клеймили молодых писателей-модернистов, оторвавшихся от народа. По старым меркам, двух статей в «Литературке» хватило бы на десять лет лагерей, а «Литературка» плевалась полгода. Но ведь Хрущев был непредсказуем. И вот на собрании Союза писателей я слышу старого партийного держиморду, который чуть ли не сквозь слезы причитает: «Аксенова вся наша общественность ругает, а он по заграницам разъезжает! Как же так, товарищи?» Ушлые товарищи негодуют, но смекают, что ничего так просто в нашей стране не происходит, значит, это какой-то знак свыше — дескать, Аксенова можно кусать, но съесть нельзя. А я-то знал, что произошло на самом деле. В понедельник 9 марта Аксенов обнаружил у себя на столе заграничный паспорт и авиабилет. В последние кошмарные дни он совсем забыл, что включен в делегацию советских кинематографистов на кинофестиваль в Аргентину. Аксенов решает: была не была, кладет в чемодан пару сухарей — на случай, если его арестуют прямо в аэропорту, — и мчит в Шереметьево. Там его радостно приветствует делегация кинематографистов. Самолет улетает. В середине дня на аксеновской квартире звонит телефон, требуют Аксенова. Кира (его первая жена), озверевшая от всех этих событий, очень нелюбезно осведомляется, кто его спрашивает. Ей еще более нелюбезно отвечают: «Из ЦК партии». — «Нет его!» «А где он?» — «Улетел в Аргентину». Гробовая пауза. Затем истошный вопль: «Кто пус-ти-и-и-л?!»
Ну прошляпили, накладка вышла. Зачем в этом признаваться? Сделаем вид, что так и было задумано. И игры с Аксеновым продолжались. (Впрочем, в хрущевскую оттепель со всеми нами играли. Получаешь по морде, выбрасывают из сверстанного журнала твою повесть, рассыпают набор книги, отменяют премьеру пьесы, а потом, через несколько месяцев, вдруг — звоночек с интересным предложением.) Я очень любил устный рассказ Аксенова о том, как его принимал министр культуры РСФСР. Огромный кабинет, чаек, «коньячку не желаете?» Старший партийный товарищ вразумлял молодую смену ласково и доверительно: «Василий Палыч, твою мать, написали бы вы что-нибудь, на фуй, для нас. Пьеску о такой, блин, чистой, о такой, блин, возвышенной, на фуй, любви… У нас тут, блин, не молочные реки и не кисельные, твою мать, берега, но договорчик мигом, на фуй, подпишем. И пойдет, блин, твоя пьеска гулять по России, к этой самой матери». Все нормативные слова министра культуры Аксенов запомнил. Ненормативную лексику запомнить было невозможно, а беседа продолжалась час. Большим был мастером русского языка руководящий товарищ. Теперешним новым русским надо бы поучиться у старой партийной гвардии…
При Брежневе игры стали жестче и изощреннее. Звонит мне в Париж (а я уже отщепенец, клеветник и работаю на вражеской радиостанции) знаковый итальянский переводчик в полной панике. Он перевел аксеновский «Ожог» на итальянский. Книга готова, тираж отпечатан, а тут приехала дама из Москвы, утверждает, что она лучшая подружка Аксенова и от его имени требует пустить тираж под нож или задержать выход «Ожога» хотя бы на год. Знаешь ли ты эту даму? Я отвечаю — мол, знаю, при мне еще был их бурный роман, тут она не врет. Но мы с Аксеновым, когда он последний раз был в Париже, рассматривали все варианты и такой тоже. Поэтому последнее слово за мной. И я говорю: «Немедленно пустить «Ожог» в продажу. Итальянское издание романа и пресса вокруг него — залог безопасности советского автора».
Аксенова выталкивают в эмиграцию. В парижском аэропорту автора прогремевшего «Ожога» встречают пресса, кино и телевидение. Я везу аксеновское семейство на их временную парижскую квартиру и тихонько осведомляюсь у Васи, в курсе ли он «итальянского инцидента». Не в курсе. Тогда я рассказываю, добавляя от себя комментарии, типа — как же так, Вася, ведь такая у вас любовь была, а она продала тебя с потрохами! «Ну что ты хочешь, — философски замечает Аксенов, — видимо, ГБ ее поймало на чем-то и завербовало. Слабая женщина. И не таких ГБ ловило и ломало».
Аксенов заглядывает в мой текст.
— Толька, ты соображаешь, что пишешь? Хочешь, чтоб у меня был семейный скандал? Я ведь не помню, она была до Майи или одновременно с Майей.
Майя — вторая жена Аксенова. Я его успокаиваю. По моим подсчетам, она была точно до Майи. Аксенов смотрит на меня подозрительно: «А чего ты вдруг в воспоминания ударился? Наступило время мемуаров?»
Я знаю, что, по теории Аксенова, писание мемуаров — это для литератора абсолютная сдача позиций. Дальше только гроб. Я объясняю, что сейчас перейду к анализу творчества, а пока хочу рассказать о Том, с кем ты не разговариваешь, но очень дружил когда-то (как и все мы). Как Тот явился к тебе на квартиру в Вашингтоне и начал поучать, что ты имеешь право делать в эмиграции, а чего не должен делать ни в коем случае. Ты был потрясен и потом перезвонил мне в Париж и повторил его текст, и я подтвердил: «Чистой воды гэбэшная диктовка». И еще я хочу рассказать о Феликсе Кузнецове, как он, уже в другие годы, после перестройки, бросился к тебе обниматься-целоваться. А ведь Феликс Кузнецов был главный травитель авторов «Метрополя». Теперь-то выяснилось, что не ЦК и не ГБ организовали кампанию против альманаха «Метрополь». То есть они, конечно, не препятствовали травле, но инициатором всей кампании был Феликс Кузнецов, на вас он делал карьеру. Так что, Вася, пойди побегай.
Аксенов убегает. Уф! Пользуясь его отсутствием, спешу наябедничать. Жуткий образ жизни ведет тов. Аксенов. Просыпается утречком и, вместо того чтобы перевернуться на другой бок, садится к компьютеру и пишет страницы две нетленки. Затем убегает куда-нибудь на час. Если он в Москве, то днем его достигают радио, телевидение, газеты. А в Биаррице он работает до вечера. Потом совершает прогулки с Пушкиным[18] (почти по Синявскому) к морю. После ужина (в Москве и Биаррице) опять запирается у себя в кабинете и пишет допоздна. А если выпадает свободное время, то он, вместо того чтобы проводить его, как и все порядочные люди нашего юного возраста, в приемной у врачей, играет в баскетбол. И очень удивляется: почему его до сих пор не пригласили в сборную? Раз в год он мне сообщает: «Ну, я новый роман написал. А ты?» А я, стыдно сказать… Почему я люблю, когда он бегает? Знаю, что в тот момент он точно не пишет.
О его книгах, написанных в Америке, в американской прессе опубликовано больше статей, чем о любом другом русском авторе, выходце из СССР (кроме, естественно, двух наших нобелевских лауреатов, с ними не сравниваю). Тем не менее Аксенов в Америке так и остался известным писателем для узкого круга. Подозреваю, что он хотел быть автором американского бестселлера и весьма огорчился, что ничего не получилось. По моему разумению, даже теоретически не могло получиться. Чтоб создать американский бестселлер, надо писать плохо и о глупостях. А вот этого Аксенов, при всем старании, не сумеет. Зато в России Аксенов совершил невозможное. Помню, перед матч-реваншем знаменитого американского боксера-тяжеловеса, бывшего чемпионом мира, старый тренер ответил категорично: «Они не возвращаются». И он оказался прав. И статистика подтверждает — бывшие чемпионы не возвращаются.
Аксенов совершил невозможное. Он вернулся. Тяжеловесные удары: «Новый сладостный стиль», «Кесарево свечение», «Вольтерьянцы и вольтерьянки», — и Аксенов вновь стал популярным писателем у себя на родине. А ведь он не гнался за читателем и продолжал рисовать своих аксеновских героев и писать о вечных проблемах — любви, смерти, предательстве, верности долгу. Казалось, самоубийственный путь. Казалось, кого это ныне интересует?
Прошлый век был апогеем книги. Книга, по разным причинам, являлась учебником жизни, зеркалом на большой дороге, отвечала на вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?» За книгу сажали в тюрьму, за книгу убивали. Книга была предметом искусства, читатели заучивали наизусть страницы прозы. Апогей пройден. Книга превратилась в обыкновенный товар, как редиска, как мыло, как подштанники. А товар надо уметь продавать, только и всего.
Вот что пишет по этому поводу один литератор: «…В наше время хлопотливой и бессмысленной суеты, когда никто не дослушивает друг друга до конца, когда книги не дочитываются, но лишь приоткрываются, с единственной целью дальнейшего — «по поводу» — словесного блуда, когда творцы бешено колотят по своим пиш. машинкам, одержимые возвышенными идеями попасть в коммерческие книжные клубы, огрести лопатой пресловутые «роялтис», ублажить мегаломанические свои страстишки, хапнуть, хапнуть, хапнуть, создать вокруг себя клику подхалимов и отшвырнуть подальше малопочтительных коллег, которые и сами, погрязая в бесконечных пустопорожних интервью, презентациях, публичных дискуссиях, зверея от телефонных звонков, гонят, гонят, гонят круговую безостановочную гонку, без промежуточных финишей, стараясь хоть на секунду задержать внимание совершенно озверевших под потоками книжного дерьма читателей, поразить мир злодейством, стащить с себя штаны, плюнуть в суп соседу по коммуналке…»
Согласитесь, абсолютно злободневное описание российских литературных нравов. Точнее не скажешь. Смущают, правда, пишмашинки: нынче бешено колотят по клавишам компьютера. Я процитировал отрывок из статьи, опубликованной в нью-йоркской газете «Новое русское слово» 6 ноября 1984 года. Статья посвящалась памяти американского профессора и издателя «Ардиса»[19] Карла Проффера, а заодно описывала положение на американском и эмигрантском книжном рынке. Автор статьи — Василий Аксенов. Через 23 года все совпало.
Как говорится — дар предвидения.
Аксенов в Лувре[20]
…К сведению его коллег и приятелей: не надо расстраиваться, хвататься за сердце, глотать валидол — Аксенова в Лувре пока не выставили.
Я должен был бы заподозрить недоброе еще в июле, когда Аксенов прилетел из Москвы и попросил отвезти его к Рене Герра. Мы провели у профессора Герра полдня, осмотрели его знаменитую коллекцию русских книг и картин — только Розанова сорок томов на одной полке, и все с автографами! Потом Аксенов уехал в глухую деревушку под Ниццу — писать книгу, а я был ужасно горд, что вот так, невзначай, повысил свой культурный уровень. Вернувшись с юга, Аксенов мне позвонил. «Вася, — предложил я, — пойдем к бабам», — обычное мое предложение вот уже в течение многих лет. «Пойдем в Лувр», — сказал Аксенов. В музей?! Опять?! Да что он, озверел? Но пораскинув мозгами (оставшимися), я решил, что эта идея, пожалуй, более актуальна на сегодняшний день…
В Лувре я был последний раз семь лет назад, когда министр культуры пригласил журналистский корпус на открытие подземной галереи. Журналисты тупо обозревали откопанные древние каменные стены, затем резво устремлялись — кто к буфетным стойкам (задарма), кто в верхние залы музея (бесплатно). Теперь под Лувром организовался настоящий город, с кафе, ресторанами, книжными и художественными магазинами, туристскими агентствами, все чисто, сверкает, народу — как в московском метрополитене в часы пик. Я чувствовал себя здесь провинциалом, впервые попавшим в столицу, а Аксенов уверенно ориентировался в подземном лабиринте и вывел меня к экспозиции Египта эпохи фараонов.
У фараонов было хорошо. Тихо, спокойно. Аксенов обстоятельно рассматривал стенды с домашней утварью, фотографировал, чиркал в блокноте. Раньше я проносился по египетским залам бодрой рысью. Сейчас, от нечего делать, переглядывался с фараонами, ихними женами, любовницами, богинями. Судя по интимным пожатиям рук, они, фараоны, их путали, любовниц и богинь, морально разлагались с теми и другими. И какие у всех красивые глаза! А бабы образца тысяча двухсотых годов до Р.Х. — вылитые современные топ-модели. «Толька, найди мне щипчики», — сказал Аксенов. Я обежал стенды, нашел массу заколок и булавок, ожерелья, наконечники стрел и пик, бритвы, ножи, маленькие чашечки и… вазы. Щипцов не было. «Я их видел тут», — настаивал Аксенов. Я знал, что Аксенов пишет исторический роман, ему важны подробности быта, однако за каким чертом ему дались именно щипчики? «Вася, часть экспонатов на реставрации, — я перевел текст объявления с французского, — администрация приносит извинения». — «Сперли щипчики», — горестно вздохнул Аксенов.
Для приличия мы поднялись в зал итальянской живописи. Около «Моны Лизы» — вавилонское столпотворение. Не протолкнешься. Толпа гудела, махала руками, как на рок-концерте. Разве что не плясали. А рядом — уникальные полотна, например, «Юпитер испепеляет грешников». Хоть бы один японец покосился на Веронезе. Нет, всем подавай «Мону Лизу»! Звездная болезнь, голливудские нравы.
Мы поспешили покинуть современный Вавилон и разыскали Вавилон древний, экспозицию «Искусство стран Междуречья». Там душа отдыхала. Пусто, выросла капуста. Аксенов снова прилип к застекленным стендам (инструменты эпохи — несколько заостренных камешков), а я не мог оторвать взгляда от огромных быков с человеческими головами. Раскопали эти каменные статуи (Месопотамия, 3050 год до Р.Х.) в позапрошлом веке немецкие археологи. «На самом деле, — объяснил Аксенов, — археологи были шпионами, следили за англичанами, которые прокладывали железную дорогу, и сами обалдели, наткнувшись на такое богатство». Я гляжу на быков: удивительно одухотворенные лица у товарищей. По сравнению с ними… Напрашивается банальная острота. Обойдемся. «Вася, вот эта клинопись на стенах, колоннах, табличках — это молитвы, царские указы?» — «Все что угодно. Люди Междуречья были маньяками хроники, записывали все подряд. Например, постановление общины: Рыжий Лис бросил жену, ушел к соседке — общественность рекомендует Рыжему Лису вернуться к законной супруге или взять соседку как вторую жену».
«Семейный конфликт, любовный треугольник, — подумал я. — И все зафиксировано». Нечто вроде городской прозы, которую мы с Аксеновым возобновили в России через пять тысяч лет.
Анатолий Найман
Меня просили написать о нем к его 70-летию и к 75-летию. Сейчас — in memoriam. Я предлагаю написанное тогда. Это естественно — повторить то, что сказал прежде. Единственное, что хочу прибавить, это то, как ведет себя чувство утраты.
Когда позвонили и сказали, что у Аксенова инсульт, во мне отозвалось рефлекторно: проклятье! Потом растерянно: что же это такое! Наконец, более членораздельно: он бывал в переделках, подождем. Первое и второе понятно, третье — потому что на моей памяти ему не однажды удавалось одолевать трудности, неприятности и испытания.
Несколько раз мы хотели вспомнить, когда познакомились. К согласию не пришли, положили вести отсчет от 1960-го, просто как ровной даты. Потому что совпадающе в деталях рассказывали что-то из конца 50-х: события, в которых оба участвовали, антураж конкретных встреч, присутствие на них таких-то и таких-то людей и кто что говорил, хотя припомнить во всем этом один другого не могли.
Тогда в Ленинграде, где мы оба учились, он в Медицинском, я в Технологическом, появились так называемые лито — литературные объединения пишущей молодежи. Одно из получивших общегородскую известность и представительность — Промкооперация, куда мы оба ходили. Название взялось от Дома культуры, с Промкооперацией к тому времени уже никак не связанного. Приходивших было когда двадцать, когда тридцать. Из медиков самым заметным был, да и вообще, пожалуй, самым авторитетным, Илья Авербах, ставший потом кинорежиссером, а тогда писавший стихи. Сочинял и песни, напевал, простенько подыгрывая на гитаре: «Ты скажешь спасибо — за чай за сахар, а я заплачу — за стол и белье». Не то в Биаррице, не то в Фэрфаксе, помню, что за границей, мы с Аксеновым этот куплет вспомнили, а он еще: «Нужно так попрощаться, чтоб больше не сметь — ждать письма, чтоб ни слуха ни духа; разве я не сказал вам: для двоих называется смерть — то, что все остальные для них называют разлука». Я сказал — подчеркнуто сдержанно, — что автор песенки я… Как это ты? Я от него слышал… Слышал, может, от него, а песенка моя… Может, и твоя, но я буду продолжать считать, что его.
Из Медицинского ходил еще прозаик, он написал рассказ про сенбернара, полюбившего болонку, трогательный, но самое замечательное было, что сочинитель был уверен, что порода называется «сербернар», так на протяжении всего повествования и произносил, а поправленный — долго спорил, что правильно у него, а не у критиков. Аксенов на этих собраниях держался незаметно, потом просто взял и напечатал «Коллеги». Никто ему не завидовал, публикация в то время в нашем ленинградском кругу расценивалась скорее как что-то бросающее и на произведение, и на автора тень.
Немного позднее, в начале 60-х, на меня напала хворь под названием вегетодистония, что-то с сосудами. Один приступ случился на улице, я доплелся до скверика, прилег на скамейку. Старушка с соседней вызвала «скорую». Молодой врач, услышав мою фамилию, сказал, что знает ее от своего сослуживца Сени Ласкина. Ласкин учился на одном курсе с Аксеновым и тоже писал прозу. Я знакомство подтвердил. Врач мое состояние определил как «ничего страшного» и предложил отвезти меня не в больницу, а ко мне домой — «отлежитесь». Недели через две мы с Аксеновым были в одной компании, и он рассказал историю, как я не мог поймать такси, остановил «скорую» и велел доставить себя по домашнему адресу.
Этих эпизодов, фрагментов наших разговоров, обстоятельств встреч в моей памяти десятки. Месяц вдвоем в Клогаранд, авантюрные полмесяца на Саареме, десять месяцев в Вашингтоне, из них первый — в его доме, и потом по месяцу, по пол, когда, приезжая, останавливался у него, и его наезды ко мне, когда одно лето мы жили в соседних рыбацких деревнях в Латвии, — даже календарно это порядочный кусок жизни. Вася — имя, в России подталкивающее к запанибратству. В юности, молодости, сходя в корешении к Ваське, мы показываем этим такую его простецкость, по сравнению с которой любое наше будет, пожалуй что, и повыше. Предшествуемое союзом «и», оно значит: все, конец, привет, пока — и вася. Падчерица обращалась к нему Василий Петропавлович. Брат моей подруги-англичанки, к которой я его направил, называл Вазелин Аксолотль.
Но я пишу сейчас не воспоминания о нем. Не показания даю, не свидетельство оставляю, не признания делаю. Тоска, желание дать знать ему, отсутствующему, о своей привязанности, надежда, что еще одна сцена растормошит его, замкнувшегося в смерти, приблизит к нему, не подающему о себе вести, — вынуждают оборачиваться к общему прошлому. Считается, что боль любой потери со временем притупляется, утихает. Но есть и такие, когда, наоборот, только обостряется. Промежуток между парализовавшим его инсультом и смертью стал буфером между им живым и мертвым, приучил к тому, что его все меньше, что утекает, уходит. Смерть, похороны были — уже полуумершего, полупохороненного. И вот идет третий год, а его отсутствие я чувствую все более реально, более лично, более вызывающе, жгуче. Хочется произносить беспомощно: он был добрый, умный, веселый, широкий. Родственный. Ни разу не давший возможности себя поблагодарить.
[К 70-летию][21]
Василий Аксенов из тех писателей, у которых есть талант опережать время на день, на месяц, на год. Угадать ближайшее будущее ему интереснее, нежели оценить прошлое. Этим во многом объясняется успех, которым были встречены первые его сочинения и который сопровождает его книги до сих пор. Читателям не хватает — или кажется, что не хватает — какой-то малости, чтобы понять, что тип завтрашнего дня — вот этот, мысль завтрашнего дня — вот эта, стиль завтрашнего дня — вот такой. А не тот, не та, не этакий, модные сегодня. Наткнувшись на них в книге, читатель принимает их без обсуждения, как будто всегда знал, что оно так, и назавтра без сомнений утверждает их. Сам. Таким образом, писатель, вроде Аксенова, наполовину опознает имеющее быть и предлагает его для опознания другим — наполовину научает других, что́именно следует им выбрать и установить.
Я написал «вроде Аксенова» не потому, что знаю в России последних десятилетий еще кого-то, наделенного даром такого качества, а лишь для того, чтобы определить ряд писателей, в который он входит. Время от времени они появляются и пользуются особым спросом. Потом заменяются следующими — подобной же отмеченности. Аксенов уже пятое десятилетие остается на месте, которое занял от начала. «Ожог» значил для 1970-х то же, что «Коллеги» и «Звездный билет» для 60-х. Книги, написанные в эмиграции и дошедшие до России в 90-х, то же, что его радиопрограммы, доносившиеся из эфира в 80-х. Сейчас, в 2000-х, он и как писатель, и как общественная фигура оказался в новом амплуа: на фоне широковещательных, безостановочных и тем самым стирающих друг друга предсказаний он стал выразителем здравого смысла, основательности и взвешенности суждений, порождаемых проницательностью и проверенных жизненным опытом.
Аксенов — писатель такого уровня наблюдательности и различаемости происходящего, зрительных, а еще больше слуховых, который сравним с чуткостью приборов. Тепло, проявляемое людьми, давление, оказываемое ими друг на друга, фиксируется им с достоверностью термометра-манометра. Но он этим не ограничивается. Мы никогда не можем сказать с уверенностью, только ли записал он чью-то конкретную реакцию, которой оказался свидетелем, чью-то фразу, которую услышал, или, что называется, «придумал», смоделировав по реально бывшей, обострив, укрупнив, отшелушив ядро. Поэтому мы и принимаем реплики его персонажей одновременно за уличную речь и за афоризм, а их жест и непосредственный поступок одновременно за физиологию и за фигуру танца.
Часто он добивается этого, помещая героев в эксцентричную обстановку парадокса и абсурда. Не в качестве приема, то есть не создавая карнавальное, временное, исключительное, искусственное пространство, а опять-таки проявляя ровно то, в каком сплошь и рядом пребывают их реальные прототипы-двойники. Во времена советского режима это впрямую демонстрировало фантасмагорию, официально выдававшуюся за социализм, сейчас — мелочность того, что объявляется крупным, полицейскость того, что свободным, вымысел того, что действительным.
Аксенов — писатель хорошего настроения. Его герои переживают выпадающие им скорбь, конфликты, беды всерьез, не отводя глаз, не уклоняясь в утешительные подмены. Но они никогда не упускают шанса обнаружить в положении, куда их завела судьба, забавную черту, окраску, поворот. На это они опираются, в этом получают ободрение. Из его книг следует, что не только не отчаянием движется жизнь, но даже и не преодолением его, а желанием радоваться. Хотя они и видят, что мир не праздник, они ищут и находят в нем праздничность, которая присуща ему от сотворения наравне с унынием и безразличием.
В этом, возможно, причина привязанности писателя к джазу и спорту. Целый ряд ранних его вещей развивается как джазовая пьеса, для которой исполнение значит столько же, что и композиция, тема, ноты. Точнее, исполнение и есть она сама. В более поздних такая манера используется внутри отдельных фрагментов, иногда достаточно крупных. Задана тема, идет импровизация, игра с гармонией, любопытство толкает пробовать то и это, подбирать нужное «слово», приходит, если повезло, наконец что-то верное, закрепляется, задача разрешается…
В спорте предпочтение Аксенов отдает баскетболистам. Я знаю его с конца 1950-х годов и свидетельствую, что к нынешнему времени он может с центра площадки забросить из-за головы от трех до семи мячей из десяти.
[К 75-летию][22]
Что Аксенову 75, не производит на меня сильного впечатления. Не вижу, чтобы он очень изменился с 25-ти. Разве что сделался немыслимо публичной фигурой и во множестве интервью столько рассказал о себе, что не представляю, что бы я мог прибавить еще не рассказанного. И все-таки…
Из того, что не знал в молодости, за полвека близких отношений я узнал:
— благородство его натуры (которое в молодости не замечаешь — спроса нет);
— величину творческого заряда, разнообразие направлений его действия;
— вообще витальность и жизнестойкость;
— неснижаемый интерес к происходящему вокруг;
— отвращение к любым производным тоталитарной власти, к любой авторитарности, к любым ограничениям личной свободы (это и в молодости, но тогда отвращение к советскому режиму было у нас на уровне физиологии).
Главные перемены:
— что тогда бесконечно шлялись и пройти от Аничкова моста до Крестовского острова не представляло труда, а сейчас с Пушкинской до Охотного едем на машине;
— что тогда знание иностранных языков ограничивалось более или менее ай-эм-э-бой, а сейчас он шпарит по-английски «не хуже Бориса Шекспира», да и французский подтягивается;
— что тогда броски по баскетбольному кольцу производились с большей грацией, сейчас зато процент попадания повыше.
Что касается литературы, то все 50 лет открываю его книги с неубывающим хорошо темперированным желанием — от «Звездного билета» до «Редких земель». В молодости еще с примесью акмеистического высокомерия и снобизма, а потом — зная, что прочту что-то, чего не прочту ни у кого другого, и так, как ни у кого другого, выраженное. Некоторые молодые рассказы люблю трепетно и пылко. В целом же исхожу из того, что он прирожденный писатель, весьма замечательный, и если наталкиваюсь на что-нибудь не вполне удачное, то принимаю это как не вполне удачное у прирожденного писателя, весьма замечательного.
Короче говоря, о 25-летнем храню память нежную, признательную и драгоценнную. Но 75-летнего на трех 25-летних не меняю.
Владимир Виттих[23]
Воспоминания о Василии Аксенове
С Василием Аксеновым я познакомился в Таллине в мае 1967 года на международном джазовом фестивале «Таллин–67»[24], где участвовал и наш джазовый ансамбль новосибирского Академгородка, в котором я был пианистом и руководителем. Играли мы в несколько необычной манере, что побудило, по-видимому, Василия задать мне несколько вопросов, в частности, о моем отношении к фри-джазу[25], о чем он написал потом в журнале «Юность» в своей статье, посвященной этому фестивалю.
Конечно же, В. Аксенов был кумиром молодежи шестидесятых. Его литературные герои не только были близки и понятны нам, но и формировали мировоззрение целого поколения молодых людей, которые воспитывались на прозе Аксенова. Думаю, что именно поэтому мое знакомство с Василием произошло легко и естественно, а наш диалог, начавшийся на таллинском джаз-фестивале, продолжался более сорока лет.
В январе 1969 года В. Аксенов приехал в Академгородок, и мы прожили с ним десять дней, насыщенных событиями и интересными встречами, в моей квартире, расположенной в доме по улице Ильича, которая была названа в честь Владимира Ильича (Ленина), хотя многие считали, что не был забыт и Леонид Ильич (Брежнев). В шестидесятые годы Академгородок славился не только научными достижениями, но и своим культурным развитием, новациями в экономике.
Взять хотя бы фирму «Факел», созданную при Советском райкоме комсомола г. Новосибирска в период «косыгинских экономических реформ» и породившую всплеск предпринимательской деятельности. Молодые научные сотрудники и инженеры институтов Сибирского отделения Академии наук СССР через эту фирму заключали хозяйственные договоры с предприятиями на разработку и внедрение новейших технологий, приборов и оборудования. Делалось это оперативно, без бюрократической волокиты и бесконечных согласований, характерных для того времени. Значительная доля прибыли от этой деятельности использовалась для финансирования культуры.
В результате невероятно активизировалась общественная жизнь Академгородка, до того времени сконцентрированная в широко известном клубе-кафе «Под интегралом»[26], где я дважды в неделю выступал со своим джаз-ансамблем. Появился литературный клуб «Гренада» (где В. Аксенов в период пребывания в Академгородке неоднократно выступал с чтением своих рассказов и повестей), Художественная галерея, в которой выставлялись привезенные из запасников Москвы «запрещенные» в то время Филонов, Гриневич, Фальк, Эль Лисицкий, фехтовальный клуб «Виктория», где детей учили не столько фехтованию, сколько мушкетерскому кодексу чести, киноклуб «Сигма», джаз-клуб «Спектр» и другие.
Василий «с головой» погрузился в эту пучину академгородковской жизни, вынашивая идею будущей замечательной повести «Золотая наша Железка». В первый же день своего пребывания в Академгородке (в повести — городок Пихты) Василий встретился с молодым академиком Роальдом Сагдеевым (прототипом Эрнеста Морковникова), с которым он учился в первом-втором классах школы в Казани. Р. Сагдеев пригласил нас в Институт ядерной физики — самый крупный научный комплекс Железки (так в повести назывался весь комплекс институтов), где познакомил со знаменитым академиком Г.И. Будке— ром, который стал прообразом Великого-Салазкина. После интересной экскурсии и увлекательных бесед мы вышли из Института, и Г.И. Будкер, посадив целую компанию в свой огромный «ЗИМ», сам сел за руль. В «Золотой нашей Железке» этот «ЗИМ» будет фигурировать как «Кадиллак» выпуска 1930 года, «за рулем которого возвышался Великий-Салазкин».
Герои повести любят посидеть вечерами в кафе «Дабль-фью» (в реальности клуб-кафе «Под интегралом»), возникшем на пустом месте стараниями Кима Морзицера, в котором узнается доктор физико-математических наук Анатолий Бурштейн.
В «Золотой нашей Железке», написанной В. Аксеновым в 1973 году, он предрекает жителям городка Пихты, поначалу наполненным энтузиазмом, разочарование. В реальной жизни было то же самое. «Все удивительное и уникальное, что я увидел в Академгородке, долго продолжаться не может», — говорил он. Я помню, когда в гостях у Р. Сагдеева мы заговорили о предстоящем моем и его (Сагдеева) отъезде из Академгородка (а мы покидали его приблизительно в одно и то же время), Василий высказался одобрительно: «Правильно делаете!». Тогда мне показалось, что его позиция не очень-то обоснована. Но Аксенов оказался прав — в начале семидесятых был закрыт «Факел», клуб-кафе «Под интегралом» и многие другие общественные объединения. Застойные явления начали проникать и в Академгородок.
Крымчане, после выхода в свет романа «Остров Крым», увидели в В. Аксенове геополитического футуролога. Дело в том, что я присутствовал при встрече Василия с группой причастных к политике жителей Симферополя (мы отдыхали в соседних санаториях в Мисхоре), которые предлагали ему стать президентом Республики Крым, за создание которой они вели политическую борьбу.
Об отношении самого В. Аксенова к предсказаниям написал в журнале «Performance» (№ 1–2, 2003 г.) его близкий друг писатель Евгений Попов, который привел следующее высказывание Василия в дискуссии за круглым столом по теме «Гармония и хаос» на Самарской ассамблее в 2001 году: «В мире происходят изменения и события политического, экономического, научного, исторического порядка, которые так или иначе являются статистически предсказуемыми. Но мы не можем предсказать, а можем только почувствовать некоторые метафизические изменения, которые, как мне кажется, у нас на носу». Я думаю, что многие события В. Аксенов именно предчувствовал.
В Самаре Василий первый раз был в 1993 году. Мы договорились о его приезде ко мне в гости, и я случайно обмолвился об этом мэру Самары О. Сысуеву, который, искренне и глубоко уважая В. Аксенова, официально пригласил его в качестве гостя Самары. С учетом такого разворота событий в нашей беседе с моим близким другом и дальним родственником Владиславом Скобелевым — профессором кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета — родилась идея провести в Самаре межвузовскую научную конференцию «Василий Аксенов — литературная судьба». В. Скобелев со своими коллегами совместно с управлением культуры администрации города Самары провел большую организационную работу, в результате которой 16–17 июня 1993 года эта конференция состоялась в Самарской областной научной библиотеке. На конференции было заслушано 28 докладов ученых — филологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Самары, в которых нашло отражение многогранное творчество писателя В. Аксенова.
На будущий год тематика конференции расширилась и была посвящена литературе третьей волны русской эмиграции. На эту конференцию вместе с В. Аксеновым в Самару приехали писатели Евгений Попов, Владимир Войнович и Бенедикт Сарнов. После проведения конференции Василий предложил преобразовать ее в фестиваль искусств.
В 1995 году в Самаре состоялся первый фестиваль искусств «Из века ХХ в век ХХI», в котором, наряду с писателями В. Аксеновым, Е. Поповым, З. Богуславской и поэтом А. Вознесенским, приняли участие кинорежиссер Э. Рязанов, джазовые музыканты А. Козлов и Г. Лукьянов со своими ансамблями, а также А. Макаревич с «Машиной времени». Этот фестиваль проводился ежегодно до тех пор, пока не трансформировался в ХХI веке в фестиваль науки и искусств «Самарская ассамблея». Душой и «центром притяжения» всех этих фестивалей был Василий Аксенов.
Думаю, что академик Р. Сагдеев сразу же, как только я позвонил ему в США, согласился участвовать в «Самарской ассамблее — 2001» прежде всего потому, что он сможет там встретиться (и встретился) с В. Аксеновым. То же самое можно сказать о Белле Ахмадулиной, Борисе Мессерере и многих других участниках Ассамблеи, которые, перед тем как дать согласие, спрашивали: «А Аксенов будет?».
Для меня Василий был одним из самых близких друзей. Я помню почти каждую встречу с ним — будь то Новосибирск, Москва, Самара, Вашингтон или Мисхор, потому что я всегда ощущал тепло, внимание и доброжелательность с его стороны. Он был интересным и мудрым собеседником, с которым можно было вести дискуссии практически на любую (в том числе научную) тему. В. Аксенов был не только великим писателем, но и Человеком с большой буквы.
Белла Ахмадулина
Веселье дружбы[27]
«Коллеги» и «Звездный билет» — это ведь «Юность», самое начало 60-х. Я прослышала тогда, что вот писатель появился необычный такой, и мельком эти книги прочла. Однажды я оглянулась в ресторане Дома литераторов, когда мне сказали: «А вот и этот знаменитый Аксенов». В его первых книгах меня что-то очень растрогало, но я подумала — какой еще молодой! И не в годах тут было дело, он старше меня, а в том, что я к тому времени уже успела что-то понять, что-то решить. А его повести показались мне тогда трогательными, милыми… И этот первый взгляд, первое мимолетное касание не содеяли во мне того, из чего получилась потом такая долгая и сложная жизнь. А дальше… дальше я лечу однажды в Вильнюс, и у меня в руках журнал «Новый мир», где напечатаны «На полпути к Луне» и «Папа, сложи!» А со мной рядом какой-то не очень знакомый мне человек. Тоже литературный, но более просвещенный. Я читаю изумительный аксеновский текст, и меня поражает, как все это написано. И не только стройность слов увлекает или, допустим, что человек хорошо знает, каково на белом свете простым людям живется. Я за всем этим внезапно увидела что-то еще БОЛЕЕ КРУПНОЕ. Мне тогда показалось, что я присутствую при рождении какого-то нового литературного слога, иного, чем раньше, расположения строк, нового чувства, нового облика — не только писательского, но и человеческого. Я так и до сих пор думаю. Потому что Аксенов с самого начала отличался, с самого начала противостоял. А мой просвещенный попутчик мне вдруг говорит: «Смотрите, какое совпадение! Вон там, у окна сам Аксенов сидит». По странному совпадению Василий Павлович тоже летел тогда в Вильнюс этим самолетом.
Он и тогда выглядел как совершенно отдельный от других человек. Мы вскоре познакомились. Кто не знает, как хорошо сказать человеку «спасибо». «Мне так понравилось, что вы написали», — сказала я Аксенову. Аксенов дружил с литовскими художниками, со Стасисом Красаускасом, которого и я знала. Вильнюс, Прибалтика вообще были для нас тогда особенным, любимым краем. Такая это частичка Запада посреди разливанного моря «развитого социализма».
А дальше наше знакомство стало во что-то сгущаться и довольно быстро превратилось в дружбу. В 68-м появилась «Затоваренная бочкотара». Я эту книгу тогда обожала и до сих пор люблю. Люблю это ее словесное погромыхивание, когда слова, как железки в кузове деревенского грузовика. Вася тогда со многими дружил. Были в их числе и Анатолий Гладилин, и Григорий Поженян, но мне кажется, что мы с ним вдруг странно и внезапно совпали по человеческим и литературным меркам. Это была ЛЮБОВЬ К ДРУЖБЕ, завещанная всем нам Пушкиным, так Пушкин любил дружить.
Сейчас это прошлое уже так далеко, но тогда еще жива была Евгения Семеновна Гинзбург, еще мы были повеселее, хотя оснований для веселья было, признаться, маловато.
Но мы ужасно друг друга любили. Проводили время вместе по всяким забегаловкам. Одна из них была около метро «Аэропорт», где мы тогда все жили. Ее Аксенов называл «Ахмадуловка». Ничего особо залихватского мы не делали, но у нас было ощущение внутренней свободы, хотя мы и сами смеялись, прекрасно понимая, что живем-то все-таки в СССР. Васю кто-то спросил тогда про меня, и он ответил: «Она сестра мне». Была молодость, было какое-то безгрешное веселье. Была компания. Гена Шпаликов приблизительно в то же время с Василием совпал, это ведь на его слова знаменитая песня из фильма по аксеновским «Коллегам» — «На меня надвигается по реке битый лед»… В «Современнике» у Василия пьеса шла «Всегда в продаже».
Это все было еще до «Ожога» и «Метрополя», резко изменивших судьбу Аксенова. Но к этим переменам дело как-то само собой двигалось, и вряд ли были возможны «другие варианты».
На первой странице «Ожога» значится: «ПОСВЯЩАЕТСЯ МАЙЕ». И я рада, что была свидетелем, в какой-то степени даже составителем этой любви. Я жила в Ялте, и Майя, с которой мы были давно знакомы, ко мне приехала. И это тоже большая радость — любить любовь других людей, быть им сподвижником. Всякие милые детали помню: у Васи есть рассказ о том времени, мне посвященный, «Гибель Помпеи». Мы спускались к морю, гуляли по набережной. Там и правда был, как в рассказе, мальчик, который носил на груди маленького зеленого питона. Мы многое понимали, но Вася все чувствовал острее других. Родившийся в 32-м, на долгие годы лишенный родителей, он с детства как бы впитал в себя опыт Зоны, лесоповала, Магадана. Он словно старше других был, с какой-то неизгладимой печатью на лбу и на душе. И эти его особенные обстоятельства нечаянно становились и моей сердечной мукой.
При этом он был очень хорош собой. Правда! Как-то по-особенному хорош. Его внешний облик, его шарм — все это было скромным противостоянием тому промежутку времени, когда и дышать-то трудно, и спасаешься лишь весельем дружбы, дружеским кругом, дружеским застольем.
Ему пришлось уехать летом 80-го, перед Олимпиадой, и встретились мы только через семь лет, хотя прощались навсегда. 80-й год вообще был неимоверно тяжелым. Умер Высоцкий, уехали Войнович, Копелев. Я сидела и писала стихотворение «Сад», когда вдруг пришел Вася. Я это стихотворение, ему посвященное, и дальше собиралась писать, но он вошел, и стихотворение внезапно закончилось словами «Я вышла в сад». И стало последним моим подарком ему перед отъездом.
Мы не виделись семь лет, но тайной связи не теряли. Вернее, не совсем тайной.
Письма мы, конечно, передавали через дипломатов, но по телефону говорили свободно, иногда даже с расчетом на «прослушку». Вот Вася мне говорит, что его сына Алешку к нему не пускают, повидать отца. А я ему специально отвечаю: «Ой, как мне это, Вася, не нравится! Да и не только мне. Понимаешь?» Словом, дразнили гусей…
И этот ужас в день смерти Володи Высоцкого! Вася ведь только-только уехал и звонит мне из Парижа: «Ну что у вас, Белка? Как дела?» Я говорю: «Володя умер». — «Нет, этого не может быть! Не может!» — «Увы, но это так»…
А потом, когда мы встретились в Америке (есть даже фотография, где мы с ним идем по какой-то вашингтонской улице), у меня было ощущение, что мы вообще не расставались.
Тогда какой-то студенческий театр очень хорошо, с пониманием поставил его пьесу «Цапля», и мы с Борисом Мессерером были на премьере. Вася, как и я, обожает собак, и тогда у него был Ушик. Сейчас — Пушкин, а тогда — Ушик. Вася преподавал в университете, он как-то взял нас с Ушиком на свою лекцию. Слушатели аплодировали, и Ушик, бедный, тоже чуть ли не кланялся, преисполненный важности.
И эта аксеновская доброта, нежность, но и затаенность некоторая, сложность, а не простота! Как хочется благодарить всегда человека — и за его талант, и за его доброту. И за то, что мы всю жизнь вместе.
Хотя и реже видимся последнее время. Он сам говорит, что чувствует и эту сложность, и какую-то вечную БОЛЬНУЮ БОДРОСТЬ ПИСАТЬ. Для него писательство — вовсе не быстрый бег пера или легкий труд души. Писательство для него — жизнь. А что может быть лучше этого?
А какой он великолепный устный рассказчик! Помню его сагу о том, как матушка прислала ему из Магадана в Питер отрез, чтобы он сшил себе хорошее пальто. Он пальто сшил, а потом его украли какие-то жулики, как у Акакия Акакиевича. Даже его устные рассказы — объемные и цветные по слогу.
Поэтому когда говорят — «шестидесятники», я говорю — да называйте вы нас как хотите, хотя лично мне такая терминология напоминает какую-то тухлятину революционную из позапрошлого века. «Народники», «шестидесятники», «эсеры», «эсдеки»… А мы — просто друзья. Аксенов — просто друг с его чудной улыбкой и его изумительной мягкостью.
К чему-нибудь хочется придраться, говоря о нем, да не выходит! Странно, что мы все-таки претерпели эту жизнь, спасаясь весельем дружбы. Но иначе, наверное, и быть не могло. Моя дочка Лиза где-то нашла старую, тусклую фотографию, датированную 37-м годом. Стоят две скромно одетых женщины, держат какое-то запеленутое существо. И я догадываюсь, что существо это — я, а фотография — из того московского родильного дома, где я появилась на свет. Что ждет это существо, что ждет всех нас — до сих пор неизвестно. Кланяюсь Василию.
Записал Евгений ПОПОВ
Василию Аксенову
1980
Экспромт в честь вечера Василия Аксенова 11 января 1999 года[28]
Евгений Сидоров
Аксенов в «Юности»
Молодой Василий Аксенов умел влюблять в себя людей. Это был дар тихого обаяния. Он никогда не ораторствовал, никогда громко не смеялся (скорее хихикал), всегда был комильфо, плотного вида плейбой, чувак что надо. Так что дело не только в писательской одаренности. Дело в самом стиле его жизни и облика. Он смолоду тянул на классика жанра, но как бывший советский детдомовец, любил коллектив, друзей, компанию.
По-настоящему он впервые распахнул себя в «Ожоге». До этого личное камуфлировалось фантомами. Блеск «Затоваренной бочкотары» и прелесть старых лирических рассказов (которые люблю и перечитываю по сей день) были лишены какой-либо политической окраски.
Аксенов (как и другие известные литераторы-шестидесят-ники) следовал правилам литературной игры. Но именно игры, а не скучного правдоподобия или принарядившейся лжи.
В конце шестидесятых мы сблизились в журнале «Юность», где я заведовал отделом критики и эстетического воспитания. К несчастью, «Метрополь» надолго развел нас. Я об этом уже писал и потому не стану повторяться (см. «Юность», 1986, № 6).
Сначала Аксенов торчал на поле литературы как яркий цветок, опыляемый Сэлинджером. Но вскоре критика одумалась и отказалась от космополитического ярлыка. «Звездные мальчики» были признаны отечественными сорняками. И атака пошла по другому руслу: очернение советской молодежи. Подули прибалтийские ветра. Стиляжничество ворвалось в молодежную повесть вместе с джазовыми импровизациями Германа Лукьянова, Алексея Козлова, Андрея Товмасяна.
Аксенов стремительно перерастал рамки исповедальной молодежной повести. Писатель менял почерк и сюжеты резко и демонстративно. Он двинулся вперед, оглядываясь на прошлое, на уроки петербуржского фантастического реализма.
В это время мы и встретились. В 1967 году.
Но начиналось все гораздо раньше, с журнального самотека. Изидор Григорьевич Винокуров[29] вытащил из почты два рассказика молодого ленинградского врача. Их напечатали, но впечатления они не произвели. Автору, как водится, написали, старайся, мол, давай, что-то есть. Подпись под письмом впечатляла: Валентин Катаев. Поощрение еще как подействовало!
Валюн (редакционное прозвище Катаева) был, как известно, человеком талантливым и циничным. Как раз в эти годы он стал работать в новом стиле, искренне позабыв про социалистический реализм. В период «оттепели» творца Пети и Гаврика уговорили вступить в КПСС. Свои повести («Святой колодец», «Трава забвения» и др.) Катаев писал в Париже, в трехзвездочном отеле, ежегодно наведываясь туда по линии Союза писателей СССР «с творческими целями». Время помогло Катаеву и его журналу. Исповедальность «Хроники времен Виктора Подгурского» (девятнадцатилетнего Толи Гладилина), графика долговязого литовца Стасиса Красаускаса, журнальные выставки и вкладки молодых левых художников, время вперед, ребята, мы рождены, чтобы творческую свободу сделать былью.
Василий Павлович с усмешкой, добродушно вытягивая губы в трубочку, рассказывал, как впервые был приглашен на ежегодный праздник журнала «Юность» в летний ресторан «Фиалка», расположенный в Сокольниках. Потрясение было немалое, ибо он увидел самого(!) Гладилина, не говоря уж (здесь почти обморок!!!) о самом Евтушенко. Аксенов только что напечатал свою повесть «Коллеги», и Катаеву понравилась аксеновская метафора в стиле одесского литературного ренессанса периода НЭПа: что-то там о стоячей воде в Фонтанке, напоминающей пыльную крышку рояля.
Так начиналась слава. Вася переехал в Москву. Несколько лет «Юность» печатала почти все, что выходило из-под его пера.
Сергей Николаевич Преображенский, бывший помощник А.А. Фадеева, ставший после самоубийства патрона первым катаевским замом, жаловал молодое шестидесятничество и часто прикрывал его партийной грудью. Любила Аксенова и Мэри Лазаревна Озерова, зав. прозой, дружившая с Васиной ма— мой — Евгенией Семеновной Гинзбург, вернувшейся не так давно из лагеря и политической ссылки. Тираж журнала стремительно рос по мере роста критической ругани в печати, чей тон задавали Главное политическое управление Советской Армии и Первый Секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов. Аксенову и Евтушенко доставалось больше других. Вскоре случилась известная история, когда под хрущевский каток попал и Андрей Вознесенский. Катаева на посту сменил Борис Полевой. Но Аксенова с Евтушенко утвердили ненадолго членами редколлегии. Так раскачивались политические качели, странное было время. То ли конец оттепели, то ли начало новых крутых заморозков.
«Юность» прорабатывали на всесоюзном активе. От Всеволода Кочетова и Анатолия Софронова нас яростно защищал замечательный прозаик, автор «Нового мира» Василь Быков.
Борис Николаевич Полевой душой старого правдиста не принимал авангардистские штудии молодых литераторов. В лучшем случае он с ними мирился. Остается некоторой загадкой, как удалось в марте 1968 года напечатать «Затоваренную бочкотару». Полевой уклонился, уехал в отпуск, оставив журнал на попечение Преображенского. В четыре голоса (Преображенский, Озерова, В.И. Воронов — второй зам. главного и я) с удовольствием читали вслух повесть и смеялись в ударных местах. Вася (по договоренности) был отстранен от текущей редактуры, но мы и так почти не трогали текст.
Затея с моим послесловием (дабы объяснить читателям стиль и смысл этого сочинения) только подлила масла в огонь. Буколическая «Бочкотара» была признана критикой эталоном зловредного и пагубного модернизма. Заодно досталось и мне. Дело дошло до партийных указаний. В постановлении Краснопресненского РК КПСС было сказано, что журнал не только опубликовал порочное произведение, но и сопроводил его апологетической статьей.
Аксеновская повесть была признана коллективом редакции лучшей публикацией года, и по инициативе Юрия Зерчанинова автор на новогодней вечеринке был награжден специальным призом — цинковым корытом для постирушки. Мне достался малый приз — тазик из того же металла. Стасик Лесневский привычно произносил тост в память тогда запретного Николая Ивановича Бухарина. Полевой морщился, но в принципе был лоялен.
Кто бы мог подумать, что через восемнадцать лет «Затоваренную бочкотару» воскресят на сцене табаковской «Табакерки»! И даже строки из моей маленькой заметки тоже прозвучат со сцены. Аксенова в зале не было, он все еще жил и работал в Америке, по предложению Табакова мы послали ему телеграмму в США, которая заканчивалась названием старого аксеновского рассказа, посвященного скультору Эрнсту Неизвестному: «Жаль, что вас не было с нами!»
В 1969 году мы решили провести вечер Аксенова в Центральном доме литераторов. Зал, естественно, ломился от публики, я прочел вступительное слово, и в это время кто-то громко, требуя впустить, застучал в дверь на балконе. «Это Азазелло!» — среагировал я, зал засмеялся, Булгаков был у всех на слуху. Петр Палиевский, сидящий на балконе, пытался открыть дверь, чтобы дать дорогу свите Воланда, но дверь была неприступна. Однако повышенная бдительность все же не спасла от веселого скандала. К концу вечера на сцене внезапно возник саксофонист Алексей Козлов со своим «Арсеналом», что не было предусмотрено программой, утвержденной правлением писательского дома. Вася договорился с Козловым, и музыканты, тихо протырившись, надолго захватили сцену. Секретарь партбюро Г. Семиженов долго потом пытался узнать, кто пустил незваный джаз. Хороший был вечерок.
Между тем Аксенова постепенно перестали печатать. В столе лежали повести «Стальная птица», «Золотая наша Железка», рассказы. По ЦДЛу и Дому кино бродил всегда подвыпивший добрый малый Володя Дьяченко, то ли кинорежиссер, то ли кинооператор. Он считал себя прообразом главного героя «Стальной птицы», Сталюшей, если ласкательно. Надо было зарабатывать деньги. Вася писал заявки на киносценарии и получал авансы. Тогда это было распространенной практикой. Иногда дорабатывал чужие сценарии. Он был в негласной опале, но знаменит и желанен. Ездил за границу. Сочинил две детские книжки и роман о пламенном революционере Л. Красине[30]. Зная цену своей вынужденной ремеслухе, он исподволь работал над «Ожогом».
Весной того же шестьдесят девятого ялтинская гостиница «Ореанда» приютила трех московских писателей, объединившихся под именем Гривадия Горпожакса. Псевдоним составился из трех фамилий: Горчаков, Поженян, Аксенов. Я был свидетелем создания их эпохального романа «Джин Грин — неприкасаемый», пародии на Джеймса Бонда. Конечно, это был пухлый беллетристический капустник, не более того. Овидий Горчаков, сам бывший разведчик, разрабатывал авантюрный сюжет, поэт Григорий Поженян обеспечивал контору выпивкой и отменной закуской (как он в мае доставал на рынке раков, уму непостижимо). На долю Васи выпадал ежедневный утренний урок письма. Безропотно, с похмелья, обмотав голову мокрым полотенцем, Аксенов писал шесть страниц своим крупным характерным почерком. Дивные крымские вечера (тогда еще полуострова) превращались в пирушки со стихами, из Дома творчества писателей приходили друзья, в том числе Борис Балтер, только что исключенный из партии.
Вася очень любил сам процесс сочинительства. Он смешивал озорство с веселой графоманией, чему, в частности, свидетельство его пьеса «Четыре темперамента», где пятистопный пушкинский ямб окаймлял довольно многословные, иногда смешные, но чаще скучноватые разговоры. Пародия, фантастика, фарс привлекали Аксенова, как способ выхода из привычного литературного официоза. Внутри у него бил праздничный фонтанчик слова, но, если честно, вовремя закрыть кран ему не всегда удавалось.
Два рассказа — «Лебяжье озеро» и «Рандеву» — я подсунул Полевому, когда он уезжал в Малеевку писать свою очередную повесть, кажется «Доктора Веру».
Вскоре я получил от Б.Н. послание, написанное от руки его любимыми зелеными чернилами. Письмо содержало примерно следующее: «Вы что, эсквайр, охренели предлагать нашему молодежному многотиражному журналу подобную похабщину с выкрутасами?!» Письмо погребено где-то у меня в архиве, воспроизвожу текст по памяти, но за смысл ручаюсь. И «Лебяжье озеро» и «Рандеву» через несколько лет все-таки проскочили в «Литературную Россию» и журнал «Аврора».
Не так давно в Баку мы случайно встретились за одним столом с академиком Роальдом Сагдеевым. Женатый на внучке Эйзенхауэра[31], американский физик вспоминал общее с Аксеновым казанское пацанское прошлое. Именно к нему «Юность» обратилась в свое время с просьбой написать отзыв на «Золотую нашу Железку», надеясь спасти повесть для печати. Академик популярно объяснял читателю, что такое литературная условность и что Васины физические формулы никакого отношения к реальной фундаментальной науке не имеют. Не помогло. С этой несчастной «Железкой» (не везло Васе с металлом — и сталь, и железо ржавело у него в доме) мы пару раз выступали в московских НИИ — он читал, а я рассказывал о том, что происходит в нашей литературе.
Надо вспомнить здесь Евгению Семеновну Гинзбург. Она была моим автором, ибо публиковала маленькие рекомендательные рецензии в разделе «Среди книг». Как правило, я их не заказывал, она выбирала книги сама и приносила в редакцию отточенные двухстраничные тексты. Подписывалась псевдонимом «Семенова», иногда ставила свою фамилию. Естественно, разговаривали и мирно спорили о ее сыне (о «Крутом маршруте» я тогда только слышал). Надо сказать, что она достаточно критически относилась к непростым аксеновским «поискам жанра».
Вася был хорошим сыном. Смертельно больной матери он успел показать Париж. Навсегда прощались с ней в 1977 году в однокомнатной квартире на Красноармейской. Руководил похоронами все тот же Григорий Михайлович Поженян.
«Ожог» я прочитал в рукописи и понял, что с иллюзиями и романтизмом автора покончено навсегда. Социализма с человеческим лицом не получается. Впереди новый вариант крутого маршрута. Ни одной редакции Вася роман не предлагал и правильно делал. Возвращая рукопись (мы куда-то ехали в зеленой аксеновской «Волге»), я сказал, что это конец, разрыв, обратного пути нет. Такая книга не может появиться в Советском Союзе. Я рад, что она хорошо и безоглядно написана, но сожалею, что предстоит расставание. Так и случилось.
Пафос и нежность, затаенная сентиментальность — фирменные знаки аксеновской прозы. И конечно юмор, резко клонившийся к постмодернистской иронии или едкой сатире. С середины шестидесятых в состав его стиля навсегда войдут гротесковые элементы, осторожно названные им «преувеличениями». Пафос снижен, спрятан, внешне скомпрометирован. Но это обманчивая видимость. Добро и зло для Аксенова никогда не слиянны, они разделены и разделены окончательно. В этом, кстати, его определенная ограниченность как писателя. Но он никогда и не был мыслителем, метафизиком: Достоевский там не ночевал. Как политический публицист, Аксенов часто наивен, что явно обнаружили его статьи в наши «перестроечные» годы. Он — художник форм прежде всего, артист элегантной фразы, его смыслы всегда словесно формированы. От реализма в формах самой жизни к авангардизму в деталях малой прозы, а затем к большому роману смешанного стилистического состава — вот краткий очерк пути Аксенова. «От древа познания к древу воображения», как выразился один из героев его букеровского романа. Сама эта формула тоже достаточно наивна, как и иные прямые авторские выводы, ведь истинное познание вряд ли может существовать без воображения, и наоборот.
Когда-то я написал, что воспоминания у Аксенова стилистически продуктивней, чем преувеличения. Спорная точка зрения, но вот в журнале «Октябрь» появляется его неоконченный роман «Дети ленд-лиза», посмертная публикация, где память и время вступают в образный контрапункт. Все лучшие качества аксеновского дара проявились в этом сочинении, особенно в первой его части. Дальнейшее — молчание.
Сейчас у Василия Павловича много друзей среди литературной братии. Но я выделяю только некоторых, истинных. Анатолия Гладилина, основоположника «мовизма», который братски и на всю жизнь обнял Аксенова на пороге журнала «Юность». Из питерской молодости — Анатолия Наймана. Конечно же, Беллу Ахмадулину и Бориса Мессерера. И, наконец, Женю Попова и Сашу Кабакова, вдвоем создававших достойную книгу его памяти под названием «Аксенов»[32].
Вася любил озорную литературную мистику, фантастические сны, и иногда мне кажется, что его славная тень совершает привычную утреннюю пробежку по Яузской набережной, стальная птица, поскрипывая, задевает крылом шпили сталинских высоток, а из глубины российского бездорожья продолжает доноситься голос лихого шоферюги Володи Телескопова, везущего бесконечную бочкотару по нашей израненной дуростью земле: «Где любовь, там и человек… И потому ищут люди любви, и куролесят, и дурят, а в каждом она есть, хоть немного, хоть на донышке. Верно?»
Еще как верно и как просто!
Париж. Ноябрь 2011
Аркадий Арканов[33]
…Еще одним местом сборищ молодых и маститых писателей «левого» и «правого» направления был легендарный ЦДЛ. Центральный дом литераторов со знаменитым рестораном в Дубовом зале. В ЦДЛ я попал вскоре после того, как стал своим в «Юности». ЦДЛ находился рядом со зданием журнала, и в него официально впускали только членов Союза писателей и сотрудников редакций и издательств. Впервые меня привел туда художник из нашего журнала Иосиф Оффенгенден. И ЦДЛ стал моим домом, где я обедал, ужинал, играл на бильярде, сражался в шахматных турнирах… Ресторанные официанты, и особенно молодые официантки, относились к нам с плохо скрываемой симпатией. Позволяя время от времени питаться «в кредит».
Василий Аксенов однажды мне сказал: «Арканыч! ЦДЛ — удивительное место! Можно прийти туда голодным, без денег, без бабы, а уйти сытым, с десяткой в кармане и с симпатичной бабой. А можно прийти сытым, с полным карманом денег, с красивой бабой, а уйти голодным, без гроша в кармане и без бабы».
5 марта 1963 года исполнилось десять лет со дня смерти вождя — Иосифа Виссарионовича Сталина. Вечером 4 марта мне позвонил Вася Аксенов и сказал, что ему звонил кто-то из старых большевиков и попросил прийти в шесть часов вечера следующего дня на Красную площадь, где в это время начинался митинг с участием оставшихся в живых жертв сталинских репрессий. Этот «кто-то» уточнил, что выступать на митинге необязательно, но сам факт присутствия на Красной площади Василия Аксенова с его единомышленниками был бы очень желателен.
«Сходим, Арканыч?» — спросил Вася. «Давай, — согласился я. — А почему нет?»
И мы договорились без четверти шесть 5 марта встретитmся на площади Революции возле музея В.И. Ленина. Вася сказал, что позвонит «Гладиле» (Анатолию Гладилину), Юнне Мориц, кому-то еще…
Без четверти шесть в назначенном месте нас собралось девять человек — все молодые писатели и поэты. Неожиданно у здания Исторического музея остановился «Москвич», и из него вышел Евгений Евтушенко. Мы его увидели. Он нас не заметил. Евтушенко внимательно и сосредоточенно всматривался в толпу людей, следовавших на Красную площадь. Через три минуты он сел в машину и уехал. Мы переглянулись.
«Не решился», — сказал Аксенов. «Имеет право», — сказал Гладилин…
Без пяти шесть мы уже были возле Мавзолея Ленина. Шел мокрый мартовский снег. На площади собралось довольно приличное количество разного возраста людей. Никаким митингом не пахло. Зато обратили мы внимание на большое число фотографов, которые, не стесняясь, вплотную подходили к разным людям, в том числе и к нам, и в упор «щелкали», ослепляя вспышками. Ровно в шесть часов произошла торжественная смена караула у входа в Мавзолей. Еще минут пятнадцать мы ждали митинга. Митинга так и не было. И мы решили расходиться. С нами была поэтесса из Риги. Она просила, чтобы мы проводили ее до ГУМа, где она хотела купить что-нибудь для своего ребенка. И мы медленно по трое направлялись к ГУМу. Толя Гладилин, Юнна Мориц и я шли позади остальных метрах в пятнадцати. Когда мы подошли ко входу напротив станции метро, нас окружили три молодых человека и, показав серьезные удостоверения, строго предложили пройти в ближайшее отделение милиции. Нас ввели в комнату, где уже находился Вася Аксенов с пятью нашими приятелями. Короче говоря, вся наша девятка была задержана. Никаких объяснений. Никаких ответов на вопросы. Минут через сорок каждого в отдельности, называя фамилию, стали выводить на улицу. Меня вызвали последним и подвели к стоявшей у отделения милиции черной «Волге». Признаюсь, я почувствовал себя, мягко говоря, не очень комфортно. Открылась задняя дверца, и меня усадили рядом с сурового вида человеком. «Волга» тронулась. Куда меня везли? Не имел представления. Вспомнились рассказы старших товарищей об арестах в те «знаменитые» времена, и стало совсем не по себе. Немного согревала надежда на еще продолжавшуюся политическую оттепель… Я вытащил из кармана пачку «Дуката». «Не положено!» — жестко произнес сопровождающий. Машина остановилась напротив ресторана «Арагви» у большого здания. Между мной и «Арагви» величественно восседал на коне Юрий Долгорукий. И через несколько минут я был препровожден в большое помещение на последнем этаже, где уже находились остальные задержанные. В дверях стояла охрана. И снова — никаких объяснений, никаких ответов на вопросы. Юнна Мориц попросилась в туалет. «Ждите!» — сказал охранник. Через пять минут в помещение вошла вооруженная женщина в милицейской форме и повела Юнну в туалет. Я не помню, о чем мы говорили, было ли нам страшно. Скорее всего, превалировал молодежный интерес — чем все это кончится? Пытались шутить… около десяти часов вечера опять стали вызывать по фамилии и куда-то уводить. И опять моя очередь оказалась последней. Доставили меня в маленькую комнатку, где уже находились восемь моих друзей. За столом перед нами сидел русоволосый мужчина лет тридцати пяти, типичного вида комсомольский работник. Оглядев каждого из нас, он официальным тоном сказал: «Так. Вы стали жертвой готовившейся провокации. Желая предохранить вас от неприятных последствий, мы вынуждены были превентивно задержать вас. Возможно, это было нашей ошибкой. Но даже если это была ошибка, то это была СВЯТАЯ ошибка. Вы свободны. Извините».
В ушах до сих пор стоит выделенное им слово «СВЯТАЯ». Незабываемое словосочетание — «это была СВЯТАЯ ошибка».
Несмотря на извинение, уже через два дня в Секретариат Союза советских писателей пришло официальное письмо из соответствующих органов. В письме было сказано, что группа молодых писателей (поименно) клюнула на антисоветскую провокацию. Всех вызвали в Секретариат и песочили по полной программе. Кроме меня, потому что я еще не был членом Союза…
На сорок четвертом «ходу» моей жизненной партии судьба в лице Василия Аксенова предложила мне вариант, по которому я пошел, не задумываясь о последствиях, о вероятных жертвах в процессе развития этого варианта. Меня сразу привлекли красота, чистота, острота и сопричастность выдающимся деятелям нашей литературы. Все, что произошло потом, образовало одно понятие, именуемое словом «Метро́поль». Сразу прошу ставить ударение в этом слове на первом «о» и не пугать с рестораном «Метрополь», где ударение ставится на втором «о»…
В один из дней приблизительно середины 1977 года в Центральном доме литераторов ко мне подошел Вася Аксенов, который для меня, и не только для меня, был безусловным лидером молодой советской литературы. Я очень дорожил нашими приятельскими отношениями (и дорожил ими до самой его смерти), хотя прошедшие годы и разводили нас географически… Так вот, Вася подошел ко мне и сказал: «Арканыч, мы готовим сборник произведений, которые по тем или иным причинам у нас не публикуются. Этот сборник мы передаем в ВААП (Всесоюзное агентство по авторским правам), и они предложат его для публикации за границей…»
Надо сказать, что ВААП тогда (конечно, не по собственной инициативе) изредка проводило хитрые проститутские акции: отдельные произведения или пьесы отдельных прогрессистов, «завернутые» по политическим или цензурным соображениям в СССР, продавались на Запад. ВААП получало за это валюту. Какие-то крохи скидывало авторам, и, таким образом, убивались два зайца: с одной стороны, можно было демагогически орать на весь мир — мол, какая у нас свободная литература, а с другой стороны, сгребалась какая-никакая валюта.
Аксенов назвал мне еще около дюжины имен, быть в числе которых всегда казалось мне большой честью. Были среди них Анатолий Гладилин и Фазиль Искандер, Георгий Владимов и Владимир Войнович, Белла Ахмадулина и Юнна Мориц, и Евтушенко, и Вознесенский, и Высоцкий, и Битов, да и многие другие были там. И вот через несколько дней я передал Васе рукописи двух моих (на то время лучших) рассказов: «И снится мне карнавал» и «И все раньше и раньше опускаются синие сумерки»…
Отдал и отдал. Не ожидал, не интересовался и не нервничал — не было оснований. Месяца через три Вася, Фазиль Искандер и Женя Попов показали мне отпечатанный экземпляр увесистого красивого сборника, в котором стояли и два моих рассказа. Не скрою — мне это было очень приятно и лестно.
В начале 1978 года я возвратился в Москву из длинной поездки по Сибири, и кто-то из моих друзей взволнованно сообщил: «Аркан! Тут такая история завернулась! По «Свободе» передавали твои рассказы из «Метрополя»! И по «Немецкой волне»! Уж не знаю, поздравлять или сочувствовать!»
После этого стали звонить многие. Кое-кто предупреждал о возможных неприятностях…
Неприятности последовали очень быстро. Появились гневные публикации в прессе, состоялся пленум Союза писателей СССР, который дал однозначную оценку альманаху «Метрополь» как предательской, антинародной и антисоветской акции группы «так называемых» молодых писателей. Вроде бы я стал одним из «героев», но в то же время почувствовал себя немножко муторно: последствия могли быть весьма тяжелыми и для меня, и для моего сына, которому тогда было одиннадцать лет. В прессе появились угрозы: исключить всех участников из Союза писателей. Выслать к чертовой матери из страны, посадить…
В Центральном доме литераторов стало довольно противно появляться — указывали пальцами, подходили в пьяном и трезвом виде, особенно правоверные писатели, говорили: мол, как ты мог, с кем ты связался и т. п. Некоторые начали обходить стороной… Кое-кто втихаря поддерживал… Кое-кто говорил, что историю с альманахом не поддерживает, но разнузданное улюлюканье в наш адрес не одобряет.
Я не понимал только одного: почему разразился такой дикий политический скандал, если предполагалось передать альманах за границу официально? Вася Аксенов сказал мне, что ВААП потребовал исключить из состава участников двоих: писателей Юза Алешковского и Фридриха Горенштейна. «Мы категорически отказались, — сказал мне Аксенов, — а пока ВААП настаивал, а мы упирались, экземпляр альманаха каким-то образом оказался переданным за границу…»
С той «метропольской» поры прошло более трети века. Многих участников альманаха уже нет в живых, в том числе и Василия Аксенова, а мне порой не верится, что я был с ними в одной команде и все мы играли в одну игру…
Алексей Козлов
…Именно в Коктебеле я постоянно встречался с Аксеновым — вплоть до его депортации в 1980 году. Мы любили вдвоем ходить по горам, а главный маршрут был — вокруг Святой горы. Опять же, именно в Коктебеле, летом 1979 года он попросил меня прочитать, никому не показывая, рукопись недавно законченного «Ожога» — и добавил: «Хочу знать твое мнение, потому что один из героев, саксофонист Самсон Саблер, написан с тебя». Получилось, что эту рукопись, толстенную пачку из восьми сотен машинописных страниц, я прочитал одним из первых — закрывшись в своей хибаре, вместо того чтобы купаться или гулять. В романе был описан скандальный творческий вечер Аксенова в январе 1974 года в ЦДЛ, где выступил «Арсенал»[34] — Вася, как большой художник, присочинил в этот фрагмент, что меня хотят арестовать, но я бью кагэбэшника саксофоном по голове и… кровь на саксофоне! Все это я прочел в 79-м, а в 80-м Васю вместе с Копелевым и Войновичем выслали из СССР — в основном за его резко антикэгебэшный «Ожог», а не за «Метрополь». Еще находясь в Европе, в конце 1980 года, перед тем как перебраться в Америку, Василий прислал мне трогательную открытку с коротким стихотворением. Оно говорит о многом. В целях конспирации она была подписана просто «В и М» — то есть «Вася и Майя».
…От старожилов Коктебеля я узнал довольно-таки сложный маршрут до городка Старый Крым, когда-то столицы Крыма. К нему я и повел свою компанию — пешком через горы часа четыре. Передохнув и подкрепившись в городке, мы продолжили путешествие, поднимаясь в другие по ландшафту горы — к старому армянскому монастырю, от которого остались лишь развалины. А также легенда, что в давние времена в этих горах армянских монастырей было два — мужской и женский, километрах в двух друг от друга. В нарушение всех церковных правил между ними был прорыт подземный ход, чтобы монахи могли тайно встречаться с монашенками. И вот настали страшные для крымских христиан времена — турки, до той поры терпимые к иноверцам, решили очистить от них Крым (скорее всего, это было следствием одной из Русско-турецких войн). Турецкие солдаты раз за разом пытались взять монастырь штурмом, монахи, сколько могли, отбивались. А когда поняли, что турки вот-вот одержат верх, собрали главные монастырские реликвии и вручили одному монаху, чтобы он, бежав через подземный ход, спас их от поругания. Беглец вышел через лаз на свободу, добрался до леса, но там наткнулся на турок и погиб мученической смертью. Молва причислила монаха к лику святых, а место его гибели — к святым местам. На этом месте растет дерево, сплошь покрытое ленточками, привязанными к веткам. Их — обычно оторвав от своей одежды, — оставляют пришедшие к монастырю. При этом загадывают желание, мысленно обращаясь к монаху-мученику — оно, согласно поверью, должно сбыться. В тот же Старый Крым я ездил с Васей Аксеновым на его зеленой «Волге», а уже к монастырю мы поднимались пешком.
Еще один почти ритуальный для меня маршрут в Коктебеле — подъем на гору Волошина. На ее вершине находится могила Максимилиана Волошина. Прогулка туда и обратно занимает не более двух часов, и делать это лучше в часы заката — чтобы сравнить панораму гор с ее изображением на волошинских акварелях. До этого я считал, что крайне необычная гамма цветов, используемая художником в коктебельских пейзажах, выдумана им — и оказался неправ.
Из того, что запомнилось в тот период, особого внимания заслуживает появление «Арсенала» в Центральном доме литераторов на творческом вечере Василия Аксенова. Тогда Василий Павлович еще не был открытым диссидентом, каковым сделался позднее, став главным идеологом неподцензурного альманаха «Метрополь», написав книги «Ожог» и «Остров Крым», за что и был выслан из СССР в 1980 году. Советская власть всегда недолюбливала его за «левачество» и явное нежелание выслуживаться — в противовес основной массе советских писателей. Он был в числе тех, кого обругал Никита Хрущев на встречах с творческой интеллигенцией в начале 60-х. Но его крайняя популярность в СССР и место, которое он уже занял в истории нашей литературы, делали Аксенова до поры до времени «неприкасаемым». Пользуясь этим, он решил провести свой авторский вечер в ЦДЛ не просто с помпой, а с элементом скандала. Он позвонил мне, предложил поучаствовать с «Арсеналом» в этом мероприятии — и я с радостью согласился: нас сближали любовь к джазу, «стиляжное» прошлое, романтическая тяга к «штатчине» и, главное, неприятие всего тоталитарно-советского.
Несмотря на то что аппаратура, на которой начинал играть «Арсенал», была убогой и малочисленной, состояла, как говорится, «из палки и веревки», нам все-таки требовалось время, чтобы установить и настроить ее. Поэтому мы попросили Аксенова дать указания администрации ЦДЛ пустить нас внутрь заранее, часа за четыре до концерта. (Василий Павлович являлся членом Союза советских писателей, а это означало официальное признание и возможность использовать определенную власть, хотя бы в рамках ЦДЛ.) В оговоренное время мы прибыли со своими колонками-усилителями в святую святых ЦДЛ — актовый зал, смонтировали аппаратуру, начали настраиваться. И по ходу дела заметили, что половина мест в неосвещенном зрительном зале уже кем-то занята, хотя до начала вечера еще более двух часов. Приглядевшись, мы увидели совсем не ту публику, которая посещает ЦДЛ — в креслах сидели «дети-цветы»[35], те самые хиппи, которые просачивались на наши репетиции в ДК «Москворечье». Как им удалось в таком количестве проникнуть сквозь заслоны опытных дежурных ЦДЛ, куда даже в обычные дни невозможно было пройти без членского билета, — до сих пор не понимаю! Зато тогда я сразу понял: дело грозит скандалом!.. Он начал назревать уже с нашего появления на сцене: музыканты «Арсенала» выглядели и держались как типичные хиппи — в джинсе, длинноволосые, с особой манерой держаться и говорить (тогда советским людям образ хиппи был омерзителен в не меньшей степени, чем сейчас образ бомжа новому русскому). А к началу вечера тетеньки-билетерши обнаружили в зале присутствие хиппи — и побежали докладывать начальству. Дальше все произошло быстро: пришел главный администратор Дома и приказал срочно очистить зал. Приказ относился и к хипповой публике, и к нам. Я понял, что спорить бесполезно, мы смотали провода и вынесли аппаратуру с ударной установкой в фойе. Зал закрыли на ключ, а нас хотели выгнать на улицу. Но я сказал, что не могу нарушить уговор с Василием Павловичем, не дождавшись его. И намекнул товарищу администратору, у которого «под пиджаком наверняка были погоны определенного рода войск», что ему грозят неприятности, так как сам Аксенов будет недоволен. Скоро появился Василий Павлович и, узнав о сложившейся ситуации, дал администрации нагоняй. Нас без звука впустили в зал, мы снова все смонтировали и даже успели настроиться. После чего начался творческий вечер.
Состоял он из трех частей. Сперва по традиции на сцене выступил сам виновник торжества, сменяемый друзьями и коллегами, пришедшими выразить уважение писателю. Затем показали отрывки из художественных фильмов, снятых по сценариям Аксенова. Все это время я вместе с ансамблем слонялся по коридорчикам в задней части ЦДЛ или сидел в отведенной нам комнате. Там ко мне неоднократно «подваливал» один из администраторов Дома, некий Семиженов (в народе звавшийся, естественно, Семижповым), пожилой, лысоватый, крепкого телосложения отставник каких-нибудь спецвойск. По долгу службы он был обязан следить за тем, что происходит за кулисами. Но в тот вечер главной его тревогой было, конечно, что и как будут играть эти волосатые люди в таком приличном месте, как ЦДЛ? Ведь, в случае чего, нагоняй получит он, а не Аксенов. Когда он, взяв меня под ручку, мягко обратился с вопросом о том, что же мы будем играть, я понял, насколько его карьера зависит сейчас от меня. Мне даже стало его жалко, несмотря на его отношение к нам еще пару часов назад. Желая его успокоить, я сказал, что мы исполним отрывки из одной оперы — и он вроде бы удовлетворился ответом. Но полностью его тревоги не рассеялись: наша внешность уж больно не вязалась со словом «опера». Через какое-то время он вновь подрулил ко мне и спросил, как бы невзначай, не будет ли наша музыка очень громкой. Мне стало смешно, но виду я не подал, решил отделаться от Семиженова полуправдой: «Нет, что вы. Это будет совсем тихо. Правда, один раз будет очень громко. А потом опять тихо». (Дело в том, что одной из главных причин, по которой тогда набрасывались на рок-музыку, была ее громкость. Советские врачи даже доказали, что ее громкие звуки разрушительно влияют на спинномозговую жидкость и что-то еще.) Но мой ответ, видимо, не удовлетворил Семиженова. Незадолго до начала нашего выступления он еще раз подошел ко мне и сказал, что не чужд искусству и тоже был лауреатом — какого-то довоенного смотра. Оказывается, Аксенов, чтобы снять сомнения по поводу присутствия в Доме рок-музыкантов, сказал ему, что я лауреат международных конкурсов. А слово «лауреат» в советские времена имело смысл почти магический, за ним стояло нечто незыблемое, официальное, признанное. Так что фраза о лауреатстве была как бы скрытой просьбой «не причинить зла коллеге».
По окончании второй части вечера Василий Павлович объявил перерыв и сказал публике, что в третьем отделении выступит джазмен Алексей Козлов и его ансамбль «Арсенал». Народ ринулся в буфет, а мы взялись за отлаживание аппаратуры на сцене. И когда вышли играть, я увидел, что в зале, особенно в первых рядах, расположилась пожилая респектабельная публика, далекая от джаза, не говоря уже о джаз-роке. Впервые в моей практике надо было играть «не в своей тарелке» — чувство не из приятных. Мы начали, как могли, и… произошло неожиданное: после первой пьесы солидную писательскую аудиторию как ветром сдуло, на ее места мигом устроились хиппи, которые дожидались своего часа в закутках ЦДЛ. Концерт пошел, как было намечено: мы сыграли ряд композиций, хитов джаз-рока, затем перешли к исполнению фрагментов из рок-оперы «Jesus Christ Superstar»[36]. И вот здесь образовалась проблема. Стоящий за кулисами тов. Семиженов, осознав, что его подставили, начал подавать мне знак «Давайте заканчивать!». Я пришел в ужас: Аксенов сидел в зале, другой поддержки у меня не было, а исполнить оставалось еще три-четыре арии. Я стал тянуть время, делая вид, что не замечаю знаков администратора, но долго так продолжаться не могло. Дирижируя ансамблем, показывая в ответственных местах, где кому вступать, я стоял спиной к залу, лицом к невидимому из зала Семиженову. Кульминация противостояния попала на арию Иисуса в Гефсиманском саду. Видимо, напряжение в зале и на сцене передалось Семиженову: он приступил к решительным действиям, начал задергивать занавес. В ответ я попытался применить… технику гипноза. Как только он, держась за занавес, делал шаг, чтобы его задернуть, я вместо дирижирования делал мощный пасс двумя руками в его сторону, мысленно внушая Семиженову: «Стой!». Он, как ни странно, замирал. Затем, опомнившись, повторял попытку, а я усилием воли и взмахами рук останавливал его. Это позволило доиграть все намеченное до конца, хотя из зала это смотрелось видимо странно и даже комично — будто я дирижировал кем-то за кулисами. Позднее Аксенов описал этот концерт в романе «Ожог», где, как и положено большому писателю, напридумывал массу ярких деталей и подробностей, а меня вывел под именем Самсона Саблера, одного из героев книги. Но название ансамбля «Арсенал» оставил без изменений — так мы попали в историю антисоветской литературы.
А в 1979 году, когда ансамбль был на гастролях во Владимире, туда приехал Василий Аксенов, чтобы взять у меня интервью, на основе которого он собирался написать статью для журнала «Смена» и таким образом укрепить официальный статус «Арсенала» — что в результате и произошло. Василий тогда придумал для этой статьи заглавие, которое позже я не раз использовал, называя так свои телепрограммы, радиопередачи и даже книгу, — «Джаз, рок и медные трубы».
И еще один дорогой подарок сделал мне Василий Аксенов — посвятил мне стихотворение, позднее включенное им в сборник своих произведений.
Первое выступление нового состава ансамбля «Арсенал» состоялось в «Форте»[37] 9 июля 2009 года в день похорон Василия Аксенова. Панихида проходила в Центральном доме литераторов. Гроб стоял на той самой сцене, где в январе 1974 года прошел скандальный творческий вечер Васи, в котором участвовал созданный мною за три месяца до этого «Арсенал». А в этот день вдоль улицы Герцена от площади Восстания до ЦДЛ медленно двигалась очередь пришедших проститься с любимым писателем, символом «шестидесятников». Это были немолодые, суровые люди, закаленные жизнью в соцлагере. Аксенов своей смертью объединил их на один день в нечто цельное, не разбавленное обывателями и партфункционерами.
Для меня Василий Аксенов всегда был своим, джазменом, и не в узком музыкальном смысле, а в общечеловеческом. Он обладал даром импровизации, потрясающим чувством драйва, был абсолютно независимым от догм и властей, органически не терпел приспособленцев и не мог быть частью толпы. А наследие Аксенова по стилистическому многообразию сравнимо с тем, что сделал в джазе не раз упомянутый мной Майлз Дэйвис[38].
Думаю, среди известных советских писателей послевоенного поколения вряд ли кто перенес в детстве психологические травмы, подобные описанным в последней книге Василия Аксенова «Ленд-лизовские». То, что все дети, родившиеся в 30-е годы, в одночасье повзрослели 22 июня 1941 года, уже не раз отражено в литературе и кинофильмах советского периода. Но так остро, как в книге Аксенова, это, мне кажется, не передал никто. Главное же, что Василий, после всего, что сделала советская система с ним и его близкими, нашел душевные силы простить эту власть, встать поверх ненависти. В своих последних интервью он прямо говорил, что всегда мечтал вернуться в Россию. Он осуществил эту идею, обосновавшись в квартире в высотке на Котельниках. Позже он приобрел дом в Биаррице, но последние годы провел в Москве, врастая в культуру, абсолютно для него новую, с иным языком и эстетикой. Для писателя-эмигранта это был подвиг — переосмыслить жизнь и возродиться для нового российского читателя на новом творческом витке.
Я помню, как Аксенов позвонил мне в один из первых приездов в Москву, где-то в конце 80-х, на волне горбачевской перестройки, и попросил отвезти в Серебряный Бор. У него еще не было в России собственного автомобиля, а у меня уже были «Жигули». В летний воскресный день мы поехали по Хорошевке, но перед въездом в Серебряный Бор дорога оказалась перекрытой ГАИ. Мы оставили машину неподалеку от шлагбаума, пешком перешли то, что условно можно назвать мостом, и очутились в Серебряном Бору. В советские времена там, наряду с домиками местных жителей, возникли дачные участки, где разрешали селиться только известным ученым и писателям, а также генералам и партийным функционерам. И это место стало типично советским «блатным» поселком.
Я не понимал, почему Вася попросил привезти его сюда. Но едва мы вступили на первую улочку между дачными заборами, он объяснил, что, живя в Вашингтоне, работал над романом «Московская сага», в котором действие разворачивается в огромном доме в Серебряном Бору, где выросло несколько поколений известной семьи, пережившей все повороты советской истории. Работая над романом, Василий мысленно представлял, как выглядит этот дом. Мы долго бродили по поселку, но Аксенов никак не мог найти хоть что-то похожее на его вымысел. И вдруг, указав на двухэтажный деревянный особняк, стоящий за забором на большом участке, воскликнул: «Вот этот дом! Таким я себе его и представлял!». Он сразу успокоился, и мы уехали.
Прилетев в Москву в начале 90-х, Вася попросил меня сводить его в типичное «злачное место», где проводит время молодежь. Ему необходимо было понять тех, кому предстоит жить в новой России. Тогда одним из таких мест была дискотека «Ред зон» в районе спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском шоссе. Сам я в «Ред зон» ни за что не сунулся бы, поскольку там собиралась «урла» из Подмосковья и можно было оглохнуть от грохота совковой «попсы». Но для Васи я решился… В громадном бывшем цеху какого-то предприятия стояли подсвеченные софитами высокие узкие клетки из прозрачного плексигласа. В каждой из них извивались голые девушки. Василий, увидев это, слегка обалдел и сказал, что даже в Америке такое невозможно.
Первые визиты в Москву принесли ему, как мне показалось, массу разочарования, несмотря на горячий прием, оказанный старыми друзьями и литературно-театральной общественностью. Особенно его поразили обилие вещевых рынков, «челноки», наперсточники, карманники, кидалы и, конечно, рэкет, «крышевания», заказные убийства и бандитские разборки прямо на улицах города. По-моему, именно он выдумал термин для всего этого — «караванный капитализм». Тем не менее Аксенов преодолел разочарование и углубился в познание культуры, ушедшей в подполье гораздо более глубокое, чем при большевиках. И довольно быстро освоился в этом пространстве… К слову, аксеновская способность к всепрощению помогла и мне избавиться от ненависти ко всему советскому хрущевско-брежневских времен. (Простить или забыть сталинизм невозможно. Он — за рамками человеческой морали, он, скорее, проявление высших сил Зла.)
…Сидя на сцене ЦДЛ у гроба и предаваясь воспоминаниям, я дожидался последнего оратора, поскольку с Борей Мессерером, который вел церемонию, был уговор, что в самом конце я выйду и сыграю, завершу прощание коротким джазовым фрагментом. Когда начал говорить выступающий последним писатель Александр Кабаков, я прошел в комнату, где оставил саксофон, и, встав с ним за кулисой, стал ждать, когда Борис Мессерер объявит меня. После чего направился к микрофону, но тут произошла заминка: оказалось, вдоль занавеса за постаментом с гробом к микрофону пробирается неожиданно приехавший Евтушенко. Мы с Борей переглянулись, он пожал плечами, и я отступил в глубь сцены, дав Евтушенко выступить. А Женя вместо краткой прощальной речи, сначала прочел свое стихотворение, а затем сделал длинный доклад с анализом творчества Аксенова. В общем, концовка панихиды оказалась затянутой. Я все-таки сыграл короткий фрагмент из любимой Васей баллады Телониуса Монка «Round Midnight»[39] — на этом церемония закончилась.
После панихиды траурная процессия двинулась на Ваганьковское кладбище, а я направился в клуб «Форте» на первый концерт нового состава «Арсенала». Таким, полным волнений, выдался для меня день 9 июля 2009 года.
7 октября 2010 года во «Дворце на Яузе», что у метро «Электрозаводская» (бывшем «Телевизионном театре», незадолго до этого начавшем новую жизнь), состоялся концерт «Аксенов-джаз». Его задумал, организовал и провел Владимир Каушанский — один из немногих оставшихся в строю джазовых критиков, умеющих общаться с большой аудиторией, делать краткие комментарии об исполняемой музыке, представлять выступающих. Концерт был литературно-джазовым, поскольку в нем приняли участие не только джазмены, но и писатели, а также актеры, дружившие с Василием Павловичем. В зале собралась публика преимущественно из людей старшего поколения, поклонников Аксенова. Вновь, как и на его похоронах, меня поразило исходившее от них (и объединявшее этих людей) горькое и мужественное осознание того, что 60-е годы были замечательным временем, несмотря на горечь разочарований, откат к сталинизму и необходимость вести двойную жизнь.
29 ноября 2010 года ушла из жизни Белла Ахмадулина. Зная, что мы с ней многие годы были близки по духу, мне в тот же день позвонили с нескольких радиостанций и телеканалов с просьбами о коротких интервью по этому печальному поводу. Во время одного из них мне вдруг пришла мысль, что наше поколение нужно называть не «шестидесятниками», а «обманутым поколением». Еще точнее: «обманувшимся». После хрущевских разоблачений культа личности, амнистии политзаключенных и ряда других обнадеживающих действий власти — многим, и мне в том числе, показалось, что наконец-то при социализме жизнь станет свободнее. Эта вера вызвала всплеск творческих сил в жизни страны, особенно заметно — в области культуры. Засияли имена Ахмадулиной, Аксенова, Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Окуджавы, Гладилина. Но после одиозных встреч Хрущева с творческой интеллигенцией наступило разочарование. Часть писателей и поэтов стала делать вид, что согласна с партийной идеологией, хитрить, чтобы выжить, внутренне не отходя от своих убеждений. Я говорю это лишь для того, чтобы было понятнее, как сложно пришлось тем, кто ни разу не сфальшивил. Ими были, на мой взгляд, лишь двое: Белла Ахмадулина и Василий Аксенов.
Владимир Войнович
Нас объединяли возраст и общность судьбы
Поздний возраст — это сомнительный подарок судьбы, когда все чаще приходится писать некрологи и воспоминания об ушедших. А тех, с кем жил рядом, работал, встречался, выпивал, вел разговоры «за жизнь», дружил и враждовал, ушло уже в иное измерение столько, что если даже вскользь упомянуть, сложится не одна страница. И все меньше остается тех, кому будет что вспомнить о задержавшемся дольше других.
С Васей Аксеновым меня объединяли возраст и общность судьбы. У него были репрессированы оба родителя, у меня только отец, но и этого было достаточно, чтобы осмысление действительности началось рано и развивалось в определенную сторону. Мы с детства стали постигать истину, что советская власть не лучший из всех возможных способов управления государством и организации жизни народа.
В 1960 году я, будучи начинающим литератором, еще практически не печатался и, естественно, следил не только вообще за современной литературой, но и главным образом за достижениями опередивших меня молодых писателей. К тому времени Анатолий Кузнецов слыл уже маститым писателем, Толя Гладилин, будучи на три года младше меня (а тогда три года разницы в возрасте еще казались вполне ощутимыми), напечатал две нашумевшие повести, и со своими «Коллегами» выступил Василий Аксенов. А я еще был никем. Я вчитывался в тексты своих преуспевших сверстников, пытаясь понять, есть ли у меня шанс дотянуться до их уровня. Но вот, наконец, в «Новом мире» вышла моя повесть «Мы здесь живем», публика меня заметила, критики тоже не обошли вниманием: ругали, хвалили, вставили в «обойму» имен, перечисляемых в многочисленных статьях о современной литературе. Мне захотелось поближе познакомиться с состоявшимися до меня, и, увидев однажды в ресторане Дома литераторов Аксенова и Гладилина, я присел к ним за столик, представился и сказал: «Ребята, хочу с вами дружить». На что Гладилин отреагировал недоуменным взглядом, а Аксенов великодушно-иронической фразой: «Ну что ж, похвальное намерение». После чего дружба осуществилась, но нельзя сказать, чтобы очень уж тесная. Тесно продолжали дружить Аксенов с Гладилиным и та группа, которую Василий описал в романе «Таинственная страсть». Но все-таки мы жили рядом, по соседству забегали друг к другу, собутыльничали в ресторане ЦДЛ и помимо. Я в те годы выпивал крепко, но не когда работал. Однажды писал рассказ, который мне трудно давался. Писал, не пил, злился, предвкушал, что вот закончу и тогда уж ни в чем себе не откажу. Закончил рассказ, понесся в ЦДЛ, а там ресторан полупуст, ни одного знакомого лица, а я пить в одиночку совсем не умел. Вдруг навстречу Аксенов, с каким-то незнакомцем. Я обрадовался:
— Вася, почему бы нам не выпить?
А он:
— Извини, старик, завязал.
Кажется, это был исторический момент, когда он «завязал» практически навсегда. Последние годы позволял себе сухое вино в умеренном количестве. А тогда очень меня огорчил. Он отказался, а незнакомец сказал:
— Давайте, я с вами выпью.
И мое возражение, что я не привык пить с незнакомыми, легко парировал:
— Выпьем, познакомимся.
Так я познакомился с бывшим работником уголовного розыска и тогда только начинавшим писателем детективов Николаем Леоновым. Милицейскую зарплату он уже потерял, а гонорары были еще впереди, поэтому пока рассчитывал на «халяву». Впрочем, знакомство наше одной выпивкой ограничилось, потому дальше и рассказывать нечего.
Хотя судьбы наши поначалу были похожи, потом мы жили очень по-разному. Васю с юности манили Америка, джинсы, джаз, вообще Запад, доступной разновидностью которого были во времена нашей молодости прибалтийские столицы, в первую очередь Таллин. Делая в литературе первые шаги, Аксенов, Гладилин и другие авторы «Юности» равнялись на какие-то западные образцы, и когда возникла возможность бывать на западе, охотно ею пользовались, а «новомирцы» Владимов, я и, само собой, «деревенщики» учились у русских классиков, Платонова ценили выше Хемингуэя, джинсами и джазом не увлекались. Когда многие уже побывали на Западе, я туда никак не стремился, что могу объяснить не посконным патриотизмом, а общей недоразвитостью и отвращением к обязательному прохождению через идеологические комиссии, где кандидату на выезд предстояло отвечать на дурацкие вопросы о том, из скольких пунктов состоит моральный кодекс строителей коммунизма, когда состоялся какой-то съезд КПСС и как фамилия генерального секретаря компартии той страны, куда собираешься ехать.
В конце шестидесятых годов, с ареста Синявского и Даниэля[40], начались события, неизбежно приведшие нас в диссидентство. Васиным Рубиконом оказался альманах «Метрополь», затеянный им совместно с Виктором Ерофеевым и Евгением Поповым. Тут между нами пробежала жирная кошка. Мне в альманахе места не нашлось, поскольку его создатели, надеясь обмануть советскую власть своей мнимой лояльностью, никого из литераторов, исключенных из Союза писателей и числившихся в диссидентах, в свою компанию не пригласили. Неприглашенными оказались Лидия Чуковская, Лев Копелев, Владимир Корнилов, Георгий Владимов и я. Основатели альманаха, включив в число своих авторов тогда практически непечатавшихся Высоцкого, Сапгира, Горенштейна и прочих, считали свою затею смелой, а я ее счел конформистской, что и высказал одному из метропольцев. Сейчас те наши разногласия, может быть, выглядят несерьезно, но тогда многое воспринималось болезненно. Тем не менее, когда Аксенов улетал в Америку, я был среди провожавших его в Шереметьево, а потом уже, когда и сам оказался за границей, мы наши дружеские отношения восстановили. Из времени, проведенного в эмиграции, один год я прожил в Вашингтоне или, как Васины друзья шутили, в Васингтоне, там мы часто общались вдвоем и в составе тамошней эмигрантско-литературной компании. Потом я несколько раз приезжал в Вашингтон и, бывало, останавливался у Аксеновых, а Вася и Майя, когда первый раз приехали в Москву и еще не имели собственной крыши, жили у меня в Астраханском переулке, где я получил квартиру взамен той, что оставил, отправляясь в эмиграцию.
Надо сказать, что дружба наша, продолжаясь много лет, не была слишком тесной, потому что наши литературные вкусы и пристрастия не совсем совпадали. Собственно, о литературе мы с ним никогда не говорили, не обменивались текстами, не выясняли мнения друг друга о том, что писали. Поэтому, вернувшись из эмиграции, мы, продолжая относиться друг к другу вполне дружелюбно, встречались и общались крайне редко.
То, что мы с Аксеновым представляли в литературе разные направления, было очень заметно и наводило некоторых критиков на ложные выводы. В 2004 году я был председателем жюри Букеровской премии, а Аксенов с его романом «Вольтерьянцы и вольтерьянки» одним из номинантов на премию. Какой-то критик, оценивая шансы шести претендентов, попавших в шорт-лист, написал в своем прогнозе, что при данном председателе жюри у Аксенова нет никаких шансов. Теперь я могу признаться, что при первом чтении у меня к роману Аксенова было много претензий и я сомневался даже, стоит ли его включать в короткий список. Но на первом же заседании другие члены жюри дружно выступили за Аксенова, и я понял, что у меня нет достаточных аргументов для возражений. К следующему заседанию я перечитал роман. Нашел в нем больше достоинств, но все еще сомневался. Но и на этот раз все члены жюри высказались за роман, и было бы глупо мне, единственному, выступить против. Потом председатель Букеровского комитета Игорь Шайтанов[41], принимавший участие в нашем заседании, но не голосовавший, заметил: вот как я ловко настроил членов жюри на полное единодушие по кандидатуре Аксенова, хотя на самом деле все было наоборот.
Букеровская церемония, как всегда, сочеталась с торжественным ужином, на котором главными гостями были номинанты, вошедшие в шорт-лист. Председатель жюри должен назвать лауреата в конце ужина. Аксенов за столом оказался рядом со мной и иногда бросал на меня пытливые взгляды. Но я себя не выдал до тех пор, пока мне не дали слово.
Честно говоря, я даже не ожидал, каким подарком станет премия для лауреата. Оказалось, что он, один из самых знаменитых русских писателей, не имел до того ни одной литературной премии, а теперь был счастлив, что наконец-то отмечен. И я был рад, что жюри выбрало именно его.
Повторюсь. Мы с Аксеновым, несмотря на схожесть судеб и многолетнее товарищество, не были литературными единомышленниками. Мне в свое время нравились его рассказы «На полпути к Луне», «Дикой», «Завтраки сорок третьего года», «Товарищ Красивый Фуражкин», некоторые главы «Ожога», «Остров Крым», но были и тексты, которые оставляли равнодушным. И «Вольтерьянцев» я не отношу к аксеновским вершинам, но все-таки по совокупности он заслужил право на национальное признание, подтверждением чего и стала для него Букеровская премия. Хотя совокупность при ее присуждении обычно не учитывается.
Один из рассказов Аксенова назывался «Жаль, что вас не было с нами». Перефразирую: как жаль, что его уже нет с нами (хотя жалеть, что мы еще не с ним, пока воздержусь). Он любил повторять выражение в переводе с английского: умереть значит присоединиться к большинству. Он уже присоединился, а нам еще предстоит присоединиться к нему. Или как писал Окуджава: «Ненадолго разлука — всего лишь на миг, а потом отправляться и нам по следам по его по горячим»…
Бенедикт Сарнов
И тут Вася сказал…
7 ноября 1961 года мы с женой, вопреки установившейся традиции, оказались в несколько необычной, не совсем своей компании.
«Своей» для нас в то время была прочно сбившаяся компания друзей по «Литгазете», в которой мы — кто штатно, а кто внештатно — тогда работали. И так уж повелось, что на праздники все мы неизменно собирались у кого-нибудь из нас, чьи квартирные условия это позволяли.
Сборища эти были шумными, многолюдными. Звенели бокалы. Произносились длинные витиеватые тосты. Пел Булат первые, самые ранние свои, только что родившиеся песни. И там же появились и первые их магнитофонные записи. (Один из «литгазетцев», Юра Ханютин, уже обзавелся тогда собственным, тяжеловесным, неуклюжим магнитофоном «Днепр». Вот на нем эти булатовские песни и были впервые записаны.)
Неизменными участниками этих сборищ были ближайшие мои друзья — Эмка Мандель, Володя Корнилов, Боря Балтер, Лазарь Лазарев, Стасик Рассадин, Инна Борисова…
А в тот праздничный вечер 1961-го, о котором я сейчас вспомнил, компания, в которой мы с женой оказались, была другая. И не такая многолюдная, и не такая «своя»: Толя Гладилин с женой (именно у него на квартире мы тогда и собрались), Вася Аксенов с Кирой, Стасик Рассадин с Алей и Юра Овсянников (с ним мы и вовсе были тогда едва знакомы).
Затащил нас в эту компанию Стасик, который как раз в это время ушел из «Литгазеты» в «Юность» и сразу сдружился с любимыми авторами этого журнала. А что касается Васи Аксенова, то в него он просто влюбился.
В том, что «литгазетские» наши сборища запомнились мне гораздо лучше, чем это, нет ничего удивительного. И вышло так не только потому, что они были постоянной краской тогдашней моей жизни, а это — коротким и, по правде сказать, довольно-таки случайным эпизодом.
Тут дело было еще в том, что в тех «литгазетских» наших сборищах было гораздо больше острого, яркого, выразительного, а потому и прочно врезавшегося в память.
Взять, например, хоть такой эпизод.
Оказавшийся в нашей компании Михаил Матвеевич Кузнецов («Михмат», как все его звали) вспомнил свою ифлийскую юность и разговор, который зашел однажды меж сокурсниками в их студенческом общежитии. Речь шла о том, как каждый из них представляет себе свое будущее, кем хотел бы стать, чего достичь в жизни. Кто-то сказал, что хотел бы стать поэтом. Кто-то — что мечтает о научной карьере и в будущем видит себя профессором. А один из однокурсников Михмата — Шурик Шелепин — твердо и уверенно объявил:
— А я буду секретарем ЦК.
В то время, когда Михмат рассказывал нам об этом их давнишнем разговоре, Шурик Шелепин («Железный Шурик», как все его тогда называли) был уже членом Политбюро и поговаривали, что вот-вот станет Первым (и даже не Первым, а Генеральным) секретарем ЦК. Что дало мне повод тут же выскочить с тостом:
— Так выпьем же за нашу прекрасную страну, в которой все мечты сбываются!
Не могу забыть еще и такой эпизод из тогдашних наших праздничных посиделок.
В неожиданно вспыхнувшем политическом споре кто-то из нас позволил себе непочтительно выразиться о руководителях французской Компартии — Жаке Дюкло[42] и Марселе Кашене[43]. Услышав это, жена моего друга Лазаря Ная заплакала. Ее отец был старым коминтерновским работником, и в их семье сохранялся не то чтобы культ, но, скажем так, — пиетет по отношению к этим старым вождям мирового коммунистического движения, и стерпеть оскорбительного, глумливого тона по отношению к этим своим кумирам Ная не смогла. И тут к ней подсел, слегка, конечно, уже поддавший, Дезик Самойлов и, погладив ее по голове, сказал:
— Плачь, девочка, плачь! Кто еще поплачет об этих мерзавцах!
Ничего похожего на то, что происходило на «гладилинском» нашем застолье, я вспомнить не могу. Собственно, я вообще ничего не могу о нем вспомнить.
Кроме одной реплики Васи Аксенова.
В какой-то момент, встав из-за стола и подойдя к окну, за которым сеялся с самого утра зарядивший и ни на минуту не прекращавшийся унылый осенний дождь, он с нескрываемым удовольствием и даже не без некоторого злорадства произнес:
— А праздничная демонстрация у большевиков сегодня, надо полагать, провалилась.
Высказать ту же мысль и даже с тем же эмоциональным настроем мог тогда, наверно, каждый из нас. Но придать ей такое стилистическое, словесное оформление («у большевиков») мог только он, Вася.
На одной из знаменитых хрущевских погромных «встреч руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции» особенно круто досталось Аксенову и Вознесенскому. О том, как все это было, я во всех подробностях узнал тогда от них самих.
Поэт, как сказала Марина Цветаева, издалека заводит речь. В точном соответствии с этой формулой, Андрюша Вознесенский, когда его позвали на трибуну, начал свое выступление так:
— Я, как и мой великий учитель Владимир Маяковский, не член партии…
Дальше он, естественно, собирался сказать, что, как и его великий учитель, он всей душой, всем сердцем… Ну, и так далее…
Замысел был хорош. Одна только была у него ахиллесова пята: он не учитывал бешеного, взрывного темперамента Никиты Сергеевича Хрущева. Не дав Андрею развернуть замысленный им элегантный ораторский прием, Никита прервал его:
— Ах, не член? Не член партии? Да?.. И ты этим гордишься, да?.. Ну, так вот, на тебе паспорт — и езжай к своим заокеанским хозяевам!..
С Васей Аксеновым вышло примерно так же. Оказавшись на трибуне, он начал с того, что его отец, старый коммунист, был несправедливо репрессирован, отсидел семнадцать лет в сталинских лагерях… Вероятно, дальше он собирался выразить свою благодарность партии и лично Никите Сергеевичу за то, что они разоблачили культ личности Сталина, восстановили ленинские нормы партийной и государственной жизни и вернули ему отца. Но Никита Сергеевич и тут не стал дожидаться окончания этой сложной риторической фигуры. Прервав бедного Васю на полуфразе, он заорал:
— А-а! Так ты, значит, мстишь нам? Да? Мстишь за отца?!
Вася так ошалел от этого неожиданного обвинения, что, стоя перед микрофоном, только и мог тупо повторять:
— Кто мстит-то?.. Кто мстит-то?..
Это мне рассказал Андрей, который во время Васиного выступления еще сохранял чувство юмора. Что касается самого Васи, то он, рассказывая мне об этом, только закрывал в ужасе глаза, вспоминая, каково ему было стоять на трибуне, когда весь президиум в полном составе, главные люди государства, налившись багровым румянцем, стали улюлюкать и материть его, продолжая травлю, начатую паханом.
Зимой 1965 года мы со Стасиком Рассадиным вдвоем поехали в Дубулты, чтобы всласть поработать. Месяц спустя там собралась уже целая наша колония: к нам присоединились Аксенов, Войнович, Фазиль Искандер, Боря Балтер…
Именно там Войнович прочел нам первые главы своего «Чонкина»[44], от которых мы со Стасиком пришли в восторг и довольно шумно этот свой восторг выражали, чем, как вскоре выяснилось, вызвали у Васи некоторую ревность.
— Вот присяду как-нибудь к подоконнику, — хмуро сказал он нам однажды, — и тоже напишу что-нибудь замечательное.
А на другой день, заглянув в комнату Стасика, где мы работали, снял с книжной полки привезенный Стасиком из Москвы томик В.В. Розанова, повертел его в руках, поставил на место и задумчиво сказал:
— Бляди! Какую страну загубили!
Не выходя из состояния этой задумчивости, вернулся к себе и, «присев к подоконнику», быстро, без помарок, написал — и в тот же вечер прочел нам — один из лучших своих рассказов: «Победа».
Весной 1990 года мы с женой оказались в Америке, в Вашингтоне. И радостно встретились там с друзьями, с которыми уже и не чаяли увидеться на этом свете. С Войновичами, которые, собственно, и устроили нам эту поездку, мы уже пообщались раньше, дважды побывав у них в Мюнхене. А с Аксеновыми за минувшие десять лет их эмиграции встретились впервые.
Были и другие, не такие бурные, но тоже радостные встречи с бывшими москвичами, волею обстоятельств ставшими «американцами».
Встретились мы и быстро сблизились и с некоторыми из «американских русских», с которыми в прежней, доамериканской их жизни, нам встречаться не приходилось, хотя имена их нам были знакомы. Самым впечатляющим из этих новых знакомств было знакомство с хорошо нам известным по «вражеским» радиоголосам югославским философом русского происхождения Михайло Михайловым, который сразу, с первой же нашей встречи, стал для нас Мишей.
Встречались мы тогда — и со старыми нашими друзьями, и с новыми знакомцами — практически ежедневно, и немудрено, что все эти встречи вспоминаются мне как некий единый поток непрерывно длящегося праздника.
Все — кроме одной.
Эта единственная из тогдашних наших встреч, стоящая в моей памяти отдельно от всех прочих, случилась на Пасху.
Обстоятельство для меня не больно существенное. Но в этом случае оно важно для моего рассказа.
Собраться мы должны были — и собрались — у Аксеновых. Мы — это Войнович и я с женами, Миша Михайлов с женой и только что приехавшей из Москвы тещей, Илья Левин (тоже из новых наших знакомых, «американских русских»), Элендея Проффер.
В аксеновский таун-хауз все мы явились вовремя, без опозданий. Опоздали только хозяева. Это, впрочем, было оговорено: Вася и Майя заранее предупредили нас, что могут задержаться, поскольку сперва поедут в церковь и не знают, когда закончится пасхальная служба.
Ждать их нам особенно долго не пришлось, явились они вскорости, но в каком-то странном, совсем не праздничном настроении. Особенно мрачен был Вася.
Причина этой его мрачности, как тут же выяснилось, была такая.
Обратившись в православие, Вася сблизился и даже подружился с местным священником (мне помнится, что фамилия его была Потапов). А в тот день он узнал, что этот его друг и духовный наставник принял и даже обласкал только что прибывших в Вашингтон наших фашиствующих «неославянофилов», «руситов», как они себя называли — Куняева, Олега Михайлова, Бородина, еще кого-то, сейчас уже не помню, кто был в этой их зондеркоманде.
Вася был по этому поводу в растрепанных чувствах и твердо сказал, что на своей дружбе с Потаповым ставит крест.
Мы его, как могли, успокаивали, утешали, говорили, что американский священник вовсе не обязан знать, что представляют собой эти явившиеся к нему с визитом наши черносотенцы. Но Вася был неумолим. Нет, дружбу его с Потаповым после того, что случилось, уже не восстановить.
И мрачно заключил:
— Перейду на хуй в католичество.
В Васином романе «Остров Крым» есть одна замечательная, на первый взгляд не слишком существенная, даже совсем не существенная, а на самом деле очень многозначительная подробность. Отец главного героя романа Арсений Лучников-старший, «один из немногих оставшихся участников Ледяного Похода», а ныне — один из самых влиятельных людей на «острове», миллионер-коннозаводчик, которому сулят даже должность Председателя Временной Думы, то есть практически крымского президента, «лет десять назад, когда бурно разрослись в Восточном Крыму его конные заводы», выстроил себе прямо под скальными стенами Пилы-Горы роскошную виллу. Не виллу даже, а гигантскую резиденцию. И назвал ее — «Каховка». Эту странную причуду старика автор объясняет так:
«Резиденция Лучникова-старшего называлась «Каховкой» неспроста. Как раз десять лет назад Андрей привез из очередной поездки в Москву несколько грампластинок. Отец снисходительно слушал советские песни, как вдруг вскочил, пораженный одной из них.
Отец прослушал песню несколько раз, потом некоторое время сидел молча и только тогда уже высказался:
— Стихи, сказать по чести, не вполне грамотные, но, как ни странно, эта комсомольская романтика напоминает мне собственную юность и наш юнкерский батальон. Ведь я дрался в этой самой Каховке… И девушка наша Верочка, княжна Волконская, шла в шинели… по горящей Каховке…
Прелюбопытным образом советская «Каховка» стала любимой песней старого врэвакуанта. Лучников-младший, конечно же, с удовольствием подарил отцу пластинку… Арсений Николаевич сделал магнитную запись и послал в Париж, тамошним батальонцам: «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались…» Из Парижа тоже пришли восторженные отзывы. Тогда и назвал старый Лучников свой новый дом на Сюрю-Кая «Каховкой»…»
Таким вот чудесным образом светловские комсомольцы стали юнкерами, их девушка «в походной шинели» обрела черты княжны Верочки Волконской[45], а сама знаменитая советская песня предстала перед нами неким подобием шлягера, обретшего популярность как раз вот в эти самые времена аксеновского «Острова Крым»: «Раздайте патроны, поручик Голицын! Корнет Оболенский, налейте вина!»
Аксенов был едва ли не первым, кто стал оттуда, из новой, эмигрантской своей жизни — по «Голосу Америки» или по «Свободе» — приучать нас к давно забытому, отчасти даже комическому в тогдашних наших жизненных обстоятельствах обращению — «господа». По всем его высказываниям в то время, да и по тому же «Острову Крым», яснее ясного было видно, что он полностью расплевался со всем своим советским прошлым. Без тени сожаления он перечеркнул, напрочь вычеркнул из своей жизни все, что связывало его с прежним, советским его бытием.
Все — кроме «Каховки».
С «Каховкой» он расстаться не пожелал.
Или — не смог.
В девяносто пятом мы с ним вместе были в Самаре. Там проходила какая-то научная конференция по проблемам эмигрантской литературы. Мы приехали туда вчетвером: Аксенов, Войнович, известный немецкий славист Вольфганг Казак и я. Для местных властей конференция эта, как видно, была весьма важным событием, и принимали нас по высшему разряду. Организовали даже прогулку по Волге на маленьком теплоходике, щедро нагруженном яствами и напитками, — традиция, сохранившаяся, видать, еще со старых, обкомовских времен. Впрочем, целью этой поездки был не только пикник. Профессор Казак где-то тут неподалеку, под Самарой, в 1945 году провел несколько месяцев в лагере для военнопленных. Ему хотелось полвека спустя вновь посетить эти места.
И вот плывем мы на этом теплоходике, наслаждаемся прекрасной речной прогулкой, и вдруг — уж не помню, как это началось, — кто-то из нас (не могу поручиться, что Вася, но скорее всего именно он) затянул:
Сперва пели вроде как невсерьез. Даже как бы с некоторой насмешечкой. Но постепенно вошли во вкус, об иронии забыли и закончили весело, браво, я бы даже сказал — с полной душевной отдачей:
Потом спели «По долинам и по взгорьям»:
Потом — «Каховку». Потом — «Орленка»[46]. Потом — совсем грустную, но тоже любимую:
И надо было видеть, какой кайф (невольно перешел на аксеновскую лексику) получал от всего этого Вася. Он просто млел от наслаждения.
Это так меня удивило, что я, помнится, даже не удержался и, воспользовавшись короткой паузой, спросил: неужели он и в самом деле сохранил в душе любовь к этим старым песням?
Закрыв глаза и покачивая головой («нет-нет», как Ван Клиберн за роялем), он ответил одним словом:
— Обожаю!
На другой день после этой нашей речной прогулки мы втроем (Аксенов, Войнович и я) выступали перед большой аудиторией жителей города Самары. Зал был полон. И градус интереса к двум звездам, вернувшимся из изгнания на родину, был высок. Их не только слушали, затаив дыхание, но и засыпали вопросами, записками.
В одной из записок у Войновича спросили, где ему было жить комфортнее: в Германии или в Америке.
Он ответил, что Германия для него была хороша тем, что от нее — ближе к дому, к России. А Америка уж больно далека. Но у нее — другое преимущество. Это — страна эмигрантов.
— В Германии я постоянно чувствовал и чувствую себя чужаком, иностранцем, — сказал он. — А в Америку только приехал и уже через три месяца почувствовал себя без пяти минут американцем.
И тут Вася усмехнулся и сказал:
— Вот так ты проживешь там год, два, десять, двадцать лет, — и все будешь чувствовать себя без пяти минут американцем.
Евгения Гинзбург
(Из путевых записей 1976 г.)[47]
18/8
Выезжаем с Белорусского. Вагон непредвиденно оказывается очень неудобным. Узенькое, как пенал, купе. Вагона-ресторана нет. Так что роскошная жизнь не начинается с дороги. Ночью не уснула совсем из-за перевозбуждения последних дней.
19/8
С утра — Брест. Проверка паспортов, таможенный осмотр. Таможенница — девица типа Галины Борисовны[48] — особенно не придирается, в чемоданы не лезет.
— Наркотики везете? Литературу? Золото? Как нет, а это что? — зорко уловила цепочку под блузкой…
В Бресте поезд долго переформировывается. И вот свершилось: впервые за долгую мою жизнь я пересекаю границу любезного отечества.
Польша. Полузабытое видение: крестьянин, идущий за плугом, личные участки обработанной земли. Польша вся плоская, ни пригорочка. И большая. Гораздо просторнее, чем думалось.
Польские пограничники и таможенники ничем не отличаются от наших, — и приемы работы и даже язык (русский).
Уже в темноте подъезжаем к ГДР. Поражает безлюдность и неосвещенность городов. Но и сам Восточный Берлин долго тонет в непроглядной тьме — до тех пор, когда светлым островком не предстанет перед нами Александерплац. Но даже и на этом островке свет какой-то мертвенный. И полное безлюдье в десять часов вечера. На остановке видим станцию Штадтбана[49]. Перед нами проходят несколько вагонов с усталыми немногочисленными пассажирами.
Но вот, наконец, перед нами главная достопримечательность Восточного Берлина — стена! Наяву она выглядит еще более зловеще, чем во сне.
Какой-то неуловимый поворот — и перед нами яркие рекламные огни, разноцветные автомобили, быстрое напряженное движение современного большого города. Берлин-Вест. Опять дотошная гэдээровская проверка паспортов. В эту ночь ГДР не дает глаз сомкнуть. Четыре «пасконтроле». Из Польши — в ГДР, из ГДР — в Западный Берлин, при выезде из него — опять, при переезде в ФРГ — снова. Гэдээровские контролеры куда старательнее наших и польских. Кроме них, никто не сравнивает так въедливо ваше лицо с фотографией на паспорте.
20/8
Васино рожденье. 44 года. Увы, даже мой младший сын уже не молод.
С утра за окном плывет ФРГ — первый каппейзаж, который я вижу из окна.
Поезд идет, будто нарочно медленно, и мы довольно основательно присматриваемся к Эссену, Аахену и даже Кельну.
Но вот в поезде уже звучат веселые приветливые голоса бельгийцев. За окном Бельгия. Она как андерсеновская сказка. Маленькая, городок цепляется за городок. Из больших городов проезжаем Льеж.
3 часа 20 мин. Париж. Гар дю Норд[50].
Мы инкогнито, и встречают нас только Леон Робель и его друг — какой-то поэт. Без носильщика, на тележке перетаскиваем багаж в машину. Свершилось: не во сне, а наяву я еду по улицам Парижа и вижу не на открытках Нотр-Дам, Тур де Монпарнас, бульвар Распай. Отель «Л'Эглон». Вечером — с корабля на бал — празднуем у Робелей Васино рожденье. Приходит Т. Гл.[51] с женой.
21/8
С утра — телеграф, кафе. Появляется из Лондона Ольга Хай. Вечером — вторичное празднование Васиного рождения. Приходит Володя М.[52] Днем мы были в Люксембургском саду. Московские разговоры с В.[53]
22/8
Воскресенье. Париж тих, светел, очарователен. Брожу одна по центру города и узнаю его. Знаю, что за углом — памятник Бальзаку работы Родена.
В Париже масса черных и желтых. К часу дня за нами машина. Это внучка первых эмигрантов Ксения Рыженкова. По крови русская, родилась в Калифорнии, живет в Париже. По-русски говорит с большим акцентом.
Едем в Нотр-Дам. Ставлю две свечки — за себя и за Ирину Ал., как обещала. Глубокое внутреннее убеждение, что я уже была здесь. Глубокое чувство благодарности за то, что все это не во сне. Витражи. Месса. По-французски и по-латыни. В толпе масса негров, вьетнамцев. Вокруг все языки, кроме русского. Горько. Сент-Шапель. Витражи еще ювелирнее, чем в Нотр-Дам. Витая лестница, по которой я каким-то чудом взбираюсь на самый верх.
Рядом дворец юстиции с надписью «Либерте, эгалите, фратерните»[54].
Яркий августовский день. Два ажана ведут мальчишку лет шестнадцати в наручниках. На тротуаре у самой стены дворца юстиции спит клошар.
Обед в ресторане, портик Нотр-Дам. Пробую знаменитый луковый суп. Не нравится.
Вечером — визит к Лили Дени[55]. Огромная комфортабельная квартира, сплошь обитая коврами. У нас в такой квартире, наверное, жил бы министр. Ведем светскую беседу, но у меня перед глазами все время объявление в Нотр-Дам: Н-Д не музей, а храм. Просят туристов соблюдать «респект и тишину».
Надписи на стенах домов. Все, что угодно, в основном гошистские[56]. «Убивайте таких-то», «Да здравствует революционное насилие!» и т. п. Все эти каннибальские призывы пишут вот эти самые юнцы с длинными волосами и девчонки с обнаженными спинами. Те самые, что так убежденно, по-младенчески попивают на улицах перед кафе свои кафе-о-лэ и поедают свои круассаны.
Вообще в среде гошистов — смешение чистых и нечистых. Трогательно, что многие из них стремятся к метафизическому пониманию глобальных перемен. Очень трогают такие надписи: «Мемуар а ля депортасьон»[57]. Гораздо меньше тарахтят о победах, имеют мужество с горечью отметить места страданий, подчинения злу, насилию. И все «без насыпухи»[58].
23/8
Рю де Гренель[59]. Вася пошел представляться. Я жду в вестибюле, наблюдаю типы посетителей, типы обслуживающего персонала.
Вечером на Елисейские Поля. Пляс д’Этуаль. Пляс де ля Конкорд. Тысячу раз повторенные в воображении и впервые — в реальности. Опять эффект узнавания никогда не виденного.
Кино. Впервые в моей жизни — порнографический фильм. По началу эпатирует, но уже минут через 15 — скука. И тошнота.
Вечером Вася ушел с барышней, я одна в номере с кучей интереснейших книг. Звонит Жорес[60] из Лондона. Говорит о том о сем. Голос его мне приятен, будто Рой[61] говорит. Ему наш телефон дала Элизабет, с которой Вася говорил утром.
24/8
Визит к Иде Шагал[62]. Дом XVII века. Трехэтажная квартира. Угощает нас поездкой в такси по Парижу. Сегодня день освобождения Парижа от гитлеровцев. Всюду бело-красно-синие флаги. Едем по рю Риволи к Лувру. Комедии Франсез, дом Мольера. Пляс д’Опера, Итальянский бульвар, Вандомская площадь. К Монмартру. Здесь очаровательно ожил XIX век. На широкой лестнице масса молодежи. Яркие краски, ожившая картина Клода Моне. Церковь Сакре-Кер, старое кабаре «У кролика», где бывали все художники. И вдруг въезжаем прямо в ад. Узенькие грязные улочки негритянских и арабских кварталов. Точно в Алжире. Азартно режутся в какие-то игры.
— А это что за очередь? — осведомляемся у шофера такси. И узнаем: это очередь в публичный дом. В скоростной. Трехминутный визит, десять франков. Таксист-парижанин с лицом члена-корреспондента академии наук брезгливо комментирует: «Mais ce sont des animeaux»[63]. Васька бормочет что-то нечленораздельное насчет расизма, но я вижу, что и его мутит.
Вечером в кафе «Ротонда» — встреча с И.Б.[64] Его приводят А.Г. и М-зин.[65] Прогулка по ночному Парижу. Около Тур де Монпарнас — просто средневековое зрелище — глотают огонь, разрывают железные цепи. Толпа, окружающая площадку с актерами, наполовину из иностранцев. Звучат разные языки. И все — и солидные шведы, и молчаливые немцы — заражаются французским юмором, веселостью, блеском.
25/8
Важные звонки из Швейцарии и Италии. Как по нотам исполняются самые неосуществимые мечтания. Купила себе летнее платье. Оказывается, совершенно свободно объясняюсь с продавщицами.
Вася приценивается к машинам. Скоро будем ездить по всей Франции. И вовсе уж не так дорога арендная плата за «Пежо».
Знакомство с несколькими русскими девицами-дамами. Они уже родились здесь, по-русски говорят с акцентом, но все преподают русский. Почему-то их всех зовут Ольгами. Уровень их развития невысок. Все, выбиваясь из сил, стараются очаровать Васю.
Вечером — в кино. Жара, курят. Фильм хоть и Хичкока, но безнадежно скучен.
26/8
Лувр. Величествен и неимоверно душен. Все еще стоит жара этого лета. Почему-то в Лувре нет кондиционированного воздуха. Но все-таки меня хватает на то, чтобы осмотреть антиките, 16, 17, 18 века… Зал Рубенса, Ван Дейка, галерея Медичи, итальянская живопись 17–18 веков. Все время мысли непроизвольно переносятся к Эрмитажу. Иногда грандиозность всего увиденного даже подавляет. Со мной Оля Х., так называемая «наша Оля». Приехала специально из Лондона, чтобы повидать нас. Она бесконечно добра, но все-таки что-то в ней есть от героини купринской «Ямы». И неопрятность моднейшей одежки, и манера разговаривать с посторонними мужчинами.
А Вася весь день путается где-то с Гладилиным по автомобильным делам.
27/8
Испытание моему французскому — встреча с м-м Кр. Лоран. Вроде бы все, как надо, понимаем друг друга. Вечером встреча с З.А.[66] Ужин в ресторане. Двойственное впечатление. Вроде бы и умна и образованна. Но какой-то привкус суетности. Благожелательность, однако, несомненная. Рассказы интересны, в них уловлено многое цепким глазом. Трогательно оберегает нас от С.В.[67]
28/8
С утра — пакетики. Вечером прогулка в Венсенский лес. Иван и Рита. В Венсенском лесу пруды, лебеди. Отличный воздух. Трогательные одинокие фигуры, прячущиеся здесь от современного Вавилона. Особенно почему-то запечатлеваются фигуры вяжущих одиноких женщин. Как будто они нашли здесь свое успокоение.
29/8
Утром — Версаль. Прогулка в Версальском парке. В силуэте дворца что-то остро напоминающее детство. Монумент — Луи Каторз[68] верхом на коне.
Вечером — на репетиции «Бочкотары». Художественный руководитель Антуан Витез, театральный режиссер. Очаровательный, умный. Тонкий. Режиссер этого спектакля Мари-Франс. Замечательные молодые ребята актеры, веселые, творчески заряженные воздухом свободы. Антуан рассказал о своих отношениях с Москвой. Договорился с Плучеком ставить в Сатире «Мольера». Но в министерстве культуры некая дама изрекла при первом намеке на гонорар: «Вы должны гордиться, что…», «Антуан: Mais c’est de la vulgarit»[69].
Надписи на стенах различными почерками.
«Хожу — и в ужасе внимаю/ Шум невнимаемый никем,/ Руками уши зажимаю —/ Все тот же звук! А между тем… О, если бы вы знали сами,/ Европы темные сыны, / Какими вы еще лучами/ Неощутимо пронзены!»[70].
30/8
Ланч у Беверли и ее мужа Мишеля Горде («Нувель обсервер»). Письмо из Японии. Вечером — Жанна.
31/8
Поль Калинин. Внук первой эмиграции. Полный француз, к тому же католик. Метр Ренар.
Вечером — Присцилла у Гл.[71]
1/9
Обед с Квашами в русском ресторане Доминик. Лев Адольфович, владелец ресторана и литературный критик 86 лет, старый петербуржец, во Франции с 22-го года. Имени Доменик есть театральная премия. По-настоящему знает театр и пишет хорошо. И все-таки владелец ресторана. Политик. Интересно рассказал о де Голле, о его претензиях на личную власть.
Вечером у Е.Г.Э.[72] Вся семья любопытна. Общие беседы и деловые переговоры. Живут в банлье[73], тихая улочка. Об А.И.[74] с нескрываемым озлоблением. Звонок из США. Соня Д. Узнав, что я здесь, восклицает: «Какое счастье!».
Ехали через Булонский лес. Не похож на тот, который в представлении.
2/9
Утром — музей современного искусства. Очень много замечательного Пикассо. Зал русских авангардистов. Гончаров, Ларионова, Кандинский.
Вечером — Дин Ворт[75], Васин прошлогодний завкафедрой. Настоящий плакатный американец. Но Вася утверждает, что у него тысяча комплексов.
Жанна. Кино «Эпоха Людовика XV», поэтому меньше порнографии и язык ближе к моему хрестоматийному французскому, почти все поняла.
3/9
Магазин «Миледи» на Елисейских Полях. Уголок старого Парижа. Вроде «Дамского счастья» Золя. Очень приятно после всех супермаркетов, где бесцеремонные разноцветные руки копошатся в груде тряпья, а продавщицы, почти такие же равнодушные, как наши, болтают между собой. Наконец-то я дорвалась до вымеченной мной продавщицы, которая занимается только мной. Она хочет одеть меня с ног до головы. С отлично разыгранным восторгом подбирает мне тона к лицу. И что с того, что я знаю: я стара, как мир, и она, как бы ни старалась, не может разглядеть во мне прежнюю Женюшу. Зато я проглядываю. Вдруг она возникает в зеркале за каким-то туманом. Правда, на ней бушлат ярославского политизолятора, но я каким-то фантастическим усилием воли заменяю его этим парижским тэйером. Это только секунда, но она дает мне горькое счастье. Вот как это выглядело бы, если бы это надеть на меня тогда…
— Цены астрономические! — восклицает по-русски Вася.
А бойкая продавщица уловила, смеется, повторяет «астрономик», но услужливо разъясняет, что фирма готова ждать, если у месье и мадам нет сейчас с собой таких денег. Пусть мы оставим аванс, а они за это время подобьют элегантное пальто ватином, поскольку русские зимы так суровы. И охмурила. На все мы согласились, и теперь все Переделкино ахнет от моих обновок с Елисейских Полей.
Вечером — в гости к Ксении Рыженковой. По дороге — осмотр Пляс Пигаль. Центр сексуальной торговли. Вывески: «Самые красивые НЮ Парижа», «Мулен Руж» и без конца «Сексшоп». Игра электричества очень красива. Настоящие живые проститутки стройными рядами выставлены на глаза потребителей. Они отличаются от обычных женщин только обнаженностью груди. Говорят, они недавно бастовали, требовали распространения на них льгот, даваемых «секьюрете сосьяль»[76]…
Дом Ксении на окраине Парижа. Квартирка похожа на наши малогабаритные. Низкие потолки, нет лифта. Внутри у них какие-то фантастические изыски, стилизованные под Индию. Они, видите ли, йоги. Все в халатах, на корточках вокруг маленького стола. На полу подушки, курятся какие-то довольно отвратительные благовония. И сесть негде, и все блюда имеют какой-то мерзкий экзотический вкус. Муж Ксении тоже стилизован в этом же духе, так же, как и его французский друг. Беседуем об Индии, откуда они только что вернулись, на уровне учебника географии для пятого класса. Среди этой йоговской обстановки мечется пятилетний их сынок, которого никто не кормит и спать не укладывает, хотя уже поздно. Хорошо еще, что с нами Дин Ворт и его дама, славистка Ирина. Они немного разряжают эту обстановку индийского богослужения.
4/9
Приехал Пентираро. Очаровательный молодой красавец, прямо с экрана. Оживленно беседуем по-французски на основе взаимной амнистии. Допоздна работаю.
5/9
Обедаем вместе. Присоединился Дин Ворт. Беседа показывает все национальные различия между нами. Мы все люди приблизительно одной профессии, но, Боже, как мы разно судим обо всем! Проводы Дина в аэропорт Орли.
Вечером — кино «Девятисотый год». Три часа подряд. Есть очень сильные сцены, но тяжело ложится на психику картина революционной бесовщины на фоне порнографии.
К концу дня письмо от Г.Св.[77] и телефонный разговор с ним. Горькое разочарование. Завиральные идеи насчет «Нового мира», да еще на том самом номере, на котором остановился Твардовский[78]. Незамысловатое злобствование по адресу «Континента». И все из-за того, что каждому мальчику «хочется в мэтры, в кентавры…»
6/9
Подготовка к поездке в Нормандию…
Андрей Вознесенский
Соловей асфальта[79]
Люблю прозу Василия Аксенова. Впрочем, проза ли это?
Он упоенно вставляет в свои вещи куски поэтического текста, порой рифмует, речь его драматургически многоголоса. Это хоровой монолог стихийного существа, называемого сегодняшним городом, речь прохожих, конкретная музыка троллейбусной давки, перегретых карбюраторов июльской Москвы. Впрочем, город ли это?
Грани города стерлись — в нем вчерашние чащи, теперешние лесопарки — все это взаимопроникаемо, это прозопоэзия. Потому ее можно читать вслух — как читали бы Уитмен или Хлебников свои тексты.
Уже 20 лет страна наша вслушивается в исповедальный монолог Аксенова, вслушивается жадно — дети стали отцами, села стали городами, проселочные дороги стали шоссейными, небеса стали бытом, «мода» стала классикой, — но голос остался той же чистоты, он не изменил нам, художник, магнитофонная лента нашего бытия, — мы не изменили ему.
Аксенов понятен не только русскоязычной аудитории, его читают, понимая как своего, и в Лондоне, и в Париже.
Сегодняшняя российская проза, как говорится, на подъеме. Голоса Трифонова, Битова, Окуджавы, Распутина звучат сильно и необходимо.
Дар Аксенова среди них уникален. Повторяю, это магнитофонная лента, запись почти без цензур сегодняшнего времени — города, человека, души.
Когда-то я написал ему стихи:
Послушаем и мы городского, асфальтового соловья — Василия Аксенова.
Зоя Богуславская
Василий Аксенов[80]
Василий Аксенов, как принято нынче говорить, — фигура культовая. Мало кто из здравствующих сочинителей столь рано овладел сознанием поколения. Его стиль общения, сленг, пришедший из «Звездного билета», «Апельсинов из Марокко», «Затоваренной бочкотары» и др., стал повседневностью в молодежных компаниях и любовной переписке 60–70-х, приклеился к целому журавлиному клину молодых писателей, устремившихся за ним.
Аксенов — художник. Он занимается именно художественным творчеством. В повествовании доминируют образность, изобразительность, парадоксально влекущие за собой интригу и поступки персонажей.
Несмотря на опыт репрессированных родителей, он не стал диссидентом, его сопротивление больше всего обозначалось на уровне стилистики и свободы поведения. Много позже, вызвав на себя огонь хрущевского гнева на встречах с интеллигенцией, он становится фигурой и политической. Под голубым куполом Свердловского зала произойдет новый слом в его судьбе. Теперь в его биографию вплетаются моменты гражданской позиции, несогласия с чем-либо. Он протестует против ввода войск в Чехословакию, высылки Солженицына[81], его многолетнее противостояние цензуре — увенчается созданием альманаха «Метрополь», позднее названного бастионом гражданско-этического неповиновения. Комментарием к сегодняшнему политическому курсу станет серия его острых выступлений в ведущих СМИ.
Как личность Василий Павлович Аксенов был сконструирован из первых впечатлений костромского приюта для детей «врагов народа», затем — Магадана, где поселился в 12 лет с высланной матерью Евгенией Семеновной Гинзбург. По словам Василия Павловича — круг реальных персонажей «Крутого маршрута»[82] (принадлежащего перу его матери) состоял из выдающихся людей того времени: репрессированных ученых, политиков, художников, образовавших своеобразный «салон», содержанием которого были рассуждения на самые высокие темы. Влияние этих рассуждений на детское сознание трудно измерить.
Какая-то дикая, пронзительная жалость к невостребованным богатствам личности собственной матери, к погубленной в лагерях ее молодости, зазвучала в его прозе с особой остротой («Негатив положительного героя») после «ознакомления с делом арестованной в 1937 году матери». На ее тогдашнем фото: «анфас и профиль, взгляд затравленного подростка, бабушкина «кофтюля» на исхудавших плечах».
Мы видимся с Василием регулярно в течение многих десятилетий. Теперь каждый раз, когда он наведывается в Москву. Застать его на Котельнической набережной, где у них с Майей квартира, сложно. Он расписан по телевизорам, издательствам, интервью. Интерес к Аксенову с годами не ослабевает, его «рвут на части». При этом он никогда не похвастается. Не скажет: «Посмотрите «Итоги», «Герой дня» или сегодня полоса обо мне…». Или «В Штатах только что вышла моя новая книга…». Спрос на Аксенова сегодня больше, чем на экземпляры его произведений. Личность порой перерастает творческий имидж. Былым компаниям, верному кругу друзей (Евг. Попов, А. Козлов, А. Арканов, Ю. Эдлис, Г. Садовников, А. Кабаков, и, конечно, Белла Ахмадулина и Борис Мессерер) Аксенов нынче частенько предпочитает одиночество.
— Почему ты говоришь, что тебе пишется лучше в Вашингтоне и в Европе, чем здесь?
— В Вашингтоне за письменным столом у меня остается только один собеседник — В.П. Аксенов. В России слишком много собеседников, и я, так или иначе, стараясь им соответствовать, забалтываюсь. Сочинительство и эмиграция — довольно близкие понятия.
Он отдал дань разным жанрам: проза, поэзия, драматургия, публицистика. Спрашиваю его:
— Кем себя считаешь по преимуществу?
— Последним представителем умирающего жанра романа (умирающего в молодом возрасте, так как его можно считать «подростком» рядом с другими), — говорит Аксенов. — Я не поэт, а романист. И может быть, поэтому острее других, т. е. нероманистов, чувствую кризис романа. Уже сейчас испытываю какую-то ностальгию по любимому жанру. В процессе «романостроительства» у меня возникает особое почти лунатическое состояние. Домашние это заметили и даже начали в такие периоды называть меня «Вася Лунатиков». Вне романа меня никогда не тянет писать стихи, внутри романа то и дело начинаю ритмизировать и рифмовать.
Сочинительство, как главный способ общения и времяпрепровождения, выдает предназначенность Аксенова писательству. Похоже, сегодня это главный смысл его существования.
«Дело, может быть, в том, что я работаю в основном в самом молодом жанре словесного искусства, в романе, которому, возможно, приходит конец. Быть может, о нашем времени будут говорить: «это было еще тогда, когда писались романы».
— Как сегодня ты оцениваешь американский период жизни? Я имею в виду профессиональную деятельность в Штатах — преподавание в университете, сочинительство? Пожалуй, ты один из немногих, у кого здесь сложился имидж не только писателя, переводимого с русского, но и американского литератора.
Несколько вещей, как известно, написаны тобой по-английски. Помню, как еще до отъезда ты переводил «Регтайм» Доктороу для журнала «Иностранная литература».
— Я отдал двадцать один год жизни «американскому университету», точнее, преподаванию рус-лита и своей собственной фил-концепции мальчикам и девочкам (иногда и почтенного возраста) из разных штатов и стран. Университетский кампус для меня самая естественная среда, но сейчас я уже подумываю об отставке. Где буду проводить больше времени, еще не знаю. Надеюсь, на родине все-таки не вырастет снова тот сапожище, что когда-то дал мне пинок в зад.
— Если бы ты не писал, то что бы делал?
— Не знаю, что бы я делал, если бы не писал. Честно говоря, даже не представляю себе такой ситуации.
Майя Аксенова
Записи 10 сентября, 20 сентября, 20 ноября 1980 года
Ann Arbor (Мичиган)
10 сентября прилетели из Милана в Н.-Й.
Десять дней жили в Н.-Й. вместе с Васей, Аленой[83], Виталием[84]. Виделись с Бродским. Я раньше с ним никогда не встречалась, а Вася увидел его впервые после ссоры[85]. Живет он в страшной квартире, что-то вроде подвала, но с выходом в маленький садик, берлога гения. Чувствует себя неважно, но бутылка виски стоит рядом с ним, и он понемногу потягивает. Курит, пьет кофе. Был очень внимателен, подробно старался объяснить, как надо вести дела, какие нужны документы, где лучше преподавать. Сам он числится в Мичиганском университете, но жить там не хочет. Любит Н.-Й., и Мичиган для него тяжелая нагрузка. Последние годы проводит там только один семестр.
Каждый день встречи. Видели Пат Блейк[86]. Очень мне понравилась. Красивая, умная, прекрасный литературный вкус. Была очень внимательна. Приехала к нам с бутылкой водки, черным хлебом и солеными огурцами.
Айзик Клейнерман и Линда встретили нас замечательно. Мои ребята прилетели из Рима на день раньше нас, и конечно, этот засраный Хиас их не встретил, а когда после нескольких часов приехал их представитель, которого с трудом разыскали, он просто отказался их принимать и уехал, оставив семью с ребенком в чужом городе без денег на аэродроме. Алена в панике позвонила Айзику, и тот немедленно приехал и забрал их к себе.
На следующий день они встречали нас, предлагали остановиться у них в доме и все дни старались как-нибудь нам помочь.
Мила Лось[87] — очень элегантна. Работает в Тэд Лапидус[88]. Сын учится, роман с каким-то богачом из Гаити. По-моему, не очень счастлива.
Васин издатель Джонотан Галосси.
Парень тридцати лет, интеллигентный, собранный, никакой развязности (скорее застенчивый). Самое хорошее впечатление.
После Н.-Й. были два дня в Вашингтоне. Жили у Боба Кайзера[89]. Милая, чуткая семья. Две девочки.
В основном деловые встречи.
Интервью на «Голосе» с Людмилой Фостер[90].
20 сентября прилетели в Ann Arbor[91].
Встретил Карл[92]. Эллендея где-то носилась и покупала нам матрас и необходимые для дома мелочи. Старались много и довольно нелепо. (Теперь, когда я к ним привыкла, меня это не удивляет.) Матрас не понадобился, телевизор работал плохо, квартира — полное дерьмо. Все-таки около месяца мы с Васятой прожили в этой квартире. Место новое, надо было оглядеться. Очень скоро мы поняли, что на Профферов рассчитывать не приходится (при полной их доброжелательности), и в один день сами нашли хорошую теплую квартиру, в самом центре, переехали, поставили телефон. Привели Профферов в дикое изумление, все сделали самостоятельно. Эллендея охала и ахала, говоря Васе, что русские сами ничего сделать не могут.
Немного о Профферах.
Огромный дом (бывший гольф-клуб). Просторный, красивый, много техники, на каждом шагу телевизоры (все плохо работают). Издательство в полуподвальном большом помещении, все последнее современное оборудование — как говорит Ефимов, используется на одну треть.
В издательстве работают Игорь Ефимов и секретарь Марша (местная, по происхождению полька, хорошо говорит по-русски). Два раза в неделю приходит помогать студент Крег, тоже учит русский язык.
В семье Профферов четверо детей. Три взрослых парня от первой жены Карла и маленькая замечательная девчушка — Арабелла. Ей два года.
Ложатся Профферы в пять-шесть часов утра, встают в два-три часа дня. Работают только ночью, мебель переставляют тоже ночью. Делают это довольно часто. Днем ходят разбитые, сонные. Иногда Эллендея просыпается и начинает носиться по дому. Что-то делает, едет в магазин, кормит свою большую семью. Карл всегда невозмутим. Маленькая Арабелла ведет точно такой же образ жизни. Только ночью еще пока не работает, а смотрит телевизор. Зато в два года знает уже все буквы. При этом ведут очень замкнутый образ жизни. В гости не ходят, в кино тоже, а о концертах и говорить нечего. Мы купили им билеты на джазовый концерт (Линды Рондстон), вытащили из дому, и они радовались как дети.
У Карла курс в университете, занятия, по-моему, два раза в неделю. Ходит, как отбывает повинность. Книги выпускают замечательные, но русские издания им не приносят дохода или очень маленький. Как говорят Профферы, издательство существует только за счет английских изданий. Но у меня сложилось такое впечатление, что они просто этого не знают, т. к. расходы по дому и издательские дела не разделяются. Расходы при таком доме и семье огромные, поэтому они периодически оказываются в очень тяжелом положении, но потом это как-то проскакивает, то ли займ, то ли очередной гонорар за перевод, в общем, пока существуют. Дай им Бог! Привыкла я к ним не сразу. Да и сейчас я с ними не близка, но все-таки относиться стала лучше, пытаюсь понять их. Люди они добрые, к Василию относятся прекрасно, Эллендея всегда старается мне помочь.
20 ноября.
Позавчера позвонили из Госдепартамента и передали, что у Жоры Владимова инфаркт (задняя стенка). Наташа Владимова нас разыскивает, кажется, хочет, чтобы мы организовали им приглашение. Очень расстроились, я поплакала. Представляем, как эти сволочи давят всех; когда мы еще были в Москве, Жора если и собирался уезжать, то не раньше чем через год. Вечером позвонили в Москву, и нас соединили с Наташей (очень странно). Рассказала, что 4 ноября Жору вызвали в Лефортовскую тюрьму и продержали там целый день как свидетеля по делу Татьяны Осиповой. На следующий день Жора попал в больницу с серьезным инфарктом. Сейчас он лежит в 71-й Кунцевской больнице. Решили попытаться уехать, ждут приглашения. Позвонили Игорю Белоусовичу[93], еще кое-кому, Крегу Витни[94] (Н. Т.). Очевидно, пошлем приглашение от Мичиганского университета (формальное), а Крег попытается дать сообщение в газете.
Войнович прислал открытые письма (свое и Ирины). У него очень тяжелое положение. В этих письмах он излагает все подробно. Пока его не отпускают. Мы думаем, что «они» решили над ним поиздеваться. Человек болен, похоронил близких людей[95] — самое подходящее время поизмываться.
Будем помогать, как сможем. Странно, что Лев Копелев, приехав в З. Германию 12 ноября, ничего нам не сообщил. Может быть, он серьезно думает, что его пустят через год обратно?[96]
В воскресенье (23-го) мы полетим в Н.-Й. Думаю, что там нам удастся более подробно обсудить все вопросы.
Васята работает очень много. К лекциям готовится серьезно, т. к. читает их на английском.
Джон Глэд[97]
Вася умер. Почти три десятилетия мы были знакомы. Пишу это куцее воспоминание о нем, сидя за тем же грубо оструганным рабочим столом и за тем же компьютером, на котором мы с ним раньше вместе правили перевод его «Московской саги». Теперь меня просят рассказать о нем читателям «Нового Журнала»[98], и хотя я знаю — не справлюсь, отказаться — нельзя. Признаю свое неумение заранее, друзья.
Я начал заниматься русским языком, будучи студентом и снимая комнату у бывшего прапорщика Белой армии. Помню, как в конце шестидесятых годов я играл роль Моцарта в пушкинской маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» в домашней нью-йоркской студии Татьяны Павловны Тарыдиной, бывшей актрисы Мариинского театра. Отравленный завистливым Сальери, я мелодраматично хватался за горло перед сидевшими на складных стульях бывшими офицерами бывшей Белой армии и бывшими власовцами, которые смотрели на меня с не меньшим удивлением, чем я на них.
Вашингтонским отделением русского «Литературного фонда» дирижировала в ту пору Елена Александровна Якобсон, и на собраниях Литфонда, если вы стояли сзади, видны были лишь лысины да ослепительно белые волосы. В восьмидесятые годы еще были живы эмигранты первой волны. Теперь этих людей, с их экстраординарными судьбами, уже нет, а белизна их волос перекинулась на меня.
Помимо первой волны, было в Вашингтоне и советское посольское общество, смотревшее на русского эмигранта как на отрезанный ломоть. Контактов быть не могло, и когда развалилась «империя зла», я долго не мог себя заставить ходить в Русский культурный центр, который открыли в том же здании, где мне в течение семнадцати лет регулярно отказывали в советской въездной визе.
А между тем «шумною толпою» уже появилась третья волна, состоявшая из советских эмигрантов, которые еще не успели тогда освоить свои еврейские корни и считали себя просто «русскими». (Или я был тогда настолько наивен, что ничего не понимал?) Новейшие держались вместе, немного контачили со старшим поколением и «совков» чуждались не меньше, чем «совки» их.
И Вася, и Майя вполне вписывались в эту третью волну, только Вася дружил еще с такими влиятельными журналистами, как Роберт (Боб) Кайзер, потом получивший место главредактора газеты «Вашингтон пост», и Питер Оснос, который тогда работал репортером, а позднее стал редактором крупного издательства «Рэндом Хауз». Как раз такие связи в большой степени и определили эмигрантское благополучие Васи, столь резко отличавшееся от бедности первых двух волн.
Помню радиоинтервью, которое Аксенов давал из Калифорнии (откуда же еще?!), по-моему, в 1980 году, только-только приехав в свое американское «изгнание». Хотя работу он получил в университете им. Джорджа Мэйсона под Вашингтоном, по характеру он вписывался именно в ландшафт калифорнийского пляжа. Ведь Калифорния — не штат американский, а отдельное государство, со своей культурой, пожалуй, не менее отличной от культуры американского Cреднего Запада (где я вырос), чем грузинская культура от русской.
Где я возьму русские слова, чтобы передать истинно калифорнийскую раскованность Васи? He was laid back[99]. Была в нем также sophistication[100], но в сочетании со скептическим фрондерством советской художественной «элиты», хотя Америка — это демократия, где само слово «элита» чуть ли не под запретом, в то время как страна, откуда прибыл Аксенов, была глубоко кастовая.
Если вы не знали Васю, то наверняка видели хотя бы одно из многочисленных интервью последних лет; и в жизни он был в точности таким, как выглядел на телевизионном экране: слегка расслабленным (casual[101]), несколько саркастичным. Впрочем, таков был и его недруг Бродский, таким остается по сей день Анатолий Найман, другой член ахматовской четверки. По сути, это поза, но граница между игрой и сутью с годами размывается.
В 1978 г., после пяти лет, казалось бы, безнадежных ходатайств, выпустили из СССР как «невесту» мою жену Ларису, и мы купили большой особняк, где каждый год отмечали языческий праздник Halloween русским балом-маскарадом. Однажды, помню, мы подали гостям целого жареного кабана (на морду которого я надел пиратскую маску), другой раз — полторы сотни омаровых шеек. Кто только не приходил! Были, например, родители Сергея Брина, позднее основавшего фирму Google, но тогда еще мальчишки. Как заведующий русской кафедры, я устроил его бабушку преподавательницей русского языка. Зарплата мизерная, но семья была рада и такому скромному доходу. Бабушка переживала за внука и сетовала на то, что тот «ничем не интересуется, ни театром, ни музыкой, а только и делает, что балуется с компьютером, — что-то с ним будет?».
Помню, как на очередной Halloween явились и Вася Аксенов с женой Майей без маскарадных костюмов, но на Васе была голубая кепка с козырьком несколько милицейского вида, с буквами КПСС, а на Майе — такая же, но с надписью ВЛКСМ. Для желающих лепили маску, пользуясь марлей и медицинским гипсом, как делают, снимая посмертную маску. Не знаю, сохранилась ли у Майи Васина маска.
Хотя (а может быть, именно потому что) Вася не был человеком академического склада, студенты охотно записывались к нему как к artist in residence[102], и высшие административные чины университета гордились им.
В новой России его считали «живым классиком», и как-то раз он сам себя так охарактеризовал — не только без малейшего смущения, но даже категорично. Поскольку я давно уже имел дело с писателями-эмигрантами, подобные заявления были для меня не в новинку.
В Москве Майе вернули просторную квартиру ее бывшего мужа, кинорежиссера Романа Кармена, на одной из набережных столицы. Вася, вдобавок, приобрел виллу в Биаррице, на земле басков, где мог спокойно работать без постоянных звонков, которыми донимали на родине.
И вдруг — трагедия: погиб внук Майи. Молодой поэт покончил с собой в той самой «дышащей свободой» Калифорнии (по выражению Томаса Манна), судя по всему, от неразделенной любви. Все поменялось в одночасье. Бывшая гостеприимная, непринужденная обстановка аксеновского дома сменилась неизбывным трауром. Дочь Майи Алена и сама Майя взяли на себя роль плакальщиц, и не временно, а буквально до гробовой доски. Утешения не помогали. Время шло, утрата оставалась свежей раной. К этому у Алены присоединились ее собственные невзгоды. В итоге Вася вышел на пенсию, продал дом в штате Вирджиния и обосновался, если можно так выразиться, по оси Москва — Биарриц. С тех пор я Аксеновых не видел. Умерла Алена, теперь нет и Васи, и я не могу представить, каково бедной Майе.
Ушел писатель, но остались его книги. Василий Аксенов остро осознавал летаргию советской местечковости, ругал эту «развалившуюся кучу мусора». В своих последних произведениях, например в «Московской саге», пытался вдохнуть жизнь в российскую действительность подобием латиноамериканской фантасмагории, щедро сдобренной московским сленгом. «Затоваренную бочкотару» и «Ожог» он мне охарактеризовал как образцы сюрреализма. Он видел себя в роли эдакого литературного Сальвадора Дали, выкатившегося из поблекшей коробки брежневского соцреализма.
С самого начала литературной карьеры Аксенов считал себя приверженцем русского авангарда. Правда, сейчас уже не так просто определить, что, собственно, означало тогда быть авангардистом. Может быть, искренность, неприятие официальной, навязанной культуры. Аксенов приобрел славу еще молодежным писателем, но, по его собственным словам, «молодость безобразно затянулась, я бы сказал, и не только у меня, но у нашего поколения писателей…». Он стал одним из тех, кого позже стали называть шестидесятниками, представителем «десятилетия советского донкихотства», бунтарем. Если пользоваться терминологией русских формалистов, поза бунтаря перешла в литературную «доминанту».
Заграничное его пребывание, безусловно, подлило масла в огонь этой освободительной поэтики, но, несмотря на широкое паблисити, сказать, что он завоевал себе крупную славу в Америке, нельзя. В моем с ним интервью 1982 года (см. мою книгу «Беседы в изгнании», изд-во «Книжная палата»[103]) я спросил, как он видит свои, русского писателя, шансы найти американского читателя. «Я буду продолжать писать для тех же читателей, часть из которых оказалась за границей. Но это не значит, что я не ищу американского читателя. Я думаю, что американскому читателю как раз интересно будет читать про неизвестный мир, читают же сейчас научную фантастику. Я думаю, что со временем, может быть, я как-то начну больше жить внутри американского общества. И это не значит, что я уйду из своего прошлого. Прошлого у меня достаточно, чтобы писать до конца жизни, сколько там ее осталось, я не знаю. Вот когда уезжаешь из страны в 48 лет, этого уж хватит тебе, чтобы писать, а новый американский опыт мне очень интересен. Вот, в частности, в «Бумажном пейзаже» у меня идут двенадцать глав жизни в России, а в последней главе все герои оказываются в Нью-Йорке. Прошло 10 лет, и они все в Нью-Йорке. И даже майор милиции оказывается в Нью-Йорке, работает телохранителем (бодигард). Вот мне это было интересно писать не только по формальному ходу, но еще и потому, что они сами не замечают, как меняется их речь». Восемь лет спустя, в дополнении к этому интервью, он прочертил путь, по которому, как он считал, русская литература должна была пойти в послесоветский период: «Надо вырвать литературу из водоворота злободневных событий. Это самое главное сейчас. Иначе литература рассеется. Не надо стремиться создавать актуальные вещи. Надо просто успокоиться и наблюдать со стороны. Раньше русский литератор всегда был вовлечен в политику. На него смотрели как на властителя дум. Он должен был заниматься устройством государства и прочим. Сейчас этого, слава Богу, не нужно делать. Пусть политики занимаются политикой. Освободите литературу от этого бремени».
Был ли он «живым классиком»? Если под этим подразумевать, что его имя останется в анналах русской словесности, ответ, безусловно, — да. Теперь многим хотелось бы видеть его имя рядом с именами Державина, Пушкина, Достоевского, Гоголя, Толстого, Булгакова, Ахматовой, Клюева, Мандельштама, Пастернака, Маяковского, в одном ряду с эмигрантами — Набоковым, Алдановым, Цветаевой, Бродским, Довлатовым, Хазановым. Прости, Вася, — пройдут годы, мутные воды художественных ценностей устоятся, и, боюсь, мы такого соседства не увидим. Но кто же уполномочил меня, аутсайдера, выносить такие безапелляционные суждения, возразите вы. Пожалуй, правда ваша. Как бы то ни было, факт налицо: трагическая советская интермедия нанесла жуткий удар по русской литературе. У известного эмигрантского лингвиста Романа Якобсона статья на смерть Маяковского озаглавлена «О поколении, растратившем своих поэтов». По большому счету, речь идет о разрыве между эпохами. Ничего уничижительного в моем, вполне, может быть, ошибочном, прогнозе для тебя нет, дорогой Вася. Ты прочно вошел в историю русской литературы, и в этом смысле все мы перед тобой в долгу. Мир праху твоему.
Желающим посмотреть мое с Васей видеоинтервью 1982 года отсылаю к Интернету:
http://community.middlebury.edu/~beyer/ratw/glad
Людмила Оболенская-Флам[104]
О встрече с Аксеновым
Cегодня трудно даже представить себе, какой была Москва 1976 года в застойное брежневское время — столица полицейского государства с его бедным населением и бессмысленными лозунгами, украшавшими фасады домов. На фоне этой безрадостной действительности встреча с Василием Аксеновым осталась в памяти светлым пятном.
Был декабрь. Я прилетела из Вашингтона в связи с открытием официальной американской выставки, посвященной двухсотлетию США. Это была командировка от радиостанции «Голос Америки», где я в то время заведовала отделом культуры и часто сама выступала в эфире. Для меня лично поездка была исполнением заветного желания побывать на земле моих прародителей. Дитя эмиграции, я много лет мечтала когда-нибудь увидеть Россию своими глазами, прикоснуться к жизни ее людей. Но прикоснуться было нелегко. Несмотря на некоторое ослабление напряженности в отношениях между СССР и США, наши радиопередачи яростно заглушались, и, как представитель «вражеских голосов», я оказалась объектом пристальной слежки. Для советских граждан соприкосновение со мной могло обернуться неприятными последствиями вроде обыска, «предупреждения», а то и похуже. Я знала: навязывать кому-то свое знакомство было бы безрассудно. Исключением оказалась группа диссидентов-правозащитников, сама устроившая со мной встречу. Из этой группы двоих — Юрия Орлова и Александра Гинзбурга[105] — вскоре арестовали. Другим исключением стал Василий Павлович Аксенов.
Я знала, конечно, о нем как о выдающемся молодом писателе, чья проза так отличалась от казенных произведений в духе соцреализма. «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара» — они дохнули чем-то новым и свежим… Аксенов и другие писатели-«шестидесятники» показали нам на Западе, что литература в России жива.
На Запад проникали сведения о том, что Аксенов не боялся ставить свою подпись под обращениями в защиту преследуемых диссидентов. А когда он приезжал по приглашению Калифорнийского университета в США, то, говорят, держал себя весьма независимо, в отличие от других советских визитеров. И все же, хотя мне очень интересно было с ним познакомиться, я не решалась добиваться встречи, дабы не накликать на его голову беду. Узнав стороной, что я в Москве, Аксенов сам позвонил мне в гостиницу «Украина», где я остановилась. Мы условились встретиться на следующий день. Но план усложнялся тем, что на следующий день было Рождество по новому стилю, и я была приглашена на утреннюю елку к моим американским знакомым из посольства. Не зная в точности, в котором часу я смогу от них уйти, я дала Аксенову номер их телефона. Чтобы окончательно договориться о встрече, он должен был позвонить мне туда до 14–00 часов. Но «органы» не дремали: покуда я была в гостях, телефон моих знакомых не принимал звонков, о чем мы и не догадывались. Решив, что встреча по каким-то причинам не состоится, я вернулась к себе в гостиницу. Часа через полтора, к моему изумлению, Аксенов заявился в «Украину» собственной персоной. Помимо того, что он не мог со мной связаться по телефону, было и другое препятствие: в его машине случайно(?) сел аккумулятор. По счастью, Аксенову удалось раздобыть новую батарею («прямо как на Западе!») и, в конце концов, за мной заехать. Зная, что в «Украине» у стен были уши, он пригласил меня в Дом литераторов.
По сравнению с убожеством столовых для простых смертных, писательский ресторан поразил меня вполне западным обслуживанием и ассортиментом блюд. Это была одна из привилегий членов Союза писателей, которые с удовольствием ею пользовались. Аксенов указал на некоторых завсегдатаев, назвав их по именам. Запомнился Солоухин, степенно закусывавший за соседним столиком.
Аксенов оказался занятным и остроумным собеседником. Какой разительный контраст с официальными лицами, которые не могли высказать ни одной самостоятельной мысли! О чем мы говорили? Вернее, о чем говорил Аксенов? О том, что его не печатают, о других опальных писателях, о том, что в этом самом доме исключали из Союза писателей Пастернака и Солженицына, о трусости тех, кто голосовал «за». Было ясно: Аксенову все это осточертело, и — будь что будет — он решил не бояться и не гнуть шеи. По тогдашним понятиям его поведение было даже вызывающим. Например, выходя из ресторана, он остановил кого-то из собратьев по перу и представил меня. Тот ошалел. Потом предложил отвезти меня в Переделкино, то самое Переделкино, где жили Пастернак и мой с детства любимый Чуковский… Прямо-таки подарок судьбы, еще бы не поехать!
К тому времени уже стемнело, шел снег, и всю дорогу за нами из Москвы следовала какая-то машина. Подъезжая к Переделкино, Аксенов решил показать мне старинную церковь. Она была заперта, хотелось хоть снаружи полюбоваться древним храмом, но очевидно это представляло угрозу государственной безопасности: сопровождавшая машина остановилась и в упор направила на нас слепящие огни фар.
— Может, лучше я вернусь в «Украину»?
— Ну, что вы, — ответил Василий Павлович, — поедем в Переделкино. Пускай себе едут за нами.
Приехали. Вышли из машины. Прошли к Дому творчества. Стряхнули с себя снег в вестибюле, сняли дубленки и прошли в гостиную, где покойно расположились маститые писатели: кто читал газету, кто в шахматы играл, кто дремал… «Вот, друзья, — провозгласил Аксенов, — Людмила Оболенская из «Голоса Америки»». Писателей взяла оторопь. Думаю, если б я свалилась с Марса, они были бы менее ошеломлены. Мы медленно прошествовали в комнату Аксенова. А они, остолбенев, не проронив ни слова, проводили этакую опасную невидаль испуганными взглядами.
Комната, причитавшаяся Аксенову, была скорее кельей. Кровать, стол, пишущая машинка… Не помню ее убранства, но помню толщенную рукопись, которую дал мне подержать ее автор. Это был «Ожог», книга, которую — Аксенов знал наперед — в СССР к печати не допустят. Ставка делалась на «тамиздат» в Америке. В связи с этим Василий Павлович попросил меня позвонить из Вашингтона человеку, представлявшему его литературные интересы в США, и что-то ему передать. Я с удовольствием согласилась выполнить его просьбу. А в тот момент мне казалось, что я держу на руках еще не родившегося ребенка.
Уходя, мы вновь прошли мимо напуганных писателей, окаменевших в своих позах. Ни один из них не решился хотя бы на молчаливый жест приветствия. Аксенов остался весьма доволен произведенным эффектом.
Года три спустя, в гостях у общей знакомой в Вашингтоне, мы очень смеялись, вспоминая эту историю. Но в промежутке я могла только издалека следить за тем, что происходило с Аксеновым и его творчеством. «Ожог» довольно скоро вышел в Америке и сразу обратил на себя внимание. Талантливо и ярко написанный роман был вызовом всей советской системе. Опубликован роман был издательством «Ардис» в штате Мичиган. Его основал замечательный, к сожалению, рано умерший, знаток и любитель русской литературы профессор Карл Проффер. Ему с не меньшим энтузиазмом помогала его молодая жена Эллендея. Их стараниями в Америке вышло много книг, находившихся в СССР под запретом. Скажу попутно, что для исследователей «тамиздатского» явления архив, который Мичиганский университет получил от Эллендеи, настоящий клад. По нему можно восстановить, какими кружными путями из Советского Союза попадали сюда рукописи лучших писателей того времени, чем они готовы были рисковать и какую замечательную роль сыграли Профферы, знакомя с ними читателей на Западе.
Как-то мы узнали от Карла Проффера, что в Москве готовится выпуск первого бесцензурного альманаха «Метрополь» и что один из инициаторов этого дерзкого мероприятия — не кто иной, как Василий Аксенов.
Хорошо помню тот день, когда Карл Проффер, прямо с самолета, пришел к нам в «Голос Америки» с экземпляром этого самиздатского альманаха, на который мы все жадно набросились. Отдельные произведения из «Метрополя» мы стали передавать в эфир. В альманахе участвовали, помимо Аксенова, Битов, Ахмадулина, Искандер, Попов и Ерофеев. Последние двое за это были исключены из Союза писателей. В декабре 1979 года Аксенов, в знак протеста и солидарности с ними, сам вышел из Союза писателей. Теперь стало ясно: писателю Василию Аксенову в СССР места нет. В наступившем 1980 году он с женой Майей выезжает в США. В следующем году его лишают советского гражданства, акт, который Аксенов счел для себя за честь.
Поначалу Аксеновы поселились в Вашингтоне в многоэтажном доме, через улицу от нас и недалеко от Института им. Джорджа Кеннана[106], где Аксенову предоставили стипендию. В это время мы встречались с ним и Майей довольно часто и вместе с ними радовались выходу его новых книг: «Остров Крым» и «Скажи изюм». В последней, в иносказательной форме, описывалась история создания «Метрополя».
Для Василия Павловича наступила пора большого творческого подъема. Теперь у него были развязаны руки, хотя занят он был выше головы: когда кончилась стажировка в Институте Кеннана, его пригласили преподавать в университете им. Джорджа Вашингтона[107], а позже в университете им. Джеймса Медисона[108] в штате Вирджиния. За это время Аксеновы сменили несколько адресов: из скромной квартиры переехали в собственный кондоминиум, потом поменяли его на другой, а затем перебрались в пригород Вашингтона Ферфакс. Из-за дальности расстояний встречи сделались более редкими, чаще всего я видела Василия Павловича в стенах радиостанции «Голос Америки». Могу поставить себе в заслугу его регулярное участие в русских передачах. Его успешное сотрудничество с «Голосом Америки» продолжалось до тех пор, покуда существовал Советский Союз. Одновременно он выступал и по радиостанции «Свобода». Этой своей деятельности Василий Аксенов, со свойственной ему иронией, посвятил книгу «Десятилетие клеветы»[109].
Владимир Нузов[110]
Жаль, что его нет больше с нами[111]
Почему вдруг я решил взять у него интервью — Бог весть. Возможно, потому, что у меня уже был опыт общения с Евгением Евтушенко, Григорием Гориным, другими «шестидесятниками». Василий Павлович был, если можно так выразиться, главным среди них.
В самом конце 60-х годов я выпросил у кого-то журнал «Юность» с аксеновской «Затоваренной бочкотарой». Кажется, никогда в жизни я так не смеялся! Читал друзьям вслух самые «ударные» куски, мы проливали слезы уже вместе. Гремевшие тогда «Звездный билет», «Коллеги» мне почему-то на глаза не попались, а вот «Пора, мой друг, пора», «На полпути к Луне», «Апельсины из Марокко», «Победа», другие ранние аксеновские вещи — сплошной кураж, игра словом, брызжущее фонтаном жизнелюбие…
Перед самой эмиграцией Аксенова, в 1979 году, в «Новом мире» были опубликованы «Поиски жанра»[112], еще раньше, в «Иностранке» — его блистательный перевод «Регтайма» Эдгара Доктороу. Написанные уже в эмиграции «Московскую сагу» и «В поисках грустного бэби» я тоже прочитал с удовольствием, а вот подаренный Василием Павловичем «Желток яйца» проглотить, увы, не смог…
Итак, в июле 1994 года я позвонил в один из пригородов Вашингтона. Так, мол, и так, говорю, Василий Павлович, это журналист имярек, хочу взять у вас интервью, помещу его в книжке.
— Книжка — это здорово! — были первые слова знаменитого писателя. — Приезжайте.
Помню, в поисках нужного дома я немного заблудился и к назначенному времени опоздал. Все это мой будущий собеседник после нашего трехчасового разговора, видимо, учел: сначала предложил мне, едва знакомому человеку, переночевать в его доме (что меня навсегда восхитило!), а после моего решительного отказа взялся показать автопуть к месту ночлега.
Я заготовил десятка полтора вопросов, по ходу дела какие-то из них выпускал, что-то добавлял.
С ним было легко, никакой звездности не было и в помине, где-то в средине разговора он сказал:
— У вас хорошие интонации, а это — главное…
Как он уловил какие-то интонации в моих вопросах — не возьму в толк. Интонации — ладно, вот похвалы мало от кого из коллег дождешься. Василий Павлович был первым…
Договорились о том, что я возвращаюсь восвояси и постараюсь в темпе расшифровать текст и прислать его по Интернету. Однако вдохновленный встречей и разговором с В.П., я вкалывал чуть ли не всю ночь, а утром, позвонив, слегка огорошил своего вчерашнего визави:
— Василий Павлович, текст готов!
Снова поехал по уже знакомому адресу, В.П. внимательно прочитал текст, не сделав — это я хорошо помню — ни единой поправки. Сие обстоятельство не говорит о какой-то мастеровитости автора этих воспоминаний — отнюдь! Василий Павлович в первый, но не в последний раз в нашем довольно долгом и тесном знакомстве, обнаружил широту души, немелочность, щажение чужого самолюбия. Редкие, замечу, качества, присущие пишущим, к тому же знаменитым людям.
Дальше в мой рассказ вступает еще одно действующее лицо: моя дочь Ира. Приехав в 1992 году в Америку в гости, она, как многие тогда, решила остаться, попросить политическое убежище. Документы проходят долго и нудно, а Ире не терпелось поехать в Италию — то ли на какой-то фестиваль, то ли на конкурс пианистов. Но с каким документом ехать? Тут, как это обычно бывает, появилась некая дама, из наших, взявшаяся снабдить Иру… нансеновским паспортом. Что это такое — не мне вам объяснять: когда-то, кажется, в тридцатых годах, он был моден, а в девяностых сыграл с Ирой злую шутку. Вылететь-то из Америки она вылетела, а вот влететь обратно так просто не получилось. Американцы, оказывается, этот самый нансеновский паспорт не признают! Ире, да и нам, родителям, узнать бы об этом заранее, да куда там! «Нансеновская» дамочка клялась, что Ира не первая, кому она сделала (в скобках заметим — всучила) паспорт-«вездеход», оказавшийся «лапшой на уши».
Время идет, Ира кукует в Италии (сильно не горюя, как она потом расскажет — все-таки Италия есть Италия), а мы в своем Нью-Джерси ломаем головы, как нашу дочь заполучить в Соединенные Штаты…
Друзья советуют: пиши в Иммиграционный офис, сенатору, конгрессмену. Но я решил — будь что будет! — написать прямо президенту Клинтону. Да писать не от себя лично — кто я такой? — а от имени знаменитых русских, живущих в Америке.
Мой сосед по Нью-Джерси великий математик Израиль Моисеевич Гельфанд[113] ознакомился с сочиненным мной текстом и подписал его.
Эрнст Неизвестный, видимо, наученный горьким опытом участия в подобных ходатайствах, произнес сомнительную фразу:
— Мне вы говорите, что Гельфанд подписал, а ему — что подписал я, так что ли?
Немного рассерженный, я привез Эрнсту Иосифовичу подписанное Гельфандом письмо…
Осталось получить подпись Аксенова.
Звоню ему в Вашингтон, объясняю ситуацию с дочкой. Он мгновенно соглашается письмо подписать, я — ему:
— Тогда давайте я вам текст прочту прямо сейчас, по телефону!
— Я что, не знаю, что ты умеешь писать? Ставь за меня закорючку — и дело с концом!
Недели через две мне позвонили из Минюста США, которому тогда подчинялся иммиграционный сервис, а месяца через три (американская бюрократия, как любая другая, торопиться не любит) Ира была дома…
Но точку на этом я не ставлю. Несколько лет спустя на концерт Ирины в Вашингтоне, в Филипс-галери, я пригласил Василия Павловича Аксенова. Пригласил больше из вежливости, без всякой надежды на отклик, а он взял и пришел! Да еще зашел (или я его затащил?) после концерта за кулисы, поблагодарил Иру за игру, сделал «музыкальные» комплименты.
Музыку Василий Павлович любил — это хорошо известно. Был поклонником джаза; замечательный саксофонист Алексей Козлов и основатель «Машины времени» Андрей Макаревич были его ближайшими друзьями. Но мало кто знает, что, будучи членом жюри очень престижной российской премии «Триумф»[114], именно он предложил присудить эту премию за 1997 год ныне всемирно известному пианисту Евгению Кисину[115], что члены жюри единодушно сделали.
Как только в книжных магазинах Нью-Йорка появилась «Московская сага», я ее прочитал и предложил автору обсудить роман по телефону. Он показался мне довольно поверхностным, кое-что в нем (например, фамилия Градов) меня просто раздражало. Я прямо сказал об этом В.П., он оправдывался: «Я писал «Сагу» по-английски для американской публики, старался, чтобы им была понятна жизнь советских людей того времени, логика их поступков».
Телевизионный фильм «Московская сага»[116], вышедший лет десять (а то и пятнадцать) спустя после написания романа, привлек интерес зрителей, в нем играли замечательные актеры, фильм заставил меня посмотреть на роман Василия Павловича другими глазами, вспомнить о когда-то прочитанном с каким-то даже ностальгическим чувством.
Несколько раз мы пересекались с Василием Павловичем в Москве, я храню фотографию, на которой мы запечатлены у одной из колонн Большого театра… Приезжал он и в Нью-Йорк, но не часто, свое отношение к «столице мира» он высказал в том самом, вашингтонском, интервью: «Нью-Йорк хорошо воспринимается только под банкой…».
Однажды, после встречи Аксенова с читателями в Бруклинской библиотеке, мы на трех машинах поехали в наш первый, по американским стандартам убогенький, дом. Василий Павлович был с приятелем, моя жена и ее подруга соорудили на скорую руку стол, заказали пиццу. Сидим, ждем, когда ее привезут, шутим, выпиваем. Василию Павловичу понравилась наша собачка — такса по имени Ося. И В.П. старался незаметно кинуть под стол Осе всякие вкусности: ветчину, колбаску, что, вообще говоря, в Америке возбраняется — домашние собаки и кошки едят, как известно, свою специальную, видимо, довольно пресную и однообразную еду, скатанную в шарики.
Василий Павлович, у которого дома водилась собачка по имени Пушкин, конечно, знал об этом и, жалеючи, решил побаловать нашего Осю.
Время бежит незаметно, тут звонят в дверь, в переднюю входит высокий молодой человек, несущий перед собой огромную плоскую коробку. И на чистом русском языке вопрошает:
— Пиццу заказывали?
Мы все из-за такого удивительного совпадения — русский писатель, русский «пиццоносец» — покатились со смеху, приятельница жены вместо ответа спрашивает парня:
— А вы знаете, кто у нас в гостях? Василий Павлович Аксенов!
— Знаю, — тут же нашелся разносчик пиццы. — Вот он! — и показывает пальцем на вальяжного спутника Василия Павловича…
Аксенову посвящали стихи Ахмадулина и Евтушенко, Вознесенский и Окуджава, его друзьми были Юрий Трифонов и Андрей Битов, учеником (в хорошем смысле этого слова) — Виктор Ерофеев, то есть цвет русской литературы последней трети ХХ века. Он был, безусловно, исключительно умен и талантлив, но — одновременно — доброжелателен, остроумен, мягок в общении. Противительный союз «но», помещенный между словом «талант» и словами, обозначающими человеческие качества его носителя, как раз и отражает досадное, однако часто встречающееся несоответствие между личностью и талантом…
Он сказал как-то, что вся литература русского зарубежья страдает одним недостатком: угрюмостью. Он любил и часто вспоминал Сергея Довлатова за его веселый литературный нрав, отсутствие в его рассказах и повестях занудства, поучительности, каменножопной советской «сурьезности».
Сама долгая аксеновская эмиграция, его присутствие в Америке скрашивали нашу — что греха таить? — непростую жизнь в ней.
Без него и Россия, и Америка опустели.
Валерий Маевский[117]
Три жизни Василия Аксенова
Василий Аксенов прожил три совершенно различных жизни. Первой была жизнь в СССР, второй — жизнь в Америке, третьей — жизнь в послесоветской России и во Франции.
1960: Первое знакомство
В детстве мы жили с Василием, можно сказать, по соседству — в Татарии, оба переживали голод и нищету военного детства, у обоих семьи были разрушены сталинскими расстрелами и лагерями. Я это всегда потом помнил и был благодарен ему за антисталинистские темы в его книгах. И в своей последней незаконченной повести «Ленд-лизовские» Василий вернулся к этому нашему детству, которое помнит все меньше людей.
Заочно я познакомился с Василием в 1960 году, когда, будучи польским аспирантом-физиком в ОИЯИ[118] в Дубне, я прочел его первую повесть «Коллеги». После репатриации в Польшу в 1947 году я окончил Варшавский университет, но все еще сохранял теплый интерес к студенческой жизни в СССР. Раньше мне попались «Студенты» Юрия Трифонова, а вот теперь эти «Коллеги», где было трое приятелей, как и у меня, где герой был, как и я, неловким очкариком, только что из института, и даже его девушка называлась именем моей давнишней любви. Все темы книги перекликались с моей тогдашней жизнью, а частые вставки из песен и стихов хорошо передавали атмосферу тех лет.
Много лет спустя, уже в Вашингтоне, приехав после отпуска из России, Василий рассказывал мне, как летом он плыл по реке на теплоходе и ранним утром, проплывая мимо той деревни, где после диплома работал участковым врачом, увидел на берегу здание своей, описанной в «Коллегах», больницы (все такое же), проплывающее мимо в полной тишине, как привидение. «И я подумал: а ведь мог там остаться на всю жизнь, не начни я тогда писать», — сказал он мне.
Вернувшись из Дубны в Варшаву, я потерял писателя Аксенова из виду. Лишь спустя лет двадцать, когда я уже переехал в Вашингтон и преподавал там физику, я прочел в «Вашингтон пост» статью о нем, озаглавленную как-то вроде «Самый выдающийся писатель столицы США пишет по-русски». Тут я припомнил шестидесятые годы и ту первую повесть начинающего писателя, которая вызвала тогда во мне такой резонанс.
1984: Второе знакомство; американская иммиграция
В США у меня возникли проблемы с иммиграционным ведомством, которое не желало продлить мне визу для научных работников. И вот в один прекрасный день в 1984 году, когда мы с женой мыкались от одного враждебно к нам настроенного бюрократа к другому в иммиграционной святыне района Арлингтон, я вдруг слышу уже почти позабытую за годы в Варшаве и США русскую речь: «Так куда же нам идти?» Это были Майя и Василий Аксеновы, тоже в борьбе с американской администрацией. Мы познакомились, стали иногда звонить друг другу, встречаться.
Василий сравнивал нас — эмигрантов — с амфибиями, потому что нам постоянно приходится пересекать границу двух стихий: дома мы разговариваем и живем в русском или польском языке и культуре, а как только выйдем за порог — окунаемся в американскую жизнь. В разговорах и встречах с Василием я стал припоминать русскую речь, стал опять читать по-русски и начал с его книг, написанных за эти годы. Встреча с ним вернула меня к моему русскому детству. Я привык серьезно относиться к советским злодеям, а тут вдруг Аксенов в «Скажи изюм» издевается и насмехается над своими преследователями, дает им разные прозвища — ублюдки, волчьи ряшки и т. п., — а это сразу показывает их место, они уже не такие жуткие. Я был очень ему благодарен за «Московскую сагу», эту эпопею жизни под преступным ярмом сталинских ублюдков, но когда я его спросил, будет ли он дальше писать о тех временах, он сказал, что уже сказал по этой теме все, что мог.
Василий описал свое знакомство с Америкой в книге «В поисках грустного бэби», где блестяще отразил впечатления человека из Нашего Лагеря, такого как и я, попавшего в Штаты, включая и переживания иммиграционного процесса, например его интервью:
«Это была большая красивая черная женщина с большими золотыми серьгами.
— А где же у вас форма FUR-1980-X-551, — спросила она бесстрастно, но мне показалось, что ее бесстрастность дается ей с трудом и что какая-то странная антиаксеновская страсть готова вот-вот выплеснуться и обварить мне ноги даже через кожу английских ботинок.
Форма, запрошенная ею, как раз не относилась к числу обязательных… Чувствуя, что снова тону, но все-таки делая еще беспорядочные плавательные движения, я любезно сказал делопроизводительнице, что форма FUR-1980-X-551 мной утрачена, но для получения соответствующей информации ей достаточно обратиться к компьютеру.
— Вы что, учить меня собираетесь моему делу? — спросила она.
Знакомая интонация советских чиновных сук будто наждачной бумагой прошла по моей коже, но что-то в свирепом тоне делопроизводительницы бурлило и новое, нечто мне прежде неведомое.
Вся моя пачка бумаг была переброшена мне с рекомендацией (сквозь зубы) для уточнения отправиться в другой отдел, то есть все начинать сначала.
Не успев еще даже спросить самого себя, почему я вызываю такие негативные чувства, но все еще пытаясь спасти положение, я бормотал что-то еще о компьютере и о том, что раньше эту форму от меня не требовали.
Делопроизводительница тут взорвалась как вулкан Кракатау.
— Что это вы тут разговорились, мистер?! У вас тут нет никаких прав, чтобы так разговаривать! Вы просто беженец, понятно?! Правительство США вовсе не настаивает на том, чтобы вы жили в этой стране!
Такого, признаться, я в Америке еще не встречал да и не ожидал встретить.
…….
— Что с вами? — спросил я. — Вы не слушаете меня, леди… Мне кажется, не принято в порядочном обществе…
Впоследствии я разобрался, что слово «леди» в этих обстоятельствах звучало неуместно. Она вскочила:
— Если вы считаете, что с нами трудно иметь дело, можете убираться из нашей страны!
Возникла кинематографическая пауза. Мы смотрели друг на друга. Это был редкий момент…
— Друг мой, неужели вы не понимаете? Это была расовая ненависть, — сказал польский беженец, случившийся быть в той же комнате».
1987: Булат Окуджава поет о перестройке
В 1987 году Василий пригласил нас прийти в Смитсоновский институт[119] в центре Вашингтона на концерт — встречу с Булатом Окуджавой. Шла перестройка, эта «Вторая Оттепель», стали пускать в Америку невыездных раньше писателей, неделей раньше здесь была Белла Ахмадулина, был Юз Алешковский, а вот теперь — Окуджава. В библиотеке Института встретилась небольшая группа руссо-американцев — было несколько университетских славистов, группа из госдепартамента, группа побольше из «Голоса Америки». Окуджава предупредил, что может «пустить петуха», чем сразу привел в отчаянье переводчицу, которая понятия не имела, что это значит. Я помнил его первые песни по 1960 году, когда в компании молодых московских актеров слушал его песни, исполняемые под гитару кем-нибудь из гостей. Они не были доступны тогда ни на пластинках, ни в печатном виде. Теперь Окуджава как раз заканчивал свой трехдневный американский тур концертов в Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Он сидел среди нас, с гитарой, и пел песни разных лет, среди них была и «Я пишу исторический роман», посвященная Василию. Две новых песни он написал в связи со своим 60-летием. Одну грустную — «Жаль, что юность пролетела…», где конец был еще грустней:
Особенно щемящее чувство вызвала другая новая песня, о которой он сказал, что это — о перестройке, как он ее понимает:
При последних словах он повернулся к сидящему рядом Василию — ведь это было про него и других диссидентов-эмигрантов поневоле. Пел также «Памяти моего брата Гиви» и «Ну что, генералиссимус прекрасный».
Я сообщил барду, что читал в варшавской «Политике» в прекрасном переводе Агнешки Осецкой его стихотворения о брате Гиви.
Атмосфера этого вечера, сотворенная Окуджавой и Аксеновым, была настолько московской, что когда мы вышли на огромную лужайку под освещенным куполом Конгресса справа и колонной Вашингтона слева, это был внезапный прыжок в совершенно иную действительность.
С 1989 года в Вашингтон стали приезжать все больше русских, среди них и писатели. Вероятно, они должны были испытывать странные чувства, встречая здесь когда-то проклятых властью эмигрантов — Аксенова, Ростроповича, Галину Вишневскую. Для советских людей они уже были как бы умершими, Атлантика, как река Стикс, отделяла «живой мир социализма» от «ада капитализма», оттуда не было возврата, туда нельзя было попасть при жизни. И вдруг — вот они все живые, бывшие «изменники родины» — Нуреев, Барышников, Войнович, Любимов — опять стали появляться в Москве, а Аксенов — это не дух, а тот же самый, что и десять лет тому назад, скорый на шутку писатель с разбойничьими усами, только гуляющий чаще по Пенсильвания авеню, чем по улице Горького.
1988: Профессор в «Почти МГУ»
В 1987 году я взял научный отпуск («саббатикал») в моем колледже и проводил его в соседнем университете Джорджа Мейсона (George Mason University — GMU, почти как МГУ) как приглашенный профессор. Как-то я заглянул в свой почтовый ящик, где нашел циркуляр президента университета Джонсона, объявляющий набор пятнадцати профессоров на почетные должности Робинсоновских профессоров, которые должны были поднять на должную высоту преподавание для студентов, стремящихся получить степень бакалавра. Профессоров университета просили выдвигать кандидитуры. Я сразу отправился к вице-президенту по академическим делам и сообщил, что выдвигаю Аксенова — самого известного писателя Вашингтона, имеющего уже солидный опыт преподавания в Америке. Я знал, что Василий преподавал русскую литературу в нескольких университетах, а в последнее время в Гаучер Колледже в Балтиморе. Мне было отвечено — ну, давайте, поговорите с ним и с факультетом иностранной литературы. В ближайший уик-энд я заявился к Василию с Майей в их новый таунхаус в модном районе Вашингтона Джорджтауне, по соседству с Мак-Артур авеню. Показываю ему объявление о профессуре. Василий, который вот уже четверть века проработал «внештатно» как вольный стрелок-писатель, отнесся очень скептически к моему предложению — ему явно не хотелось терять писательскую свободу. Но я знал, что занятий от него потребуют мало (два курса, шесть часов лекций в неделю), зарплата большая, а прожить на писательские гонорары наверное нелегко. Майя явно была на моей стороне. Я приводил пример Чеслава Милоша, нашего польского нобелевского лауреата — профессора литературы в университете Беркли в Калифорнии. А Набоков, а Берберова? В конце концов, после нескольких разговоров он согласился встретиться с людьми из факультета, те его, конечно, поддержали — и с 1988 по 2004 год Василий был «Робинзоном», то есть Clarence J. Robinson Professor of Russian Literature and Creative Writing[120], читая курсы по современной, авангардной и классической русской литературе.
Вскоре Аксеновы переехали из Джорджтауна в наш пригород Фэйрфакс, откуда до университета было пятнадцать минут езды на его «Мерседесе». Я часто преподавал в «Мезоне» как приглашенный профессор. Я приходил к Василию на его лекции и снимал его фотоаппаратом или видеокамерой. Потом мы шли в столовую на ланч. Вскорости он стал популярен в университете, его многие теперь знали. Он писал тогда свою единственную повесть по-английски «Желток яйца», придумывал там сцены с Марксом, Достоевским, Лениным, рассказывая, смеялся: видно было, сколько радости доставляли ему неожиданные встречи персонажей и повороты сюжетов.
А вскоре в разных его книгах стали появляться отзвуки его новой профессии.
«Осень-87… Большой территорией со своей внушительной застройкой в роман вступил кампус университета «Пинкертон». Псевдоготические башни здесь перекликаются с постмодерном, придавая пространству некую загадочность. В связи с новыми веяниями столетний монумент основателю школы, который был, кажется, каким-то колониальным предком знаменитого английского сыщика, со всеми своими причиндалами в виде треугольной шляпы, парика, доброго голубиного зоба, трости, которой ему столько раз хотелось протянуть вдоль спины своих студентов, нерадивых увальней Вирджинии, а также в виде чулок и башмаков с пряжками, оказался на основательно покатой площади, образовав центр некоей «концепции сдвига». Ну что еще нового? Прибавилось, конечно, огромное количество персонажей в лице двадцати пяти тысяч студентов «Пинкертона». Вот они тащатся от своих пространных, как пастбища, паркингов к учебным корпусам — кто в лохмотьях под стать Председателю Земли Велемиру, а кто по правилам клуба: блейзер, галстучек, шорты, румяные колена, похожие на подбородки гвардейцев. Одного спросишь, куда пойдет после учебы, ответит: в ЦРУ. Другой скажет: в мировую революцию».
(«Новый сладостный стиль».)
«В этом университете… для всех я Влас Ваксаков, русский профессор с каким-то отдаленным диссидентским прошлым…Студенты предпочитают называть меня «доктор Влос»… Никто не интересуется второй, вернее, первой стороной моей деятельности. Мало кто читает романы Стаса Ваксино, а если кто и читает, то не связывает этого автора с «доктором Влосом». В России, между прочим, дело обстоит наоборот: там меня знают как Стаса Ваксино; прежний молодой писатель-деревенщик Влас давно забыт».
«…Эйб сказал:
— Послушай, Влас, ведь я же знаю твой секрет. Ты не только профессор здесь, но еще и знаменитый автор Стас Ваксино там. Твои романы и здесь переведены, но почему-то никто в нашей школе не знает тебя как романиста.
— Я этого не скрываю, просто никто не спрашивает, — сказал я. — В 1980-м, когда я сюда приехал, многие знали, но потом тут сменилось целое поколение, пришла новая администрация, и все забыли. Знают, что какой-то тут работает «видный диссидент» из брежневских времен, но с романами Ваксино не связывают. Сейчас никто не может представить, какое значение в СССР придавали романам. Меня это вполне устраивает».
(«Кесарево свечение»)
Вася набирал не только реалии, но и персонажей для своих книг среди того и тех, что видел вокруг, и тогда у него появлялись, например, такие фрагменты:
«В последнее время они стали приглашать под оранжевую лампу чету Мак-Маевских, поляков, у которых за плечами была советская одиссея эвакуации, ссылок, а стало быть, и любви к русскому слову…»
(«Кесарево свечение»).
А так он описывает свой курс и своих студентов:
Класс Америка
Наша вашингтонская жизнь в предместьи Фэйрфакс
В общении с Василием я впервые понял, что книги не пишутся просто из головы, а что писатель художественно перерабатывает события и персонажи, с которыми сталкивается по ходу своей жизни. Писатель часто является «описателем». Василий в процессе написания «Москва-ква-ква» рассказывал, что использует в книге разные городские легенды: о зэке который улетел на свободу со стройки высотки, о подземных ходах из Кремля. Замечательны были придуманные им ночные телефонные разговоры Сталина со Смельчаковым, с тостами коньяком Греми, со сталинскими монологами, которые никто, кроме Аксенова, не мог бы так написать — столько там знания сталинской паранойи, сталинского способа мышления. А чего стоит сцена XIX съезда партии — маразматические бредни Сталина перед политбюро, убийственная сатира на энтузиазм до смерти боящейся его партийной толпы. Сразу узнается пародия на газетные отчеты с партийных сабантуев тех лет.
Василий говорил, что не будет писать мемуаров, ведь частицы его жизни разбросаны по его книгам. Как-то он рассказал, что где-то в 1951-м ему случилось идти в первомайской демонстрации по Москве, видеть на трибуне Сталина, и тогда у него мелькнула мысль, что ведь можно и стрельнуть по вождю. Эта ситуация повторяется в «Москва-ква-ква». Я проходил по Красной площади в такой же демонстрации четырьмя годами раньше, и никаких таких мыслей у меня не было, потому что тогда была еще жива удобная вера, что лагеря — это от Ежова, а Сталин ничего не знал. Об описанном в «Скажи изюм» покушении «желез» на героя Огородникова я слышал подробный рассказ от самого Васи: о том, как это приключилось с ним и Майей.
Начиная с «Московской саги», я одним из первых читал пересланные им по электронной почте его новые книги, он спрашивал мое мнение и я, как рядовой читатель, хвалил те куски, которые мне особенно нравились. Василий был прекрасный рассказчик, например, он рассказывал о том, как находил свои сюжеты или героев, или о том, что происходило с ним и появлялось потом в повестях и романах. Студентом он попал в Москву, в гостиницу «Метрополь», и вот там в ресторане пела потрясающая женщина Нина Дорда[121], которая произвела на молодого человека огромное впечатление; он ее запомнил, и она потом появилась в «Саге» как певица Вера Горда. В той же «Саге» Рокоссовский, Черняховский, Тухачевский вместе служат прототипами маршала Градова. Поэты Симонов и Смеляков собраны в «Москва-ква-ква» в сталинского поэта Смельчакова.
Или вот его впечатление из Магадана: мама взяла его на концерт в местный театр, первые ряды занимали главные паханы — чины лагерной администрации. На сцене появляется заключенный — знаменитый певец Вадим Козин[122]. Публика встречает его бурей аплодисментов. На это начальник Дальстроя махнул рукой своим подчиненным ублюдкам: убрать его! Он не мог стерпеть такого бурного приветствия зэку в своем присутствии, и униженный артист, понурив голову, возвращается за кулисы.
У Аксенова есть замечательная сцена в «Таинственной страсти» — встреча Хрущева в Кремле с писателями; он подробно о ней рассказывал, даже «в лицах», так что когда я читал эти страницы — я узнавал его устный рассказ. Но в книге это сатира на беснующегося первого секретаря.
Я наслаждался, читая сцены пленума Правления «Московской фотографической организации» или эпизоды с участием представителей «желез» в «Скажи изюм» (история альманаха «Метрополь») — везде прямая критика советской действительности заменялась куда более эффективной насмешкой, ехидством, язвительным сарказмом.
Читая теперь его последнюю автобиографическую повесть о детях Лендлиза (так он ее мне называл), я припоминаю разговоры с ним о нашем военном детстве: голод, нищета, скученность эвакуированных, везде шпана, он тонул в Волге, я тонул в Вятке… Его рассказы об аресте родителей. Удивительная история, как его маленьким, втайне от родителей, крестила бабушка, и только много лет спустя ему рассказала об этом женщина, которая девочкой была свидетельницей крестин. Он счел это знаком с небес и стал верующим, скорее деистом, чем христианином; отсюда наши совместные поездки в русскую или католическую церковь.
Последней книгой, которую он написал в Вашингтоне, была «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Когда он собирал материалы, я ему достал том сочинения Дюрантов[123] «Век Вольтера», он много оттуда почерпнул. Иногда звонит поздним вечером «Слушай, Валера, а как ты думаешь, в Париже в XVIII веке безопасно было ходить по городу без шпаги?» — это двое екатерининских гвардейцев из «Вольтерьянцев» прибыли в Париж, и надо было их экипировать в согласии с исторической правдой, за которой мы обращались к историкам. Книги свои по старинке он писал вручную, чтобы компьютер не тормозил плавного хода мыслей, но затем переписывал текст и исправлял его на своем Макинтоше. Электронной почты избегал, не заглядывал в нее, Интернету не доверял: «Да там все ненадежная информция».
Он радовался успехам друзей-иммигрантов в Америке: расспрашивал моего сына о его аспирантуре в Гарварде, гордился успехом моей жены, получившей кафедру нейробиологии в Европейском союзе: «Вот, знайте наших поляков!».
К американской политике мы относились по-разному — он был за республиканцев, я — за демократов. Но его подход к политикам был писательским, психологическим. В 1988 году ведущего демократического кандидата Гари Харта[124] журналисты сфотографировали с девушкой не слишком твердых правил, и тому пришлось снять свою кандидитуру. Я порицал Харта, что из-за такой глупости он погубил шансы на президентуру, на что Вася заметил: «Да девка-то уж больно хороша!» Он подумал, наверно, как в песне у Высоцкого: «А мне плевать, мне очень хочется!».
Все, что происходило в России, его кровно интересовало. Начиная с 1990 года, возвращаясь из летних поездок в Россию, он рассказывал о своих впечатлениях: в 1990-м он с возмущением риторически спрашивал Горбачева: «Войска в Литву посылать — ты что, о….л, Михаил Сергеевич?!» Во время выборов 1996 года он плыл на пароходе по Волге и произносил в прибрежных городах речи против коммунистов. Году в 91-м он приехал в Варшаву, где переводились на польский «Сага» и «Новый сладостный стиль», и остановился в нашем варшавском доме у моей мамы. Он оставил на ночь на улице взятую напрокат машину, и наутро она оказалась без снегоочистителей и антенны. Точно такой же урон тридцать лет тому назад понес на том же месте мой «Москвич», а я забыл Васю предупредить, что там по соседству живет «любитель запчастей».
В 1997 году мы с ним обсуждали возможность сделать в связи с 60-й годовщиной Большого Террора фильм об этом массовом преступлении советской власти, нечто вроде «Списка Шиндлера»[125]. Вася мог бы написать сценарий, например, по книге его матери Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», но сомневался, можно ли достать сумму порядка 40 миллионов долларов, нужную для такого фильма. Только в 2009 году немецкая компания выпустила фильм «Крутой маршрут».
Ему очень хотелось перенести на экран «Остров Крым»; когда я переслал ему песню под таким же названием, которую поет Жанна Бичевская, он загорелся: «Вот есть и ведущая мелодия, хорошо бы, чтобы она это пела в начале картины…».
Василий забирал меня с собой на встречи читателей с приезжими литераторами — Беллой Ахмадулиной, Александром Городницким, Владимиром Войновичем. Он прекрасно знал Вашингтон, который стал для него Нашингтоном — знал все проезды, улицы с односторонним движением, умел каким-то чудом припарковаться в тесноте столичных улиц.
Но в последние годы в Америке он чувствовал все большее отчуждение от американской литературной среды; Майя говорила: «Да, вот, не востребован».
Незадолго до его отъезда из Штатов, когда мы прогуливались по кампусу GMU и зашел разговор о нашем возрасте, он грустно сказал: «Наше поколение уже сходит со сцены». Я не согласился — пока он бегает и играет сам с собой в баскетбол, а я плаваю по километру — значит, есть еще порох в пороховницах.
2003: Нобелевский кандидат
В 2002 году профессор экономики университета Мейсона Вернон Смит получил Нобелевскую премию. Университет страшно загордился. Я тогда подумал: а ведь у них есть еще один железный кандидат. Написал письмо президенту университета, теперь им был уже не Джордж Джонсон, а Алан Мертен[126]. Тот поднял вопрос на факультете, там такое предложение, оказывается, уже давно вынашивали, и, имея благословение президента, декан факультета современных и классических языков профессор Джули Кристенсен встала во главе проекта. Дело надо было держать в строгой тайне от кандидата и от остального подлунного мира. Под каким-то предлогом затребовали от Василия его Си-Ви и список его книг. Надо было перечислить не только русские, но также переводы на другие языки. Василий мог только сказать, что около двадцати пяти повестей переводились на примерно тридцать языков, но подробного списка у него никогда не было.
Тогда я был допущен в аксеновский гараж, где все его авторские экземпляры были сложены в десятки ящиков. Мы выбирали по одному экземпляру, я забирал весь этот груз домой, сканировал обложки и выходные данные, затем составлял иллюстрированные списки с данными о датах, издательствах, номерах ISBN. Физик работал как технический секретарь друга-писателя. Профессор Кристенсен написала замечательную профессиональную номинационную работу — письмо в Нобелевский комитет, и к первому февраля 2003 года полный номинационный пакет плюс несколько пачек книг были отправлены в Стокгольм. Поскольку известно, что многие успешные кандидаты были предлагаемы Нобелевскому комитету много раз, прежде чем получили премию, факультет присылал аксеновскую номинацию в Стокгольм еще пять раз, почти до самой смерти Василия.
2004: Опять свободен Старый Сочинитель
В мае 2004 года Василий закончил университетское преподавание и вышел на пенсию. Его тянуло в Европу, там были его читатели, ему нужно было свободное время, чтобы писать новые романы. Университет устроил ему почетные проводы, и Василий в своей прощальной речи говорил о том, что для него значил университет. Эти мысли он потом повторил в одном из своих многочисленных интервью:
«Потом я уехал из Соединенных Штатов, которые мне дали очень много и, прежде всего, университет. Я обожаю американские университеты. Нет лучшего места на земле, чем американский университет. Я почетный член университета Джорджа Мейсона и провел там лучшие годы в своей американской жизни… Университетский кампус для меня самая естественная среда… Парфенон не врет!
…Американская литературная среда на меня совершенно не повлияла. А вот американский университет — очень сильно. Я стал другим человеком. Я был богемщик, писатель, хемингуевина, короче говоря. А за двадцать один год жизни в американском университете я, конечно, превратился в американского интеллектуала. Отчасти. Представьте: в кабинете сидят француз, перс, китаец — и все это американская университетская среда. Я был членом этой среды и, вероятно, им останусь. Это не значит, что я перестал быть русским писателем. А вот американским писателем я не стал ни в какой мере. Они меня не приняли — или я не принял их. Может быть, я не понял какой-то системы координат.
Я 24 года преподавал в американских университетах. Через мой класс прошли 3 тысячи американских молодых людей. И для меня самое лучшее место в Америке — это кампус. Я боготворю американские университеты и презираю американский бизнес, с которым мне тоже приходилось сталкиваться и где не щадят людей совершенно… Мы сами программы придумывали. Я придумал две программы. Для первокурсников — «Образы утопии». Никаких конспектов. Каждый день сочинял лекцию заново. Читал курс о конце XIX — начале XX века, заканчивая левым русским авангардом. Показывал слайды. Они поражались: неужели это было у вас уже в 1913 году? Это похоже на Джексона Поллока[127]! А Джексон Поллок был просто подражателем Василия Кандинского. Они никак этого не могли понять. Еще один класс — для старших курсов. Там я читал лекции по истории русского романа.
Корр.: Много человек ваши лекции посещали?
Аксенов: Колоссальный интерес, все время была очередь на запись.
Корр.: Ваши лекции существуют на бумаге?
Аксенов: Что-то записывал, но оставил в Америке. Кто-то иногда на магнитофон записывал. Собрать это очень трудно.
Корр.: Вам не жалко? Такой уникальный курс лекций можно было бы издать.
Аксенов: Я все время отклонялся на сочинительство, время экономил. Но преподавание очень благодарная работа. Ты видишь, как на глазах меняются твои студенты…»
Памятную книжку, изданную университетом, где свою дружбу и любовь к Василию выразило человек двадцать писателей и литераторов России и Америки, он мне подписал так: «Валерию — другу и брату»… Мы уезжали первыми в Европу, он отвез нас на вашингтонский аэродром Даллеса. Вася уже никогда не вернулся в Америку.
Началась третья жизнь Аксенова — российско-француз-ская.
2006: Джоггинг и Йога
Ранним летом мы с женой собрались путешествовать по Испании, и начали с Биаррица, погостив несколько дней у Майи и Василия. Был апрель, на пляже можно было только бегать по серпантинам на крутом берегу, среди тамарисковых рощ, что мы и делали. Василий рассказывал о новом романе «Редкие земли», для которого я послал ему материал — стихотворение Кирсанова о неодиме[128] и описание редкоземельных элементов.
«И, конечно, я искал различные источники, я почти ничего не знал до этой книги о редкоземельных элементах. У меня есть друг в Америке, польский профессор-физик Валерий Маевский, и он искал для меня какие-то вещи и пересылал мне по e-mail. И тут все тонкости, связанные с редкоземельными элементами, — они и объявились». (Интервью)
Его пленили эти экзотические названия и необычные свойства, и вот в честь каждого элемента он написал стихотворение в повести, где мы увидели, как эти элементы выглядят в воображении писателя:
Особенно ему нравилось это:
И повторял: «…моя одинокая птица…».
На Пасху мы с ним отправились, еще по вашингтонской традиции, в русскую общину Биаррица, которая в этот момент разделилась на две фракции, одна из которых захватила себе церковь, а другой пришлось праздновать в частном доме. Василий, как всегда, стал на сторону обездоленных, так что со свечками в руках мы трижды обошли этот дом.
Василий продолжал заниматься йогой, я потихоньку, чтобы не мешать, снимал его на видео, когда он вставал в традиционные позы. Он говорил, что когда-то в Москве чуть не стал алкоголиком, но спасли его бег и йога.
Я пытался уговорить его измерить давление крови, на всякий случай, но он решительно отказывался.
Он отвез нас в недалекий Байонн, откуда начинался наш тур, организованный фирмой знаменитого маршаковского мистера Кука, который отправил в СССР мистера Твистера. Там мы распрощались с Васей, как оказалось, навсегда, договорившись встретиться в Вашингтоне или в Москве.
Следующий 2007 год принес тревожные телефонные разговоры — у Василия появилась аритмия, ему установили кардиостимулятор, но голос у него был грустный, ему не стало лучше. Я пытался уговорить его приехать на обследование в Вашингтон, говорил также с его падчерицей Аленой, с которой мы были очень дружны, но он отвечал, что вот тут в санатории в Барвихе у него прекрасные врачи.
2008: Москва
После аксеновского инсульта в мае 2008 года я поехал в Москву впервые после 1960 года. Остановился у Майи и Алены, и мне позволено было навестить Василия в клинике Бурденко. Со сжатым сердцем, сдерживая слезы, я смотрел на него — он был в коме, но выглядел хорошо. Майя и Алена хотели, чтобы я предпринял попытку поговорить с ним. Я стал вспоминать то, что он мог бы помнить, — как мы в Рождество ездили вдвоем в католическую церковь Св. Матвея в Вашингтоне, или на Пасху в русскую церковь, или встречали канун Рождества или День благодарения или Пасху у нас дома, или Новый год у наших общих друзей Лены и Пети Волковицких-Щорсов. Припоминал, как ходили вдвоем на самые поздние сеансы в кино и сидели почти одни в пустом зале. Мы оба любим и знаем множество песен, я не раз звонил ему, чтобы освежить свою память, например, вдруг спрашивал; «Вася, а вот со времен войны где-то в памяти засела мелодия и слова нечто вроде: «Ночь темна, не видна в небе луна…» — я ему пою, а он подхватывает — помнит и слова, и мелодию из фильма «Актриса», говорит, слова такие хорошие, а тут Майя включается — главную роль играла Сергеева…» А помнишь, как ты писал «Вольтерьянцев», и я тебе узнавал про польские ругательства восемнадцатого века для сцены в гданьской корчме?
Так мы с полчаса «беседовали», но Вася ответить уже не смог…
После его ухода в моей жизни осталось большое пустое место, которое он в ней занимал, — пространство дружбы, литературы, общей судьбы. Нет Васи — кто в литературе будет помнить, что в будущем году минет 75 лет с того проклятого 1937 года, когда его лишили родителей, меня — отца и деда, и почти все наши ровесники тоже стали сиротами?
Петр Волковицкий[129]
Наверно у каждого человека есть какие-то моменты в детстве и юности, которые сильно влияют на его дальнейшую судьбу: это могут быть встречи с людьми, прочитанные книги, услышанная музыка или даже запахи — словом что-то к чему потом будешь часто возвращаться в памяти. Количество таких моментов в жизни уменьшается с возрастом, а потом они, к сожалению, совсем пропадают.
Одним из таких важных моментов моей юности стал роман Аксенова «Звездный билет». Сначала в «Юности» в 1960 году появились «Коллеги». Героям было по 25 лет, чуть меньше, чем автору в то время. А мне было всего 14 лет, и проблемы 25-летних были для меня далеки. А через год та же «Юность» опубликовала «Звездный билет». Это было стопроцентное попадание в мою 15-летнюю мальчишечью душу. Во-первых, в 15 лет все мальчишки мечтают быть постарше хотя бы на пару лет. Так что 17-летние герои повести были как раз моими героями. Во-вторых, идея свободы (в том числе и от родительской опеки) и ожидание любви были моими подсознательными доминантами. В-третьих, Прибалтика нам, москвичам, представлялась частью чего-то запретно-западного. Правда, впоследствии, побывав там неоднократно, мы все убедились, что это «тот же соцлагерь, только барак повеселее».
Тем не менее книга Аксенова открыла для меня новый мир, где живут герои моих мечтаний. Наверно, это была та самая романтика оттепели, которую ощущал автор книги и люди его поколения. Как Аксенов смог попасть в этот мальчишеский мир 60-х, я до сих пор не понимаю. Его 17-летие пришлось на времена послевоенной нищеты и разрухи. Вместо Прибалтики у него в 17 лет был Магадан, и мечты у него в 17 лет, я думаю, были другими. Когда Аксенов писал свой первый роман — он, как многие, писал о себе и о близкой ему среде. «Звездный билет» стал первым произведением большого мастера, который смог передать ощущения другого поколения.
Следующей книгой, перевернувшей мою душу, стал «Один день Ивана Денисовича»[130], опубликованный в 1962 году. Аксенов был для меня символом свободы, потому что я прочел его до Солженицына. Люди моложе меня на 5–10 лет, как правило, сначала читали Солженицына, а потом Аксенова, и поэтому аксеновские книги не произвели на них эффекта разорвавшейся завесы.
Потом наступили времена самиздата, и тут Аксенов снова оказался новатором — основателем нового литературного направления. Жанр альтернативной истории, столь популярный сегодня, ведет свое начало в русскоязычной литературе от «Острова Крым» Аксенова. Реалии советской жизни, сплетенные с придуманной Аксеновым несоветской жизнью на острове Крым, образовали сплав, который потом будет встречаться во многих его романах.
Моя встреча с писателем, оказавшим на меня в юности столь большое влияние, произошла уже в зрелом возрасте. В 1995 го-ду мы, эмигрировав из России в США, поселились в Северной Вирджинии, недалеко от Вашингтона. Почти сразу после приезда я начал читать лекции по физике в университете им. Джорджа Мейсона, где Аксенов занимал почетную позицию робинсоновского профессора. Моя жена Лена была знакома с Аксеновым еще с 60-х годов. Мы встречались с Васей и его женой Майей как в университете на вечерах, организованных Русским студенческим клубом, куда входило много аксеновских студентов, так и в гостях друг у друга и у общих знакомых.
Аксеновские курсы по истории романа и русской литературе ХХ века пользовались успехом у студентов, хотя, как мне кажется, Аксенов несколько тяготился своей преподавательской деятельностью. Я не помню, чтобы он высоко оценивал своих студентов, хотя несомненно, общение с молодыми людьми подпитывало его энергией.
Из романов, вышедших в США на английском языке, наибольшим успехом пользовалась «Московская сага» (в английском переводе — «Поколение зимы»). Аксенов с удовольствием рассказывал о своем выступлении в Пентагоне и о большом количестве вопросов читателей об этой книге.
Конечно, Аксенов не был удовлетворен судьбой своих романов в Америке. Не был удовлетворен он и интересом к предмету своих студентов. Поэтому, как только у него появились финансовые возможности, он купил домик в Биарицце, во Франции, и ушел из университета Джорджа Мейсона. Последние пять лет своей жизни Аксенов делил между Москвой и Биаррицем. Он продал свой дом в Фэрфаксе и не приезжал больше в США.
Александр Генис
Наездник бочкотары[131]
Аксенов всегда был модным. Ему удалось то, о чем мечтают все писатели, — перешагнуть границу поколений. Он покорил всех — и романтических читателей журнала «Юность», и бородатых диссидентов, и сегодняшнюю Россию, где «Московская сага» (сам видел) делит книжный развал с Пелевиным и Сорокиным. При этом нельзя сказать, что Аксенов, «задрав штаны, бежал за комсомолом», как бы тот ни назывался. Просто он всегда был молодым. Основатель русской версии «джинсовой прозы», Аксенов сохранил ее способность «освежить мир». Не перестроить, заметим, а отстранить, сделать новым, а значит — юным. Борясь со «звериной серьезностью» (его выражение), Аксенов поставил на «карнавал и джаз». Неудивительно, что он прижился в Америке. Как его американские учителя и соратники — от Сэлинджера до Пинчона[132] — Аксенов исповедовал вечный нонконформизм, взламывающий окостеневшие формы романа, мира, жизни. Об этом, в сущности, все его книги, но прежде всего — «Затова ренная бочкотара».
Писатель любит, когда хвалят его последнюю книгу, но я, читая Аксенова с 4-го класса и зная его четверть века, позволю себе выбрать именно эту повесть, ибо в ней произошло невозможное. Очистив иронией штамп и превратив его в символ, Аксенов сотворил из фельетона сказку, создав положительных героев из никаких.
Когда, наконец, закончится затянувшаяся война отцов и детей и в России поставят памятник «шестидесятникам», хорошо, если б им оказалась затюренная, затоваренная, зацветшая желтым цветком бочкотара, абсурдный, смешной и трогательный идеал общего дела для Хорошего Человека.
Jack Matlock[133]
Remembering Vasya Aksyonov
I was first assigned to the American Embassy in Moscow in 1961. This was when the «Generation of the Sixties» (шестидесятники) was beginning to rise in prominence. It was an exciting development for those of us who admired Russian literature and were appalled at the crushing of creativity brought on by Stalin’s enforced «socialist realism». I read Vasya’s Starry Ticket with great interest, particularly since it seemed to deal with the same theme as the American writer J.D. Salinger did in his The Catcher in the Rye — a disaffected adolescent who runs away from humdrum reality to what he imagines will be a more glamorous life elsewhere.
I then began to follow the stories Vasya published in Yunost’. «Oranges from Morocco» was one that impressed me. Much later, he told me that the story was inspired by an experience while he was in school in Magadan. The original h2 had been «Oranges from Israel». He was instructed to replace Israel with Morocco in the h2 after the Soviet Union broke relations with Israel following the 1967 war.
Although I was a young diplomat not much older than Vasya, my academic specialty had been Russian literature and I was eager to meet as many Soviet writers as possible. In fact, one of the reasons I entered the American Foreign Service was because it seemed, while Stalin was still alive, one of the few ways an American could live for a time in the Soviet Union and thus have direct contact with Russian culture. Soviet authorities, however, did their utmost to prevent even the most innocent, non-political contact between Soviet citizens and members of the American Embassy staff.
Nevertheless, many members of the «Generation of the Sixties» welcomed contact with us and responded to invitations when they thought they could get by with it. Usually we arranged social functions when American writers or other cultural figures were visiting under our official exchanges agreement. It was at one of these functions that I first met Vasya. I saw him more often when I was assigned to the embassy in the 1970s, and therefore we were well acquainted with each other by the time the Woodrow Wilson Center invited him to come to Washington for a year.
Among the many memories of our meetings in Washington two stand out. During the early part of 1981 I was in temporary charge of the American Embassy in Moscow but returned briefly to Washington for consultations. When I arrived, I was told that Vasya and Maya invited me to a party in their Washington apartment. I don’t recall whether it was a birthday party or another occasion, but it turned out to be a rather strange combination of celebration and mourning. Vasya had come to Washington on a grant to stay for a year. He had left Moscow with no intent to emigrate. But shortly before the party he learned that he had been deprived of Soviet citizenship.
That news hit Vasya hard. Uncomfortable as he had been with Soviet restrictions on life, Russia was home and to feel rejected by the government of his own country and to lose the prospect of returning when he wished were bitter counterparts to his feeling of artistic liberation in America. Maya had prepared a sumptuous meal with much seafood — I recall piles of lobster. We were all outwardly exuberant, welcoming the Aksyonovs to America, but there was an undercurrent of melancholy as well, a mood well in tune with the jazz melodies Vasya loved so much.
My next snapshot memory: Rebecca and I arranged a dinner for the Askyonovs and Lyubimovs when Yuri Petrovich was in Washington directing his version of Crime and Punishment at the Arena Theater. They were two titans of Russian culture forced into what fortunately turned out to be temporary exile, though no one at that time could be confident it was temporary. Leonid Brezhnev was at the height of his power, but already showing signs of senility. During dinner, Vasya and Yuri regaled us with hilarious improvised skits. Lyubimov would play Brezhnev and Vasya a fawning Soviet journalist putting questions to him. Their performance kept all the guests in stitches and provided us with one of the most memorable evenings we have experienced.
Vasya was finally allowed to return to Moscow during Gorbachev’s perestroika. I was then American ambassador in Moscow and Rebecca and I invited Vasya and Maya to visit and to stay with us while in Moscow. We attended with them the dramatization of Yevgenia Ginzburg’s memoirs at Oleg Tabakov’s Sovremenik Theater, and also a dramatization of Vasya’s povest’, «Zatovarennaya bochkotara». Both plays were done brilliantly. Vasya was deeply moved by the portrayal of his mother’s experiences, and delighted that Tabakov and the Sovremenik actors had managed to capture the spirit and humor of the story he had written.
While on this first trip back to Russia — it was still part of the Soviet Union then — Vasya agreed to give a public lecture at Spaso House about his experiences in America. He called it «A Russian Writer in America». As I recall, his theme could be summarized as follows: «I am a Russian writer living in America. When my country rejected me, America took me in. But I am still a Russian writer. A Russian writer in America». The following year, Vasya’s Soviet citizenship was restored.
As an American whose life has been intwined with Russian culture, I am comforted by the thought that my country has served at critical times as a refuge for creative artists facing political oppression at home. Vasily Aksyonov and Yuri Lyubimov, along with many others including Vladimir Nabokov, Alexander Solzhenitsyn, Mstislav Rostropovich, Ernst Neizvestny, and Iosif Brodsky enriched both American and Russian culture by their presence on our soil. Anyone who argues that the fundamental interests of Russia and America are in conflict should ponder the fact that our cultures are not only mutually compatible, but are mutually supporting. Neither culture would be what it is without the other, and there is no better proof of our shared values than the work of Vasili Pavlovich Aksyonov.
Джек Мэтлок
Вспоминая Васю Аксенова[134]
Впервые я получил назначение в американское посольство в Москве в 1961 году. В то время «шестидесятники» становились популярными. Это невероятно вдохновило тех из нас, кто восхищался русской литературой и был потрясен крушением творческого потенциала во времена сталинского «социалистического реализма». Я прочитал Васин «Звездный билет» с большим интересом, особенно с того момента, когда он показался мне связанным с той самой темой, которую затронул американский писатель Дж. Д. Селинджер в своей книге «Над пропастью во ржи»: недовольный подросток убегает от однообразной действительности к воображаемой чарующей жизни в другом месте.
Затем я начал читать Васины рассказы, опубликованные в «Юности». «Апельсины из Марокко» впечатлили меня. Позже он сказал мне, что рассказ был вдохновлен переживаниями того времени, когда Вася учился в магаданской школе. Оригинальным названием было «Апельсины из Израиля». Ему пришлось поменять в названии Израиль на Марокко после того, как Советский Союз разорвал отношения с Израилем вслед за войной в 1967 году.
Хотя сам я тогда был молодым дипломатом, немногим старше Васи, я живо интересовался русской литературой, поскольку занимался ей в университете, и горел желанием познакомиться с советскими писателями. Собственно, дипломатическую службу я выбрал как раз потому, что при жизни Сталина для американцев это был один из немногих способов напрямую соприкоснуться с русской культурой. Советские власти, впрочем, делали все возможное, чтобы предотвратить какие-либо, пусть самые невинные, неполитические связи между советскими гражданами и сотрудниками американского посольства.
Тем не менее многие «шестидесятники» приветствовали контакт с нами и отвечали на приглашения в тех случаях, когда им разрешалось так поступить. Обычно мы выполняли организаторские функции, когда американские писатели или другие деятели культуры посещали посольство в соответствии с нашим соглашением об обменах. При выполнении одной из этих функций я впервые встретил Васю. Я видел его довольно часто, когда работал в посольстве в 1970-х, и поэтому мы очень близко познакомились друг с другом в то время, когда Центр Вудро Уилсона пригласил его приехать на год в Вашингтон.
Среди воспоминаний о наших встречах в Вашингтоне можно выделить два случая. В самом начале 1981 я был временным поверенным в американском посольстве в Москве, но вскоре вернулся в Вашингтон для консультаций. Когда я приехал, мне сказали, что Вася и Майя пригласили меня на вечеринку в своей вашингтонской квартире. Я не помню, был ли это день рождения или какой-то другой повод, но в результате вечеринка оказалась довольно странной комбинацией праздника и траура. Вася приехал в Вашингтон по гранту, чтобы остаться на год. Он покинул Москву без всякого намерения эмигрировать[135]. Но незадолго до вечеринки он узнал, что лишен советского гражданства.
Это известие стало для него тяжелым ударом. Как бы ни тяготили его многочисленные ограничения, существовавшие в Союзе, Россия была его родным домом, и радость от того, какую свободу он обретет в Америке, омрачали горькие чувства, вызванные тем, что его отвергло правительство собственной страны и теперь он не сможет вернуться туда, когда пожелает.
Майя приготовила роскошный обед из морепродуктов — помню, было много лобстеров. Внешне все мы казались полными воодушевления и радушно приветствовали Аксеновых в Америке, но присутствовала и тайная меланхолия, созвучная джазовым мелодиям, которые так любил Вася.
Следующий кадр моих воспоминаний: Ребекка и я устроили обед для Аксеновых и Любимовых. Юрий Петрович ставил тогда в Вашингтоне свою версию «Преступления и наказания» в театре «Арена». Они были двумя титанами русской культуры, обреченными на то, что, к счастью, оказалось временным изгнанием, хотя тогда никто не верил, что оно будет временным. Леонид Брежнев был на пике своей власти, но уже заметно старел. Во время обеда Вася и Юрий потчевали нас веселыми импровизированными пародиями. Любимов играл Брежнева, а Вася — советского журналиста-подлизу, задававшего ему вопросы. Их представление держало всех гостей в напряжении и подарило нам один из самых памятных вечеров, который мы пережили.
Васе разрешили вернуться в Москву во время горбачевской перестройки. Тогда я был американским послом в Москве, и мы с Ребеккой пригласили Васю и Майю остановиться у нас во время их пребывания в Москве. Вместе с ними мы посетили спектакль, поставленный по мемуарам Евгении Гинзбург в «Современнике» Олега Табакова, а также спектакль по Васиной повести «Затоваренная бочкотара». И то и другое было поставлено великолепно. Вася был глубоко потрясен изображением переживаний своей матери и доволен тем, что Табаков и актеры «Современника» сумели поймать дух и юмор истории, которую он написал.
Во время своей первой поездки в Россию — тогда она все еще была частью Советского Союза — Вася согласился прочитать лекцию в «Спасо-хаусе» (резиденции посла США в Москве) о своей жизни в Америке. Он назвал ее «Русский писатель в Америке». Насколько я помню, смысл ее заключался в следующем: «Я — русский писатель, живущий в Америке. Когда моя страна отвернулась от меня, Америка меня приняла. Но я все еще русский писатель. Русский писатель в Америке». В следующем году Вася был восстановлен в статусе советского гражданина.
Как американца, чья жизнь была связана с русской культурой, меня успокаивала мысль, что моя страна в критические времена служила убежищем для творческих людей, столкнувшихся с политическими притеснениями у себя дома. Василий Аксенов и Юрий Любимов, наряду со многими другими, включая Владимира Набокова, Александра Солженицына, Мстислава Ростроповича, Эрнста Неизвестного и Иосифа Бродского, обогатили и американскую, и русскую культуру своим присутствием на нашей земле. Любому, кто утверждает, что фундаментальные интересы России и Америки находятся в конфликте, следует обдумать тот факт, что наши культуры не только совместимы, но и взаимно поддерживают друг друга. Никакая культура не может существовать без другой, и нет лучшего доказательства наших общих ценностей, чем творчество Василия Павловича Аксенова.
Александр Кабаков
1. Он дал мне звездный билет[136]
Мне было шестнадцать лет, я читал журнал «Юность» и точно знал, что писатель Василий Аксенов пишет именно для меня и обо мне. Собственно, по мере того, как в юности я читал Аксенова в «Юности», я и становился собой и в конце концов стал тем, кем стал. Не в этом коротком возгласе восхищения и благодарности определять место Аксенова в истории русской и истории вообще. Место это уже давно определено. Он не просто ввел в историко-литературное существование свое и несколько последующих поколений, он создал эти поколения — их вкусы, мифы, стиль жизни, образ мыслей, представления о мире и себе самих. Еще точнее — он сам стал стилем, мифом, философией. Он не только создал большую часть русской прозаической классики второй половины XX и начала ХХI века — он предложил современникам образец идеальной писательской и вообще человеческой жизни в далеко не идеальных и вообще нечеловеческих обстоятельствах.
Я — один из тех, кто вышел из Василия Аксенова. Помешанный на литературе школьник, в полуобморочном от нетерпения состоянии открывавший новый журнал с новым Аксеновым, я ни в каком сне не мог увидеть, как когда-нибудь встречусь с ним, познакомлюсь, стану младшим другом. Он был еще совсем молодым человеком, но уже тогда мерцающий ореол легенды окружал его.
Чему существование Василия Аксенова учило меня? Например, тому, что в Советском Союзе можно писать так, чтобы это было литературой. Еще совсем мальчишкой я уже не верил, что можно писать честно, смешно, грустно, трогательно — и это будет напечатано в нашей стране. Случай Аксенова почти убедил меня, что можно. Почти — потому что я был уверен, что случай этот абсолютно исключительный. Вообще-то я был прав…
Потом мы познакомились, я вечно буду благодарить Бога и джаз, нашу общую любовь, за это знакомство. Он никогда не давал мне уроков, но само сосуществование с ним в одном литературном и жизненном пространстве было уроком. У него я учился видеть фантастическую сущность нашей жизни и реальную сущность литературы, замечать плавное, без швов соединение комического и ужасного, повелевать словами и подчиняться их силе. Не будь его примера, я бы никогда не решился на литературную попытку — мне казалось, что уже нечего там искать, он своими сочинениями постоянно доказывал, что там еще многое можно найти. Все, что я написал, суть поиски вокруг застолбленного им участка.
У Василия Аксенова есть одна из ранних повестей «Звездный билет» — о ребятах моего поколения, которое он считал поколением своих младших братьев. Я благодарен за звездный билет, который получил от него, по этому билету я вошел в литературу, и билет этот по сей день действителен.
2. Аксенов = Аксенов = Аксенов[137]
Для своего поколения он стал в начале шестидесятых и остается уже больше сорока лет чрезвычайным и полномочным послом в литературе, представителем генерации, говорящим за нее и о ней, точнее, пишущим то и так, что и как они сами хотели и могли бы написать, получи от Создателя такой дар. А в восприятии моих сверстников Аксенов сразу стал классиком, поскольку его сочинения существенно дополнили картину литературного мира, известную до него: если бы не он, нам бы в головы не пришло, что так свободно писать можно здесь и сейчас, а не только там и тогда. Мы обнаружили настоящую литературу не в собрании сочинений дореволюционного, за давностью лет разрешенного советской властью гения, а в новехонькой, только что вылупившейся повести нашего старшего современника. И окончательно признали за ним право номера первого, когда стали не только читателями, но и персонажами аксеновской прозы — экранизацию его «Звездного билета» очень точно назвали «Мой младший брат», а мы и были его младшими братьями.
Что мы получили тогда от Аксенова? Что продолжаем получать по сей день, независимо от того, как он обновляет приемы и актуализирует сюжеты, со стихами и без, в его персональных жанрах исторической фантазии и альтернативной современности? Собственно, чему он научил и учит нас всех, пишущих, включая тех, кто уверен, что ничему у него не научился, не хочет учиться и даже недолюбливает его?
Первое: я думаю, именно он показал, что процесс называния не закончился в русской литературе, как и в литературе вообще. Что не только Золотой девятнадцатый, но и Серебряный, и мощные эксперименты двадцатых прошлого столетия не исчерпали возможностей присваивания имен всему сущему. Хищным своим ухом вылавливая слова и сочетания слов в невнятном шуме реальности, Аксенов превращает их в знаки, по которым эта реальность реконструируется (думаю, и будет реконструироваться потомками наших потомков), как облик ящера по кости под стеклом зоологического музея. Его «индекс, точнее, индифферент посягательств», его «затоваренная бочкотара», «иорданские брючки», «полковник Кянукук», «ночь на штрафной стоянке ГАИ», Крым-таки-ставший, в конце концов островом в нашем сознании, его обожженные семидесятые и мы, люди с несводимыми следами этого ожога, его недавние уноши летучие, город Ква-ква и редкоземельные наследники всего созданного им словесного универсума… Все это уже никуда не денется, оно уже там, где «лишние люди», «отцы и дети», «дома с мезонинами», «дамы с собачками», «котлованы», «час жаркого весеннего заката», и даже там, где «потерянное поколение» и утки на пруду в Централ-парке… Все это в одном великом собрании слов-знаков, в музее подарков, сделанных миру его истинными писателями.
Второе: он воскресил и продолжил ту русскую литературную традицию, которая к середине пятидесятых была, в сущности, изведена под корень — традицию гротеска, фантазии с усмешкой издевательской и сочувственной одновременно. В обиходе был очиновленный хрестоматиями Гоголь, тот, которому поставили новый памятник «от советского правительства». Еще Салтыков из школьных программ в качестве обличителя царизма. После большого перерыва были даны некоторые послабления Ильфу с Петровым. Зощенко остался непрощенным. Булгаков существовал призрачно — в рукописи и букинистических изданиях малых сатир… Советская литература была идиотически серьезной и столь же далекой от игры, как отчетные доклады ее секретарей. Максимумом позволенного, кроме создания образов передовиков производства и покорителей целины — или как оживление этих же образов, — была кастрированная, бесполая любовная лирика, за которую, впрочем, тоже строго указывали: мол, нечего про вздохи на скамейке и прогулки при луне. В эту духоту и влетели Кянукук из «Пора, мой друг, пора», герои культовых, как сказали бы теперь, «Жаль, что вас не было с нами», «Рыжий с того двора», «Победа»… То, как рассказывалось об этих и других аксеновских людях, было абсолютно невообразимо до него или без него. В нынешних карнавальных фантасмагориях Аксенова не все распознают ту же фирменную усмешку из-за угла поднятого воротника, с прищуриванием светлого глаза, с вовсе не стариковским, а несколько актерским кхеканьем… А она, эта очаровательная аксеновщина, никуда не делась, и сам Василь Палыч — ее законный хранитель, нынешние же осквернители, преобразовавшие его аристократическую иронию в плебейский стеб и при этом отказывающиеся признавать права первородства, осквернители и есть, изготовители «самопала» под фирму.
Третье: он снова ввел в русскую литературу человека городского, мещанского, говоря нормальным русским языком, сословия. В легально издаваемых сочинениях тогда жили исключительно рабочие, мыслившие масштабами министров, и крестьяне, обуреваемые шекспировскими страстями, исследовался внутренний мир секретарей райкомов, и внедрение передовой технологии в доменное производство описывалось психологической прозой. Аксенов же выпустил в литературную жизнь студентов и только что получивших аттестат школяров, дальневосточных бичей (популярное развертывание: «бывший интеллигентный человек») и неудачливых художников, робких гроссмейстеров и «интеллигентов вообще». Позже, в семидесятых, примерно той же публике дал права литературного гражданства другой мой учитель, Юрий Валентинович Трифонов, Царство Небесное, вечный покой. Но в трифоновской прозе мы, образованные горожане, обнаружили себя в натуральном, не всегда приглядном виде, хмурыми и озабоченными, готовыми к компромиссу и ненавидящими себя за это… А у Аксенова мы были веселыми, загульными романтиками, охотно корчившими рожи перед кривым зеркалом иронии, грустившими слегка и недолго — словом, жаль, что вас не было с нами. Но это были одни и те же люди, просто как бы в разном настроении.
И как писал про нас Аксенов, так про нас и сейчас пишет — просто мы теперь другие, одни живы, но изменились со временем и страной, а иные уже и освободили поляну для новых «нас»… Потому-то странная история происходит с аксеновскими романами в последнее время. Многие предъявляют к совершенно живому, живее многих совсем молодых, писателю требования как к создателю готовых уже при первом издании литпамятников, даже, собственно, как к самому литпамятнику. Они хотят «того Аксенова», не понимая, что «этот Аксенов» — он и есть тот самый, только живущий и пишущий теперь. Аксенов — это Аксенов сегодня, величина, равная самой себе, но переменная.
…В 1972 году, поздней весною, в Москву приезжал с гастролями экстраклассный американский биг-бэнд Тэда Джонса и Мэла Льюиса. Тогда что-то защелкнулось в головах коммунистического начальства культуры, и в первой половине семидесятых к нам стали звать великих американских джазовых музыкантов — большие оркестры Дюка Эллингтона и упомянутых Джонса и Льюиса, трио Оскара Питерсона[138] (впрочем, с его гастролями наш минкульт опозорился, это отдельный рассказ)…
Лет с десяти, обнаружив еле слышные в приемнике «Урал» передачи «Голоса Америки», называвшиеся «Час джаза», я стал беспробудным и активным фанатиком полуразрешенной в Советском Союзе «музыки толстых». К семьдесят второму году в качестве обязательного посетителя концертов и энтузиаста бдительно опекавшихся комсомолом фестивалей, я был уже известен отечественной джазовой общественности. По этой причине, а также потому, что жил неподалеку от концертного зала ныне снесенной, а тогда новенькой гостиницы «Россия», я был избран смотрящим первых сотен очереди за билетами на Джонса — Льюиса. И вот, на исходе третьих суток стояния — как же рвались тысячи отщепенцев подвергнуться тлетворному влиянию! — настало утро продажи. В суете перед открытием касс кто-то из авторитетных знакомых шепнул: «Воткни куда-нибудь в начало Аксенова…» Как известно, власть развращает, а абсолютная развращает абсолютно. И с высоты абсолютной власти смотрящего я раздраженно буркнул: «Да он в Союзе писателей возьмет, там дают…» Это ж надо было до чего дойти, чтобы так сказать об истинном своем кумире! Видно, совсем я с ума сошел от грядущей встречи с прекрасным. Но мне объяснили, что в Союзе писателей Аксенову билета не досталось, все отдали проверенным кожевниковым и кочетовым, которые не станут по-джазовому свистеть в знак одобрения на концертах и вообще готовы противостоять буржуазному вторжению, а Аксенов вон топчется и надеется. И показали на выглядевшего совсем молодым, с длинноватыми волосами по тогдашней моде, несколько угрюмого парня в завидно аутентичном джинсовом («джинсовый Сирин», как писал Вознесенский) костюме, курившего в сторонке. Еще не веря до конца в награду знакомства, я подошел к нему…
Так мы встретились тридцать пять лет назад и с тех пор — надеюсь и горжусь — дружим. В том же году я попросил Аксенова прочитать мою первую повесть…
Неистощимых тебе сил, Вася, и приятной пробежки ближайшим утром, Майю поцелуй. Долгих лет сочинительства и удачных выдумок, Василий Павлович, дай Бог настроения. С днем рождения, мэтр, спасибо за науку.
Евгений Попов
1. Вертепщик Василий Аксенов[139]
Василий Аксенов традиционно считается «западником». Уже в самом начале перестройки известный журнал «советской сатиры» презрительно именовал его «штатником» и спустил на него традиционную свору собак, организовав «гневную отповедь простых читателей эмигранту и отщепенцу». Я же полагаю, что он в своем творчестве столь круто рванул из душного эсэсэсэровского пространства на Запад, что и сам не заметил, как проскочил круглое пространство и опять попал на Восток, в Россию.
Ведь все эти знаменитые аксеновские брутальности, непристойности, эротика плюс иррационализм ведут свое происхождение скорее от русского лубка, анекдота, частушки, чем от дедушки Фрейда, непристойного дяденьки Генри Миллера или ученого кузена Леви-Стросса.
Сбор всего «населения Советского Союза» на Красной площади не под руководством «партии и правительства», а во главе с Ангелом, имеющим облик разбитного московского паренька и земное имя Вадим Раскладушкин, коллективное «Скажи изюм», что это, если не желанная соборность?
…А лучше вспомним о том, как в одно прекрасное утро 1960 года молодой врач Василий Аксенов проснулся знаменитым. В «Юности» был опубликован его роман «Коллеги», который в 1994 году был жестко и жестоко определен автором, как «вполне конформистская вещь (несмотря на смутное ворчание одного из персонажей)». Захлопали крыльями «сталинские соколы», им ответили «прогрессисты», завязались столь любимые тогда «яростные споры», был снят фильм о «новом поколении, продолжающем революционные традиции отцов».
На следующей год грянул «Звездный билет», стоивший Валентину Катаеву редакторского кресла, но сделавший Аксенова реальным кумиром поколения 60-х, оттеснившим в общественном сознании и родоначальника новой исповедальной прозы Анатолия Кузнецова. Аксенов «воспел стиляг и моральных уродов», Аксенов удостоился карикатуры в партийном журнале «Крокодил». На знаменитой встрече Хрущева с интеллигенцией царь Никита орал Аксенову: «Что? Мстите за смерть своего отца?» и сильно удивился, узнав, что бессчетные годы сидевший в лагерях старший Аксенов мало того, что жив, но и заново является членом КПСС, совершенно не потеряв веры в правоту «самого передового учения».
В 1968 году советские танки вошли в Прагу. Аксенов прекратил употреблять спиртные напитки. Аксенов напечатал в серии «Пламенные революционеры»[140] роман об одном из них, по его сценариям снимались какие-то фильмы. Считаные единицы литераторов, а уж тем более читателей знали, что он во-всю сочиняет подпольный роман «Ожог».
Напомним: двадцать лет назад пять литераторов, как «широко известных в узких кругах», так и реальных звезд «советской литературы», собрали свои тексты, которые они не могли опубликовать в СССР, и предложили литературному начальству… опубликовать эти тексты в СССР. Начальство, естественно, пришло в ярость и разразилось КАМПАНИЕЙ, в результате которой двое тогдашних «молодых писателей» были исключены из СП СССР, остальные подверглись разнообразным запретам на профессию и шельмованию в печати, а Василий Аксенов, несомненный лидер альманаха «Метрополь», а также поэты Семен Липкин и Инна Лиснянская в знак протеста против исключения «молодых» вернули начальству свои писательские «билетики в рай» и мгновенно стали аутсайдерами. Аксенов, отпущенный (от греха подальше) во время брежневской Олимпиады прочитать лекцию на Западе, был тут же лишен советского гражданства.
В том же 80-м году на Западе вышел роман «Ожог». Бродский и Солженицын к тому времени жили в Америке. Там же вскоре оказался и Василий Аксенов.
Профессор вашингтонского университета им. Джорджа Мейсона, автор еще трех новых романов, последний из которых, «Скажи изюм», живописал карнавальные приключения участников альманаха «Метрополь», ряженных под неких фотографов, Аксенов, как и многие другие изгнанники, встретил так называемую «перестройку» весьма настороженно. И не ошибся. Сейчас это трудно представить, но еще ДЕСЯТЬ лет назад лично на него вдруг снова разинул пасть большевистский «Крокодил», опубликовав гневную подборку «писем трудящихся», линчующих «отщепенца-штатника».
Однако, как известно, «процесс пошел», и вскоре Аксенов вдруг появился в Москве. Толпа, встречавшая его в аэропорту Шереметьево, вскоре узнала, что кумир их отрочества, юности и зрелости прибыл на родину по личному приглашению американского посла в СССР Джека Мэтлока[141], в резиденции которого он и проживал все время своего первого визита.
Стареющий профессор, он же знаменитый русский писатель, каждое лето проводит в России, путешествует, регулярно пишет отовсюду для упомянутых «Московских новостей», в 1995 году издал на родине пятитомник прозы, знаменитое синее «пятикнижие», издательство «Текст» опубликовало его трехтомную «Московскую сагу», «Вагриус» напечатал сборник новых рассказов под названием «Негатив положительного героя», а в прошлом году в издательстве «Изограф» вышел его роман «Новый сладостный стиль». Его узнают на улице. Его осаждают интервьюеры и преследуют городские сумасшедшие. Он мелькает в телевизоре. Он ежегодно председательствует на Международном фестивале «Из века ХХ в век ХХI», традиционно проводящемся в Самаре. Он почти что национальный герой Крыма, где любой человек, даже тот, кто всю жизнь читает лишь отрывной настенный календарь, знает, что есть вот такая книжка какого-то Аксенова, где описано, что было бы, если Крым не захватили красные. Кажется, это называется хеппи-энд?
Кумир многих поколений российских читателей Василий Аксенов был свезен большевиками в дом для детей «врагов народа» 20 августа 1937 года ровно в тот день, когда ему исполнилось пять лет. Как-то он рассказал мне, что навсегда запомнил не только ту чекистку в кожаном реглане, которая тащила его в черную «эмку», но и свою простоволосую русскую няньку, которая по-звериному завыла с крыльца, провожая любимое «дите». Всхлипывая, он впервые заснул на казенной кровати, прижав к мокрой щеке любимую игрушку, тряпичного львенка. Утром игрушка исчезла, начались «этапы большого пути»: нищета и богатство, слава и хула, изгнание и возвращение (во всех смыслах всех этих слов, включая метафизический).
«Добрый вечер, ГОСПОДА!» — обращался эмигрант и «отщепенец» Аксенов по волнам «Голоса Америки» к землякам, ошалевшим от «развитого социализма» задолго до того времени, когда перестроечные «товарищи», с коммунистической прямотой приватизировавшие все, что плохо или хорошо лежало, стояло, летало и плавало в бывшей «империи зла», пустили это некогда белогвардейское слово в казенный оборот.
Это обращение, ставшее ныне расхожим до пошлости, и тогда воспринималось некоторыми как некая ироническая вычурность. Я же полагаю, что это было подлинной сутью его отношения к НАРОДУ, тому самому народу, именем которого вершились и вершатся мерзости и убийства, народу, о котором так любили потолковать советские идеологические бонзы, передавшие свою эстафету новым правителям страны или, по крайней мере, тем из них, для кого человеческая жизнь по-прежнему — копейка, кадры по-прежнему решают все, а слова песни «жила бы страна родная» по-прежнему означают «даешь Империю» или «ты умри сегодня, а я — завтра».
Тоска по цивилизованной, богатой, веселой, а не традиционно угрюмой, нищей, задроченной России, всепрощение, жажда свободы, покоя, требование вернуть достоинство стране и людям ее населяющим — вот угадываемый мною нерв творчества Василия Аксенова, делающий это творчество уникальным и обеспечивающий его произведениям сохранность во времени и пространстве.
Его значение для России трудно переоценить. Из его раннего романа «Затоваренная бочкотара», как из гоголевской «Шинели», вышла вся современная русская проза и обратно уже не вернется. Аксенов научил всех нас главному. Свобода — это необходимое условие писательского существования, даже если она внутренняя. А все ссылки на власть, погоду, географию и дурную историческую наследственность всего лишь ленивые отговорки слабых людей.
2. На полпути к Аксенову[142]
В годы так называемой «советский власти» я никаких дневников не вел. Скорей всего из лени, но, пожалуй, из провидческих соображений тоже. Примитивное «зачем же это самому на себя доносить», очевидно, присутствовало в глубинах моего подсознания, если оно, конечно, у меня тогда имелось. Поэтому я не могу точно сказать, КАКОГО ЧИСЛА МАРТА 1978 ГОДА я лично познакомился с Василием Павловичем Аксеновым, который до этого дня существовал в моей жизни в виде легенды или, если строже выражаться, выразителя чаяний и надежд моего поколения, которое правильнее называть поколением «Звездного билета», романа, напечатанного в 1961 году в журнале «Юность» огромным тиражом и тут же подвергнутого оглушительному партийному разгрому.
Впрочем, зачем про все поколение? Кто-то из нас, родившихся сразу же после войны, был уже тогда более ПРОДВИНУТЫМ, кому-то, если он, конечно, не врет, раскрыла глаза лишь «перестройка», но «Звездный билет» тогда прочитали, смею утверждать, ВСЕ, хотя и сделали из этого совершенно разные выводы, зачастую полярные.
Вдохновленные таким чтением, а также песней на слова Г. Шпаликова «На меня надвигается по реке битый лед» из фильма «Коллеги»[143], мы с товарищами выпустили в городе К., стоящем до сих пор на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, три номера машинописного журнала со стихами, прозой, статьями и эпиграфом из Б. Окуджавы «А мы рукой на прошлое вранье». Журнал назывался «Гиршфельдовцы», но вовсе не потому, что его выпускал блок сионистов и беспартийных, а из некоего эпатажа вследствие случайной встречи нас, сибирских мальчиков, в ресторане «Север» со старым бойким зэком Борисом Исааковичем Гиршфельдом, которого мы угостили портвейном на его длинном пути возвращения из Зоны, куда он попал вовсе не за «политику», а, по его собственному пояснению, «просто так». И вдосталь наслушались его веселых рассказов о тех местах, «где вечно пляшут и поют».
Замечу, что щенячий этот наш журнал был организован ровно на тех же принципах, как и грядущий почти через двадцать лет знаменитый «Метрополь». Авторы, которые просто-напросто не знали, ЧТО ЭТО НЕЛЬЗЯ, вовсе не скрывались, а даже наоборот — любезно приглашали всех своих сверстников к сотрудничеству. В качестве «суперзвезды» там присутствовала ленинградская поэтесса Майя Борисова, Царство ей Небесное, вечный покой. Она тогда жила в нашем городе.
Расплата вскоре последовала в виде исключений из того самого комсомола, на который Василий Павлович обратил взор в своем последнем романе «Редкие земли». В качестве криминала на городском сборище комсомольских активистов фигурировало эссе Эдуарда Русакова о стихах Бориса Пастернака, имевшее изящное название «Заклинатель трав», и моя статейка под топорным заголовком «Культ личности и «Звездный билет»», где была фраза (стыдно теперь приводить ее, но рискну!): «Пропитанный духом лжи и угодничества сталинский режим сделал свое черное дело». Суровое наказание оказалось мне как с гуся вода, потому что я в комсомоле ни до этого инцидента, ни тем более после не состоял, что никак не могло прийти в голову карателям. Вызвали, правда, в местный КГБ, куда я явился в затертых до блеска желтых вельветовых штанах, и спросили, чем я дальше собираюсь заняться в жизни. Я ответил, что хочу повариться в рабочем котле и, закончив школу, стану работать на заводе. После чего тихо уехал на поезде в Москву и поступил в Московский геологоразведочный институт имени Серго Орджоникидзе, который и окончил в 1968 г. Том самом году, когда Аксенов напечатал все в той же «Юности» «Затоваренную бочкотару», когда в Америке и Франции бунтовали студенты, а те (не нынешние) «наши» ввели танки в Чехословакию в рамках оказания этой стране «братской помощи» по построению «социализма с человеческим лицом». Вследствие чего Аксенов начал писать свой первый полностью неподцензурный роман «Ожог» об утраченных навсегда грезах, который вместе с «Метрополем» и привел его в 1980 к фактической высылке за пределы нашей «родины чудесной» и лишению советского гражданства.
Я же по окончании вуза вернулся в Сибирь, где несколько лет действительно варился в упомянутом «рабочем котле», но результаты этой выварки были странными. Окружающий меня, молодого геолога, социум был полон чиновными кретинами и асоциальными элементами в виде сибирских бичей (бродяг, если кто не знает это исчезнувшее слово), которые, как я уже где-то об этом писал, сыграли в моей писательской жизни роль некоей коллективной Арины Родионовны. Ибо долгими вечерами у таежного костра они плели свою бесконечную дикую сагу о властях, Боге, бабах, любви, измене, смерти, географии, науке, литературе, войне, мире, водке и, конечно же, о той пресловутой Зоне, которую почти все они «топтали» подобно Борису Исааковичу Гиршфельду и миллионам других «дорогих россиян». Многие из них были образованны, повидали мир, витали в облаках перед своей вынужденной жизненной посадкой. Там были: бывший танцор Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова Олежек, летчик Парамот, пострадавший «за любовь», морячок Саня, проведший в качестве юнги часть войны в Сиэтле (США), фальшивый внук поэта Сергея Есенина Ахметдянов и даже коммунист по фамилии Чеботок, имевший настоящий партийный билет, что не мешало ему проживать зимой в норильской теплотрассе. И множество других выдающихся личностей, среди которых вполне мог бы оказаться и персонаж замечательного аксеновского рассказа (1962 г.) «На полпути к Луне» Валерий Кирпиченко, тип, в какой-то степени предвосхитивший знаменитых шукшинских «чудиков». Замечу, кстати, что в этом рассказе несколько раз повторяется словосочетание «печки-лавочки», ставшее названием для знаменитого фильма Шукшина. Замечу вовсе не для того, чтобы подумали, будто и Шукшин находился под влиянием Аксенова или, упаси Бог, название это присвоил себе по случаю «неконтролируемых ассоциаций». Я просто о том, что значимые писатели иногда бродят параллельными тропками. «Деревенщик» Василий Макарович и «стиляга» Василий Павлович, эти два больших Василия русской литературы, на самом деле гораздо ближе друг к другу, чем десятки их эпигонов и доброжелателей, а дальнейшее развитие писателя Шукшина остановила лишь его ранняя смерть в 1974 году. Сходны и биографии: отец Аксенова Павел Васильевич провел немыслимое количество лет в ГУЛАГе, отец Шукшина Макар Леонтьевич был арестован большевиками в 1933 году и тогда же расстрелян, нищее военное детство Аксенова в городе Казани рифмуется с деревенской нищетой алтайского мальчика Васи, который, кстати, до самого получения паспорта шестнадцать лет носил материнскую фамилию Попов.
Но я отвлекся, не мое это дело — отбирать хлеб у литературоведов и историков литературного процесса. А мое дело заключалось в том, что я к началу семидесятых насочинял более сотни рассказов, персонажами которых был упомянутый выше сибирский разноклассовый народ со всеми его «отчетливыми мерзостями и таинственными воспарениями», как выразился мэтр В.П. Аксенов в послесловии к моей первой книжке «Веселие Руси», выпущенной в 1981 году издательством «Ардис» (США). Опять отвлекаюсь, но первая серьезная публикация в СССР была у меня в журнале «Новый мир» в 1976 году с предисловием ушедшего к тому времени из жизни В.М. Шукшина, отчего я тут же прославился, но получил массу недоуменных читательских писем с простым вопросом: как это ПОКОЙНИК мог написать мне предисловие? С ТОГО СВЕТА, что ли? Не объяснять же было, что его предисловие, написанное еще за год до смерти, не устраивало, равно как и мои рассказы, журнальных бонз и перестраховщиков.
А в 1973 году я еще чуть-чуть продвинулся на пути к знакомству и последующей дружбе с В.П. Аксеновым, скрепленной впоследствии идиотской пляской служилых «совписов» вокруг «Метрополя». Я был участником совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, где годом раньше погиб, утонув в Байкале, еще один из «основников» новой литературы драматург Александр Вампилов. Руководителем семинара у меня были ныне забытый (и совершенно напрасно!) Георгий Витальевич Семенов, тончайший мастер прозаического письма, друг Юрия Казакова, писателя, чье умение СТАВИТЬ СЛОВА во внешне бесхитростных, коротких рассказах тоже, на мой взгляд, до сих пор никто не превзошел. Георгий Витальевич, как мог, оборонял меня от разгневанных «комсомольцев», крайне недовольных сюжетами и персонажами моих скромных сочинений. «Советская Армия — это святое!» — патетически восклицал, громя меня, один из них по имени Ванька из «Молодой гвардии», который, в отличие от героев «Редких земель», так и не стал олигархом, а однажды помер от водки (Царство ему Небесное тоже).
Г.В. Семенов сказал мне тогда в приватной вечерней беседе за бутылкой:
— Мне твои рассказы совершенно не нравятся, все это ерничанье, грязь и гадость, но я тебе всегда буду помогать, потому что ты пишешь вкусно. — И добавил: — Ты с этими рассказами к Ваське иди.
— Какому такому Ваське? — опешил я.
— Аксенову, — пояснил Георгий Витальевич.
— Но я ж его не знаю, — усомнился я.
— Узнаешь, — посулил Георгий Витальевич.
И как в воду глядел! Он же дал мне рекомендацию в Союз писателей, а когда меня оттуда через 7 месяцев и 13 дней выгнали, он же отказался «отозвать» эту рекомендацию, отчего тоже поимел определенные неприятности.
А я сейчас скажу, что я имею великий бонус от всей этой прошедшей, но пока что длящейся нелепой жизни. Это то, что значительная часть ее прожита вместе с великим мастером слова Василием Павловичем Аксеновым, несмотря на его почти десятилетнее существование вне земли СССР и Российской Федерации. «Голубиная почта» работала исправно, и время от времени я получал его рукописные листки на папиросной бумаге, где он рассказывал мне о своем заокеанском житье-бытье и живо интересовался нашими реалиями жизни в распадающейся на глазах советской империи.
Печально, но весомая часть этих ценнейших документов канувшей эпохи утрачена мною при трагикомических обстоятельствах. Однажды рано утром, осенью 198-какого-то года (повторяю, что не вел я тогда дневников!) мне в дверь грубо зазвонили и на вопрос: «Кто такие?» — ответили: «КГБ Москвы и Московской области». Я, неправильно поняв, что у меня тоже пришли делать обыск, потому что днем раньше уже засадили на Лубянку одного моего литературного приятеля, сказал, что еще сплю, но сейчас оденусь.
И пошел на кухню, где моя любимая жена Светлана Васильева хранила в гречневой крупе письма от Василия Павловича. И уничтожил я все эти письма своими собственными руками, порвав их на мелкие клочки и спустив в унитаз.
А обыска-то и не было! Меня просто взяли под белы руки, посадили в казенную черную «Волгу» и повезли допрашивать на упомянутую Лубянку, нарушая тем самым права человека и Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому меня должны были об этом важном для каждого советского человека мероприятии сначала известить повесткой и лишь потом везти, куда их душеньке угодно.
Пора заканчивать и сообщить самое главное.
В мае 1979 года, после бурной «метропольской» зимы и весны, Василий Аксенов, Виктор Ерофеев и я отправились на зеленой аксеновской «Волге» в Крым. Там у нас было много приключений. Во-первых, пьяный московский автомеханик, все время повторявший коронную свою фразу: «Уедете, приедете, спасибо скажете», — починил тормоза машины так, что их заклинило где-то около Харькова, и мы чудом не перевернулись, проведя всю ночь в каком-то таксопарке, где нами занимались автослесари чуть-чуть более трезвые.
Во-вторых, мы изъездили весь Крым, начиная от Евпатории, заканчивая Феодосией, и где-то в районе Судака нас окружили военные матросы, тоже, естественно, пьяные, и хотели все же перевернуть нашу «Волгу» вместе с нами тоже «просто так». От какового поступка их отговорил их же старшина. В-третьих, достигнув Коктебеля, мы сняли комнату у знакомой официантки из Дома творчества и вечером пошли, заплатив деньги, в писательское кино на открытом воздухе, где наши коллеги, за исключением одного-единственного Олега Чухонцева, с ужасом глядели на нас, как на восставших из идеологической могилы мертвецов. Фильм, помнится, был про страдания лорда Байрона…
А утром мы встретили веселого Фазиля Искандера, и, когда уже сидели за выпивкой и кофе, он вдруг вспомнил, что только что получил анонимку из Москвы с характерным содержанием: «Радуйся, сволочь! Двух ваших сукиных сынов наконец-то исключили из Союза писателей!»
— Вас правда исключили? — огорчился Фазиль, но мы успокоили его, сказав, что таких «параш» и «уток» было за все это время предостаточно, что, когда мы уезжали, все было спокойно, спокойно все будет и впредь.
Но когда мы возвратились и я только-только открыл дверь квартиры матери Аксенова, где тогда временно проживал, раздался телефонный звонок. Звонил Василий Павлович, непривычно серьезный.
— Знаешь, Женя, — сказал он. — Все, к сожалению, подтвердилось. Вас действительно исключили.
И тут же без паузы добавил:
— И я тебе звоню сказать, что, как я обещал, так и будет. Я выйду из Союза писателей, если вас не восстановят.
Не сразу, значительно позже я понял, для чего он это сделал, для чего звонил сразу, а не по прошествии какого-либо времени, ибо, в принципе, теперь-то уж все равно, коли исключили.
Он сделал это, чтобы МНЕ НЕ БЫЛО СТРАШНО. Он понимал, МНЕ БУДЕТ СТРАШНО, когда я в одиночестве узнаю о том, что судьба моя теперь круто ломается, и мне было бы страшно, но он позвонил. И мне почему-то ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ СТРАШНО (извините за неуклюжий оборот).
Фильм по «Звездному билету» назывался «Мой младший брат», но я опять отвлекаюсь…
Александр Кабаков. Евгений Попов
Из книги «Аксенов»[144]
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ: Итак — зачем Аксенову нужен был джаз и почему именно джаз? Но сначала я хотел бы поговорить о музыкальности писателей вообще. Вот смотри: два крупных писателя второй половины двадцатого века — Астафьев и Аксенов. Почему-то Астафьева я вообще часто вспоминаю в связи с Аксеновым — пожалуй, потому, что их я знал лучше, чем других больших писателей современности, так сказать… Пару лет назад вышла книжка переписки Астафьева и Колобова[145], где очень много о музыке, и к книжке приложена пластинка с любимой музыкой Астафьева. А к аксеновским «Редким землям» тоже приложен диск с любимыми джазовыми мелодиями автора… Почему же Астафьев, несмотря на то, что он возрос совершенно в гуще блатного сибирского народа, обожал классическую музыку? И разбирался в ней прекрасно. Тот же Колобов приводил какую-то цитату из Астафьева и говорил, что лучше, чем он, Астафьев, о музыке не сказал никто. Так почему же у Астафьева классическая музыка, а у Аксенова — джаз? Я перебирал других заметных писателей второй половины двадцатого века, русских, — я не вижу особой связи между писателями и музыкой. Как ни странно, даже у Казакова, Юрия Казакова, который сам был музыкант, на контрабасе играл… как-то музыка присутствовала, но не очевидно. Такой определяющей увлеченности, как у Астафьева классикой и у Аксенова джазом, я ни у кого больше не могу вспомнить…
АЛЕКСАНДР КАБАКОВ: Нет, вообще-то русская литература с музыкой очень связана, не новейшая, но классика. Вот «Крейцерова соната» — уникальное явление: произведение литературы называется так же, как музыкальное. Невозможно себе представить, чтобы, например, литературное произведение называлось, скажем, «Бурлаки на Волге». А с музыкой связь обозначается прямо.
Е.П.: Ну, есть пример… Пожалуйста: «Не ждали». Рассказ так называется, а не только знаменитая картина.
А.К.: Чей рассказ?
Е.П.: Мой!
А.К.: Интересно… Ну, ладно. Но ты ведь использовал название как пародию, как способ остранения. А «Крейцерова соната» у Толстого названа всерьез вслед за «Крейцеровой сонатой»… В общем, чтобы не расплываться в примерах, я сформулирую прямо: музыка в русской литературе играет важнейшую роль. Русские писатели пытались всегда через музыку уйти из… из этого своего повседневного существования. И благодаря музыке, ее высшей образности у них возникала возможность высказаться чуть прямее, чуть яснее, чуть выразительнее, чем без музыкальной ассоциации, и они использовали музыку как способ высказаться. И когда Василий Павлович упоминает названия джазовых стандартов, он использует таким образом дополнительное средство выразительности. Другой вопрос — почему же именно джаз? Вот у Астафьева, ты говоришь, классическая музыка, я этого не знал, потому что в текстах у него музыка не присутствует… А у Аксенова джаз — почему?.. Вот начало пятидесятых годов, когда Аксенов формируется, когда формируются его вкусы. Весь мир — Франция, Германия, Скандинавия, Италия — попал под сильнейшее влияние Америки. Вместе с планом Маршалла[146], с экономической помощью Европе пришел американский джаз. А в Советском Союзе популярность джаза в это время объяснялась по-другому. Это было стремление какой-то части молодежи к другой жизни. Какие-то кусочки этой жизни показались, когда было сближение с американским союзником, потом железный занавес все закрыл, а молодежь это не устраивало. Появились стиляги, «Час джаза» по «Голосу Америки» по ночам и так далее… Вот так получилось, что в СССР джаз оказался модным тогда же, когда во всей Европе. И то, что Вася оказался… ну, если угодно, продуктом этой моды — это нормально! Это так же нормально и закономерно, как то, что он выглядеть хотел не по-здешнему… Так и появился джаз в жизни Аксенова, там не было никакой метафизики, там была обычная, в сущности бытовая ситуация.
Е.П.: Я тоже сейчас вспоминаю, хотя это много позже, другое время: Красноярск, улица Лебедева, где я жил, снега кругом, приемник «Рекорд», светится в нем, подмигивает такой «кошачий глаз» настройки… This is the Voice of America from Okinawa[147]…
А.К.: Это вам сообщали, вы к Японии ближе. А нам транслировали из Танжера…
Е.П.: Ну, сколько мне тогда было… одиннадцать-двенадцать лет, наверное…
А.К.: Вот. И Вася в свое время, как позже и я, и ты, попал в эту… в это обволакивание, понимаешь, под тлетворное влияние…
Е.П.: Интересно, в Магадане, у Евгении Семеновны и Вальтера, когда Вася там жил, был приемник? В конце сороковых…
А.К.: Конечно был! В «Московской саге» описано, там целая история с приемником. Вряд ли Вася ее выдумал… Там самодельный приемник и история вокруг него.
Е.П.: Что, коммунисты с ума сошли, что ли? Почему они с приемниками не боролись? Только во время войны запретили и отобрали, а потом снова — пожалуйста. Потом глушилок наставили, энергии на них тратили черт его знает сколько… А надо было просто приемники запретить и сажать за них по статье.
А.К.: Потому что идиоты были. С одной стороны, придавали большое значение пропаганде, а с другой — не понимали, что этот «Голос Америки» для них опасней атомной бомбы. Приемники не запрещали, только короткие волны, короче 25 метров запрещали, и приемников с такими волнами не было в производстве. Но умельцы переделывали, конечно. Так было до восьмидесятых годов! А надо было вообще приемники запретить, или только с длинными и средними волнами.
Е.П.: У меня был приемник… транзисторный, как он назывался… не помню… и за двадцать рублей мне поставили диапазоны 11, 13, 16 и 19 метров…
А.К.: Вот что я тебе скажу, независимо от того, о чем мы сейчас говорим: знаешь, почему рухнула советская власть? Не слушались начальства. Никаких запретов. Никто.
Е.П.: Народ не слушался руководителей партии и правительства? Это верно. Им, народу, говорят — коммунизм надо строить, а они ханку жрут…
А.К.: Им говорят: осваиваем целину. Хорошо — едут на целину, но и там пьют водку, и совершенно не думают о том, что они строят коммунизм. И так далее… Ну, что ты с этим народом сделаешь?
Е.П.: Да. Надо ему капитализм разрешить…
А.К.: Разрешили? Убедились? Ничего с этим народом не сделаешь. С ним ни коммунизм не построишь, ни капитализм… Помнишь, такое выражение было у начальства — «с этим народом коммунизм не построишь»? Оказывается — и капитализм тоже. Ему говорят — хоть какая-то совесть у тебя, народ, есть? — Есть, есть. — Что ж ты воруешь и взятки берешь? — А это не я…
Е.П.: Далековато мы ушли от джаза.
А.К.: Итак, Вася Аксенов, нормальный юноша своего времени, как ты или я, наслушался джаза по радио, да плюс еще, живя в Казани, наслушался там джаза Олега Лундстрема, репатриантов из Шанхая, сосланных в Казань, и подсел, как теперь говорят, на джаз. Но почему же, спрашивается, русский, советский человек, комсомолец, сын Павла Васильевича Аксенова и Евгении Семеновны Гинзбург, вдруг оказывается повернутым именно на джазе? А не, допустим, на романсе? Или я, например, — какое мне дело до джаза? А у меня ведь вся жизнь прошла под знаком, если можно так выразиться, джаза…
Е.П.: Так мы же на этот вопрос уже полностью ответили! Потому что джаз не одобряло начальство и называло его с легкой руки Горького «музыкой толстых»[148], потому что джаз был американской музыкой. И в этом была простая бравада — раз вы джаз запрещаете, так я его буду слушать!..
А.К.: То есть, кроме бравады, ничего не было? А если с другой стороны зайти — что же такое было в джазе, что советские коммунисты в нем почувствовали врага? И почему на Кубе, при всем тамошнем кастровском антиамериканизме, джаз даже поощрялся, а в самой Америке… ну, скажем так, джаз, особенно современный джаз, начиная с би-бопа[149], был связан с протестными движениями, битниками?
Е.П.: Ну, и откуда я знаю, в чем дело?
А.К.: У меня есть такой… самодеятельный вариант ответа: джаз, особенно так называемый современный джаз, был музыкой, с одной стороны, разрушающей систему понятий… старую эстетическую систему, а вместе с ней и всякую устоявшуюся систему вообще, как и любое современное искусство. А с другой стороны, джаз, традиционный джаз, в отличие от традиционного рока — это музыка компромисса. Вот рок — это музыка протеста, войны с истеблишментом. А старый джаз — это музыка компромисса. В ней заложено вот это: примирение, давайте будем все жить хорошо, черные, белые… Джаз стоял несколько в стороне от истеблишмента, но не противостоял ему. Правда, и с той, и с другой стороны, и со стороны, условно говоря, истеблишмента, и со стороны искусства — были люди, которые говорили: не будем мириться! никакого примирения! Со стороны музыки эти люди проявились, когда возник новый джаз, би-боп и дальше — фри-джаз, авангард… Вот тогда джаз стал непримиримым, бунтарским, как все новое искусство. И истеблишмент ответил сначала подозрительностью, потом враждебностью. Соответственно, в свободных странах враждебность истеблишмента — это вольная отверженность музыкантов, а при коммунистах, особенно когда они уже коммунистические мещане — просто запрет. Кастро, как революционеру, джаз был близок, а какому-нибудь Подгорному… он кожей чувствовал — что-то не то, свободой пахнет, Венгрию пятьдесят шестого года напоминает… И вот с этим джазом был связан Аксенов.
Е.П.: Ну, то есть, джаз как восстание. А восстание у него некоторое время одной из любимых тем было… Ты тогда вот что скажи, поскольку сам в этом понимаешь: он в джазе разбирался вообще?
А.К.: Да. И очень хорошо.
Е.П.: Я читал его репортаж знаменитый в «Юности» о первом таллинском джазовом фестивале…
А.К.: Да, «Баллада о тридцати бегемотах», кажется, так назывался. Отличный был репортаж. И очень компетентный, по отзывам самих музыкантов. Вася хорошо разбирался в джазе, и это объяснялось не только, не столько его социально-психологическим отношением к джазу, а просто тем, что он был чрезвычайно музыкальным человеком.
Е.П.: А я вспоминаю, как он пел… Значит, в последний раз мы с ним пели… Мы стояли около памятника Надежде Константиновне Крупской на Сретенском бульваре. Он в это время дописывал роман «Редкие земли», один из его «комсомольских» романов, и мы с ним стали вдруг петь комсомольские песни, текст которых он беспощадно перевирал, конечно. Но не только текст. Я бы не сказал, что он очень был музыкальным. Немножко он фальшивил…
А.К.: Ну, слух и способность воспроизвести мелодию голосом — это разные вещи. Я говорю «музыкальный» в смысле, что он очень хорошо в этом разбирался. Он очень хорошо разбирался вообще в музыке. В последние лет восемь, а то и больше, он уже гораздо меньше слушал джаз, он слушал симфоническую и камерную классическую и современную музыку.
Е.П.: Слушай, так это потрясающе! Получается, что разные совершенно пути, разные люди, а пришли к одним интересам. Астафьев, значит, в молодости слушал блатные песни и всякую чушь, которую по радио передают, по черной тарелке, по радиоточке, Вася слушал «Серенаду Солнечной долины»[150] и Лундстрема, а под конец-то… То есть им было бы о чем поговорить.
А.К.: Но, в то же время, когда, бывало, в последние годы я его подвозил куда-нибудь и в машине включал джаз, какой-нибудь старый уже боп, всегда была одна и та же история: он оживлялся, вспоминал и начинал подпевать. Я чувствовал, как он… как он поймал кайф. А потом раз — и терял интерес, начинал скучать. Понимаешь? Ему было приятно вспомнить джазовые времена, но ему уже тесно было в джазе.
Е.П.: Когда я был у него в Вашингтоне, он меня привел в некий джазовый клуб, какую-то джазовую пивную… названия не помню… Он мне сказал, что однажды в этой пивной слышал самого Гиллеспи. Как ты думаешь, Гиллеспи мог там играть?
А.К.: Отчего же нет, мог и Гиллеспи[151]…
Е.П.: Вот, и Вася рассказывал: пришел он как-то в это заведение, а там все, как обычно, только великий Гиллеспи играет. Как на пластинке… Я был очарован этим рассказом, посидели мы, послушали музыку, потом поехали, и Васю мент американский оштрафовал. Вернее, хотел оштрафовать, но не оштрафовал. Он проехал на желтый свет, и мент ему говорит: «На желтый проехали, сэр». Вася: «Ну, проехал, что ж делать…» — «Пивком пахнет, — говорит мент — где пили?» Ну, Вася говорит, мол, там-то и называет эту джазовую пивную. «Джаз любите?» — говорит ему мент и отпускает, представляешь?
А.К.: Ничего себе, это в законопослушной Америке! А вообще отношение Васи к джазу — это отношение очень многих наших людей его и чуть более молодого поколения. Ну, его и моего поколения. Это отношение, во-первых, протестное, то есть джаз как символ протеста против советской системы, поскольку система не принимала джаз; во-вторых, это музыка, которая, при всем том, примиряла с жизнью, с жизнью вообще, очень жизнелюбивая музыка… Но и то, и другое — это живет в душе, пока душа еще молодая, пока она еще гуляет. А дальше, когда уже гуляние кончилось, когда уже все всерьез, когда душа уже к встрече с Господом готовится, тогда от этого отходишь… Вот Вася и полюбил симфоническую музыку.
Е.П.: Тем не менее он продолжает все-таки быть в джазовом космосе. Ну, дружить с Козловым, например…
А.К.: О нет, они просто дружили сорок лет — естественно, и продолжали дружить. Впрочем, мы с Васей однажды вместе ходили слушать Козлова в клуб, где он постоянно играл, провели прекрасный вечер…
Е.П.: Ты знаешь, мне пришла вот какая мысль сейчас: ведь во всем двадцатом веке, кроме Аксенова, немного было в литературе таких певцов джаза.
А.К.: А Керуак[152]?
Е.П.: Керуак… Керуак уже битник, все уже, это уже к року ближе…
А.К.: Да у него рассказ прямо так называется — «Ночь би-бопа»!
Е.П.: Ну, и король был в этом — Скотт Фицджеральд…
А.К.: Еще Кортасар. Его рассказ «Преследователь» о Чарли Паркере… И вообще он джазовым критиком был… Конечно, Борис Виан, он и сам на трубе играл… Пожалуй — все. И Аксенов в этом ряду единственный русский писатель.
Е.П.: Так что получается — Аксенов ввел джаз в русскую литературу. Например, через роман «Ожог».
А.К.: А в чем отличие его джазовой литературы от всякой другой, связанной с музыкой? В том, что есть литература о музыке, с музыкой как предметом изображения, а Вася писал джазовую литературу джазовым способом. У него именно джазовая литература, а не о джазе. У него джазовая проза, она звучит особым образом. Это очень существенно. Таких музыкальных, а не о музыке писателей вообще мало, не только в России — в России он точно один, — но таких писателей мало и где бы то ни было.
Е.П.: Я не знаю, в английской литературе есть?.. По-моему, нет.
А.К.: И при том, что литература Аксенова интонационно джазовая, а не только и не столько даже по теме, при этом в жизни его джаз был существенной темой. Я же сто раз рассказывал, как мы с ним познакомились в очереди за билетами на джазовый концерт… И потом я его стал таскать на концерты. Звонил — вот, мол, интересный сешн ожидается… И вот году в семьдесят восьмом… или девятом… собираемся мы с Васей ехать на большой концерт в рамках джазового московского фестиваля во дворце культуры «Москворечье». Это Каширка…
Е.П.: Знаменитое место.
А.К.: Встречаемся же мы таким образом: мы с женою моей Эллой выходим из газеты «Гудок», где оба работали, а «Гудок» тогда помещался вблизи улицы Герцена, она же Большая Никитская, идем по улице Станкевича, проходим мимо Храма Воскресения на Успенском Вражке, выходим к углу центрального телеграфа… И там стоит автомобиль писателя Аксенова, «ВАЗ-2104», универсал, и задние дверцы его не закрываются, поэтому связаны изнутри веревкой! И люди, которые сидят внутри, всю дорогу эту веревку должны держать и натягивать. То есть сзади натягивать веревку садятся моя жена и Васин сын Алеша, и вот в таком виде, с натянутой веревкой, мы едем долго, долго-долго до дворца «Москворечье». Там приезжаем, завязываем изнутри веревку, кое-как вылезаем все… Вот пожалуйста, концерт не запомнился абсолютно, а такая чисто джазовая поездка — на всю жизнь… Идем во дворец, у входа толпа, все знакомые, такое джазовое братство фанатиков. Леша Баташев[153], Гера Бахчиев, близнецы Фридманы, Саша Петров, последний «штатник»… И в этом братстве присутствует такая фронда, вот, примерно, как «нас много, нас, может быть, четверо», а тут тоже… ну, сотни две на Москву… Да. Не помню, кто именно играл, это был какой-то день фестиваля, где играли одни авангардисты, и мы от этого сверхавангардного джаза с Васей офигели и вышли в буфет. И сидим там, пьем фруктовую воду…
Е.П.: Ну, Вася понятно, он за рулем и вообще в завязке, а ты-то чего?
А.К.: Женя, кругом советская же власть, там больше ничего и не было!
Е.П.: А, правильно, я совсем уже…
А.К.: И в это время открывается дверь, выходят из зала Леша Аксенов с моей женой, которые терпеливо слушали авангард, и Леша твердо говорит: «Это больные люди» — про авангардистов. Вася хотел было с ним заспорить, но тут подходит к нам и Леша Козлов, тогда с длинными волосами, с длинной такой козлиной бородкой, и говорит неожиданно то же самое, собственно, что сказал и Лешка Аксенов, а именно: «Шарлатаны!» Тут уж не поспоришь, с самим-то Козловым. В этот момент нас троих сфотографировал известный джазовый фотограф-летописец Лучников, кажется, есть такая фотография…
Е.П.: Мне это ужасно интересно как человеку далекому от джазовой жизни… Почему такое неприятие авангардного искусства?
А.К.: Ну, потому что… потому что убогий был авангард… И мы так захохотали страшно все! Это было какое-то такое… такое понимание и друг друга, и общее понимание музыки, понимание всего. И вот едем мы опять в том же составе в этой машине с дверями, связанными изнутри веревками, и Вася, я и Лешка Аксенов во весь голос поем джазовые стандарты без слов… А жена моя стеснялась… И это было чистое джазовое счастье, и оно, думаю, немало значило в жизни Аксенова, уже даже не в литературе, а в самой жизни. Как говорится по-американски, all that jazz[154] — значит, вся эта веселая суета, весь этот шум. В этой истории очень много про свободу, которая была в джазе и за который его любили — и Аксенов, и все мы.
Е.П.: А у меня про джаз история опять будет литературная и с уже много раз упомянутым персонажем. Значит, когда уже Василий Павлович был в опале, приехал какой-то знаменитый американский джазовый человек, и американское посольство Васе выдало билет на концерт не помню где, не в резиденции посла, а в каком-то престижном зале. И Аксенов идет на этот концерт слегка взволнованный, потому что музыкант этот был легендой его юности джазовой… Приходит, садится — а место-то его рядом с Феликсом Кузнецовым. Скорей всего, разнарядку американцы на Союз писателей дали, а места распределили сами. Среди уважаемых людей, разной, конечно, степени значимости, но ведь советские же все писатели… И уж не знаю, кто из них больше мучился весь концерт — Вася или Феликс.
А.К.: Теперь моя очередь, и я расскажу про Аксенова и джаз еще одну историю. Не слишком короткую. Году в шестьдесят четвертом…
Е.П.: Ничего себе, издалека начал ты.
А.К.: …отдыхал я, как принято было говорить у советских людей, которые любили и до сих пор любят слово «отдыхать», — отдыхал я в городе Феодосия. В Феодосию же я попал со своим закадычным университетским другом Марком — теперь даже не знаю, жив ли. Мы шлялись, у нас не было денег ни хрена, и мы, совершенно как герои «Звездного билета», только уже сильно запоздавшие, шлялись не по Прибалтике, правда, а по Крыму. Однажды ночью… В общем, мы познакомились с девушками, гуляли с ними ночью по Феодосии. Жили же мы в прихожей… не в прихожей, а в зале, в огромном зале таком, в него был вход с первого этажа старого особняка по скрипучей деревянной лестнице, потом там был этот зал, и в нем нам поставили хозяева две раскладушки по рублю за ночь, там мы спали, а дальше были комнаты, двери из этого зала, в этих внутренних комнатах жили сами хозяева. И они по ночам мимо нас ходили в сортир во дворе… Так что позвать девушек нам было некуда. Поэтому-то однажды ночью, выпив крымских портвейнов, мы гуляли по Феодосии. Куда-то, до их раскладушек — девушки были из Москвы, так же шлялись, как мы, — проводили девушек, идем к себе и встречаем на довольно пустой улице одинокого, не очень уже молодого — то есть, по нашим меркам — лет тридцати человека. Внешность его не помню, хоть убей… Посмотрел он на нас и довольно громко сказал… Не поверишь — вот что он сказал: «Аксеновские дети». Мы, конечно, обижаемся — какие еще аксеновские дети, какие дети? А он так спокойно говорит: «Конечно, аксеновские дети. Все при вас — курортные районы СССР, странствия… Вам только джаза не хватает…» Так и сказал «курортные районы СССР». И дальше стало похоже вообще на сказку, точнее, на аксеновский же рассказ «Жаль, что вас не было с нами». Потому что на этих словах «вам только джаза не хватает» он вдруг откуда-то извлек какой-то ящик, открыл его, это оказался проигрыватель, который надо было включать в электрическую сеть, и он его куда-то включил. На улице! И поставил пластинку, тяжелую такую, еще не долгоиграющую виниловую, а такую, на 72 оборота, кто помнит, из такой тяжелой черной смолы, бьющуюся… И раздалось!.. Поставил звукосниматель, и раздался American Patrol, «Американский патруль», любимый свинговый стандарт!.. Мы, конечно, очумели. Ночь в Феодосии, электрическая розетка на улице, American Patrol… «Ну, что, аксеновские дети?» — повторил он. Мы молчали, чего скажешь… Тогда он сложил все и пошел. И тут обнаружилось, что он стоял все это время у маленькой будки уличного сапожника, в которой и розетка была, а сам он был невменяемо пьяный. И он скрылся в темноте так, качаясь… Начитанный, джазовый, совершенно аксеновский уличный сапожник. Помнишь, в «Жаль, что вас не было с нами» такой же кричит герою: «Продай иорданские брючки!» И после этой истории меня уж никто не мог убедить в том, что любая аксеновская фантазия не есть реальность. Я эту историю совершенно забыл, а вот сейчас вспомнил…
Е.П.: История замечательная, на ней и закончим.
А.К.: Погоди… Вот что мне еще в голову пришло, и это — довольно существенное соображение. Я знаю людей аксеновского поколения, которые джаз терпеть не могли, причем знаешь почему? Потому что пролетарская музыка!
Е.П.: Пролетарская музыка… А какая же им была не пролетарская тогда?
А.К.: Симфоническая. А джаз — пролетарская музыка. А люди это были… я тебе скажу, какого толка — такого белогвардейского толка, как бы аристократического. И они к джазу были в лучшем случае равнодушны. Ты вспомни в знаменитом романе главу про бал у сатаны. Вспомни, как там карикатурно, с издевкой и даже с отвращением описывается игра джаз-банда. Как там главный джазмен ударил другого по голове тарелкой… Полная презрения карикатура на пролетарскую, клоунскую музыку. И в этом главном джазмене легко угадывается Кеб Кэллоуэй[155] — такой знаменитый джазовый эстрадник того времени, и по этому выбору видно, насколько Булгакову джаз был чужд. Человек старой русской культуры… А вот Аксенов джаз принял сразу, как свое. Означает ли это, что он был меньше… в меньшей степени связан со старой культурой, с культурой вообще?
Е.П.: Возможно. Вполне даже возможно. А откуда могла бы взяться такая связь в его семье? Это не булгаковские профессора духовной академии… И вот на такую основу и легло то, что джаз — антисоветский. То есть ничто не мешало этой музыкальной антисоветчиной увлечься, никакое культурное воспитание. Антисоветчина — это и власть понимала. Хрущев не был такой уж дурак, когда определял молодых художников, поэтов и писателей, джазовых музыкантов как врагов… ну, потенциальных врагов советской власти.
А.К.: Власть в своей логике была совершенно права, когда с ними боролась. И правильно, что «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Именно социалистическую родину. Он джаз-то слушает по вражескому «Голосу Америки»… К сожалению, на многих из нас, советских любителей джаза, все это наложило отпечаток навсегда… на наше восприятие джаза — восприятие музыки как формы протеста. Постепенно стали слушать собственно музыку — прежде всего те, кто сами стали музыкантами. Вот тот же Алеша Козлов — он стал настоящим большим музыкантом, и ему стало безразлично это «против советской власти»… Его советская власть касалась только тем, что она иногда мешала ему его музыку играть. Ну, так она мешала и Шостаковичу, она всем мешала… А Вася, когда эта социально-политическая составляющая из отношения к джазу ушла, когда он вообще оказался в Америке, где такой составляющей и не было — он стал к джазу сначала спокойно… ну, скажем так, привержен, а потом, со временем, по мере освобождения Аксенова вообще от всего советского и антисоветского в душе, стал почти равнодушен. Как всякий западный интеллектуал: да, джаз — хорошо, классическая музыка — хорошо, современная экспериментальная музыка — тоже интересно… Джаз стал для него эстетическим явлением в ряду других эстетических явлений. Это только в старом Советском Союзе все было так устроено, что, куда человек ни кинется, он налетает… он вылетает в антисоветчики. Абстракционизм невиннейший, никакого отношения к антисоветизму не имевший — нет, антисоветский, художники — враги. Поэзия формалистическая — антисоветская. И это при том, что весь авангард художественный коммунизму сочувствовал! Джаз — буржуазная музыка, а какой он, к черту, буржуазный? Американские джазмены, может, и хотели бы обуржуазиться, да у них не получалось… Но как только вся эта советско-антисоветская паранойя кончилась, джаз стал для Аксенова просто музыкой.
Е.П.: А начиналось все именно с протеста, и в этом смысле советские любители джаза не отличались от советских же стиляг вообще. Мне рассказывал опять же Козлов, как московские стиляги развлекались тем, что просто шли по улице Горького, то есть по Тверской от Манежной до Пушкинской площади с целью вызвать возмущение прохожих. Когда же прохожие начинали стыдить их за то, что они стиляги, то Алешин товарищ отвечал — это в пятидесятом году, в ста метрах от Лубянки! — «Красная сволочь!» — он отвечал! Вот откуда все росло…
А.К.: Весь этот джаз… И вот Аксенов, который и сам был из таких, но обладал литературным талантом и вкусом, он оказался литературным… представителем любителей джаза, американских тряпок и Америки вообще, антисоветчиков молодых. Вот и все. Что бы он там ни писал, каких бы там… «Коллег»… Так получалось, что советская власть делала из всей молодежи своих противников. Про это, между прочим, есть сильное место в романе Сергея Юрьенена «Дочь генерального секретаря»… Нет, кажется в «Нарушителе границы»… Прекрасная сцена! Герой приезжает к своей любимой девушке в Минск из Москвы — он учится в московском университете, она в минском, — не застает ее, а застает ее брата-остолопа. Брат работает на заводе, при том, что у них отец — высокопоставленный военный, но даже он не смог сына никуда, кроме завода, приткнуть. Герой приезжает, а девушки нет. Брат ничего не понимает с похмелюги: «О, заходи!» А у него девка какая-то спит… Герой заходит, на нем джинсы — он же из Москвы, из общежития МГУ. А на дворе начало семидесятых… И похмельный этот братец-остолоп тут же начинает приставать: «Продай джинсы! Ну, че ты хочешь? Ну, продай… Ты ее оттянуть хочешь? Пожалуйста… У меня, вот видишь, из брезента, самострок, херня, а тут настоящие фирменные. Продай! Ты в Москве еще купишь, продай!» Герой говорит: «Ну, хрен с тобой, мне нужно вот денег до Крыма, — он думает, что девушка его в Крыму, — давай денег до Крыма, а я тебе отдам штаны…» Ну, они меняются штанами, и этот парень… Между прочим, молодой советский рабочий и сын советского начальника… Он натягивает джинсы, и дальше делает несколько боксерских движений перед зеркалом, и орет во весь голос такую песню на популярную эстрадно-джазовую мелодию: «Шестнадцать тонн — смертельный груз, а мы летим бомбить Союз!..» Сколько же здесь отрицания, неприятия всего советского! То есть, в широком смысле: любовь к джазу… ко всему этому джазу и тому подобному… и любовь к Советскому Союзу оказались несовместимы. И джаз стал не просто увлечением Аксенова в свое время, а в значительной степени вырос из его антисоветизма и сформировал этот антисоветизм.
Е.П.: Это важно понять. Потому что молодой читатель может подумать: а, собственно, о чем вообще идет речь? Ну, джаз, ну и что? Ну, скучнейшая музыка…
А.К.: А джаз в наше время, во времена Аксенова, — это был выбор всей будущей судьбы. Вот как.
Борис Мессерер
«В бесконечном объятии»[156]
В 2009 году не стало Василия Павловича Аксенова. Вместе с Беллой мы пришли в Центральный дом литераторов на панихиду. Я находился на сцене рядом с его гробом, а Белла, пройдя через мучительную процедуру прощания, сидела в первом ряду партера рядом с Майей, обняв ее за плечи. Неожиданно ко мне обратился Сергей Александрович Филатов[157]:
— Борис, только вы можете провести траурную церемонию прощания с нашим общим другом. Поручили мне, но я не чувствую в себе сил на это и прошу вас сказать слова о Василии.
И я почувствовал, что отказаться не имею морального права. Времени на размышления не было. Кругом находились близкие друзья Васи: Белла Ахмадулина, Виктор Ерофеев, Александр Кабаков, Андрей Вознесенский, Зоя Богуславская, Алла Гербер, Владимир Войнович. «Что все-таки самое главное в Аксенове?» — на этот вопрос предстояло отвечать мне, и я шагнул к микрофону…
Я был свидетелем самого трудного периода жизни Василия Аксенова, когда он для себя решал: каким путем пойти в литературе и в жизни, что было для него неразделимо.
Сейчас я вспоминаю время, когда Аксенов писал «Ожог». Он, подобно зверю перед прыжком, был внутренне напряжен. Тогда он со своей матерью Евгенией Семеновной Гинзбург был в Париже, куда приехал из Берлина. За ним повсюду неустанно следил КГБ, за ним и за рукописью романа. Это был переломный момент в его судьбе. И Вася решился: вместе с матерью поехал в Париж без официального разрешения КГБ. Он хотел быть внутренне свободным и именно тогда решил печатать этот роман на Западе. Решение пришло тогда, но осуществил его Аксенов позднее. Книга вышла ко времени отъезда Аксенова в Штаты, после истории с «Метрополем».
Что заставило Аксенова стать во главе этого издания? Думаю, чувство ответственности перед Богом, перед самим собой и перед поколением, которое Аксенов возглавлял. Александр Исаевич Солженицын вопрошал в предисловии к «Архипелагу ГУЛАГ»: кому, как не мне? Это и есть чувство совести и чувство самосознания гения. Это чувство владело и Василием Аксеновым.
Стремительно ворвавшись в литературу, он поразил нас всех, его современников, своими рассказами, повестями и сценариями. Мироощущением молодого человека, пришедшего в жизнь во время стихийной «оттепели», человека, несущего в себе заряд только что родившегося чувства свободы, с которой никто тогда не умел обращаться и не знал, что с ней делать дальше. Потому что все вокруг было нельзя. Аксенов заронил только «искру». Он тоже не знал, что делать. Но «вершители судеб» страны в лице ее тогдашнего вождя Никиты Хрущева хорошо понимали опасность такой «искры». Вся коммунистическая пропаганда строилась на этой «искре» в своем, нужном для коммунистов смысле. Но вожди не понимали, что это слово не имеет политической окраски, потому «искра» может сработать против них самих. Что и произошло. Учиненный Хрущевым разгон молодой поросли не дал нужного результата. Хрущев выкрикнул в адрес Аксенова:
— Вы мстите за смерть вашего отца!
На что Вася в своей медлительной манере спокойно ответил:
— Мой отец жив, Никита Сергеевич!
Оторопевший Хрущев метнул злобный взгляд в сторону своих помощников, давших неточную информацию.
В то время в литературе все более и более обозначался кризис. Кризис жанра.
Аксенов отреагировал по-писательски точно: опубликовал «Затоваренную бочкотару». Цензура не могла придраться к повести: в ней не было ничего антисоветского. Но трактовкой жизненного процесса как совершенно бессмысленного действа и своим языком, выражающим абсурдистское начало, открытое им в окружающей действительности, «Бочкотара» принесла Аксенову лавры самого чуткого писателя современности. Теперь уже литературоведам предстояло разобраться, кто на чьем языке говорит: Аксенов на языке народа или народ на языке Аксенова.
А дальше был «Метрополь». Это была человеческая эпопея. Поразительно, что несмотря на совершенно разный возраст (Семену Израилевичу Липкину — за семьдесят, а Пете Кожевникову — двадцать пять) и совершенно разные судьбы участников альманаха, писатели откликнулись на призыв Василия Аксенова участвовать в неподцензурном издании, проявив удивительное единство взглядов, и с огромным удовольствием проводили время вместе, выпивая, разговаривая и вступая в отношения подлинно дружеские, что теперь проверено временем. Конечно, замечательно, что среди участников альманаха оказался Володя Высоцкий, который буквально освещал своим присутствием те собрания, на которые приходил. Зародившиеся тогда дружеские связи остались на всю жизнь, в том числе дружба с Инной Лиснянской, Виктором Ерофеевым и Евгением Поповым.
Отношения с Андреем Битовым и Фазилем Искандером заметно укрепились и тоже стали составной частью нашей общей жизни. В заключение могу добавить только, что встречи эти происходили в моей мастерской, и это было счастливое время, потому что помыслы наши были чисты.
Это чувство выполненного долга перед самим собой и давало то радостное и веселое ощущение внутреннего удовлетворения, которое нами тогда владело. На ступенях моей мастерской встречались все участники альманаха, в их числе выдающийся писатель Фридрих Горенштейн, тонкие поэты Юрий Кублановский и Евгений Рейн, востоковед и писатель Борис Вахтин, философ Виктор Тростников, всегда мрачный Юрий Карабчиевский и всегда, наоборот, веселый Марк Розовский.
Затем последовал разгром «Метрополя». Писателям официального толка давали в Союзе писателей ключ от комнаты, в которой лежал альманах. Начались проработки альманаха и его авторов в газете «Московский литератор», а потом и на страницах центральных газет.
Больше всех попало Василию Аксенову. Наконец, обстановка сложилась так, что руководство Союза писателей объявило Аксенову: дальнейшее его присутствие на территории страны нежелательно.
Начались проводы Аксенова.
Так совпали жизненные обстоятельства, что за два дня до отъезда Василия у Беллы умер отец.
Отец Беллы прошел всю войну и окончил ее в чине подполковника артиллерии. А потом стал работать в системе таможенных органов, в которых занимал довольно крупные должности.
На похороны пришли Вася и Майя и наши грузинские друзья Юра Чачхиани и Резо Акашукели, а также руководители таможенной службы в очень высоких чинах, но среди таможенников было несколько парней, только начинающих службу. Один из них, симпатичный молодой человек, высокий и красивый, очень сблизился с нами и Васей Аксеновым во время скорбной церемонии поминок.
Каково же было наше изумление, когда через два дня мы обнаружили его в числе тех таможенников, которые шмонали Аксенова на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево! Я внимательно следил за выражением его лица и видел, что он безумно нервничает, когда ему приходится придираться к большому количеству рукописей, которые Аксенов вывозил с собой. Это была пытка для него, потому что он видел, что и Белла, и я внимательно следим за его действиями. Мне было его очень жаль, несмотря на его чудовищное занятие.
В момент прощания нам казалось, что мы расстаемся навсегда. Это напоминало похороны близких людей. Когда, наконец, самолет Васи и Майи взмыл в воздух, мы даже почувствовали какое-то облегчение, столь невыносимо тягостной была процедура досмотра.
Буквально через несколько дней Василий позвонил нам из Парижа. Он хотел нас приветствовать звонком из свободного мира. Но в ту минуту, когда Белла взяла трубку, я увидел в проеме окна идущего по крыше художника Митю Бисти, моего соседа по мастерской. Он встал прямо перед окном и сказал:
— Умер Володя Высоцкий.
Митя Бисти жил в одном подъезде с Володей в доме на Малой Грузинской. Белла, ни секунду не раздумывая, повторила эту фразу Васе, пребывавшему в прекрасном настроении — в Париже, радующемуся первому дню свободы. В ответ из трубки раздался чудовищный стон Аксенова. Он был потрясен этим известием, равно как и мы с Беллой. Таким оказалось начало жизни Васи и Майи в эмиграции. С одной стороны — радость обретения свободы и возможность прекрасной и счастливой жизни на Западе, а с другой — безвыходная тоска по отечеству и вечная, непрерывная горестная скорбь по российской трагедии, которая всегда пронизывала нашу жизнь.
Оказавшись на Западе, Василий сразу начал эту безумную страстную переписку, в которую вкладывал всю неизбывную тоску по России и тем дружеским связям, которые готовы были разорваться из-за его отъезда. Василий и Майя покинули нашу страну 20 июля. Володя Высоцкий умер 25 июля, а первое письмо Василия датировано 24 сентября 1980 года. Читатель может проследить, что разрыв во времени сокращен до минимума — отсюда подлинная дружеская страсть, сквозящая в переписке. Эта переписка длилась шесть лет — с 1980 по 1986 год — с момента высылки Аксенова до нашего с Беллой приезда в Штаты в 1987 году. Несколько писем, датированных более поздними годами, уже не имеют значения — они случайны. Но сама переписка не случайна. Она занимает ровно столько времени, на сколько мы были разъединены или, точнее, разлучены властями.
Мы с Беллой оказались в Америке благодаря приглашению и неустанной заботе Гаррисона Солсбери[158], который совершил очевидный для нас человеческий подвиг, самым настойчивым образом стараясь сделать наш приезд в Штаты реальностью, и начались наши встречи с Василием и Майей на американской земле. Три месяца мы были в Штатах, все это время находились в постоянном контакте друг с другом, и это автоматически сняло необходимость писать друг другу. Тем не менее я горжусь, что Василий, Майя и мы с Беллой не потеряли друг друга в этом жестоком мире, разъединяющем людей. Следует отметить, что переписка велась через наших американских друзей, которые благородно старались нам помогать.
Мы сумели остаться на высоте наших отношений, и я думаю, что эти письма, несмотря на то, что они — лишь весточки, дающие знать хоть что-то друг о друге, тем не менее являют собой феноменальный документ человеческой близости, а страсть, которой исполнены эти письма, есть торжество дружбы и любви между участниками переписки. И она привела к новой встрече на гребне интереса друг к другу; непрекращающаяся переписка подтверждает неразрывность и неслучайность некогда родившейся близости. Страстной близости по интересам, а не вялотекущей, годами длящейся привычки.
Именно торжествующая страсть — мы хотели и смогли сказать друг другу слова о своей любви. Тем самым мы создали своего рода памятник человеческим отношениям вопреки человеческой привычке плыть по течению жизни. И поступили так, меньше всего заботясь об этом.
Михаил Левитин[159]
Рассказ без преувеличений
Об Аксенове и его друзьях я знаю столько, сколько знали окружающие о декабристах до восстания на Сенатской площади. То есть все и ничего.
Я пропустил свидание. Знаете, как бывает, ждешь-ждешь, а она не приходит? Здесь не она, здесь он — Аксенов. Я не то чтобы его не дождался, я пропустил. Журнал «Юность» моего детства был фактом счастья и не только потому, что его выпускал знаменитый одессит Катаев, а потому что у них Получилось.
Они собрались в нужное время в нужном месте и были защищены друг другом. Все совпало. Казалось, это не разные повести, а одна общая большая, не хотелось вникать в разницу, Юность и Юность. Гладилин, Аксенов, еще чей-то «Дым в глаза», что-то такое теперь забытое, но навсегда в тебе, а значит, способное к возвращению.
Это были легкие, чуть, казалось, припухшие страницы «Юности», от новизны припухшие, от тяжести только что набранного типографского шрифта, мелких-мелких прибившихся друг к другу буковок. Вот так хочется вспоминать!
И среди этого, казалось, второпях набранного текста — Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет», «Победа (рассказ с преувеличениями)».
Не мечта, не вершина достижений, но попытки, попытки высказать душу.
Я не был захвачен, не был увлечен — меня просто трясло от желания прочесть. Озноб перед первым свиданием, когда она обещала. Сдержит ли обещание, придет ли?
Это были не только аксеновские мечты, но и мои тоже. Всегда любовные, с победой в конце, равной поражению, потому что всегда не важно, победил-проиграл, — Жил! Прорвался в жизнь!
Вот что такое Василий Павлович. Вот что такое его стремление быть в толпе и в то же время пройти сквозь толпу незамутненным. Он был свой, советский, здешний, никем не притворялся, СВОЙ. С единственным желанием вырваться от нас, убежать, но при этом остаться навсегда с нами.
Как это ему удавалось? Сердце. Я бы сказал — доброе сердце, и щепотка пижонства, щегольства.
Когда ты как бы красуешься перед нами своей свободой, больше всего боясь нас ею, этой свободой, оскорбить.
Строчки «Юности» убегали, типографский шрифт линял, буквы сливались и переставали быть разборчивыми, а он, не растеряв с ними связь, все же уцелел, выбрался. Такой же вызывающе юный, как и тогда — на территории Валентина Петровича Катаева.
Он не лучше других, Гладилина, Окуджавы, Войновича, он просто роскошный, он в центре, на него хочется смотреть, он оставался единственным гарантом счастья. Потому что все, написанное им, — счастье и про счастье.
Ему не удается, да он и не пытается испортить общее отношение к нашей жизни, волшебные события своих книг, горячечный бред героев, он романтик, забулдыга, джентльмен-пьяница, враль, романтик. Он захлебывается от восторга перед собственным пением, желанием его не прекращать, но где-то маячит точка.
Сидя у меня в театре, где он оказался, чтобы узнать, буду ли я ставить «Вольтерьянцев», и одновременно, как мне кажется, не без удовольствия посмотрел спектакль по «Суеру-Выеру» Коваля, он признался, что как-то пропустил этого писателя. А ведь много, очень много хорошего, и спектакль веселый! А потом спросил: «А почему все твои романы тонкие, написаны как бы наполовину? Там столько интересного, ты что, боишься писать побольше? Роман должен быть толстым». И на мое объяснение, что я не могу позволить себе подливать в книгу воду, ответил серьезно: «Ну и что же что воду? Это совсем не помешает. Нельзя одну эссенцию. Немного воды не помешает».
Я помню, как он сидел в углу моего кабинета, чудесный, элегантный, не забывающий поддерживать общее впечатление о себе, это вошло в привычку. Он — Аксенов, советский американец, покоритель сердец. А я сидел за столом напротив как чиновник и думал, почему я не познакомил его с актерами, почему не делаю этого сейчас? Не пытаюсь их удержать после спектакля, крикнув: «Вот Аксенов! Аксенов! Смотрите, он здесь, он хочет быть поставленным нами». Почему? Наверное потому, что собирался ему отказать, и это было главное, а ему было почти наплевать на мой отказ, главное — люди, люди вокруг него, восторг в глазах, изумление, а я этого не сделал. А он ничуть и не оскорбился.
Он был снисходителен к таким вот неглавным ошибкам. Он ведь больше притворялся классиком, чем чувствовал им себя на самом деле. Вот почему мне трудно понять сейчас всю глубину моего невнимания к этому неотразимому человеку.
В 80-м, в канун Олимпиады, за двадцать лет до моего спектакля по «Суеру», я встретился с ним, чтобы предложить сделать сюиту спортивных рассказов, репортажей в моем театре. И он как-то снисходительно согласился, хотя ему было не до меня и этой вполне конъюнктурной, хотя и красивой идеи. Он то ли уходил из квартиры на Аэропорте, где мы встретились, то ли боялся обидеть бывшую свою жену, очень раздраженную, и увальня мальчика, возникающего в комнате как-то боком, чтобы взглянуть на нас и быстро исчезнуть. Он огрызался на упреки жены, учитывая мое присутствие, он не хотел ничего объяснять, ему было неловко, унизительно объяснять, или он рассчитывал, что я знаю про то, что знает вся Москва, — про его главную любовь, про его новую жизнь?
О будущем спектакле он сказал только одно — делай что хочешь, если тебе интересно, мне не очень. Улыбнулся, когда я заговорил о рассказе «Победа», главном для меня, с которого, в конце концов, все, связанное с Аксеновым, и началось, чтобы через много лет воплотиться в нашем спектакле «Аксенов. Довлатов. Двое».
И когда оно все-таки через двадцать лет случилось, спонтанно, помимо моей воли, я понял, что он этого хотел. Он и тогда этого хотел, но как-то растерянно сказал мне, что обстоятельства, наверное, помешают, впрочем попробовать можно. Он говорил со мной как человек, не привыкший что-либо скрывать от «своих», предполагающий, что я знаю от кого-нибудь о создании «Метрополя», от Давида Боровского[160], например, или кого-то из их прекрасной компании, но я ничего не знал.
Я был рассчитан не на ту минуту, в которой жил он, не приближал ее, этой минуты, мне пришлось ждать еще 20 лет, чтобы отзвучал на нашей сцене и в моей душе любимый мой рассказ «Победа», легкий щелчок тех старинных, ничего не значащих воспоминаний.
Владимир Мощенко[161]
Одинокий бегун на длинные дистанции
Никакого «было» не существует, только — «есть».
Уильям Фолкнер
У Василия Аксенова, по его признанию, была мечта написать книгу (возможно, роман), где он собирался воскресить те солнечные времена, когда Тбилиси вдруг стал блистательным центром поэзии, литературной Меккой. Мне уже довелось говорить, что здесь помпезно, сменяя друг друга, проходили декады культуры, и на них слетались отовсюду тогдашние «звезды» искусства; грузинская поэзия и проза благодаря вдохновению московских переводчиков завоевывали сердца миллионов читателей — ничуть не меньше, чем грузинские вина и кино; то был праздник с великолепными афишами, пышнейшими банкетами, самый разгар праздника, которого не случалось прежде и которому, как ни жаль, впредь уже не дано повториться.
Как мог остаться в стороне от всего этого автор «Звездного билета»?! Его приглашали так же настойчиво, как и Евгения Евтушенко, и Александра Межирова, и Владимира Соколова, и Беллу Ахмадулину… да, Беллу, чья фамилия, по Аксенову, превращается просто в возглас восторга — Аххо! — и чьи «Сны о Грузии» взволновали его до слез:
В сборнике статей и интервью «Квакаем, квакаем…» он писал: «Сталина давно уже нет, идут исполненные робких надежд годы «оттепели». А где лучше можно было разморозиться от вечного советского страха, чем в древнем караванном городе, чье имя как раз и говорит о тепле?»
(Из дневника: Читал черновик этого очерка Виктору Есипову, которому Аксенов, как вечному поверенному, беспрекословно доверял — в том числе находясь вне России — заниматься устройством своих непростых литературных дел. В этом месте Витя прервал мое чтение:
— У тебя наверняка нет 133-го номера журнала «Грани»[162] за 1984 год.
— Точно: нету. А что здесь?
— Здесь? Васина статья «Прогулка в Калашный ряд». У нас она не публиковалась. Возьми оттуда вот этот кусок: он прямо просится сюда; без него никак нельзя.
И я взял с благодарностью.)
«Грузия — источник христианской веры для России, не менее важный, чем Византия, она и сейчас там живее, чем где-либо, недаром в грузинских стихах Ахмадулиной столько раз встречается слово Господь, всякий раз низводимое к строчной букве грязной советской цензурой.
Грузия — карнавал, заговор средиземноморских веселых плутов против одолевшей орды марксизма.
Белла — ренессансное дитя; поэтому, тяжко страдая от утечки российского (советского) «ренессанса», она всякий раз бежит в Грузию.
И Грузия отвечает всеми остатками своего рыцарства. Помню, в конце 60-х годов в тифлисских застольях всякий раз наступал торжественный момент, когда пили за «нашу девушку в Москве». У националистов среди портретов выдающихся грузин висел портрет Ахмадулиной: «наша дэвушка». Однажды марксистский князь давал обед в Кахетии. Белла сидела по правую руку князя-секретаря, принимая его льстивые речи, а на другом конце огромного стола сидел еще один москвичишко, так называемый поэт, пропахший ссаками сученок-сталинист. Желая тут потрафить кахетинцам и заслужить стакан на опохмелку, поэтишко привстал над коньяками и тост за Сталина, как сына Сакартвело, скрипучим голосом провозгласил. Гульба затихла, и грузины смолкли, усы повесив, шевеля бровями, продажностью московского народа в который раз в душе поражены. Тогда над шашлыками и сациви вдруг Беллина туфля промчалась резво, великолепным попаданьем в рыло ничтожество навек посрамлено. Все пьем за Беллу, князь провозглашает, и весь актив, забыв про сталиниста, второй туфлей черпая цинандали, поплыл, врастая в пьяный коммунизм.
«Сны о Грузии» — самый внушительный сборник Ахмадулиной, том в 541 страницу, из них чуть ли не треть — переводы из Бараташвили, Галактиона Табидзе, Симона Чиковани, Отара Чиладзе… Среди карнавального шума сделана была серьезная и в высшем смысле профессиональная работа, иные стихи стали русскими шедеврами, сохранив свою грузинскость».
Для меня очень важно еще и то, что в этом отрывке — во весь рост фигура и самого Аксенова.
В «Квакаем, квакаем», говоря о моем «Блюзе для Агнешки»[163], он «с радостью» находил в романе среди вымышленных персонажей имена реальных людей, которых и он встречал в те годы в тбилисских застольях: Иосиф Нонешвили, Эдик Елигулашвили, Гоги Мазурин, Шура Цыбулевский… В одном интервью В.П. признался: «Я вообще очень люблю Грузию. Я когда-то провел в ней очень интересные молодые годы, имел массу друзей, они были немыслимо забавные — богема. Тбилиси… Шляние по этим кварталам, сидение на террасах и болтовня, выпивание вина; водки почти не было, а вот вино, вино… совершенно другое опьянение, какое-то восторженное».
Так уж совпало, что день нашей первой встречи с Аксеновым был моим последним днем в Тбилиси, где я прожил почти десять самых счастливых лет: у меня уже были оформлены все документы на выезд в загранку, в длительную служебную командировку. Именно в Тбилиси, как писал обо мне Аксенов, возникла идея проникновения дальше, за пределы, пусть в социалистическую, но все-таки Европу, в Будапешт, где, конечно, на каждом перекрестке есть кафе и там играют комбо блестящих джазменов, венгерских вариантов Джона Колтрейна[164] и Стэна Гетца[165]. Раннее утро я отметил походом в хашную, расположенную на небольшой площади недалеко от музея Нико Пиросмани, потом оттуда (не понимая: то ли мне грустить, то ли в воздух чепчики бросать) спустился прямиком к духану у самого берега Куры, сидел там часа три — и спохватился: «Но ведь надо попрощаться с моим Гоги. Иначе я не имею права уезжать: себе не прощу». Я купил оплетенную золотистой лозой бутыль кахетинского и отправился к Мазурину (человеку «неизвестной национальности», по словам бдительного Станислава Куняева). Здесь я и увидел Аксенова, растиражированного на весь мир самым востребованным журналом «Юность». Это он запечатлел кусочек неба, похожий на железнодорожный билет, пробитый звездным компостером! Он произносил тост за узкие, горбатые улочки старинного города, а еще — за хрупкие балкончики, бесстрашно и романтично нависшие над обрывами с выставленным на показ бельишком.
— Где ты пропадал? — набросился на меня грузный Гоги. — Докладывай.
Я, как умел, принялся рассказывать о своей поездке на праздник Ломисоба.
У Васи разгорелись глаза. Он требовал подробностей.
Уже смолоду он поклонялся им. Для Аксенова деталь в литературной работе была основой основ образности. С каким удовольствием повторял В.П. ослепительную находку Олдоса Хаксли, рисующего древнее пианино, один из первых «бродвудов» георгианской эпохи, под открытой крышкой которого скалились желтые клавиши, будто зубы старой лошади! В таких случаях Аксенов восклицал: «Это ли не перл? Увы, современная проза, как свинья, равнодушна к россыпям подобных сокровищ». Он не скрывал от читателей, что, побывав в юности в квартире Пушкина на Мойке, не обнаружил ничего особенного, кроме… умывальника, неизгладимо, навсегда оставшегося в его памяти. Но умывальник-то этот не простой — кругельсонговский, мраморный, с фарфоровой, в цветах и фазанах, раковиной. На нем, этом роскошном пушкинском бытовом предмете, и держится вся художественность трогательной новеллы.
Ну а я, вдохновленный солнечным кахетинским, докладывал о своем.
Пасанаури. Это здесь, увековеченные Николаем Заболоцким, «на двух Арагвах пели соловьи». Рядом — гора Ломиси (два с половиной километра высотой). У подножья — храм Святого Георгия. Первая среда после Троицы. Народ валит сюда валом. Пожалуй, со всех окрестностей. Все нарядно одеты. Возбуждены. Смех, крики, песни, блеянье баранов, которых принесут в жертву.
— Языческий обряд, что ли? — спрашивает Аксенов.
Я отвечаю: скорее всего — да, отголосок.
И бегло описываю двух священников, проходивших мимо, недовольных, сердитых. Один из них в сердцах махнул рукой: ничего, мол, не попишешь, пусть им…
А ближе к вечеру мы повели Аксенова в Чугурети, к Цыбулевскому — надо было показать, как художница Гаянэ Хачатурян украсила своими дивными фресками Шурину лоджию. Голубые девушки и голубые кони поразили Васю. Он не забывал их (это я точно знаю) чуть ли не до конца жизни.
Вторая встреча с В.П., ставшая началом нашей долгой дружбы, произошла много лет спустя, случайно, и благодаря Гале Евтушенко, давней соседке Майи (Маяты), самой большой Васиной любви. Мы пили чай у нее на крохотной кухне (при огромнейшей тем не менее квартире), спорили о «Людях лунного света» Вас. Вас. Розанова, и тут она вспомнила:
— Ой, я ведь обещала Васе, что позвоню ему, когда вы придете… Познакомлю заодно.
— С Аксеновым? Мы познакомились с ним еще в Тбилиси.
— А… ну да, мне что-то такое Межиров об этом говорил. А теперь Васю выручать надо. Гаишники права у него то ли отнимают, то ли уже отняли. Поможете?[166]
Я отправился в комнату, где до этого рылся в куче (почти сплошь запиленных) фирменных джазовых пластинок, оставшихся в наследство от Евгения Александровича, предназначенных ею на выброс как ненужное барахло (ее волновала только классика). Галя, кстати, говорила, что я такой же ненормальный, такой же джазонутый, как Вася. Прервав мое занятие, она сообщила, что он вот-вот будет здесь. И проворчала:
— Вечно скорость превышает. Лихач. Это ему урок. Но выручить его необходимо.
Войдя, Аксенов остолбенел, заметив меня.
— Гамарджоба, кацо! Привет авлабарцам. Сколько лет, сколько зим! Так это ты меня спасать будешь? Вот не предполагал. — И спохватился: — А почему же мы в ЦДЛ не сталкивались?
— Служба, — ответил я. — Тягомотина. Я в ЦДЛ раз в году бываю.
Он не стал с ходу рассказывать мне о своих неприятностях, причиненных ему ГАИ, и неожиданно для меня предложил:
— Айда в «Иллюзион». Маята отказалась. Билеты вот они, при мне. Через десять минут начало.
— А что за фильм?
— «Судьба солдата в Америке»[167].
Я сказал, что видел эту картину шесть раз, но с радостью составлю ему компанию.
— А я пятнадцать раз смотрел, — укоризненно произнес Аксенов. — И опять иду. Малыш Джеймс Кэгни[168] — титан. Чудо! А мысль там какая?! Уложить всех вокруг себя куда проще, чем договориться…
До «Иллюзиона» (кинотеатр — в том же здании-высотке, на Котельнической, рядом с роскошным гастрономом, которого уже нету), ходу — три-четыре минуты. Но за это время Вася успел упомянуть, что настоящее название фильма — «Ревущие двадцатые», что советские прокатчики — идеологические бандиты, подтасовщики.
— Суки! — добавил он сердито.
А когда сеанс завершился и мы, оглушенные, шли обратно, я прочитал ему свои стихи «Трофейные фильмы» с такими строчками:
Аксенов пожалел, что я не посвятил ему это стихотворение.
— Мне это было бы по душе, — сказал он. — Мои мотивы.
Разумеется. Это перекликается с его «Песней петроградского сакса образца осени пятьдесят шестого»: «Я нищий, нищий, нищий… И пусть теперь все знают — у меня нет прав! …Боже праведный, мне двадцать лет, а скоро будет сорок! Я тоже донор, и кровь моя по медицинским трубкам вливается в опавшие сосуды моей земли! И пусть все знают — я скорее лопну, чем замолчу! Я буду выть, покуда не отдам моей искристой крови, хотя я нищий, нищий, нищий…» Должок я вернул впоследствии, получив в подарок от него старинный роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» с эпиграфом: «Дорогой Володя! Вот то, что я навольтерьянил. Читай и вольтерьянь стихом. Твой Вася». Вот и свольтерьянил я стихотворением «Листопад всея страны», ему посвященным, с такой концовкой:
Он возразил:
— Не дремлет — и не мечтай. На то он воронок! Старый запросто меняется на новый.
Однажды, едва ли не в полночь, незадолго перед отлетом в Биарриц, он позвонил мне:
— Пишу предисловие к твоему роману. Пишу — и вспоминаю наш с тобой поход в «Иллюзион».
— Ну и ну… — ответил я растерянно.
Подходящих слов у меня не было.
— К утру, — пообещал он, — закончу. Пришлю тебе по имэйлу. А теперь слушай… — И принялся читать из книги: «Эпоха трофейных фильмов! Даже у тебя, козявка, есть возможность пересечь все границы. Запах свежайших пирожных «наполеон» и компота из сухофруктов. Все это приготовлено услужливыми частниками (скоро их время закончится). Нетерпение в каждом жесте счастливчиков, которым достались билеты. Отстояв в очередях, мы входили победителями то в «Пионер», то в «Спартак», где когда-то, до войны, рокотали, щебетали, признавались в любви струны Пантелея Савельевича, и на нас обрушивалась «Чаттануга Чу-Чу»[169]. Эй, машинист, поддай-ка жару, поехали, поехали, поехали! Вверх, вверх, вверх! В горы! Элегантный, невозмутимый, гениальный Гленн Миллер посверкивал стеклышками очков, и мы замирали от предвкушения чудес. Всем нам просто не верилось, что джаз может так переворачивать душу…»
Наш поход в «Иллюзион» отразился и в прозе Аксенова следующим образом: «Я смотрел «Путешествие будет опасным» не менее десяти раз, «Судьбу солдата в Америке» не менее пятнадцати раз. Было время, когда мы со сверстниками объяснялись в основном цитатами из таких фильмов. Так или иначе, для нас это было окно во внешний мир из сталинской вонючей берлоги. (…) Один из моих сверстников, будучи уже высокопоставленным офицером советских ВВС, как-то сказал мне: «Большую ошибку допустил товарищ Сталин, разрешив нашему поколению смотреть трофейные фильмы».
Кто же такой сей продвинутый высокопоставленный офицер советских ВВС?
Чтобы узнать это, нужно обратиться к самой для меня дорогой из всех аксеновских книг — «В поисках грустного бэби».
Дело здесь не в литературных и несомненных ее достоинствах (есть у него вещи и куда сильнее). Суть в том, что в ней, в частности, звучит ода в честь свободолюбивого джаза, который побратал нас с В.П.
Этой музыкой была загромождена от пола до потолка аксеновская квартира в писательском доме на Красноармейской улице. Мы, правда, сидя на кухне и попивая кофе с коньяком, находили возможность потолковать о литературе. Вася обожал поэзию (и русскую, и зарубежную), знал ее, пожалуй, не хуже маститого литературоведа.
Но очень часто в наши «беседы на кухне» вторгался Аксенов-младший — Леха, который затем достиг баскетбольного роста; он самозабвенно оглушал окружающих (соседей — в первую очередь) ударной установкой, где были в полной исправности тарелки, в том числе вкрадчиво шипящая crash[170], барабаны snare drum, high tom-tom и middle tom-tom[171] ну и, естественно, bass drum[172]. И поглядывал на нас: каково? Ждал похвалы. И надеялся, что Фрэнк Синатра позовет его к себе в Америку, в свой оркестр.
— В меня пошел, — горделиво говорил Вася. — Он уже, считай, профессионал.
А Леха в такт своим тарелкам заорал:
Меня он уважал вовсе не за литературные доблести, которых, естественно, не было, а за то, что я мог ответить на многие его вопросы: «Что такое бибоп?», «Что такое граунд-бит[173]?», «Что такое драйв?» и т. п. Ставил на свою вертушку диск Бадди Рича «Winter Nights» и восхищался:
— Качественная музыка! Вам нравится, Володя?
Восхищаться юный драммер научился у своего отца. Они и внешне были похожи.
(Из дневника: Ночной Васин звонок:
— А ты слушаешь сейчас Уиллиса Конновера[174]?
— Спрашиваешь!..
— А каков Пол Дэзмонд[175]?! А?!
— Да…
— Не разбудил, старик?
— Что ты!)
Мне не надо стараться, воспроизводя прошлое; спасибо Васе: он блистательно воссоздал те дни и те страсти в «Грустном бэби», упомянул даже о далеком прошлом, о том, что мы оба были вовлечены в увлекательный бизнес «джаз на костях» — то есть обменивались рентгеновскими снимками и последними музыкальными новостями. Большое место отведено моим встречам с ним и его ненаглядной Майей у меня дома, когда я жил возле Измайловского парка. То было время после сильнейшего идеологического взрыва, наделанного выходом в свет «Метрополя». Думаю, нет смысла останавливаться на подробностях начавшегося шабаша: расставлены все точки над «i». «Меня уже тогда[176], — вспоминает В. П., — далеко не все друзья приглашали в гости». Боялись, что попадут в немилость и власти начнут их преследовать. Один из почитателей Аксенова в предисловии к третьей части «Зеницы ока» честно признается, как в 1980-м, заметив В.П., поднимавшегося по лестнице в кинотеатре «Октябрь», где проходил джазовый фестиваль, не решился подойти и поздороваться с ним: «Уже было известно, что он уезжает».
Конечно, Аксенов, «присвоивший» мне в повести для «отвода бдительных глаз» и «маскировки» звание генерал-полковника (да еще ВВС!), не был бы Аксеновым, если б он на этих страницах кое в чем не «загибал, как другой на свете не умел», не прибегал к гротеску и молодецкой иронии. Удивительный, нереальный у него генерал-полковник! Ну, вот хотя бы: «Если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям типа: «I’m beginning to see the light» или «Those foolish thins»[177]».
Хотите верьте, хотите не верьте, продолжает В.П., наивное командование не ведало об этом увлечении офицера стратегической авиации, предназначенной, в конце концов, для бомбардировки страны джаза, то есть Соединенных Штатов Америки. Мало того: генерал у него передвигается по столице нашей Родины не в роскошном лимузине, а… пешком. И увидел его В.П. не в Генеральном штабе, а в… подземном переходе на Манежной площади! Как простого пешехода. Оказывается, у генерала даже(!!!) кое-что имелось из продуктов для друзей: не бедствует, видите ли, генерал, не стоит в очередях за харчами! «Приходи, — сказал он мне, подмигивая, — есть чем угостить».
Вот так…
В конце книги указано: июль 84, Вермонт — июль 85, Париж. В ту пору ему, представившему вашего покорного слугу своим читателям как «советского генерала со здоровенными звездами на плечах», еще не было известно, что я, не дослужившись до пенсии, с помощью ходатайства Союза писателей СССР ушел в отставку, на вольные, как говорили, хлеба и перестал носить полковничьи погоны, о чем я еще когда-нибудь расскажу подробнее, потому что история эта сама по себе забавна. Аксенов в этой книге (с неподражаемым, величайшим трубачом Майлсом Дэвисом на обложке), вышедшей в Москве в издательстве «Текст» в девяносто первом, называет меня генерал-полковником Генкой Кваркиным. А уже 12 июля 1992-го на титульном листе книги он внес, так сказать, поправку: «Генерал-полковнику Мощенко-Кваркину от его друга мл. лейтенанта мед. сл. в отставке В.А.».
(Здесь звучит «Ода к радости»…)
В.П. был человеком заботливым (по своей инициативе прислал мне однажды в Боткинскую больницу для консультации знаменитого профессора-уролога, с которым учился в мединституте), был отзывчивым на шутку, умевшим смеяться, но ненавидящим дурашливость, глупость и — прошу простить меня за канцеляризмы — щепетильным, принципиальным. «Таинственная страсть (роман о «шестидесятниках»)» — свидетельство того, каким было мужественным и ранимым сердце Аксенова (потому-то и произошла с ним «чисто житейская катастрофа»). Часто, еще до выдворения из Союза, он говорил, если что-то (не в его вкусе) с кем-то случалось:
— Старик, надо определиться. — Ему нравилось это слово: «определиться». Он со значением произносил его. — Как думаешь: можно ли с этим человеком вести себя по-прежнему, будто ничего не произошло? Так ведь произошло, случилось ведь, уже не все по-прежнему. Да, да, не все!
У него это очень здорово выходило: вроде с налетом иронии, с улыбкой, которая топорщила его усы (типичный красавец-герой из вестерна — только-только примчался из диких и душистых прерий с горячим кольтом в кобуре), но чувствовалось: он словно перечеркнул в рукописи одну из самых удачных страниц. А потом еще одну. И еще одну…
В «Таинственной страсти», последнем романе, потрясают его слова, обращенные к популярнейшему поэту, чьи песни, обогащая автора, гремели на весь Союз и которого он считал близким: мол, ты, дружок Р.Р., бросившийся в партию от беспартийной богемы, потащился совсем в другую сторону, «почти столь же немыслимую для всех, сколь и радио «Свобода». И — его ужас: «Разве так судьбу берут за лацканы»?
А как надо брать — на этот вопрос он сумел дать сотни, тысячи ответов. Кто хотел — находил. Желающих было — сотни тысяч.
Раскидывавший руки для объятия при виде, казалось бы, утерянных друзей (ну чистый чувак из нашей джаз-банды, вернувшийся из Нью-Йорка на лето в Москву, на Котельническую набережную, к Яузе под окном, а никакой не профессор Института Кеннана, университета Джорджа Вашингтона, Гаучерского университета и университета Джорджа Мейсона, переводчик нашумевшего у нас со страшной силой «Рэгтайма» Эдгара Лоуренса Доктороу, никакой не живой классик русской литературы), он мог тем не менее не подать руки такому количеству персонажей времен до— и послеперестроечных, что их перечисление заняло бы место поболе этой статьи. Он избегал их, как тень Короля Датского, не пожелавшего откликнуться на голоса смалодушничавших Горацио, Марцелла и Бернардо в первой сцене «Гамлета». Верно подметил Марцелл, когда призрак брезгливо скрылся:
Думаю об Аксенове — и почему-то невольно думаю о нескончаемой молодости.
Он никогда не расставался с нею, как бы дорого это не давалось, ее высокая волна поднимала его, придавая новизну всему, что вокруг, и ликовала, бурлила в каждой его новой вещи, в каждой строке и в прямом общении с людьми. Васе хотелось, чтобы читатели разделили эту радость, приобщились к ней. Я сказал ему, что впервые ощутил это по многим ранним вещам. Вот хотя бы — «Как жаль, что вас не было с нами», где юная любовь, и чисто аксеновское море, и ресторанчик на берегу с джазиком (трое молодых людей, которых тянуло на импровизацию, — труба, контрабас и аккордеон — и рояль — старик, воспитанный совсем в иных традициях).
В.П. позабавило, что название этой повести в разговоре с кем-то я почему-то нечаянно «пристегнул» к фолкнеровскому рассказу «Полный поворот кругом». Даже поспорил на эту тему, доказывал недоказуемое.
Вася хохотал:
— Промазал!
Но ты смотри, убеждал я, там — то же буйство души, в которой «ни одного седого волоса»; этот мальчишка лейтенант Хоуп, этот ребенок около шести футов роста, похожий на девушку и вечно поддатый, обижающийся на подколки летчиков-пижонов и, не осознавая своего юного героизма, торпедирующий немецкие суда («бобры», как окрестил их Хоуп) — до чего же он твой с его полной, абсолютной независимостью, своеволием, дерзостью, музыкой спятившего мира!
— А что, — вдруг согласился со мной Вася, — пожалуй, ты прав, скорее всего, так оно и есть на самом деле, да и куда ж нам без Фолкнера; недаром Андрюша Тарковский поставил радиоспектакль по этой новелле и провел идею: ни на кого не надейся, пока ты молод, от одного тебя, морячок, все зависит!
В замечательной, страстной книге, посвященной Майе[178], он чуть ли не кричал, доверясь ритмическому строю: «Пятнадцать лет долой! Я снова пьян, я снова молод, я снова весел и влюблен. Чувствую каждую свою мышцу, а неизвестный молодой мир зовет под своды своих древних колоннад, под балконы и на водосточные трубы, меня, ТАИНСТВЕННОГО В НОЧИ…»
Открываю эту обжигающую книгу — а там (о, Господи!) всякий раз всплывает красным карандашом (давным-давно) подчеркнутая мною строчка:
Знакома ли вам фортепианная пьеса «Воспоминание о молодости»?
Строчка-ожог (таких у Аксенова не счесть)!
Да как же забудешь эту невероятную пьесу?
И как забудешь, например, тот синий и прозрачный, морозный вечер в Красной Пахре: …уже за окнами — огни, и вокруг — сверкающие сугробы, а над высоким холмом — затейливый звездный узор имени проживавшего здесь некогда светлейшего Александра Арчиловича из древнейшего царского рода Багратида[179]. Вот и срифмовалось: Грузия и Красная Пахра!
Ну а путь сюда? Не из той ли пьесы это?
…В гости к Аксенову приехала из Токио застенчивая, но деловитая Йоко-сан, которая вознамерилась перевести на японский «Завтраки 43-го года», «На полпути к Луне», «Папа, сложи!» и другие рассказы. С нею прибыли ее муж, молчаливый и ничему не удивляющийся хрупкий потомок самураев, и сын Лео, названный в честь величайшего автора «Анны Карениной». Договорились 7 ноября повезти гостей на дачу, полученную некогда от правительственных щедрот Романом Карменом.
Надо было видеть, как Васята с Маятой, рассаживаясь по своим машинам, смотрели друг на друга, — он и она (пока еще — но уже ненадолго — Майя Кармен)! Как они были неисправимо молоды, как они были неотразимы, как безнадежно влюблены друг в друга и как друг без друга обходиться теперь просто не могли, — он, типичный герой великолепного вестерна, и она — словно творение кисти одновременно и Боттичелли, и Кустодиева. Я догадывался, почему он к нескольким(!!!) главам «Золотой нашей Железки» поставил эпиграфом одну и ту же строфу Бориса Пастернака, перед которым преклонялся[180]:
Повторяю — к нескольким!
Ну, теперь ясно, откуда взялось это ожоговское признание: «Он вдруг забыл страшное слово «совокупление», забыл и сам себя, Самсика Саблера, забыл и Марину Влади, и Арину Белякову, и джаз, и Сталина, и Тольку фон Штейнбока, и, все это забыв, взял женщину и ринулся вместе с ней с крутизны в темный тоннель, загибающийся, как улитка». Эта страсть зашифрована в европейских подстрочниках той же самой «Золотой Железки», где, прорывая дамбу пустынных улочек готического града, холодного неба и башни под ним, на воле оказывается поэзия любви, не нуждающаяся в запятых и точках (не до них!): «ты подбегаешь и вот уже рядом со мной твой золотой мех и бриллиантовые волосы и встревоженные глаза и мягкие губы ты моя девочка моя мать моя проститутка моя Дама и ты уже вся разбросалась во мне и шепот и кожа и мех и запекшиеся оболочки губ и влажный язык (…) все успокаивает меня и засасывает в воронку твоего чувства…»
Итак — вперед!
Васята и Маята условились: каждый поедет на своей машине: оба — водилы. Майя возьмет с собой Васину переводчицу с мужем и свою дочь Алену; а вторую машину заполнят мужики: мы с В.П., Майин внук Ванечка и чувствовавший себя везде вполне комфортно семилетний самурай Лео.
Калужское шоссе. В.П. ведет машину совсем не как лихач; впрочем, он следует за Маятой и несколько раз повторяет:
— Друг Бруно мне верен, как горечь во рту.
— Откуда это? — спрашиваю.
— Из «Преследователя», — отвечает, — из Хулио Кортасара; там еще фразочка убойная: «Она злая на меня, потому что я потерял свой саксофон… А сакс самый паршивый был…» Ты эту повестушку должен выучить, как «Отче наш»: поэзия — сплошняком.
Мотаю на ус.
Сыплет первый настоящий снег, будто январский, чтоб трудящиеся веселее и бодрее шагали по Красной площади. Впрочем, демонстрация уже закончилась, все торопятся к домашним очагам, к теплу: пора отметить праздничек. Однако постепенно я переключаю внимание на пацанов. И есть отчего! Большеголовый, гривастый японский львенок о чем-то спорит с Ванечкой. На родном японском языке! Ну а Ванечка упирается, не соглашается ни в какую, доказывает что-то свое. Естественно, на великом и могучем.
Вася толкает меня в бок:
— Старик, они прекрасно понимают друг друга! Заметил? Им не нужен переводчик. Вот это сюжет! Эту сценку грех не использовать.
И пока жарилось мясо, пеклись огромные картофелины, накрывался стол, Ванечка и Лео продолжали яростный диспут, махали руками, ревели от обиды и тут же хохотали, будто дело только что чуть ли не доходило до рукопашной. А третьим — и не лишним — в их компании был красно-черный Васин сеттер Ральф. Отец Лео все это время цедил из граненого стакана водку, словно там был коктейль, и не морщился.
Вася сказал своей переводчице, показывая на ее супруга:
— Такие мужчины и делают себе харакири — и при этом улыбаются.
— Да, он такой, — подтвердила Йоко-сан застенчиво.
А тот, догадавшись, что речь идет о нем, задумчиво и чисто произнес по-русски:
— Спасибо.
Вылазка наша удалась. Малолетние воины храпели. Им вторил, сидя за столом, хрупкий папа гривастого Левушки. Остальные согрелись и делали вид, что слушают музыку, которая звучала из колонок, установленных еще Романом Лазаревичем[181]. То был Бен Вэбстер со струнными.
— Ты не против, — говорит В.П., — если мы проведаем гениального артиста? Он тут поблизости, в двух шагах.
Я не возражаю. Я категорически — за. Это означает встречу с Гердтом!
(Из дневника. Пусть это будет как эпиграф к нескольким последующим абзацам. Разговаривал только что с вдовой Зиновия Ефимовича — Татьяной Александровной Правдиной. Искренне восхищаюсь ее вчерашним телерассказом о Рине Зеленой, полным деталей и образным, — и сразу переходим к В.П.
О, восклицает она, Зяма считал Васю впередсмотрящим на пути развития нашей словесности, одним из самых выдающихся «шестидесятников»; для Гердта все праздники пахли Васиными апельсинами из Марокко. Кстати, из этой повести я часто цитировал в кругу близких людей вот такое место: «Синоптики предсказывают безветренную погоду. «Больше верьте этим брехунам», — ворчат на «Зюйде»». Татьяна Александровна общалась с красавицей Майей еще до знакомства с Аксеновым. А к Васе, говорит она, мы привязались моментально. И долго рассказывает, как проводили они время втроем где-то под Таллином. Вася любил Таллин, с которым у него был «бурный роман в дождях», любил вдыхать его особый сланцево-кондитерский запах и особенный, «не советский» запах его журналов и газет, любил его кафе… И еще он любил Гердта, каким тот был в Таллине, его голос, которым говорил для советского кинозрителя Генрих II в фильме «Лев зимой», голос, созданный Всевышним для бесконечного чтения бессмертных стихов и прозы. Читал он, говорит Т.А., не переставая и вдохновенно, и пояснял: «Это мое угощение. Так что, дорогие мои, угощайтесь…» Гердт и Т.А. были в Штатах в гостях у Аксенова и Майи. Встречал их в Вашингтоне в аэропорту Ванечка, который, если б так ужасно не сложилась его судьба, мог бы стать выдающимся американским поэтом. Вася представил Зиновия Ефимовича своим студентам. Надо ли добавлять, какое это было для них для всех событие!)
…Мы вваливаемся в дачные хоромы Зиновия Гердта, и у того — слезы в глазах: так он рад видеть Васю. Своего Васю. Бежит навстречу трогательным скоком.
— Ну что там, осенний твой лес гремит жестью ржавых банок?
Ни дать ни взять Виктор Михайлович Кукушкин из «Фокусника». Даром ли им сказано было: «Уметь любить чужой талант — это тоже талант». Прижимается к холодному Васиному тулупчику, пахнущему чистейшим снегом и овчиной.
— Вы уже наклюкались, ребята? В порядке?
— В полном. Даже перебрали малость.
— Нет, нет, не перебрали, — настаивает Гердт. — Еще по рюмашке, а? Татьяна Александровна, Танюша, — обращается он к жене, — ты нас угостишь? Отменная настойка.
— Хорошо! — соглашается Вася. — А потом — Пастернак?
И, наконец, наступает блаженнейший миг: Гердт, насупив кудлатые брови, подперев кулаком подбородок, приступает к чтению (а это он умел делать как никто другой, — и хоть до самого утра!):
Каждый день В.П. был начальным.
Все — с новой страницы.
Редко кто из нас, транжир, дорожил такой божественной удачей, таким везением, как неиссякаемый талант и неиссякаемая молодость. Аксенов же наслаждался каждой ее секундой — и не постарел нисколько до последнего своего часа, пока не отключилось сознание. И любой день, любой час, любая минута его переполнены были вдохновеньем, работой, морозной свежестью, помноженной на радость от того, что он, зачатый «двумя врагами народа, троцкистом и бухаринкой, в постыдном акте», выжил наперекор всему и мог крикнуть на весь свет: «Мужчина я! Я сын земли великой!»
Но вернемся все же к «Грустному бэби»…
Мы ехали с Васей на его зеленой «Волге». Стоя в пробке, он затронул странную для меня (на ту пору) тему: хорошо, что мы родом — не москвичи, что вот он (как изложено им в «Досье моей матери») родился в Казани, на улице тишайшей, звавшейся Комлевой в честь местного большевика, застреленного бунтующим чехословаком, что дом его смотрел в народный сад, известный в городе как Сад Ляцкой… В его словах уже намечались контуры и «Зеницы ока», и «Ленд-лизовских», и других — хоть и светлых, но явно горьковатых — вещей, и я отчетливо видел его мальчонком, Акси-Вакси, уверенным в том, что его родители действительно уехали в долгосрочную командировку на Дальний Север, примкнув к героям-полярникам, и то, как носился он по таинственным углам грязного мира, ощущая в себе нечто щемящее, будто заброшенный щенок, или бессмысленно-дерзновенное, точно у несущегося в неизвестном направлении бродячего пса. Придет срок — и он, не склонный к громким фразам, напишет: «…мы, тогдашние дети, подсознательно испытывали ощущение полной заброшенности».
— А ты? — говорил он, стоя перед светофором, не поворачивая ко мне лица. — И тебе, если можно так сказать, повезло: ты стал бы другим, если б не был бахмутским пацаном, не замерзал в военную зиму в Джезказгане рядом со Степлагом, не голодал невдали от самой, по твоим словам, красивой во всем мире горы Синюхи в Боровом, не загибался курсантом в пекле Нахичевани-на-Араксе; за это судьба отблагодарила тебя, подарив Тбилиси, а еще Будапешт, где судьба свела тебя с совершенно другим образом жизни, с такими джазменами, как контрабасист Аладар Пэгэ, художниками-авангардистами, писателями-диссидентами.
С чисто аксеновским азартом за кружкой пива в Домжуре мне и Алеше Баташеву, воспетому им в шестидесятых в журнале «Юность» (это было почти стихами, в которых модно экипированный Алексей теплыми синими московскими вечерами со своим золотым саксофоном, призванным быть голосом страстной любви, утверждает дух непослушания и стремления свинговать за милую душу), рассказывал, как много значило в его жизни то, что в Казань его детства с берегов Хуанпу прибыли джазисты-«шанхайцы» во главе с Олегом Лундстремом, которые «рассосались» по ресторанам, кинотеатрам и клубам и частенько, хлебнув стакан водки и перемигнувшись с публикой, «вдруг выдавали свой свинг, растягивая перед местной жалкой молодежью огромные медные закаты внешнего мира».
О моем же бахмутском детстве (за что я Аксенову безумно благодарен) он написал нечто похожее: «В жалких коммунальных квартиренках, в гнилых хибарах, на подванивающих дворах, под запыленными и прокопченными платанами шла жизнь работников железнодорожного узла и их семейств. И все это к тому же было разъедено коростой НКВД, постоянным наблюдением и сыском, арестами, расправами, а также и добровольным стукачеством. Казалось бы, «оставь надежды всяк сюда входящий», — и вдруг происходит какой-то сдвиг, и ты видишь, что эта коммуна — отнюдь не собрание роботов соцсоревнования, а некое довольно хаотическое сообщество соседей, в которых живы и дружба, и лирика, и, как ни странно, любовь к музыке — совсем не к маршевым ритмам, а к синкопическим подскокам джаза. Сдвиг этот случается в тот момент, когда удивительно молодая и любвеобильная бабушка Мити Чурсина, Анна Марковна, натыкается на сидящего под деревом бродягу в заграничном пальто. К вящему удивлению читателя, бродяга оказывается не кем иным, как паном Наделем — осколком роскошного европейского джаз-оркестра под управлением Эдди Рознера. Еще совсем недавно этот польско-еврейский коллектив играл в ночных клубах веселого Берлина…»
Чем больше ожогов, которыми нещадно жалит нас жизнь (уже и в детстве, и в отрочестве!), тем лучше — если, увы, так можно выразиться — для будущего писателя, — утверждал Аксенов, тормозя перед светофором. А как иначе, продолжал он, добывается собственная интонация? По-другому не бывает.
Васин сеттер Ральф все пытался лизнуть мою шею. Псу было безразлично, к кому ластиться. Ему хотелось целоваться. Я и догадаться не мог, что непоседливый Ральф всего через пару дней врежется на бегу, со всего трехгодовалого восторга и собачьей страсти, в корявое дерево рядом с гаражом во дворе Красноармейской улицы и из-за этого вскоре погибнет…
Ну а в тот день, в блаженном неведеньи, мы ехали (кажется, «Пурпурного легиона»[182] тогда еще не было) к кому-то за какими-то джазовыми дисками и еще в другое место — за игрой «Монополия», присланной по Васиной просьбе из Франции специально для меня. И В.П. вдруг начал читать наизусть мои новинки, которые вошли в «Антологию джазовой поэзии» журнала «Новый мир»: «Армстронг» и «Мистер «Матовый звук». Несколько раз (без всяких подсказок) повторил то, что довелось ему услышать от меня лишь однажды:
В тот момент я не подумал о том, что он каким-то образом предугадал свою судьбу, богатую на разлуки (В.П. признался, что эмиграция сродни собственным похоронам, что с первого дня прибытия на Запад и потом, во время трехмесячных скитаний по Европе, и сейчас, в американском самолете, его не оставляло ощущение «раздавленной бабочки»). Только читая его «Новый сладостный стиль», я понял, как умел В.П. предугадывать будущее и, конечно, то, что уж никак не обойдется без горьких нот в период пространственно-временного пересечения двух виртуальных миров.
А тогда я просто поразился: надо же, запомнил эти мои строчки! Такой, без преувеличения, феноменальной памятью обладал, как мне кажется, в числе немногих счастливчиков Александр Межиров. Но куда больше поразило меня, что стихи чудом оказались в «Грустном бэби»! И все это — на фоне раблезианского музыкального пиршества. «Армейские антрекоты» — так, мелкая деталь. Антуража ради. Не в них суть. Звуки квадрофонической системы, «предмета неслыханной гордости», обрушивались на присутствовавших из всех углов; из заветных картонных ящиков с осторожностью, и опять же горделиво, извлекались одна за другой фирменные пластинки, которых ни в каком, даже московском, Военторге ни за какие деньги не купишь. Чтобы торжественная процессия королей и герцогов американского джаза не прерывалась, генерал Генка щедро демонстрирует свои драгоценности, хвастается ими. Откуда они, эти диски, у него, в самом деле? Загадка?
Ответ ошеломляет: «Совершенно очевидно было, что генерал поддерживает прочные связи с миром музыкальной фарцы». Каково?! И не просто генерал — генерал-полковник! И вот вам аксеновское крещендо: «Генка Кваркин имел страсть к высоким децибелам и не ограничивал звуковых возможностей своей аппаратуры. Никаких разговоров за ужином, разумеется, не велось. Знаками мы спросили мадам Кваркину, как она с этим справляется[183]. Она молча вынула и показала нам на ладони специальной конструкции ушные затычки».
А, в общем-то, если вычленить «генеральский» прикол, все это похоже на правду. И верно, ел я в таких случаях мало, и сидел с туманной улыбкой на лице[184], и только лишь глазами выпрашивал восхищения «в ключевых моментах пьес». Было, было…
И то, что следует дальше, — чистая правда. И стеба здесь нет, и русский дух здесь, и Русью пахнет.
«Когда возникла пауза, моя жена неопределенно вздохнула. Генка положил ей ладонь на плечо.
— Не вздыхай, Майечка, это еще не все. Сейчас еще будет Джонни Ходжес, а потом немного Каннонбол Эддерли.
После ужина, провожая нас к машине, он спросил:
— Ну как?
— Здорово, — сказал я. — Между прочим, знаешь, Генка, через месяц я уезжаю из России.
— Слышал, слышал, — кивнул он.
— Не исключено, что я буду жить в этой стране, — сказал я. — Буду слушать всю эту братию живьем…
Он посмотрел на меня, потом отвлекся взглядом в небо, за плоские крыши подмосковного жилого массива, где среди тяжелых ночных туч виднелся вытянутый длинным и нелепым крокодилом проем закатного неба».
«Подмосковный массив» — это расположенный совсем рядом с шоссе Энтузиастов, переполненным согбенно-серыми тенями каторжников, микрорайон Ивановское, где здания, по мнению часто у меня бывавшего Володи Соколова со своей Марианной, — «как близнецы, а хотят, чтобы их узнавали». Что касается меня, то, прощаясь с Аксеновым и глядя на это закатное небо, я пытался угадать, как встретит Америка Васю, и завидовал тому, что он всенепременно будет там шататься по джазовым местам (например, Джорджтауна), будет заходить в «Чарли», чтоб послушать обожаемого им Мэла Торме… Уже после перестройки, приехав на лето в Москву в ореоле невиданной славы и почитания, он рассказал мне, что не только слушал Мэла Торме, но и общался с ним чуть ли не по-свойски и хочет посвятить ему новеллу или главу в каком-нибудь романе.
— Ты знаешь, — спрашивал Вася, — какое прозвище у Торме? Нет? «Бархатный туман»! А из какой он семьи — знаешь? Ну правильно: иммигрантской, его еврейские папа и мама драпанули из России, как твой кларнетист Оська, земляк Бенни Гудмена, из Белой Церкви. Торме — умница, каких мало, автор пяти книг, певец, пианист, композитор, аранжировщик, ударник-виртуоз, киноактер. Любитель присказок в паузах концерта, он однажды обратился напрямую и ко мне. Я никак не ожидал. Уже не такой рыжий, но все еще прыткий, энергетики в нем было — дай Бог каждому из нас. А как он потрясающе исполнял Эллочкин репертуар! Это надо было слышать и видеть. Публика визжала от восторга…
Интересно, удалось ли Васе осуществить эту задумку, есть ли в его рукописях что-нибудь о легендарном «Бархатном тумане»?
Но уж точно известно, что он со свойственной ему живостью написал, как, пройдя еще пару сотен метров от «Чарли», покупал за пятнадцать долларов стул и дринк в «Блюз Алли» и сидел там, едва ли не упираясь коленкой в башмак легендарного Вуди Германа, с которым когда-то выступал Фрэнк Синатра, или совсем как завсегдатай мог завалиться в ресторанчик «Одна ступенька вниз» и поболтать там с Янушем Маковичем и Лэсом Мак-Эндом… «Писатель должен есть много джаза, часто и много, большие сочные ломти настоящего джаза» — так, по словам В.П., по-приятельски убеждал его в подвальчике токийского джаз-клуба «Сэто» Кобо Абэ.
Напрасно, напрасно убеждает читателя Аксенов, что Генка Кваркин, дескать, не завидовал ему в миг прощанья, не жаждал слушать этих гигантов живьем и видеть их обычными, вроде меня, грешного, субъектами: пусть, мол, мой мир остается в целости и сохранности, пусть эти звезды будут недоступны, «где-то там, за закатом, чтобы оттуда шли эти звуки…» Нет, нет: из-за страсти к джазу Генка завидовал другу, хотя все же тревожился за него. Мне ли не знать, что Генка был преисполнен зависти?!
Прочитав, проглотив «Грустного бэби», я еще раз подумал о том, что там, за бугром, он боялся, как бы по «книге об Америке» меня не «расшифровали где надо», не наказали, не исключили, не уволили, не растоптали или еще что-нибудь такого-этакого не придумали. Отсюда — и Кваркин (как джинн из бутылки), и столь высокое генеральское звание. Но все это, впрочем, походило на советский анекдот военной поры: «Он сидел в Севастополе у Н-ского моря». Стихи-то принадлежали не кому-то, а именно мне! «Расшифровать» автора при мало-мальской литературной эрудиции заинтересованных лиц — не пара ли пустяков?
— Так они ведь поэзию неохотно читают, — позднее объяснял мне свою «оплошку» В.П. — Тем более о джазе. Ты о них слишком хорошо думаешь.
И — отдельно о «Новом сладостном стиле».
Аксенов несколько раз допытывался, что я думаю об этом романе. Видимо, не только у меня. Чувствовалось, что это для него особая книга. Он волновался. Я догадался — почему.
АЯ — так часто В.П. называет Александра Яковлевича Корбаха, своего главного героя, чья судьба напоминает его собственную. Все тут (в пределах художественности и аксеновской манеры) доподлинно, абсолютно все узнаваемо, и хотя миг безжалостно бежит за мигом, уничтожения действительности нет как нет, потому что искусству в данном случае удалось «открутить назад» и поймать, казалось бы, неуловимое. Не «что-то», как скромно предполагает автор, а суть. У нас создается ощущение, что мы нередко сталкивались с АЯ то в ЦДЛ, то в Доме кино, то в ЦДРИ (он и в самом деле был набит своими стихами, «как рождественские гуси начинкой»), подпевали его песням — образцам искусства чердачно-подвальной Москвы: «Гей, Россия, родина наша превеликая… Гой, страдалица наша, молчальница, тянешь лямку ты вдоль своих берегов…» Ну да, мы знали наизусть и певали не единожды его «Чистилище», «Фигурное катание», «Сахалин имени Чехова», «Шведский бушлат», «Балладу Домбая» и «Балладу Бутырок», нас удивляло все, чем одарял людей его талант, но мы вовсе не удивлялись, когда его нашумевший спектакль был запрещен и бесхозные «Шуты» продолжали играть свой мюзикл в каких-то клубах на задворках, куда, конечно, съезжалась «вся Москва».
Боже, как узнаваемо! Встретясь с одной гэбэшной наемной тварью уже в Америке, АЯ спросил, сколько ей платят за работу, и получил в ответ плевок: «Много! Я богаче вас всех, мудрецы сионские!.. Думаете, уже развалилась крепость социализма? Рано радуетесь! В перестройке мы очистимся от еврейской грязи!.. Мы вам не простим попыток повернуть историю вспять!» Я сказал Васе: ты просто большой молодец, что и не собирался полемизировать, пускать в ход факты и логические рассуждения. Меня брало за душу то, что в романе все время звучит какой-нибудь джазовый инструмент и страницы полны музыки, поэтической импровизации. Это и есть новый сладостный стиль, сказал я, стиль, утверждающийся в прикосновении к литературной сцене Флоренции ХIII века, к чудесам двух юных Гидо — Гвиницелли и Кавальканти и такого же юного Данта.
— Значит, музыка не обрывается? — спросил (как бы с надеждой) В.П.
— Нет, ни в коем случае. Не обрывается.
— Пусть даже и насильственно?
— Именно так. Музыка — это любовь. Ты тысячу раз прав! Это послевоенный блюз, это звездная соль и лунная яичница, это лимонно-грейпфрутовые аллеи, в которых живых легенд — не перечесть, и Грегори Пек (да-да, тот самый) скажет: «Я вижу, у вас серьезная любовь, ребята»; это нелепо размахивающая махровыми крыльями тайна, пытающаяся присоединиться к клину гусей и тающая в сумерках.
— А почему, — говорит В.П., — в твоем голосе жуткая печаль?
(Спустя каких-то лет десять, 7 июля 2009 года, для интернет-портала «Стихи. ру» я написал: «Жаль, что Вася сам на себя накликал беду. История литературы не единожды предупреждала: строка мистична, не надо будить лиха, не надо предрекать себе гибель. Николай Гумилев, например, накликал беду своим «Рабочим»: «Пуля, им отлитая, отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую»… Вот и Василий Аксенов в «Новом сладостном стиле» предсказал на исходе прошлого столетия, что произойдет с ним».)
— А потому, — отвечаю я, — что печалью полны твои слова в завершающих главах.
Я обратил на это внимание в статье «Русско-американские горки жизни АЯ». Там сказано было: «Аксенов доказывает, что пресловутое чеховское ружье, которое висит на стене, совсем не обязательно должно выстрелить. Этому сюжетному ужу не дано пролезть в какую-нибудь щель романа. Да и зачем бы, если в финале появляется принадлежащее музею мумифицированное (в слое окаменевшего меда) тело кожевника Зеева Кор-Бейта с обломком копья в левом подвздошье — двухтысячелетний Сашин двойник (в романном Саше Аксенов видел самого себя), и АЯ, «трясясь, как от хлада могильного или от вулканического жара», понимает: это лежит он сам, это его лицо. Зачем ружейный выстрел, если в ход идет куда более сильнодействующее средство. Вначале Саше Корбаху показалось, что его подбросило куда-то вверх, на гигантскую высоту («оставшись там, он видел, как опадают вниз его бедные останки, и чувствовал немыслимую жалость к тем, кто уцелел»). А в музее… Нельзя без содрогания читать это: «Там внизу лежал он сам. Это было его собственное легкое и мускулистое тело, и даже ноготь большого пальца правой ступни был копией его собственного ногтя, когда-то названного археологическим. Самое же главное состояло в том, что у Зеева Кор-Бейта было лицо Александра Корбаха. Только лишь над левым углом нижней челюсти отслоился кусочек щеки и была видна кость, все остальные черты в точности повторяли лицо АЯ(…). Отплывая и приближаясь, маячила перед ним ошеломляющая маска шутовского хохота, точь-в-точь как та, что появлялась у него самого в моменты театрального восторга. Он и сам теперь отплывал и приближался, отплывал и приближался, это я, значит, это я сам тут и был, значит, это я сам тут и был в образе этого певца Саши Корбаха… И отплывал, и приближался, и отплывал».
И мы вслед за одной из героинь повторяем: «Боже, Боже мой! Сашка, это ты?» Несмотря на огромное количество меда, вытекшего при землетрясении из древней амфоры, мы берем в толк, сколько горечи в сладостном стиле. Этим и замечателен лучший роман Василия Аксенова. «Что-то — это ничто почти, телефон на закрытой почте. Почти — это все…»
Но мне сегодня саксофонист Олег Сакмаров подарил свою запись: ты читаешь что-то такое, ложащееся под грустную музыку. На диске — весь этот вечер. Пусть ты и отплыл, но ты ПРИБЛИЗИЛСЯ.
И будешь становиться все ближе
Но не этим хочется закончить мне эту статью. А вот чем — зарисовкой из жизни.
Он позвонил мне, когда стало темнеть, закапал дождик и запаутинили зарницы.
Звонок как нельзя был кстати. Я только что кончил читать его «Логово льва». В этом рассказе меня отчего-то смутили слова, относящиеся вовсе не к нему: «Острее других он понимал неокончательность реального мира, зыбкость его предметов и в поисках иной сути уходил дальше других».
Я безотчетно отнес эти слова на его счет. Не знаю — почему.
Вася был мне бесконечно дорог. Без всяких обиняков в «Рожденном в джазе» он написал: «Мощенко происходит от слова «мощь»; значит, на джазовый манер я могу называть его Mighty Vlad». Пусть перебор — все равно греет сердце.
Он говорит:
— Привет. Маята сказала, что ты спрашивал меня днем.
— Спрашивал. Через месяц-другой буду у дочки в Испании, в Овьедо…
— Передавай ей привет. Овьедо — это совсем рядом с Биаррицем. Давай приезжай вместе с ней на ее «Форде».
— Это вдоль Бискайского залива?
— Конечно. Три-четыре часа езды. Никаких пробок, удобно. — И без всякого перехода предложил: — Ты утром бегаешь? Присоединяйся ко мне.
— Нет, я и в армии кроссов не любил. Ленюсь. И настроение — на нуле.
— Зря ленишься и киснешь. Приезжай часов в восемь на Котельническую. Здесь не так загазованно. Побежим вдвоем. Бесплатно даю уроки бега.
— Так ведь дождик…
Он расхохотался по-своему, по-аксеновски.
— Ничего с тобой не станется. Утром будет ясное небо. В таких делах я никогда не ошибаюсь.
— Но ты ведь убеждал меня, что бегаешь, чтобы насладиться одиночеством.
— Это верно, убеждал. А зову я тебя потому, что мне не нравится твое настроение. Все. Договорились. У меня есть чем заняться.
В.П. оказался прав. Рассветное небо было почти ясным. Враждебной мороси и слякоти как не бывало.
— А что у тебя за лапти? — поинтересовался Аксенов, углядев меня среди прохожих. — Хоть бы кроссовки какие-нибудь взял. Не на прогулку ведь явился. Не думал, что ты такой лентяй. Твой любимый Джеймс Джойс сначала делал вид, что бегает, — вспомни «Портрет художника в юности»[185]: там он себя изобразил хиляком Стивеном Дедалом. А потом взялся за ум и мог любого перегнать — иначе бы не соорудил «Улисса».
Хоть он шутил, я пристыженно опустил глаза.
И спросил у него наконец, сказал самое главное:
— Что означают поиски иной сути среди зыбких предметов мира?
— А это и есть бег на длинные дистанции, — ответил В.П. (разумеется, ерничая). — Без него лучше не браться за большие романы[186]. — И попрощался: — Пока. Ты в своих бразильских мокасинах шлепай-ка лучше на троллейбус.
И опять спросил:
— Тебе нравится вот это: «Или так и надо ближним, так и надо без следа, как идущим накрест лыжням, расходиться навсегда». По-моему, бред.
— Это Уткин?
— Он, голубчик. Разве лыжня — не след? Ну, Бог с ним. Будем расставаться, но не навсегда.
И побежал трусцой в сторону Большого Устьинского моста.
Никто из редких прохожих не обращал на него внимания.
А я стоял, пока он не скрылся из виду.
И все-таки, что это такое «поиски иной сути»? И зачем ему на ум пришло: «Может, так и надо ближним…»?
И еще.
Отчего-то, взявшись за эти страницы, я тотчас представил не нечто солнечное, подобающее случаю, а совсем-совсем наоборот: печальный, панихидный Московский дом композиторов. Был хоть и торжественный, но пасмурный день, и это подчеркивалось, например, отрешенностью и потерянностью Людмилы Гурченко, будто ослепшей и прошедшей мимо нас, утирая слезы. Мы стояли с Аксеновым, прощаясь с 90-летним королем джаза Олегом Лундстремом. И вдруг Василий Павлович прошептал: мол, Лундстрем — не кто иной, как Кандид[187] той поры, когда «оттепелью» и пахнуть не могло; мол, он — один из тех, кто, невзирая ни на что, возделывал наш сад вместе с другими великанами, потому что и сам был большим художником. То же самое я говорю сейчас о нем, о Василии Аксенове. И все это — в сопровождении джазовых хитов, записанных на диске, который прилагается к роману «Редкие земли». И я жду, что вот сейчас, вот-вот зазвучит «Блюз для Васи».
Андрей Макаревич
Со свингом[188]
Это 1968 год. Я возвращаюсь из школы. У отца в руках свежий номер «Юности». Отец очень возбужден, читает вслух какие-то отрывки. Читает не матери, которая тоже дома, и не мне, только что вошедшему: читает в пространство, сам себе, проверяя на слух. Восхищается: «Как пропустили?» Слышу: совсем другая книжка, я такого не пробовал. Василий Аксенов, «Затоваренная бочкотара».
«А что там такого пропускать-то? Вполне советская вещь, молодежная и оптимистичная!» — Голос человека, не заставшего и ненавидящего шестидесятничество, — как правило, в силу собственной бездарности. А я объясню.
Интонация, господа. Интонация.
Мой отец не был диссидентом. Он был художником. И уж интонацию он слышал, как никто.
Советская власть тоже различала интонацию. И боялась ее — инстинктивно. Она вообще не любила и не доверяла художникам. Правильно делала. Потому что художник талантлив, а талант — это свобода. Талант не может быть несвободен. Тогда это не талант, а что-то другое. Ремесло, например. Тоже, в общем, неплохо. Поэтому художник — всегда враг: либо явный, либо скрытый. Замаскировался до времени. Терпит. С явными врагами, кстати, проще — они на виду, и совок очень хорошо знал, что с ними делать. А что делать с интонацией?
В восемьдесят седьмом году пришлось мне оказаться в городе Нижневартовске. Принимали меня как дорогого гостя и по этой причине поселили в номер, в котором до меня гостил Горбачев. Думаю, над художественным решением этого номера бились лучшие партийные умы города (и ведь перестройка уже шла!). Номер был огромен. Стены его были выкрашены в ярко-салатовый цвет, на окнах висели тяжелые портьеры из золотого плюша. На полу располагался узбекский ковер, его удачно дополнял гарнитур «Людовик» с белой шелковой обивкой. В углу на кривой ноге стоял отечественный цветной телевизор «Рубин». Все. Энди Уорхолл сошел бы с ума. И ведь явно чувствовали партейцы, что что-то не вытанцовывается с декором, и все-таки не рискнули позвать хотя бы студента художественного вуза — для коррекции. Ну их, этих художников. Самим вернее будет.
Я помню, как я вяло и безысходно не любил советскую власть. Я даже не мог предположить, что этот мастодонт сдохнет так скоро и так быстро. И знаете что? Его убили не диссиденты (честь им и хвала — снимаю шляпу перед их отвагой!). Его убила интонация. Интонация, с которой говорят свободные люди. Битлы. Высоцкий. Леша Козлов. Василий Павлович Аксенов. Многие другие.
Кстати, и «Машина времени» — в силу своих способностей.
(А за что это еще раньше так джаз-то ненавидели? Там ведь и слов никаких не было — так, музычка. За то, что из Америки? Да нет — за внутреннюю свободу. За импровизацию. Кожей чуяли, собаки.)
Что это я все про совок, а не про литературу? А потому что для меня литература — это музыка слов в первую и последнюю голову. Это язык, ставший искусством. И это интонация. И если писатель теряет волшебную связь с языком, перестает эту интонацию слышать — самый занимательный и поучительный сюжет оставит меня равнодушным. «Скажите, про что ваша книга?» Да какая разница!
Интонация Василия Павловича Аксенова безупречна — что бы он ни писал. И если ввести единицу измерения качества интонации — «один Аксенов» — боюсь, современников будем мерить дробями.
Не зря в только что вышедшую книгу «Редкие земли» Василий Павлович вложил пластинку с любимыми гигантами джаза — он поет с ними на одном языке. Со свингом.
God bless You, mr. Buzz Oxelotl![189]
Вадим Абдрашитов[190]
Вслед за автором
Особое время было, когда начинал Аксенов. Это определило очень многое: некое ощущение подъема духовной жизни в стране совпало с ощущением молодости поколения, во всяком случае, того, к которому принадлежит юбиляр.
В 61-м году я был студентом Физтеха в Долгопрудном. То время — начало шестидесятых — фантастическое по своей почти ренессансной наполненности, помню очень хорошо. Жизнь была замечательна, и мы находились в ее силовом поле. Появились первые советские магнитофоны, и из окон общежитий доносились волнами — один перекрывая другого — Окуджава, Высоцкий, Галич, Ким… Стали издаваться книжки, невероятные до того, сложилась эта гениальная плеяда поэтов, создавшая особую ауру Политехнического. Пошли на экранах итальянские неореалистические картины. Ночные очереди за билетами в «Современник» и на «Таганку», и вскоре — в «Новом мире» — Солженицын и «Один день Ивана Денисовича»… На самом деле удивительное время! Нам как поколению, конечно, повезло. Гораздо хуже, когда человек взрослеет, а страна вокруг либо застыла, прихваченная морозом, либо оцепенела в болотном застое, либо вообще не понимает, что делает, куда идет, мечется… Нам, повторяю, повезло. Думаю, что все, что было потом — заморозки, слякоть, засухи, — преодолено, потому что вначале все-таки была оттепель. Вот через все эти времена читателем прошел я за Аксеновым-автором.
Он начинал «Коллегами», «Звездным билетом», рассказами, и все, что теперь называется «бестселлерами» и хитами, несравнимо было с успехом его прозы. Ведь его книги были… не хочу сказать библией или настольными книгами — у нас и столов-то не было еще, общежитская, студенческая, какая-то уличная жизнь была, — но эти книги читали все и знали чуть ли не наизусть. И просто находились в пространстве и атмосфере его прозы, среди его героев. Было явное ощущение кислородного, если не озонового насыщения воздуха апрельского времени года.
Чуть позже прочитаны «Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора», удивительная «Затоваренная бочкотара», знаменитые рассказы, один из которых считаю шедевром. Его время от времени перечитываю, поскольку студенты-режиссеры, с которыми имею дело, постоянно ищут материал для короткометражных фильмов, что достаточно сложно. Молодежь читает Шукшина, Казакова и, естественно, Аксенова. И, сколько перечитываю «На полпути к Луне», столько раз убеждаюсь: просто гениальный рассказ, по мне, так лучший рассказ автора.
Разумеется, проза Аксенова не могла не заинтересовать кинематограф. И все, что снималось, тоже мгновенно превращалось в хит. «Мой младший брат» (1962) Александр Зархи снимал по сценарию самого Аксенова (совместно с М. Анчаровым), с молодыми тогда — Збруевым, Далем, Мироновым, Ефремовым.
«Коллеги» делал Алексей Сахаров (1962) — там прекрасная музыка Левитина с замечательными стихами Гены Шпаликова, блестящие Ливанов, Лановой, Анофриев, Семина, Плятт.
Фильмы смотрели по много раз: абсолютно обаятельный кинематограф почти романтического времени…
Рассказ «На полпути к Луне» тоже был экранизирован: назывался фильм «Путешествие». Он состоял из трех новелл (1966; сценарий В. Аксенова; реж. И. Туманян, Д. Фирсова, И. Селезнева), а роль Кирпиченко там очень убедительно сыграл Анатолий Азо. Трогательная по-своему картина.
И есть один фильм, который мало кто видел, потому что у него была «полочная» судьба, на экранах он появился много позже, во времена, когда всем было не до кинематографа. Я говорю о картине «Пока безумствует мечта» (1978). Аксенов написал сценарий о первых русских летчиках — авантюрная комедия в чистом виде. Начало прошлого века, замечательные костюмы, машины, самолеты, песни, пляски, танцы — почти мюзикл. Поставил этот фильм режиссер Юра Горковенко. Но, естественно, картина была уложена на полку, потому что как-то неправильно отображала борьбу большевиков… Типовая мутная цензурная история. Да и сам автор сценария уже был «полочным». Картину потом мало кто видел, но я как зритель и режиссер могу только пожалеть, что Аксенов перестал писать сценарии, тем более ему подвластны, как оказалось, весьма сложные жанровые вещи. Кто знает: если б эта яркая картина вышла в свое время, может быть, и его судьба как сценариста по-другому бы сложилась?
Недавно вся страна смотрела «Московскую сагу», и я думаю, что спрос на ее автора далеко не исчерпан. Будем надеяться, что кинематограф еще не раз обратится к нему. Но, наверное, Василий Павлович должен сам писать оригинальные сценарии, потому что большинство его прозаических вещей настолько литературны в лучшем смысле этого слова, что с трудом перелагаются на язык кино: чем лучше литература, тем невозможней ее экранизация.
Меж тем оттепель закончилась такими заморозками, что весеннее потепление показалось ожогом. О поколении, обожженном оттепелью, написан «Ожог». Беда отечественного кино в том, что не был снят фундаментальный по мысли и по способу ее предъявления, абсолютно кинематографической природы, новаторский по структуре, современный в высшем смысле этого слова фильм под названием «Ожог»… Понятно, это невозможно было сделать, но все-таки беда…
Из последней прозы меня чрезвычайно порадовали, даже во многом поразили и доставили просто физическое удовольствие как читателю — что, в общем, редко бывает — «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Каким-то совсем новым, молодым и мощным объявился здесь Аксенов. Замечательно придуман язык, собран сложнейший сюжет, невероятны по тонкости палитра иронии и юмора и глубина исторической мысли… Все настолько своеобразно, что кино со своими, так сказать, прямыми подходами, своей фактографичностью и фотографичностью, конкретикой изображения, навряд ли осмелится на экранизацию. Может быть, в будущем, говоря уже на достаточно развитом собственном кинематографическом языке, кто-то и предпримет попытку постановки «Вольтерьянцев и вольтерьянок». Время не состарит этот безусловно выдающийся роман, потому что проблемы, о которых пишет автор, вечны. Соотношения «Россия — Европа», «свобода — несвобода» по-прежнему те же самые, что были во времена описанные и во времена, когда это было написано, и сегодня, и завтра. Поэтому основные коллизии останутся, лишь бы кинематограф нашел адекватные средства и способы передать то, что Аксеновым сделано в литературе… Или пусть автор сам напишет какой-то особый сценарий…
…Во времена физтеховской студенческой молодости создавались в общежитиях клубы, где собирались, общались, читали стихи, приглашали известных людей. На нашем факультете такой клуб — в честь, конечно, любимой повести — назывался «Коллеги». Думаю, что сверстники мои так и остались верными Аксенову коллегами-читателями.
Михаил Генделев[191]
Базилевс (галочки на полях киммерийской литературы) [192]
Как, однако, мельчают люди! Вон Аксенов назвал свою дворнягу Пушкиным; а я своего кота — Васенькой.
Хотя мой — шотландский вислоухий. Как Лермонтов.
Я вообще не был дельным человеком, я вообще думал о красе ногтей, когда уже был сочинен «Остров Крым» и американцы сели на Луну. С тех пор я обрюзг, заработал, как говаривала бабушка, Царствие ей Небесное, репутацию. Многое, как мне представляется, понял, но еще более многое с наслаждением забыл.
Но с тех пор на Луну так больше никто и не высаживался.
История литературы необратима. Но на редкость невнятна, особливо для участников, соучастников и свидетелей. Как «их» истории, так и «нашей» литературы. Я уже жил (с целью, понятное дело, единственно, чтоб мыслить и страдать) в те баснословные годы, когда басня считалась современным эпическим жанром. Впрочем, и гимн тоже. Страшного в этом — в том, что «басня считалась», — ничего нет. Кроме слова «современным».
Меж тем с какой безнаказанностью проходят по периферии гуманитарного бессознания действительно сокрушительные изменения в литературе и письменной киммерийской культуре!
Например, распадается представление о лирике —
это когда естественное лирическое — скрипка играет, а Моцарт поет — направление мысли — с балкона поведать городу и миру о своем психофизиологическом интимном состоянии — командируется из юношеской души в идеальную исповедальню Интернета. И — быстренько становится основным жанром ЖЖ;
это, например, когда монтаж лирического стихотворения с блеском освоен и с шиком присвоен жанром видеоклипа. И здорово — прямо кровь с молоком! Правда, при монтаже стиха как видеоклипа, наоборот, — на выходе молоко с кровью: тошнит. И прозреваю — тошнота не пройдет с годами;
это, например, когда мо (mot) Главного Черта Русской Литературы «Поэзия должна быть глуповата» всерьез объявляется правилом хорошего тона хорошистов и образцом поведения и прилежания отличников на печатном листе;
это, например, когда «албанский» язык — эрративная речь, то есть фонетическая запись слов, цыганский приемчик, по случаю сторгованный поэтом-конструктивистом Ильей Сельвинским у румын где-то в районе Гражданской войны, кстати, в Крыму, — едва ли не готов и способен уже сегодня сформировать соответствующую литературу «брадяг». Это ежели, опять же, считать язык главным формообразующим элементом литературы.
Я лично таковым формообразующим великий и могучий киммерийский язык не считаю.
Как, впрочем, и не считаю себя (ох, говаривала мне бабушка: «Молчи, Михалик, — за умного сойдешь!») русским поэтом. И не потому, что не считаю язык основным формообразующим элементом литературы и ее поэзии.
(Внимание! следите за рукой! поэзия — это способ думать. Поэт — это право на высказывание. А язык у поэта не национальный, а свой, персональный. Поэт — автор своего языка, как и — соответственно — персональной литературы.)
Русскому мастеру слова категорически предписана и долженствует быть соблюдена конфессиональная непоколебимая невинность, а по возможности и неискушенность. Иначе хрустнет и рассядется по меридианам, как арбуз по ломтям, планетарное ваше, гладкое, как колобок, культурное самоосознание, ахнет, и охренеет, и опадет, лопаясь на губах, высшая ваша нервная деятельность, и подлинного (то есть подлинно невменяемого ни в философском, ни в теологическом смысле) общенационального масштаба юродивого из метафизически-озабоченного мальчика не получится ни-за-что! И какая ж, коллеги, кримпленовая гносеология без нарядной плисовой эсхатологии! Курам на смех.
Это я к тому, что: почти полностью лишена всякой — а главное, декларированной посконно православной — эсхатологии романтическая проза Василия Палыча! В ней, в этой естественной писателю, точнее, натуральной нам словесной среде всегда для нас стоит в зените хорошее — как после прогула урока Закона Божьего — настроение. Отличная, сухая, болдинская погода. Как стоит эта золотая погода в прозе Гашека, или Дюма-пэра, или Джека Лондона, или Хэмингуэя, или Набокова. Потому что эта личная литература — хорррошая литература, и поэтому за нее обязательно не дадут Нобелевскую премию. Ибо сие выскочило бы петушком безвкусицы, нелепицей, как вид арапца Пушкина при орденах, с орденом Богдана на отлете Хмельницкого чтоб, и-дубовыми листьями-и-Знак Почета. Чтоб.
Тонкость здесь даже не в том, что не дадут, а в том, что Аксенов ее, эту ценную премию, фиг вам получит.
Меж тем позитивная эта проза вон, уже случилась — вот вы ведь сами уже широко улыбаетесь! (Наверное, дадут Государственную…) И остается только в этом незакатном нашем тосте поблагодарить Сочинителя за низменный — до интересности читать в метро — его материализм и — неуемного Господа нашего Бога — за причинно-следственную связь в литературе и культуре. Которая не только не позволяет засунуть бабочку в гусеницу, но и не позволит гусеницу напялить сверху, нахлобучить пищеварение поверх развернутых в натуре крыл природного, верней, естественного, дельтаплана.
Товарищи курсанты! Писать надо так:
«Окно мое настежь, во весь проем, разинуто, до хруста в скулах. Оно давится крупными кусками, фрагментами черноморского ветра». Ну и т. д. Я, как старая белка, живу в Массандровском парке, прямо на обломках декораций, шмыгаю в неразобранной бутафории крупного, но провалившегося второсортного соцартовского проекта «Полуостров Крым» (сценарий Аксенова, муз. Тангейзер, реж. Хронос, совместное производство Россия — Украина). И все б ничего б, кабы не укоризненные международные, из Москвы ибо, звонки от госпожи Барметовой. Напоминает мне красавица Барметова, как заговорившая из брошки камея, что нависла сдача контрольных работ, а я, второгодник, дислект, никак не могу доделать уроки, чем подвожу под монастырь — это уже на хвосте и, как ноздри, раздувая капюшон — хороший, независимый литературно-художественный журнал (издается с мая 1924 года), и как мне, Чехонте, не стыдно прохлаждаться в Ялте, находясь на излечении, и — главное, Алексей Максимович! — конечно, здоровье, но помните, Михаил Самюэльевич Генделев вы наш таврический! — крайний срок — кровь из носа — сдачи материала по Аксенову — пятница тринадцатого.
А у меня в душе (все же в психике. Когда не понимаешь значения слова «душа», рекомендую пользоваться словом «психика». — М.Г.) — паника, тревожно сплю, из содержания и смысла всего-то припасены несколько впечатлений о белогвардейском крымском ветре, что дует освежающе с Сиваша, общеизвестно — на Перекоп, с санаторной целебностью необычайной, да новые сведения о человеческой природе, мучающие меня какой-то фатальной, тоскливой неоднозначностью, впрочем, сведения, имеющие косвенное, едва ли не пунктирное отношение к заявленной теме моего сочинения. Но царапающие коготком, особенно в конце, там, где жалобно.
ПредКрымЦИК'а в двадцатом году работал сказочный экзот.
Этот славный человек, татарин и кристальный коммунист, отличался, помимо понятной должностной кровожадности, экстравагантностью даже по тем, по раздвижным крымским революционным меркам. Пар экзампль, противоречивый коммунар находился в переписке сам с собой. Сохранилась записка, заявление от гр. Вели Ибраимова председателю Крымского центрального исполнительного комитета товарищу Вели Ибраимову с просьбой выдать из фондов спецраспределителя по причине крайнего износа и обветшалости обмундирования — кожаночку и сапоги. На документе резолюция за подписью ПредКрымЦИК'а В. Ибраимова: «Куртку выдать сапог отказать. Тов. Вели Ибраимов».
Расстреляли это чудесное создание, не дожидаясь праздничного 37-го, в будничном, еще едва ли не вегетарианском 27-м. За, ясный пень, буржуазный национализм.
Омри Ронен[193], изрядный литературовед и сам изысканный писатель слов, как-то громко высказался на все, как теперь бы сказали, «экспертное сообщество»: мол, надо бы подсократить список авторов, изучаемых университетской филологией. Он, этот список, неприлично раздут и демократичен, и изучение нюансов биографии, допустим, Огарева — малоосмысленное времяпрепровождение. Аплодисменты.
«Экспертное сообщество», понятное дело, кротко согласилось, что да, смешно. И хорошее это предложение рассматривать отказалось наотрез. Вот именно…
А я — за! Мой довольно причудливый и, как недавно клинически подтвердилось, почти уже суммарный опыт существования в киммерийской и вообще киммероязычной литературе давно подсказывает, что надежда на то, что где-то там, в Алма-Аты, бесхозно валяются треуголка и растрепанный том Парни, — несостоятельна.
Не к тому я клоню, не к тому полагаю необходимым объясниться, чтобы с подмигиванием — «знай наших!» — признаться, что не бредю постранично оглавлениями и содержаниями сочинений Тарковского с точностью до Самойлова. Что не причастился волшебных таинств от лит. памятников Паустовского, Светлова, Нагибина и Астафьева. Из Переделкина мне рыдать, и кудри наклонять, и плакать не по кому. Пока.
«Пока» — не в смысле «приветик», а в смысле «до сих пор».
Все они хорошие, наверное, ребята и в своем калибре страшные были хищники и изрядные драчуны, но из литературы меня интересует только та, какую я сам не могу.
В идеале представить, а на практике написать.
И вообще я не люблю старших и не считаю нужным испытывать к ним почтение.
Старость не есть мудрость, а есть кислородное голодание головного мозга.
Здесь, в киммерийской литературе, я ищу поводы не для почтения, а для восхищения, но здесь доказывать необходимость введения экологических ограничений в области мирового языка и литературы, безусловно, стоит.
Но ж надо ж что-то ж делать с половодьем бессмысленных писателей бессмысленных слов бессмысленных книг. Надо! Что-то! Делать!
На пачке макаронных изделий (500 гр.), произведенных в Орловской губернии, я насчитал 423 слова на восьми языках, из которых два не смог отчетливо идентифицировать, насчитал, и это не считая цифр, иероглифов и пиктограмм, а также символов и звездочек. Макароны назывались «Макаронные изделия ушки «Тургенефф»».
«Не пить, оказывается, так же интересно, как и выпивать», — сказал укрощенный врачами Юрий Карлович Олеша, просидевши трезвенником в компании обильно отдыхающих. Вообще-то говоря — это неправда, я проверял.
Может быть, не писать так же интересно, как и писать, но ежели проснуться в соплях от полной и абсолютной метафизической сиротливости и, как следствие того — бестолковости, торкнутый в темя медным зубом ужаса, проснуться, сесть в кровати, озираясь, перед рассветом проснуться, например, перед иерусалимским, да ладно, чего уж там — на Москве проснуться, во тьме египетской проснуться, — то ощущение, что нет, мол, неинтересно (см. выше), не преобладает. Не доминирует.
Писать интересно, как свешиваться за перила: не круглый год хочется, но — интересно.
Помните, как персонаж Платонова утопился тоже из интереса, из любопытства: что есть смерть?
«Я вообще не понимаю, чем они (русские люди. — М.Г.) занимаются, если они не занимаются, кхе-кхе, литературой?» — как в 72-м сипел и клокотал Давид Яковлевич Дар, легендарный Дар, легендарный муж легендарной нашей левофланговой Веры Пановой, главный литературный карлик легендарного ленинградского ордена Ленина андеграунда 70-х годов (из которого андеграунда Дар, надо отдать ему должное, пытался выпихнуть меня в люди, мотивируя, что я, кхе-кхе, не его секс и что стихи мои той поры, кхе-кхе, чудовищны. Что святая даже не правда, но Истина. Кхе! А я в люди выходить не хотел, а вместо этого уехал в 77-м в Святую страну Петах-Тиквы, о чем не жалею — землю есть буду крест святая икона век воли не видать).
А в месяце июле лета 82-го года я, пять лет в Израиле, 32-летний оболтус ленинградского разлива, обнаружил себя скрюченным, отлежавшим шнурованную ногу, обнаружил себя в эпицентре не тьмы, но многозвездной серединной ночи, до рвоты укачанным средиземноморской волной, обнаружил себя в двух жилетах сразу, один из которых был-таки нарядным спасательным, а второй, наоборот, — бронь; и мирно тарахтящий движок мотопонтона доставлял меня (во-во, правильно! меня!) к муниципальному пляжу города Дамур, что мирно спит в померанцевых садах побережья суверенного государства Ливан, и назывался я о ту пору «русским» («руси»), и «доктором», и «оккупантом», и офицером медслужбы ЦАХАЛа я назывался; а война, первая моя война, хоть она и затянулась на полдесятка лет, называлась операция «Мир Галилее»[194], то есть войной кокетливо называться эта кровавая всем давалка отказывалась, а все это, в свою очередь, откликается, например, сейчас («Привет из Крыма!»), представляясь главным мигом моей, прямо сказать, немонотонной зато жизни…
За то, впервые постигшее меня и до горлышка залитое и наполнившее меня до упругости, за то плотно жужжащее самоощущение, за то чувство, что эта жизнь происходит со мной, именно со мной, а не с кем-нибудь там происходит жизнь, и я подсматриваю ее. И что жизнь эта — моя. И, довольно нелогично догадался я, что и Заведующих у нее, и Старших — у жизни (и у меня) нет.
«И вообще я не люблю старших и не считаю нужным испытывать к ним почтение». Так должен начинаться диафильм «Старшая Эдда» — про поколение шестидесятников.
…а еще через пару месяцев, выковырянному из жирной, со сгустками, костными осколками и бинтами помойки Южного Ливана, браво выслужившему отпуск и отпускные, яркому израильскому русскоязычному литератору Мише Генделеву из Иерусалима показали в Милане, на конгрессе главного эмигрантского журнала «Континент», очень хорошо одетого господина. Твид, шпионский вельвет, правильно — телячья кожа. Помнится — хаки. Очки — «Полароид». Усы — «Колонель». Зажигалка — «Ронсон». Манеры — Набокова. Цитаты — «Ожог». Правильно — писатель. Сразу — видно.
«Ле Карре, Джон?!» — подумал я.
«Аксенов, — шепнули мне из кустов, — Василий Павлович».
«Доктор Генделев», — сказал я.
«Базилевс!» — представился писатель Аксенов. Мамой клянусь!
Помнится, по касательной нашего рукопожатия проходили два знаменитых диссидентских пергюнта, один из которых был, как сказывали, настоящий в анамнезе генерал. С ледяной горячностью крича, скандируя припевы и в рифму плюясь друг в друга, пергюнты обсуждали, кого они расстреляют первыми. Когда придут к власти. В эмиграции.
Аксенов улыбнулся, не прощаясь, и уехал по-английски. Помнится.
Нет, я уверен, что он так и представился: «Базилевс». Сам-то небось будет опровергать, но я — уверен!
Мне страсть как тогда понравился Василий П. Аксенов, американский профессор, педагог-славист, знаменитый на родине писатель, советский, в обоих смыслах, изгнанник. Очень. Я эм вери глэд нашему, Вася, знакомству, я так и сказал: «Я очень рад нашему, Василий, знакомству». А потом я уехал назад, то есть домой, то есть в Израиль, досматривать до идиотического конца Операцию «Мир Галилее». И писать свою — «Стихотворения Михаила Генделева» — первую мало-мальски приемлемую книгу, конгениальную моему дарованию. Исходя из вышеизложенного.
Проза и поэзия — родня сомнительная. Родство ихнее подозрительно. Предполагаю вообще разное отцовство и зыбкие надежды на наследство (см. «Берешит» 1:1, 1:2). Скорее «Наследие».
Существование слова в поэзии и подтверждается только изнутри, и подчиняется иной, не прозаической, физике, физике идеального.
А внешне, извне, поэтическое слово подлежит иному подданству, располагается в геометрии иной метрики, подчиняется механике ритмически простого, но мощно и насквозь простроенного, организованного пространства. Абсолютно бесчеловечного. Я предлагаю считать это не предположением, а положением, верней, суждением. Потому что доказать это не могу, да и доказательства громоздки, да и не царское это дело — доказывать.
И речь моя не о том. Я, знаете ли, о более простых вещах — о Гармонии я.
Вот, скажем, поэт пишет строфу, скорее, даже строку. Чего, с какого перепуга он эту строку пишет — это особая статья, не о том разговор. Скажем — исходя из вдохновения.
По мне, чем меньше поэта в тексте, тем качественнее текст.
Идеал — это когда текст остается, а поэт может уйти. Верней — уже ушел. Достижимый, впрочем, идеал…
Кстати, в самом слове «стихотворение» отражены и зафиксированы обе сущности, обе составляющие Поэтического. Поэзия — как результат процесса творения стиха и Поэзия — как процесс его творения (сочинения). Стих — это результат с полной (внутри себя) памятью процесса. Как — дама с прошлым. Как с фило-, так и с онтогенезом.
Так вот, пишет поэт шедевр, самодостаточный и совершенный, стихотворение как процесс и стихотворение как результат. А потом поэт пишет второй шедевр. Творенья результат. И, как ни верти, вынужденно образуют творенья вынужденную композицию. И, как ни верти, в рамках судьбы поэта, как и в рамках пересказа этой истории, два этих шедевра образуют новую композицию. А ведь шедевр, ребята, — это не счастливый случай, не выскочивший удачный троп, не строка, не строфа; шедевр — это гармоническая целостность, совокупность. Если в стихотворении есть «удачные строки» — значит, стих говно. Так вот и стоят дворцы-шедевры и, привыкая, смотрятся друг в друга, и не узнают себя, и образовывают новую гармонию. А рядом опять прорабы, мат, опять — марево и опять — котлован. Гевалт! Понятно, к чему клоню?
В каждый момент творения творчество есть сиюминутное состояние шедевра, сиюминутное понимание гармонического идеала сочинителем. Так какого ж хрена, спрашивается, с такой мукой нешуточной, с такой черной, как правило, венозной кровью он, Автор, писатель А., этот пантократор, воздвигший Храм какой ни есть Гармонии (а строится Храм Рукотворный в Ничем, стихи-то существуют в Ничем, и весь стройматериал — это сколько ты сам, пантократор, как раб на пирамиде, в это идеальное пространство натырил и натаскал из закромов вещественного мира), так вот, зачем он пишет снова и снова, и опять, и на что он в надежде?..
Что, за ради исключения себя из правила? Которые редко, но — и что характерно — чаще всего в прозе, но — случаются. А?
Зачем он каждым прибавлением портит, перекашивает уже сбалансированную гармонию, нарушает это равновесие совершенства, сбивает баланс шедевра, толкает гироскоп тончайших механизмов призрачной своей авторской Вселенной?
По простодушию, от естественности — как растет арифметически вперед зубами, умножаясь, все ботанически живое, как растут в длину ногти?
От ограниченности материала для жизни — мало песка в песочнице и ну их — предыдущие куличики?
От обрыдлой бездушности хода времени и естественной сладкой жестокости бытия, которому можно противопоставить только «а вдруг»?
Из генетической неистребимой, мало что не родовой, склонности к малоосмысленному занятию, особой, ничего не стоящей носителю одаренности?
По профессиональной инерции, насекомой монотонности, заданности устаревшего, но не отключенного автомата газированной воды?
Потому что пиша мы без нужды увеличиваем данности, тем самым увеличивая энтропию, то есть приближаем тем самым, как заядлые саббатеанцы и франкисты, тепловую смерть Вселенной, той небольшой и материальной Вселенной, данной нам Господом Богом нашим в ощущении.
«А потому что мы с тобой, Мишаня, графоманы!» — сказал мне мой друг Василий Палыч, знаменитый писатель. Таким образом, не потому, что мы саббатеанцы, франкисты et cetera с Господом Богом в ощущении, а потому что: «Мы с тобой, Мишаня, графоманы», — сказал мне мой друг, написавший в 1965 году такой рассказик «Победа», двумя ладошками рассказик прикрыть — лучшее из того, что написано в мировой литературе о смысле существования этой самой пресловутой литературы и существовании смысла вообще ее существования.
Доктор филологии иерусалимского университета имени языка иврит, а тогда еще студент-недоучка Михаил Вайскопф придумал свою главную книжку «Сюжет Гоголя», сидючи на «губе» где-то под Гедерой, в военной тюрьме северного округа, куда он, рядовой армии обороны Израиля Вайскопф, был определен за хамство. Начальству. Сидел он без малого полгода. Так что соображения устаканились, озарения упорядочились, инкунабула высиделась пухлая.
В числе прочих идей в этом любопытнейшем и ныне уже классическом труде проводится мысль, что в корпусе совокупного творчества (некоего) идеального литератора (а вон у нас, кстати, и таковой нашелся: Гоголь Николай В.) просматривается (и нерукотворно проложен) магистральный сюжет. А каждые, соответственно независимые, вии, тарасы и башмачкины вкупе со своими автономными головокружительными приключениями — суть транзитные пункты в общем повествовательном монолите.
Ах, какой парад-алле, какое многостраничное шествие героев вывел, повел и возглавил сам герой наш Василий Палыч в апофеозе «Редких земель»! Но — зададимся: а куда деваются его персонажи, герои, фаты и красавицы, когда Автор отворачивается от них? По каким лабиринтам невостребованной литературы бродят герои, хирея, дичая, обликом истончаясь?
Куда же вы, Автор, неужели все забыть и опять вперед?! И сон вам с улыбкой?! Нельзя ж бросать своих персонажей, Василий Палыч! Нельзя же, Так Таковский!
Им ведь, героям, страшно в темноте. Зябко при мысли, что в небытие может уйти, отойти и там заблудиться даже не мало-мальски модный автор, но и целая — бух с головой — литература. Причем уже несущественно — под какую музыку танцев заблудились. И — меж фарфоровыми маркизами и пастушками — топь! Али промеж безносых гипсовых горнистов хляби разверзлись.
Если таков нам приговор, что на выход с вещами, то да. Уходить надо насвистывая, перемигиваясь со своими героями и аукаясь со своей литературой. Под ручку с Харитой. К следующим персонажам.
Любопытно, ребята, а чем кончается «сюжет Аксенова»? «Сюжет Набокова» — понятно: расстрелом за ялтинским вокзалом. «Сюжет Толстого» — забуксует, ведь неизвестно, что из меню выберет эта на выданье прелестная Ксения Собчак, ната наша ростова, на катарсис выберет, на десерт: «Хаджи Мурат», «Вазир Мухтар», «Люля-Кебаб»? Если все такое вкусненькое!
А «сюжет Аксенова»? Что там в конце? Белая вспышечка? И — «скажи изюм».
Я очень люблю дружить с Василием Палычем.
Дружба с Аксеновым придает мне двубортную респектабельность, делает меня старше. Именитее. Даже богаче.
Современные киммерийские поэты и беллетристы, солиднее меня годами и известнее в сто раз, увидя меня в обществе Базилевса, начинают оказывать мне знаки внимания, конкретно положенные классику. Что, в общем, справедливо. Некоторые с трудом удерживаются от отдачи чести. По дорогому ощущению, которое далеко не каждый может себе позволить, оно напоминает выход во двор моего детства с крупным представителем семейства кошачьих, самцом пумы, например, ягуаром или — так и быть, не выпендриваясь если, уговорили! — с тигром.
Потом мы обедаем, чем бог послал. Вася снисходительно, шикарно щурится. Я горжусь импозантным собой и им.
Я откидываюсь и оглядываю соседние столики, и мне немножко смешно, как если бы газировка попала в нос.
В современной киммерийской литературе совершенно не в ходу умение вести себя в обществе и налысо пропало ощущение породистости и породы.
Исчезло навсегда умение отличать хорошую жизнь от плохой литературы.
Пропало безвозвратно и исчезло навсегда. Вместе с врожденными манерами и благоприобретенным чувством собственного достоинства. Страху Божьего на вас нет, вот что я имею в виду.
Садитесь, курсанты.
г. Ялта, полуостров Крым, 2007
Светлана Васильева[195]
Где-то над Бискайским над заливом…
Думая о рождении человека, нельзя не вспомнить место этого рождения, а также другие точки пространства, впоследствии соединенные линией человеческой жизни. В произведениях Василия Аксенова есть своя занимательная география. Москва, Ленинград, Магадан, Казань, Крым, Вашингтон, Биарриц. Ключевые точки, к которым, должно быть, применим термин Льва Гумилева «местообразование» (по аналогии с «месторождением»). География Аксенова, как и любая наука, предметна и стремится к точности самоописания. В этом творческом процессе — как рассказывает автор — были и такие моменты, когда он, порывшись в августиновских кладовых памяти, «измышлял» то или иное место действия, населял его персонажами и только потом сам там оказывался. Если все, вплоть до ландшафта, было угадано верно, место отвечало взаимностью, «узнавало» повествователя, подбрасывало ему сюжеты на будущее. Так и с Биаррицем, вдохновившим роман «Редкие земли». Блоковские ли тамариски навеяли, растущие, подобно нашей родной бузине, прямо из камней над Бискайским заливом по всему маршруту от Франции до Испании? Аксеновская ли мечта о «новом Переделкине» тут виновата? Но Биарриц с его домом-садом-кабинетом, спасенной в адскую жару усилиями поливальщика красавицей магнолией, отрытыми из заросшей земли синими ирисами, шумящей поблизости стиральной машиной океана — это действительно прежде всего место работы.
Волей случая, а вернее, в связи с днем рождения другого писателя, Евгения Попова, младшего товарища Аксенова, мы тоже очутились в тех краях. И Аксенов как местный старожил показывал нам дивный тамарисковый парк, еще не совершивший странный литературный кульбит в нашу российскую, комсомольско-капиталистическую действительность. Потом, скромно справляя 60-летие Попова, сидели впятером (мы трое плюс Майя с Пушкиным) в недешевом ресторанчике, ловили шум волн и недоумевающие взгляды редких соседей по столикам: о чем эти сравнительно немолодые люди (в сопровождении какого-то «Пушкина», с собачьим аппетитом уплетающего дары моря) столь оживленно беседуют битых два часа, чему так радуются в бессезонье, в опустевшем Биаррице? «Сами-то они, должно быть, качество очередного блюда обсуждают…» — саркастически заметил Василий Павлович. Может, он ошибался. Посетители общепита говорили… о достоинствах тамариска. Во всяком случае, когда-нибудь, прочитав в переводе «Редкие земли», они уж точно призадумаются о связи природы и демократии, о путях развития капитализма в двух наших отдельно взятых странах, о сказках тамарискового парка. А мне так тамарисками был подсказан замысел одной поэмы, строки из которой я теперь и возвращаю по месту аксеновского обитания…
Образ речи
Думать и писать об Аксенове настоящее счастье. «Искусство трагически разъединяет», — сказал кто-то из наших общих знакомых. С Аксеновым искусство объединяло, как объединяет сверхчувственное в сфере реального.
Писать для него значило жить, читать же Аксенова для многих оказывалось жизненной потребностью и, по-возможности, актом сотворчества. Мы проводили вместе много времени — настолько много, что, кажется, теперь его не осталось совсем, оно куда-то ушло вместе с ним. Это были праздничные встречи, «последний час вигилий городских» в годы сумерков, общие поездки, после того как «наука расставанья» была уже изучена вполне и когда стали возможны «Аксеновские конференции» на родине: сначала в Самаре, потом в Казани… Университетские чтения, джазовые площадки, атмосфера фестиваля. Многие говорили — «междусобойчик». На самом деле разумное использование сохраненной энергии дружества, которую можно передать кому-то дальше в форме живой и неназойливой.
Как сказал один русский классик, нет ничего хуже невеселого ума. Веселый ум Аксенова чуждался академической и коллективной скуки, он хорошо разбирался в том, что такое общий застой и общее благо.
Зачем в наше время нужен роман? Чем болен ХХ (Ха-Ха) век, и почему мы так самоуспокоены перед веком наступающим… уже наступившим? На эти серьезные вопросы у Аксенова были серьезные ответы. Последний незаконченный роман «Дети ленд-лиза» — тоже ответ, только зашифрованный. Найти шифр к чтению на сей раз представляется делом нелегким, но благодарным. Евг. Попов предлагал при издании использовать систему комментариев, документальных дополнений от публикаторов. Я бы оставила все как есть, роман в его незавершенности. Подобно пушкинским «фрагментам», то особый жанр, где по части опознается целое. Перед нами два больших отрывка прозы, полный объем которой неизвестен. Но ведь и сам автор утверждал, что в процессе письма он н е з н а е т окончания задуманного. Им движет не сюжет, а язык, вырабатываемый сплав слов и наречий.
В «Детях ленд-лиза» по крайней мере два разных «наречия». Ярко выраженная мемуарно-повествовательная стихия первой части и пласты глубокого залегания памяти — во второй, кажущейся менее отделанной, но в действительности, гораздо более интригующей частью романа. Между двумя этими величинами — невосполнимый прерыв. Был бы он сознательно сохранен автором или же стилистически выровнен на заключительном витке работы какими-то сюжетными мостами, теперь уже не узнаешь.
Все отныне восполняется воздухом, прибывающим после смерти писателя. Человека нет, а воздух, которым он дышал, остается не потребленным и не отработанным. Он как бы дан нам в произведении — для нашего вдоха и выдоха. Предлагаю читателю именно такой способ дыхания: прерывистый, но с ощущением просторного «сквозного действия», которое стоит за текстом.
«Парфенон не врет» — так называлась одна из моих заметок об Аксенове, подразумевающая такое свойство, как непреложность творчества. Рада была потом узнать, что подобную тему для сочинений писатель задавал своим американским студентам. Почему реально вводят в душевный морок величественные конструкции сталинского ампира, но не обманывает глаз архитектурное решение Парфенона? Аксенов, как мне кажется, читательских ожиданий не обманывал никогда. Каждый его роман — стройная архитектоника писательской судьбы.
В аксеновской жизни всего было с избытком, как и в жизни родного отечества. Звезды рождения, энергия заблуждений, ранний успех, азарт, романтизм, героизм, «дендизм» … литературные стили и сюжеты этого то ли скептического почвенника, то ли пламенеющего западника примиряли крайности советского бытия прекрасными «фигурами речи». Однажды я изложила Аксенову взгляды Ницше на теорию катарсиса, который тот полагал не результатом психофизических процессов «очищения состраданием и страхом», а коллективной реакцией зрителя древнегреческих трагедий на образы и фигуры поэтической речи. Да-да, усмехнулся Василий Павлович, «Бог умер», «уберменш»… это было сказано перед тем, как разум совсем покинул гениального философа… К своим красотам стиля Аксенов относился со сдерживающей иронией. Кажется, больше всего ему хотелось, чтоб нам не было скучно, тягостно и безнадежно в условиях мрачнеющего и помраченного социума. Он стремился, чтоб мы получали от литературы удовольствие и радость. И все-таки, какие-то тревожные, «профетические птицы» судьбы и смерти носились в его произведениях. И «Новый сладостный стиль», и «Кесарево свечение», и «Москва ква-ква» полны прозрачными, вырастающими тенями, которые эти пролетающие стаи слов и образов отбрасывают на землю.
Аксенова интересовала личность пассионарная, байроническая — той самой страсти, которая в классической русской литературе составила ряд «лишних людей». Постсоветские «байрониты» порой мерещились ему всюду, даже в жизненных перипетиях бывших комсомольских лидеров, меняющих судьбу при помощи баснословных капиталов (роман «Редкие земли»). Чем романтические «шери-бренди» обернулись для последних, мы сегодня наблюдаем. Не пеной по губам, а приговором Хамовнического суда прямиком в лишние люди. Жизнь богаче вымысла.
В последнем романе Аксенова речь также идет о пластических возможностях социальной перекройки личности и ее собственных мутациях. Материя детства, описанная в «Детях ленд-лиза», почему-то оказывалась для перекройщиков особо прельстительной. Первая часть романа, проходя сквозь идиллически воссозданные казанские реалии, намечает зоны взрывоопасные. Конечно же, это Казань вымышленная, врезавшаяся в авторскую память светящимися протуберанцами. Детское сознание не вмещается в систему предлагаемых компромиссов — там, в детских снах и потом, во взрослых воспоминаниях, у автора мир все равно предстанет чуть более прекрасным, загадочным и наполненным страхами, чем было на самом деле. Но опасность будущего взрыва тут вполне оправдана. Как и детский терроризм — не выдумка, а следствие лжи и насилия взрослого общества.
Сюжет жизни, данной взаймы, в аренду детям «советского рая» (был такой фильм французской поэтической волны: «Дети райка») превращен Аксеновым не в трагифарсовую авантюру, поглотившую героев «Острова Крым», а в нечто совсем иное. Тогда выкормышам тупого и бездушного режима приходилось отдавать «долги» в ситуации общей бойни и общей крови. Вторая часть романа «Дети ленд-лиза» — не трагифарс, а предчувствие грандиозного временного зияния, которое человеческое сознание испытывает в момент ухода и отпущения со всех войн, из состояния бойни. Уход куда? В ту самую архаическую «степь» хлебниковского косноязычия, которая, похоже, одна и способна отпеть человеческую жизнь. Это и собственное, аксеновское, поэтическое «косноязычие», его фамильная архаика с запутанными семейными корнями и выпрямившимися личными судьбами. Вырабатывание писателем нового образа речи, которая не обманет и на сей раз.
Анатолий Королев[196]
Редкая земля[197]
Читая последний роман Василия Аксенова «Редкие земли», я уже почти придумал название для своего опуса — эврика! — «Редкий элемент», а дописав статью до конца, понял, что Аксенов — это, конечно же, не просто элемент, пусть и редкий, а целый мир, новая планета, редкая земля. И исправил название.
Так вот, пребывая в горячем возрасте старшеклассника, я делал свою жизнь с Василия Аксенова. Причем я не то что хотел бы стать писателем, я хотел жить, как мой кумир. Но, бог мой, как я был недоволен собой! Аксенов был знаменит, как останкинская телебашня, а я жил на окраине СССР, стоя на провинциальном углу этаким электростолбом с тусклой лампочкой. Я был робким стилягой, в перешитых брюках-дудочках, а Аксенов был европейским плейбоем и носил настоящие джинсы от Levis, он мастерским броском Билла Рассела[198] кидал баскетбольный мяч через всю площадку судьбы прямо в корзину, а я, хотя и боготворил черный бокс Джо Луиса[199], добыл фиктивную справку о том, что у меня проблемы с сердцем, и не ходил на занятия физкультурой. Словом, бездна, было от чего впасть в отчаяние.
Главное — он был свободен.
Уже через много лет, размышляя над загадкой столь мощного старта, я услышал разгадку из уст самого мэтра. Вот она (излагаю своим языком). Он тоже был типичным продуктом своего советского времени, вступил в комсомол, помышлял о карьере врача, то есть о судьбе слуги чьих-то болезней, — словом, был нормальным молодым человеком. Он тоже хлебнул лиха, «в Казани жил в переполненной коммуналке и спал на раскладушке под столом, где туалет был разрушен еще во вторую пятилетку и потому все ходили во двор, в деревянный сарайчик, в котором зимой над очком намерзала такая пирамидка нечистот, что уже и не пристроишься» — но! У него была судьба, его любимая матушка отбывала свой срок в Магадане, и однажды он полетел к ней на край света, прихваченный сердобольной вольняшкой-кассиршей из тамошней магаданской ферулы, и, оказавшись — через семь дней перелета — в печальном краю цепей, наш чайльд-гарольд пережил чудо встречи с абсолютной свободой. Ни мать, ни ее новый муж, немецкий врач, ни их друзья-поселенцы уже ничего не боялись. Говорили в бараке, «пропахшем тюленьим жиром», все, что думали, и жили так, как хочется. Там Аксенов даже принялся сочинять стихи! Короче, на Большую землю из магаданской зоны чайльд-гарольд вернулся свободным, раскованным молодым человеком. До сей поездки он думал, «что у нас идет все гармонично».
Так закалялась сталь «Метрополя».
Все остальное стало всего лишь продолжением этой свободы от шор: легкий ироничный сленг, стиль джазовых импровизаций в литературе, кидание апельсинами из Марокко в бюсты соцреализма, броски мяча в нимбы партийных божков, перевод романа Э. Доктороу «Рэгтайм» и прочие пинки под зад затоваренной бочкотары.
Впервые я увидел своего кумира воочию в мае 1980 года. Продолжая телом проживать в уральской провинции, я, однако, уже замыслил побег в Москву и в очередной наезд узнал, что завтра (или послезавтра) Аксенов будет читать в ЦДЛ куски из своего последнего романа и надо бы обязательно быть на читке, потому что Аксенов на днях улетает в Штаты и неизвестно, вернется ли он когда-нибудь в СССР, потому что после выхода альманаха «Метрополь» органы вынуждают его к эмиграции.
Пройти в те годы в Дом литераторов было ой как непросто без заветной книжечки члена СП, но я проник.
Узкий зал на первом этаже был полон, я постеснялся сесть в первом ряду и устроился чуть позади. Это был один из пиков обожания Аксенова, какие в ревнивой литературной среде о-очень большая редкость. Примчавшийся позже прочих Е. Евтушенко демонстративно внес с собой стул, сел в трех шагах от героя и вперил в него взор, исполненный пиитического восторга. Василий Павлович читал отрывки из романа «В поисках жанра», читал в своей блистательной манере раздумчивого баскетболиста, который обращается с текстом, как с мячом, и, постукивая его уверенной круглостью по игровой площадке, направляет роман к финальному броску в наши головы.
Мне нравилось все: и его прищур, и французский рокот морской гальки в потоке авторской речи, и даже кончик кроссовки, который сладко выглядывал из-под вельветовых брюк цвета корицы. Мда, думал я про себя, джинсы уже вышли из моды. Надо добывать вельвет в мелкий рубчик.
Но, если совсем серьезно, Аксенов прекрасно понимал эту накаленную атмосферу как бы прощания и, с одной стороны, демонстрировал стукачам, рассаженным в зале, что в нашем обществе созрело прочное сопротивление ГУЛАГу — вот я читаю то, что хочу; с другой стороны, поощрял всех нас: не вешайте носа, друзья; и наконец, иронией чтения гасил истеричную готовность кое-кого из публики кинуться на баррикады: господа, чувство юмора превыше мировой справедливости.
Казалось, его не волновала перспектива перемещения за кордон.
Он был похож на улыбку чеширского кота.
Но Аксенов умеет быть и разозленным.
Много лет спустя, в 2001 году, на Международном конгрессе ПЕН-клуба в Москве, где царил нобелевский лауреат Гюнтер Грасс, практически все выступавшие громили русское сообщество за резню, развязанную в Чечне, и только один Аксенов с возмущением говорил о том, что накат несправедлив, что в резне теперь виноваты уже обе стороны конфликта, что не надо вешать всех собак на Москву и делать из России козла отпущения. Наша горстка в лице Жени Попова, Анатолия Курчаткина и меня была дружно согласна с такой оценкой. Между тем все шло к тому, что конгресс примет специальную резолюцию о Чечне. Особенно крупно палил с трибуны господин Грасс, тот самый, который впоследствии признался в романе «Очищая лук», что служил в танковых войсках СС заряжающим. Что ж, навыки заряжающего он не растерял. Я впервые видел Аксенова в таком запале и понял, что — ага! — в нем есть еще темперамент общественного деятеля, что в Америке он мог бы, родись американцем, стать новым Кеннеди или папой поп-арта Энди Уорхоллом. Короче, мы, числом девять членов российского ПЕН-клуба, сочинили особое послание к съезду, где выразили свое несогласие с общей позицией, и Евг. Попов прочитал рукописный листочек перед уважаемым залом в отеле «Редиссон-Славянская» при мертвой тишине подавляющего враждебного большинства.
Тут я должен все-таки коснуться щекотливой темы своего частного приближения к персоне героя: Василий Павлович человек хотя и контактный, но закрытый и всегда держит дистанцию броска. Так вот, однажды я удостоился публичной похвалы Аксенова за роман «Эрон», между тем как лично знакомы мы не были, но эта похвала дала мне возможность представиться самому. «Так это вы!» — Аксенов тут же горячо увлек меня в сторону и сказал, что в лекции о Булгакове на курсе русской литературы, который он ведет в вашингтонском университете, он использует мое эссе о Сталине и Булгакове. И мои наблюдения, мол, резко повышают температуру общения с американцами… Я смущенно слушал Василия Павловича и краем глаза замечал, что теперь в моде твид и мокасины, а мои вельветы и кроссовки давно на обочине жизни… но мимо!
Если вернуться к главной тайне его астронавтики, тайне свободы, я думаю, что секрет этой легкости в походке его бытия. Он не зависит от правил: так, не зная кулинарных секретов, он смело советует не трусить в сочинении блюд и смело валить на сковородку, например, морских гадов, выкладывать кирпичиком заморозки, жарить их, пока они не приобретут золотистый оттенок, а после смело наваливать на это журчащее варево всякие прочие вкусности, не соблюдая никаких пропорций, довериться только интуиции, чувству вкуса, глазомеру души, слиться с моментом, когда «самое время влить в это бульканье умеренную дозу оливкового масла» — и — бац — жарево готово.
По высшему счету это рецепт использования чувства свободы в сочетании с чувством юмора для приготовления отменной качественной планиды. И она ему удалась, как никому! Пока все прочие пыжились и учились искусству тореро чтением антисоветчины, наш великий иронист вышел против бычьей туши КПСС с порцией отменного ленд-лизовского табака в горсти. Смехом по морде. Он не стал принимать всерьез это пучеглазое страшилище, и Горыныч пал жертвой веселого пересмешника. Джинн шагреневой кожи не вынес иронии и съежился до размеров пивной бутылки, которую можно спокойно выбросить в мусорный бак.
Вся проза Аксенова (а теперь еще и его стихотворения нарочито вне рифмы) демонстрирует нам преимущества стиля деструкции, когда ингредиентом текста становится игра с необязательным набором входящих. Игра без правил! В результате которой из эклектики произвольных слагаемых на свет из жарева рождается лапидарная форма «фьюжн», форма горючей смеси на грани фола. «Котенок на клавишах» Зизи Конфа, блистательный прибойный набег синкоп в духе импровизаций Телоуниса Монка, походка Моцарта, который посадил себе на загривок Оскара Питерсона, порыв шаловливого ветерка, который задирает платье Мэрилин Монро.
Из этого шейкера абсолютной свободы рождаются, например, такие шедевры:
«Вождь отхлебнул своего разлюбезного киндзмараули и протянул через стол суховатую, то есть слегка чуть-чуть похожую на игуану, руку и похлопал ею по гвардейскому плечу семижды лауреата его имени».
А вот лавровый листик из кипящего русско-французского супа:
«Бродяга между тем летел сквозь дым кабака и, пролетев сажени три, упал башкой в соседнюю кумпанию со страшенными красавицами. Визг оных. Хруст фурнитуры. Брызги питьевого. Ошметки съестного. Весь подвал, кроме калек, повскакал на ноги.
Хохот помешал нашим уношам продолжить жевание. Нужно сказать, что подобные эмансипации никогда не пугали кавалеров, а напротив, как бы увлекали их своей, ну как тут получше изречь, ну, нежданностью, что ли. Вспомни свою собственную младость, читатель, вспомни юнкерские забавы и все простишь».
Или описание серферов на волнах в Биаррице!
«И вот едва волна достигла своего апогея, все восемь фигур одномоментно воздвиглись на ее гребне. И вот в этот как раз момент, хотите верьте, хотите нет, в тучах возник глубокий проем, и солнечный луч осветил триумфальное шествие: восемь атлетических фигур, идущих к берегу вместе с волною, — зрелище, достойное ошеломляющего восхищения!»
Какая юная, мускулистая речь, какая прямая спина у стиля, а ведь нашему уважаемому Баззу Окселотлу не 25 и даже не 55, а поболе, впрочем, как всегда утверждала газета «Правда», новый кандидат в члены политбюро вступил в пору предстоящего расцвета на пути к будущей государственной зрелости. Котенком по клавишам красной империи прошелся наш гений, разрушив и сам рояль, и всю хоровую советскую музыку. Кто бы мог подумать, что шалость — самое страшное орудие против набычливой силы.
Но есть, есть еще одна разгадка столь дерзкой увертливости героя от набегающих волн океанского Резервуара. Да простит меня Василий Павлович, он есть аватара, второе воплощение, Мари Франсуа Вольтера. Есть такая теория в индуизме, и я — ее горячий поклонник… Душа на холодке странствует в небесных эмпиреях, пока не созревает на взгляд Творца подходящий момент, и — раз — душа всовывается в новое тело со скоростью кредитной карточки в щель банкомата. Так однажды, 20 августа 1932 года, душа фернейского скептика переселилась из солнечной Франции в царство полярной звезды и торосов, где мальчику Васе предстояло собрать слово «свобода» из ледяных фигурок у ног ужасной фурии русской мечты.
Что побудило Вольтера родиться во второй раз, он высказал еще в своей статье о Спинозе: «Ни один философ не оказал влияния на нравы улицы, где он жил. А почему? Да потому что в основе поведения людей лежит привычка, а не метафизика. Один-единственный человек, если он красноречив, искусен и пользуется доверием, многое может внушить людям; сотня философов ничего тут не сможет поделать, если они только философы и ничего больше».
Без всяких шуток: я не вижу предшественников Аксенову в нашей литературе, кроме заграничного Вольтера. Как писатель Аксенов — дитя эпохи Просвещения с ее культом здравого смысла и пафосом смеха. Вольтер писал свои шедевры как реплики к тем или иным идеям своего времени, например, к формуле Лейбница о том, что мы обитаем «в лучшем из возможных миров». С каким сарказмом высмеял Вольтер в «Кандиде» эту напыщенную мысль! С похожим напором Аксенов освистал позднее советскую идею о том, что мы, ква-ква, живем в лучшем болоте из всех возможных болот. А какой образ Вольтера в романе «Вольтерьянцы и вольтерьянки»! Это комическая империя, а не образ.
Что ж, новому воплощению Вольтера удалось то, что не удалось в прежней жизни: он достиг совершеннолетия и распустился, как баобаб, на пригорке русской действительности, на виду колосящегося поля, и вскоре в гомоне жаворонков и под гогот гусей сей баобаб, это мрачное древо Познания, стал — под умелым напором красноречивого человека — Древом Воображения.
Царствуй на небосводе, редкий космический овощ, планета Аксений!
Вольтерьянствуйте вволю, дорогой Базз Окселотл!
Олег Сакмаров[200]
Василий Аксенов был удивительным жизнелюбом. Он ценил жизнь во всех ее проявлениях, любил ее фактуру, колорит. Великий писатель был гением дружбы, его романы насыщены удивительными историями, приключившимися с ним самим и его друзьями. И я горжусь, что несколько любимых им сюжетов связаны со мной, а шире — и с рок-н-роллом.
Наша дружба с Василием Павловичем началась с концерта «Аквариума» весной 1997-го в Вашингтоне, в старинном «Гастон-холле» Джорджтаунского университета. Здание это XVIII века, что для Америки очень ценно и исторично. Его усердно берегут, поэтому то, что произошло в этот вечер, ни в какие американские ворота не лезло.
Битком набитый зал, играем в акустике (то есть без барабанов). В середине концерта под очень высоким потолком начинает ритмично выть пожарная сигнализация. Заметим, что до этого момента концерт уже час как двигался довольно спокойно. Полиция попыталась начать эвакуацию, группа перестала играть, но зал не хотел уходить — много русских, хотя заметно меньше, чем на других концертах в Америке. Тупиковую ситуацию довелось разрешить мне. В тот момент я увлекался трансовой электронной музыкой, и ритмичные гудки сигнализации показались мне идеальной подкладкой для импровизации. Я начал играть на флейте, публика возбудилась, пустилась в пляс, меня поддержал Сережа Щураков на аккордеоне, все вместе это вылилось в какой-то кибер-фолк. Энтузиасты выстроили живую пирамиду высотой несколько метров и выключили сигнализацию под потолком. Концерт продолжился, Борис Гребенщиков запел. Играли еще часа два! Все это завершилось полным триумфом. На следующий день столичная пресса писала, что русская группа добилась успеха благодаря «домашней заготовке»: американцы подумали, что это было специально подготовленное шоу!
На том концерте был Василий Аксенов, который жил тогда в Вашингтоне. И на следующий вечер наш знакомый Илья Левин[201] — удивительный человек, достойный отдельного романа, — устроил у себя на квартире прием, куда пригласил и Аксенова.
Окна с видом на Капитолий, рядом с нами — великий писатель с маленькой собачкой на руках — ситуация головокружительная. Отношение к Василию Аксенову у меня с юности было особенное. Он, как и я, из Казани, моя мама чуть ли не в одной школе с ним училась, на одной улице жили. Много было разговоров с детства об этом. И книги его я читал не только как литературное произведение, но и как единую хронику жизни удивительного человека. А книга его матери Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» перевернула мировоззрение и стала настольной для меня. Трудно мне было запросто подойти к Аксенову, но когда осмелился — завязался интереснейший разговор. Я тогда был под впечатлением его романа «В поисках грустного бэби», а автор с таким жаром принялся комментировать мои слова о книге, что неловкость рассеялась мгновенно. Василий Павлович — я всегда его впоследствии так звал — оказался изумительным собеседником, замечательным рассказчиком, деликатнейшим человеком с тончайшим чувством юмора. А за этим была глубина, не позволявшая забыть, какой титан рядом с тобой так просто говорит, рассказывает свои интересные истории и слушает твои.
По его книгам я знал о любви Аксенова к джазу и недоверии к року. Но после вашингтонского концерта его отношение к нашей музыке изменилось, что имело серьезные последствия для моей судьбы. Василий Павлович увидел во мне благодарного читателя, интересовался моим мнением по поводу каждого своего нового романа, дарил книги с трогательными автографами. Спрашивал, что происходит в моей музыке, что нового у Гребенщикова. В 1999 году он серьезнейшим образом содействовал присуждению Гребенщикову премии «Триумф» и был на нашем лауреатском концерте в зале Чайковского в Москве.
Другая любопытная история произошла летом 2004 года. На родительской даче под Казанью, на крутом берегу Волги, я взахлеб читал только что полученный в подарок от Аксенова его новый роман «Кесарево свечение». Книга так поразила меня, что я взял в руки мобильник и набрал номер Аксенова в Биаррице. Мы долго разговаривали о книге, а в конце он спросил, откуда я звоню. Услышав ответ: «Из деревни Ташевка Верхнеуслонского района Татарии», — Аксенов пришел в восторг. Оказывается, в этой заволжской глухомани он бывал мальчиком много раз и даже сейчас не может вообразить, что оттуда можно по телефону запросто позвонить в глухомань французскую. И я хорошо понял его изумление, ведь еще в 90-е годы оттуда дозвониться даже до Казани было невозможно. И понятно, что дело даже не в техническом прогрессе. Аксенов говорил как бы со своим страшным и прекрасным советским детством. Этот телефонный мост Верхний Услон — Биарриц он частенько вспоминал впоследствии.
В ходе этой упоительной беседы возникла идея подготовить совместный творческий проект, где писатель читал бы стихи из своих романов, а я — создавал импровизированный музыкальный контрапункт на флейте и саксофоне. Уже через месяц мы встретились в Москве, у него дома, в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной.
Репетиции были своеобразными: Аксенов угощал нас с женой Кирой привезенными из Франции деликатесами и рассказывал удивительные истории про этот легендарный дом. И эпиграфом к повествованию служила обнаруженная им на оконном стекле малюсенькая надпись: «Сделано зэками».
Результатом такого репетиционного процесса стало первое наше совместное выступление. Случилось это в сентябре 2004-го на моем бенефисе в большом московском рок-клубе «Б2»[202]. По сути это был большой рок-фестиваль, где я играл со многими своими друзьями и выступал со своей группой. По плану мы с Аксеновым должны были выступить после моего дуэта с Борисом Гребенщиковым. Но за полчаса до выхода на сцену БГ попросил меня: «Давай сыграем перед Аксеновым!». Борису явно захотелось, чтобы Василий Павлович послушал его песни. А потом он сам послушал наше с Аксеновым выступление. И это было так символично и трогательно — два гениальных творца, символы разных эпох и поколений вместе, рядом на одном концерте… Я не знал, как молодая аудитория примет выход Аксенова со стихами и волновался из-за этого. Все получилось просто замечательно: великий писатель оказался прекрасным артистом, очень ритмичным и чутким к музыкальному сопровождению. Мы с барабанщиком Валерием Грошевым старались подчеркнуть музыкой тонкие психологические нюансы стихов. В результате получился интересный фри-джаз. После концерта я спросил у Василия Павловича: «Как вам удалось не стушеваться перед рок-аудиторией и так быстро овладеть ею?». Он ответил своей характерной улыбкой: «А у меня большой опыт преподавательской работы в американских университетах!».
Я очень рад, что весь этот концерт был снят на видео и впоследствии выпущен отдельным фильмом на лейбле «Геометрия».
А история с первым просмотром этого фильма дома у Аксенова до сих пор в моей коллекции самых дорогих воспоминаний. Мы с супругами разместились за красиво сервированным столом, пятым человеком в компании оказался старый друг семьи Аксеновых поэт и писатель Владимир Мощенко, автор романа «Блюз для Агнешки» с предисловием Василия Аксенова («Рожденный в джазе»). После чудесного ужина, приготовленного женой Аксенова Майей — о ней можно говорить бесконечно, — мы разместились на диване и начали смотреть и слушать концерт. В фильме перед выходом Аксенова я представляю писателя рок-аудитории, говорю о нем много хороших слов. В этот момент Аксенов встрепенулся, вскочил с дивана и произнес прямо-таки по-мальчишески: «Майя, Володя! Смотрите, как про меня люди говорят! А вы все — Вася да Вася!». И после этого внимательно послушал все выступление и долго потом восхищался получившейся поэтическо-музыкальной симфонией…
Таким образом, мы с 2004 года стали регулярно вместе выходить на сцену, где он великолепно читал свои стихи из романов, а я один (на флейте и саксофоне) или с друзьями аккомпанировал ему. Мы играли в Москве и Питере, выступали вместе на презентациях всех его новых книг, в том числе и книги «Вольтерьянцы и вольтерьянки» в московском клубе «Билингва». Василий Павлович сказал тогда, что у его сына Алексея есть фото — мы на сцене, а за нами Белла Ахмадулина и Борис Мессерер сидят. А на презентации романа «Редкие земли» Аксенов доверил мне не только на флейте поиграть, но и мои песни попеть. Я был счастлив, что он признал меня не только как музыканта, но и как автора, как поэта.
Незабываемый праздник Аксенов устроил 7 ноября 2007 года в ЦДЛ, где праздновал свое 75-летие… Там со сцены зала ЦДЛ он снова читал свои стихи под музыку, снова мне довелось попеть для него, выступали великие писатели, блистателен был Михаил Козаков. А потом Василий Павлович пригласил самых близких в легендарный ресторан ЦДЛ — культовое место всей нашей литературной истории последних десятилетий. И там я на секунду почувствовал себя персонажем какого-то его еще ненаписанного романа.
А в декабре 2007-го, совсем незадолго до его инсульта, мы выступили вместе на презентации книги его стихов «Край недоступных Фудзиям». Аксенов почти полтора часа читал, а мы с друзьями — Лешей Кравченко на гитаре и Валерой Грошевым на перкуссии — ему аккомпанировали. Какое счастье, что я организовал видеозапись этого концерта и многоканально записал звук на свой компьютер. «Материал получился очень интересный, можно будет сделать из этого уникальный поэтико-музыкальный фильм», — думал я тогда. А теперь понимаю, что это было, наверное, последнее концертное выступление в жизни великого писателя… От самих этих слов не по себе, невозможно представить, что Василия Аксенова уже нет рядом. А на экране он живой, гениальный, светящийся. Красивый, любимый всеми, навсегда молодой… В марте 2008 года мы должны были вместе поехать в целое концертное турне по Украине. Организаторы говорили, что все билеты проданы. Но Василий Павлович оказался в больнице… Борис Гребенщиков написал мне в день смерти Василия Аксенова: «Он был титаном старой закалки; таких больше не делают». Лучше не скажешь.
Мария Ремизова[203]
Как это было…[204]
На самом деле это было совсем-совсем недавно — каких-нибудь двадцать, ну двадцать пять лет назад. А кажется, что прошла вечность — так сильно все изменилось, почти до неузнаваемости. Тем, кто не жил тогда, и не объяснишь, как это было. «Как дешево стоили книжки!» — удивляется мой младший ребенок, заметив на обратной стороне обложки цену в какие-нибудь 37 коп. «Да, — говорю я, — дешево. Только ни фига не купишь» — «Ну да, понимаю, — с важным видом кивает он. — Вы тогда были бедные, у вас не было денег».
Вспомним, как же тогда было…
Бедные? Ну да, правда, мы были бедные. Мы были жутко молодые, мы были свободные, мы были идеалисты до мозга кос-тей. Мы свято верили, что мир можно изменить к лучшему, если мы сами задерем для себя планку выше небес, и карабкались к этой планке, сами себе выстругивая следующую ступеньку на своей лестнице в небо…
И еще мы читали. Читали как сумасшедшие, днями и ночами напролет. Истина сияла нам, как Вифлеемская звезда, указывая путь прямиком к вратам рая. В каждой книге мы искали знаки этой истины, умудряясь вычитывать ее отовсюду — начиная с древних греков и заканчивая «Метрополем».
По правде сказать, «шестидесятники», почти годившиеся нам в отцы (в младшие братья наших отцов), не были для нас серьезным авторитетом. Их идеалы, порожденные хрущевской оттепелью, казались нам слишком ограниченными. Мы ориентировались на другие 60-е — на Великий Карнавал, охвативший Америку и Европу, как раз когда мы появлялись на свет, и потому волей-неволей уловили и впитали отголоски необъяснимой энергии, хлынувшей тогда в мир, а потом почему-то столь же необъяснимо отпрянувшей. Здесь, в этом наглухо отгороженном от остального мира палисаднике за железным забором, мы были последними хилыми бутонами Flower Power и со скрупулезностью нищих собирали вокруг себя чудом залетевшие сюда крохи нашей Великой Идеи.
Под этим углом зрения были освоены аксеновские «Поиски жанра», где странноватый чувак без какой-либо внятной прагматической цели колесил по дорогам на своих новеньких «Жигулях» и брал стопщиков… Ух, это был, кажется, самый первый раз (72-й год!), когда на страницы отечественной прозы нелегально проскочило слово хиппи. Да мало того, что этот (ну такой похожий на битника! И от джаза он, кажется, тащился…) рассекал по нашим вожделенным трассам, он еще взял на борт («Возьми попутный груз!» — на все лады мусолили мы любимый лозунг, украшавший обочины нашей все более и более застойной родины) нашего — нашего! — брата, позволив ему сочинить стихи про четырнадцать каких-то там чокнутых, и возил его с собой в своих вольных странствиях, позволяя нам любоваться одним из нас, таким красивым, с копной такого правильного, длинного хаера…
Так старшее поколение протягивало руку нам. И мы эту руку с благодарностью пожали. Потом (в 1976-м) появился «Круглые сутки нон-стоп» — про Америку, про то, как автор читал лекции студентам и все хотел выяснить, «как из ничего получается нечто?» — но так, помнится, ничего конкретного и не узнал, потому как творчество — дело таинственное и ни прямой, ни кривой линейкой его не померяешь. Проблемы творчества нас тогда волновали в наименьшей степени, но про Америку было интересно.
А потом… Потом были уже только ксеры. Потому что Аксенов сказал родине good-bye, и мы от всей души, честное слово, пожелали ему самого счастливого пути (потому как и сами тогда для себя подобного поворота судьбы отнюдь не исключали).
«Ожог», «Скажи изюм» читать было обязательно. Но самым козырным был, конечно же, «Остров Крым». Картинка, нарисованная Аксеновым, больше завораживала своей удивительной, прямо-таки бросающейся в глаза простотой. Видимо, и правда — все гениальное просто. Можно было год за годом, пункт за пунктом разоблачать совок — и вдруг оказалось, что можно разделаться с ним одним махом, сочинив удивительно смешную утопию с плохим концом, легким движением пера не допустив наступающую Красную Армию на последний плацдарм Белых (если чуда нет, его приходится выдумать — ну просто взял Сиваш и не замерз — всего и делов-то!) и изобразив нашу страну, какой она могла быть, если вычесть из мирозданья ненавистный совок.
И как же мы любили эту подаренную нам несуществующую родину, где все были свободны, веселы, счастливы — и были такими (похожими на нас дураками-идеалистами), что сами своими руками отдали свой обманом добытый у истории рай. Военно-патриотический праздник «Весна»… Даже сейчас вспомнишь, и до боли обидно — ведь как могло быть хорошо (теперь-то мы ученые, знаем, что в одну реку нельзя войти дважды). Но было там, в обидном печальном финале, еще одно маленькое чудо — когда советские летчики, получив приказ дать залп по лодочке, на которой пытались спастись от тяжелых объятий большой и страшной родины непокорные граждане республики Крым, взяли да выстрелили мимо. Ну не в людей же стрелять, спокойно объяснил придуманный Аксеновым персонаж, и в русской литературе занялась новая заря гуманизма…
Между прочим (но это, конечно, факт уже моей сугубо личной биографии), именно по поводу «Острова Крым» я написала свою первую критическую статью. Очень уж меня проняло, значит. Хотела было посмотреть, что я там тогда написала, искала-искала ту старенькую тетрадочку, так и не нашла. Жалко…
Виктор Есипов[205]
«В край недоступных Фудзиям…»[206]
С Василием Аксеновым я познакомился летом 1980 года в Малеевке у Гали Балтер. Ну, не совсем в Малеевке, а в деревне Вертошино, что находится рядом с бывшим писательским домом отдыха. В этой деревне в начале 1970-х Галя и ее второй муж Борис Балтер, автор замечательной повести «До свидания, мальчики», построили дом, который повидал в своих бревенчатых стенах множество поэтов, писателей, художников, композиторов и просто хороших людей, друживших с Балтерами. Василий вместе с Майей, уже ставшей к тому времени его женой, приехали к Гале проститься перед отъездом за границу. Они уезжали с советскими паспортами, но было ясно — это очень надолго, если не навсегда. Накануне Олимпиады власти старались очистить Москву от нежелательных элементов, в категорию которых, помимо уголовников и проституток, включались за свое инакомыслие такие известные и весьма уважаемые граждане, как Александр Солженицын, Василий Аксенов, Владимир Войнович.
Между тем настроение у Аксеновых было вполне приличным (во всяком случае, при взгляде со стороны), разговор оживленным, застолье достаточно по тем временам обильным. Я тоже присутствовал за тем столом, но запомнилось немного. Василий восхищался каким-то дальневосточным капитаном рыболовецкого сейнера: «Представляете, — смаковал он, — на лету поймал за ножку пущенный в него стул, когда в ресторане завязалась драка!»… Запомнилось, что Вася и Майя были молоды и красивы и очень подходили друг другу, а на дворе стояло лето и уже зацветала липа.
Следующая моя встреча с ними произошла ровно через девять лет в Париже — кто бы мог подумать в 80-м, что Союзу «нерушимому» (как пелось в советско-михалковском гимне) оставалось так мало! Мы с моей женой Ирой, дочерью Гали Балтер, впервые выехали за границу по приглашению — перестройка уже давала о себе знать. Жили в центре, у Марсова поля и Эйфелевой башни, у Ириных подруг детства, замечательных сестричек Сони и Флоранс. Они познакомились с Ирой много лет назад путем, как это сформулировано в названии одной из ранних повестей Владимира Войновича, «взаимной переписки». Такие игры допускались в советское время: девочки из московской школы переписывались с парижскими школьницами. Потом парижанки однажды приехали в Москву, знакомство закрепилось и протянулось через всю жизнь. К тому же Соня и Флоранс унаследовали от отца любовь к России и неплохо усвоили русский язык.
Мы жили непосредственно у Сони на улице Федерасьон, но бывали и у Флоранс чуть ли не ежедневно, она жила в соседнем квартале на улице генерала де Лармината. В то же время, в июле 1989, в Париже были и Аксеновы, и Майя посчитала своим долгом опекать нас. В частности, справедливо полагая, что у советских граждан материальные возможности весьма ограничены (меняли по 170 рублей на нос), несколько раз водила нас в ресторан, например, в «Дары моря». Там подали каждому какое-то громадное металлическое двухъярусное блюдо, заполненное всяческими моллюсками, в том числе известными мне по русской литературе устрицами. На верхнем ярусе красовался доселе не виданный мною настоящий ярко-красный омар. Съесть все это было невозможно, Ира быстро сдалась, а я еще долго продолжал мужественно поглощать моллюсков…
Бывали мы и у Аксеновых: они остановились у их парижской подруги, известной переводчицы русской литературы Лили Дени[207] на бульваре Пастер. Из окон ее квартиры видна была эстакада с пробегающими по ней в обе стороны поездами парижского метро. Однажды Ира сопровождала Майю к ветеринару: аксеновский спаниель Ушик недавно захромал, и Майя решила выяснить, в чем дело, но не знала французского. Ира выполнила роль переводчицы. Результаты были неутешительны: у аксеновского питомца выявили перелом задней лапы, который в те годы не подлежал лечению. Майя была очень расстроена тем, что их любимец обречен. Вася отсутствовал: была какая-то конференция в Европе, кажется в Швеции. Мы увиделись лишь перед отъездом, и потом он провожал нас вместе с Майей: в машине, взятой напрокат, подвез до Северного вокзала, откуда уходил поезд в Москву. У самого вокзала он совершил какой-то не очень ловкий маневр, чем вызвал возмущение ехавшего сзади француза. Француз просигналил на полную мощь и промчался мимо. От этих проводов осталась надпись на титульном листе нью-йоркского издания книги «В поисках грустного бэби» (1987): «Ире и Вите, Gare Du Nord, все ищем Г.Б. Привет Москве».
В Москве Аксеновы начали появляться вскоре. Первый раз мы были у них в гостинице «Минск» на улице Горького, там в их номере была постоянная суета и столпотворение. В то же время был вечер Аксенова в Доме архитектора (в ЦДЛ, видимо, было еще нельзя), запомнившийся своей очень домашней, искренней атмосферой. Я в первый раз обратил внимание на то, как естественно и просто он держится на публике.
В августе 1991-го, во время путча, Василия в Москве не было, Майя была одна. Она остановилась у Войновичей в Астраханском переулке — им квартира недавно была выделена новыми властями взамен отобранной после отъезда в эмиграцию. За событиями, происходившими в ночь на 21 августа, Майя следила с балкона дома на углу Садовой и Нового Арбата, где до сих пор живет ее младшая сестра. 22-го вечером мы с Ирой, отоспавшись после бессонной ночи, которую провели в толпе у Белого дома, поехали к ней, в Астраханский переулок, праздновать победу. Квартира оказалась прекрасной планировки и очень большая. Войновичей не было в России. Мы с Майей обсуждали происшедшее, пили вино, восхищались Ельциным, радовались падению коммунистической диктатуры…
В следующий приезд из Америки Майе вернули квартиру в сталинской высотке на Котельнической набережной взамен отнятой во время их с Василием отсутствия в стране. Та квартира досталась ей в наследство после смерти предыдущего мужа, известного советского кинодокументалиста Романа Кармена. Новую дали в том же доме в соседнем подъезде.
А в августе 1996-го мы поселились в 15–20 минутах пешего хода от их дома, в Лялине переулке, вблизи Покровки. Квартира, бывшая коммуналка, требовала ремонта. Мы не располагали особенными деньгами, поэтому ремонт включал в себя лишь самые необходимые работы и длился около месяца. Весь этот месяц ночевали у Майи — это было ее предложение, от которого мы не смогли отказаться. Майя теперь не расставалась с пекинесообразным песиком, которого они с Васей купили с рук на Арбате в один из приездов в Москву. В профиль щеночек якобы напоминал Пушкина, за что и удостоился столь почетного имени. Василий утверждал, что их Пушкин ведет свою родословную от тибетских терьеров, что эти маленькие собачки несут охрану буддийских монастырей, прогуливаясь по высоким стенам обители, а заметив что-то подозрительное, поднимают отчаянный лай, чем привлекают внимание здоровенных мастифов, несущих охрану монастырских стен внизу, на земле…
С этого времени началось постоянное общение с Аксеновыми: мы часто бывали у них, посещали Васины вечера, участвовали в домашних торжествах. Пришедших всегда бывало больше, чем можно было бы усадить за стол. Поэтому Майя устраивала фуршеты. Среди гостей неизменно присутствовали Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Александр Кабаков, Евгений Попов, Светлана Васильева, Таня Бек, Алексей и Ляля Козловы…
Сквозь толщу лет вижу здесь и ненадолго прилетевшего из Америки Майиного внука Ивана, широкоплечего обаятельного великана, увлеченно разговаривающего с дочерью Беллы Ахмадулиной Лизой. Это было его последнее посещение Москвы. В 1999 году случилась беда, от которой Майе никогда уже не суждено было оправиться: Иван то ли упал с крыши, то ли выпал из окна дома, в котором жил в Америке. Свидетелей не оказалось, что с ним произошло, осталось невыясненным.
На следующий год в издательстве «Изограф», где печатались тогда аксеновские романы, удалось выпустить книгу стихотворений Ивана (Иван Трунин «Буря сознания», М., 2000). Она открывалась Васиным воспоминанием о нем «Иван» и начиналась следующей фразой: «Летом 1988 года подобралась неплохая компания на острове Шелтер у побережья штата Нью-Йорк: Нисневичи Лев и Тамара, Эрик Неизвестный, Вася Аксенов, его спаниель Ушик, жена Васи Майя и ее внук, калифорниец Иван Трунин».
Переводы стихов (Иван писал на английском) выполнили студенты Литинститута из семинара Тани Бек, сама Таня, Михаил Генделев, Анатолий Найман, четыре стихотворения перевел я. Один мой перевод, о чем я узнал только через восемь лет, очень понравился матери Ивана Алене:
ХОТ-ДОГ
Пунктуация? Иван принципиально избегал знаков препинания, полагая, видимо, что фразы в стихах отделяются одна от другой (как и отдельные выкрики или словесные жесты) интонационно.
По случаю выхода книги осенью в Доме художника на Крымской набережной был устроен вечер его памяти. Помню Беллу Ахмадулину с Борисом Мессерером, Андрея Вознесенского с Зоей Богуславской, Михаила Генделева, Васю с Майей. Читали стихи Ивана, вспоминали автора, Алексей Козлов со своими ребятами играл джаз.
Осенью 2001 года вышла новая книга Аксенова «Кесарево свечение», которую он потом неизменно, с каким-то внутренним вызовом называл лучшей своей вещью. Я, к сожалению, не мог разделить с ним этой его убежденности, но никогда не сказал ему об этом: не отважился. Презентация проходила в Доме журналиста на Суворовском бульваре. Среди приглашенных запомнился Константин Боровой — фигура, весьма известная тогда и в мире бизнеса, и на политических подмостках. Василий читал отрывки из книги, отвечал на вопросы. Потом на него роем набросились журналисты, а публика отправилась на фуршет в соседнее помещение, где стол был густо уставлен закусками и выпивкой.
На подаренной нам книге автограф Василия без даты:
«Ирочке, Вите, Мише и Тилю от Васи, Майи и Пушкина.
В. Аксенов».
Миша — это наш сын, а Тиль — красавец зенненхунд, к тому же еще разноглазый: один глаз у него в нарушение генетики был голубой, что приводило в восторг знакомых. Тогда ему было два года…
В начале 2003 г. Василий предложил нам с Ирой вести его дела с издательствами — его литературный агент Тамара Васильевна стала его чем-то раздражать, что-то у них не сложилось. Ира поначалу хотела отказаться, считая, что деловые отношения с близкими людьми ни к чему хорошему не приводят, но в конце концов мы приняли предложение Василия. Он объяснял нам, что дел будет немного, что большинство его книг выходит в издательстве «Изограф», что директор издательства С.А. хороший парень. В завершение разговоров передал папку с договорами за предыдущие годы. К этому времени, по настоянию Василия, мы уже перешли с ним на ты и я называл его по имени.
Все переговоры поначалу вела Ира, потому что я днем был на работе. Переговоры, собственно, на первых порах заключались в том, что «хороший парень» С.А. в течение года не мог отдать небольшую сумму, которую задолжал от предыдущих изданий. Когда я возмущенно советовал Ире говорить с ним строже, она возражала, что не может так, потому что С.А., мол, ведет себя очень интеллигентно, каждый раз очень извиняется и обещает отдать долг в ближайший месяц, затем — в следующий месяц, затем — еще раз те же обещания…
Разумеется, мы стали бывать у Аксеновых еще чаще. Ходили пешком: через Казарменный переулок на Покровский бульвар, потом на Яузский бульвар, потом через Яузскую площадь. Однажды, когда уходили домой, Вася вышел с нами. На мосту через Яузу его узнал незнакомый парень-прохожий, остановил нас каким-то приветствием и попросил автограф. Но книги у него не было — он шел с концерта какой-то певицы. Поэтому он попросил Василия оставить подпись на программке концерта, где уже имелся автограф певицы. Получив желаемое, стал приглашать нас посидеть где-нибудь и «выпить по маленькой». Конечно, его приглашение не было принято, а после его ухода я сказал Васе пушкинское (из письма Наталье Николаевне): «Это слава!».
Первая аксеновская рукопись, которую он предложил мне прочесть до сдачи в издательство, была книга «Десятилетие клеветы», в которой были собраны все его выступления на американском отделении «Радио Свобода» во время эмиграции. Эти его выступления, конечно, расценивались в Советском Союзе как клеветнические. Отсюда и заглавие! Открывалась книга описанием встречи в Вашингтоне с очень известным советским литератором, бывшим близким товарищем, который был назван «Игреком». Шикарно одетый «Игрек», ввалившийся в дом Аксеновых около полуночи, устроил хозяину разнос за то, что он, Аксенов, отправился в эмиграцию, бросив друзей, наплевав на судьбу родины и т. п. Как признается Аксенов на этих страницах, он один из всей эмиграции не верил до этого момента в слух о том, что «Игрек» сотрудничает с ГБ. Но после этой встречи поверил. Такова суть эпизода, на котором я сейчас остановил внимание. Я не сразу понял, кто стоит за обозначением «Игрек». Спросил, Василий удивился моей недогадливости, но отказался назвать имя: «Он поймет!», — ответил с суровой усмешкой. Правда, через некоторое время сообщил мне, что решил назвать своего приятеля «Игреком Игрековичем»: «Так будет понятнее», — пояснил он. Я к тому времени уже догадался, о ком идет речь, и сказал об этом. Василию не удалось скрыть довольной улыбки, он попытался было что-то возразить, но очень вяло.
В 2003 году мы с Ирой по очереди побывали у Аксеновых в Биаррице, где они обосновались года за два до этого. Ира посетила их летом, я в конце сентября. Вместе уехать из дома мы не могли, потому что, кроме сына (к тому времени уже достаточно взрослого и в летнее время, как правило, дома отсутствовавшего), у нас ведь был еще зенненхунд Тиль, ощущавший долгое (в течение дня) отсутствие хозяев как трагедию. Поэтому об отъезде вдвоем на неделю и больше не могло быть речи.
Ира вернулась в восторге от Биаррица и с массой фотографий. Она пробыла в Биаррице дней восемь. Уезжала в Париж вместе с Аксеновыми. Встречалась с ними и в Париже. В частности, есть фотография, сделанная ею в одном из парижских ресторанов, на которой за столиком запечатлены четверо: Василий с Майей и Анатолий Гладилин со своей женой Машей.
Вслед за Ирой через какое-то время отправился я. Несколько дней провел в Париже у Ириных подруг, а потом с вокзала Монпарнас скоростным поездом уехал на юг, к Аксеновым. В поезде, рассекающем сельские просторы Иль-де-Франса, сразу же стало холодно от ледяного ветра, исторгаемого кондиционерами, пришлось достать из чемодана куртку. А через четыре с половиной часа на перроне ослепительно солнечного и знойного Биаррица меня встречал Василий. Мы обнялись, спустились к машине, и он повез меня на виллу Argol Ederra. Это их довольно скромный одноэтажный (но, правда, с подземным гаражом) дом. Здесь все дома называются виллами и имеют замысловатые для приехавшего из России названия, которые красуются на специальных табличках, установленных у входа во владение.
Дом стоял в середине участка, поднимающегося от улицы вверх, к нему вела вымощенная плитками дорожка. Вокруг произрастали декоративные и плодовые деревья, за которыми, как я потом узнал, ухаживал кто-то из местных жителей…
Жара была неожиданна для конца сентября. Вася и Майя вспоминали минувшее лето, когда Майя вынуждена была из-за отсутствия кондиционера скрываться от зноя в подвальном помещении.
Большую часть дома занимала просторная комната: холл-гостиная-кухня. Имелись, впрочем, какие-то перегородки (видимо, сохранившиеся от прежней планировки), но не сплошные. Телефон висел на стене, под ним кресло — радиотелефона не было. Рядом с телефоном — написанный карандашом список номеров, по-видимому, наиболее употребляемых московских телефонов (всего шесть — восемь). Мне польстило, что наш с Ирой номер был одним из первых (кажется, на втором месте), рядом с номером Поповых. Еще там были номера Алексея (сына от первого брака), Вознесенского и Богуславской…
Наскоро перекусив (обедали Аксеновы на французский манер позднее, в 7–8 вечера), мы с Васей отправились на океан, где он совершал вечернюю пробежку по берегу и одновременно выгуливал Пушкина. С высокого берега, где он припарковал машину, хорошо видны были прибрежные скалы, напоминавшие скалы в Бель-Иле на известном пейзаже Моне. Золотистая рябь на воде от неторопливо снижающегося солнца уходила к горизонту, чуть слепя глаза. Впереди передо мной, насколько видел глаз, простирался его величество Океан, слева в знойном мареве проступали отроги Пиренеев — там была Испания. Иру Василий возил на машине в ближайший испанский городок Ирук, но мое пребывание в Биаррице было слишком кратко-временным, чтобы совершить такое путешествие.
Я пробыл у Аксеновых четыре дня. Осмотрел все городские достопримечательности, в том числе маяк и православный собор. В подвале городского костела проходила выставка европейского офорта. В стеклянном здании биржи экспонировалась живопись, встретилось несколько русских имен начала ХХ века.
Обедали Аксеновы в саду, за домом. Там стоял стол и несколько плетеных кресел. Еще утром Майя купила в рыбном магазинчике рыбу соль — местную разновидность палтуса (я ходил с нею, она представила меня хозяину, отпускавшему рыбу, как друга семьи). Теперь можно было попробовать эту соль на вкус. Мы пригубили бокалы с замечательным бордо, и тут между супругами вышла небольшая размолвка. Заявив, что рыба мало поджарилась, Вася демонстративно отодвинул от себя тарелку. Майя была возмущена необоснованным, по ее мнению, обвинением. Оба супруга воззвали ко мне как к беспристрастному арбитру. Но что я мог сказать! Я впервые попробовал рыбу соль и, не считая возможным судить о достоинствах ее приготовления, призывал хозяев к примирению. Но куда там! Майя послала Василия в соответствующее место, а Василий демонстративно унес свою тарелку к плите и выложил рыбу на сковороду. Через несколько минут он вернулся за стол очень довольный собой и продолжил трапезу. Инцидент был исчерпан столь же быстро, как и возник.
В последний вечер Аксеновы пригласили меня в ресторан. Это был открытый ресторан на главной городской площади. Пушкин был с нами — его поводок Василий закрепил за спинку своего кресла. Я хотел сфотографировать Майю и Васю вместе, но Майя не разрешила — она уже несколько лет избегала публичных мероприятий и не хотела фотографироваться. Такова была ее реакция на необратимые возрастные изменения во внешности, ведь она всегда считалась в московской художественной тусовке неотразимой красавицей. Я сфотографировал Васю с Пушкиным в кругу света от фонаря на брусчатке площади.
А с нашим псом Василий познакомился случайно. Я гулял с Тилем на Чистопрудном бульваре по недавно выпавшему еще незапятнанному снежку. И вдруг его кто-то громко окликнул с параллельной дорожки. Я узнал бегущего Васю: в темно-синем свитере, в лыжной вязаной шапочке, в кроссовках. Он только что прилетел из Биаррица. С Тилем он был знаком заочно, по нашим с Ирой многочисленным рассказам. Он очень любил разговоры о собаках и самих собак, какой бы масти или породы они ни были! Вася издали увидел его и узнал. Тиль был удивлен тем, что его окликнул незнакомец.
Какое-то время мы шли вместе, обмениваясь вопросами, неизбежными при встрече после трехмесячной разлуки. Потом Василий побежал назад на Котельническую набережную, условившись, что мы с Ирой зайдем к ним попозже.
А в дарственной надписи на книге «Десятилетие клеветы», которая выйдет в конце года, Василий не забудет упомянуть о нашем псе: «Ире и Вите для воспитания Тиля в духе либерализма. Ваш Вася. 22.10.04».
Василий привез новый роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» — пародийное отображение Екатерининской эпохи в истинно аксеновском стиле. Первыми читателями рукописи были мы с Ирой. Нужно было устраивать его публикацию.
Владелец издательства «Изограф» С.А., художник по профессии, обложку к новому роману Аксенова вызвался оформить сам. Прислал по электронной почте свой эскиз, центральную часть которого занимали обнаженные женские груди, их было три. Видимо, следовало воспринимать это как метафору свободы нравов в эпоху энциклопедистов.
Василий в это время находился уже вновь в Биаррице. Там он работал последние годы. А в Москву приезжал, чтобы отдохнуть, встретиться с друзьями и многочисленными знакомыми, покрутиться в столичном водовороте. Я с опаской передал ему эскиз обложки по электронной почте и на следующий день получил возмущенный звонок по телефону. Возмущался он, слава Богу, не мною, а эскизом, просил немедленно потребовать от С.А. убрать эти «сиськи», прислать другой вариант обложки. Вскоре был прислан новый эскиз, стилизованный под Ватто, выполненный другим художником. Эта обложка нам с Ирой очень понравилась, одобрил ее и Василий.
Сначала роман был напечатан в журнале «Октябрь», а затем вышел книгой. Он был представлен на Букеровскую премию, присуждаемую в России, успешно прошел все отборочные этапы конкурса и в конце года эту премию получил.
В том же (2004) году по второму каналу телевидения выпустили в эфир телесериал (двадцать с лишним серий) по «Московской саге», написанной еще в Америке. К этому событию была приурочена массированная допечатка романа. Шаг оказался коммерчески верным. Книга расходилась стремительно. И тут «интеллигентный» С.А., вместо того чтобы передавать автору поступающие от продажи деньги, решил запустить на эти средства какой-то собственный, весьма сомнительный в коммерческом отношении проект.
На все мои все более резкие требования отдавать деньги он отделывался невнятными отговорками. Я по-дружески объяснял ему, что такими суммами не шутят, что, истратив их сейчас, он потом никогда не сможет расплатиться, но все было тщетно. И тут, видимо почуяв неладное, в дело вмешался топ-менеджер издательства «Эксмо» (оно, собственно, и печатало книгу) Леонид Шкурович.
Здесь необходимо пояснить, что С.А. только заключал договор с писателем Аксеновым и осуществлял косметическую редактуру, а затем передавал книгу в «Эксмо», крупнейшее отечественное издательство. Все остальные вопросы — финансирование, отношения с типографией, определение тиража, организацию рекламы, а самое главное, распространение книги, осуществляло «Эксмо». После выхода книги в свет С.А. получал какую-то часть тиража для распространения в свою пользу. Авторский же гонорар Аксенова начислялся тоже в «Эксмо», и С.А. должен был только передавать полученные для автора деньги, но после первой же выплаты перестал это делать.
Шкурович позвонил Василию и предложил получать деньги не через С.А., а непосредственно в издательстве. Его предложение было с благодарностью принято нами. Я произвел с Леонидом сверку платежей, и оказалось, что за С.А. уже числилась довольно значительная сумма. Леонид без колебаний принял долг на себя, объяснив это тем, что издательство не может рисковать репутацией, особенно при расчете с таким автором, как Аксенов. На этом наши отношения с С.А. и его «Изографом» прекратились навсегда. А тираж «Московской саги» в издательстве «Эксмо» превысил 250 тысяч экземпляров.
2005 год Василий встречал во Франции. Он начинал новый роман «Москва-ква-ква». Майя оставалась одна. 6 января, как значится в моих записях, мы с Ирой заходили к ней. Пили красное вино. Сравнивали французское бордо и грузинское телиани. Мнения разошлись. Потому, возможно, что выпито было слишком много.
Год оказался щедрым на утраты. Первой была Татьяна Бек. Во вторник 8 февраля утром позвонил Вася (он уже вернулся в Москву) и сообщил о ее смерти. Возмущался Рейном и Синельниковым, которые по очереди звонили ей по телефону и хамили. Лексику использовали исключительно матерную. Так они мстили ей за то, что она где-то в печати осудила их намерение переводить на русский язык «большого поэта» Туркменбаши Ниязова. По его распоряжениям в те годы бросали в тюрьмы и убивали всех, кто осмеливался составлять оппозицию его власти в Туркмении. Но нашим поэтам хотелось заработать большие деньги (по их интерпретации, «на хлеб и на кефир»), и они были возмущены, что давняя приятельница смеет осуждать их за это.
По версии семьи, Таня умерла от сердечного приступа, вызванного одновременным действием алкоголя и психотропных средств. До этого она долго болела, лежала дома с переломом ноги. Я говорил с нею по телефону в 20-х числах января. Она вкратце рассказала мне о конфликте с Рейном. Я спросил: «Что же думают по этому поводу студенты?» — они с Рейном вели один семинар в Литинституте. «Студенты говорят, что он стебается», — ответила она. Я не заметил никакого надлома, надрыва. А она, видимо, нуждалась в поддержке, но не подала виду.
Похороны были 10 февраля. А на 11-е у Войновича был назначен творческий вечер в ЦДЛ, который он целиком посвятил памяти Тани. Василий был на вечере. Мы с Ирой вышли с вечера вместе с ним. Он взял такси, довез нас до Казарменного переулка и поехал дальше.
5 апреля была встреча со Шкуровичем в кафе «Персона» на первом этаже высотки. Василий рассказал о недавней встрече президентов Путина и Ширака с писателями в Елисейском дворце. Путин издали поглядел на него «не очень хорошо». А при знакомстве с писателями обнял Гранина, каждому что-то говорил, а ему молча сунул руку и пошел дальше, даже не поздравив с французским орденом, только что полученным. Здесь уместно заметить, что единственная государственная награда, которой был удостоен за свою долгую творческую жизнь известный русский писатель Аксенов, — и та оказалась французской!
Я еще успел на презентацию итоговой книги Чухонцева в кафе Bilingva в Кривоколенном переулке. Купил книгу, подошел к Олегу, он написал:
«Дорогому Виктору — с любовью.
О. Чухонцев.
5.04.05.
P.S. А Ирине — привет и восхищение!».
30 апреля Василий, Ира и я ходили в старую Третьяковку на выставку Шагала. Василия в наибольший восторг привела работа 1918 года, где Шагал на плечах у Беллы и закрывает ей рукой глаза. «Гениально!» — повторял он.
Рассказал о встрече с Шагалом в Вансе, где Аксенов был вместе со своей матерью Евгенией Семеновной Гинзбург, автором знаменитого «Крутого маршрута». Шагал встретил его вопросом: «Аксенов? Вы из окружения Маяковского?». Мэтр, видимо, не успел сообразить, что по возрасту Василий никак не мог встречаться с Маяковским.
Еще Василий рассказал, как во время приезда Шагала в СССР Фурцева[208] (министр культуры в те годы) все приставала к нему с вопросом:
— Марк Захарович! Ну зачем же вы уехали из России?
А мэтр отвечал:
— Я искал одну красочку!
— Неужели в России не было такой? — удивлялась она.
— Не было, не было! — отвечал Шагал.
А Василию, с которым был уже знаком, пояснил потом:
— Я ей не сказал, что эта красочка — свобода!..
После выставки Василий пригласил нас зайти в кафе, тут же в Лаврушинском. Рассказывал о каком-то совещании молодых писателей в 60-е годы: жили в палатках, утром выходили на построение, как пионеры, и т. д. Смеялся.
3 мая Аксеновы улетели в Биарриц. Майя оставалась там до осени, а Василий вернулся в середине июня. Ему нужно было получать российский паспорт. Сотрудница домоуправления Высотки Татьяна Ярославовна подготовила к его приезду выписку из лицевого счета Майиной квартиры и еще какие-то бумаги, с которыми Василий отправился к участковому за получением разрешения на регистрацию в этом доме. От участкового — опять к Татьяне Ярославовне для регистрации. Потом нужно было сдать все эти бумаги в отделение милиции на оформление паспорта. К моему удивлению, Василий совсем не роптал, смиренно высиживал в очереди положенное время. «Я общаюсь с народом», — с некоторой торжественностью отвечал он в ответ на мое сочувствие. 5 июля он получил наконец российский паспорт. Паспортист был очень любезен и, как оказалось, даже читал что-то аксеновское.
Осенью 2005 года в издательстве «Вагриус» вышла книга «Зеница ока». Идея книги принадлежала ее редактору Елене Шубиной. Она предложила сложить вместе публикации в «Московских новостях» и в «Огоньке» (так получился раздел публицистики), добавить десяток рассказов (второй раздел книги) и завершить книгу несколькими наиболее интересными интервью. Название одного из рассказов стало названием книги. Первая редакция этого рассказа возникла лет сорок назад, а в окончательном виде он только что был напечатан Александром Кабаковым в журнале «Новый очевидец».
Согласования и переговоры с «Вагриусом» велись мною. Было решено включить в книгу фотографии. Но у Василия под рукой никаких фотографий не оказалось. Он объяснял это тем, что все материалы разбросаны по трем домам: в Москве, во Франции (Биарриц) и в Штатах (Шантилли, Вирджиния). Часть фотографий дал я, в том числе сделанные Ирой и мною в Биаррице. Часть предоставил сын Василия Алексей. Другую часть Шубина раздобыла у знакомых журналистов. Я уговорил Василия сделать авторские подписи под каждым фото. Получилось неплохо, он сам был доволен.
Своим большим достижением считаю публикацию рассказа «Логово льва». Дело в том, что первоначально он входил в раздел публицистики. Но удалось убедить Василия, что это настоящий рассказ и печатать этот текст нужно вместе с другими рассказами.
К сожалению, книга вышла уже после смерти Иры.
Даря ее мне, Василий написал:
«Вите — в эти горькие, и для него и для нас, дни. Мужайся!
05.10.05.
В. Аксенов».
Презентация «Зеницы ока» прошла 22 сентября в одном из залов клуба «Петрович»[209] на Мясницкой. Лена Шубина, открывая вечер, помимо прочего, поблагодарила меня за сотрудничество с издательством. Василий рассказывал о том, как возник замысел этой книги, а также о других книгах публицистики: «Десятилетии клеветы» и «Американской кириллице».
Выступали Мариэтта Чудакова, Борис Мессерер, Виктор Славкин…
Бенедикт Сарнов рассказал, как однажды оказался в одной компании с Аксеновым на 7 ноября. День был пасмурный, моросил дождь. Вася, как вспоминал Бен, подошел к окну, посмотрел и сказал: «А демонстрация-то у большевиков не получилась!». И тем самым сразу вызвал у него симпатию…
После выступления Сарнова, в тон ему, Василий вспомнил, как, будучи молодым, зашел в ресторан ЦДЛ и оказался в компании Ярослава Смелякова, Павла Нилина и Сергея Маркова. Они пригласили его сесть за их столик. Обращались к нему по имени-отчеству, уважительно, но с некоторой долей иронии. Слово за слово, речь зашла о событиях, кажется, в Греции, где коммунисты могли захватить власть, но что-то сорвалось. На что Василий бросил необдуманную реплику: «Я думаю, такая опасность еще сохраняется». Мэтры переглянулись, после чего за столом наступила напряженная тишина… «Больше они меня никогда в свою компанию не приглашали», — закончил Василий.
Потом был небольшой банкет, к Васе постоянно подсаживались знакомые. Довольно долго общались с ним Белла Ахмадулина и Борис Мессерер. Белла была в хорошем расположении духа. Шутливо грозя пальчиком Василию, все повторяла, смеясь: «Ты же ведь парнишка о-зор-ной!». Домой я уходил вместе с ним. У входа задержались минут на пять с Александ-ром Чудаковым — Мариэтта ушла раньше. Он что-то с жаром рассказывал. Потом попрощался и пошел к метро.
А мы прошли к Чистопрудному бульвару — там Вася припарковал машину, недавно купленный красный «Форд Фокус». Он довез меня, как обычно, до Казарменного переулка. А вскоре мне позвонила приятельница и сообщила, что с Чудаковым несчастье: ему проломили голову в подъезде.
Обстоятельства смерти Александра Павловича выясняла милиция. Из-за этого похороны были перенесены на 2 октября. На отпевании в храме Козьмы и Дамиана я был вместе с Василием. Служил Александр Борисов. Народу было много. Много знакомых лиц: Бочаров, Сурат, Немзер, Михайлова, Роднянская, Войнович, Чухонцев, который сказал мне пару слов соболезнования по поводу смерти Иры, когда мы столкнулись в траурной толпе. Мариэтта стояла у гроба. К ней все подходили перед прощанием. Она все никак не могла поверить в случившееся.
Из церкви я вышел вместе с Василием и Войновичем. Вася предложил довезти Володю до метро «Аэропорт», где тогда жил Войнович, и они уехали.
3 октября подписали договор с «Эксмо» на издание «Москва-ква-ква». Шкурович прочел роман очень быстро и горел желанием скорее его напечатать.
5 октября был вечер в Агентстве по печати у Сеславинского[210]. Туда нас с Василием доставили на служебной машине. Ему с опозданием, в неформальной, так сказать, обстановке вручали приз конкурса «Большая книга» (во время официальных мероприятий в сентябре Василий отсутствовал). Там я познакомился с Анатолием Найманом, вернее, нас познакомила Шубина. «Так вы и есть Есипов, которого так хвалила Лена на презентации «Зеницы ока»», — сказал он, улыбаясь и пожимая мне руку.
Михаил Сеславинский сказал Василию несколько приветственных слов, потом выступил Владимир Григорьев[211]. Аксенов читал отрывок из романа «Москва-ква-ква» (он уже был принят в издательстве «Эксмо»). После небольшого фуршета Григорьев пригласил его домой на ужин. Вася предложил мне и Найману поехать с ним.
В отделанной по современным стандартам квартире Григорьева (конечно, с евроремонтом) нас ожидали его близкие друзья и домочадцы. Видно было, что приезд к ним Василия Аксенова — для них событие! Главным блюдом были мидии, которые готовились и беспрестанно подавались на стол прямо с огня кем-то из друзей дома. За столом оказалось человек пятнадцать. Василий одну за другой рассказывал смешные истории из своей прошлой жизни: и в Союзе, и в Америке. Анатолий Найман старался не отставать от него. Со стороны хозяев молодая, уверенная в себе женщина вспоминала о детстве: о контрасте, в том числе лексическом, между домом и улицей, который ощущала девочка из интеллигентной семьи. В частности, как наигравшись во дворе, она дома пыталась выяснить смысл некоторых только что услышанных непонятных для нее слов — дома так почему-то никогда не говорили! И до сих пор помнит ужас родителей…
На дорогу домой нам снова была предоставлена машина с шофером: сначала отвезли Василия, в Котельники, потом машина пошла назад — я вышел у Казарменного переулка, а Анатолия водитель повез в Тимирязевку, мою малую родину, как я успел сообщить Найману.
23 октября заходил к Аксеновым в конце дня. Василий собирался в Дом музыки на юбилейный вечер своего ближайшего друга, саксофониста Алексея Козлова. Прочел мне для одобрения приветственные стихи, которые написал Алексею: «Ты ведь поэт», — бросил он.
Потом почему-то вспомнил, что в день высылки Солженицына находился в компании собратьев по перу на черноморском теплоходе «Россия». В гостях у капитана Гарагули, известного друга всех советских писателей. Высылка Солженицына, конечно, стала предметом обсуждения компании. Солженицына стали осуждать за упертость, за непримиримость. Василий ответил им на это: «Мы все г— по сравнению с ним». Тогда к нему подошел некто, бывший агент КГБ в Штатах, «крот» (был даже одно время американским послом в Ватикане): «Вы правда так считаете?». Удивлялся Васиной прямоте, спрашивал о Солженицыне. «Крот» еще плохо ориентировался в отечественных реалиях — недавно возвратился на родину.
Я рассказал в связи с этим, как Марианна Строева (слышал когда-то ее рассказ у Гали Балтер), тогда же встречая Новый год у Ерофеевых (дружила с матерью ныне широко известного Виктора), предложила тост за Солженицына. И вдруг по напряженной тишине, воцарившейся за праздничным столом, поняла, что шокировала собравшихся.
Той же осенью 2005-го или в начале зимы была встреча с читателями в ОГИ[212] («Улица ОГИ») на Петровке. Мы приехали вместе — Вася подхватил меня в свой красный «Форд» на Казарменном. Зал небольшой. Он прочел что-то из «Зеницы ока». Потом начались ответы на вопросы. Чуть впереди, справа от меня красивая девушка азиатского типа что-то тщательно записывала в блокнот. Я подумал, наверное, бурятка. После окончания вечера значительная часть присутствующих устремилась к Васе за автографами. Я подошел попрощаться, но он попросил подождать его.
Я встал позади толпы, сгрудившейся вокруг него. Рядом стояла та девушка.
— Вы из какой газеты? — спросил я.
— Я из Америки, — невинно ответила она на чистом русском языке.
Университетская преподавательница русской литературы из Флориды, чистокровная японка по происхождению, Лиза Риоко Вакамия, оказывается, находилась в Москве в командировке. Мы познакомились. Потом я представил ее Васе как славистку, которая пишет о нем книгу. Сначала он обратился к ней на английском, потом они перешли на русский. Договорились, что я буду приглашать ее на все выступления Аксенова.
Лиза пробыла в Москве около полугода. Однажды она призналась мне вполне искренне, что Василий говорит по-английски лучше, чем она по-русски. Мы с ней часто встречались, и не только в связи с Аксеновым. Москва ей очень нравилась своим бурным ритмом жизни. По сравнению с Москвой ее родной Таллахасси (административный центр Флориды) представлялся ей захолустьем.
В 2005-м Аксенов возглавил жюри Российского Букера. Он сетовал на свою долю: пришлось прочесть около ста романов. В жюри ему сразу же составилась оппозиция в лице Аллы Марченко и Николая Кононова. Они все время солидарно голосовали против его предложений. К моменту определения победителя председатель жюри оказался в полном одиночестве. Все его члены проголосовали за малоизвестного Дениса Гуцко, даже отсутствовавший на последнем заседании жюри (как и на большинстве других заседаний) Владимир Спиваков письменно высказался в его пользу. «Как он мог узнать мнение остальных членов?» — удивлялся Василий. Их действия явно кто-то координировал. Я предложил спросить у Спивакова, но Василий только махнул рукой.
Имя победителя традиционно оглашается во время торжественного обеда. В том году все происходило 1 декабря в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской площади. При входе на нужный этаж меня попросили предъявить билет. Я ответил, что приглашен Аксеновым. Меня внесли в какой-то список и назвали номер стола (12), за котором буду обедать. В коридоре толпились приглашенные, попадались знакомые лица: писатель Леонид Юзефович, редактор из «Иностранной литературы» Наталья Богомолова, Ирина Роднянская и Владимир Губайловский из «Нового мира» (у меня как раз шла в журнале статья), бывшая одноклассница моего Миши — Маша Великанова, она оказалась членом жюри молодежного букера.
Потом всех пригласили занять свои места. Мой стол был далеко от того, за которым сидел Василий. Соседями оказались поэтесса Вера Павлова, две дамы из Вологды, одна из них — директор Вологодской областной библиотеки и два незнакомых мне немолодых мужчины в костюмах и при галстуках. Один из них начал торопливо разливать водку «Русский бриллиант». Как выяснилось позднее, когда все так или иначе познакомились, это был поэт Владимир Салимон, с которым мы когда-то, четверть века назад, вместе посещали поэтическую студию при горкоме комсомола (так, кажется, она называлась), а размещалась во Дворце культуры имени Горбунова в Филях. Иногда его стихи попадались мне на глаза. Несколько его энергичных строк я даже мог прочитать на память, например, «До свиданья, Анатолий Генатулин, //Будь здоров!» или вот эти: «Лес рубят, и щепки летят, // И лесом груженные баржи // В осеннее небо дымят, // Как бронемашины на марше…». Мы оба посетовали на то, что поначалу не узнали друг друга, и выпили очередную рюмку за встречу.
Горячее блюдо принесли как раз к началу пресс-конфе-ренции, на которой объявлялось имя победителя конкурса. Наш стол в полном составе пресс-конференцию проигнорировал, зато туда бросились журналисты. Как оказалось — на следующий день это освещалось в прессе во всех подробностях — там произошел скандал. Василий отказался объявлять имя победителя, мотивируя это тем, что не согласен с решением жюри. Его упросили, в конце концов, это сделать, но он был удовлетворен тем, что его демарш состоялся. Мне он рассказывал, что первую часть романа Гуцко прочел с интересом, но вторая его разочаровала. Поэтому он не мог проголосовать за него.
7 декабря присуждали премии фонда «Триумф», где Василий был членом жюри. Он рассказал, что по литературе «триумфатором» с его подачи стал Олег Чухонцев: «Вместо обоснования кандидатуры, я просто прочел его стих «Какою-то виной неизбавимой…» (он всегда говорил не стихотворение, а стих. — В.Е.). И все замолчали». Его предложение, как я потом случайно узнал, активно поддержал Андрей Битов…
С января до весны 2006 года Василий по выходным дням бегал в Нескучном саду. От своей высотки минут за десять доезжал по набережной до 1-й Фрунзенской, там парковал машину перед новым мостом через Москва-реку. По застекленному мосту уже бежал трусцой, потом спускался по лестнице и продолжал бег по набережной на другом берегу реки до метромоста. В будни такая поездка была невозможна из-за постоянных московских пробок. Поэтому он ездил в Нескучный только по субботам и воскресеньям.
В остальные дни бегал по бульварам, начиная с Яузского, а со временем, когда длинные пробежки стали его утомлять, освоил сквер Пограничников (там в центре памятник пограничникам), что находится неподалеку, на другом берегу Яузы, прямо напротив окон их квартиры. Если я звонил во время его утреннего отсутствия, Майя, сообщая, что Вася бегает, нередко добавляла: «Васька, наверное, хочет прожить до ста лет».
Несколько раз я ездил с ним в Нескучный сад и брал с собой Тиля. Мы встречались в Казарменном переулке. Как правило, он приезжал раньше меня. И я, торопливо пробегая по переулку, видел впереди справа, в самом начале Казарменного, красную Васину машину. Теперь проходя мимо этого места с собакой (уже другой!), невольно вспоминаю те наши утренние встречи.
Однажды погода была слякотная, но я, торопясь, чтобы не опоздать, забыл прихватить с собой тряпку для пса. А брюхо у Тиля было уже мокрое. Но Вася, к моему удивлению, не высказал никакого недовольства. «Ну, что ж делать!» — ответил он на мои сетования по этому поводу и распахнул заднюю дверь…
Спустившись с моста, мы с Тилем поднимались на близлежащие холмы и гуляли в парке отдельно от Василия, возвращаясь к мосту в условленное время. Правда, в первую поездку случилось недоразумение: то ли я пришел не на то место, то ли не в то время. В общем, мы не встретились. Я, забеспокоившись, побежал к Васиной машине на другой берег, но его и там не было. Потом вернулся обратно. А он в это время высматривал меня в парке. Когда мы встретились, Вася очень ругался, но не злобно, а как-то по-родственному. В следующие поездки он предложил двигаться вместе — его бег трусцой был уже не быстрей моей ходьбы. Тиля я спускал с поводка, и пес рыскал вокруг, выискивая в снегу новые запахи, то отставая, то опережая нас.
А Василий, не сбивая этим дыхания, постоянно что-нибудь рассказывал. Так, рассказал, что однажды в Штатах командир линкора предложил ему совершить морской переход из Америки в Европу на какие-то учения. Это, когда там вышла «Московская сага» на английском языке. И ее автор приобрел известность. Василий очень сожалел, что не смог принять приглашение: было бы много наблюдений изнутри над американской флотской жизнью.
Потом, также в связи с «Сагой», он удостоился приглашения в Пентагон от одного адмирала. Оказывается, в Пентагоне высшие должностные лица образовывали в те годы (а может быть, и сейчас) читательский кружок, где обсуждались последние прочитанные книги. Так, обсуждали «Московскую сагу». Жена адмирала оказалась поклонницей Аксенова. Она и посоветовала адмиралу пригласить русского автора на обед. На обеде в честь Василия присутствовал помощник (или советник) Билла Клинтона…
Когда речь заходила об убийстве Джона Кеннеди, Василий совершенно категорично утверждал, что это дело рук КГБ. И мотивировал это тем, что Ли Харви Освальд, вернувшийся из Советского Союза в Штаты незадолго до покушения, был советским агентом. И тем, что Хрущев ненавидел Кеннеди за то, что молодой американский президент заставил его вывезти советские ракеты с Кубы обратно в Советский Союз, чем и завершился Карибский кризис.
В одну из прогулок я восхитился Войновичем, его предвидением будущего: в романе «Москва 2042»[213] правителем новой России становится сотрудник спецслужбы, он в совершенстве владеет немецким языком и носит часы на правой руке.
— А что, у нынешнего разве часы на правой руке? — недоверчиво спросил Василий.
— Да, недавно где-то прочел об этом, — ответил я.
Тогда Василий, подумав, сказал, что и у него есть подобное предвидение в «Новом сладостном стиле». Там у него Михалков-старший в дни путча 1991 года, уже предчувствуя поражение гэкачепистов, перелицовывает текст советского гимна на новый лад, в духе, так сказать, наступающего нового времени.
В другой раз темой разговора стала нехорошая обстановка в России. Вася вспомнил утреннюю передачу «Эха Москвы», которую я тоже слышал. Участникам передачи Виктору Ерофееву и Ксении Лариной пришло антисемитское сообщение на пейджер, что они, мол, прикрываются русскими фамилиями. Вася спросил меня, видел ли я родителей «Витьки»? Я ответил, что видел только мать — и она безусловно русская. «Русская баба», — подтвердил Василий. Вспомнили и террориста Квачкова, набравшего двадцать шесть процентов на выборах в Госдуму. «Да, — сказал Василий, — какая-то грязь снова скапливается».
23 февраля был вечером у Аксеновых. Вместе с Василием выгуливали Пушкина. Вася был в постоянном общении со своим питомцем. «Вот так, вот так», — приговаривал он, когда песик яростно отбрасывал задними лапами снег, помочившись перед очередным кустиком. Потом возвратились в дом, где Майя уже приготовила ужин. За бокалом бордо Василий рассказал, как познакомился с Аркадием Стругацким.
Встретив Аксенова в ЦДЛ, Аркадий предложил посидеть в ресторане, выпить. Начал длинный разговор, возражал против какого-то суждения, аргументировал. Наконец, минут через тридцать, Василий не выдержал и спросил:
— За кого ты меня принимаешь?
— За того, кто ты есть, — ответил Аркадий.
— А кто я есть? — настаивал Василий.
— Как кто — ведь тебе фильм снимать, ведь ты же Тарковский?!
Роман «Москва-ква-ква» вышел книгой (до этого публиковался в журнале «Октябрь») в марте 2006-го. Он представлял собой рискованную смесь авантюрного романа с исторической хроникой времен сталинского социализма, причудливо сплавленную с античным мифом о Тезее. В центре повествования — сталинская высотка на Котельнической набережной, в которой жили Вася с Майей и в которой сейчас она живет одна.
Монументальность этого сооружения канувшей в прошлое эпохи с первых же строк романа вызывает к жизни скрытую авторскую иронию, ни на йоту не ослабевающую на всем последующем его пространстве: «В начале 50-х годов ХХ века в Москве, словно в одночасье, выросла семерка гигантских зданий, или, как в народе их окрестили, «высоток». Примечательны они были не только размерами, но и величием архитектуры. Советские архитекторы и скульпторы, создавшие и украсившие эти строения, недвусмысленно подчеркнули свою связь с великой традицией, с творениями таких мастеров «Золотого века Афин», как Иктинус, Фидий и Калликратус.
Эта связь времен особенно заметна в том жилом великане, что раскинул свои соединенные воедино корпуса при слиянии Москвы-реки и Яузы. Именно в нем расселяются все основные герои наших сцен, именно в нем суждено им будет пройти через горнило чистых, едва ли не утопических чувств, характерных для того безмикробного времени…».
Новый роман вызвал неоднозначную реакцию. Так, Андрей Немзер, ироническую ноту, по-видимому, не уловивший, подверг его сокрушительной критике, что заметно расстроило Василия. Но большинство откликов имело положительную тональность. Были и апологетические, например, Ирины Барметовой, напечатавшей роман в «Октябре».
На моем экземпляре автограф:
«Другу Вите и сыну его Мише с сердечными ква-ква.
17.03.06.
Ваш В. Аксенов».
Книга была мне надписана в кабинете с эркером, окна которого смотрят на Яузу и на Кремль. На левом стекле нацарапан автограф одного из тех, чьими руками построено это чудо советской архитектуры: «Строили заключенные» (вот так, с одним «н»!). Быть может, эта надпись на стекле, процарапанная гвоздем или остро заточенным стержнем арматуры (надпись Василий показал мне в тот раз), и подтолкнула его к написанию романа.
Презентацию нового романа впервые проводило «Эксмо», а не «Изограф». Чувствовались размах и ответственность. Леонид Шкурович обещал, что она пройдет на «солидной площадке». Ею оказался особняк Российского фонда культуры на Гоголевском бульваре, где я работал в 1991 году ответственным секретарем Пушкинского общества — председателем был Дмитрий Сергеевич Лихачев. Так что «площадка» оказалась хорошо знакомой для меня.
К сожалению, мероприятие, столь тщательно готовившееся, прошло слишком официально. Василий прочел несколько отрывков из романа. В перерывах между ними заранее выбранными людьми ему задавались заранее заготовленные вопросы. Полноценного общения с публикой не получилось. Лишь по окончании вечера возник живой контакт автора и читателей: желающие получить автограф окружили Василия плотным кольцом. Так что на фуршете он появился не скоро. А фуршет был богатый. Я был с Лизой Вакамиа. За рюмкой французского коньяка познакомил молодую американскую славистку с Владимиром Войновичем и Бенедиктом Сарновым.
Летом того же года одна знакомая художница, дама средних лет, жаждущая знакомства с прославленным писателем, уговорила меня взять ее с собой в аэропорт Шереметьево, где я с ним встречался. Я уже ездил на машине. Купил ее весной, что Василием было горячо одобрено. А сейчас Василий летел из Франции в Одессу на кинофестиваль. Моя знакомая заготовила его портретик, выполненный по фотографии с помощью компьютерной графики. Портретик был тусклый, под стеклом паспарту гляделся еще невзрачнее. Тем не менее он был преподнесен Василию во время неожиданного для него знакомства. Вася скользнул по нему удивленным взглядом, поблагодарил и убрал в портфель.
А мне, по контрасту, вспомнился рассказ Василия об одной бескорыстной поклоннице его таланта. Девушка специально приехала в Москву из какого-то провинциального города, поселилась в одной из центральных гостиниц, кажется, в той, что расположена рядом с Васильевским спуском (не знаю ее названия), и на одном из публичных мероприятий, протиснувшись сквозь толпу других поклонников и поклонниц, назначила ему встречу. Свидания в гостинице продолжались три вечера, после чего девица отбыла домой. А Василий спустя годы нет-нет да и вспоминал о ней порой с неподдельной благодарностью.
Но у моей знакомой намерения были более серьезные.
5 сентября 2006 года мы с Василием посетили ежегодную книжную ярмарку на ВВЦ (в советском прошлом — ВДНХ, Выставка достижений народного хозяйства). Он выступал на стендах двух издательств: «Эксмо» и «Вагриуса». Сначала — «Эксмо», где собралось много поклонников. Пожилая женщина, протиснувшаяся к нему сквозь толпу с дорогостоящим презентом, оказалась матерью Леонида Гозмана[214], сподвижника Чубайса. Сын просил ее передать подарок лично Василию с извинением за то, что не смог приехать сам.
После выступления на стенде «Эксмо» я должен был привести Василия в назначенное время на стенд «Вагриуса», который находился в павильоне по соседству. Это оказалось нелегко. По дороге из павильона в павильон нас постоянно останавливали: знакомые, издатели, поклонники и журналисты, некоторые с телекамерами. Я нервно смотрел на часы, объяснял, что опаздываем на выступление, а порой приходилось просто брать Василия за руку и тащить за собой.
Еще когда-то с Ирой мы говорили о том, что нужно бы переиздать «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Это было после того, как Василий взял нас с собой в «Современник» на спектакль по «Крутому маршруту». Еще был сын Васи Алексей. Сидели все вместе, я — справа от Василия. Чувство подлинности от происходящего на сцене обострялось ощущением, что вот здесь, рядом со мной, сидит и следит за происходящим на сцене сын героини спектакля. Иногда не удавалось сдержать слезы. Когда зажегся свет и мы выходили из зала, Василий признался: «Я плакал».
«Крутой маршрут» давно уже стал редкостью: ни у кого из наших знакомых книгу нельзя было найти. И вот я вспомнил об этой нашей с Ирой задумке и рассказал о ней Василию. Он дал согласие на переиздание, но предупредил, что нужно найти его сводную сестру Антонину, бывшую детдомовскую девчушку, когда-то удочеренную Евгенией Семеновной в Магадане. Последние годы никакого общения с Антониной не было. Василий даже не знал, в какой стране она живет.
Для начала поисков он предложил позвонить в Лос-Анджелес Саре Бабенышевой, с которой Антонина, как он помнил, раньше общалась. Мне удалось переговорить по телефону с дочерью Сары — та сообщила, что Тоню уже несколько лет не видели и не слышали в Америке. Посоветовала искать ее в Белоруссии. Как оказалось, это был ценный совет. Через ВТО я узнал телефон Русского драматического театра в Минске — Антонина в свое время была актрисой. И вот главный режиссер этого театра, человек весьма любезный (не помню уже его имени и отчества), подтвердил, что да, действительно, она бывает в Минске, и обещал передать ей при встрече мой телефон.
К этому времени я уже переговорил в «Эксмо» относительно издания «Крутого маршрута». Большого энтузиазма мое предложение в издательстве не вызвало. Тем не менее в редакции, с которой я вел разговор, предложили аванс в тысячу долларов, исходя из того, что вряд ли можно будет издать книгу тиражом более двух-трех тысяч экземпляров. Собственно, это я и хотел согласовать с Антониной — Вася от своей доли гонорара отказался в ее пользу. Однако, когда я смог, наконец, ее найти и сообщить об условиях издания, она их категорически отвергла, сказав, что гонорар смешной и что она сама берется распространить хоть стотысячный тираж «Крутого маршрута».
Пришлось искать другие варианты. Как раз в это время издательство «Астрель» захотело печатать две давние детские повести Василия «Мой дедушка памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит». Условия были предложены вполне приемлемые, и договор был быстро подписан. К тому же представительницы «Астрели» — Ольга Муравьева и ее сотрудница Татьяна Михайловна — были столь радушны и приятны в общении, что это издание просто не могло не состояться.
К ним я и обратился по поводу «Крутого маршрута». Мое предложение вызвало интерес. Размер аванса был увеличен в три раза по сравнению с тем, что предлагали в «Эксмо». Оставалось согласовать эту сумму с Антониной. На этот раз удалось с ней договориться: в ближайшее время она должна была приехать в Москву и подписать подготовленный к ее приезду договор.
Вскоре она действительно появилась в Москве. Я отвез ее в «Астрель», где к ней отнеслись столь же радушно, как и к ее знаменитому брату. Предложили ей (как дочери Евгении Гинзбург) написать небольшое, на две-три страницы, вступление к книге.
В один из следующих дней мы поехали с ней к Василию. Майя была в Биаррице. Василий и Антонина вспоминали Магадан, Евгению Семеновну и ее второго мужа Вальтера (это фамилия!), немца по происхождению, который стал отцом для Антонины. Василий находил Антонину похожей на Вальтера и потому предположил, что она могла быть не приемной, а настоящей его дочерью. А Евгения Семеновна забрала ее из детдома, когда познакомилась с Вальтером. Так ли это на самом деле, никто теперь не скажет. Жизнь ссыльных поселенцев Магадана могла хранить и не такие тайны!
В конце октября или в начале ноября в кинотеатре «5 звезд» на Новокузнецкой улице смотрели с Василием новый фильм Отара Иоселиани «Сады осенью». Подъезжая к Новокузнецкой, я заметил впереди Васину машину, попытался догнать, но не смог. У кинотеатра его машина пропала из виду. Оказалось, он спустился в подземный гараж. А я припарковался в соседнем переулке. Встретились перед входом в зал. Рассказал ему, что ехал сзади него. «Так это ты слепил меня!» — с деланым возмущением воскликнул Василий. Во время сеанса то и дело в зале раздавался одобрительный смех или сочувственное хмыканье. Иоселиани, как всегда, не обманул моих ожиданий. Приятно было увидеть в одном из эпизодов Войновича, который изображал важного чиновника, солидного и невозмутимого. Видимо, таким мог быть в жизни Володя, не стань он писателем. Что же касается фильма, то я был в восторге. Я мог, не сходя с места, посмотреть его еще раз. А Васе фильм не понравился: «Нет драматургии!» — категорично резюмировал он. Я подумал, что это естественная реакция: ему не хватало закрученных сюжетных ходов, всей это фантасмагории, что наполняла его последние романы. А достоверность и подлинность безыскусного будто бы Иоселиани ему казалась пресной.
Осень была ознаменована окончанием нового романа. Название «Редкие земли» — производное от редкоземельных элементов в таблице Менделеева. Добычей этих полезных ископаемых заняты предприимчивые герои повествования. Ассоциативно угадывается: «редкие люди». Это активные комсомольцы последнего призыва (можно сказать, интеллектуальный цвет комсомола конца восьмидесятых), при смене эпох устремившиеся в бизнес. Новая формация людей — образованных, трезво мыслящих, деятельных. Такие вот Штольцы конца XX века! Прототип главного героя, крупного предпринимателя, энергичного и широко мыслящего, легко угадывался. Василий однажды был на его процессе и сидел рядом с клеткой, в которой его держали во время слушания дела. Подсудимый Ходорковский поблагодарил Василия за присутствие и успел сказать, что прочел все его книги.
В двадцатых числах декабря Василий улетел в Биарриц. Новый 2007 год я встречал вместе с Майей, оставшейся в Москве. Пришел к ней с Мишей около одиннадцати. Под бой курантов выпили шампанского, и Миша умчался в свою студенческую компанию. У Майи было приготовлено какое-то невероятное жаркое из баранины. Бутылки пустели одна за другой — она все время требовала открывать новую. Немудрено, что в четвертом часу сон сморил ее. У меня были ключи от их квартиры, и я смог уйти.
Вася, выслушавший на следующий день эту историю по телефону, был не очень доволен. Он волновался за Майю. Сам давно уже пил очень умеренно: один-два бокала сухого красного.
12 января 2007 года я встречал Василия в Шереметьево. Обычно это делал его сын, но в этот раз Алексей был на съемках фильма (он художник кино). Моя машина имела повреждения, я ожидал ремонта и поэтому заказал такси. Приехал вовремя. Ожидал Василия, как было условлено, у выхода с паспортного контроля. Но он позвонил по мобильнику и сказал, что нужно идти к залу VIP-персон — он встретился в парижском аэропорту с Зурабом Церетели и теперь вместе с ним находится в этом зале. У входа дорогу мне преградил охранник, но я пояснил, что встречаю Василия Аксенова. Вася поднялся мне навстречу, мы обнялись. Церетели, в ожидании багажа сидевший рядом с ним на кожаном диванчике, тоже поднялся, протянул руку с золотыми перстнями. Они пили кофе. Мне тоже принесли чашечку, чтобы скоротать ожидание. Знаменитый скульптор лучился приветливостью. За его спиной топтались пять-шесть молодых грузинских парней крепкого телосложения, чуть поодаль сидела молодая миловидная секретарша. Наконец привезли груду чемоданов. Мы взяли Васин, Церетели тепло попрощался с нами, и мы пошли к машине.
С возвращением Василия издательство развернуло массированную рекламную кампанию, приуроченную к выходу нового романа. Встреч с журналистами и популярными телеведущими было намечено столько, что Василий ужаснулся и начал нещадно сокращать их количество. Тем не менее почти каждую неделю (и не по одному разу) к нему приезжали с микрофонами и телекамерами или он отправлялся в ту или иную редакцию. Иногда я, придя к нему под вечер, заставал группу улыбающихся и любезных молодых людей и девушек, озабоченно снующих по квартире с осветительными приборами и микрофонами. Однажды я был с Тилем, и он попал в кадр в одном из эпизодов, его разноцветные глаза привлекли внимание телевизионщиков.
Поначалу Василий от всей этой кутерьмы очень уставал, но постепенно, как я заметил, он стал к ней привыкать. Некоторым съемочным группам теперь сообщался даже телефон в Биаррице, чего раньше никогда не было: дом на берегу океана всегда был местом его уединения, необходимого для работы.
В двадцатых числах марта роман «Редкие земли» вышел из печати и поступил в продажу. Одновременно вышел мартовский номер журнала «Октябрь», где печаталось окончание романа. Теперь уже интервьюеры сами атаковали автора, не согласовывая свои действия с издательством.
Выход романа Василий решил отметить в ресторане ЦДЛ, который, помимо прочего, славится исключительными пирожками. Журнал «Октябрь» представляли его главный редактор Ирина Барметова, ее заместитель Алексей Андреев и ответственный секретарь Инесса Клементьевна Назарова — давняя знакомая Васи еще по советским временам, когда она была его редактором в каком-то издательстве. С небольшим опозданием пришли Женя Попов и Светлана Васильева. Выпили шампанского за успех. Потом мужчины, кроме Василия, перешли на водку: он, как обычно, предпочел красное бордо. Рассказывал смешные истории, ему вторил Женя Попов, который вспомнил Георгия Семенова. Тот в свое время давал ему рекомендацию в Союз, хотя проза молодого писателя, как выяснилось, ему не очень нравилась.
Светлана вспомнила первую встречу с Аксеновым, что произошла много лет назад в этом же зале ресторана, он якобы был тогда белокур и вообще ей не понравился. Барметова, похохатывая, закусывала шампанское миниатюрными малосольными огурчиками.
Когда все вышли из ЦДЛ, Василий пошел вперед разогревать машину, а мне поручил привести к машине наших «девушек» — Поповы пошли в другую сторону.
Весной же мне пришлось посещать дирекцию Московского художественного театра. Я подписывал там какие-то бумаги и получал Васин гонорар за не осуществленную постановку по книге «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Автором инсценировки был сначала один Анатолий Найман, а потом в ней принял участие и сам автор романа. Однако инсценировка не понравилась Олегу Табакову, и он ее отклонил. Василий позвонил Табакову и услышал от него весьма не дипломатичную фразу: «Вася, ты же, наверное, сам понимаешь, что это слабо». Табаков, старый друг Аксенова, не сообразил, видимо, что его прямота в данном случае обидна. А Василия это очень задело. Он объявил Табакова предателем и прервал с ним всякие отношения. Гонорар за инсценировку, видимо, был попыткой примирения со стороны Табакова. Директор театра, со своей стороны, когда я зашел к нему, сокрушенно вздыхал и говорил, что нужно обязательно помирить двух старых друзей, двух Павловичей, Василия и Олега. Но со стороны Василия шагов к примирению, к сожалению, не последовало.
5 апреля с большим размахом прошла презентация «Редких земель». Она проходила в галерее Якута[215], где-то на задах улицы Казакова. Большой зал, много народа, ведущий Вадим Жук[216] — юморист, писатель, конферансье. За столом на сцене четверо. Я сидел между Василием и Барметовой, слева от нее — Леонид Шкурович. Глаза слепило от софитов, в зале еще стоял гул, когда я вдруг услышал, что Жук называет мое имя и предлагает сказать несколько слов. Я сказал, что Василий Аксенов всегда поражал меня тремя своими качествами: виртуозным владением русским языком, колоссальной работоспособностью и верностью друзьям. Барметова говорила о романе. Вася читал стихи о редкоземельных элементах, которыми завершался роман. Ему, как я заметил, вообще очень нравилось читать собственные стихи. Но эти были тяжеловаты для восприятия и умозрительны. Выступали Евгений Попов, Александр Кабаков, Михаил Веллер, Марлен Кораллов. Но всех сковывала слишком торжественная, я бы даже сказал, помпезная обстановка.
Завершилось все небольшим банкетом: было человек шестнадцать — восемнадцать. Некоторые лица мне были вовсе незнакомы, например, Михаил Веллер, которого я прежде в Васином окружении не встречал.
14 апреля, накануне отлета Аксеновых во Францию, был у них. Майя приготовила ужин. Хозяин открыл бутылку бордо. Почему-то речь зашла о Борисе Балтере, моем двоюродном брате. Вася в шестидесятые был в одно время с Борисом в Дубултах, в писательском доме: «Там была большая компания москвичей, все что-то писали. Борис — «Мальчиков»», — рассказывал он.
Однажды днем, проходя по двору, Вася остановился посмотреть, как играют в шахматы Гладилин и Балтер. У них там произошло какое-то недоразумение: то ли на доске появилась лишняя ладья, то ли у кого-то из них ее не оказалось. Уважаемые писатели, как выразился Вася, собачились.
Вечером у себя в номере он вспомнил об этом, но мысль его ушла совсем в другую сторону, и он быстро написал знаменитый рассказ «Победа», приведший в восхищение многих шахматистов, в том числе гроссмейстера Марка Тайманова.
А еще он рассказал, как в Дубулты приезжал Виктор Некрасов, а Борис благоговел перед Викой. Их встречи всегда сопровождались обильными возлияниями. И в тот раз Борис накупил крепких напитков. Они вспоминали войну (оба прошли ее от начала до конца), много пили. А ночью у Бориса случился сердечный приступ, пришлось вызывать неотложку.
В июне Василий вернулся в Москву один, Майя осталась в Биаррице. С этого момента начало рушиться его несокрушимое, как казалось еще недавно, здоровье. Случился приступ мерцательной аритмии. Пришлось вызывать «скорую». Потом недели две жил под присмотром врачей в санатории в Барвихе. Потом в ЦКБ ему устанавливали стимулятор работы сердца. Он старался не поддаваться болезни, но заметно сдал физически. Мне признался, что во время приступа аритмии он на мгновение будто бы потерял сознание, но сразу же пришел в себя. Как выяснилось впоследствии, это был микроинсульт, который врачи (ни в Барвихе, ни в ЦКБ) не распознали.
Летом в издательстве «Зебра Е» решили издать небольшую книгу Васиных предисловий и послесловий к книгам товарищей по цеху. Еще год назад от имени этого издательства меня очень настойчиво атаковал Валерий Краснопольский с предложением переиздать что-нибудь аксеновское. Я сразу же выразил сомнение в осуществимости такого переиздания, потому что на все романы были заключены договоры с издательством «Эксмо», но он настаивал. Пришлось обратиться к Леониду Шкуровичу и тот, конечно, отнесся к такой затее постороннего издательства отрицательно, потому что все аксеновские романы постоянно переиздавались (и переиздаются по сей день) в «Эксмо». На том разговоры с Краснопольским и закончились.
А теперь получилось так. «Зебре Е» предложил свою книгу прозы поэт Владимир Мощенко, давний приятель Василия. Они когда-то познакомились и подружились как любители джазовой музыки. И книга Мощенко была связана с джазом. Названием ее стало название главной повести книги «Блюз для Агнешки». В издательстве сообразили, что через Мощенко есть возможность привлечь к сотрудничеству Василия: «Пусть Аксенов напишет предисловие к вашей книге», — предложили ему. Василий, конечно, не смог отказать старому другу, и так появилось его предисловие к книге Мощенко — «Рожденный в джазе». Издательство решило развить успех и предложило Василию сделать книгу предисловий и послесловий к книгам друзей, часть которых как раз в «Зебре Е» и была ранее издана. Василий согласился и на это предложение и попросил меня связаться с издательством и составить такую книгу. Материала оказалось очень мало, для книги его не хватало. Мне пришлось поломать голову над тем, как выйти из создавшегося положения. В результате первоначальный материал был дополнен несколькими уже опубликованными в книге «Зеница ока» Васиными статьями и эссе, а также тремя интервью с Ириной Барметовой, посвященными трем последним аксеновским романам.
Подзаголовок книги определился: «Предисловия, послесловия, интервью». Оставалось придумать название. С этим вопросом я пришел к Василию, перебирая в уме разные не очень-то удачные варианты. Но он решил вопрос мгновенно: на секунду задумался, посмотрел в окно и произнес по слогам (по ассоциации со своим предпоследним романом «Москва-ква-ква»): «Ква-каем, ква-каем».
20 августа у Аксенова был юбилей: ему исполнялось 75. Он не хотел никаких торжественных чествований и потому заблаговременно улетел в Биарриц. Я оказался там 19-го. Он встречал меня на машине в соседней Байонне. Дело в том, что у наших с Ирой парижских подруг Сони и Флоранс есть собственный домик в Ландах, который они, по-нашему, называют дачей. В этом домике я провел с ними несколько дней, а потом они посадили меня в автобус, идущий к океану, и через несколько часов я был в совершенно незнакомой мне Байонне. Встреча с Василием была назначена у кафедрального собора. Я шел от автовокзала, перешел по мосту реку и вышел к собору, который был мне хорошо виден на протяжении всего недолгого пути. Все это напоминало какой-то шпионский фильм с явками и паролями. Об этом я, смеясь, сказал Василию при встрече — он появился у собора минут через пять после меня.
На следующий день с утра до вечера трезвонил телефон: Василия поздравляли из Москвы, из Казани, из Петербурга, из Парижа, из Америки. Вечером пришли гости: Сергей и Марина Тимаковы. У них тоже есть дом в Биаррице. Подарили симпатичный пейзаж неизвестного мне автора в роскошной раме со стеклом. Сразу же повесили его на какой-то крючок в стене. Но крючок оказался ненадежный. В разгар застолья (Майя угощала жареными перепелками, которых упорно называла куропатками) картина с грохотом сорвалась со стены, упала на батарею отопления, вывернув ее крепление, но не разбилась. Сейчас, вспомнив об этом, не могу не подумать, что это происшествие во время празднования последнего Васиного дня рождения было недобрым знаком.
Но тогда оно вроде бы не омрачило вечера. Было много баек. Василий, в частности, рассказал, как Ростроповичу в советские времена вручали премию в Италии. Так как премию в виде денег советские граждане обязаны были сдавать в посольство (на благо державы!), итальянцы решили подарить ему этрусскую вазу. Но и за вазой утром пришли товарищи из посольства.
— Вы должны ее сдать, — объяснили они ему.
— Ах, сдать, — переспросил Ростропович и, передавая ее, «случайно» разжал руку. Ваза с грохотом разбилась.
Василий слышал это от самого Ростроповича.
21-го заработал факс: пошли поздравления от главы президентской администрации Медведева, потом от премьера Фрадкова[217], потом от Нарышкина[218] (не помню уже, какую он должность тогда занимал). Телеграмма от президента была получена накануне на правительственном бланке.
Опять, как четыре года назад, прогуливались по набережной с Пушкиным. Иногда приходилось прерывать прогулку из-за дождя, хватать Пушкина и прыгать в машину. Дожди шли каждый день и не по одному разу. Я прочел первую строфу неожиданно сложившегося накануне вечером стихотворения:
— А дальше? — заинтересованно спросил Василий. Но я не стал продолжать.
Однажды, когда мимо нас прошла миловидная женщина с шоколадным цветом кожи, он схватил меня за руку:
— Ты видел, как на тебя сейчас посмотрела вон та мулатка? Беги за ней!
— Куда ж я побегу, не зная языка, — ответил я.
— Ну, смотри, — разочарованно сказал Василий.
В эти же дни, не помню, по какому поводу, он вспомнил несколько случаев, когда подвергался смертельной опасности.
В Чегеме вместе с Майей завис в кабине фуникулера с лыжами. Висели над пропастью около часа на морозе. Приходилось усиленно двигаться на месте, чтобы не замерзнуть.
В восьмилетнем возрасте тонул на реке. Чудом спас какой-то солдат. Откачал.
Потом в пионерском лагере перевернулся баркас на слиянии Свияги с Волгой. Спасли находившиеся неподалеку рыбаки.
Еще раньше рассказывал о покушении на него в 1980-м перед отъездом в эмиграцию, когда он, возвращаясь с Майей из Казани после прощания с отцом, чудом избежал лобового столкновения с самосвалом. Это есть в каких-то интервью и подробно — в посмертно изданном романе «Таинственная страсть».
Тогда же рассказал, что однажды — это было на каком-то банкете после его выступления — он познакомился с тремя «блестящими генералами» авиации Дальневосточного военного округа. Время было еще советское, но генералы, оказавшиеся его читателями и почитателями, произвели впечатление людей свободно мыслящих и интеллигентных. Пригласили его выступить на военных кораблях во Владивостоке. Обещали прислать за ним военный самолет. А вскоре Василий узнал из газет об авиационной катастрофе, в которой погибли чуть ли не все руководители военного округа. Он подозревал, что катастрофа была не случайной: такие свободно мыслящие генералы не могли нравиться центральной власти.
Ездил с Василием на его красном «Ягуаре», доставленном из Америки, в аэропорт Биаррица — он решил заблаговременно взять себе билет в Москву. Довольно свободно объяснился с кассиршей. В аэропорту — ни единого человека. Несколько киосков со скучающими продавщицами…
Наблюдал как-то днем трогательную семейную сцену: Майя сидела на диване, а Василий лежал на том же диване, и голова его была у нее на коленях. При этом, разговаривая, они называли друг друга Маята и Васята. Василий называл ее еще иногда Маяковским.
В последний вечер Аксеновы повели меня в рыбный ресторанчик в порту Биаррица. Дождь, вода, капающая с зонтов. На узенькой терраске, конечно, никого нет. А в помещении с трудом нашелся свободный столик, было тепло и сильно накурено. К сожалению, не запомнил, какую рыбу мы ели (было очень вкусно), а спросить теперь не у кого: Майя таких мелочей давно уже не запоминает.
Уезжал я опять через Байонну. Вася отвез меня туда. В Байонне неудачно поехали вдоль узкой набережной канала, не заметив, что это тупик. Потом пришлось выбираться задним ходом метров сто пятьдесят. Василий был очень раздосадован ошибкой, но мужественно преодолел все трудности — набережная была довольно узкая.
В Москву Василий прилетел в начале сентября. 5-го я сопровождал его на книжную ярмарку. К ярмарке в издательстве «Вагриус» вышла необычная книга Аксенова «Край недоступных Фудзиям», в которой были собраны стихотворные тексты из всех его романов. Вместе с авторскими пояснениями, сделанными специально для этого издания, они и составили книгу. Названием стала завершающая строка стихотворения о дикой индейке (Wild Turkey) из романа «Кесарево свечение»:
Идея книги принадлежала главному редактору Алексею Кастаняну, а воплощала ее Елена Шубина, с которой мне вновь к обоюдному, как мне кажется, удовольствию, пришлось сотрудничать.
На 2 октября в Казани было назначено открытие первого посвященного Василию фестиваля — «Аксенов-фест». Вечером 1-го фирменным поездом из Москвы в Казань выехала представительная делегация во главе с самим виновником торжества. В купе СВ моим соседом оказался Анатолий Гладилин. Он накануне прилетел из Парижа.
Едва мы успели познакомиться, дверь отодвинулась и на пороге появился Василий и пригласил нас проследовать за ним в вагон-ресторан. Мы заняли отдельный столик. Рядом уже сидели Белла Ахмадулина с Борисом Мессерером, потом появились Евгений Попов со Светланой Васильевой и Александр Кабаков, потом два Михаила: Веллер и Генделев. Василий отвечал на приветствия. Под нехитрый, но вполне приличный дорожный ужин он выпил бокал красного вина, мы с Гладилиным — по кружке пива и по сто граммов водки.
После ужина Василий отправился отдыхать, а мы с Гладилиным оказались в чьем-то купе, битком набитом участниками фестиваля. Ахмадулиной и Мессерера здесь не было, а вот остальные из названных выше господ присутствовали, кроме них были еще Игорь Иртеньев и главные организаторы казанского мероприятия — режиссер Сергей Миров и Андрей Макаревич. На вагонном столике под стук колес рюмки наполнялись очередным алкогольным напитком и передавались присутствующим. Было шумно и весело.
Программа пребывания в Казани предстояла весьма насыщенная. Уже часа через два-три после приезда состоялась встреча с читателями в крупнейшем книжном магазине: сначала общие выступления, а затем писатели встречались со своими читателями. Больше всего желающих получить автограф было, конечно, вокруг столика с табличкой «Аксенов». Но и его коллеги не остались без внимания. Им тоже пришлось «потрудиться».
Потом был обед в ресторане, после него встреча с прессой. Вечером торжественное открытие фестиваля в городском драмтеатре. Затем ужин в другом ресторане, устроенный мэром Казани в честь Василия Аксенова и его московских друзей.
И так каждый день. Были прогулки по городу, встреча со студентами Казанского университета, где Василий и Белла были удостоены званий почетных докторов наук этого одного из старейших российских университетов, была аудиенция у президента Татарстана Минтимера Шаймиева, вечер Ахмадулиной в том же драмтеатре, обеды и ужины в ресторанах Казани.
А кроме того, Василий в сопровождении массы журналистов побывал в полуразрушенном доме, где прошло его военное детство — здесь после ареста родителей его приютила семья тетки. Сейчас дом отремонтирован и превращен в Дом Аксенова — мэр Казани выполнил свое обещание, данное во время фестиваля… Потом было посещение школы, где Василий учился, и, конечно, кладбища, где могила отца.
На обратном пути виновник торжества почти не выходил из своего купе, все понимали, что он очень устал.
Кажется, в эти же месяцы в «Новой газете» было опубликовано открытое письмо по поводу музея А.Д. Сахарова, авторы которого, известные люди, деятели культуры и науки, призывали власти взять на себя финансирование музея. Под письмом стояла и подпись Аксенова. Летом я действительно получал от директора музея Юрия Самодурова какие-то материалы для передачи их Василию. Между ними был телефонный контакт. Но, как оказалось, Василий согласен был подписать письмо при определенном условии: в письме должно было быть указано, что до последнего времени музей существовал на деньги Бориса Березовского. Самодуров, видимо из тактических соображений, такое пояснение в текст письма не внес, а подпись Аксенова была под письмом оставлена. Василий был возмущен произволом. Просил меня переговорить с главным редактором «Новой» Дмитрием Муратовым и потребовать опровержения. Я выполнил его просьбу, и меня заверили, что газета известит читателей, что Аксенов письма не подписывал.
Василий всегда был предельно принципиален, даже если тот или иной поступок мог не понравиться либеральной общественности.
Так, он полностью поддерживал обе чеченские войны. Однажды в ответ на наши с Ирой критические замечания по поводу методов ведения этой войны, вспылил и повысил голос, что случалось крайне редко. «Террористов нужно уничтожать!» — чуть ли не прокричал он.
В ту последнюю осень Василий выступал на 1-й Тверской-Ямской в новом магазине «Букбери» по случаю его открытия. Я не успевал к нему, чтобы ехать вместе на его машине. Поехал на метро. Долго ждал у входа в магазин — на Тверской, как всегда в час пик, была пробка. А у магазина не было места для парковки. Я заглянул в ближайший переулок, чтобы посмотреть, можно ли поставить машину там. Но к моменту, когда показалась машина Василия, вдруг освободилось место у самого входа в магазин. Публика очень тепло его встречала, когда он читал свои стихи…
В начале декабря был совместный вечер Аксенова и Ахмадулиной в Доме художника на Крымской набережной во время проведения там зимней книжной ярмарки. Василий читал прозу…
Тогда же в декабре состоялся вечер памяти Булата Окуджавы в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Вел его Василий. Программа в основном была музыкальной: песни Окуджавы пели известные актеры и певицы. Завершился вечер триумфальным выступлением Андрея Макаревича с какой-то чужой (не «Машиной времени») группой. Это была оркестровая импровизация на тему одной из мелодий Окуджавы, песни «Батальное полотно».
В один из мрачно-сумрачных декабрьских вечеров Василий, когда я сидел у него в кабинете, как бы между прочим сообщил, что закончил первую часть нового романа о детях ленд-лиза, то есть о своем военном детстве в Казани, о голоде 1942 года, о нравах и пристрастиях уличной шпаны, среди которой он рос. Сказал, что написана первая часть слишком уж реалистически, и он даже устал от этого. Теперь нужно как-то взбодриться и оживить повествование.
Новый 2008 год Аксеновы встретили дома, в Москве.
Я, конечно, заходил к ним в начале января, но не помню подробностей.
15 января около полудня или чуть позже говорил с Василием по телефону. Он был в ванной после физических упражнений — теперь он отжимался от пола, выполнял бег на месте и стоял на голове. Утренние пробежки пришлось отменить уже несколько месяцев назад. Василий сказал, что скоро должен уходить.
Я тоже часа через два собрался выйти из дома по каким-то делам. Вдруг раздался звонок Евгения Попова. Он спросил, не знаю ли я, что с Васей. «Ничего, — ответил я, — недавно разговаривал с ним по телефону». — «А мой сын Вася прочитал в Интернете, что у Аксенова инсульт», — огорошил меня Евгений. Договорились созвониться попозже. Я вышел к машине, и тут меня настиг повторный звонок Попова: «К несчастью, — сказал он, — это правда: у Васи инсульт. Я говорил с Алексеем (сыном Аксенова)».
Когда я пришел к Майе, у нее уже был кто-то из родственников. Потом приехал Алексей — он уже побывал у отца в больнице. Майя поднялась, чтобы ехать с ним к Василию.
«Кто бы мог подумать, что с Васятой такое может случиться», — приговаривала она, сдерживая слезы.
Когда они с Алексеем ушли, я остался в квартире вместе с ее двоюродной сестрой.
Все время трезвонил телефон. Печальная информация распространялась по стране и по миру. Звонили друзья и знакомые из Москвы, из Казани, из Петербурга, из Прибалтики, из Вашингтона.
Ночью Василия перевезли в институт Склифосовского. Майя и Алексей ездили туда.
Днем 16 января я подвез Майю в Склиф и вместе с ней прошел в больницу, она с трудом нашла палату, в которой уже была накануне ночью, — ничего не соображала от горя.
И потянулись месяцы, многие месяцы Васиного беспамятства…
В июле Майина дочь Алена, которая прилетела из Америки через несколько дней после того, как с Васей случилось несчастье, предложила мне навестить его. Врачи считали, что есть положительная динамика, и поэтому нужно посмотреть, как Василий будет реагировать на посещения друзей. Но обращаться к нему нужно было с простыми и четкими фразами.
Когда я сел возле него, он лежал на спине и смотрел в пространство палаты недвижным взглядом. На мои нелепые фразы про «край недоступных Фудзиям» и еще какую-то невнятицу никак не реагировал. Так прошло несколько минут. Подбегала и отбегала Алена, говорила ему: «Васенька, посмотри, Витя пришел!». Никакой реакции. Минут через десять мы собрались уходить. Выходили из бокса, пятясь от Васи, глядя на него. И вдруг он оторвал голову от подушки, чуть приподнялся, опираясь руками о ложе, и стал напряженно всматриваться в нас. Так всматриваются в темноту, когда плохо видно предмет. «Васенька, попрощайся с нами», — просительным тоном, предложила Алена. Он поднял забинтованную правую руку и какое-то мгновение держал ее на уровне головы. Потом опустил.
Что это было? Мгновенное просветление? Эффект окошечного сознания, как называют такие просветления врачи-невропатологи? Или он все время был в сознании, но не хотел общаться?
Врачи не смогли ответить на этот вопрос.
Сейчас, когда его уже нет среди нас, вспоминаются некоторые суждения о нем — не о писателе Василии Аксенове (о том уже много сказано и еще будет сказано), а о человеке.
Например, Бенедикт Сарнов, когда речь заходила об Аксенове, очень часто восклицал: «Кто бы мог подумать, что такой стиляга и пижон, как Вася, станет примерным семьянином, опорой для Майи и ее семьи!» — подразумевая под семьей дочь Майи Алену и ее сына Ивана, которых Василий, так же как и Майю, обеспечивал материально.
А вот Анатолий Гладилин в книге «Улица генералов»[219] выделил другое его качество: Аксенов за время эмиграции (не в последнюю очередь благодаря преподаванию в американском университете) стал очень образованным человеком, интеллектуалом.
Старый друг Аксенова, известный джазист Алексей Козлов считает, что Василий всегда был «джазовым человеком».
На меня же, быть может, наиболее сильное впечатление произвело признание Аксенова, как его мучила совесть за то, что он отказался пожать руку подлецу. Дело было на каком-то публичном мероприятии в Вашингтоне уже в годы советской перестройки. И человек, нагадивший в свое время Аксенову в Москве, остался стоять с протянутой в пустоту рукой. А Василий потом корил себя за то, что отомстил ему слишком жестоко.
Дмитрий Петров[220]
Мифы, сокрушившие колосс
Как-то в одной радиопередаче обсуждали вопрос: надо ли продавать книги, в которых авторы использовали «ненормативную лексику» и куда включали «непристойные сцены», в запечатанных пакетах с предупредительной надписью.
Я призвал коллег учесть, что тогда пришлось бы запечатать в конверты немало сильных и популярных романов наших видных современников. Налепив на них ярлык «непристойных». В том числе — и тексты классика нашей литературы Василия Аксенова. И «Ожог». И «Скажи изюм». И «Остров Крым». И ряд других. И, согласитесь господа, сказал я, было бы странно — продавать книги одного из самых ярких прозаиков XX века в этаких упаковочках.
И до чего же странно было воспринято мое замечание! Разве же, вопрошал ведущий, Аксенов — классик нашей литературы? Ведь он же американский писатель! Так как же вы?.. Да с какой же стати?.. Впрочем, закатывать «Ожог» и «Остров Крым» в целлофан он, ведущий, не стал бы. Ибо это и впрямь серьезные произведения видного русскоязычного иностранца.
Сказано это было спустя много лет после возвращения Василию Павловичу гражданства.
Но даже если б не вернули…
Разве назовешь Аксенова американским писателем? Или советским? А то — постсоветским? Или антисоветским? Я б не решился. Хотя бы потому, что он много лет путешествовал вне всех этих формальных границ. Свободно перемещался из контекста в контекст, из эпохи в эпоху, из страны в страну, познавая мир за миром и творя миф за мифом.
Творя мифы, менявшие миры. При деятельном участии их автора. Аксенов описал, а отчасти и воплотил большие мечты своих персонажей. Что, согласитесь, мало кому удается…
Об этом мы и толковали в Котельниках 28 ноября 2003 года. Вспомнить дату легко — она проставлена на книге «В поисках грустного бэби», подписанной Василием Павловичем в тот вечер. Не сложно восстановить и фрагменты беседы — я записывал ее на диктофон.
И «Бэби» я прихватил не случайно: разговор шел об Америке и Западе, и больше — об особом западном мифе, вмещавшем кучу всего — от кока-колы и джинсов до ленд-лиза и джаза.
Ясно, что мифологическая география творчества Аксенова не исчерпывалась Штатами, но включала в себя и Москву, и Париж, и архипелаг Большие Эмпиреи, и Кукушкины острова… И Крым, само собой. Тот самый — остров… В котором, как мне представлялось, под трехцветным флагом сказочной свободной страны выписана модель одной из возможных будущих Россий…
— На роль прорицателя я не претендую, — ответствовал Василий Павлович, — а что до кока-колы… Порой я удивляюсь, почему, когда говорят об американизации мира, толкуют о «Макдонал-дсах»… Это же не идеологический состав — котлета и булочка! А вот кока-кола — это была просто жидкая идеология! В 67-м в Болгарии наши моряки рассказали мне, как их пароход зашел в греческий порт. И два возбужденных юноши-матроса-комсомольца спросили у капитана: «А можно мы, когда пришвартуемся, пойдем и кока-колы выпьем?» Тот посмотрел на них из-под козырька и гаркнул: «Идите на х…!» Чудный ответ! Мужик виртуозно снял с себя ответственность… Но что еще он мог сказать?
— Но что, — спросил я, — считалось в ту пору более зловредным культурным динамитом — жидкая «дурманная» кока-кола или глянцевый Playboy? (Не случайный, понятное дело, вопрос: ведь было в «Бэби» про журнал, было; но — хотелось из первых уст.) Это же потеха — истории о людях, провозивших в СССР «Playboy» — еще одно «тайное орудие империализма».
— Сейчас — потеха. А в 60–70-х страшновато это было. «Playboy» циркулировал в Москве, вызывая невероятный интерес. Его можно было за дикие деньги купить…
Но один из сильнейших ударов по красной идеологии нанесло все же баночное пиво. Это был предел мечтаний совка — пиво, которое не бьется и не тухнет!
Ну как тут не вспомнить, подумалось мне, Евтушенко и его «Северную надбавку», где бригадир то ли монтажников, то ли нефтяников на их вопрос: «А будет у нас «Жигулeвское», которое не разбивается?» — отвечает: «Не все, товарищи, сразу — промышленность развивается…»
— Один большой специалист по этому вопросу, — продолжил меж тем Аксенов, — написал в свое время статью о том, почему советское баночное пиво получалось такой халтурой. Закупали на Западе оборудование, запускали — и ни черта: пиво тухло и тухло.
Оказывается, забыли про состав, покрывающий внутреннюю поверхность банок и не допускающий скисания! Автора вызвали на Политбюро! И он им все это выложил. А после рассказывал, как пятнадцать мрачных старцев за ним записывали! В святая святых советской системы высшее руководство решало вопрос производства баночного пива… Ясно, что крах был не за горами. Хотя никто и не знал — когда.
А еще — солнечные очки!
Аксессуар редчайший и престижнейший…
Вот история: в Праге в семье эмигрантов из России был сын Сергей — младшеклассник. Отлично говоривший по-русски. И когда туда прибыл с визитом Хрущев, Сережу отправили приветствовать всесильного гостя. Парень вышел и на чистейшем русском произнес речь. Никита Сергеевич растрогался. «Бог ты мой! — воскликнул. — Как тебя звать?» — «Сергей». — «Как же ты русский так выучил?» — «Я из русской семьи». — «А кто твой папа?» — «А он в СССР сидит в лагерях»… Хрущев поставил его рядом и время от времени с ним заговаривал. Тут из-за туч вышло солнце, и Сергей надел западногерманские солнечные очки. «Что за очки у тебя?» — спросил Хрущев. «Это от солнца. Хотите, подарю?» И подарил.
И Хрущев, как ребенок, был совершенно счастлив. Спустя несколько месяцев мать мальчика пригласили в советское посольство и сообщили: «Ваш муж на свободе. Живет в Керчи… С новой семьей. Приглашает в гости». Она не поехала. А мальчишка какое-то время жил там с отцом. Вот что Никита подарил Сереже за очки…
Истории Василия Павловича — штука особенная. Рассказчик он был изумительный. Но интервью с ним — дело не простое. Он сам знал, о чем рассказать. А я все же спросил его о драме восточноевропейской. Аксенов счел вопрос интересным.
— Я знаю людей, — ответил он, — учивших язык только затем, чтобы читать польские журналы! Или, приехав во Львов или Вильнюс, общаться с поляками. Во Львов тогда стекались товары из Венгрии, Польши, Канады. Это тоже была мощная подрывная мифология. Ведь эти вещицы, просунутые фарцовщиками под «железный занавес», ценились тогда колоссально! Каждая тряпка с Запада несла в себе заряд свободы! Вызов системе.
Во Львове я купил рыжий свитер крупной вязки. И когда появлялся в нем в ЦДЛ, чинуши были в отпаде. А потом в 1962 году я поехал в Польшу. Это была моя первая заграничная поездка. Я попал в бурлящее общество! Там царила фронда, шли диспуты, бузили студенты. Работал новаторский молодежный театр. Когда один из будущих советников «Солидарности» — тогда молодой журналист — привел меня туда, актеры встретили холодно, спросили: кто этот? А он сказал: «Один симпатичный москвич…» Тогдашние впечатления от Польши были куда сильнее, чем от любой капиталистической страны, где довелось побывать потом.
А от Варшавы 1962-го до Праги 68-го было рукой подать…
— Я приехал в Прагу в 1965-м. Но уже чувствовалось: весна начинается. А ведь чехи запоздали с либерализацией. В начале 60-х, когда в СССР все бурлило, приезжие чешские писатели вели себя зажато. Боялись обсуждать даже невинные вопросы, что дебатировались в Москве. Но ребята были прямые и объясняли, косясь на главу делегации: мы лучше помолчим. А в 1965-м они уже заговорили. И конечно, заиграли! В Праге тогда был модный джаз-бар «Ялта».
Я пришел туда в забавной такой кепочке. Ее подарил мне жуткий интеллектуал, американский профессор Дюк Беллингтон. Он приехал в Москву, мы отчаянно напились, вывалились на мороз, и я сказал: «Чтоб ты не сдох, я тебе дарю меховую шапку». И отдал. А он мне отдал всепогодную кепку — «кепи олл сизонс». И вот в этой невероятно стильной кепи я прибыл в Прагу. И так мне понравилось, как играл пианист в баре «Ялта», что я эту кепочку отдал ему. А какое-то время спустя она выпрыгнула уже в другом заведении. Оказывается, он передарил ее, и модный головной убор пошел гулять по Праге, по Европе, по миру… Я про эту кепи написал рассказ. Он потерялся — не могу найти. А кепка время от времени — попадается. То там, то сям… Тогда в Праге было очень хорошо.
— Кстати, — поинтересовался я, — а один из видных героев романа «Ожог» профессор Патрик Тандерджет — это не тот ли, подаривший вам кепочку, Дюк Беллингтон? Ведь иностранцы в СССР тоже персонажи мифологические…
Аксенов коротко рассмеялся: их было много.
Как-то приехал один славист — крайне левый. С ним заигрывала власть. А он тут стал абсолютно антисоветским. Везде шлялся с нами — по чердакам, кухням, клубам. И даже поучаствовал в колоссальной драке. Мы сидели в кафе и с нами — Ахмадулина. Белла была дивно хороша… И какие-то гады стали посылать ей записочки, клеить. При муже Юрии Нагибине. Нагибин сидел невозмутимо, а мы врезали сволочам. Врезал и тот штатник. Сильный парень. Надо было видеть, как он бился!
А один дипломат… Захожу в Домжур, в нижний бар, и вижу — он у стойки. Выпивший, несчастный. Я: «Что ты делаешь здесь?» А он: «Беда. У меня роман с русской девчонкой. И меня вызвали в нашу спецслужбу. Говорят: она б…дь, работает на ЧК… Что делать? Они во Вьетнам меня пошлют!» Потом он исчез. И вдруг звонит: «Ай’л би глэд ту си ю». Встретились. Он в порядке. Женился на нью-йоркской светской даме…
Все эти визиты, торговые марки, журнальчики, штучки, вещички, американский софт-дринк, пиво и виски, а главное — общение — расшатывали монолитный советский чугун.
Так простые вещи — кока-кола, Playboy, даже отчасти всепогодная кепочка — становились инструментами слома системы… Ну а что же шло отсюда — туда? Кроме водки…
— Не знаю. Может быть, икра? Матрешки?
Помню, два моих американских студента в 1986 году поехали в Питер и вернулись во флотских шинелях. Выменяли не— новые кроссовки на прекрасные шинели. Еще один парень поехал в майке с надписью. Я его спрашиваю: «Ты что, в ней собираешься ходить в СCCP?» Он говорит: «Да, а что?» А на майке — десантный вертолет и речевка: «Kill the commy for your mammy!» — «Убей коммунягу ради мамочки!» Он спокойно ходил в этой майке по Москве… Потом поменял на что-то. Это было круто. Они страшно гордились такой одеждой. Союз был экзотической страной. Люди с Запада дивились: «А что это за плакаты на площади, что это значит: «Народ и партия — едины!», «Здоровье каждого — богатство всех!»?» Все их изумляло.
— Но ведь и вас изумила Америка. В 75-м…
— Тогда развеялся мой старый американский миф. «Мальборо кантри», какой Америка казалась прежде, исчезла. Никаких ковбоев и агентов…. Никто за мной не надзирал. После, в Москве, когда я выступал в Союзе писателей, в зале, полном, в том числе, и специалистами по США, Юрий Жуков сказал: «Расскажите, как за вами присматривали». А я в ответ: «Ничего такого я не заметил, никто за мной не ходил». Жуков махнул рукой: «Бросьте. Когда я туда приехал, за мной сразу установили слежку». А я: «Ну, так вы же, товарищ Жуков, депутат Верховного Совета. За вами, наверное, охрана ходила. А я никого не интересовал, кроме моих студентов».
Тут я предположил, что власти всерьез опасались, что Аксенов не вернется. И припомнил историю, случившуюся с героем романа «Скажи изюм» Максом Огородниковым, который без спросу улетел из Берлина в Париж, а оттуда — в Штаты. И хоть и не ушел «с концами», но ускользнул…
— История из «Изюма» реальна! — вскричал Аксенов. — Все это было. Было со мной. Впрочем, я никуда не хотел убегать. Но они так считали. Летом 1977 года ко мне пришли полковник Карпович и мой куратор Зубков — договариваться, чтобы я не печатал «Ожог». В ответ на отказ от издания романа заверили: «Оставляем вас в покое. Все ваши проекты будут продолжаться». И наврали. Все стало рушиться. Завернули гайки. «Хвост» пустили. О поездках за рубеж и речи не шло. А я вспомнил, что начал оформляться на конференцию в Западный Берлин. И подумал: «Дай-ка попробую». Приехал в Союз писателей. Там такая была Тамара или Нина, я ей часто привозил всякие сувениры. Я: «Тамара, ну как там мой паспорт?» Она: «Ой, а я вам звонить собиралась, паспорточек ваш готов». И дает мне его. «А когда едете, Вася? Я билет закажу». Заказала она билет, и я улетел.
Ни Зубков, ни Карпович об этом не знали. Но вскоре стали искать. Узнали: он в Западном Берлине… И пошло-поехало… Это уже не кока-кола. Консульские работники взялись вывезти меня на Восток, где рвал и метал наш посол в ГДР Абрасимов — страшный человек. Мне говорили: смотрите, Корчной в автокатастрофу попал. Как бы с вами чего не случилось… Генеральный консул кричал по телефону: «Советской власти нужно подчиняться везде!» А я ему: «Перестаньте меня шантажировать, не толкайте на крайний шаг». И он сразу: «Ну что вы, дорогой! Просто Абрасимов хочет поговорить, выпить рюмку по-русски. Как не уважить?».
Тут пастор — глава духовной академии, где проходила конференция, — увез меня к себе и запер. Оттуда я позвонил в Париж и заказал визу… Берлинская журналистка Эльфи отвезла меня в аэропорт, и я смотался! Из Западного Берлина — в Париж! Оборвал когти, обрубил хвост. А в Париже играла «Таганка», и я пошел на «Гамлета». Встретил там Веню Смехова, а он говорит: «Нас известили, что ты остался на Западе». Торжественно ведет меня в зал и сажает рядом с Максимовым — главным редактором «Континента»… Кошмар. Это было потрясающе. Я никогда не мог себе представить, что стану героем настоящего прифронтового берлинского романа. Точно такое же ощущение загнанности. Идешь по аэропорту Темпльхофф и думаешь: вот сейчас подскочат, кольнут в жопу зонтиком и потащат…
А вернулся я просто. Прилетел. Пошел в Союз писателей. Там конференция. И мой куратор Зубков. Он чуть не грохнулся в обморок. Кричит: «Василий Павлович, вернулся! Дорогой! Вернулся!» Счастлив был человек…
Корсика, Свияжск, Манхэттен (Мохнатый), Васильевский и Елагин, Большие Эмпиреи, Кукушкины острова, Крым… В книгах и в жизни Аксенова островов больше, чем, скажем, гор. Он и сам выглядел островом. От всех его как бы отделяло некое пространство, которое было не так уж просто переплыть.
На каком-то вечере я спросил его: отчего в ваших книгах так важны острова? Он, как мне тогда показалось, ушел от ответа (как стало ясно позднее — вовсе нет), сказал: острова — это отголоски детства. Разве они никогда вам не грезились? Разве не мечталось вам бежать на таинственную часть суши, со всех сторон окруженную неведомым простором?.. У каждого из нас есть право на такую мечту. У каждого есть право на остров.
Таким островом мне всегда виделся сам Аксенов.
Видится и сейчас.
Сергей Миров[221]
Последний сюжет
С великим русским писателем Василием Аксеновым у меня было два знакомства, между которыми прошло, ни много ни мало тридцать лет.
Первое случилось году в 77-м, когда под столом поточной аудитории МИНХ и ГП[222] я обнаружил затертый номер «Нового мира», в оглавлении которого сразу же стрельнуло в глаза название «Поиски жанра»[223] и невозмутимое пояснение курсивом: поиски жанра.
Лекция, как обычно, обещала быть неинтересной, я сразу же начал читать и на первых же страницах ощутил совершенное потрясение! Девятнадцатилетний начитанный мальчик из хорошей московской семьи, я даже и не представлял, что мой родной, знакомый до оскомины, русский язык позволяет вытворять со словом ТАКОЕ, таинственно расширяя и непредсказуемо переворачивая с ног на голову привычное содержание!
(Да, да, я был слишком молод для того, чтобы сначала проглотить «Звездный билет», потом «Апельсины из Марокко», затем «Затоваренную бочкотару», и уж только тогда!..)
За полдня прикончив «Поиски…», я рванул в художественный отдел институтского книгохранилища, и хорошо знакомая библиотекарша с улыбкой протянула мне затертую серую книжку с названием «Коллеги» и несколько переплетенных вместе номеров «Юности» с повестью Аксенова «Любовь к электричеству».
Честно говоря, по прочтении обоих произведений меня посетило некое разочарование. Язык-то почти тот же, легкий и вкусный, но где же столь потрясший меня, до крамолы свободный полет фантазии?
Уже через тридцать лет я узнал от самого Василия Павловича, что оба эти произведения были абсолютно конъюнктурны: «Коллеги» написаны специально для того, чтобы создать положительную репутацию молодому писателю, впервые проходящему сквозь идеологические грабли, а «Любовь…» была индульгенцией, замаливающей какой-то очередной аксеновский грешок. Но ведь и в ней оказалась спрятана традиционная для него фига в кармане: повесть была посвящена наркому Леониду Красину, чей внук в 70-е был арестован по громкому делу правозащитников Красина и Якира[224]!
Ох уж эти аксеновские фиги!
«Вот спуск к Зоопарку. Здесь в трамвае умер от удушья Юрий Андреевич…»
Это когда? Где? О ком?
А ведь мы все помним знаменитое клише: «Пастернака я не читал, но гневно осуждаю…», и только Аксенов позволил себе эту плюшку, которая прямо в официальном советском издании стала «маячком» для своих, для тех, кто опального «нобелянта» ЧИТАЛ, знает сюжет «Доктора Живаго» и помнит имя-отчество заглавного героя!
Вдруг, в самом конце 70-х перед Олимпиадой, аксеновские произведения начали как-то пропадать. Нет, их еще не изымали из библиотек, но заметно реже печатались новые, а доступ к старым стал потихоньку сокращаться.
А потом Аксенов уехал. Вернее, «его уехали».
Наступило время, когда переходный глагол «уехать» стал пониматься однозначно и пояснений не требовал. Страна бездумно и расточительно избавлялась от своей совести, от людей, вполне способных составить ей славу, и в результате получила огромный позор на весь мир.
Все мы продолжали бережно хранить приобретенные ранее аксеновские книжки и с жадностью вслушивались в различные «радиоголоса», сообщавшие о новых произведениях писателя и даже иногда читавшие отрывки…
А в 84-м, идеологически самом противном году, мне звонит приятель и говорит:
— Серега, есть тут одна книженция, ты давно ее ищешь. Но учти: ровно на сутки. Какая? Н-ну-у… скажем так: пособие по лечению термического повреждения кожи.
О, этот совковый эзопов язык «для своих»! Знал же я, что именно роман «Ожог» стал настоящей причиной лишения Василия Аксенова гражданства СССР…
Что тут сказать… я тогда действительно проглотил толстенный роман за сутки. Еда, сон, работа — конечно же — были заброшены в дальний угол жизни, но ведь не мог я оставить без еды маленького сына!
И вот, помню, как стою в огромной очереди гастронома на Кутузовском, прямо напротив брежневско-андроповского дома, а в руках у меня — стыдливо обернутый в газету томик «Ожога», открытый лишь на маленькую щелочку: не дай Бог, кто прочтет из-за спины хоть одну фразу, там же все сразу понятно!
Но оторваться я просто не мог, несмотря ни на какой риск.
Почему? Постараюсь объяснить. Это была не просто хорошая книжка, написанная человеком с близкой мне идеологией. Это была книжка, НАПИСАННАЯ ПРО МЕНЯ! Пусть герои были намного старше, пусть их профессии и семейное положение были отличны от моего, но весь внутренний мир, все муки, переживания и приключения, казалось, были целиком и полностью списаны с моих!
А в конце 80-х случилось чудо: мир совка начал со страшным грохотом рушиться, и «профессор славистики Мэйсоновского университета Вассили Аксионов» впервые за много лет смог приехать в Москву и Казань.
На Родину.
Как же я тогда старался добраться до него! Я ужом извивался во всех редакциях, куда мог войти, объясняя, что никто лучше меня не сможет поговорить с этим великим человеком, ведь я глубже всех его понимаю и смогу передать читателям все, что осталось недосказанным или недопонятым в его книгах…
Увы. Интервью и материалы об Аксенове тогда появились практически во всех газетах и журналах страны, но ни один из редакторов не уступил мне столь желанной для многих радости общения с Василием Павловичем.
И вот прошло много лет, и вдруг, в 2007 году, у моих товарищей Андрея Макаревича и Миши Генделева возникает сумасшедшая идея: в разгульной форме Фестиваля джаза и литературы справить юбилей Василия Аксенова, провести его в Казани, на родине писателя, и чтобы я стал его режиссером…
Согласившись, я не спал ночь.
Через пару дней мы все встретились в ресторане ЦДЛ(!!!) и начали фиксировать намерения и строить первые планы. Тогда и возникло слово «Аксенов-фест», но Василий Павлович был не очень уверен в наших организационных способностях. А кроме того, он выражал беспокойство по поводу одной неадекватной дамы, которая после возвращения несколько лет не давала ему в Казани прохода, заявляя, что когда-то была его любовницей и родила сына, причем возраст этого сына в аккурат соответствовал середине аксеновской жизни в США. Ее имени и фамилии Василий Павлович, конечно же, не знал.
Я тогда позвонил в офис своей помощнице, и она, подняв в Интернете все публикации на жареную тему, выяснила ее фамилию и диагноз. Теперь следовало связаться с Казанью и обозначить проблему.
Через десять минут Василию Павловичу на мобильник позвонили из мэрии Казани и сказали, что проблем с такой-то дамой во время фестиваля у него не будет, ибо ей уже сейчас везут путевку в санаторий на эти дни. Удивление и восхищение писателя нашей оперативностью было столь сильным, что сомнения по поводу «Аксенов-феста» в Казани сразу улетучились.
А потом был сам фестиваль и совершенно фантастическое общение!
Во время «Аксенов-феста» у нас проходили съемки фильма, который я заранее назвал «Визит пожилого джентльмена», нарочито перекликая сюжет с «Визитом старой дамы» Дюрренматта.
Дело в том, что и молодую Клару Цаханассьян[225], и маленького Васю Аксенова их родные города изгнали, обрекая практически на смерть или нищету, но героиня Дюрренматта приехала в Гюллен МСТИТЬ, а Василий Павлович, будучи в Казани, даже не понял связи одного сюжета с другим. Он взахлеб восхищался обновленным городом его юности и достижениями новых руководителей!
Мне, правда, повезло поймать объективом несколько «моментов истины», среди которых был один, по-настоящему страшный. Мы тогда привезли Василия Павловича в квартиру, где он родился и вырос, откуда казанские чекисты забрали в лагеря его родителей и где он не был более семидесяти лет.
В квартире все совершенно изменилось, теперь там контора Городского отдела образования, но я помню ту странную смесь радости и ужаса в глазах Аксенова, когда он вдруг узнал уголок, где стояла его кроватка, кабинет, спальню родителей и вид из окна, куда он смотрел, провожая чекистов, уводящих отца!
Сейчас я понимаю, что далеко не всякий мог бы так мужественно перенести потрясение встречи с самым страшным моментом своего далекого детства.
А потом мы поехали в деревянную развалюху, где маленький Вася жил с дядей и тетей после той трагедии. Именно этот дом было решено реконструировать, чтобы открыть в нем… нет, не музей! По плану это называлось «Аксеновский творческий Центр»! Василий Павлович уже был внутри вместе с мэром Казани, но я попросил его войти в дом еще раз, специально для фильма. Задача была в том, чтобы походить по комнатам, постоять у окон с сигаретой в руке и немножко повспоминать…
Сегодня, глядя на эти кадры, на его лицо, я даже не знаю, он мне подыграл, или действительно в этот момент лопнули нитки в мешке воспоминаний и посыпались на писателя таким обвалом, что через пару месяцев уже были готовы две части «Лендлизовских», написанных именно про этот дом, про это время.
По его замыслу в третьей части романа была история про триумфальное возвращение писателя в город юности. Про юбилей, про фестиваль, про всю атмосферу нашего праздника.
Честно говоря, я очень надеялся и мечтал прочитать в этой части и о себе, и о съемках фильма, но… рукою Высшего Писателя сюжет был закручен так, что эту историю Аксенов рассказать уже не успел.
Когда его автомобиль растерянно ткнулся носом в бордюр недалеко от дома, мозг уже перестал выпускать мысли наружу.
Письма
Письма друзей[226]
Дорогой Василий Палыч! Я провел с Вами четыре дня, и чувствую, вынужден обратиться к забытому эпистолярному жанру, чтобы что-то выразить, сформулировать и сказать Вам, как Другу, как Писателю слова радости, — Вы нам приятное, и мы Вам! В самом деле, знаешь, самое замечательное, поверх всего, Высокой Печали и Великой Ярости, когда закрываешь книгу и потом все продолжаешь жить в ней и с нею, это радость от того, что она написалась, вышла, созрела, что это ты ее написал, что ты все равно к ней пришел, к Свободной Книге, и с у м е л, понимаешь, не разбазарил, не разболтал, не отделался прежним, а так собрался, сгруппировался — какой выдох после сорокалетнего вдоха! А как прекрасно читать книгу неотредактированную, переливающуюся, надоедающую малость, кружащую, долгую, свободную во всем! Как она набита, наполнена, как ты не забываешь ничего, ни детали, как плывут сначала из тумана пять твоих машин, мотая огнями, и как замечательно приближаются, нарастают, соединяются — Книга идет все по восходящей, такая здоровая, а ты ее держишь, н и г д е не опуская, — Вторая часть поднимается все выше и выше, и проза густеет, и все становится строже, — видно, как книга меняется, оттого что ты меняешься, или вернее, она подчиняет тебя себе.
Ты знаешь, мы ведь с тобой похожи, из одного теста, просто писали всегда по-разному, про разное, и кучковались в разных местах в ТЕ годы, — вы-то в «Юности», — помнишь, по-настоящему-то и встретились только в «Новом мире», — я это к тому, что моя радость такая, будто это я сам написал, понимаешь, про себя и с в о и м и словами. Помимо правды, испытываешь все время еще и художественное наслаждение, профессиональное, как ты, собака, щедр, как богат, жменями рассыпаешь, слова ставишь прекрасно, фраза все время льется, как лимфа, живая-преживая, и в иных местах слезы наворачиваются от счастья, что человек ТАК пишет среди нашего литературного лесоповала. Ты всегда был поэтом, и здесь поэзия прозы освободилась и расковалась так же, как твоя душа, — я просто вижу, как ты писал и сам смеялся и сам дивился кое-чему, что вылетало вроде бы вдруг из-под пера. Хорошо, хорошо… А какая фантазия, хулиганство, игра «Зарница», как охерительно написана Москва, пьянка, бабы, дети подземелья, — ну, что говорить, мне пришлось бы сейчас все перелистывать заново и останавливаться на каждом куске. Не с кем, зараза, посмаковать и посмеяться! Про Машкин калифорнийский узел, про Хвостищева, про Вляйзера, про вашего друга Вадима Николаевича. На мой взгляд, если тебе интересно, в копилку мнений, что получилось, что вылепилось особенно: понимаешь, все именно вылепливается, постепенно и последовательно, из знакомого и симпатичного аксеновского трепа первой части, из сгустков второй, из поэмы третьей, — так вот, в смысле мяса, что ли, образов (помимо общего образа Книги), что вышло безусловно: Алиса, Самсик, Пантелей, Саня Гурченко, мама Нина. Сокрушительная глава с Чепцовым — он вообще, может быть, самый сильный и свежий тип в книге, с биографией, с прошлым и будущим. Замечательно получился Толя Штейнбок. Ну, словом, все, или почти все. Лихо вышли Катанга, танк в Европе, образ Родины в финале. Мне не очень понятно про бога, но об этом я просто не знаю ничего и испугался, нет ли в этом отголоска м о д ы на Бога, которая явилась теперь. Ну ладно, это все херня, оценки и выкладки, ты сам все знаешь лучше всех, и замечателен, о чем я только и хотел сказать, сам факт, случай с товарищем Аксеновым, и спасибо Русской Литературе, а также Михаилам Афанасьевичам, разным Исаичам, Борисам, Осипам, Маринам и Аннам, а также даже всяким Дуче, и нашей Казани 1933 года, и нашему подземельному детству и нашей подпольной родине, подпольной стране, которую все никак не превратят в образцовую. Превратим Перовский район в образцовский! Превратим Родину в красную смородину! в черную смородину!
Словом, спасибо. Но… тебе, конечно, не поздоровится, я думаю, ты к этому готов, после такой книги что уж в какие-то игры играть, мосты наводить, смешно. Да и наш простой советский читатель разорвал бы тебя в клочки, дай ему тебя обсудить! Но это все уже относится к биографии книги, а не к факту ее рождения. Посмотрим. (Хотя не нужно быть оракулом, чтобы…)
Я тебя обнимаю. Если могу быть чем-то полезен, скажи. И главной Радости, что это сделано, ничем не затемняй. Ни хера. Не ты первый, не ты последний.
Целую. Твой Мих. Рощин
Дорогие Маечка и Вася!
Так счастливо сложилось, что нам с Таней понадобилась водка с винтом (для подарка, как вы догадываетесь!) и мы остановились около Елисеевского в большой надежде на удачу, каковой не последовало, зато у входа в ВТО встретили Беллу и Борю и вместе пообедали паштетом, капустой, рассольником и поджаркой.
Имея в виду зов в гости к Шурику Ширвиндту на этот вечер (24-го), я, естественно, позвал туда и Белочку с Борей. Шурку предупредил, что придем не одни, а приведем пару милых людей, хотя они и из торговой сети[227]. Без паузы он заявил, что любит торговцев гораздо жарче, чем эту сраную элиту. Так и день, и последний вечер в Москве мы провели в этом составе.
У Беллы странное состояние оттого, что, с одной стороны — Бог знает что, — с другой — в «Дне поэзии» опубликовали ее стихотворение[228]. Выглядит она чуть замученно, но прекрасно, а Боря вообще свободен и раскован, умен и добр, как в лучшие времена.
У Ширвиндта Белочка прочла твое, Вася, письмо; очень смеялись и грустили. Сегодня мы с Таней в Амстердаме. Для компании взяли с собой кукольный театр[229]. Пробудем здесь до 10 ноября, потом смотаемся в Брюссель и в конце месяца вернемся в родную блевотину, как ты однажды нарек это место. Нарек, я не побоюсь определить, с большой художественной силой.
Как-то, слушая «Голос», были осчастливлены присутствием при твоем разговоре с некоей Тамарой. В том месте, где ты предвосхищал радость Фел. Кузнецова от его возможной встречи с тобой в Штатах, мы очень веселились. Наутро выяснилось, что вместе с нами веселилась, что называется, вся Москва. Таким образом, суждение будто мы живем скучно, глубоко ошибочно и является досужим измышлением наших врагов — противников разрядки[230].
Очень часто на Пахре[231] бываем у Рязановых. Дом в большом порядке, тепло и уютно. Еще он полон напоминаниями о редких, но очень душевных встречах с вами, дорогие ребята[232].
Если встретите Райку Тайц[233], кланяйтесь ей и мальчикам. Еще поклон Володе Лившицу с его папой. С Сашей Володиным у нас общение почти ежедневное.
Целуем вас,
Таня, Зяма.
Привет, Вася!
По-видимому, надо свыкнуться с мыслью, что мои письма к тебе и твои ко мне не доходят, где-то пропадают, и надо пользоваться, хотя бы изредка, оказиями. Я отстукиваю тебе это письмо на машинке, потому что почерк у меня стал совершенно нечленораздельный, и тебе пришлось бы долго его расшифровывать.
Самое смешное — а может быть, трогательное — заключается в том, что я пишу это письмо на твоей даче в Переделкино, которую снял на зиму у Киры[234], а на стене напротив — твоя роскошная фотография, и от этого такое чувство, что ничего не изменилось, все как раньше. Очень может быть, что так оно и есть.
Время от времени я вижусь с Китом[235] и по мере сил наставляю его на истинный путь. При всех извивах его характера и его возраста, думаю, что толк из него получится и он крепко встанет на ноги, надо только набраться терпения. Во всяком случае, именно об этом я толковал ему и Кире с переменным, естественно, успехом.
Бетти Абрамовна[236] уехала к Миле[237] в Штаты, и если ты увидишься с ней в Нью-Йорке, то узнаешь от нее все подробности о моей нынешней жизни. Правда, тебе придется делать поправку и извлекать квадратный корень из ее интерпретации событий.
Я остался один в этой огромной храмине, накупил новой мебели, наклеил новые обои и с юношеским упованием жду начала новой своей жизни, хоть и прекрасно понимаю, что ничего нового и уж, во всяком случае, неожиданного, не предвидится. Но — блажен, кто верует.
Однако одиночества не испытываю — у меня, во всяком случае, пока она не обзавелась собственной семьей и детьми, есть Мариша[238], да и с Валей[239] у меня сохранились самые добрые и дружеские отношения. Собственно говоря, они, Мариша и Валя, моя семья, пусть и на отдалении. Так и живу, утешая себя тем, что немного уже и осталось, каких-нибудь, в лучшем случае, двадцать лет — глазом не успеешь моргнуть.
Вижусь мало с кем — с Мишей Рощиным, Юликом Карелиным, Юрой Левитанским, Витей Славкиным, Ряшенцевым, реже — с Булатом. Новые друзья, как и новые любови, в нашем возрасте заводятся уже с натугой. Очень редко вижу Беллу, но прежней простоты и близости отношений между нами давно уже нет. Что поделаешь.
Играю в теннис, езжу в те же Дубулты, Сочи, Ялту, Пицунду[240]. Круг жизни, видимо, определился уже навсегда.
В ноябре прошлого года в журнале «Театр» была напечатана «Игра теней»[241] («Клеопатра»), я не верил в это до последнего дня. Скромная, — а радость и щекотание собственного тщеславия. В конце концов, выходит в «Совписе» книга прозы, пять повестей, написанных в разное время, а в «Искусстве» — пьесы, «избранное», удостоился в кои-то веки. Написал новый роман, называется «Жизнеописание», одно название — роман: меньше пяти печатных листов. Друзья похваливают, а «Новый мир» взялся печатать, но беда в том, что они могут не успеть до выхода книги — я этот роман тоже включил в «совписовский» сборник, так что могу остаться без журнальной публикации, а ведь у нас книги ни критики, ни «литературная общественность» не читают, читают только журналы. Не беда, напечатали бы хоть в книжке.
Как видишь, я все более решительно ухожу из драматургии в прозу, очень уж остоебенили господа актеры и, особенно, режиссеры. Впрочем, правды ради, надо сказать, что в будущем сезоне будет поставлен «Вийон»[242], да и «Клеопатра», надеюсь, не останется без театра, а на телевидении ставят сразу три моих старых комедии. Но писать для театра действительно не хочется — уж очень суетное и потненькое занятие, а с годами суета уже кажется все более и более унизительной и ненужной. Хуже и унизительнее театра разве что кино, но уж его-то не избежать: хлеб наш насущный.
За кордон меня решительно и бесповоротно не велено пущать, приходится с этим примириться, хоть и саднит, как застарелая зубная боль. Впрочем, может, что и изменится со временем, чем черт не шутит. Да не в этом, как говорится, счастье. Хоть и очень и очень хотелось бы с тобой повидаться, наговориться вволю, и не торопясь. В наших с тобой отношениях, если смотреть правде в лицо, многое стало не вытанцовываться в последние годы, многое мы друг в друге не понимали, разводили нас в разные стороны новые друзья и новые пристрастия, вкусы, литературные увлечения и нетерпение, но я всегда тебя числил, и теперь тоже, среди самых близких моих людей, ничего из нашего прежнего не забываю и люблю, как всегда, и присно, и во веки веков, прости за некоторую выспренность слога.
О тебе я, собственно, почти ничего не знаю, новости и известия приходят через пятое на десятое, да и то из вторых и третьих рук, обрастая небылицами и легендами. Если представится оказия, напиши подробно и художественно, не жалей чернил и бумаги.
Скоро 28-е марта — печальный день, годовщина смертей Володи[243] и Юры[244]. С их уходом и с твоим отъездом что-то прервалось и в моей жизни, да и в жизни вообще, как-то изменились отношения между мной и миром, то есть между мною и тем, как я живу. А может, дело просто-напросто в возрасте и в тех неизбежных утратах, которые приходят вместе с ним. Да и тебе, помнится, в этом году перевалит за полста.
Мне тебя не хватает, пиши.
Поцелуй от меня как можно нежнее Майку, я о ней тоже всегда помню.
Я никогда не умел писать писем, мне всегда кажется, что самого главного я так и не вспомнил и не написал.
При случае, я непременно пошлю тебе, когда они выйдут, обе свои книжки. А что у тебя по этой части? Как пишется, что впереди?
И вообще…
Не забывай. Жму тебе руку и обнимаю. Будь бодр и легкомыслен, а главное, — держи хвост морковкой, еще не вечер.
Твой Ю. Эдлис (роспись)
Вася, Вася!
Тебя, конечно, в первую очередь интересует Бася. Спешу сообщить: она, естественно, ужасно снялася, и в платье белом, и в платье голубом![245]
Теперь можно перейти к менее срочным новостям.
Послал я через Мари Эллен Ж. Владимову (и он получил) «Остров Крым», «Железку» и «Континент» № 24. «Ожога» у Аниты[246] не оказалось, а то было бы полное собрание сочинений.
Видел Булата. Два концерта его прошли с о<->енным успехом. Но он болен (желудок), намеревался сразу по прибытии в Москву лечь в больницу. В Париже он был всего неделю, мало с кем виделся, не ел, не пил, быстро уставал. Он мне задал вопрос: что у меня произошло с Максимовым? Ответив, я задал встречный — что у тебя произошло с Аксеновым?
Его версия: его просил Ф. Кузнецов[247] помочь ребятам, чтоб они не обостряли отношения, и он пошел на это, не зная, что ты решил идти до конца. На секретариате понял, что ему было бы лучше не ходить вообще. Ужасно был удручен твоей фразой: «секретарский подпевала». «Ноги у меня стали ватными — но потом я понял, что я старше его, а он сейчас сильно нервничает. На проводы я не пришел, потому что не хотел вращаться в светском обществе. Я вообще практически сейчас ни с кем не общаюсь. А вообще я Васю люблю» — вот буквально его слова. Я передал разные нежные слова от тебя.
Он специально привез фотокарточку и попросил меня снять копии, что я и сделал. Оригинал вернул ему, а одну из копий посылаю тебе. Как молоды мы были! Он говорит, что это на вечере Евтушенко в Политехническом (61 или 62?!?).
Как вам город Вашингтон при ясной (осенней и зимней) погоде? Майкины настроения и самочувствие?
Сейчас я взял бюллетень на десять дней (тем у нас, у кого нет стипендии от тов. Кеннона[248], приходится хитрить, чтоб написать хотя бы одну-две главы к роману).
Приедешь ли ты в феврале в социалистическую Францию?
Пользуюсь случаем и поздравляю Вас, ребята, со всеми Рождественскими и новогодними праздниками. Надеюсь, что когда-нибудь будем жить в одном городе, чтоб, отвалившись от праздничного стола, пойти вместе к бабам[249].
Всех благ!
Обнимаю.
Дорогой Вася!
Будучи в больнице прочитал «Остров Крым» (принесла Наталья, уплатившая, как говорит, 50 рублей) — прочел, не отрываясь, лишь изредка бегал курить в сортир. Вещь замечательная, с чем позволь поздравить тебя от всей души. Много блеска, искрометности, провидения. Есть прямо-таки классические сцены (впрочем, ты сам знаешь, какие): в бане, на заседании политбюро и все вторжение. Мне сдается, единственная твоя здесь ошибка — что не сказано, как отнеслась эта географическая аномалия к оккупации 41–45-х годов, отсюда ведь и должно было, по идее, почти все движение Общей Судьбы. Думаю, критики на это укажут, но черт с ними, с критиками, важно, что удалось основное: изображение государственной уголовщины, которую никак не поймет этот всепроникающий, мудрый Запад. Обнимаю тебя и благодарю, поцелуй за меня Маечку.
Твой Жора
Милые Майя и Вася, пришли к Белле, оказия. Пишу Вам и целую Вас не в конце письма, а в начале. Очень рад был узнать от Беллиного гостя, что вы оба хорошо выглядите, довольны жизнью, что (подтверждается) «Остров» вышел по-русски, но мы пока книги не видели. Так как меня торопят, то сразу перехожу к просьбе, — узнать, что слышно с моей повестью «Декада», о ее местопребывании знают Копелев, Эткинд, Ира Войнович. Слыхал, что по-русски теперь трудно что-либо напечатать, правда ли это? Со слов Васи (я уже об этом писал) узнал, что повестью будто бы заинтересовался Карл. С помощью вышеуказанных лиц можно доставить ему рукопись. Кто-нибудь дайте мне знать обо всем, Вася, я Вам очень благодарен за все, что с Вашей помощью со мной произошло и происходит. Будьте счастливы в любви (Майи) и в новой книге — в третьем романе. Еще раз целую Майю и Вас.
Ваш С. Липкин
Дорогой Вася!
Прочитал «Остров Крым». Разумеется, мы откликнемся. И откликнемся положительно. Но в частном порядке мне хотелось бы возразить тебе по двум принципиальным (во всяком случае, для меня) поводам. Согласись, что мир обитателей твоего фантастического «Острова» в известном смысле являет собою слепок российской эмиграции. И хотя ты, в конце концов, высмеиваешь носителей Идеи Общей Судьбы, приводя их к полному краху, к ее главному апологету — Лучникову относишься с явной симпатией. Это право автора, но у того же автора, на мой взгляд, нет права искажать при этом подлинное положение вещей в эмиграции, переворачивая ее изображение с ног на голову. Когда в авторской ремарке ты, идеализируя своего героя, пишешь, что-де не патриоты-монархисты, а, мол, лишь такие либералы, как Лучников, бросились в пятьдесят шестом на Будапештские баррикады[250], то это, мягко говоря, далеко от истины. Я, Вася, не монархист и не испытываю никакой симпатии к монархии, но справедливости ради должен отметить, что в трагическую для венгров минуту рядом с ними оказались именно монархисты из НТС[251] — Олег Красовский (весьма, кстати, неприятный субьект), Глеб Рар, Александр Артемов и другие, а либеральные эмигранты и, употребляя твою метафору, сторонники Общей Судьбы, вроде тогда еще молодого графа Степана Татищева[252], стояли в охранительном оцеплении у советского посольства в Париже, спасая оное от гнева разъяренной толпы (и это в те дни, когда Сена пестрела партийными билетами, выброшенными туда самими французскими коммунистами).
Второе мое (повторяю, Вася, сугубо частное и огласке не подлежащее) замечание касается твоей, если так можно выразиться, интермедии «К столетию Сталина». Деление палачей на талантливых и бездарных мне представляется неправомерным. Читатель, который любит тебя, поверит тебе на слово, но в действительности такая раскладка искажает историю, а это уже грех для писателя немаловажный.|
Мне, к примеру, трудно понять, чем Троцкий лучше Сталина? Ты пишешь не фельетон и не памфлет, а роман, и твой долг доказать это противопоставление художественными (прости меня за банальность!) средствами. Если ты полистаешь материалы партконференции, посвященной новой экономической политике, то убедишься, что на стороне спасительного, как ты его называешь, ленинского плана стоял тогда именно Сталин (хотя и из чисто тактических соображений), а против были умный и талантливый Троцкий и его сторонники, которые выступали за полное и окончательное удушение крестьянства вообще и любой личной инициативы в частности, а также за всемерное развитие перманентной революции, то есть за распространение своего гнусного режима на весь мир.
Давай также зададим себе вопрос, почему именно талантливый Блюхер[253] приговорил к расстрелу талантливого Тухачевского[254], талант которого, кстати сказать, проявился только в беспощадном изничтожении почти безоружного тамбовского крестьянства, остальные сколько-нибудь крупные операции он бесславно проиграл, включая польскую авантюру? И чем трусливый и достаточно травоядный Калинин[255] хуже талантливого мокрушника Махно[256], лично, своими руками замучившего семью когда-то обидевшего его уездного чиновника и вырезавшего евреев (хотя в его окружении были и евреи) целыми местечками? По чужим-то тылам ходить невелико искусство, мелкие бандиты всегда ухитряются бить со спины. Под стать ему и талантливый Сорокин[257] (о котором много наслышан по своей работе на Кубани и Ставрополье) — патологический палач и животный юдофоб, заливший крестьянской кровью все свои дороги от Тихорецкой до Пятигорска. Или экзотичность убийцы делает его для нас нравственно более приемлемым, чем его бездарный коллега?
По ходу письма вспомнилось, что на той же партконференции сам Ленин, никогда, впрочем, ничего не стеснявшийся, назвал свой спасительный план вынужденной тактикой, которая при первой же возможности будет снята с повестки дня. В полном соответствии с указаниями талантливого своего учителя — Ленина его верный, хотя и бездарный ученик Сталин это впоследствии и проделал.
Мне думается, что подлинную точку отсчета в анализе нашей истории двинула в своей последней (и я считаю гениальной) книге Евгения Семеновна[258], впервые поставив перед собой и перед своими современниками вопрос: а что же я, что я делала до того, как оказалась в следственной камере?
Если мы хотим полной правды, мы можем и обязаны начинать только с этого вопроса, иначе все начнется сначала и нам уже никогда не выбраться из заколдованного круга мифов и заблуждений.
Вот, пожалуй, и все.
Искренне твой В. Максимов
P.S. Прости меня, но еще одно «кстати». Талантливые Блюхеры побеждали только на фронтах, которые практически некому было защищать. Его последняя победа на озере Хасан была достигнута в пропорции: шесть советских дивизий, с учетом фундаментального тыла, против двух японских — с враждебной китайской территорией за спиной, то есть безо всякого тыла вообще. И к тому же какой кровью!
Дорогой Вася!
Поздравляем с днем рождения, сиречь — с важным юбилеем, в вечер которого 20-го числа августа месяца мы, е.б.ж., подымем чаши с напитками и осушим их до дна, как деревенщики. За Ваше здоровье, счастье, prosperity. Чего потребитель может желать творцу? Сущих и грядущих бумажных «кирпичей» и «половинок», радости, света в конце тоннеля.
20-го авг. мы с Вами, вопреки материализму, будем сидеть за одним длинным столом. Я, Евг. Попов, выпью изрядно и, не умея тостовать, скажу Вам на ухо, что все мы — поколение дырок из «Звездного билета» и что время все разложит по полкам и каждый упокоится. А Вы мне скажете «Easy» и будете правы.
А Светка подымет бокал на тонкой длинной ножке и, покачнувшись от волнения, скажет: «Вася!»
Обнимаем. Целуем. Майю Афанасьевну — с именинником!
Евг. Попов
Наш дорогой, многочитаемый и глубокопочитаемый, любимый Вася! Поздравляю тебя с твоим полстолетьем, очень жалею, что не могу принести тебе 50 роскошных роз, — никогда не забываю тех 52-х, алых и белых, которые ты принес мне в мои 52 года. Если бы была у меня такая возможность, я по старинному образцу вложила бы в розы и записочку: «Недолго знала, но навеки полюбила». Спрашивается: кого или что. И то и другое. — Тебя, как друга, писателя, нежного человека, твой «Ожог», «Остров Крым» и теперь с радостью и упоеньем твой «Свияжск».
Чем я тебе не гимназисточка, влюбленная в Аксенова? Это все ж лучше, чем твои сорокалетние девчушки, бегающие в ЦДЛ.
Васенька, родной, будь здоров в свое второе полстолетье! Нет ни одной встречи с нашими общими и необщими друзьями, когда о тебе мы не вспомнили бы, с помощью русских, а иногда и английских слов.
Слушали по голосу о твоем новом романе «Бумажный пейзаж». Ждем!
Милая Майечка! Поцелуй, пожалуйста, своего мужа так, чтобы он понял, что его целуют все гимназистки этой земли. Будь счастлива с Васей и, конечно, строга.
Мои милые, по желанию Беллы, безмерно любящей Васю, 20-го августа мы у нее отметим день рождения.
Белла, оказывается, не только очаровательный поэт, но и совершенно очаровательная хозяйка. Семен Израилевич присоединяется всем сердцем к моему поздравлению (хоть и не входит в круг поклонниц-гимназисток, а по-мужски высоко ценит твой писательский и человеческий дар) и целует тебя.
Еще раз поздравляю и целую, целую и поздравляю.
Инна
P.S. Узнала, что друзья тебе и сочинения свои посылают, и я решила послать. Понравится — передай в «К» Володе М.
Дорогой Вася!
Пользуюсь умопомрачительными каналами[259], неожиданно прорытыми провидением, и сообщаю тебе следующее:
1) Сарра[260] оказалась цдловской болтушкой. Возможно ли, чтобы я высказывался с осуждением[261].
2) Узнал о Карле[262]. Как это отвратительно! Жизнь о нас совсем не заботится: какие-то постоянные пакости.
3) Как легко было из Парижа[263] говорить с Вашингтоном. Ну надо же! Теперь это не для нас: ни телефон, ни Греция, ни омары.
4) Надеюсь, ты не очень встреваешь в борьбу противуборствующих изгнанников? Это все пустое.
5) В Москве дело к зиме. Отсюда падение нравов. Ужесточение. Феликс[264] выгуливает собачку. Я стараюсь быть равнодушным, но даже это не помогает писать. Конечно, мои демонстративные шаги в Лютеции[265] стали достоянием некоторых любознательных соотечественников, и в Москве собирался произойти скандальчик, но потом быстренько его затушили: видимо, в данный момент не очень выгодно. Чем и пользуюсь.
6) У меня все замечательно. Хотелось бы к вам, но возраст и утрата способности подсуетиться, чтобы заработать, осложняют мои фантазии.
7) Целую и обнимаю,
и еще Майю, Карла[266], Иосифа[267] и многих-многих других.
Булат
P.S. Если связан с Сашей Соколовым[268], скажи, пусть черкнет.
Дорогой Вася!
Недавно слышал тебя[269]. К сожалению, одну часть, как проводили отпуск. Было грустно.
Появилась случайная оказия, но не могу сообразить, что сказать. Все время хотел много и что-то важное, а сейчас вылетело. Во всяком случае, радоваться нечему.
Недавно праздновали полвека Борису Мессереру. В ВТО. 150 человек. Сумасшедший дом. Фазиль, Биргер[270], Попов, Инна Л., Семен Изр., Гриша Горин. В общем, все те же. У Фазиля сын — Сандро[271]! Ничего себе?
У нас дома вот уже полгода ремонт. Что-то на нас протекло. Это очень интересное мероприятие, если ты не забыл, как это у нас делается.
Белла хороша. Пьет мало, пишет много. Все утряслось у нее. Кое-кто еще живет надеждами, но это уже другая компания.
Думаю, что после французского вояжа[272] я не скоро выберусь на Запад, хотя кто знает.
Обнимаю тебя и Майю, и кланяйся от меня всем знакомым.
Булат
Перевод c английского М.Вогмана
Дорогой Василий,
я был очень рад получить твое письмо. Извини, что моя рецензия на «Остров Крым»[273] была местами не только хвалебной — я, безусловно, восхищен (а кто бы не восхитился?) его энергией, независимостью, страстью (или страстной юмористичностью). Я очень жду знакомства с «Ожогом»[274], тогда я совершу очередной набег в СССР. Спасибо за замечания о Трифонове[275]; разумеется, читатель перевода много теряет — но чудо, пожалуй, в том, сколько он тем не менее получает (или мнит полученным).
Надо сказать, я всячески восхищался тем мужеством, с которым ты принял потерю своей страны и языка, став этаким бодрым американцем. Твои недавние — и отличные! — высказывания о довольно-таки износившемся мире американской литературы показывают, что ты теперь — во всех смыслах — говоришь с нами на одном языке. Удачи тебе с твоим первым романом по-английски[276]. Я завидую не самому вызову, на который ты отвечаешь, сколько тем искрам, которые высечет сила трения при таком усилии.
Надеюсь, Евтушенко никогда не увидит моей жесткой реакции на его роман; двадцать лет назад он был со мной крайне любезен, да и остается значимым явлением, несмотря на все свои пошлости.
Вася и Маечка, с Новым годом, дорогие, с новым счастьем и со всеми остальными нашими праздниками!
Ну, сначала московские новости:
1. Очень плох Володя Корнилов — никакого заработка, считает, что в семье он — «лишний рот», даже дочь зарабатывает, а он — ничего. Жену, говорит, из красивой женщины — старухой сделал. Через три года ему будет 60. Устроился сначала гардеробщиком, а сейчас ночным сторожем за 80 р. Был у юриста — Софьи Вас. Калистратовой, — та ему сказала, что с пенсией ничего не получится. Тут в издательстве у него есть деньги — обещали часть ему переслать в сов. рублях, ждут оказии. Выезжать он не хочет.
2. Инну Лиснянскую вызывали куда надо, провели с ней 2-часовую беседу. Семен Из.[277] ждал ее внизу, — потом ему было плохо с сердцем. Никаких подписок, что не будет впредь печататься за рубежом, она не дала. Просит, чтоб о ней дали рецензию не как о гражданине а как о поэте, и чтоб писал не «Кублановский». Во, чего захотела! Заказали мы рецензию Ире Заборовой — дочери Бориса Корнилова, авось Инна будет довольна.
3. Сахаровы с 8 сент. вместе[278]. Первый месяц он был совершенно невменяемый, сейчас уже работает. Были у него 2 физика из ФИАНа[279]. У Гали Евтушенко есть генеральная доверенность от Люси[280] на все, но в квартиру, опечатанную, Галю не впускают и взять зимние вещи не дают.
4. Ну, про дачу Пастернаков вы знаете. Лев Зин.[281] говорит, что у Наташи Пастернак[282] есть уголовное дело (чистое), и когда милиция пришла, то ей пригрозили — будете шум поднимать, дадим ход делу. Вот так. Прав Синявский, все мы — блатные при этой власти.
У нас все ничего. Я вроде от депрессухи отошла маленько, вот только скучно здесь очень, выпить не с кем!
Представляю, сколько слов (и каких) произнесла Белла по поводу ордена. Журнал со статьей Васиной мы отправили через Кельн недели две назад.
Майка, ношу твою оранжевую двойку не снимая — и сплю в ней, и гостей принимаю, — спасибо! Когда Гладила поедет в Америку, передам тебе подарок — кружевную накидку из Москвы, полученную с оказией.
Ну, еще одолела[283] мистера Солжа. По своей неграмотности большой разницы с Кратким курсом[284] не обнаружила. Что же до Тарковского[285], то в «Вестнике»[286] Струве[287] был вынужден дать передовую «Тарковский на Западе». Так что этим мальчиком они подавились[288]. По всему видать — когда художник смеет говорить о себе[289], им это очень не нравится.
Когда вы будете в Европе? Скучаю без вас. Кланяюсь всем, особенно Аленке[290]. Как она? Газету ее изредка вижу — совсем хорошая газета.
Целую вас крепко
Наташа
P.S. Мише Рощину[291] большой привет.
Дорогие Маечка и Вася! Поздравляю с Новым годом и с вашим американским Днем благодарения, желаю всех российских и американских благ! А главное, дети мои, — здоровья!
Завершился мой первый редакторский год (сейчас выскочил 134-й №), и должен сказать, наиболее гвоздевым материалом оказалась «Прогулка в Калашный ряд»[292]. Это именно то, что и нужно «Граням» (новым). Отзывы со всех сторон самые благоприятные, временами «переходящие в овацию», как писали при Иосифе Виссарионыче. «Так держать, медсестра!»
Кстати, лежат Васины 1250 нем. марок (я выписал по высшей ставке), что с ними делать? Благодаря Ронни и вообще «рейганомике» это выйдет в долларах втрое меньше, но, м.б., переслать?
У Чалидзе[293] вышла книжка Роя[294] «Они окружали Сталина». Я ее читал в рукописи в Москве, очень любопытно. Это жизнеописания Ворошилова, Маленкова, Молотова и т. д. — с Роевской дотошностью. Хотел бы ее похвалить в «Гранях», но там уже настолько привычно стало Медведева только ругать, что никто из всяких там политологов не берется. Может, найдете такого среди ваших вашингтонцев? Хорошо заплатим.
И еще — о «Бумажном пейзаже». Рекламу Наташа сделает в след. номер, но нужна рецензия. Кто возьмется? У нас пока старый круг рецензентов, а новыми мы еще не обзавелись.
Большой привет Мише Рощину. Слава Богу, что хоть его по мед. делам выпускают. Не будет ли у него путей в Германию? А также и у вас?
Обнимаю, целую, всегда ваш
Жора
Дорогой Вася!
Получили ваше письмецо от 12 февраля, спасибо.
Парижский счет обогатим, как наберут текст и выяснится объем. К сожалению, чековая книжка не у меня, а у Жданова, так что приходится считаться с этой арифметикой.
Жданов пока сидит крепко в директорах, и ты можешь «Поиски жанра» послать на его имя. Только советую настоять в сопроводиловке, чтоб книжкой занималась известная тебе Н.Е. Кузнецова — она, еще с одной женщиной из типографии, вычитают внимательно, с минимумом опечаток (и безвозмездно), все остальные тут — дикие халтурщики.
К.[295], как нам известно, зовут в редакторы издательства, может быть — и в главные. Он здесь выступал с грандиозным планом переустройства всей работы, обещал даже привести Солжа (как Наташа говорит — наверно, закатав его в «звезды и полосы», как Берию — в ковер). Дал понять, что он для А.И. первый советник, даже составляет для него списки рекомендуемой к чтению литературы. Объяснил, почему классик принял гражданство США, — оказывается, под угрозой высылки из страны. По-моему, обгадил и Солжа, и — еще больше — американцев. Неужто и впрямь они так давили на бедного эмигранта? А как работать будет К., — незнамо, неведомо. Емельяныч[296] говорит, что он «принципиальный сачок». Зато «Грани» он поливает усиленно — что они «розовеют» и «перестали быть журналом НТС[297]», и «долго это продолжаться не может». Может быть, в мои заместители готовится (или — его готовят), точнее — в заменители.
Твой разговор с тезкой[298], по-видимому, возымел действие: 20-го состоялась трехсторонняя встреча, оченно резкая, где я и Наташа все высказали, что наболело-накипело, руководство (повышая голос до верхнего «до») настаивало, что это «их журнал», они и решать будут, а «наши друзья» заняли позицию примирительную: очень просили меня все-таки продолжать мои «благородные усилия», результаты которых им очень нравятся, а что касается некоторых наших материальных претензий (создание редакторского фонда для авансирования малоимущих авторов, повышение зарплаты моим сотрудникам — до обещанного ранее предела, не более того) — это «ваши внутренние проблемы, в которые мы вмешиваться не можем». Закончилось, впрочем, демонстративно — «миссис и мистер Владимовы» были приглашены отужинать, а руководство — нет, даже жалко было смотреть, как они быстренько хватались за шапки и дубленки. Ощущение — как после Бородинской битвы: поле осталось за французами, то есть франкфуртцами, но «победа нравственная», как пишет Лев Николаевич, вроде бы за нами. Что дальше будет, не знаю, пока — обоюдное молчание, с осторожным выведыванием, что же там дальше-то было, за ужином, и не собираюсь ли я все-таки уйти. Вот так и живем.
Из Москвы сведения, что братцы-кролики из ССП выступили дружно против Георгия Мокеича[299], а Феля Клизмецов[300] принародно каялся, что за 10 лет своего секретарства ничего хорошего для Союза не сделал. Скромничает, падло: а разоблачение «Метрополя» как происков Си-Ай-Эй — разве не достижение? Ну, и еще одно благое деяние мог бы поставить себе в заслугу — следователю Губинскому рекомендовал меня не сажать, а выпихнуть к чертям свинячьим на Запад.
В свой черед и киношники кроют своего Ермаша[301] — как душителя и гонителя, к тому же — и лгуна по части статистики зрительского интереса к советским фильмам. Не иначе — сымать будут.
Белла и Боря всерьез приняли предложение от Гарри Солсбери[302], т. е. это им даже предложено было. Наташа с ними 30 минут говорила, настроение у них приподнятое. Может быть, вправду выпустят их, а не только Евтуха, тогда больше узнаем.
Как с домом твоим? Очень обидно, что вы в такой переплет попали. У нас деньги сейчас в «депо», как говорят финансисты, но где-то в начале апреля они оттуда покажутся, так что подавайте заявку заранее — на 20 тысяч тугриков, это мы сможем вам перевести без конвертации, т. е. без потерь.
Стесняться тут нечего.
Обнимаю и целую М., В. и У[303].
Ваш Жора
Дорогие Майя и Вася!
Посылаю Вам НТСовскую частушку, собирательница Н. Денисьева (Кузнецова).
Разгулялося село,
К нам приехало Кубло,
Оно всех пере<-> ло[304] —
То-то было весело!
Статью на «С.И.»[305] заказали Елене Тессен — она уже писала рецензию в «Обозрение». Некрича[306] — прочтите.
Целую, Наташа
Дорогие Вася и Майя! Шлю майский привет с другого берега нашей счастливой жизни без берегов. Вот, например, решил купить винца на Пасху, встал в очереди на Трубной площади. И представьте себе, товарищи, не прошло и 55 минут, как я уже получил 2 штуки «Алазанской долины», 2 штуки «Кагора» и дюжину «Жигулевского». А еще что-то говорят… Очередь была очень красивая, ее обслуживали 5 милиционеров с рупором, призывающим сойти с проезжей части, и 2 ГАИшника с жезлами, останавливающими движение в головах и хвосте очереди. И народ в очереди стоял культурный, с галстуками в шляпах, читали друг другу стихи, которые я не смею привести, потому что во мне сидит внутренний цензор. Я много езжу по территории Расеи и везде вижу различные чудеса, диво-дивное: ускорение, гласность, восстановление социальной справедливости. Вот был в г. Медыни Калужской области. 8 тыс. жителей, как в «городе Градове», с XVII века город горел 32 раза. Древний промысел Медыни — изготовление спичек. Чем еще знаменит ваш город? — спросил я. Тюрьмой, был мне ответ. Она построена в XVIII веке и внутри является архитектурным памятником, был мне ответ в отделе культуры. Сам я сочиняю произведения в стол, посыпая их нафталином, чтоб не завелась моль к тому времени, когда окончательно восторжествует социальная справедливость и начальство, обливаясь слезой, признает, как признало Н. Гумилева, напечатанного в журнале «Октябрь»[307], откуда отправился в небытие тов. Софронов[308], или Д.Г. Лоуренса, чья повесть[309] напечатана в «Иностранной литературе», и вовсе он совсем уже и не порнограф оказался, а очень мыслящий художник, вышедший из шахтерского простого народа, почти как А.М. Горький. Ввиду новых веяний я попытался добиться издания своей мелкой книги, запрещенной в Красноярске в 1980 году, но главный редактор Госкомиздата тов. СВИННИКОВ (так!) объяснил мне, что издавать меня НЕ ТРЭБА, т. к. у меня не тот угол зрения и взгляд мой на действительность нечист. А также преподнес мне в качестве сувенира рецензию, подписанную зам. редактора отдела фельетонов газеты «Правда», где излагалось примерно то же самое. На мой трепетный вопрос, не значит ли это, что меня посылают к чертовой бабушке, тов. Свинников, не сдержавшись, сказал мне, что я могу обратиться к «заокеанской бабушке», дорожка мне, дескать, туда известна. Удивился молодой писатель 40 лет, Евг. Попов, и спросил чиновника, верить ли ему своим ушам, что такое высокопоставленное лицо советует ему печататься за границей. Струсил чиновник и сказал, чтоб я не придавал значения этим словам, что это всего лишь ШУТКА. Ай, шутники, ай, лукавцы, как писал Ф.Ф.К.[310] в незабвенной статье «Конфуз с Метрополем»!
Кстати, о Ф.Ф.К. Он вновь на коне и даже придумал термин «восстановление эстетической справедливости», чтоб, дескать, тех, кто хорошо пишет, нужно, стало быть, печатать. Говорят, что он вовсю бьется с другими «старейшинами». На конференции и съезде ругал Чаковского, Поволяева, Семенова Ю., Айтматова. А на собрании в МОСП якобы обронил, что «я уже 10 лет в «этой канаве»». Товарищи разгневались и (говорят, говорят) хотели его снять, но он пошел «наверх» и укрепился еще пуще. «Феликс пошел ва-банк», — говорит прогуливающаяся под весенним солнышком «аэропортовская» публика.
Из новостей культурной жизни. Видел несколько дней назад пьесу Мрожека «Эмигранты», разыгранную двумя молодыми МХАТовскими актерами в подвале бывшей котельной близ метро «Бауманская». При стечении публики человек в 30. Развеселили Москву Веня Смехов, Л. Филатов и Шаповалов, выступившие на капустнике в честь 30-летия «Современника» с дерзкими куплетами про разоренную Таганку и нашествие на нее «крымовских татар», за что Г. Волчек получила строгий выговор.
На том же капустнике А. Володин рассказывал о своих мытарствах с пьесой «Назначение» и от нервности публично выругался матом. В результате такого хулиганства часть начальственной публики, а также и В. Розов покинули зал. Ну да ладно!
Московиты вовсю смотрят «видео». На Арбате открылся «видеосалон». Там можно взять смотреть разные интересные фильмы. «Ленин в Октябре», «Чапаев», «Анжелика — маркиза ангелов». Я заинтересовался стенными расценками. Суточная мзда такова: фильм на историко-революционную тему — 1 руб. 50 коп., советская киноклассика — 2 руб. 50 коп., остросюжетные современные фильмы — 3 руб.; фильмы зарубежного производства — 4 руб. Как это понять, спросил я служителя. Но он молчал, в упор глядя на меня. Как громом пораженный вышел я на преображенный Арбат, где теперь продают везде яблочный сок и сладкие шанежки.
В конце зимы — начале весны мы со Светкой полтора месяца прожили в Переделкино у Беллы, которая пребывала в Доме творчества на окраине текстильного городка Иванова, где сдружилась с местным трудовым народом все на той же датской почве и откуда она привезла стихи, продолжающие и углубляющие тему «101-го километра»[311]. Вычурным, почти церковнославянским языком описаны простые сов. вещи и люди, и я жалею, что (литштамп) вас не было с нами, когда она читала нам эти стихи на Борином чердаке с видом на посольство неизвестной страны, откуда однажды пришел к Боре охраняющий это посольство милиционер и пытался продать ему икону «середины XIX века».
Я восстановил машину «Запорожец», ударенную в начале зимы тяжелым грузовиком на углу Ленинского проспекта и улицы Строителей так, что подо мной обломилось кресло, купил бензину да езжу по улицам столицы, надев на поредевшую голову коричневую фетровую шляпу. И говорит мне ГАИшник: Ты зачем ехал 85 км, когда полагается 60. Ты кто такой? Я задумался. Художник я, сказал я. Эх ты, художник, е.т.м., неизвестно отчего растрогался чин и отпустил меня, не взяв даже пятерки. Как громом пораженный, чуть не прослезился я, и долго буду помнить такого хорошего человека, которому я за его доброту подарил японский календарик с голой бабой. Как громом пораженный уже от моего поступка (ведь я должен был немедленно «рвать когти», раз меня отпустили), ГАИшник спрятал «радар», сел в свою машину и стал разглядывать бабу, тихо и светло улыбаясь, как дитя, подглядывающее в женскую баню. Вот так одна доброта рождает другую, а та — третью. Об этом мечтал Лев Толстой, и мечта его сбылась.
Передают приветы Инна с Семеном Израилевичем. Инна закончила большую поэму, Семен пишет книгу воспоминаний, и я думаю, что будет она чрезвычайно интересной — ведь он видел ВСЕХ, помнит ВСЕ и пишет обо ВСЕМ. Они живут на даче между Рузой и Ново-Иерусалимом, в Москву наезжают крайне редко, так как физически плохо себя здесь чувствуют, глотают таблетки и т. д.
У соседа моего Карабчиевского вышла (там) книга о Маяковском[312], Тростников[313] по-прежнему служит каменщиком в Даниловом монастыре, Фазиля я уже не видел около года, у Андрея Битова в Грузии вышла хорошая книга, где напечатаны 2 рассказа из «Метрополя». Весной, в Переделкино, видел несколько раз Алешу, говорил с ним. Он мне нравится, хороший он парень. Сейчас, как мне сказал позавчера Боря, он поступил на работу («Мосфильм»), и дай Бог, там все будет в порядке.
Скучаю по вам. Несколько раз видел сон с однообразным сюжетом. То Вася приезжает в Москву, то Майя. Гуляем, беседуем, за столом сидим. Ах, кабы в руку сей сон…
Такова идет жизнь. Привет вам и поцелуи от Светки. Она чуть-чуть нервничает от жизни, но, по-видимому, это удел всех, кто имеет нервные клетки и окончания.
Целую вас и обнимаю
Ваш Евг.
Посылаю для ознакомления две штуки из моей новой книги, которую я все никак не могу закончить
Дорогая Майя,
глубокоуважаемый господин Аксенов, жаль, жаль, джаль![314]
Дорогие, все прекрасно понимаю, о безумном вашем графике информирован, а все равно жалко не увидеть лишний раз разные старые и новые черточки, там, родинки и усики на, в общем, знакомых и близких физиономиях. За неделю до вас приезжали итальянцы, которых повел, в аккурат, на «Крутой маршрут»[315]: каждый раз, как Неелова[316] кричала «дети мои», я хотел встать и объяснить залу, что частично знаю, о ком идет речь. (Все-таки это за пределами — когда чья-то жизнь показывается со сцены в натуральном виде, ну, хотя бы кипяточком обдали. Правда, плакал все три часа, а как не плакать — больно.) Вася, твое весеннее-летнее письмо получил и даже, кажется, ответил, а если нет (оно ответа не требовало), спасибо за добрые слова. А дошла ли до тебя моя книжка? В августе — сентябре провели с Галей и сыном Мишей 40 дней в Италии. Если Италия — у вас, то вы там прямо баснословно живете.
Обнимаем. Толя.
Ольга Трифонова[317] мне сказала, что вы остановитесь в «Советской»[318], звонил — «таких нет».
Вася, Вася,
как ты, наверно, догадываешься — я ужасно снялася, и в платье белом, и в платье голубом! Конечно, я тебя поздравляю с «Ожогом»[319]. Думаю, что это в какой-то степени — завершение твоей карьеры российско-советского писателя. Все-таки из всех твоих вещей для Союза «Ожог» — главный. Представляю себе, какая была бумага. На подобных клозетных серых[320] обрывках сейчас печатается в Союзе максимовский «Континент». Но, как говорится, не в бумаге счастье. И по слепому самиздату читать было хуже.
Звонила Эллендея, я ей передал твое предложение по поводу рецензии, на что она ответила: «Какую рецензию тебе еще нужно после той, что напечатали в «Нью-Йорк таймс»?». В «Нью-Йорк таймсе» действительно напечатали хорошую статейку, но в рубрике «шпионская литература» (17 февраля). Я-то убежден, что этого недостаточно, но Эллендея, мне кажется, никогда не могла развить успех книги в финансовый. Впрочем, нельзя много требовать от милой бабы, и не за это я ее люблю.
Наверно, недели через две мы все-таки с Машей полетим в Москву. Цены на билет огромные, и никакими московскими деревянными гонорарами мы не окупим расходы на дорогу. Однако другого выхода нет, моя книга[321] закончена (два с половиной года работы, это рекорд для меня), и издадут ее только в Москве (если издадут), я хочу издания, хотя бы ради «исторической справедливости». А то сейчас в эмиграции все так перестроились, что никто не помнит (или упорно не хочет помнить), как же все было на самом деле в застойные восьмидесятые.
Работая над книгой и беспрерывно крутясь около детей и внуков, я довольно сильно зарылся в подполье, и волны московских гастролеров меня слегка лишь затрагивали. Пожалуй, хорошо и душевно пообщались только с Арканом[322]. Создается впечатление, что наших доблестных соотечественников на Западе интересуют лишь те люди, через которых они могут приобщиться к каким-то благам. А что с меня взять? Даже редакция «Русской мысли», которая всегда меня побаивалась, но внешне сохраняла любезные отношения, совершенно элементарно отказалась печатать мои некрологи (в этих случаях, кажется, не спрашивают о партийной принадлежности) о Сереже Довлатове и о А.Я. Полонском.
Вчера, получив с большим опозданием Н.Р.С.[323], мы нашли твои большие «воспоминания и впечатления»[324]. Как всегда, прочли с удовольствием. Ты, Васенька, смотришь на жизнь еще с любопытством и на баб тоже заглядываешься. С чем тебя и поздравляю и желаю, как можно дольше продолжать в том же духе.
Обнимаем тебя и Майю.
Толя, Маша.
Я Вам пишу — чего же боле?
И это, собственно говоря, все.
Я Вас искала по всему миру. Надеюсь, в этот раз нашла. Через три дня я улетаю в Варшаву[325]. У меня к Вам просьба: очень не хочется переводить Вас по-пиратски, из советских журналов (в которых, надеюсь, Ваши произведения станут теперь появляться, раз уж СССР не так крепко на Вас сердит)[326]. Могли бы Вы прислать мне Ваши книги для перевода на польский язык? А еще — я издавна ищу адреса М. Шемякина, А. Львова и М. Аллена. Все они связаны некоей духовной нитью с Высоцким, которого я перевожу и издаю в Польше.
Откликнитесь, пожалуйста…
Ольга Бранецкая.
Два письма Василия Аксенова к Иосифу Бродскому[327]
О том, что отношения между двумя знаменитыми советскими эмигрантами в Америке были далеко не безоблачными, известно давно, и это ни для кого не является тайной. Напряженность их отношений была заметна и со стороны. Так, Анатолий Гладилин, старинный друг Василия Аксенова еще по Советскому Союзу, потом по эмиграции (и после возвращения Аксенова на родину они остались ближайшими друзьями), вспоминая о Бродском, привел любопытную выдержку из письма Сергея Довлатова, с которым состоял в переписке. Довлатов объяснял в нем, почему так называемых шестидесятников, оказавшихся в эмиграции, бывшие соотечественники встречали порой не очень дружелюбно: «Они самоутверждаются. Их отношение к вам подкрашено социальным чувством, — писал Довлатов Гладилину. — Огрубленно — содержание этого чувства таково: «Ты Гладилин, знаменитость. С Евтушенко выпивал. Кучу денег зарабатывал. Жил с актрисами и балеринами. Сиял и блаженствовал. А мы копошились в говне. За это мы тебе покажем». Я не из Риги, я из Ленинграда (кто-то остроумно назвал Ленинград столицей русской провинции). Но и я так думаю. Или — почти так. И ненавижу себя за эти чувства.
Поразительно, что и Бродский, фигура огромная, тоже этим затронут. Достаточно увидеть его с Аксеновым. Все те же комплексы. Чувство мальчика без штанов по отношению к мальчику в штанах, хотя, казалось бы, Иосиф так знаменит, так прекрасен… А подобреть не может» (курсив мой. — В.Е.).[328]
Вот, так сказать, рассуждения общего порядка.
Но есть в этих не сложившихся в эмиграции взаимоотношениях Аксенова и Бродского отдельный сюжет, касающийся аксеновского романа «Ожог». Роман, по неоднократным признаниям автора, был его первым произведением, написанным совершенно свободно, без какой-либо оглядки на советскую цензуру. Он был написан еще до отъезда Аксенова из Советского Союза (авторская датировка — 1969–1975. — В.Е.), был абсолютно антисоветским, и власть, «всевидящему глазу» которой «Ожог» стал известен, страшно боялась его публикации на Западе. Боялась настолько, что Аксенов, защищая свою творческую свободу, даже мог какое-то время выдвигать определенные условия. Судя по его письму от 29 ноября 1977 года, роман уже в это время был переправлен за границу. Как видно из того же письма, «Ожог» вызвал неприятие Бродского, выраженное при этом в разговоре с издателем «Ардиса» Карлом Проффером в весьма грубой форме[329].
Однако об издании романа в США речь еще не шла[330].
Но в 1980 году Аксенова все-таки вынудили уехать из страны. Накануне отъезда на него было совершено покушение, когда он вместе с женой Майей на машине возвращался из Казани, куда ездил проститься с отцом.
И вот, когда он оказался на Западе и затем был лишен советского гражданства, сам Бог, как говорится, велел ему этот роман напечатать. «Ожог» еще до приезда Аксенова в США поступил в крупное американское издательство «Farrar, Straus and Giroux». Но тут случилось неожиданное: американское издательство отказалось печатать роман, запрещенный в Советском Союзе.
Своим друзьям Аксенов рассказывал, что виной тому был отрицательный отзыв об «Ожоге» Иосифа Бродского — издательство просило его прочесть роман в качестве эксперта. В своем письме от 28 октября 1984 года Бродский сообщал Аксенову, что встречался с Эллендеей Проффер в Анн Арборе, от которой узнал, что Аксенов считает его «своим большим недругом», человеком, «задержавшим его карьеру на Западе на три года». И Бродский в этом письме попытался не то чтобы оправдаться (виноватым он себя не считал), но разъяснить свою позицию.
По мнению Анатолия Гладилина, Бродский своим отрицательным отзывом нарушил негласное правило, существовавшее в эмигрантской среде: произведения, авторы которых подверглись в СССР преследованию, печатать безоговорочно, невзирая ни на какие привходящие обстоятельства. Заметим при этом, что к 1980 году Бродский уже около восьми лет жил в Америке, его мнение о современной русской литературе было чрезвычайно авторитетным. Аксенов же только что появился в США и не имел еще необходимых связей и влияния. Неудача с публикацией «Ожога» на английском языке была для него тяжелым ударом.
Спустя несколько лет он описал эту ситуацию в другом своем романе «Скажи изюм» (1985, издательство «Ардис»), главный герой которого известный фотограф Максим Огородников имеет много общего с самим Аксеновым, а под именем Алика Конского выведен Иосиф Бродский. Вместо романа «Ожог» речь там идет о фотоальбоме Огородникова «Щепки», печатать который отказывается президент американского издательства «Фараон» Даглас Семигорски. Отказ издательства вызван уничижительной рецензией Алика Конского[331], старого друга Огородникова.
После появления в печати романа «Скажи изюм» вся эта история с «Ожогом» стала предметом обсуждений, толков, слухов и домыслов в литературной среде, как в эмиграции, так и в России (в середине восьмидесятых зарубежные издания на русском языке все чаще пересекали государственную границу Советского Союза).
Но художественное произведение есть художественное произведение, а подлинные обстоятельства происшедшего оставались неизвестными.
Аксенов так никогда и не простил Бродскому той роли, которую тот сыграл в истории с публикацией одного из любимейших его романов. И уже в самые последние годы жизни, если речь заходила о нашем пятом нобелевском лауреате, не мог скрыть давней обиды. Правда, поскольку острота момента давно миновала, он высказывался об этом в спокойном тоне, немногословно, но не скрывая горечи.
Виктор Есипов
Ajaccio[332]
Дорогой Иосиф!
Будучи на острове, прочел твои стихи об острове[333] и естественно вспомнил тебя. У меня сейчас протекает не вполне обычное путешествие, но, конечно же, не об этом, Joe[334], я собираюсь тебе писать. Собственно говоря, не очень-то и хотелось писать, я все рассчитывал где-нибудь с тобой пересечься, в Западном ли Берлине, в Париже ли, так как разные друзья говорили, что ты где-то поблизости, но вот не удается, и адрес твой мне неведом, и так как близко уже возвращение на родину социализма, а на островах как ты знаешь особенно не— <…> делать, как только лишь качать права с бумагой, то оставляю тебе письмо в пространстве свободного мира.
Без дальнейших прелюдий, хотел бы тебе сказать, что довольно странные получаются дела. До меня и в Москве, и здесь доходят твои пренебрежительные оценки моих писаний. То отшвыривание подаренной книжки, то какое-то маловразумительное, но враждебное бормотание по поводу профферовских публикаций. Ты бы все-таки, Ося, был бы поаккуратнее в своих мегаломанических[335] капризах. Настоящий гордый мегаломан, тому примеров передо мной много, достаточно сдержан и даже великодушен к товарищам. Может быть, ты все же не настоящий? Может быть, тебе стоит подумать о себе и с этой точки зрения? Может быть, тебе стоит подумать иногда и о своих товарищах по литературе, бывших или настоящих, это уж на твое усмотрение?
Народ говорит, что ты стал влиятельной фигурой в американском литературном мире. Дай Бог тебе всяких благ, но и с влиянием-то надо поэту обращаться, на мой взгляд, по-человечески. Между тем твою статью о Белле в бабском журнале[336] я читал не без легкого отвращения. Зачем так уж обнаженно сводить старые счеты с Евтухом и Андрюшкой? Потом дошло до меня, что ты и к героине-то своей заметки относишься пренебрежительно, а хвалил ее (все это передается вроде бы с твоих собственных слов) только лишь потому, что этого хотел щедрый заказчик. Думаю, не стоит объяснять, что я на твои «влияния» просто положил и никогда не стал бы тебе писать, ища благоволения. И совсем не потому, что ты «подрываешь мне коммерцию», я начинаю здесь речь о твоей оценке.
В сентябре в Москве Нэнси Мейзелас[337] сказала мне, что ты читаешь для Farrar Straus&Giroux[338]. До этого я уже знал, что какой-то м<->, переводчик Войновича, завернул книгу в Random House[339]. В ноябре в Западном Берлине я встретился с Эмкой Коржавиным, и он мне рассказал, что хер этот, то ли Лурье то ли Лоренс — не запомнил, — так зачитался настоящей диссидентской прозой, что и одолеть «Ожога» не сумел, а попросил Эмкину дочку прочесть и рассказать ему, «чем там кончилось». И наконец, там же, в Берлине, я говорил по телефону с Карлом, и он передал мне твои слова: ««Ожог» — это полное говно». Я сначала было и не совсем поверил (хотя, учитывая вышесказанное, и не совсем не поверил) — ну, мало ли что не понравилось Иосифу, не согласен, ущемлен «греком из петербургской Иудеи», раздражен, взбешен, разочарован, наконец, но — «полное говно» — такое совершенное литературоведение! В скором времени, однако, пришло письмо от адвоката, в котором он мягко сообщил, что Нэнси полагает «Ожог» слабее других моих вещей. Тогда я понял, что это ты, Joe, сделал свой job[340].
«Ожог» для меня пока самая главная книга, в ней собран нравственный, и мыслительный, и поэтический, и профессиональный потенциал за очень многие годы, и потому мне следует высказать тебе хотя бы как оценщику несколько соображений.
Прежде всего: в России эту книгу читали около 50 так или иначе близких мне людей[341]. Будем считать, что они не глупее тебя. Почему бы нам считать их глупее тебя, меня или какого-нибудь задроченного Random House?
Из этих пятидесяти один лишь Найман отозвался об «Ожоге» не вполне одобрительно, но и он был весьма далек от твоей тотальности. Остальные высоко оценили книгу и даже высказывали некоторые определения, повторить которые мне мешают гордость, сдержанность и великодушие, т. е. качества, предложенные тебе в начале этого письма, бэби.
С трудом, но все-таки допускаю, что ты ни шиша не понял в книге. Мегаломаническое токование оглушает. Сейчас задним числом вспоминаю твои суждения о разных прозах в Мичигане, с которыми спорить тогда не хотел, просто потому, что радовался тебя видеть. Допускаю подобную глупую гадость по отношению к врагу, само существование которого ослепляет и затуманивает мозги, но ведь мы всегда были с тобой добрыми товарищами. Наглости подобной не допускаю, не допустил бы даже и у Бунина, у Набокова, а ведь ты, Иосиф, ни тот, ни другой.
Так как ты еще не написал и половины «Ожога» и так как я старше тебя на восемь лет, беру на себя смелость дать тебе совет. Сейчас в мире идет очень серьезная борьба за корону русской прозы. Я в ней не участвую. Смеюсь со стороны. Люблю всех хороших, всегда их хвалю, аплодирую. Корона русской поэзии, по утверждению представителя двора в Москве М. Козакова, давно уже на достойнейшей голове. Сиди в ней спокойно, не шевелись, не будь смешным или сбрось ее на <->. «Русская литература родилась под звездой скандала», — сказал Мандельштам. Постарался бы ты хотя бы не быть источником мусорных самумов.
Заканчиваю это письмо, пораженный, в какую чушь могут вылиться наши многолетние добрые отношения. Вспомни о прогулке с попугаем и постарайся подумать о том, что в той ночи жила не только твоя судьба, но и моя, и М. Розовского, и девочек, которые с нами были, и самого попугая[342].
Бог тебя храни, Ося! Обнимаю, Василий
Любезнейший Иосиф!
Получил твое письмо. Вижу, что ты со времен нашей парижской переписки осенью 1977 года мало в чем прибавил, разве что, прости, в наглости, ты говоришь о вымышленных тобой предметах с какой-то априорной высоты — о каких-то идиотских «квотах»[343] для русской литературы в Америке (кстати, для какой же книги ты расчищал дорогу в рамках этой «квоты»?), о «профессиональной неуверенности», о «крахе», выражаешь тревогу по поводу моей «литературной судьбы»[344]. Помилуй, любезнейший, ведь ты же пишешь не одному из своих «группи», а одному из тех, кто не так уж высоко тебя ставит как поэта и еще ниже как знатока литературы.
Если же вспомнить о внелитературных привязанностях — Петербург, молодые годы, выпитые вместе поллитры и тот же попугай гвинейский[345], много раз помянутый, — то моя к тебе давно уж испарилась при беглых встречах с примерами твоей (не только в отношении меня) наглости.
Не очень-то понимаю, чем вызвано это письмо. Как будто ты до недавнего разговора с Эллендеей не знал, что я думаю о твоей в отношении моего романа активности или, если принять во внимание твои отговорки, твоей «неофициальной активности». Перекидка на какого-то «Барыша»[346] (с трудом догадался, что речь идет о Барышникове) звучит вполне дико.
Что за вздор ты несешь о своих хлопотах за меня в Колумбийском университете? Я сам из-за нежелания жить в Нью-Йорке отказался от их предложения, которое они мне сделали не только без твоего попечительства, но и вопреки маленькому дерьмецу, которое ты им про меня подбросил. Среда, в которой мы находимся и в которой, увы, мне иногда приходится с тобой соприкасаться, довольно тесная — все постепенно выясняется, а то, что еще не выяснено, будет выяснено позже, но мне на это в высшей степени наплевать.
У Майи[347] к тебе нет никакого особого предубеждения, за исключением только того, что всякая женщина испытывает в адрес персоны, сделавшей ее близкому пакость. ОК, будем считать, небольшую пакость.
Твоя оценочная деятельность, Иосиф (как в рамках этой твоей «квоты», так и за ее пределами), меня всегда при случайных с ней встречах восхищает своим глухоманным вздором. Подумал бы ты лучше о своем собственном шарабане, что буксует уже много лет с унылым скрипом. Ведь ты же далеко не гигант ни русской, ни английской словесности[348].
Я этого маленького нью-йоркского секрета стараюсь не разглашать и никогда ни в одном издательстве еще не выразил своего мнения о твоих поэмах или о несусветном сочинении «Мрамор». Уклоняюсь, хотя бы потому, что мы с тобой такие сильные получились не-друзья.
Всего хорошего.
Ты бы лучше не ссылался на Карла. Я тоже с ним беседовал о современной литературе и хорошо помню, что он говорил и что он писал.
«…Развели по двум разным концам земли»
Переписка Василия и Майи Аксеновых с Беллой Ахмадулиной и Борисом Мессерером
Письма Беллы Ахмадулиной и Бориса Мессерера были обнаружены при разборе бумаг Василия Аксенова в его американской квартире (г. Шантилли, штат Вирджиния). Там они находились среди рукописей изданных и неизданных рассказов, эссе, публицистических статей и писем множества корреспондентов Аксенова, в том числе Георгия Владимова, Сергея Довлатова, Владимира Максимова, Семена Липкина, Инны Лиснянской, Юлиу Эдлиса, Джона Апдайка. Письма, о которых идет речь, были написаны от руки, ведь для нас, советских граждан, то была еще докомпьютерная эра. К счастью, почерки Беллы и Бориса оказались вполне разборчивыми, и письма без труда удалось прочесть. А после прочтения стало ясно: их обязательно нужно печатать, это животрепещущие свидетельства ушедшей эпохи. О находке я сообщил при встрече Борису Мессереру, и оказалось, что в их с Беллой Ахмадулиной семейном архиве находится большая пачка писем Василия и Майи Аксеновых к ним. Так возникла идея настоящей публикации.
Чтобы ее осуществить, нужно было две эти находки разрозненных писем превратить в живой диалог, каким на самом деле и была эта удивительная переписка. Для этого необходимо было расположить письма в хронологическом порядке.
Значительная часть писем Ахмадулиной и Мессерера не имела дат, их удалось датировать (некоторые предположительно) только после сопоставления с письмами и открытками Аксеновых, которые в большинстве своем аккуратно датированы. Сопоставление и датировка писем производились по событиям, в них упоминаемым: отъездам в эмиграцию Владимира Войновича с семьей, Льва Копелева и Раисы Орловой, Георгия и Натальи Владимовых, арестам и допросам друзей, прощаниям с умершими: Владимиром Высоцким, Надеждой Мандельштам, Ильей Вергасовым, Александром Тышлером.
Как известно, Аксенова вынудили уехать из страны в июле 1980-го после скандала с альманахом «Метрополь». Ахмадулина, тоже участница альманаха, осталась дома. Но, оставшись дома, она, как и немалое количество ее соотечественников, находилась в состоянии внутренней эмиграции. Среди них были люди, активно не выказывавшие состояния своей души, Ахмадулина его не скрывала. Она не принимала участия в советских общественных мероприятиях, демонстрировала неприятие политики властей, открыто общалась с иностранными корреспондентами и дипломатами. И, конечно, открыто поддерживала преследуемых властью друзей, принимала участие в их судьбе…
Первые письма Аксенова датированы концом сентября 1980 года, первое письмо Ахмадулиной — 4 января 1981 года. Временной разрыв между письмами объясняется отсутствием надежного канала для передачи почты: письма за «бугор» и оттуда шли не меньше двух месяцев, а главное, перлюстрировались. Часто просто не доходили до адресата. Поэтому надежный канал для связи был необходим.
Такой канал связи обеспечивали в те мрачные годы иностранные дипломаты и корреспонденты зарубежных газет, благодаря которым стала возможна, в частности, почти вся публикуемая нами переписка. Не только письма — они передавали на Запад произведения писателей и поэтов, которые тогда не могли быть опубликованы на родине, а теперь составляют культурное достояние России. Неоценима самоотверженная деятельность Карла и Эллендеи Профферов, четы американских славистов, влюбленных в русскую литературу, основавших в университетском городке Анн Арбор (штат Мичиган) знаменитое издательство «Ардис». Начиная с 1971 года в «Ардисе» вышли на русском языке романы Владимира Набокова, Михаила Булгакова, Андрея Платонова, Василия Аксенова, Андрея Битова, Владимира Войновича, Фазиля Искандера, поэтические книги Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Семена Липкина, Инны Лиснянской, Владимира Сосноры и многих других прозаиков и поэтов.
Ахмадулина пишет Аксенову, что после «Метрополя» в Москве возникло новое независимое объединение: «Клуб беллетристов», куда вошли молодые писатели Филипп Берман, Николай Климонтович, Евгений Козловский, Владимир Кормер, Евгений Попов, Дмитрий Пригов, Евгений Харитонов. Рассказывает об их намерении издать «Каталог», о последовавшей за этим кэгэбешной слежке за участниками клуба, обысках и допросах, а затем и об аресте одного из них. Сообщает об уходе из жизни близких людей и их похоронах, о творческих муках и озарениях, посылает свои новые стихи, радуется его новым книгам.
Вырвавшийся на свободу Аксенов пишет Ахмадулиной о встречах со старыми друзьями, знакомыми и просто коллегами: художниками, музыкантами, актерами. Перечисление имен ошеломляет: Владимир Максимов, Владимир Войнович, Виктор Некрасов, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Анатолий Гладилин, Михаил Шемякин, Лев Копелев и Раиса Орлова, Фридрих Горенштейн, Лев Збарский, Андрей Тарковский, Максим Шостакович, Мстислав Ростропович и т. д, и т. д. Без преувеличения можно сказать, что эти имена представляют собой цвет русской культуры того времени. Вот уж действительно, как замечает Аксенов в одном из писем, нужно же было создать такую эмиграцию из страны в мирное вроде бы время! А в «Бумажном пейзаже», одном из первых романов, написанных за рубежом, Аксенов соответственным образом переиначивает известную комсомольскую песню:
И дальше:
Аксенов делится своими литературными новостями, сетует на разобщенность русской эмиграции, переживает за судьбу сына от первого брака Алексея, оставшегося на родине, следит за событиями в Москве по сообщениям средств массовой информации, иногда иронически вопрошает: «Как вам без М.А. Суслова? Тяжело?» — это в январе 1982 года, когда начался уход из жизни престарелых советских вождей.
И есть еще одна важная тема — судьба их литературного поколения, ощущение того, что блестящее творческое содружество шестидесятых (Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Василий Аксенов) перестало существовать, его участники потеряли друг друга, разъединились, разошлись. Об этом с горечью пишет Белла Ахмадулина. Василий Аксенов вспоминает в связи с этим строки из ее давнего стихотворения: «…Ну, вот и все. Да не разбудит страх Вас беззащитных среди этой ночи. К предательству таинственная страсть, Друзья мои, туманит ваши очи…». Через двадцать с лишним лет он вернется к этой животрепещущей для них теме в своем последнем завершенном романе «Таинственная страсть»…
В письме от 5 января 1983 года Белла Ахмадулина, обращаясь к Василию Аксенову, вспоминает стихотворение Марины Цветаевой «Расстояние: версты, мили….» (1925), посвященное Борису Пастернаку: «нас — рас — раз… развели по двум разным концам земли»».
Публикуемая переписка действительно вызывает в памяти другую переписку, имевшую место за полвека до этого: Марины Цветаевой, эмигрировавшей в Европу в 1922 году, и Бориса Пастернака, оставшегося в Москве. Публикуемая переписка, как и та, на полвека предшествующая ей, — замечательный памятник творческой и человеческой дружбе не изменивших своему предназначению людей.
Виктор Есипов
Дорогие Белка и Борька!
Все-таки отрыв получается очень скорый и прочный. До нас сейчас (и давно уже) не доходит никаких новостей из Москвы. Последнее, что слышали в Вашингтоне, что наша подружка Шелапутова[350] опять сделала какое-то «плохо сбалансированное» заявление. Правда ли?
Думаю, что вы не получили ни одной нашей открытки из Европы, тем более что в помощь «товарищам» я и адрес слегка перевирал. О нас, кажется, американский голосишко что-то передает (прорвалось ли сквозь глушилку?), о вас же московский голосишко вряд ли что-нибудь передаст, потому его и не слушаем. В Милане очень часто вас вспоминали, шляясь в компании Люли-Милы-Музы и их заграничных мужчин. Между прочим, очень было мило и гостеприимно, а Люли себя показала как настоящий друг. Мы полугалопом по полуевропам шлялись почитай что два месяца, три раза меняли автомобили, перетаскивая из Парижа в Рим бобовое семейство молодежи, потом самих себя в Альпы, потом самих себя в Милан и потом уже решили посмотреть кино над океаном. Фильм, правда, оказался самый что ни на есть предурацкий.
Сейчас начну перечислять кого видели из деятелей литературы и искусства. Во Франции: mr. Gladiline[351] (симпатичнейший, немного странноватый парижанин), г-н Максимов (это, конечно, отдельная поэма), тoв. Некрасов (постарел, но очарователен, как всегда), дальше идут люди попроще соn Dе Вегtia, Сlаude Gallimad… В Нью-Йорке русская братия ведет себя несколько даже разнузданно, порой как бы и не замечая туземцев. Уже издается пять или шесть газет, возникают какие-то мелкие издательства, денег никто друг другу не платит и чем живы совершенно непонятно. Настроение, впрочем, у всех неплохое. Встретила нас в JFK (аэропорт)[352] в полном составе во главе с Сережей Довлатовым редакция «Нового Американца», самой, пожалуй, забавной газеты. Потом было открытие русского музея живописи на другом берегу Гудзона в Jersey-City, куда и меня тут же Глейзер[353] записал попечителем. Там происходило что-то фантастическое, то и дело появлялись знакомые люди, москвичи и питерцы, которых я полагал в Москве или Питере и даже, кажется, видел недавно среди переделкинских орав или на М. Грузинской. Итак, в Нью-Йорке: Бродский (помирились), Шемякин (как всегда весь в черном, буревестник контрреволюции), Раt Вlаkе[354] (привет Андрею передайте), Лева Нисневич, Бахчинян[355] (салют Славкину), Мила Лось… В Вашингтоне сплошные москвичи[356] — Воb Каisеr, Реtеr Оsnos, Теrrу Саthеrmаn, еtс… Предложили мне fellowship[357] (по-моему, не переводится) в Кеннан Институте по будущий год. Пока мы осели на два-три месяца в Ann Arbore, разбираемся с разными делами в «Ardis’e». Надеемся скоро порадовать читателей книжными новинками. Передайте, пожалуйста, Попову, что здесь, клянусь, не вру, продаются огромные бутылки Vоdkа Ророv. При первой же возможности попробуем переслать. Сундучки свои распечатал только вчера. Издатели предлагают отобрать для Женькиной книги лучшее из обеих папок, так как они ограничены в объеме книги. Мы этим займемся с Майкой. Что делать с оставшимися? Можно ли предлагать журналам или другому издательству («Russikа», например, или «Серебряный век»)? Витюше[358] передайте, что здесь по-прежнему сохраняется интерес к его произведениям. Стихи Инны[359] пересылаю в Париж и от себя передаю запрос Горбаневской о возможности выпуска книги стихов за счет автора. Книга стихов Семена Из.[360] отобрана Бродским (он очень высокого мнения о ней) и выйдет до конца года. О Кубле[361] какой-то спор, Иосиф хочет издать все, что есть, а Карл — избранное, попробую посредничать. Женя Рейн выйдет в «Russika»[362]. Можно ли печатать отдельные стихи в газетах? Карл очень хочет выпустить книгу Беллы или о Белле, прозу, стихи, фото, что-нибудь графическое Бориса. Короче говоря, можно сделать красивую книгу. Даете ли добро, и какие по этому поводу идеи? Между прочим, если у вас действительно дела пойдут круто и захочется посмотреть кино над океаном, дайте знать заранее, чтобы можно было начать здесь всякие хлопоты по поводу всяких там fellowship'ов. Жоре Владимову передайте, что на днях отправил письмо Апдайку. Ольга[363] пыталась по нашей просьбе звонить ему из Лондона, но безуспешно. Мы волнуемся. Ничего не знаем ни о Войновиче, ни о Копелевых, ни о Горенштейне. Весной в Лос-Анджелесе будет университетская конференция на тему «Русская литература в изгнании». Мы к тому времени там уже будем как writer-in-residence[364] на весенний семестр, так что всех ваших blue-birds, blue joy, Dean Worth[365] увидим. Напишите нам пока по адресу (до декабря): 200, State Street, 204, Ann Arbor, Mich 48104, USA или на «Ardis». Наш телефон (на всякий случай) 313.994.4957. Майка посылает вам почти все свои поцелуи. Настроение у нее сейчас немного выровнялось, однако были моменты нелегкие. Конечно, мы тоскуем, но не по березкам, а только лишь по близким, по друзьям, потому что вы красивше березок. Если бы всех хороших из Москвы… или наоборот… Пока что не оставляет ощущение, что мы обязательно вернемся. Сегодня мы работали с Игорем Ефимовым на лагуне возле «Ардиса», вокруг прыгали белки, шмыгали еноты и бурундуки. Езжу пока на джипе, который мне Карл уступил на время. Вокруг бегают американские студеры. Какая-то странная бытовуха, как будто так и надо.
Целуем, ждем писем. Таке рigeons mail[366].
Передайте, пожалуйста, письмо моему Киту[367] (151-8615), он не получил ни одной моей открытки.
Дорогие Белка и Борька!
Вчера у нас был визитер из Москвы, Валерий, администратор Таганки, и он среди прочего сказал, что вам «буквально есть нечего». Так ли это? Мы можем устроить отсюда (вернее, попытаемся), чтобы вам принесли пару тысяч рублей. Напишите, нужно ли на этот предмет ворочаться.
Отдельно о твоих калифорнийских деньгах. Миша Флайер только что запустил нужную бумагу в университетский компьютер. Все безобразно медленно делается. Однако рано или поздно они придут к нам. У Майки есть идея купить тебе дубленку, а если к этому времени подойдет какая-нибудь праздничная сэйла, то, может, и пару дублов-шипскинов натянуть. Там, кажется, что-то вроде 650?
Ну а теперь сразу о музыке. Концерт всех Шостаковичей + Ростроповича был здесь главным событием сентября. Максим нас просто потряс 6-й симфонией. Он никогда в Союзе так не дирижировал. Говорят, что просто новое рождение и вырастание в звезду. Митька его — совершенно удивительное существо, чудеснейший живой, веселый и к тому же еще тончайшей конструкции мальчик. Играл дедушкин концерт, и там вторая лирическая часть, мне стала мерещиться Москва, и снег в тех переулках, знаешь, есть еще, нетронутые Степанидой[368], потом я его спросил, о чем он играл, и он сказал — о поземочке. Мы сидели со Светланой Харрис, которую случайно встретили в фойе. В Кеnnedy Сеnter все время на тебя налетают знакомые — то Dieter Мullеr из Гамбурга, то Яша Судзуки из Токио, то какой-нибудь военный атташе, то Милор Стуруа[369]. И вот поперлись потом на прием, а там шампанское — рекой! В общем, триумф, и я очень рад за Максима, все же воткнул Степаниде за все издевательства над папкой. Затем сидели в Watergate'е у Ростроповича, и вдруг, деликатно постучавшись, входит Л.И. Брежнев, говорит: дорохые товарищи, не здесь товарищ Хусак? Оказалось, это Слава купил себе в Вене такую маску. Нельзя сказать, что маска полностью удачная, хотя испугаться, конечно, можно. Некоторые черты вождя все же чрезмерно преувеличены, другие недотянуты. Говорят, что в Нью-Йорке можно достать более удачные варианты.
Мы теперь в Большой Помойке бываем часто, дружим там с Милкой Лось и ее новым мужем художником Геной Осьмеркиным. В последний приезд побывали у Левы Збарского, застали там большую компанию: те же Шостаковичи, Э. Лимонов, Саша Соколов и лежащий пузом вверх новый Бабель — Ефим Севелло (может быть, и Сивилло, но уж никак не Севилья и не Сивилла). Лева очень понравился — веселый, забавный, как всегда стильный, но бедный. Говорит, что занимается сейчас скульптурой, и впрямь — в студии имеются какие-то сваренные патрубки, похожие на пароходные вентиляторы. Живет с очаровательной афганкой Лизой; видимо, довольно умная собака, ибо когда недавно грабители выносили Левино stereo, Лиза не тявкнула, а только смотрела на них глазами Бaбрака Кармаля.
Может быть, вы слышали о третьем арагвийском приеме в Нью-Йорке. Посылаю вам статью В. Козловского об этом. Было шикарно и жарко, сломался сначала air conditioner, потом радио. Встретили там и Сарочку Бабенышеву (потом она приехала в Вашингтон), и Леву с Раей[370] (они прибыли из Европы на (Queen Elisabeth II), и Азарика[371], с которым потом отдельно еще повстречались. Он среди всего прочего говорил, что у него есть большое интервью с тобой, но кажется еще не расшифрованное. Что делать в смысле публикации?
Писание письма продолжается уже после ужина с Лителлом[372] и звонка к вам. Как действительно все хорошо порой работает, спасибо и почте и телефону. Я тебе очень благодарен, что не забываешь о Лешке, он очень замкнутый парень, и его нужно иногда поддергивать, подтягивать туда, куда ему и самому хочется зайти, в частности к вам. Что касается его мамаши <…>[373]. «Змеиным укусом» с моей стороны, вероятно, был вопрос — что тебе прислать? Защитной же реакцией организма ответ — дубленку. Что делать? Иногда кажется, что все отдаляется неимоверно, стремительно уносится на огромные расстояния, но потом видишь, что даже и там все очень прозрачно и отчетливо и, может быть, даже лучше различимо. Может быть, даже лучше видно отсюда, все обнажилось. Криводушие во всяком случае уже не прикроешь ничем, ибо ничем пустоты между актами криводушия не заполняются.
Нам почему-то кажется, что мы еще вернемся, хотя, признаюсь, враждебная сторона родины, ее безобразная харя в огромной степени преобладает над ее милостью, дружбой и красотой. Вас всех, друзей и любимых людей, я, признаюсь, давно уже оторвал во всяком случае от Москвы, хотя еще и соединяю с теми местами, где нам чудилась свобода, с Кавказом, с Крымом, а от той Москвы, где некогда восторгалось, воспарялось, дралось и сочинялось «Когда моих товарищей корят…» вроде бы ничего уже банда нам не оставила. Как бы хотелось, чтобы вы хоть в гости приехали! Светлана Харрис теперь будет ловить Солсбери[374], чтобы прислал официальные бумаги. Обнимаю и целую, Маятка тоже. У нее последнее время барахлит слегка почка, я волнуюсь. Послезавтра улетаем в Канаду на 4 дня и после надо будет ее обследовать. Когда у нас будут стишки Хамодуровой[375]?
Yоur BАС
Пик и Би Гей[376] — такие настоящие друзья! Она, например, сказала: если какой-нибудь человек встречает в своей жизни такого человека, как Б.А., значит, он большой luсkу mаn /woman.
Дорогие Беллочка и Боречка!
Вчера вдруг получили письмо из Амстердама от Зямы[377] с разными милыми московскими подробностями — ВТО, Елисеевский, встреча с вами, Шурик Ширвиндт — и повыли малость от ностальгии. Вообще же для ностальгии времени не хватает, работы много. На днях вернулись из Тенесси. В Нашвиле жили у профессора John H. Cheek. Не знаете такого? Когда-то у него жил Евтух. Миллионщик, пилот, каратист, знаток китайского и русского, т. е. готов ко всем превратностям судьбы. Пик Лителл сообщает нам московские новости, а от вас мы пока не получили ни одного письма. Наберитесь сил, ребята! Отрыв от Москвы получается здесь очень быстрый и как бы окончательный, но мы этому всячески сопротивляемся. «Ожог» вышел в «Ардисе», постараюсь послать вам дарственные копии. На очереди теперь «Остров Крым». Я понемногу начинаю новую писанину. В конце ноября собираемся в New York. Tам русская жизнь довольно горяченькая, с пузырьками, все время возникают разные проекты. Через пару месяцев собираются в Ленинград студенты отсюда. Попробуем устроить для вас посылку. Что нужно прежде всего? Эти ребята едут из Oberlin College, где работает чудеснейший человек Володя Фрумкин[378], друг Булата, между прочим. Очень волнуемся за Войновичей, мне правда кажется, что это они просто решили его помучить напоследок и отпустят.
Целуем. Вася, Майя
Белка, милая!
Послали тебе маленькую посылочку с Мариной, но теперь не уверена, что вещички тебе подойдут. Васята говорит, что я немного преуменьшила твои габариты. Так ли это?
Белочка, нам необходимо свидетельство о браке. Оно находится у Гали Балтер. Пожалуйста, возьми его у нее и передай Пику. Хотелось бы подробнее узнать о твоих планах и о жизни наших бунтарей. Узнаем обо всем в центральных газетах (NYT и т. д.).
Всех целую.
Майя
Родные, любимые,
даже не знаю, с чего начать.
Начну с благодарности за посылку, я в ней прочла вашу любовь и заботу (как ни намекала М.Ф.[379] на участие своего точного вкуса, но мне лишь Майя могла так выбрать и купить, так любовно и так впопад). Спасибо вам.
Вообще же признаюсь, что я совершенно уничтожена истекшим годом и не надеялась дожить до этого, с которым поздравляю вас. Пусть этот первый ваш год там, где нет нас, будет для вас добрым и упоительным. Хоть душа всегда о вас печется, за Ваську я как-то спокойна: верю в его силы, в расцвет таланта — или как это сказать, не знаю. А ты, Маята, не печалься, ведь все дело в этом расцвете, раз уж я выбрала это условное слово. Короче говоря: пусть Бог хранит вас, и станемте молиться друг за друга.
То, что было до, — вы сами знаете. Остальное вы тоже знаете: ваш отъезд. Смерть Володи[380] (не знаю, что ужасней: быть вдали или совсем вблизи). Ужасное влияние этой смерти на всех людей и на ощущение собственной иссякающей жизни.
Вскоре хоронили Тышлера.
Потом все силы уходили на Володю Войновича, на непрестанную тревогу о нем, на две тревоги: хочу, чтобы уехал, и не умею без него обходиться.
Проводы и отъезд Копелева; здесь у меня было какое-то утешение: ну, стихия немецкой речи и прочее.
С Володей же мы как-то кровопролитно близки, уж некуда ближе, а все сближались. Его действительно трагические долгие проводы (лишние слезы на аэродроме из-за лишнего хамства).
29 утром умерла Надежда Яковлевна[381] — я бросилась туда. Не стану описывать подробно страшную бабу «ЗАМОРОЗКУ», приме…<нрзб> — 30, опоздав на сутки[382], вдребезги пьяного форматора, привезенного мной для снятия маски, кстати, до сих пор неизвестно, что с маской, потому что по неизлечимому безумию я отдала деньги — до. Священнослужители и милиция, милиция (то есть у них закон: что одинокий человек и так далее. Но в морг увезли, по-моему, потому, что мы дали оповещение о смерти, я через Сэмюэля[383], помните такого?).
Новый год мы встречать не стали (Боря еще был вовсе болен каким-то вирусом, с которым он не мог вылететь из Душанбе, а уж вылетев, приземлился в Риге, откуда не мог вылететь, а уж добравшись до мастерской, увидел на дверях записку о смерти Н.Я., что я там, но и ключ был — там. Так что он стоял на освежающем ветерке, температура у него была 39,9°).
Не стали встречать, я говорю, но без чего-то двенадцать появилась пьяная, веселая Лаврова[384] с каким-то особенно неуместным голосом, Савелий Ямщиков[385] и его ученик и приспешник Миша[386].
Я все время плакала, но условно мы чокнулись за Новый год, я думала о вас и о Володе, с которым перед этим говорила по телефону.
Лишь в три часа 1 января Надежду Яковлевну перевезли из морга в церковь (маленькая такая, возле Речного вокзала) и там оставили на ночь. В одиннадцать часов 2-го января — отпевание. Собралось несметное множество народу, для этой церкви чрезмерное и удивительное, в каком-то смысле — радостное, утешительное. Затем, в два часа, — Старое Кунцевское кладбище, где людей стало еще больше. Место на кладбище устраивали интригами через Литфонд, и хоронильщик этот, давно уж мне известный своей резвостью и глупостью, повелел, едва вошли на кладбище: вот здесь ставим на каталку, здесь забиваем и катим. Народ возроптал, мужчины подняли открытый гроб, очень сплотившись: скользко; шел редкий мрачный снег.
За гробом шли юные и молодые люди и пели положенное церковное — к ужасу хоронильщика: он бегал вокруг, озирался и бормотал: к чему это? зачем это? И вдруг возопил: «Стойте! Где каталка? Кто последний видел каталку?» Скорбная, прекрасная процессия продолжала свое пение и движение. Судьба каталки — темна. Украл кто-нибудь?
Повернули к могиле. Процессии пришлось двоиться, троиться, делиться на множество течений, люди наполняли эту часть кладбища, но не могли подступиться к отверстой могиле. Пение продолжалось, и лишь поющие точно знали, сколько оно будет длиться. Могильщики явно этим тяготились. Наконец гроб опустили в могилу, посыпалась земля. И вдруг вихрь налетел и сотряс вершины деревьев — так грозно и громко, что все люди подняли к небу лица и потом многозначительно переглянулись.
Это множество людей производило (наверно, на каждого из них) большое, благородное, но и несчастное впечатление: вот, не вышло по-вашему про одинокого человека; вообще ничего у вас не вышло, мы еще люди, и вот как нас много — да, но это все, что осталось.
Н.Я. не была одинока: ведь я — налетала и улетала. Знаю, что Н.Я. любила эти налеты, очень дорожила ими, любила Борю (из-за болезни он мог только сидеть в машине у церкви и выйти, завидев выносимый гроб). Я — налетала: с обожанием, с умом, с цветами, с пустяками. А кто-то — был всегда. По очереди. Денно и нощно. То есть я знаю кто и каковы — их много.
Васенька, ладно, а то сейчас придет Пика, я не успела тебе сказать почти ничего. Про Надежду Яковлевну я напишу и пришлю тебе.
Но и те люди — по уговору меж нами — напишут. Они — не писатели, не склонны писать. Но они слышали ее последние слова, а до этого — слова, оговорки, замечания и признания.
Но не поняла я наших поэтов в одном: как они не позвонили мне в дни Надежды Яковлевны? Я бы от них ничего не взяла, потому что Н.Я. от них бы ничего не взяла, но даже так называемые поэты должны были позвонить. Разумеется, это касается, кажется, лишь двух знаменитых. Остальные — кто звонил, кто пришел, а кто сердцем весть подавал…
Васька, родной и любимый, все остальное ты или знаешь, или можешь вообразить. Например, Борю не пустили в Болгарию. Он туда и не собирался, просто, по требованию болгар, он делал для них оформление «Лебединого озера».
Вообще же мне очень нужно, чтобы у вас было — хорошо. Потому что у меня — сами видите. Да и как-то: не болит вроде ничего, а сердце — бедствует и жалуется.
Володька[387] звонил 31-го, сказал, что вы говорили по телефону — вы и впредь говорите, потому что он был очень печален.
Со мной по-прежнему никто не борется. По-моему, приглядывая за моей жизнью, они догадались, что если дальше так пойдет, — в борьбе нужды не будет. Ничего себе — новогоднее письмецо! Прости меня за все вздоры. Вот съеду в Переделкино, успокоюсь, Бог даст, напишу что-нибудь — и полегчает.
Целую, целую тебя и Маяту. А то — Боре только страничка осталась. Я всегда ощущаю, что вы меня помните и любите. Майка, ты получила свою коробочку? Уверена, что — да, я очень давно ее отправила. И письмо через Светлану — ведь получили?
Ваша Белла
Оказывается, Борька вам отдельно пишет, значит, страничка — моя.
Наверно, про «Клуб беллетристов»[388] вы слышали? (Кормер[389], Попов, Козловский[390] и двое, кажется, других.) Во всяком случае, я сделала, что смогла, чтобы вы — услышали (Тони Остин[391]). 17-го января говорит мне Ерофеев, что вот, послали члены упомянутого клуба письмо в какие-то мелкие власти. Что-что? — говорю, — они ждут, чтобы поощрили их клуб, который, как они пишут, есть? Пусть они ждут обысков.
Обыски были — 19-го, как только письмо было получено адресатом. А дальше — знаешь, наверное. Вообще же Попов и Ерофеев (не участник «клуба»), Кублановский, Рейн, Кормер, Битов, когда не в Ленинграде, — частые гости мастерской, и живем дружно (если я не задираюсь). Булат — очень мягок, страдая, что разминулся с тобою, долго услаждал пением Володю. Смешно: после проводов Володи Булат, Чухонцев и еще двое полтора часа висели в лифте, пока я не выкупила их за бутылки. Володька к Мюнхену подлетел, а они — висят и говорят Остину: снимите нас за решеткою.
Белка дорогая!
Мы приехали сюда 22 января и на неделю поселились у Дина. Твой blue joy тут же явился и осведомился — а где, мол, Белка и Борька? Дин[392] завел себе на дому девушку по имени Эмили и собирается на ней в скором времени жениться, то есть получил уже licence на это дело.
Потом мы сняли квартиру в Санта-Монике в пяти минутах ходьбы от пляжа, тебе эти места хорошо известны. Venice стал за последние годы очень чистым и даже слегка респектабельным, хотя еще и вывешивает лозунги типа «Моральное большинство — ничто! Вэнэс сопротивляется!» Вообще же американы за истекшие пять лет стали как-то посерьезнее, меньше стало в Калифорнии карнавальности, хотя роликовое конькобеженство неистовствует. Пешеход по-прежнему странная фигура в L.A.[393] Естественная фигура бежит или на роликах шпарит.
Здесь уже в Santa Monica получили кучу писем от вас из Москвы, очень, разумеется, возбудились, воспылали, разгорячились и огорчились.
Приляпанность нашу к России, видимо, ничем уже не оторвешь, никакими ублюдочными указами. В газетах ищу только русские репортажи и уж потом зачитываю остальное, по ТV только тогда подпрыгиваем, когда Cronkite[394] начинает что-нибудь про Россию или про Польшу, ведь о Польше сейчас — это вдвойне о России. В прошлую субботу в сатирической программе Saturday Night Life пошли экстренные новости: Польша вторглась в Советский Союз, польские войска продвигаются к Москве, польский посол в UN заявил, что это не военная акция, что действия польского правительства направлены лишь на стабилизацию Советского Союза, однако польская армия рассчитывает добиться успеха, используя элемент внезапности.
Мы как раз недавно говорили, что прошлый год со всеми высылками и смертями прокатился по тебе бульдозером. Ты замечательно описала похороны Надежды Яковлевны. Мы увидели вас всех, окруженных видимой и невидимой сыскной нечистью, и пожалели, что нас нет с вами, могу себе представить тот душевный подъем, и порыв ветра в деревьях, и депрессуху потом.
С Володей Войновичем мы говорили один раз по телефону, я позвонил на следующий день после их прилета, он был еще совершенно обалдевшим. Сейчас, говорят, он в хорошей форме. В мае мы увидим его, а также многих других бродячих русских классиков, здесь, в Лос-Анджелесе, будет трехдневная, весьма широко задуманная конференция «Русская литература в изгнании». Недавно, окидывая взглядом место действия, т. е. our Earth-mother-planet, я насчитал, по крайней мере, 50 более-менее известных имен русской литературы, оказавшихся за бугром. Беспрецедентная, вообще-то, херация на фоне так называемого мирного времени.
Я так и предполагал, что ваш дом волей-неволей станет центром загнанной нашей московской братии, и ты сама просто в силу своей душевной сути окажешься главной фигурой Сопротивления. Это, конечно, красиво сказано, и мы восхищаемся тобой и такими ребятами, как Женька Попов, но беспокойство за вас сильнее восхищения. Женька пишет, что ситуация сейчас решительно изменилась и впрямь — к таким мерам, как «официальное предупреждение писателя», банда еще не прибегала. Я представляю себе, как они обложили мастерскую и дачу, как подсматривают, подслушивают и поднюхивают. Очень хорошо по себе знаю, как велико напряжение в такой ситуации. И в то же время я решительно не знаю, хорошо ли будет для тебя — уехать. Майка считает, что плохо. Я не уверен. Прожить еще в условиях чрезвычайно благоприятной и благожелательной университетской среды вполне можно, работа, стипендии будут и у тебя и у Бориса, хотя этот предмет просит серьезного взвешивания, — цены все растут, налоги огромные и т. д., однако главное, как ты понимаешь, не в этом, а в том почти космическом отрыве от родины, и не сам себя чувствуешь заброшенным, а напротив, твоя огромная рыхлая родина становится для тебя в отдалении чем-то покинутым и любимым, вполне небольшим, вроде щенка или ребенка. Даже порой всю сволочь, что формирует образ зловещей Степаниды, забываешь. Засим возникает естественное: кому принадлежит Москва — мне, Белле, «Метрополю» или нелегальной банной бражке? Конечно, может быть, тут возникнет идея Сопротивления. Я, может быть, не до конца дрался, но все же дрался сколько мог и отступил с боями и крови им все же попортил немало. И у каждого честного нашего человека есть выбор разного рода, и все варианты приемлемы при сохранении достоинства, то есть того, от чего они больше всего и скрежещут. Словом, на всякий случай, Дин Дабль-ю-ар-ти-эйч начал копать свой ректорат на предмет вашего приглашения, тебя к славикам, Борьку в School of Art.
Это просто подготавливается шлюпка, а вовсе не сирены поют, прошу учесть.
Мы после конца семестра, т. е. в июне, отправимся обратно на Еast, но еще неизвестно куда — в Washington DC или NYC, так как есть предложения на будущий год из двух этих столиц, но еще не вполне определенные. NY, конечно, соблазнителен русской средой и огромными возможностями всяческой деятельности, но уж больно обшарпан и грязен. В Washington больше будет времени для писаний. Кстати, понемногу кропаю с Божьей помощью новый роман. «Крым» в скором времени выходит в Ардисе. Там все еще есть идея, и она крепнет, выпустить книгу (твою и о тебе) вроде Булатовской, со стихами, прозой, фотоснимками и т. д. Сообщи свои пожелания. У Дина твоих налоговых денег не было, но он будет выяснять в своем финансовом отделе, уверен, что не пропали. Сообщу, как выяснится. Поехал ли в Париж Андрей? Недавно прочел в Newsweek кой-чего про Евтушенко. Очень жалкое впечатление. Лучше бы уж не высказывался.
Обнимаем вас и целуем. Храни вас Господь.
Ваши Вася и Майя
Родные Вася и Майя!
Помню, на чем остановилась давным-давно: у меня есть огромное письмо к вам, переогромное — и пришлю. Так и было, но, вернувшись из гостей, я так его переогромнила, что утром осерчала и порвала. Помню, что последнее упоминание о «Каталоге» несколько было небрежно — я тогда еще не читала его, затем прочла и всем пяти авторам предъявила мой совершенный привет (Пригов и Харитонов были для меня внове).
Сейчас — в некотором смятении: Боря предупредил, что приедет Пик, и я тороплюсь. Столько всего — к вам, главное же — непрестанной нежности и тоски. Как часто, сильно и томительно вы мне снитесь! И всегда — не просто, со значением, в которое потом с печалью вникает дневная душа. И в каждом сне — ощущение вашего соучастия, действенной взаимности, простертости в мою сторону — спасибо. Спасибо и за «Континент», за Васькино замечательное интервью.
Все же, наспех, по порядку. По добрососедству моему я близко участвовала в бедном завершении жизни Вергасова: в больнице и во всем, что потом.
На скромных поминках сидела рядом с его братом, учителем с Кубани, он сетовал, что — не пышно, без начальства. Вдруг — начальник входит. Я отпрянула на другой конец стола, он покосился на Липкина и Лиснянскую, имеющих с покойным свою какую-то связь.
В своем кратком скорбном слове начальник этот перечисляет все трудности нашего международного положения, предостерегает о беспечности к польской опасности.
Я: Послушайте, ваша Кузнецов[395] — фамилия?
Он: Вы же знаете.
Я: Меня с вами прежде никто не знакомил, а теперь — поздно.
Он: Вы — женщина, и вам прощается.
Я: Никогда не заметно было, чтоб вы, уничтожая и сажая, считались с полом.
И — так далее.
Я: Здесь — поминки, вы не заметили? Здесь люди собрались. А вы — нелюдь, нечисть, — и делать вам здесь нечего. (Сама — в ужасе: дом не мой и поминки не мои.)
За его спиной девка Люська (оказалось — жена его) делает мне знаки.
Все это (может, вы уже знаете от Инны) затем описываю, что до сих пор не понимаю продолжения.
Наутро прибегает Каверин: Беллочка, что именно было (он уже знал от Лиснянской)? Звонили из ЦК (по-моему): что с Беллой? Почему она так нервничает? Мы не считаем ее изгоем, почему она отказалась от публикаций, от телевидения?
Далее — и впрямь, звонит Широков (хороший) из ЛГ: дайте стихи. Я думала, думала, потом дала: про Высоцкого, про Цветаеву и «Сад».
В то время — я плоха была, такая, как в письме про Н.Я.
(Да, кстати, Борька тогда делал «Лебединое озеро» для Софии. В Болгарию, конечно, не пускали, но он собирался лишь макет и эскизы отправить и деньги получить. Вдруг говорят: вылетайте в Софию, спектакль срывается. Он несколько раз летал и возвращался.)
Сдав макет и эскизы, Боря прилетел и нашел меня — обезумевшей от похорон, девятых и сороковых дней и от жизни.
Как-то его осенило: отправить меня в безвестный и захудалый художнический дом под Тарусой (летом — пионерлагерь, поэтому обитель моя называлась «пионерлагерь «Солнечный»).
Там, через десять дней мрачности, я начала писать стихи: днем и ночью.
Там же получила «Литгазету»: стихи к Цветаевой и «Сад» (твой).
Я уехала из Тарусы первого апреля: с грустью и с пачкой стихов.
На 3-е и 4-е были назначены концерты в Риге (общество книголюбов), на стадионе. Звонит устроитель: ЦК запрещает как бы не выступление, но объявление, а про выступление как-то уклончиво говорит. Устроитель Юрис возражает, что они коммерческая организация, надо продать 7 тысяч билетов. С угрозой говорят: разбирайтесь сами. Билеты были проданы — без афиши, и свою тысячу рублей мы получили (это было кстати: в Риге и на побережье начиналась весна, и все вспоминали мы тебя в пустых барах и ресторанах).
Рижане очень ликовали, очень были благосклонны, Юрису — не попало, он все время был страшно испуган и после второго выступления на стадионе жутко напился.
Но дело было в том, что я была уже не та, претило мне стоять на сцене. Хоть стояла я хорошо (публика заметила: никаких посвящений Жене и Андрею), четко, печально.
И все же — ощущение какой-то неправедности, замаранности осталось у меня. Вскоре я опять вернулась в Тарусу, но в стихи было вернуться трудно. (Все же опять много написала за 17 дней.) Правда твоя, Васька, насчет романтического «i». Казалось бы, что лучше: читаю огромному бледнолицему залу про Пастернака, Цветаеву, Ахматову и новое — медленное, непонятное.
Но радости уже нет от этого. Впрочем, с выступлениями опять все заглохло, так что тужить не о чем.
В сей миг вошел Дмитрий Александрович Пригов. Теперь он читает Васино, а я пишу Васе.
Вася, я так быстро и некстати перечисляю все эти скудные подробности жизни, потому что и сама не знаю: к чему ведут они?
Про советских и меня понятно, что они решали и решили, до поры до времени, — не трогать меня. Да и не до меня им: у них опять собрания, съезд и прочая.
Но и я их видеть не могу и соотноситься с ними не могу. (В маленьком случае: идем с Лизой по улице, Карелин норовит сунуть руку, я руки за спину: «прочь, прочь, не надо этого». В случае всей жизни — ведь то же самое.)
Стихи же новые, по дружеской просьбе Фогельсона[396], сложила, отдала ему.
Да, стихи. Я их все пришлю тебе.
Приехал Пик.
Васька, я сняла что-то в Тарусе, опять хочу поехать, уже с детьми.
По приезде — все-все, что написала, пошлю тебе.
Пока же, прости, что написала как-то все не так, как живу, как горько люблю вас, как безнадежно обо всем думаю.
Одно несомненно: лишь стихи и прочие писанья ответят мне на все мои вопросы, с которыми лишь к судьбе могу взывать.
Вася и Маята, Пик и Бигги — уже едут.
Я все написанное — пишу в Васину тетрадь, чтобы и Вася написал.
Теперь — примите разрывание сердца, любовь мою и Бори и, Вася, — любовь множества людей.
В следующий раз напишу — лучше.
Липкин — счастлив из-за книги!
Целую. Ваша Белла
Многого не успела.
Вот, смешное. Приходит молодой человек, с тайной рукописью, с письмом от Владимовых.
Кладет все это в ящик № 30 (как у нас) соседнего дома.
А там живет кто-то мрачный в отставке, ничего не отдает.
При Боре входит в наш подъезд, смотрит: кто живет в № 30? Все сцепились, но он не отдал ничего — нам.
Дорогая Белка!
В столице нации нас ждала радость — пакеты от Пика с твоими страницами и даже роскошнейший альбом (кто тебе их делает? С таким искусством здесь можно хорошо торговать по университетским кампусам). Я алчно к нему кинулся, предвкушая содержимое, но оказался пуст, предназначен для заполнения мною — хитрая какая — придется писать. Начну, пожалуй, в нем «Гавайский трактат», он располагает к этому цветами и листьями. (До отъезда из Калифорнии мы побывали на двух островах Гавайского архипелага и не пожалели, а напротив — очаровались.) Что касается писаний, то этому делу, конечно, мешают наши постоянные разъезды и переезды, а также университетская и общественная работа. Тем не менее, навалял маленькую повесть «Свияжск» (первая в эмиграции) и послал в «Континент». Первая мысль, конечно, была о «Новом мире», но потом подумал — Наровчатов, хоть и дерзкий человек, не донесет, пожалуй, даже до дядьки Альберта[397], в лучшем случае Евтушенке покажет. Теперь буду понемножку валять роман, начатый еще в Мичигане. После выхода «Острова Крым» начал я первое в своей жизни капиталистическое предприятие. В издательстве «Эрмитаж» Игоря Ефимова (звучит громко — на деле же это просто Игорь и Лариса в подвале собственной квартиры) издают за свои деньги «Аристофаниану с лягушками», сборник пьес. Если тираж 1000 разойдется (большой вопрос), это принесет мне несколько сотен дохода, которые я по примеру некоторых классиков соцреализма внесу в бельгийскую оружейную промышленность и вскоре стану миллионером.
Слухи о Тарусском сидении дошли до нас уже давно, стихов пока нет. Жаждем. С удовольствием и радостью прочитали подборку в «ЛГ». «Сад» с такого расстояния еще более великолепен. Значит, полезно иногда по морде сволочь. Рассказанный тобой эпизод с Кузнецовым лишний раз подтверждает то, что он не вполне прогрессивный, сексот патриархального толка, не понимает современного феминизма. Женщины борются за то, чтобы их избивали наравне с мужчинами, а жлобы-сексоты все по старинке, принцип очередности соблюдают.
Очень жалко Илью. Сколько его помню, он всегда выражал презрение к Степаниде В., был искренним и даже пытался бороться, несмотря на все свое простреленное и изувеченное. Передай, пожалуйста, наше сердечное соболезнование Лиде.
Как я понимаю, Пик забрал твое письмо и в тот же день передал тебе наше с копией приглашение от Гаррисона Солсбери. Любопытно, дошел ли оригинал по почте? Есть ли у вас идеи насчет возможного приезда в том смысле, что — собираетесь ли рыть землю? Я думаю, что есть смысл, и я не согласен с Пиком, что вас тогда автоматически лишат гражданства. С какой стати? Вы не такой еще гад-отщепенец, как другие. Приглашение Гаррисона, как ты понимаешь, любезная формальность. Он о вас заботиться не будет, о чем он меня тактично предупредил по телефону. Однако если мы будем знать заранее, мы подготовим здесь все — и тур по университетам, и жилье в разных городах, не говоря уже о столице мира капитализма, жителями которой мы теперь имеем себя быть. (Новые координаты у Пика и в письме Попову.) Дин Уорпфстор даже обещал устроить в UCLA ЦИКЛЫ для тебя и Бори, но на него сейчас полагаться трудно: он женился на девушке Эмили и как-то стал все то ли забывать, то ли слегка чураться. Например, мы его несколько раз просили выяснить, где твои деньги income tax return, и он всякий раз обещал, но так ничего и не сделал. Теперь мы уже махнули рукой и обратились к нынешнему chairman’y Мише Флайеру, а вот от него можно ждать реальной помощи.
В течение лета у тебя должны появиться разные калифорнийские люди — Марина, Линда, Майк Хайм. Пожалуйста, передай с ними свои идеи и соображения или, как бы написал Г. Боровик[398], «свои надежды и чаяния». Впрочем, сейчас, заглянув в твое письмо, подумал, что тебя летом не достичь, если уезжаешь в Тарусу. Даже и это мое письмо неизвестно когда к тебе прибудет.
В снах уже все перемешалось. Вот прошлой ночью видел вас обоих — будто Боря ходит, что-то готовит в помещении, чем-то распоряжается, а ты собираешься читать, но где это происходит — в Москве, в Лос-Анджелесе, на Гаваях?
Мы сняли квартиру в большом доме недалеко от американских святынь. Город нам нравится, пожалуй, самый европейский из всех американских. Люди сидят в открытых кафе, чего в LА не увидишь, по ночам в Georgetown как на Saint German de Pres, молодежь, саксофоны, все в шортах.
Мы еще ничего не видели, потому что озабочены пока столами и стульями. Только вот вчера смотрю — у решетки Белого дома чувачок с плакатом «Лицемеры, лицемеры!» стоит и курит, и лицемеры его лицемерно не трогают.
Впрочем, увы, далеко не все здесь так идиллично. Сегодня в газетах ужасная история. Юношу-провинциала в Нью-Йорке толпа подонков ограбила, стащила штаны и с хохотом гнала по 42-й улице, пока он не бросился на рельсы сабвея.
В заключение маленькая история из разряда бочкотары.
Незадолго до нашего отъезда в LA появился мосфильмовский человек Тарачихин[399], чем-то отдаленно напоминающий моего Телескопова. Он был ассистентом в группе Бондарчука, а энтот маэстро снимает кино-поэму о пламенном революционере Дине Риде под зловещим названием «Красные колокола»; съемочная площадка располагается в Мексике, откуда товарищ Тарачихин (17 лет партстажа) вдруг, забурев на неделю (петушиные бои, красотка Гваделупа, покито, синьоры, до краев не наливайте), вдруг рванул через американскую границу и попросил свободы. Мы его видели — типичный мосфильмовский шестидневный загул, после которого с удивлением просыпаешься в Свердловске или Риге. В данном случае — Лос-Анджелес.
Обнимаем и целуем. Нежнейший привет Семену и Инне и всем нашим.
Ваши Вас и Май.
Не случается ли тебе иной раз по соседству встретить Кита? Так его люблю и жалею — каково парню иметь такого отца-отщепенца. Мне кажется ли иногда, что может случиться новый 56-й год?
Вася! Майя!
Всю прошлую ночь (на вторник 7 июля) я была с вами, писала вам письмо в Тарусе. Кончалось оно описанием восхода солнца (вы — напротив, я оборачивалась и целовала бездну между мной и вами), а кончилось — в печке.
Я приехала в Москву, чтобы завтра (уже светает: 8 июля) отправить вам письмо. Взять мне его негде: то в печке, а этого еще нет.
Вчера, в это время предрассвета, я так вам писала: глубокая ночь в Тарусе, я — из Оки, мокрая, на рукаве халата (Майкиного) сидит мощная угрюмая треугольная бабочка, уцелевшая от — чтобы вы ее увидели.
Я — совсем съехала из Москвы в Тарусу. Сняли захудалый слабоумный домик, налево — могила Борисова-Мусатова, направо — танцплощадка, площадка — танц (из стишков моих) на месте дома Цветаевых. («Ленинград, я еще не хочу умирать…» — Пугачева, ни в чем не повинная.)
Вчера я писала: передо мной два вида: Мауи (целовала открытку в ваш балкон, в океан и в купальщиков даже) и не-вид из-за лампы на Оку — совершенно вблизи вид на распластанных на стекле, бедно обнаженных насекомых.
Бабочка на рукаве — тревога всеведущих и ищущих еще какого-то сведения усиков или как их назвать… затем убрала, сошла с рукава и сидела на письме к вам.
Я так сильно, так нежно ощущала вашу близость, нашу неразрывность.
Писала про поэта Сиренева, обитающего в Тарусе, подлежащего непрестанному бесполезному вдохновению, про то, что втайне чертополохово завидую его персидской кустистости и легкости руки.
Писала про Н.Я. Мандельштам, как она мне сказала: «На том свете пущу тебя к Осе». Я: «А я — не пойду». — «?» — «Н.Я., вы же не предполагаете, что я на том свете буду развязней, чем на этом».
О том, как меня снабжала неуверенностью во всем ее мысль: когда они увидятся с Осипом Эмильевичем?
Я заметила, что встретились в день 13 января (я забыла, что Новый год). Очень плакала в церкви. «…плавающих и путешествующих…»
Слезы мои стали неопрятно велики, прочь, через могилу Б.Л.[400], … через бар, где тогда почему-то упадали на пол, просительно цапая меня за… ноги безусловные «русские» советские писатели.
Но писала я о смерти Жени Харитонова, которого (из «Каталога» и вообще) безмерно выбрала, полюбила и поощряла — совершенной дружбой и приветом слов души о его таланте, о том, что все обойдется (он этим не дорожил, то есть не моим приветом, а благополучным продолжением).
Боря приехал ко мне в Тарусу с вестью о его смерти, и благодарю Борю, что почти не смог удержать слез. (Он же дал оповещение.)
Стихи все не перепишу для вас — много уж набралось, вы рады будете.
Я совсем ушла — прочь, Таруса это и иначе, выше — и географически удостоверила.
Сегодня (вчера уж) была девочка Линда из Лос-Анджелеса: привет от Ольги[401] и — главное — видела вас так недавно. Чудно рассказала, как ты, Вася, говорил со спортсменами и как Маята прекрасна и прелестна — и на ее, девочкин, взгляд.
Васенька, я-то — что, понятно, что не расстаюсь, я уж писала тебе, как сны о вас убедительны настолько, что опасаюсь наяву: не изнурительно ли для вас так не покидать меня? — но дорожу тем, что множество людей измучены осязанием твоего отсутствия. Тут и молодежь с ее темно-светлым туманом сознания, влюбленным в предполагаемую спасительность чужеземства, и прекрасные родные, не ищущие спасения, и официантки (очень!), и — вся наша Бочкотара, в честь которой посылаю тебе ложку[402] из тарусской забегаловки, сразу же Борей взятую — для тебя.
Советские со мной — грациозны, совсем не трогают, я это уж нежностью считаю (отлучки из этой нежности даже на два месяца не могу вообразить).
Что не выступаю — рада. (То есть: выступать — дико для меня, кроме — если позовут, как недавно Протвино: физики, свободны, сулили 200 р., однако запретил местком или парт— всемогущим ученым.)
Жили — как всегда, как ты знаешь. Капали эти: один к двум, на это же машину купили, старую продали.
Совершенно не имеет значения, но вспомнила: об этих американских деньгах (небольших) банк присылал оповещение, доверенность валяется у Дина, он забыл, да и не важно[403].
Боря меня отругал за вздор.
Что Дин и его невеста? Поцелуйте его каким-нибудь воздушным или другим для всех вас не обременительным способом.
Опять светает. Сутки назад я все доводила до вашего сведения (чтобы опять вернуться к письму и к вам) все цвета нежно крепнущего восхода, его прелесть и радость, которую я словно от вас приняла и с обожанием и благодарностью совпала с вами — как всегда и навсегда.
Меня и утешает и устрашает ощущение столь явной для меня нашей нерасторжимости.
Всегда — неуклюже, но впопад — молюсь о вас.
Ваша Белла
Дорогие Белка и Борька!
Получилась дурацкая вещь. Мы забыли № дома на Воровской. Поэтому на всякий случай посылаю и туда и сюда, отсчитав на память дома от ЦДЛ, блаженной памяти. Мы еще блуждаем по Европе, так что нового адреса сообщить пока не можем. Правда, через неделю выезжаем уже по местожительству и оттуда сразу напишем подробно. Вот в этих Альпах Доломитских, в Кортина Д'Ампеццо отдыхали десять дней. Иногда похоже на Грузию, иногда на Крым. Жители и туристы разнообразные. Масса писателей. Привет от Джанкарло Вигорелли[404].
Очень скучаем по друзьям. Часто вас вспоминаем, любим, целуем, обнимаем, выпивая пива (оно здесь нынче уродилось), вспоминаем и хнычем.
Вася, Майя
Дорогие Б & Б!
Это фривольный остров, о котором в путеводителе Кука написано, что он не для family holidays. Мы на нем были всего 3 часа и ничего особенного, кроме загорелых девок, не заметили. Вообще греческие острова похожи все на Коктебели, хотя, увы, по сравнению с Коктебелем на них чего-то не хватает и что-то в избытке. Белка, ты, кажется, здесь уже бывала, во всяком случае, твое присутствие ощущается.
Завтра летим в Париж и оттуда домой, в Вашингтон.
Целуем
М&V
Забыл сказать, что пишу на острове Эгина в деревушке под звучным именем Пердика и смотрю на яхту Э в р и д и к а.
19.08.81 (почтовый штемпель)
Дорогая Белка!
Пишу на скорую руку. Три дня назад произошло несколько ошеломительное событие — пришло (дошло) письмо от умершего Жени Харитонова. Оно настолько удивительное, так явно раскрывающее его личность, что я решил его опубликовать и вообще подготовить журнальную или газетную («Русская мысль» или «Новое русское слово») публикацию об этом писателе. Кроме письма здесь могут быть отрывки из поповского описания его последних дней и похорон (разумеется, без упоминания имени автора), мои собственные какие-то строчки… может быть, что-нибудь твое?… отрывок из его прозы (книга пока еще не дошла до меня, но уже на пути из Нью-Йорка), и очень хорошо было бы получить какие-нибудь фотографии. Пожалуйста, спроси у Попова, не может ли он достать фото. Я помню (не помню только при каких обстоятельствах), что видел в Москве какие-то впечатляющие снимки, особенно один групповой запомнился, среди художников; типичное московское «подполье» (не в большевистском, разумеется, смысле слова).
В письме Женя выражает желание увидеть свою книгу прежде всего в виде репринта, т. е. со всеми помарками, исправлениями, опечатками и т. д. Я думаю, что «Ардис» это сделает в достаточно короткий срок.
Мне бы хотелось, чтобы Харитонов, не став членом писательского сообщества, оказался одним из его героев. Судьба его мучительна посреди имперских (как он пишет) прущих когорт.
Вкладываю в конверт два экземпляра книги Юры Кублановского. Еще два остаются у меня для следующей посылки. Передай ему при случае от нас поздравления.
От Семена недавно было письмо, и мы порадовались, что наши поздравления дошли до него вовремя. Неделю назад его и Инну приняли почетными членами в Американский ПЕН-клуб. Слышали ли они об этом?
Вот последние новости для Евг. Козловского (что-то сплошные вокруг Евгении, а?): «Красная площадь» идет в № 30 и 31 «Конти». То, что Горбаневская нам об этом рассказывала в Торонто, прямо скажем, не очень-то мягкого свойства. Роман опять поплыл через Атлантику к нам, так как батька Емельяныч[405] его печатать не будет. Может быть, здесь все-таки найдется издатель, может быть, Эд. Лазанский[406] из Сахаровского Комитета?
Тебе, конечно, Белочка, не нужно утруждаться с этими сведениями, а просто лишь передать все Попову. Его вторая книга будет принята «Ардисом», и это очень хорошо, потому что лучше пока здесь нет издательства для русских.
Все тянется томительно долго, почти как в «Совписе». Перевод, например, «Ожога» даже еще и не появился на поверхность, хотя срок сдачи прошел два месяца назад, да и вообще все эти переводы лишь в редких случаях имеют отношение к литературе.
Со времени отъезда Пика ничего о вас не слышали, да и вообще ничего о Москве, кроме рок-оперы[407] Лен. комсомола в новостях, да подлодочки нашей, захваченной циничными шведами.
Нет, вру, еще дошло, что Пастернаков выгнали с дачи и поселили там полнейшее животное по имени Карпов. Правда ли?
Появлялся ли у вас Кит? Есть ли у тебя с ним какой-нибудь контакт? Телефон на Красноармейской один раз ответил, а теперь опять молчит, подозреваю мадам. Получили ли калифорнийские бумаги на подпись? Недели через три в Москву поедет очень симпатичный парень из Кеннан института по имени Марк. Дам ему ваш телефон, если не возражаете. Как прошла Борькина выставка?
Целуем и ждем писем.
Ваши Васи и Майи
Милые родимые Вася и Майя!
Всякий раз затрудняюсь начать: мое соотношение с вами, во сне и наяву, столь непрерывно, что думаю — на чем же я остановилась? и не думаю, что вы это не знаете. Я и пишу вам чаще, чем отправляю письмо. Обычно это потому, что, выпив или выпивая, сразу же устремляюсь к вам — со сбивчивым перечнем событий и пустот, любви, слез, шуток и пустяков. Порою — всю ночь. Но знаю, что имею право, — лишенной вас, с кем же мне рассуждать и болтать, пусть и в ночном завихрении ума. Но утром, от привычки к трезвому писанью, рву все это не читая, но возымев облегчение: поговорила. Основная же причина моего важного не-письма та, что я все желала привести в порядок стихи, чтобы послать вам, дело нехитрое, да никак до одного стихотворения, утраченного в черновике, не доходят голова и руки. А без него — не хочу, это стихотворение посвящено Васе (то есть и началось как Васино стихотворение), оно про то, как два солдата убили истопника (близ Тарусы).
Но сегодня, скоро уже, я смогу отправить вам письмо и спешу.
Вася, ты уж знаешь, наверное, про арест Жени Козловского, про обыски у Климонтовича, Лена[408] и Кенжеева.
Женька[409] позавчера весь день давал показания (с умом и волей).
Женька и его сподвижники по «Каталогу» — вплотную мой круг, то малое и первое, что я могла сделать, я сделала сразу же.
Меня тревожат их обстоятельства, да и сама я, не с опаской, но с некоторой мрачностью нервов, ощущаю заботливый прищур присмотра.
Впрочем, я — в порядке, книги же и бумаги вывезли на всякий случай.
Вот, Вася, мой милый бесценный друг, что пишу я тебе вместо стихов и оповещений о том, как парит и бедствует душа.
Вошли Женька и Светка[410] [кстати, Женя говорит, что, когда мы (Боря, я, Климонтович и Пригов) поехали в машине, за нами зачернело]. Ладно, Васька.
Про Кита: когда я получила твое последнее письмо (от 5 ноября), я поняла, что ты еще не знаешь, что я дважды видела Алешу с удовольствием и любовью.
(Вошел Пригов, сказал, что был еще один обыск, у человека, который не хочет быть упомянут, — у Кривомазова[411]. И в Ленинграде нечто в этом роде.)
Да, про Кита. Я говорила с ним по телефону. Он затем сам позвонил и собирался зайти, но пока не зашел. Я думаю, что ему, ребенку и мужчине, — не совсем ловко со мной и с нами. Я всегда очень прошу его располагать моей дружбой, как бы родством.
Дважды заходила Тоня[412]. Я приветила ее — как могла, от тебя и от себя.
Вася, с безмерной любовью и новым волнением читала я «Ожог», теперь его тоже свезли в укрытие.
Я радовалась победе твоей жизни и чудного таланта и победе убиенных над убийцами. Вообще — храни тебя Бог и нас в тебе.
В эти грустные, но напряженные даже до бодрости дни я радовалась чистому дружеству — нас, немногих, и как далеки, чужды мне остальные.
Васенька, пришел Пик.
Целую тебя со всем обожанием.
Маята, милая, целую, не расстаюсь с вами душой.
Но не печальтесь и не пугайтесь там чрезмерно!
Ваша Белла. 11.12.81
Родные Майя и Вася!
Вдруг подумала: с Рождеством и с Новым годом!
Милые родные Вася и Майя!
Я провела с вами единственно и совершенно счастливый мой день: 25 декабря. Я не видела ни одного человека, лишь птиц в окне и собак. Я медленно ходила, смотрела, улыбалась, елка громко оттаивала, я повесила на нее вашу иконку, крестик, вернувшийся ко мне от Лени Пастернака, Библию читала. Я не знаю, где про Рождество, и читала псалмы Давида, особенно 1-й, любимый. Все: яркая толчея птиц за окном (четыре сойки, два дятла, поползни и синицы), моя радость, трезвость, тишина — все это было вам, к вам, и ваш ответ был явствен.
Однако икона, и крестик, и Библия не упасли меня от антихристов, вещающих по ТВ о Польше, об Америке — негодяю я даже усмехнулась, ведь и я думала о вас — в Америке.
Я не писала вам, а всей душой — вплотную соотносилась. А вчера (26) пошла позвонить (в тщетной надежде) Алеше, Кира была так строга и мрачна, что я пообещала не звонить боле. Вася, только не говори ей, не усугубляй.
Вышла от Лиды[413] (где звонила), увидела Дмитрия Александровича Пригова, Н.Ю. Климонтовича и В. Лена (соблюдение отчеств — правило Пригова). Вновь оповестили о допросах по делу Козловского. Их просьба к тебе — о Козловском, у него что-то еще должно выйти, пусть, но с оповещением, что сидит (статья 190-1, изготовление, хранение, распространение клеветы). Все эти сведения, от меня, вяло прошли: да и то сказать, Сахаров, теперь Польша.
Все остальное, убогое, мы делаем здесь.
Кублановского не посадили, хотя твердо обещали. На всякий случай — экземпляр его письма к Апдайку, но это — в случае ареста, пока не надо.
Васенька, Маята, я пишу, пока Пик и Бигги и Хайдук[414] и дети пьют чай. Я тороплюсь отдать все письма к тебе, Вася.
Насчет ваших портретов — придумаем.
Я же — ничего, пишу новую штучку, как всегда — посвященную тебе.
Торопят, целую. Ваша, и лишь ваша, Белла.
Поздравляем с Собакой.
Васька! Майка!
Сегодня — разбор выставки (она хорошая была, Женька тебе пишет). Носят картины домой. Пишу наспех, потому что иду на прием — к тебе же, Вася[415], и тороплюсь.
Первое: Кит — очень хороший, и у него нет никаких плохих новостей, обещает закончить институт хорошо, просто ему в институте, безотносительно к фамилии, — невыносимо.
Мне тоже — невыносимо. Статейку[416] в руки не брала, но содержание — знаю, и название знаю.
Стихи валялись в этой газетке — стала забирать, говорят: «Пожалуйста, но никто ваших стихов печатать не собирался».
Какие-то стихи напечатаны в «Литературной Грузии» — мои, мои к Володе Высоцкому и Высоцкой. Пошлю, как получу.
Васенька, родной. Еще не написали тебе про «Остров Крым» — как хорош. Рассказ «Право на остров» — обожаем.
Странно, что при статейке, умирая впрямую от оповещения о ней, — жалела не себя.
Милые, спасибо вам за все, и за подарки. Я все передала сразу же.
Выставка заняла все время — быть, любить хороших, встречать, провожать.
Моя жизнь, сердце — не как символ, а как нечто, подлежащее боли, — ваше.
Напишу все подробно — через несколько дней. И отправлю — подробней. Сегодня — знаю, что неудобно.
Целую, целую. Ваша Белла
Вася, дорогой, вот, кажется, настал момент и для меня сесть и написать тебе несколько слов. Я думаю, что ты понимаешь, как трудно нам что-то сформулировать о нашей жизни, столь знакомой тебе, без какого-либо повода взглянуть на нее по-новому. Хотя сейчас, может статься, и есть такой повод: я имею в виду свою выставку, которая учинила все-таки некоторую встряску в нашем устоявшемся болоте.
Я посылаю тебе каталог и пару фотографий, чтобы ты мог иметь некоторое представление о ней.
Себе я могу сделать некоторый комплимент в смысле несуетности в деле организации и подготовки этой выставки. Она находилась в плане вот уже в течение пяти лет и каждый раз откладывалась на следующий год по соответствующей причине, как то: наш журнал[417] или очередное высказывание «нашей» женщины. И вот, наконец, где-то в мае месяце мне позвонили из дирекции выставки и сообщили, что она состоится в этом году. Первым движением души было пойти и отказаться от нее, как по причине нежелания сотрудничать с ними в любой форме, так и по ощущению неготовности выставляться; в данном случае я имею в виду некоторое «творческое комплексование», сопутствующее такому крупному испытанию для художника, каковым таковая выставка является. Но по некотором размышлении я «передумал» эту ситуацию и склонился в сторону положительных эмоций, дал согласие и стал тщательно к ней готовиться. В первую очередь я отказался от всех прочих заказов и полностью сосредоточился на дорисовывании всех ранее начатых вещей. Во-вторых, мы решили никуда в этом году не ездить отдыхать, в смысле Крыма или Кавказа, и несколько разделиться, то есть Белле посуществовать отдельно в Тарусе, а мне в Москве, чтобы я мог быть полностью свободным для своих дел. В результате всего вышесказанного мои действия обрели чрезвычайную целенаправленность и быстро стали приносить необходимые результаты. Любопытная ситуация возникла перед самым открытием, я имею в виду историю с плакатом. Дело в том, что для плаката я выбрал ту самую фотографию с тремя граммофонами, что и была опубликована в нашем журнальчике. Какой-то момент я надеялся, что никто не обратит на нее внимания, так как дело прошлое, да и выходило, что на той инстанции, где ее должны были утверждать, вроде бы не обладали начальнички такими глобальными познаниями в изобразительном искусстве, чтобы эти граммофоны сличить и заметить, а уж после выхода вроде и не должны были цепляться, раз дело сделано. А с точки зрения творческой я не видел равной замены «этим трем», которые к тому же стали чем-то вроде марки издательства или фирмы моей или нашей! Но судьба, естественно, рассудила по-своему. За неделю до открытия власть пронюхала о случившемся, и поднялся грандиозный скандал: дескать, Москву хотят заклеить метропольскими граммофонами. Я думал, что карточный домик моей выставки, с таким трудом возведенный нашими усилиями, завалится в тот же миг. Каким-то чудом в последний момент, когда я был вызван к высшему художественному начальству для объяснений, мне удалось переубедить его в том, что, дескать, следует исправить положение, не вкладывая в него столько глубинного смысла, так как тогда действительно эта история приобретет зловещий характер и потребует далеко идущих выводов. Самое же смешное оказалось в том, что когда начальство выразило согласие с моим предложением и начался коллективный поиск выхода из положения, то высокая комиссия из трех представленных мной на выбор литографий, долженствующих послужить заменой злополучной метропольской, выбрала ту, где были изображены также граммофоны, только на этот раз в количестве двух. В итоге вся эта история стала напоминать знаменитую байку — анекдот о Николае II и человеке по фамилии Семижопкин. Оный господин вышел с ходатайством на высочайшее имя с просьбой облагородить звучание его фамилии, на что Всероссийский Самодержец будто бы ответил: «Много ему семи, ну пусть тогда будет пяти!» В результате этой заварухи мне не успели напечатать каталог к открытию выставки и сделали это на две недели позже. А новый плакат по великому блату выпустили в день открытия выставки, и в развеску он пошел через пару дней. Сама выставка была разрешена после посещения трех комиссий из МК, Московского управления культуры и Секретариата Союза художников. После всех замечаний и придирок ото всех соответствующих инстанций она и открылась при огромном стечении интеллигентов двадцать четвертого сентября сего года. На открытии были все наши друзья-знакомые, в том числе Семен Израилевич и Инна, Володя Кормер и Женя Рейн, Фазиль Искандер и Андрей Битов. Женя Козловский и Коля Климонтович, Дм. Алекс. Пригов и Евг. Бор. Пастернак, и десятки и сотни других и прекрасных людей. Через два часа после открытия (выставка состоялась в помещении Московского Союза художников на ул. Вавилова, 65 — напротив Черемушкинского рынка) вся многочисленная братия друзей и знакомых в количестве двухсот(!) человек перекочевала в помещение ресторана Всероссийского театрального общества, который был снят мной целиком! (И все это совершенно в долг, как ты понимаешь!) Гигантское гуляние длилось с семи часов вечера до часу ночи и, по отзывам участников, удалось на славу. Должен сказать, что в числе гостей действительно были лучшие люди из оставшихся еще в России: кроме тех, кого я перечислил в начале, могу вспомнить Булата Окуджаву с Олей, Сашу Володина, Зяму Гердта, всех режиссеров московских театров, а также огромную группу художничков во главе с Мишей Шварцманом, не говоря уже о целом созвездии московских красавиц, украсивших собой этот «праздник».
Василий, не осуждай меня за то, что я так подробно пишу об этом, но ты должен понять, что для меня это было целое событие, хотя, как ты знаешь, нам не привыкать к огромным сборищам. Выставка просуществовала месяц и три дня и посещалась очень большим количеством людей. В заключение могу отметить, что в конце мы устроили закрытие с чтением стихов и шампанским для всех(!) присутствующих, что и можешь разглядеть на прикладываемых фотографиях. Я думаю, что подобное мероприятие (я имею в виду выставку) дает ощущение — для всех нас, оставшихся москвичей, — длящейся жизни. Это столь важно для нас потому, что общий мрак достиг сейчас своего апогея, и люди невероятно ценят всякий знак какой-то другой — длящейся жизни, чего-то более светлого, чем то, что они видят вокруг себя. Нам об этом говорили буквально все, в том числе и Жора Владимов и наш Пик Литтел, который привел-таки своего Посла и успел-таки это сделать до закрытия выставки! Буквально все дни работы выставки нас с Беллой на ней окружали все наши перечисленные друзья, которые приезжали туда каждый день, как на работу, и проводили его там в питье пива и дружеском трепе. Вася, пусть это письмо, которое я кончаю в момент приезда наших друзей на дачу, останется таким локальным «документом» о выставке, а уж в следующий раз я поподробнее напишу тебе о всей нашей прочей жизни.
Огромное спасибо тебе и Майе за память и присылку всех ваших прекрасных сувениров — это нас очень поддерживает и практически, и, конечно, духовно.
Майю я обнимаю крепко, всегда помню, люблю и шлю все возможные приветы.
Сейчас, когда я перечитал письмо, мне показалось, что его надо бы переделать и описать прочие события нашей жизни, но боюсь, что если сейчас его не отправить, то опять я не соберусь сделать это еще полгода.
Вася, дорогой, всегда, всегда тебя помним, любим и внутренне всегда с тобой переговариваемся — ты это так всегда и знай.
Еще раз обнимаю и целую тебя и Майю.
Твой Борис.
P.S. Да, забыл сказать, что Саша[418] мой пришел из армии, отбыв там ровно два года.
Кажется, это кресло подойдет к мастерской. Восхищен граммофонами на афишном стенде. Недавно Гаррисон делился впечатлениями о том, как вкусно у вас там жрали. Очень надеюсь вас увидеть в будущем году. Да здравствует Водка Выборова! Сегодня впервые за год увидели снег. Ничего особенного.
Поздравляю с Рождеством Христовым и Новым годом. Хорошо бы все-таки увидеть хоть что-то по-настоящему увлекательное.
Почитатели ваших талантов
M & V
(из стишков Б.А.)
Дорогие Вася и Майя!
Пишу вам в ночь под Рождество: при луне (специально вышла на террасу, чтобы описать вам ее пушкинское выражение, и убедилась в ее гоголевском отсутствии) и при отрадных огнях двух елок, в доме и на дворе.
Ну, и при известных вам Вове-Васе и Сильвере[419]. Рядом бодрствует и шелестит неизвестный вам и давно, но мало знакомый мне Некто (дети[420] говорят, что это хомяк редкой породы; и действительно, независим и куслив на редкость).
Сами же дети не пришли еще с гулянья, хоть праздничной ночи уже два часа. Весь вечер перед этим они, с другими девочками, гадали разными способами и тщетно поджидали прохожих, чтобы спросить об имени. Гаданье их наводило меня на грустные мысли. Боря испросил себе краткой отлучки для работы и отдыха, у него от нас и впрямь в уме рябит, но его доброта и опека пристальны и неизменны. 5-го он один ездил поздравлять Женю Попова с днем рождения, мне недостало прыти, да и детей и насморка было в избытке.
1-го все у нас собирались, я вам писала, сегодня, на Рождество, должны быть Жора Владимов с Натальей (его дружба ко мне, которой я всегда дорожила, в последнее время особенно стала для меня утешительна), Тростников, очень преуспевший в изготовлении самогона и навостривший Попова, Рейн, милые Пик и Бигги. Всем им я душевно рада, да и эти солнце-морозные дни я провела в ровности, в спасительном упадке ума и нервов, в радостной близости к детям. Даже почти не курила, хоть московские помойки все еще украшены коробками и картонками из-под «Winston»'а и всего, что в этом роде. Легкомысленные московские оборванцы вполне утешают себя прельстительным куревом в отсутствии масла и всего, что в этом роде. Закурила, и редкостный близ сидящий хомяк, кажется, недоволен. Вот, его хозяева вернулись. Они с совершенно новым выражением грусти вслушиваются в наши постоянные разговоры о вас и тосты за вас. «Над непосильным подвигом разгадки трудился лоб, а разгадать не мог». Мысль о них меня всегда снедает и изнуряет.
Да, дети, елки, гости, переделкинская обжитость, но самовластный организм знает, что ему пора в Тарусу. Именно те места и зимой, с их пространной сиростью, с бедностью и строгостью существования притягательны для меня и спасительны для моего писанья. «Я этих мест не видела давно, душа во сне глядит в чужие краи, на тех, моих, кого люблю, кого у этих мест и у меня украли… и ваши слезы видели в ночи меня в Тарусе, что одно и то же, нашли меня и долго прочь не шли. Чем сон нежней, тем пробужденье строже. Так вот на что я променяла вас, друзья души, обобранной разбоем. К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас. Вы — за Окой, вон там, за темным бором…»
Вскоре же и съеду. Те стихи, заведомо Васины, о которых я уж писала и которых не написала (набело) начинаются так:
Все написанное и не написанное так и велит мне туда ехать, словно оно там сидит, по мне скучает, совершенно готовое и стройное.
Много всего я там написала, но ощущение какого-то требовательного недо останавливает меня в посылке вам, как и во всякой торопливости.
Но вот одно:
Ночь упаданья яблок
Ощущение чего-то важного и необходимого предстоящего совершенно отвлекает меня от интереса к бывшему, могущему составить книгу — в этом случае в «Совписе» ли, в «Ардисе» ли — мне художественно все равно.
Права ли я в моем предчувствии — Таруса мне ответит, а ты, Вася, решишь.
Снова думаю, как мучительная видимость вашего отсутствия лишила меня не вас, а многих прочих, видимо присутствующих.
Вот и минувший, ушедший к вам день был так ваш и с вами, что до ночи трепетала я чужака и пришельца. Этот воображаемый развязный гость, посягающий на замкнутость нашего круга, и сам понял свою неуместность и не дерзнул втесниться (и щели не было), так что теперь, под утро, с благодарностью вижу его проницательность и деликатность.
Правда, пока цветущий день еще за ставнями блистал, явились рабочие (из воспетых мной в стихотворении про «Гараж с кабинетом») за помойкой, снесли ворота до совершенной отверстости входа, до сих пор зияющей с опасным гостеприимством, раздолбали ящик с нечистотами, банками из-под пива (спасибо!) и щегольскими остатками «Winston»-ских упаковок и пообещали привезти новый ящик, железный. Спросонок, и от врожденного подобострастия, я им сразу же выдала гонорар.
Зато больше никто не вторгался в мой и ваш день.
В отсутствии ворот есть известное удобство для Пика, а ящик — что ж, Лида мне и говорила, что железный ящик далеко не всем писателям дают, не говоря уж об их вдовах.
(Не кстати, но все же: отбирание дома Бориса Леонидовича отсрочено с 1-го января до 1-го мая, а там видно будет.)
Подумала: а вдруг они все же вскоре приедут с ящиком или просто так? Не лечь ли поспать? Ведь и утро, и день я свободна провести в говорении вам вздора в хомяцкой независимости от того, свободны ли вы внимать моему вздору.
Все же как запасливо и изобретательно бедное сердце, если ему, в предписанных обстоятельствах, так легко и весело любить вас!
Спокойной ночи мне и вам счастливого вечера и дальнейшего времени!
Целую вас, мои милые.
Доброе утро, а у нас — смеркается. Сыплется снег, и стоит тот чудный убывающий цвет, всегда обольщающий и уверяющий, что нет другой Степаниды, кроме соседской собаки. Горят две елки, и высится железный ящик.
В утро, обещанное вам, вошел из снегопада путник. Поначалу люто я его встретила, а он совершенно хорош оказался, просто невмочь людям сносить в одиночестве ум, талант, жизнь эту, да еще в такие морозы. Именно — из людей, днепропетровский житель, инженер, перенесший рак, с хорошими и странными стихами и скорбными помыслами.
Но все же был до третьего часу: прозяб ужасно, и в электричках перерыв.
Опять из стишков: «Где мы берем добродетель и стать? Нам это не по судьбе, не по чину. Если не сгинуть… совсем — то устать все не сберемся, хоть имеем причину… Слева и справа — краса и краса, дым — сирота над деревнею вьется. Склад неимущества — храм без креста. Знаю я, знаю, как это зовется».
Дети — требуют есть.
Вася, ты спрашивал про рок-оперу Андрюши. Вполне чужеземная вещица. Множество Бадолянов в упоении.
Вообще, в отечестве расцвет мюзиклов — второй, столь бурный (в этом месте письма, вблизи шести часов пополудни, вошел Боря) расцвет после конца 30-х годов…
Прошло несколько часов. Все (кроме Битова) уже писали тебе, Вася.
Васенька! Маята! Я — уже лишь целую вас.
Ваша Белла
Они вам пишут! А я — готовлю и подаю! Но все, кто здесь, рядом, — безукоризненно прекрасны. Все снимались, и снимаемся, и пошлют.
Опять не успела рассказать — ну, сон, — до помойки, до ящика. Мне Васька и я снились в лагере: Ваське 4 года и 7 мес. срок, и мне — 4 года.
Ну, пока. Белла
Майя, Вася, дорогие, любимые, я дописываю эти строки на новом листе бумаги. Хочу донести до вас замечательную обстановку сегодняшнего вечера, стихийную Рождественскую обстановку, которая возникла буквально из ничего, но замечательную тем, что собрались сегодня прекрасные люди, которых вы так хорошо знаете и чьи подписи вы можете прочесть в этом письме: Владимовы, Тростниковы, Рейн, семья Пика — он, Бигги и Андреа и кто-то из французов и итальянцев, Битов и Людка Хмельницкая[421]. Сейчас пьем за ваше здоровье, на улице мороз в двадцать пять градусов, Переделкино, собаки, дети и на столе водка, баночное пиво, что мы так ценим, как вы знаете, и прочие разносолы. Что еще написать в эти минуты? Вчера был на дне рождения Жени Попова у него дома. Была горстка людей: Ерофеев с Вещей[422], Климонтович, Пригов и еще пара человек, тоже было очень мило. Все время вспоминаем вас. И на Новый год тоже: за новогодним столом пили рюмку за вас, и помнили, и любили.
Вася, если сможешь, передай новогодний привет от меня Бродскому Иосифу и Леве Збарскому. Еще раз целую. Сейчас Рейн допишет пару слов.
Борис
Продолжение письма. Е. Рейн — В. и М. Аксеновым
Василий, Майя, метут снега, душа больная, кривит <нрзб> брезжут; страна гудит, по сердцу режет пустынный вид двух ваших кресел. Ну, что? Ну, как? Кто ныне весел? Се кавардак? В Москве, в <нрзб> не схож ли, а? А в нашей норке все тишина.
Е.Р.
Дорогие Белла и Боря,
пишу второпях и очень по делу. Пожалуйста, попробуйте связаться с Ж. Поповым. Мы получили некий сигнал остановить публикацию второй части повести Козловского в «Конте». Это сделать не трудно, но, кажется, бессмысленно, все равно ведь у них: а) текст есть; б) «Конт» с первой половиной тоже; в) Козловский сам. Смягчит ли их этот ход? Максимов сказал сегодня, что есть две недели сроку, т. е. можно ждать до 15–16 февраля. Мы попробуем путь более срочной телефонной коммуникации, но если она не состоится, пусть Женька увидит Dave Satter'а[423] и даст ему знать их решение.
«Каталог» идет, в общем, полным ходом и, кажется, появится через месяц.
Вторая очень важная идея. Издевательства над молодыми писателями (особенно «Каталога») уже достигли такого уровня и угроза так велика, что здесь поговаривают о создании международного писательского комитета в их защиту. Пусть дадут немедленно знать, не повредит ли это.
Насколько я тебя понял, ты хочешь составить книжку для «Ардиса». Оформи это желание более отчетливо, и Карл с Эллендеей будут, мне кажется, счастливы. Думаю, что очень хороши были бы, кроме стихов, и разные фото, хохмы, Борины рисунки, какие-либо статейки (помнишь, «Крокодил») и т. п., чтобы возникла книга с «шумом времени».
Обнимаю Вас, второпях, рано утром летим в Новую Англию (жаль, что не в старую) лекции шарашить.
Целую
В.
P.S. Как дела у Андрея Битова, все ли в порядке?
P.S. Как вам без М.А.Суслова? Тяжело?
Дорогой Борька,
несколько дней назад говорил с Китом, и он мне сказал, что был у тебя, что Белла надолго в Тарусе. Малый не особенно разговорчивый, да еще и специфика наших контактов, но мне показалось, что он был очень доволен визитом к тебе. Между прочим, он хочет мне послать какую-то свою картину, но не знает, как это сделать. Может быть, ему ее у вас оставить, чтобы Пик забрал?
Вот настоящий друг, без него оборвалась бы основная жила коммуникации. Попов и компания не очень-то заботятся о контактах. Недавно до нас дошло, что они сейчас хотят «поменьше шума», а между тем совсем недавно после ареста К.[424] и обысков просили «побольше», что мы и делали. В общем-то бедных ребят можно понять: гэбэшкины паузы кажутся им основательным затишьем, хочется нормальной жизни, спокойной работы. Все это мы прекрасно помним и понимаем, но мне все-таки кажется, что когда зашло уже так далеко, что назад можно повернуть только с помощью основательной подлости, в том смысле, что уже не повернешь, тогда единственное, что может помочь, — контакты с внешним миром.
Доходили до нас слухи, что К. «колется» и что они готовят что-то вроде показательного процесса с «разоблачениями» в печати. Глупость, конечно, несусветная — идеология опять сама себя высечет, если, конечно, попутно не будет доказано, что К. грабил сберкассы. Что он может раскрыть — как передавал через кого-то свои сочинения? О.К. — на чью же голову падет позор?
Из Москвы через местную прессу все время сейчас поступают сенсации. Вот последняя самая замечательная: якобы В.И. Ленин через МХАТ уже объявил новый НЭП и скоро все будет.
Между тем у нас жуткий ударил Зуссман. Несколько дней назад расцвели, наконец, вашингтонские вишни, Cherry Dlossom, лучшее время года, парады, фестивали, и вдруг дикий колотун, все цветы облетели, и в народе пошли разговоры в том смысле, что «наши физики проспорили ихним физикам пари».
Мы живем тихо, если не считать бесконечных parties, но это, конечно, мало похоже на наши московские сборища, богемой здесь и не пахнет, я стараюсь максимально использовать время при Кеннан Институте для писания (вот вчера, например, дописал небольшой романчик), т. к. на будущий год, вероятно, такой лафы уже не будет, придется больше крутиться, чтобы зарабатывать на уровень жизни (вполне скромный), студентиков учить или лекции шарашить. Английские мои переводы до сих пор не готовы, да и трудно рассчитывать на хорошую продажу, вернее, глупо — это вопрос только удачи. Была идея создания шикарного русского журнала, но для этого нужен ни много ни мало, а миллион, а мистер Корейко пока не нашелся. Столь же вяло тянется дело с кинопакетом, куда меня пригласили и тоже уже затоваривается, затюривается. В общем-то, я не суечусь, убедил себя в том, что моя карьера уже сделана, повезет — хорошо, не повезет — перебьемся; в конце концов почему мне должно везти в чужом доме, сколько здесь своих ловцов удачи.
Здесь у нас сложилась уже небольшая русская среда, есть и американское общество, много бывших москвичей, в Вашингтоне, наверное, больше чем где-либо американцев, говорящих по-русски или как-то относящихся к России. Масса народу (знакомого) проезжает через город. Вот в субботу ждем, например, на ланч известных вам Крэга и Хойди, французов Вернье, японца Сузуки (все москвичи)[425]…
Я думаю, ты помнишь здешние музеи, вот это, в самом деле, great advantage, я иногда захожу по пути минут на 15–20, сижу перед картиной и балдею, как В.И. Чапаев перед газовой плитой.
Последний эмигрантский анекдот: чувак поселился в некоем городе, но не может запомнить его названия: ГЭПЭУГО? ЭНКАВЭДЭГО? КАГЭБЭГО?Наконец, осенило — ЧЭКАГО!
Белка все обещает прислать стихи и не шлет. Заставь, пожалуйста. Запрашивал вас я также о возможной книге в «Ардисе». Почему молчите? Есть ли какое-нибудь движение с Гаррисоновским приглашением? Или с какой-нибудь другой поездкой? Недавно один наш общий друг вдруг позвонил нам из Копенгагена. Говорил недавно по телефону и с Азариком. Он работает учителем в high-school и пока доволен. К Миле Лось приехала Бетя, полна энтузиазма.
Дней десять назад наконец-то пришли ваши деньги из Калифорнии — 620 долларов. Майка прежде хотела купить на них Белке какую-нибудь шубейку, но сейчас я ее остановил, чтобы дождаться ваших распоряжений. Распоряжайтесь, а мы пошлем посылку на…
Целуем вас и любим как всегда.
Вася и Майя
Мой «офис» в этой башне, подняться и спуститься можно только лифтом, да еще есть люк в полу для fire escape, т. е. чтобы драпать при пожаре. Надо мной сидит mr. Wei, начальник отдела печати Министерства иностранных дел КНР. Отличный, между прочим, парень. Похож на грузина.
Между прочим, почему бы тебе не послать сюда заявление на fellowsyip? Это дает 2000 в месяц и почти 0 каких-либо обязательств. Здесь был fellow Андрюша, а сейчас у них лежит заявление не кого-нибудь, а Ф. Кузнецова.
Если хочешь, пришлю тебе бланки заявления и поговорю с начальством. В этом случае, увы, шансы Фелькины, и без того хреновые, просто испарятся. Подумай, можно приехать на 3 месяца, на полгода, на год.
Христос Воскресе,
любимые, дорогие! Целуем вас!
Васенька, Маята, вот — сидим, вернулись из церкви.
Все бы ничего — без вас больно. И никак не соберу множества стишков моих, в том числе и Васькино, про убийство истопника. К стишкам этим благосклонны люди: одно себе Жора выбрал, другое Женька Попов, какое-то — Кублановский, а Васькино — лучшее, может быть. Впрочем, я к этому всегда небрежна, то есть — к себе, не к Жоре же, о котором трепещу, но он — как бы ничего, ясен, добр, спокоен.
Ах, при чем стишки!
Вася, я все тебя читаю. Так сильно читаю, так радуюсь тебе. Какой ты гений, Васька, какой ты любимый, несравненный, ненаглядный — и вот такого-то неужели никогда не увижу? Проклятая, несчастная Жундилага!
Васенька, Маята, вот заводит Женька «Смертию смерть поправ…»
Мне, чтобы написать вам как надобно, хотя бы день и ночь целиком должны быть предоставлены мелкой быстрой жизнью.
Но — хоть малую весточку хочу послать.
Вася, позвоните когда-нибудь: в яви голоса нуждаюсь.
Целую и обнимаю.
Ваша Белла
в ночь на 26-е апреля, мимолетно…
Дорогой Вася, дорогая Майя!
Христос Воскрес! Я и Света целуем вас, обнимаем, выпиваем и разговляемся с вами.
За столом сидят друзья, Куб с женой, выпиваем.
Больше не знаю, что сообразить в короткую секунду: дела с Е.К.[426] продолжаются — процесс будет, видимо, через месяц-полтора. И я молюсь за него.
До свидания, родные люди.
17/IV 82 Евг. + Света
ночь
P.S. Совсем забыл — привет от Семена и Инны. Они (тьфу, тьфу) живы-здоровы. Семен просит узнать, когда будет его проза (отд. издание).
Дорогая Белка,
пишу второпях, чтобы сегодня же отослать Пику: он едет в отпуск и значит, связь на некоторое время затухнет, вот так дотянул. Заканчиваю сейчас книгу, времени ни на что не хватает, здесь еще эти мудацкие «партии» заели.
Недавно натолкнулся в «Литературной газете» на заметку: «В Ялте, в Доме творчества им. Чехова проходит семинар драматургов. В отличие от прежних лет среди его участников известные мастера Л. Устинов, Л. Зорин, Г. Мамлин, Ю. Эдлис, А. Арбузов, А. Штейн…». Какая собралась необычная компания! Вспомнилось, прости, как мы с тобой закапывали там в листья бутылки и потом их с таким восторгом находили. Впрочем, и на ностальгии остается мало времени. Неужто уж мы больше не увидимся, как здешние говорят, in person? Вы бы хоть в нейтральную страну куда-нибудь поехали б, а мы б туда б?!?
Кстати, о Литгазете. Давно уж с такой мерзостью, как никарагуанские мемуары Е.Е., не сталкивался. Он все еще за свободу, оказывается, борется, гипертрофированный пошляк.
В смысле пошлости «наши», конечно, недосягаемы, но и здесь порой из совершенно неожиданных мест несет такой местечковой дурью, что впору предположить некоторый новый интернационал. Постыднейшая возня, например, тут шла два месяца с приглашениями на завтрак к президенту. В конце концов, Солж. послал их подальше и правильно сделал[427].
Недавно мы вернулись из Бостона, где встретили множество писателей, в том числе и Володю В. Он стал гораздо лучше, уже не злится на Запад за плохой прием, да вроде бы и нет оснований — на год они переезжают в Принстон, и там, наверное, им будет хорошо.
У нас еще пока ничего не ясно на будущий год, второй такой синекуры, как Кеnnan Institute, не найдешь сразу. Пока что собираемся в конце августа в Испанию, а потом в Париж и Лондон. Переводы мои по-прежнему в черепашьем движении.
Вы мне не ответили, что покупать на калифорнийские деньги. Во всяком случае, вы знаете, что ваши $ 620 у нас.
Целую и жду, наконец, стихов.
Мы в NY останавливались у Билла Jay Smith[428], вспоминали вас. Они с Соней задавали много о Москве и москвичах любопытных вопросов.
Твой Вас.
Вася, дорогой, поздравляю тебя с прекрасным днем твоего пятидесятилетия[429]! Можешь не сомневаться, что в этот день мы совпадем в алкогольном экстазе и подлинной радости по случаю твоего рождения всего пятьдесят лет тому назад.
В нашем небольшом обществе, которое продолжает быть сплоченным и дружным, несмотря ни на что, продолжающем достаточно регулярно видеть друг друга, мы много говорим о тебе и Майе и как-то внутренне готовимся к этому твоему дню. Каждый хочет тебя хоть чем-нибудь порадовать. Мне сегодня это сделать трудно, потому что я не могу тебе ничего прислать из своих графических работ и, таким образом, придать своему подарку некое творческое и, я б сказал, символическое значение. Кроме того, сейчас, именно в тот момент, когда я должен написать это письмо и отправить его, вышло так, что, по совершенно случайным обстоятельствам, Беллы не оказалось дома. (Хотя я прекрасно знаю, с какими замечательным чувством она как-то внутренне ждет этого твоего дня, вкладывая в поздравление тебя с ним тоже какое-то прекрасное значение!) Я же понимаю, что сейчас нельзя рисковать и не отправить это письмо в данную минуту, и потому я делаю это сам и, одновременно со своими, шлю и ее пожелания тебе счастья и свободного творчества. Кроме того, я решаюсь на свой страх и риск послать тебе, быть может, в первый раз, ее стихи, тоже выбранные мною, по моему вкусу, включая, правда, стихотворение «Либедин мой, либедин…», которое Белла посвятила тебе еще в Тарусе, зная, что чернота нашей жизни, столь воспетая тобой здесь, не сможет не понравиться тебе и в этом стихотворении. Сам же я думаю, что стихи ее этого периода, который не закончен, замечательны каким-то новым своим чувством, порой столь заземленным, а порой все еще по-прежнему парящим очень высоко. Таких стихов у нее очень много, и каждый раз, когда я собираюсь их отослать в как бы окончательно подобранном и строгом виде, из этого ничего не получается, так как Белла каждый раз что-то меняет и что-то хочет дописать получше, и вся эта бодяга откладывается и откладывается. Так что сейчас именно потому, что ее нет дома, ты и сможешь прочесть хоть что-то из новых стихов. Кроме того, желая тебя порадовать, я вложил сюда же старое письмо Миши Рощина, адресованное тебе, но не отправленное вовремя. Без сомнения, оно тоже будет кстати тебе в этот день и заменит собой специальное поздравительное. О своих делах напишу тебе подробнее в другой раз и, пожалуй, единственное, что скажу, это о радости выпуска «Самоубийцы»[430] Николая Робертовича Эрдмана, что поразило всех наших друзей, никогда до конца не веривших в это. Да я и сам до последней минуты не верил в возможность такого исхода и сейчас продолжаю переживать подробности развернувшейся баталии. Но об этом после. Сейчас разгар лета и, наверное, необходимо срочно куда-нибудь уехать отдохнуть, вырвавшись внезапно и окончательно.
Вася, я отправляю это письмо и продолжаю надеяться, что Белла найдет возможность написать тебе отдельно, но сегодня, как я уже сказал, я не рискую ее ждать.
Вася, передай, пожалуйста, Майе мои приветы и пусть она считает и берет на свой счет буквально все слова, сказанные тебе здесь. Мы всегда, всегда помним о ней. Буквально ни одного дня не проходит без того, что ее не мелькнуло бы в нашем вечном трепе о вас.
Целую тебя и Майю.
Ваш Борис
Васенька, дорогой, милый,
вот и я поздравляю тебя с твоим Днем. Написала — и какой-то скрип-всхлип внутри сердца удостоверил, что много жизни вычла из него наша разлука.
Тяжелое тягучее лето: бедная Лиза, вдруг повзрослевшая и огрубевшая (может быть, на время). Аня, увлеченная лошадьми и ипподромом, усталый Боря, бессмысленная я, неизбывные, вяло-бурные застолья. Собираемся поехать куда глаза глядят — в сторону Вологды.
Даже если я преувеличиваю постоянное внимание злорадного уха и глаза, — оно тем более изнуряет, удивляюсь лишь, что оно так затаилось.
Вася, я, по предчувствию моему, была готова к «письму»[431] Козловского — но жалела, что тебе это не может не быть больно[432].
Хотя — что! И так понятно, что человек (во всяком случае — этот, упомянутый) — слаб и убог, а они всемогущи и знают, с кем им удобно будет иметь дело.
Почему-то на меня это лишь из-за тебя произвело какое-то впечатление. Все прочее — не интересно.
Вот и пишу я вам, ненаглядные (и впрямь не могли наглядеться на вас в аппаратик Пика) Вася и Маята, вот и пишу вам — вяло, как живу.
Приглашения пока не оглашали и не оформляли. Зачем им, чтобы мы увиделись? Да и нечего нам возразить и противопоставить им.
Милого Пика видим все время — сейчас он приедет с Гаррисоном. (Маленькое оживление на улице.)
Вася, не хочу опечалить тебя моей нынешней не-бодростью, пройдет.
Просто шлю вам всю мою любовь и целую. 20-го августа — совершенно вместе.
Ваша Белла
Васенька, еще раз: с твоим грядущим днем рождения! Выпивай вместе с нами 20 августа в 8 часов вечера по-нашему (Женька Попов, Борька и я никак не могли высчитать: сколько будет по-вашему).
Целуем вас!
Дорогие Белла & Боря,
газетенка «Московская правда» добралась до нас (не сама, но в хеrох копии) сравнительно недавно. Я, когда узнал о раскаянии (от Жана-Луи, злокозненного бельгийца), позвонил в Библиотеку Конгресса и поинтересовался, есть ли у них такое издание, и библиотекарь вскоре перезвонил и радостно сказал, что есть и именно за нужное число, но оказалось, что он имел в виду не местную «Правду» Москвы, а ту главную «Правду» всех времен и народов. И только усилиями «спецслужб США» ошибка была исправлена.
Документик достоин передачи потомкам: «спецслужбы СССР» усилий больших не приложили, чтобы закамуфлироваться, каждая фраза отмечена их особым стилем, видно Козловскому совсем отбили охоту держать перо. Сначала я думал ответить в «Нью-Йорк таймс», но потом слишком уж противно стало, пусть потомки и разбираются в их грязных делах. Может быть, коснусь когда-нибудь при случае и к слову.
Что касается самого персонажа, то обвинять его в чем-либо трудно, ведь не исключено даже, что в Лефортово что-нибудь в пищу подмешивают, подавляющее волю, как в армии, например, усмиряют эротизм. Как еще иначе объяснишь вереницу покаяний — о. Дудко, Регельсон, Капитанчук, Болонкин, ленинградка эта, Козловский?[433] Может быть, «стилисты» обладают сокровенным словом?
Конечно, все это весьма постыдно, но я, в самом деле, не брошу в Козловского камень. Здесь некоторые думают, что был какой-то собачий компромисс: в статейке не упомянут никто «изнутри» (даже Жора), а только лишь внешние сволочи. Что вы думаете по этому поводу? Пик пишет, что Владимовы собираются в дорогу. Когда их ждать?
На фоне этих замечательных событий дивно звучат слова Булата. «У нас сейчас всех холят и лелеют», — сказал он Сарочке Б.[434] в Париже. А Вася, по его словам, совершил большую ошибку, уехав. Он (т. е. я) мог бы ездить, как я (т. е. Булат), мог бы писать, как я, то есть, что хочу, а они бы его все равно выпускали ездить, то есть никакой нужды в эмиграции и не было бы. Людям, которые «ездят», чего же эмигрировать?
Вот в чем, оказывается, причина моей эмиграции: думал, что не буду «ездить»; как видно, и гражданства меня лишили за эту непонятливость.
Та же самая идея прилетела сюда и из Болгарии. Один мой здешний приятель, американский поэт, встретил там Шкляревского, который сказал, что Вася напрасно решил уехать, это он совершил большую ошибку, мог бы прекрасно и не уезжать.
Совпадение, конечно, случайное, но и Шкляревского мне легче понять, а вот Окуджава, который все обстоятельства прекрасно знал, ЛИШНИЙ раз поражает ослепительнейшим эгоизмом.
Впрочем, все это уходит все дальше и дальше. Прошло два года, все меньше надежд увидеть папу, все отодвигается в глубину, в литературные измерения, даже и сын, даже и друзья. Мы становимся настоящими русскими эмигрантами. Английские словечки прыгают вокруг, даже и когда упражняешься по ВМПС'у[435].
Впрочем, на прошлой неделе мы посетили две русских деревни в штате Вермонт, это летние школы в Middlebury и Norwich, там студентам запрещается говорить по-английски и даже смотреть телевизор. В глуши, у проселочных дорог живут различные писатели, в том числе Саша Соколов и Кевин Клоз[436]. Все шлют приветы. Мы присмотрели большой дом на склоне горы overlooking, прошу прощения, обширное живописное пространство дивного и прохладного штата. Думаем на будущий год арендовать его, а если немного разбогатеем, то и купить вместе с прилегающим лесом в 90 акров. Вот тогда приезжайте, откроем там колонию «Остров Крым».
Среди Вермонтской идиллии узнали мы ужасную новость из Мичигана. Неожиданно рухнул Карл Проффер. Еще 10 июля мы встретились на океане в Rehoboth Beach, провели вместе вечер, болтали, пили вино, ничто не предвещало беду, а через неделю его прооперировали и нашли запущенный рак желудка. Эллендея плачет и все время повторяет «конец света», это именно так, конечно, и выглядит для нее, да и для всех нас здесь это просто настоящий обвал — ведь, кроме того что он — настоящий иноземный рыцарь русской литературы, он для многих здесь беженцев настоящий друг. Наверное, только мразь вроде Фельки Кузнецова обрадуется. Конечно, хоронить еще рано, будем еще молиться за него, но уж тут пойдет химиотерапия и рентген и… в общем…
Ребята наверное уже получили «Каталог»? На всякий случай отсылаю свою копию. Очень хороши там Женька и Пригов. Есть ли какие-нибудь на горизонте замечательные произведения, вдохновенные молодые люди? Вообще, что там происходит, кроме раскаяний? Как тут один литгерой спросил после того, как нашел свои штаны висящими на люстре: ну, как вообще-то жизнь в Америке?
В здешней жизни тоже есть непорядок. Вчера один критик обвинил американских писателей в том, что они пишут только о себе, т. е. о писателях. Кое-какие новости об Америке узнаю из кэгэбэшной страницы «Литгазеты».
Вы так и не сообщили, какие сделать бытовые покупки на ваши деньги. Во всяком случае, они, деньги ($ 620) лежат у нас, и в любой момент по вашему приказанию мы их израсходуем или сбережем с годовой прибавкой в 6$.
Мы через две недели собираемся в Европу, в Испанию, на Майорку, потом Париж и Лондон. Вернемся в середине сентября в Вашингтон, но еще неизвестно, останемся ли мы здесь на будущий год или сдвинемся куда-нибудь.
Целуем, ждем вестей.
Вася, Майя
Приписка на отдельном листе:
Дорогие и любимые друзья!
Ваши письма и стихи пришли за несколько часов до нашего отъезда в Европу. Берем их с собой.
Если 20-го соберетесь пить, найдите на карте в Средиземном море Балеарские острова: туда мы направляемся. Спасибо за поздравления. Постараюсь.
Вася
Дорогие Б & Б,
сидим в ресторанчике «Альфонсо Шестой» в Толедо. Сюда сегодня подвезли пиво. Официант пообещал также лангустов, но мы не верим. Жара 40 °, т. е. около 110 °F, но дышится легче, чем в нашей столице при 90 °F.
Все вокруг серовато-розоватое. Вообразите эту улицу без осла, но полную многоязычного сброда, среди которого иной раз можно услышать что-то вроде «Муся, Фаня, куда же вы идете?» — жители жарких республик. Возвращаемся в Мадрид и перелетаем на Майорку, а оттуда уже отправимся в Париж и Лондон, полюбоваться дождями и туманами.
Обнимаем вас и упорно надеемся на встречу.
В & M
с ослиным упорством, как этот осел, продающий свистульки и дудки, упорствуем мечтать. Спасибо за «Сову» и «День Рафаэль»[437] и прочее, как раз здесь и прочитаны: было к месту.
Васенька, Майя, неожиданно приехал Пик и я ничего, как всегда, не успеваю написать.
Спасибо, целую, люблю, очень, очень стала тосковать и отчаиваться, но ничего.
Пожалуйста, от меня — Карлу и Элендее слова моей любви, печали и надежды [438]. Я им напишу.
Вася, от Булата: не знаю, что он тебе пишет, но он ужаснулся дури Сарн.[439]
Перепутала — Жорино письмо само по себе, в Германию. Просто тогда их привет, они все время с нами, надо им уезжать[440], но они пока ничего не сделали для этого.
Очень грущу, но ничаво.
Целую Белла
Вася, дорогой, в этот раз написать не успеваем, прими лишь наш привет. В своем письме ты совершенно точно оцениваешь нашу ситуацию, и добавить к этому почти нечего. Тем не менее жизнь длится! Близко общаемся с Жорой, которому сейчас особенно трудно. Белла два месяца провела в Тарусе и опять написала хорошие стихи, которые, мне кажется, тебе особенно понравятся — про «черноту» нашей жизни и разные там детективы в стихах. Я занят работой в театрах. Сейчас, как ни странно, делаю «Самоубийцу» Эрдмана, конечно, подсокращенного в театре Сатиры, и, что самое удивительное, миниатюры Хармса[441], скоро премьера, но я не знаю, разрешат ли. Алеша несколько раз заходил и выглядит совсем неплохо. Я думаю, что с институтом у него все будет в порядке, и он его кончит.
Вася, жди нашей более вразумительной и подробной весточки.
Всегда живем вашими совершениями и успехами. Привет буквально от всех и знай, что часто выпиваем за тебя и за Майю на наших встречах.
Майе огромный привет и поцелуи.
Твой Борис
Родные и милые, в спешке — целую. Ваша Белла.
С Новым годом! С Рождеством Христовым! Привет от вас позавчерась, сегодня вам от Май и Вась!
Целуем.
26.12.82 (почтовый штемпель) Вашингтон
Дорогие Белка и Борька!
Очень рады, что вы, наконец, решили попытаться посетить эти берега. Трудно даже представить, как было бы чудесно вас увидеть!
Что нужно сделать здесь? Напомнить Гаррисону? Мы его наверняка увидим в NY через пару недель. Там будет мировой конгресс PEN, куда, между прочим, хотели пригласить и Белку, но это уж мало реалистично.
Я думаю, что вам нужно обязательно приехать в течение какого-нибудь университетского семестра (т. е. не летом и не в каникулы) для того, чтобы поездить с выступлениями по кампусам и заработать денег. Кроме того, можно выступать в местах скоплений соотечественников и тоже заработать. Они, компатриоты, сейчас укрепились, разбогатели и могут платить.
Чтобы все это организовать, нужно время. Поэтому, когда все будет решено, дайте нам знать заранее, за 2 недели или за месяц, чтобы можно было активизировать всю систему.
Недавно мы сидели в вашингтонском джазовом «One step down»[442] с Максимом Ш., Левой З. и Кириллом Д.[443] Тут пришла максимовская девушка и говорит: а я третьего дня была у Бори и Беллы на Воровской. У-у-у-п-п-с!
Целуем и поздравляем с Рождеством и Новым годом.
Вася и Майя!
С Новым годом, третьим без вас…
Разговаривать с вами — в воздух, с поручением заходящему солнцу, просто — в лес, в снег. С уверенностью, что вы — слышите, знаете, всегда разговаривать с вами, даже до слышного прохожим бормотания — легче, чем писать. Особенно, если что-нибудь вдруг хорошее, что и следует считать счастьем…
Например, ночью слышали твой голос (и вся Москва слышала)[444]: «Здравствуйте, господа!» — твой ясный, здравый, умный, но столь для меня мой, мне принадлежащий, вот он, возле уха на переделкинской подушке — и: как это — «нас — рас — раз… развели по двум разным концам земли».
Утром, в отчаянии, в осознании этой приставки (ничего себе приставочка к корню) — все думаю о тебе, о вас, едем с Лизой в Переделкино. Сошли с поезда — из снега свежий сгусток стройных, словно привидевшихся черт: маленький (уже взрослый) Петя Пастернак целует в щеку. И засмеялась: милый Вася, ничего, видишь — идем с Лизкой в аптеку, в магазин. В магазине — все то же, и в Сетуни — и много посвящено тебе.
Вот все и счастья мои.
Еще: между чужими чтениями еще раз прочла «ОК»[445] и еще раз возлюбила твою драгоценную и вещую книгу (твои мои книги спрятаны. А для прочтения другими держу, чтобы читали, некоторые задерживают, зажиливают, очередь, как всегда, — пререкается.)
Радость: ты — в расцвете зрелого ума, чудного дара.
Мы же — в упадке.
Про Жору ты знаешь. Сегодня (5-го января) опять они с Наташей весь день (с 9 до 18), как и вчера, — в тюрьме давали показания по делу Бородина[446] (замечательный, я его лишь однажды у Жоры видела) и по делу Крахмальниковой[447].
Наталье завтра опять идти.
Вроде к тому клонят, чтобы он, дескать, покаялся, назвал… вздор, одним словом… но — до 20-го января, иначе — дело совершенно готово. Надежда: что он ведь не оповестил их о возможности для него — уехать, так, слухи, подслушка, то есть — не о возможности, конечно, а о его каком-то смутном, вынужденном решении, о поездке для лечения… как-то все это не так, а как нужно — я не знаю и советовать не умею.
Написал лишь 25-го декабря письмо на «высочайшее» имя — отдал невесть кому[448]. Нет письма, копия теперь у меня — и что же мне советовать или делать?
Сегодня все с Инной и Семеном[449], все беспомощны, Жора же по телефону рассказывает, что и как, приедет 7-го, на Рождество.
Васенька, прости, родной мой брат и друг, сбивчивость и нехудожественность писания.
Нет, что ли, ясных трезвых сосредоточенных нервов — для художества — всегда, как у великих…
Ночь, елка нежно и прельстительно сияет под окном, спят дети, по коим разрывается сердце. Вздыхают и вздрагивают спящие собаки.
И — снег, звезды, лампа, отраженная в черном окне. Казалось бы — что еще надобно, не грех ли капризничать?
Васька, ну да ладно. Мои радости — все же мои. Старые люди очень утешительны. Наталья Евгеньевна Штемпель[450] («Воронежские тетради») соотносится со мной по почте и телефону — и сразу я радуюсь, легчаю сердцем. Анастасия Ивановна Цветаева — слава Богу, бодра, хоть, при обожании, пререкаюсь немного, но она, к счастью, этого как раз не слышит.
И даже, если мы с тобой, с вами, не увидимся на этом свете, — разлуки — нет.
При случае — скажи Володьке и Леве[451].
Васенька, много нашей жизни, у нас отнятой, — в тебе, тебе дано ее длить, беречь и осуществлять. Целую тебя (через сотни разъединяющих верст — это ближе и правильней всего остального).
Белла
(Дальше — лишь к Майе.)
Маята! Когда-то — незадолго до вашего отъезда — ты принесла мне пачку «Marlboro» — и я иногда прикасаюсь щекой к этой пустой коробочке. Вот и сейчас — сходила и прикоснулась. Сколько всего твоего пропало по длинной мере жизни, а коробочка — вот.
Майка, так хочу говорить о печали, благодарить, а не просить, и все же — прошу.
Я знаю, что твои дорогие и драгоценные подарки давно превзошли бедную сумму, упомянутую Васей и тобой, но знаю также, что счет другой и все — другое. Прости, что говорю о пустяках, не соизмеримых с твоей добротой и щедростью, но, если осталось от этих денег, потрать, Маята, купи что-нибудь, знаешь, детей жалко — особенно Лизку, уж слишком оборванка и еще рада, что — как я. Аньке — от Пика перепадает, и штаны мои идут. А Лизка — по сути, душа, и нага как душа. Купи ты им, Христа ради, Аньке — джинсы, № — по-моему, 36, в общем, ей — в пору мои в обтяжку и короткие, купи ей лифчик и трусы для купанья, две пары, размер лифчика — между 0 и 1, у нас не продают, и за это она не купалась прошлым летом. Лизке же бедной — тоже джинсы (10–11 лет, размер — не мыслю) и еще чего-нибудь.
Видишь, это совершенно — из Васькиного «Острова Крыма» получается.
Маята, еще, когда прошу, смеюсь над собой и жалею Пика — не утяжелить его багаж.
Мы тут ехали с Лизкой в электричке, солнце нас весело осветило, и, без ужаса, правда, ужаснулась я причудливости, уже юродивости наших одеяний, да и лиц. И брат Лиза, хрупкий, верный, рваный, почувствовав, сказала — утешительно, угодливо: «Почему это я, мама, только все старое-драное люблю носить?» — как если бы ей предлагали выбор. А Анька — барышня, и в моей бессмысленности она не виновата. Она все скачет на лошадях.
Маята, меня смешит список надобного московским друзьям из «ОК» — помнишь?
Мне же, если остатка тех денег хватит и если влезет в сумку, — может быть, какую-нибудь дешевую такую куртку, то есть подешевле, чтоб зимой в деревне ходить? И вот еще — вдруг: валенок не продают ныне, но бывают такие чужеземные валенки. А может быть, это и блажь, и тяжело. И — о, безвыходность — тоже джинсы и свитер какой-нибудь — это, если с Жорой обойдется, я в Тарусу съезжу. Я наговорила, при фальшивом бескорыстии, на, наверно, огромную сумму, но это я так, приблизительно. Майя, а ты лучше старое какое-нибудь твое и Ванькино[452] нам посылай, не надо таких роскошных бархатных брюк, мне даже лучше бумажный, всегда мной любимый до тебя, бархат. И еще — карандаш для глаз — не продают.
Маята, прости, прости. Знаю твою любовь и потому — столько моего вздора.
Целую тебя. Твоя Белла
Забытый мяч
…Надо успеть в эти несколько дней найти то, что тебе нравится, и купить. Таков капитализм! Раньше я к этому никак привыкнуть не могла, но теперь, кажется, освоилась…
Ни о каких валенках в Вашингтоне даже и не слыхали. Валенки! Здесь даже и теплых сапог купить невозможно. Посылаю единственную пару, которую удалось найти. Может быть, они тебя спасут на некоторое время, да и Борису пригодятся. Семейная пара.
Очень долго искали тебе теплую куртку. Не хотелось покупать обычную спортивную, да они не очень-то и теплые.
Эта нам понравилась сразу — лунный ренессанс, а по-нашему «Дутик», сразу нас покорил. Двойная, черная, стильная, настоящий пух, дорогой магазин.
Дома «Дутик» ожил, я на него все время смотрела, разговаривала и гладила.
Кончилось тем, что Василий предложил его усыновить.
Люби «Дутика»!
Целую. Майя
Да, Белчик! Сообщи, пожалуйста, подробно размеры. Ты теперь можешь все определить по вещам. Хотим купить Боре джинсы и ботинки, а размера не знаем. Сделай это, пожалуйста.
Боренька! Дорогой!
Всегда тебя помним, любим, но бабы на этот раз захватили площадку.
В следующий раз все только тебе.
Целуем. Майя, Вася
Дорогая Белка,
спасибо за чудное пред-Рождественское письмо. Мы здесь дважды празднуем праздник. На Christmas я ходил на полуночную службу в собор Св. Матвея в центре Вашингтона и восхищался, как всегда, тамошней публикой — такие, знаешь ли, какие-то сильные и стильные, эдакие прочные западные люди. В православии народ поскромнее, но все-таки тоже красивый. Как ни странно сохраняется какая-то цивилизованная Россия. Я думал, чем же все-таки так разительно отличается здешняя служба от, скажем, переделкинской, ведь в принципе все так же, а потом понял, простейшая вещь — дети! Ведь там б-ки запрещают детям прислуживать на литургиях, вот в чем дело.
А, вообще, увы, все дальше и дальше уходит пространство прежней жизни, а здешнее все ближе и понятнее, к тому же, при всех своих глупостях, здешнее пространство все-таки настолько естественнее для человеческой сути, что этого нельзя, в конце концов, не почувствовать и даже не испытать некоторой благодарности за то, что оно все-таки стоит и противостоит.
Теперь, когда очередные наши глупые надежды гробанулись и когда все яснее становится действительная «необратимость соц. изменений», т. е. то, что наглости и тупости нет конца, только об одном и остается мечтать (пусть беспочвенно) — чтобы вы здесь оказались, а там пусть Фельки Кузнецовы стучат друг на друга. Может быть, то, что я сейчас говорю, в чем-то безнравственно — Россия, язык, могилы — но… как тут Виктор Ворошильский[453] написал о «Солидарности»: это уже приключение не моего поколения. Впрочем, это все-таки еще не капитуляция; иногда кажется, что вывоз отвлеченных предметов патриотизма — это тоже сопротивление.
Очень волнуемся за Жору и Наташу. Я устроил недавно прямую передачу некоторых заявлений через «Голос». Вообрази, это было непросто, ибо здесь все опутано тоже соответствующей, хотя и своеобразной бюрократией, и гуманитарный расчет хоть и принимается, но во вторую очередь. Слышно ли было?
Мы боимся, не пропустил ли он момент для отъезда. Пик рассказал, что в разговоре с гэбухой Жора сорвался и накричал нечто ужасное. Как бы они не решили отомстить, да и вообще совершенно еще непонятно, что можно от них сейчас ждать, когда римско-софийская история[454] с каждым днем становится все яснее.
Во всяком случае, мы будем здесь орать во все тяжкие, если с Жорой и Натальей что-нибудь случится.
Спасибо за стихи. Я их читал на своем семинаре. Одна девочка сейчас пишет, как они говорят, рареrа на твой предмет в связи с Тарусой. У тебя совсем пошел новый период, который, конечно, так и называется «101-й километр Беллы Ахмадулиной», очень плодотворный.
Недавно здесь читал Бродский, и в аудитории возникло ощущение, что он совсем уже экспатриировался отовсюду. Читалась картина зимы, свободная от каких-либо иных примет, кроме зимних.
Очень нравится «День-Рафаэль» — это тоже живительный космополитизм. Не хочешь ли ты все-таки что-нибудь напечатать здесь? В таком элитарном и маленьком «Глаголе» может, мне кажется, сойти.
Карл сейчас проходит второй цикл лечения. Экспериментальный метод основан на вызывании у него в животе искусственно перитонита, что, конечно, дает дикие боли и слабость. Врачи все-таки дают некоторые надежды. Держится он потрясающе. В госпитале после операции, возя перед собой капельницу на колесах, занимался переводами.
Незадолго до приезда Пика мы узнали, кто его заменит в Новом году, т. е. после летних отпусков. Большая удача — это Рэй Бенсон[455], которого, как и его Ширли[456], вы все хорошо знаете — метропольский человек.
Приятно, что вы слушаете меня по радио. Буду теперь стараться вас позабавить, хотя взялся я за радиожурналистику, в общем-то, из-за денег: расходы огромные, а уезжать из Вашингтона на какую-нибудь постоянную университетскую «позицию» не хочется. Кроме этого, читаю раз в неделю в одном местном университете, и еще буду ездить — тоже раз в неделю — в колледж возле Балтимора. Увы, литературные мои заработки дико буксуют. Сволочь-переводчик до сих пор не сделал английского «Ожога», из-за этого тормозится все остальное. Впрочем, вот недавно в Париже вышел «Остров Крым», выходит «Ожог» и там же начинают репетировать «Цаплю».
Дорогой Борька!
Пишу коротко, иначе никогда не соберу проклятущий пакет. Подробнее позже. Вчера получили твое письмо, и вечером я его зачитывал Войновичам (они сейчас в Вашингтоне), присутствовал также старый Закс из «Нового мира» и еще пара друзей, и все восхитились, между прочим, твоим слогом, а Майка даже прослезилась при упоминании Дутика.
Спасибо, старик, за такое письмо, вот именно такие обстоятельные, с живыми картинами письма нам потребны. Илюша Левин, ленинградец, очень заторчал на описании питерской пьянки с Ленами, а я лично припомнил довольно четко квартиру Эры в 66-м году, где я был пьян до изумления и три раза пропускал самолет на Минводы.
Я тебя уже поздравил через Пика и еще раз обнимаю от всей души, слиянием тел образуя столетие.
Целуй Белку, ее 101-го километра вирши все время зачитываю студентам. Вчера же: письмо из Германии от Левы и Раи, они восхищаются Белкиными действиями в защиту Жоры.
Здесь его, кажется, ждут. Звонили мне из телевидения, спрашивали, говорит ли Mr. Vl.[457] по-английски.
Борька, очень тебя прошу передать письмо моему Киту, найди его, во что бы то ни стало, и вообще поговори с ним, если сможешь, по-товарищески и как Мастер (ведь он же по твоему цеху). Ему предстоит то, через что Саша уже прошел, — армия, к тому же он женился и находится сейчас в каком-то радиоактивном поле идиотских двух мамаш и глухой подозрительности в институте.
Когда мы увидимся с вами?
Обнимаем и целуем.
Вася и Майя
Б & Б!
Огромная просьба. В посылке часы для Лешкиной жены Нины.
Говорить нужно только с ней самой, не с мамкой. Мамка — протокольный человек. Вы, может быть, уже знаете, что Кит — в армии. Куда его послали, мне неизвестно. Если Нина приедет к вам, передайте ей от нас привет, а нам сообщите свои впечатления. Может быть, она напишет нам записку: где Кит, как дела и проч.
Целуем.
В & М
Нина, не смущайся общаться с Беллой. Она не только суперстар, но наш самый близкий друг и к тебе очень хорошо относится.
Обнимаем вас и с нетерпением ждем писем.
Дорогие Вася и Майя!
Господи, сколько же времени прошло с тех пор, как мы последний раз обменялись письмами. Поди, месяца четыре, пять. Целая жизнь. Расстояние во времени усугубляется расстоянием в километрах. Почти все лето мы ездили. То по России, то по Грузии. Сначала на машине в Ферапонтов монастырь через Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Вологду. 600 километров. Это наш второй вояж в эти места. Повтор прошлогоднего маршрута. Уж больно хороши эти старые города и притягательны руины церквей и монастырей в их округе. И как конечная точка — церковь села Ферапонтово, расписанная Дионисием. Оттуда мы тоже делали некоторые вылазки, но уже не в таком километраже. Поездки в Кириллов с его Кирилло-Белозерским монастырем, в сам Белозерск, в Нило-Сорскую пустынь, в Горицкий монастырь. Не могу отказать себе в этнографическом моменте. Эти названия и сами места буквально гипнотизируют сознание и воображение. Например, путешествие на Спас-Каменный. Это название я сам вычитал, а ситуацию вычислил — то есть своим умом дошел, что должно это быть нечто необычайное. Вдоль дороги от Вологды до Кириллова на протяжении ста километров расположено великое Кубенское озеро, все время виднеющееся в «близком отдалении» от шоссе. В дымке. И вот посреди этого озера есть каменный атолл — слово, мало подходящее к русскому пейзажу, но выражающее суть нелюдимости и каменистости, на котором виднеются руины Спас-Каменного монастыря. Подъезд к нему тоже изумителен. Надо объехать озеро и добираться на моторке с другого берега (200 км дороги и сорок минут на моторке). Лодка идет по рукавам и плавням дельты р. Кубенки, где диковинные птицы — журавли, чайки, дикие утки, цапли сидят прямо на воде, то есть каких-нибудь чуть выступающих веточках или отмелях. Дальше выход в открытое море — озеро — и как замок Иф графа Монте-Кристо, видны величественные руины изумительной красоты. Сохранилась колокольня XVI века. Сам монастырь — XII век. До последнего времени существовала архитектура XIV–XV. Взорван в 1933 году по решению Вологодского обкома. Сейчас стоит вопрос о реконструкции. В обкоме отвечают: «Как же мы восстанавливать будем, когда живы те, кто взрывал?» И так все с этим благословенным краем. Начать с того, что хотят повернуть северные реки вспять и напоить Каспийское море и Кубань. Это значит, стоит вопрос о затоплении всех Вологодских земель и в первую очередь Кириллова, Белозерска, Ферапонтова и т. д. Когда подъезжаешь к Рыбинскому морю, к р. Шексне, разлитой до безобразия, до бесформенности берегов, то на ветровом стекле машины выступает (оседает) морось (мельчайшие капельки воды) — воочию видны следы микроклимата — урода. По обезображенной реке движется танкер. Он идет зигзагами по широчайшей водной глади. Значит, проходимо лишь старое русло. Все остальное лишь для того, чтобы повысить уровень воды на 20–30 сантиметров. К зрелищу этому привыкнуть нельзя. Но впереди перспектива, что не будет ничего вообще. Вологодчины как таковой. Так что как бы ездим прощаться.
Жили мы не в самом Ферапонтове, а в деревне Узково, километра за три от монастыря. Здесь имеет свой дом и мастерскую художник Коля Андронов[458]. Он живет здесь почти постоянно, с супругой своей Натальей Егоршиной и детьми. Они и подыскали нам избу и изумительную тетю Дюню. И чем тоньше и божественнее красота этих мест, чем больше поражают человека эти восходы и закаты, тем отчетливее проступают черты вырождения и дегенерирования всего живого сущего в этом краю.
Попытка драматургии
Сцена I
Место действия — изба.
Ш у р к а (ему за 50 лет). (Вваливаясь в изодранной рубахе. Весь в крови.) Мама, а где мама? Это я, Шурка, я опять пьяный!
Т е т я Д ю н я (80 лет). Сынок, батюшка, да ты не такой пьяный, поди, сегодня. Ты б домой шел, отдохнул бы!
Ш у р к а (выжимая кровавую рубашку). Нет, мама, я оччччень пьяный.
Т е т я Д ю н я. Батюшка, сынок, сколько раз я тебе говорила, чтоб ты на публику не выходил.
Ш у р к а. Нет, мама, это меня сынок так отделал, но и я ему е…нул хорошо, он в поле лежит сейчас.
Я (50 лет, автор). (Выскакивая на крыльцо и видя проходящего второго сына тети Дюни Николая.) Дядя Коля, там Шурка Серегу убил. Он в поле за избой лежит.
Н и к о л а й (ему за 50 лет). Проходит не ОБОРАЧИВАЯСЬ и не отвечая.
Сцена II
Те же и С е р е г а (ему 18 лет). (Весь в крови. Шатаясь, подходит к Шурке и бьет его по лицу.) Вот тебе, папаня. А Витька (второй сын Шурки) из армии придет — мы тебя до смерти отделаем и ракам скормим.
Ш у р к а (вставая с пола и утирая кровь). А это тебе, сыночек, чтоб батю помнил.
Серега лежит до конца пьесы не двигаясь на крыльце.
Сцена III
З и н к а (40 лет). Без слов вцепляется в голову Шурки и царапает ему лицо.
Т е т я Д ю н я. Шура, батюшка, ты бы домой шел, отдохнул бы. Баловник ты сегодня. Неугомонный какой-то.
Ш у р к а (отбрасывая Зинку в огород). Мама, а мама, а у тебя маленькой не найдется?
Немая сцена. Участвуют:
Б е л л а А х м а д у л и н а (45 лет), поэт.
Б о р и с М е с с е р е р (50 лет), художник.
Дети Беллы:
А н я — 15 лет.
Л и з а — 10 лет.
Т е т я Д ю н я — 80 лет.
Шурка падает на последних словах и лежит не двигаясь.
Сережа и Зина лежат не двигаясь.
Занавес
За сим следует мое обращение к вам, дорогие Вася и Майя, моим первым зрителям, то бишь слушателям, то бишь читателям, с просьбой не быть слишком строгими судьями и учесть, что «пьеса» написана экспромтом сейчас, без единого черновика и в пределах десяти предшествовавших этому минут.
Сейчас мне хочется на мгновение перекинуться в Грузию, может быть, еще и потому, что уж очень силен контраст между этими двумя странами, между этими двумя жизнями.
После пребывания в Ферапонтове решение поехать к морю пришло мгновенно, как вы понимаете, как ощущение контраста, как необходимость жизненная.
Подгадал сделать выступления Беллы в Сухуми (3), в Пицунде и Гагре по одному. В поддержку идее. В материальном смысле. И поехали. Дивно побыли там, после значительного перерыва. Вас вспоминали беспрестанно. И почему-то, Василий, образ твой как-то неразрывно связан именно с югом. И хотя, может, Ялта тебе и ближе, но и в Пицунде ведь пережито было немало. А дурь-то ведь прежняя осталась, так что тебе ее и выражать, и выражать — всю жизнь! Да, любопытно, встретили мы там Бориса Можаева. Человек он прекрасный, ты знаешь. Но смешно, деревенская его идея преломилась уж больно дико в связи с рассказами его устными об Англии, где побывал он только что. Со смешной важностью он рассказывать стал о встрече с английскими крестьянами, о том, как живут они, об их чаяниях и надеждах. И не смешно стало, а грустно. И чудовищно нелепо «деревенщиком» быть, так сказать, в интернациональном смысле. А потом мы попали в Тбилиси. И эти две недели обернулись каким-то чудным куском жизни, с добротой людей и пиететом даже к Белле. Эти дни перенасыщены были пьянством, но, конечно, не российским, а с благородством и прекраснодушием, с тостами и дружеством. А для нас уже и тосты не тосты, а продолжение как бы ранее начатого разговора и длящееся общение, и скорбь об ушедших. Но эти дни — счастливые дни. И даже начальство грузинское не чета нашему. Случай такой был, что мы с Чабуа Амирэджиби[459] поехали в горную Хевсуретию, в Шатили. А там случился национальный праздник, на котором было высшее грузинское начальство. И секретарь ЦК Сулико Хадеишвили скомандовал так: что если Белла приехала в Хевсуретию на машине, то отправить обратно ее надо не иначе как на вертолете. Сели все мы вместе с Чабуа на вертолет и полетели, разглядывая Казбек и узнавая его сразу, ибо похож он на папиросную коробку как две капли воды. И вдруг садится вертолет на горное озеро невиданной красоты. 3500 метров от уровня моря. Снег. По снегу бежим к озеру. Проваливаемся. Мерзнем. А тут из самолета несут напитки, чоча (поросенок), фрукты. Выпили мы с местным начальством за Беллу Ахмадулину прямо на снегу, ввиду горы Казбек. Поднялись в воздух и полетели в Тбилиси, а уж потом и в Москву — прямо к маразму, безденежью и бесперспективью.
Еще несколько строк я хочу вписать о страшном как таковом, что случилось за дни нашего пребывания в Ферапонтове.
В нашу деревню Узково привезли гроб, сделанный из цинка, в котором находились останки солдата, погибшего в Афганистане.
Мы были свидетелями той раскрутки местных деревенских событий, за этим последовавших. И то, как ночью собирались родственники из разных окрестных сел, чтобы быть рядом с родными в тяжкие минуты первого горя. И как слетелись-съехались местные начальнички в дом погибшего: и военком, и секретарь парторганизации, и секретарь комсомольского бюро, и прочие, прочие, прочие.
А кругом — слухи-разговоры. И мелькают в них дивные русские названия окрестных мест и деревенек: «А вчерась на Чарозеро четыре повезли…»
И сами похороны. Отделение солдат в 10 человек с оружием. Все чернявые, с юга. И 17 человек милиционеров на 3-х машинах и мотоцикле. И военный оркестр. Грузовик с гробом. Провожающие человек 50. Все убогие — деревенские. Жалостно выглядящие люди. Остатки человеков. Хромые, косые, бедные. И мать воет — звериным вытьем. В городе такого не услышишь. Военком прерывает: «Подожди рыдать, мамаша». И речь толкает: «Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» (Н. Островский). Снова мать воет. И секретарь парторганизации: из «Песни о буревестнике» — цитату — очевидно, директива по стране, как хоронить погибших на войне. Оркестр глушит вой близких.
А потом расходятся. А водку в поселке не продают все три дня. И люди жрут любую сивуху и осмыслить пытаются, что же все-таки случилось с односельчанином.
А мы с Андроновыми, тоже пошедшими на похороны, чтоб свой долг отдать человеку, и по сей день прийти в себя не можем, вспоминая эти минуты, и так же пили и тоже понять ничего не могли.
Вася, Майя, дорогие, дописываю письмо, торопясь, потому что момент отправки пришел.
Нарочно пишу про свое, чтоб понятней вам что-нибудь было про нашу жизнь.
Про вашу же ничего здесь не спрашиваю, потому что надеюсь, что сами вы все напишете. И подробно.
Мы вообще очень редко пишем. Например, отослали Леве Копелеву и Рае Беллину книжечку с крошечной, но теплой надписью, и, о Господи, как же они откликнулись на этот крошечный знак внимания, какой бурей словоизъявления, так что просто стыдно стало за свое неписание.
Вася, Майя, любим вас всегда и помним.
Пишите нам и уж вы нас не забывайте в вашем лучшем из миров.
Целую. Борис
Вася и Майя
Уж не 3-е, уж выпал и растаял снег, уж Бенсон сейчас приедет.
А я? Попробуй — опиши все, скорей, в горячке: что вот соотношусь наяву, а не привычным таинственным способом посылания в вашу сторону всхлипывающих и усмехающихся сигналов. Как описать все не в художестве, а в письме, заменяющем все, что отнято: видеться, болтать, говорить и оговариваться, или надо всегда писать письмо вам, я пробовала, но письму больше, чем художеству, нужна явь и достижимость читателя.
Вот и в Ферапонтове — всегда думала о вас, словно писала письмо, — куда опустить? в озеро? в небо? Ах, утешалась, они сами все знают, они это мое письмо — через озеро и небо — получили. И на сеновале получили ответ: твой, Васька, голос. И потом получали. Я сказала Боре: Васька — пушкинский, по Пушкину человек: бред таланта и здравомыслие вместе.
Описал ли вам Боря, как при дождичке, возле белого Ферапонтова монастыря, хоронили местного мальчика в цинковом афганистанском гробу и каково же хватать и обнимать этот, все отнявший, цинк той, чей крик стоял во всей природе? Ей, кстати, заметили вежливо, но строго: «Мамаша, подождите убиваться». Это военком начинал речь: «…геройски погиб за родину…», а кроткая его родина серебрилась озером, белела монастырем, осеняла тихим дождичком нетрезвые головы. И много гробов прибывает в те места, сводя их с ума непонятностью смерти и непроницаемостью цинка.
Сама эта бездна меж нами стала пугать своей не условностью, она все грозней и грязней уверяет нас в гибели и в сумасшествии. Вот матушка моя: врывается в образе моей смерти, седины клубятся, зеленые очки сверкают: ЦРУ! Рейган! Наслали самолет! Ты — под пагубным влиянием.
И я — своей слюною плюю и своими руками толкаю, руки и голова ходят ходуном. Впрочем, все это как бы описано в Собачьем рассказе[460]. Эх, да что — сил нет.
Книжка — вышла по их, видимо, усмотрению и обобрана сильно.
Боря забыл в Москве мои новые стихи — если до отъезда Рэя не успею передать ему, — как-нибудь передам.
Любимые мои и наши! Простите сбивчивость моих речей — моя мысль о вас — постоянное занятие мое, но с чего начать, чем кончить — не знаю.
Целую вас. Белла.
Дорогие Белка и Борька!
Рэй (Луч-Rау)[461] появился, как всегда, — спешка, запарка, полдня на сборы, с вещами по коридору, собака лает, телефон звенит, проклятья, как всегда, на невинную голову С.В.[462] Спасибо за письма. Помимо радости общения с вами, возникла еще впечатляющая картина действительности (Борькины описания превосходны. Почему бы тебе не написать книгу, старик? Заткнешь за пояс многих «крупнейших из ныне живущих»), а Белкино «нет сил» и поразило и подтвердило. Иной раз возьмешь «ЛГ», и дыхание перехватывает от вранья.
Я так рад, что вы меня иной раз слышите. В этой работе, которая возникла только из-за нужды в деньгах, вдруг появился смысл.
На днях я получил письмо от Жоры. Он стал главным редактором «Граней» и просит меня написать статью о «Тайне» и вообще о таинственности Шелапутова и Хамадуровой. Надеюсь, не возражаете? В этой статье мне хочется, кроме основной темы, еще прояснить некоторые пунктиры, мокрой тряпкой слегка по некоторым мордам, надувшимся от паршивого высокомерия в адрес поэтов нашего московского круга и поколения. Один, например, называет авторов «Метрополя» «баловнями» (т. е. режима), другой, понимаете ли, со снайперской винтовкой собирается поджидать возле ЦДЛ Вознесенского и Катаева, но почему-то не Грибачева и Стаднюка[463]. Больше всего, однако, это касается Бродского, который ведет себя в Нью-Йорке как дорвавшийся до славы местечковый поц. Он хвалит Сюзан Гутентаг, а та его «крупнейшим из крупнейших», но если бы только это — он лицемерит на каждом шагу и делает массу гадостей и Саше Соколову, и Копелевым, и другим, не говоря уже обо мне.
Не думай только, Белка, что в статье о тебе я буду сводить с ним счеты. Я с ним вообще ничего сводить не буду, да и упоминать нигде не собираюсь <…>, а здесь пишу для очень внутреннего использования, просто чтобы вы знали, что он ваш недоброжелатель <…>[464].
Статью я начну писать, как только романчик свой бедный закончу, т. е., надеюсь, через месяц. Времени дико не хватает, для романа просто ворую по часу в день, а то и по 15 минут. Капитализм не особенно-то дает размягчаться. У меня тут в последнее время пошло довольно большое паблисити — то на TV, то газета, журнал, радио. Никакого кайфа я от этого не ловлю (стар уже), но считается, что это нужно для «book promotion», жуйня местная. Между прочим, мы недавно были показаны с Белкой в одном фильме. Это был «Inside Story» о Володе Высоцком. Основа была сделана Сэмом Рахлиным в Москве, а потом американцы (компания PBS) доснимали здесь меня и Шемякина. Вот это был хоть и печальный, но и прекрасный момент — видеть вас и себя в одном фильме.
С Жорой и Наташей мы еще не встретились. Надеюсь, зимой будем в Париже (премьера в театре — «Цапля») и заедем хоть на день к ним.
Обнимаю вас, мы ждем вас все-таки здесь в гости после завершения цикла холодной войны, если, конечно, в горячую, гадина, не перекатится.
Целуем.
Вася & Майя
Васька, Майка, любимые родные!
С Новым годом! Дай вам Бог всего хорошего (про себя — как-то не верится, что-то я стала плоха, но общий добрый врач (Жорин, Инкин и Семена) сказал, что — не так уж, бывает на старуху проруха. Просто душа пересилила организм).
Майка! Когда я сразу же передала Гале[465] твою посылочку (и подарила вашу фотографию, хотя с этим ужасно жадничаю), она все говорила про дела, про доверенность и прочее. Но, может быть, вы объяснились по телефону. Тогда Галя все втолковывала мне, что это — важно, что вы должны с этим разобраться. Но, может быть, эти мои сведения устарели — это было месяц назад. Все-таки по ее просьбе напоминаю.
Тогда же я видела Алешкину жену. Она — безукоризненная на вид и в способе вести себя девочка. Алешка по совпадению — где-то за Пахрой, в той стороне. Ему не так уж плохо, хотя не вольно. Я советовала: претерпеть и не искать улучшения. Поскольку о Воле — речи быть не может. Просила написать вам — но, может быть, она меня не нашла, мы уезжали в Ригу и в Таллин (выступала за деньги). Девочка хочет снять жилье вблизи Алешкиной службы.
Также она сказала мне: «Ведь я не могу не увидеть Василия Павловича — для меня это очень важно». Я думала об этих ее словах, но — почему бы ей не хотеть этого?
Сказала также, что от Алешки знает, что — мы (я и Боря) — как бы единственно близкие родные люди, если что — к нам, но в деньгах не нуждаются. (Тут (в месте письма) я засмеялась: над нами.)
Впечатление же от беседы с нею, от сведений от Лешки — в общем благоприятное. Его ничто и никто не терзают излишне — даже он имеет маленькую поблажку в общем уделе (рисовать для надобности части или как ее?).
Потом, к моему счастью, я уверена, что Афганистан хотя бы… да, хотя бы это в нашем случае, — исключено, другие же случаи — очень плохие. Но это я так, от лишней и бесполезной заботы и муки.
Еще: во время выступления в Доме архитектора позавчера, нервничая от мелкой полицейщины, с которою Боря схватился, увидала в зале Тоньку. Очень встретились наши глаза, всегда понимающие. Тонька потом подошла в толчее — скромно и мимолетно, как и подобает близкому человеку. Обещала позвонить (я хотела отдать ей мои Майкины сапоги как ее) — не позвонила — думаю, от какой-то высокой деликатности или разминулись случайно.
Васька! Рассмешу тебя.
Пришел режиссер, как люди говорят: благородный и неблагополучный, Булат просил принять, иначе бы — не приняла. Я очень занеслась в моей отдельности. Да, я занеслась в моей отдельности, а его предполагаемый (уже начатый) фильм — о единстве поколения, о шестидесятых годах. Я сказала: валяйте, снимусь, но не с Евтушенко и Вознесенским, а — с Аксеновым, Войновичем и Владимовым: мы и впрямь не разминулись. Баба-ассистент мне говорит: «Б.А., но ведь это — невозможно». Говорю: вот и я о том же. А Борька — еще был грубее и справедливей. Так, кроме начальников кино, мы повредили кино.
Васька, всегда моя радость, про «Плейбой» — тоже замечательно, изысканно и остроумно. И — твой голос, волшебством осиливающий даже наш почти не действующий приемник.
Еще: с осознанным обожанием читала книгу твоих рассказов. Старым — время не повредило, новым — помогло.
Люблю и спасибо, многие люди думают так же.
Для меня — большая честь твоя будущая статья обо мне.
Жора мне звонил 31-го декабря, он не знал, что я уже от тебя знаю о вашей затее[466], и не узнал от меня — но два любящих голоса дома говорили — поверх всего, о любви лишь и о других пустяках. Ссылайся на мои любые стихи — свободно, остальное ты сам все знаешь.
Меня — не трогают, после отъезда Жоры все как бы длится их мне ответ: «Ну, теперь ваша душенька довольна?». Длится и мое горькое спасибо.
Важно для меня еще мое ощущение, что не тронут тех, кто вблизи меня: Инку, Семена, <зачеркнуто>[467], еще есть.
Конечно, если они нас всех вместе не пристрелят. Да — зачем? Нас — почти нет.
Васька, все-таки мне придется продержаться на белом свете: мне надо еще — если не написать, то записать то, что знаю лишь я. Впрочем — вздор, это я от лишней задушевности, я — держусь.
Целую вас, целую вас (через сотни разъединяющих верст, как уже сказано вам не мною и мной).
Андрей же Георгиевич[468] — совсем близок и прекрасен, но ему только этого не хватало, и он подавлен как-то слишком. Но мелочи и умеют подавить усталого человека.
И Ушика[469] любимого — целую.
Спасибо Пику — люблю всегда.
Ваша Белла
Дорогие Белка и Борька!
Очень радовались последней почте и Белкиному письму особенно; из него обрисовались черты жизни. То, чего нам не хватает, есть у вас. Хоть ты и пишешь «нас почти нет», а все-таки есть, и мразь, окружающая, заставляет (благое дело мрази) любить друг друга, или, скажем, внимать, оценивать сочинения и просто слова, выражение глаз.
Здесь иные жалуются на «партийность», но на самом деле и партийности-то никакой нет, а есть только искореженная молекула самолюбий. Любое подобие успеха у ближнего (вернее, отдаленного, т. к. живем на огромных расстояниях) вызывает тихий, но отчетливый скрежет зубовный. Особенно стараются те, кому как бы и там и здесь недодали против тех, кому там передали, да и здесь, де, не по праву хапают. Соискательство славы то и дело принимает курьезные формы. Парикмахер Лимонов в нежном возрасте 40 с чем-то лет изображает юного ниспровергателя эмигрантской словесности, с ним заодно такой Леша Цветков свергает Ахматову, а в Израиле пышет злобой Милославский, из крепостных евреев князей Милославских. Ни тем, ни другим, ни третьим не написано ничего, чтобы хоть какое-нибудь право на что-то давало. Хорошо хоть, что Саша Соколов, которого эта п-братия хотела как бы аккумулировать, выбирается из-под них, потому что, хотя и Нарцисс несусветный, но все же подлинный писатель. Недавно прочли его новый роман (еще не вышел) «Палисандрия, история «кремлевского сироты»», дичайший такой «сатирикон» с растлениями старух, коллекционированием трупов, словом — портрет российской интеллигенции. Последний раз говорили с ним по телефону, и он стал говорить о твоей книжке, восхищался, что меня порадовало — явное преодоление лимоновщины.
О твоей книге несколько раз — с неизменным захлебом — говорил по телефону и А. А.[470] во время своего парижского триумфа. Захлеб относился к самому факту выхода книги: дескать, не только у меня все хорошо, но и у Белки все хорошо.
Я спросил его: случайно не слышал ли чего-нибудь об Алеше? Ответ опять же с радостным каким-то захлебом: представляешь, ничего не слышал, просто ни словечка! Я говорю: Андрей, ты по десять раз в году за границей (ну, уж по десять, обижается он), неужели никогда в голову не пришло услышать, как там сын друга. Он отвечает смущенно: а я думал, что это тебе не важно, не интересно вообще… Ну, Бог с ним!
В конце февраля начну писать статью о «Тайне» и «101-м» для Жориных «Граней». Мешал роман, но теперь я его кончил, и стало чуть больше времени. Роман получился здоровенный, хоть и меньше «Ожога», но больше «Крыма», т. е. 505 стр. Называется он «Скажи изюм». В принципе — история «Метрополя», но персонажи все выдуманные, никто себя, надеюсь, не узнает за исключением Ф.Ф. Кузнецова — Фотия Фекловича Клизмецова. Читал пока, кроме Майки, только один человек, Илья Левин, и читал три раза подряд.
Спасибо, что моих ребят[471] так гостеприимно встретили. Они, Пол и Дэвид, приехали под большим впечатлением и, хоть в чтении и не поняли ни фига, но общая атмосфера и личность чтеца очень вдохновили.
Почему бы все-таки не попробовать почитать на этих берегах? А.А. сказал, что, по его мнению, вас бы пустили, если б вы нажали. Отчего бы не заявиться (в смысле подать заявление) и не установить сроки? Помимо разных гуманитарных выгод, включающих и наш эгоизм — видеть вас, эта поездка, думаю, могла бы сильно поправить благополучие. Тур по университетам и русским скоплениям явно принес бы неплохие деньги. Только это нужно заранее все организовать. Приглашение Солсбери еще действует?
Мы очень вам благодарны за то, что приняли нашу Нину. Она написала, что шла к суперзвездам не без робости, но была полностью очарована и т. д. Мне нравится (и Майке тоже) ее внешность (американцы привезли пачку снимков), а также ее отношение к Киту; в его дурацкой армейской жизни она стала настоящей опорой — ездит к нему часто, вообще как-то все держит под контролем. Подкупает также, что не смущается контактов с человеком, «опорочившим высокое звание гражданина СССР», в отличие от своей мамы, которая по нашим данным — настоящий «советский персонаж». Словом, мамаши у ребят с обеих сторон удались.
Отправляю эту почту за несколько дней до отъезда в Париж. Там 17 февраля в Театре Шайо премьера «Цапли». Не знаю, писал ли я уже вам об этом — играть они собираются параллельно с «Чайкой» и почти тем же составом, а что самое замечательное — в тех же декорациях, ибо почему же в имении Треплева не быть сейчас советскому жуликоватому пансионату «Швейник». Витез[472] хочет даже чучело чайки оставить там где-нибудь в уголке, чтобы не бросалось в глаза. Благая идея вроде бы для МХАТа, вторая птица на занавес просится. Я, честно говоря, очень предвкушаю французское действо. Пусть даже спектакль будет дрянной (но, надеюсь, не будет), а все-таки — большой театр, зал на 800 сидений, все-таки какое-то вознаграждение, а то все пишешь, как в прорву какую-то, и все поглощается без звука. Я имею в виду опять же русскую аудиторию. Жаловаться на невнимание Запада все-таки не приходится — книги собирают порядочный урожай рецензий и здесь, и в Европе. Русская же пресса (а тут этих журнальчиков и газетенок развелось как грибов, в NYC две(!) ежедневных газеты, три еженедельника, 3 «толстых») до сих пор не отрецензировала «Бумажный пейзаж», хотя пишут черт знает о чем, обо всем. Миляга Алик Гинзбург[473] говорит: диссиденты тобой недовольны, считают, что ты их высмеял в «Пейзаже». А я о них и не думал.
Что происходит в Москве с вождями и с самим «волшебником Изумрудного города»? Недавно Додер писал в «Вашингтон пост», что они опрашивали москвичей и выяснили, что из 10 девять понятия не имеют, что с главным что-то не в порядке, даже не знают, что он отсутствовал на сессии. Великий народ; уже и подчиняться некому, а все подчиняется!
Недавно для класса перечитывал «Несвоевременные мысли» Горького. Поучительное чтение, особенно в эмиграции; эффект странно остужающий. Любопытно, что это единственная книга «буревестника», в которой он не кокетничает с читателем и не развешивает безвкусицы своей обычной. В классе студенты, между прочим, больше всего удивлялись, как уж (по-английски а garden snake) умудрился залезть «высоко в горы».
Все время ходят противоречивые слухи о Любимове — то он собирается обратно, то, наоборот, к нам, за океан. Андрюша Тарковский готовится к съемкам «Гамлета» весной в Швеции, а USC в Los Angeles хочет его пригласить на следующий год. Насчет еще одного Андрея, т. е. Битова. Передайте ему наш огромный привет. Брательник его совсем исчез с горизонта, никто не знает, где он и что делает. В этой связи жалко, что А. теперь вряд ли в скором времени на наших горизонтах появится.
И вот еще один Андрей (Дмитриевич Сахаров). Мысль о его судьбе и о больной Люсе и о той прорве говна, которыми их заливают, порой просто жить не дает. До нас дошло, что Галя Евтушенко очень им помогает. Вот молодец какой!
О самом Евтушенко вчерась прочел в «Тime», что он опять стал непочтителен с начальством, но по-прежнему очень популярен среди читателей — продано 4,5 миллиона копий последнего романа. Американы все-таки неподражаемы, даже тов. Амфитеатров.
Обнимаем вас, целуем, ждем писем.
В & М
Дорогие любимые Васька! Майка!
(Как возрос в значении наш маленький суффикс: и всегда прежде бывший нашим, он стал увеличительным суффиксом, клятвою в близости вопреки всему.)
Еще раз — с Новым годом! Получили вашу открытку и радовались ей, как и подобает детям при милости Деда Мороза.
Вчера показала Лизе Васькин портрет: кто это? Лиза с удивлением на меня посмотрела: не подозреваю ли я ее в недоумии? Но все же трогательным голосом, как бы сожалея о недоумии других, сразу ответила: «Дядя Вася Аксенов». Так что вот какое у вас незабываемое личико.
Сейчас Лиза пишет вам сама. Лиза — совершенно брат, пониматель, сострадатель.
А Анька — вдруг стала обратна мне, но возраст ее таков, и влияние славной бабушки, и непонятность моей судьбы, тяготящая ее, и естественное желание благополучия. У нее, впрочем, есть больше, чем принято в средних благополучных кругах, чье уютное устройство соответствует ее представлению о правильной, надобной жизни. Но — нет меня как правильной и надобной матери, и нет разгадки моей неправильности. Я все время мучусь и сожалею о ней, не умея помочь ее мучению. Хотя бы возраст этот — еще продлится, потерзает ее и нас и пройдет. А дальше разберется как-нибудь.
Но это я так, Майка, не пищу, а болтаю, не художество свершаю, а разговариваю с вами, — как бывало, как должно быть.
Все же мне нужно не сказать, а написать вам нечто — важное, тяжелое (не пугайтесь), сейчас поймете, о чем речь.
Этот день — с его чудным утром, с птицами за окном — хотела написать: только наш с вами, но вспомнила: 10 день ф
Ну, Васька! не успела дописать 10 ф…: Пушкин! — вбегает Лида Вергасова: Андропов помер.
Васька и Майка, стало быть, я написала: 10 ф, пред тем ужаснувшись: как я забыла? День смерти Пушкина! — влетела Лида, и я не дописала.
И все-таки — это был День смерти Пушкина, и наш с вами день.
И вернусь к тому, что я хотела написать сначала вам, потом — для других.
Вы — сосредоточьтесь, а я изложу вкратце.
В конце сентября прошлого (1983) года мой добрый и достопочтенный знакомый, ленинградец, поехал в служебную (инженер) командировку в Набережные Челны. Оттуда, ранним утром, на «Ракете» он вы-ехал? вы-плыл? в Елабугу, это и то рядом. Все тем же ранним, мрачным утром (оно не успело перемениться, да и не менялось в течение недолгого осеннего дня) Георгий Эзрович Штейман (так его зовут) ждал открытия похоронного бюро г. Елабуга с тем, чтобы заказать венок: «Марине Ивановне Цветаевой от ленинградцев». Бюро открылось, и к нему все были добры, учтивы, объяснили, что ленту исполнят через час, но — цветы? Научили пойти в институт, где растут какие-то цветы, сказали: «Столяр, который делал гроб для М.И.Ц., умер недавно». Георгий Эзрович пошел в институт, там ему дали то бедное, что у них росло в горшке, с тем он вернулся в бюро, взял ленту (это все как-то соединили), его научили, как идти на кладбище и где искать, он шел, страшно подавленный и мыслью своей, и видом города.
Он поднимался к кладбищу, видел — уже не однажды описанные — сосны, услышал за собой затрудненное дыхание человека и от этого как бы — очнулся. Обернулся: его догоняла, запыхавшись, женщина в платке и во всем, что носят и носили, то есть, как он сказал: «простая, бедная, неграмотная женщина». Она (он только потом понял), еще не переведя измученного жизнью и ходом вверх дыхания, сказала: «Это вы — из Ленинграда, к Цветаевой? Столяр, который делал гроб, — мой двоюродный дядя, он умер и перед смертью покаялся: «Я — у покойницы, у самоубийцы, у эвакуированной, из фартука взял — не знаю что. Возьми и пошли в Москву — мой грех!!»
Не стану, Василий, воспроизводить речь столяра и родственницы его. Это ты — в художестве, я — лишь суть тебе описываю.
Георгий Эзрович, по моей просьбе, записал все это. А ВЕЩЬ — взял, он не мог найти меня, и все это стал сразу рассказывать мне недавно, в Ленинграде, после моего выступления.
Утром, еще не видев и не трогав ВЕЩИ [он в пять часов пополудни мог мне это отдать (до — на работе)], я, дождавшись приличного для звонка часа: кому же скажу? Анастасии Ивановне — опасалась испугать, и слышит плохо. Юдифи Матвеевне! — все сразу поймет. Боря, кому же?! — и звоню, и попадаю в их общий разговор. (Юдифь Матвеевна Каган, дочь Софии Исааковны Каган, — ныне самые близкие фамилии Цветаевых люди.)
Анастасия Ивановна — Юдифь Матвеевна — я — разговариваем втроем. (Юдифь Матвеевна мне потом сказала: плохая техника на службе мистики.)
У Марины Ивановны Цветаевой в правом кармане фартука (родственница столяра, да хранит ее Бог, не понимала: почему фартук, не знала она этого) был маленький предмет, с которым она хотела уйти и быть: старинный блок-нот-ик, 3х4 см, в кожаном переплете, на котором вытеснены Бурбонские Лилии, вставлен маленький карандашик.
Бурбонские Лилии — это ее известная заповедность, я уж все про это собрала, что могу, потом займутся другие.
Поверженные Бурбоны, Людовик XVI, я сейчас не об этом, о том лишь, что с этим маленьким предметом пошла она на свою казнь. Она предусмотрела все (что, ты понимаешь, например, Асеевы возьмут Мура и будут воспитывать «как своего»), но не думала, что гробовщик возьмет из кармана и вернет — получилось, что мне. Бурбоны — да, пусть, но это талисман был, важность, с собой.
На меня это подействовало сильно, тяжело — но в радость другим пусть будет как неубиенность, неистребимость.
Анастасия Ивановна взять «книжечку» отказалась. Ей было тяжело держать ее в руках. Воскликнула: «Все Маринины штучки! Но я ее знаю — это вам от нее».
Возбранила мне отдать в Музей изящных искусств (я все же отдам, если там и впрямь будет открытая экспозиция, посвященная И.В. Цветаеву и всей семье Цветаевых, а это, я думаю, вскоре, может быть, будет).
В Музей же в Борисоглебском переулке — не верю, я до него — не доживу, как, впрочем, верю, что при моей жизни не увижу я, как выкидывают «содержание» дачи Б.Л. — в новую форму.
Вот, Васька, что хотела я написать тебе — вольно, больно, как должна, — а далее все это я строго опишу для других, выбрала: «Литературную Грузию», для сведения почитателей Марины Ивановны, но как-то и у них — мороз по коже (для них — лишь описание сути, и все равно как-то нецеломудренно выходит в предположении опубликовать, да и опубликуют ли? Но я сразу предала это изустной огласке, как-то надо и написать).
Не буду я — в журнал, вам лишь.
Васька и Майка, вот написала вам 10-го февраля про Ань-ку — и сожалею теперь, у нас, после этого мимолетного признания вам, что-то случилось вроде моря-горя: как смела я так серчать, накликала ее и мои слезы. Совсем испепелилась я из-за Аньки — своею виной, в чем она, бедное дитя, виновата?
Так что — все начальные слова моего к вам письма оказались роковыми (не станем преувеличивать, хе-хе).
Аньку — боле всех жалко, зачем я написала? Ей, из всех нас, — труднее всего, именно потому, что она хочет того, что я никак и никогда не могу дать ей.
Васька, поговорим о другом.
Пожалуйста, напиши сам Гаррисону Солсбери, что мы получили снова его безмерно доброе, умное, изящное приглашение.
Я не оставляю надежды увидеть вас — именно потому, что я не скрываю, что хочу увидеть вас — напоследок, и более ничего, я как-то понимаю, что нас могли бы выпустить — при их обстоятельствах, если они перестанут так свирепствовать с Америкой (не перестали).
Но Гаррисону — ты напиши, что спасибо! что — как он добр и умен, что — как мы ценим его тонкость и великодушие, его слог.
Мы — пока не думали даже об оформлении, но — посмотрим, вскоре пойму.
Целую вас, мои дорогие и любимые.
Спокойной ночи.
Завтра напишу вам еще немного вздору.
18 февраля 2 часа пополуночи.
Васька и Майка!
Не прошло и десяти минут — я снова пишу вам.
Полная Луна — но мне ее не видно: за мглой небесной.
Как гнев небес и принимаю.
Васька, ты понял же, что «книжечка» — мое условное и неправильное название?
«Блок-нот» ик — где предусмотрено вырвать листик. Ни один листик не вырван. Карандашиком — черкнуто — не М.Ц., конечно, кем-то, кто пробовал карандашик.
Сам этот маленький старинный предметик — флорентийского происхождения. (Все, кого люблю, музейные работники Ленинграда и Москвы, но на этот раз не во Флоренции дело — это, кстати, никто не объяснил мне: почему Флоренция сделала своим знаком, пусть сувенирным, лилии Бурбонов? Я правда не знаю.)
Всех — в Музее Достоевского, в Лицее (Мойка, 12 — на капитальном ремонте, уж — не увижу, да и не надо), в меншиковском дворце — оторопь брала от… да и совпадений много было.
Опять, Васька, можно — про Ленинград тебе скажу?
Я не умею его снесть, перенесть, действует — чрезмерно.
Но — как им удалось — не убить? Ведь они — все убили в Ленинграде? Был «день блокады» — о Вася, Гаррисон знает, — а мы шли, рупоры кричали — и как совершенно затравленный, я ужаснулась напротив дома (№ 47, Большая Морская, дом Набоковых), в доме гр. Половцева, я его не знала, там Союз архитекторов, — к сожалению моему, дом (Половцева) — роскошен и на него претендует исполком.
Но — как им удалось не убить ленинградцев?
Неужели этот неубиенный, неистребимый город оснащает лица людей — светом?
Ведь не было возможности — особенно у Ленинграда — выжить?
Откуда опять берутся лица и души?
Неужели есть таинственный и неведомый нам приток?
Анастасия Ивановна Цветаева (я топала при ней ногой: зачем не объясняет, в книге, почему, по какой именно причине, она узнала про смерть М.Ц. — через два года, неужели два ее ареста — ничего не значащая одна деталь) — А.И. подлинно и совершенно верует в Бога, она считает все это благом.
Для точности замечу: не очень я, конечно, топала, но нечто в этом роде — совсем было. Измученная «блок-нот» иком, как рявкну: «Не желаю сейчас ничего слышать про вашего Горького». Но и А.И. была им («блок-нот» иком), лишь его завидев, измучена, все же кротко сказала: «Моего Горького — не обессудьте».
Смысл же (это трезвости любви Софьи Исааковны, Юдифи Матвеевны и — моей) в упреке, с которым никто не смеет обратиться к А.И., не должен сметь: куда девались маленькие подробности (всеобщая гибель и разлука)? зачем было печатать вторую часть книги ценой таких недомолвок? (ты читал ли? прочти)
Но А.И., конечно, видит в этом другой, высокий, смысл, и одно ее описание, как она узнает о смерти сестры, может быть, важнее недоумения непосвященных: почему — через два года? и где? (а ей еще предстоит второй арест и последний обыск, который смел уже все, кроме этой вот «книжечки», взятой из кармана фартука).
А.И. — благодарит ее сажавших как исполнителей Божьей воли (она им так и говорила, к их удивлению), но за себя лишь можно так благодарить, за других — нет, все-таки — нет.
Передаю вам благословение А. И., под которое всегда склоняюсь, когда крестит перед нашим (с Борькой) уходом: «Я — лишь молюсь за вас, да хранит и благословит Бог вас, ваших детей и СОБАКУ».
А.И. мне заметила: «Вы слово «собака» пишете с большой буквы, а я все слово — большими буквами. Она (как и М.И.), надеюсь, это ничему не противоречит, СОБАК считает ниспосланными и заведомыми небожителями.
Пока распространяю на вас, на детей, на СОБАК это ее благословение, но сразу же стану еще писать вам, потому что на этот раз (если с Черненко ничего до завтра не случится) — оказия к вам не сорвется.
Васька и Майка,
не знаю, сколько у вас времени, а в Переделкине — двадцать минут шестого часа все того же дня февраля.
Еще про Анастасию Ивановну Цветаеву.
Я была — в отчаянии, как может быть лишь в письме сказано, что испугала ее уверением в том, что это вам (ей) — весть.
(Вы обязательно возьмите ее «полную» книгу воспоминаний, где вот про лагерь, про… — опущено по ее каким-то высоким, конечно, соображениям, да и кто может укорить ее.)
Это: не выкидываю, посылаю.
Все-таки звоню: «Анастасия Ивановна! Вот — собака около телефона».
Целует в телефон собаку. «А кошки — у вас есть?»
«В Москве. Здесь не могу, птицы едят под окном».
А.И. рассказывает:
«В лагере, еще в том бараке, у меня был кот…»
Далее — своими словами: был кот, но возлюбил А.И. — и по причине задушевности и по той, что она его — она его — кормила, сама — не ест, и кот этот тяпнул птичку (не спросила — какую именно), А.И. успела выхватить птицу, которая показалась ей — полуубитой, положила за пазуху ватника и пошла, вместе с другими, на близлежащую товарную станцию, где ей следовало разгружать или загружать вагоны, это мне не сказано.
А.И. взяла бездыханную птичку и положила ее на (буфер, что ли) — пусть кто-то, пусть бездыханный, — уедет отсюда.
Состав тронулся, птичка очнулась и взлетела, и полетела.
Кот, как вы и сами понимаете, — как и я знаю всей душой, — ни в чем не виноват.
Более я писать не стану. Я — не безумна, просто редко разговариваю с вами.
Сейчас же во что-нибудь положу и заклею.
Иначе — не пошлю!
Сколько я сожгла писанного вам (и сейчас пойду).
Я же — уеду в Тарусу. Еще учтите, что в то воскресенье — оказии не случилось. Зато — завтра.
Все события — пусть хоть такие.
Прощаюсь, простите, люблю,
ваша бедная Белла
Васька и Майка!
Вчера ходили с Лизкой в лес.
Заблудились в трех соснах. (Оказалось, что она знает три сосны, она «бегает», — как ты, с меньшим успехом.)
Она — вывела меня на дорогу. Говорит: «Пойдем этим путем, ты-то помнишь, где жили дядя Вася и тетя Майя?»
Я говорю: «Теперь этот дом меня не интересует».
№ 17? Номер дома я увидела при полной Луне.
Лиза: «Вот дом дяди Васи и тети Майи».
Засим прощаюсь.
Дорогие Белка и Борька!
Несколько дней назад умерла Би Гей[474]. Мы ее еще застали, когда поехали на мартовские каникулы во Флориду. Впрочем, она была уже почти в агонии, только лишь временами из нее выныривая. В один из таких моментов Пик нас позвал в спальню. Она нас узнала и прошептала: Thank you for coming. I lоve you so much… Пик тогда попросил меня рассказать ей о твоем письме и о цветаевском блокнотике. (Ему я уже подробно об этом рассказал.) Би Гей эту историю выслушала очень внимательно и прошептала что-то вроде it’s great и, как мне показалось, с каким-то ощущением причастности.
Между прочим, она очень гордилась стихом, который ты ей прислала и несколько раз раньше при встречах и по телефону мне говорила, что все поняла, но не может перевести название «Звук указующий» и просила меня найти что-нибудь подходящее. Я в конце концов ей сказал, что это можно перевести, как The Guiding Sound, и она сказала, что вот теперь все понимает.
Забавная деталь на фоне этой трагедии. Когда мы вошли в спальню, за нами проскочил и Ушик. Встал на задние лапы и лизнул Би Гей в руку. Она ему улыбнулась и сказала: sweat baby… Вот уж, действительно, эти собаки — ты права — небесные создания!
Тарковский, когда у нас был, все с Ушиком играл и говорил: это же ангелочек. Кстати, у него в «Ностальгии» есть несколько таких ангельских явлений в виде собаки и маленькой девочки.
Мы Ушика этого негодного (заочного друга Вовы-Васи) иной раз зовем «ангел-обжорка», «ангел-храпелка», «ангел-дрочилка».
Литтеловский дом в курортном городке под названием «Санкт-Петербургский пляж» в самом деле райское местечко. Он стоит на берегу канала — там все изрезано каналами, вытекающими в Мексиканский залив — над ним пальмы и другие чудные деревья. Летают деловитые пеликаны, а цапли (цапли!) садятся прямо на маленький их пирс, прямо с которого Пик ловит рыбу и вытаскивает ловушки с крабами. Пожить там Би Гей почти не пришлось. Как вы знаете, они там поселились, когда она была уже больна, кажется, после двух уже операций. Пик был абсолютно измучен, он все делал своими руками — и уколы, и перевязки, и все прочее. Мы застали там их сына с семьей и Андрея, а также маму Би Гей, крошечную старую леди из Кентукки. Мы там сняли номер в отеле и провели три дня. Каждый день ездили к ним, но Би Гей уходила все дальше, и общаться с ней уже было почти нельзя.
Однако это еще тянулось несколько дней. Мы поехали в Майами, потом вернулись в Вашингтон, она еще была жива, и вот только несколько дней назад отдала душу Богу.
Мне запомнился один ее приезд из Москвы. Она была в тот вечер очень веселая, мы пили шампанское, и она рассказывала о вас и о московских очередях, в которых она стояла, чтобы купить шлепанцы одному из пятидесятников: американское посольство не смогло обеспечить его 46-й размер. Итак, ушла.
Цветаевская история совершенно фантастична. Она должна тебе дать толчок для большой работы: там может быть очень много всего, в том числе и твой «101-й километр», и Европа, все эти дела, проза и стихи; уверен, что ты этого не потеряешь как отчетливого сигнала для работы, сможешь сделать поистине что-то сногсшибательное с той литературной и душевной высоты, на которой ты уже стоишь.
Я начал уже писать «Прогулку в Калашный ряд», т. е. статью о стихах, где Белка будет главным героем, но тут вдруг свалилось множество суетных американских дел. Все как-то очень плотно пришлось на апрель и начало мая: три конференции и две лекции и еще какие-то срочные работы для хлеба насущного. В середине мая мы едем в Токио на конгресс Международного ПЕН-клуба, а вот по возвращении, уже находясь в зоне продолжительных академических каникул, как раз и закончу «Калашный ряд» для Жориных новых «Граней».
Его самого с Натальей мы ждем через несколько дней в Вашингтоне, на неделю. Они остановятся у нас. В их честь устраиваем прием с ровным представительством как левого, так и правого американских крыльев. Слабо надеемся, что обойдется без мордобоя.
Кажется, я уже писал вам, что в феврале мы ездили в Париж на премьеру «Цапли», однако явно не писал, что это был настоящий успех. Вот уж неожиданность, в самом деле! Пиша тогда по соседству с вами, в снегах, даже и не думал, что это будет поставлено, да еще и в шикарном парижском театре. Множество интервью по радио и ТV, рецензии и статьи во всех главных газетах и только в нашей «Русской мысли» — ни одной строчки, вот как мило.
Говорят, что Вознесенский какую-то дерзновенно-интел-лигентскую статью напечатал в «ЛГ», я ее как-то пропустил. Также говорят, что он собирается сюда за почетной степенью доктора в Оберлинском колледже. Вообще, письменники кое-какие несмотря на «антисоветскую истерию» здесь все-таки мелькают. Каких-то 17 душ где-то промелькнуло в Калифорнии по вопросам любви к миру. Там же пребывает Мих. Шатров, которому, оказывается, специально запретили со мной общаться, как будто это общение кем-то подразумевалось. Все это я пишу, потому что вам, Б & Б, пора уже приехать.
Большое спасибо Лизке за ее стенгазету. Она у нас висит на стене. Между прочим, у нас на стене висит и Борькина большая картина с граммофонами, которая попала к нам (на время) путями неисповедимыми.
Появлялась ли у вас наша Нина?
Целуем множественно.
Вася, Майя, Ушик
St. Maartin Island
This island smaller than Crimea, but France and Holland set in here.
Kisses![475]
16.01.85 (почтовый штемпель) St. Maartin
Дорогие москвитяне!
Читаю сейчас «Выбранные места из переписки с друзьями» (для своего университетского семинара) и стыжусь оттого, что наша переписка заглохла и больше, кажется, по моей вине, чем по вашей.
Как все-таки Николай Васильевич отменно старался в этом направлении! Какая все-таки эпистолярная активность существовала меж европейскими Минводами и российскими столицами!
Сказать, что эпистолярный жанр относится к минувшему веку в нашем случае будет смешно, не так ли, ибо между нами не существует ни телефонов, ни самолетов, то есть, по сути дела, наши отношения переведены не в XIX век (тогда уже была система почтовых дилижансов все-таки), а скорее в ХVI — письмо в Китай с оказией Марко Поло.
Гоголь к друзьям, как известно, относился с нежнейшей функциональностью; то денег просил, то обстоятельных дневников российской жизни, ибо бесконечно испытывал нужду в кормежке и в аутентичности. Окружающая франко-немецко-итальянская жизнь его ни хрена не интересовала (очевидно, не казалась аутентичной), он все-таки всегда считал себя русским внутренним писателем, несмотря на 18 лет отсутствия, может быть, потому что мог вернуться в Империю в любой момент. На этой «аутентичности» он, очевидно, и прокололся: по почте эта херация не пересылается.
Нашему брату, очевидно, чтобы сохраниться в профессиональном артистическом качестве, нужно искать подножный корм, привыкать к амфибиозности существования, не настаивать на внутренней «русскости» 100 %, а напротив, утверждаться в русском эмигрантском качестве.
К амфибиозности между тем вырабатывается все более стойкая привычка. Столько раз на дню приходится нырять из воздуха в воду и выныривать обратно, что уж и не знаешь, что считать «воздухом», а что «водою» — русский или английский.
Иногда, впрочем, две стихии замечательно перемешиваются. Вот недавно заспорил я с одним типом из-за стоянки на улице. Я кричу ему из своей машины «Мудак ты е…й!», а он мне отвечает из своей: «Fuck you». По пятницам у меня трехчасовой семинар в соседнем городе Балтиморе, после чего, возвращаясь в автопотоке домой и слушая программу местной станции-интеллектуалки «AU things considered», я вдруг замечаю, что думаю на чужом языке, и даже «тухлая вобла воображения» ворочается как-то не по-нашему. Не очень-то приятное ощущение, должен признаться, во-первых, потому, что своего не хочется отдавать, а во-вторых, потому, что в чужом-то уж никогда не избавишься от неуклюжести; жабры работают хуже легких.
Изредка появляются в наших водах пловцы из прошлого. Прошлой весной, например, один такой долговязый пожаловал. Уселся в кресло и стал не без нервозной уверенности, как будто по отработанному списочку, предъявлять претензии: пишу, оказывается, не так, как хотелось бы, слишком много иронии, обижаю борцов за мир вроде Габриэллы Гарсии[476], не возражаю против возвращения Никарагуа в лагерь потребителей туалетной бумаги, по радиостанции нехорошей выступаю, которая финансируется знаешь-кем-зловещий-шепот (сведения, очевидно, полученные непосредственно от Генриха Боровика), а самое главное, вот самого его, ночного гостя (визит произошел в полночь), обидел — сказал, видите ли, в здешнем журнале, что хоть и сам гость раздобыл себе славу без помощи ЦК, но все же и ему приходилось подкармливать ненасытное чудовище стишком-другим.
Странная какая-то диспропорция, несоразмерная обидчивость для человека, который прекрасно знает, что о нем говорят все, кроме меня, бывшие соотечественники.
Страннейшей оловянной невинностью наливаются зенки, когда в разговоре выплывают гадости, сказанные им обо мне то в Каракасе, то в Брюсселе. Тебя удивляет, что мы об этом знаем?
При слове «мы» он всякий раз корежился, очевидно воображая спецслужбы Запада. Самое замечательное у этих типов то, что они очень быстро начинают верить собственной лжи. Кто это «мы»?
Мы — это я, Майя и Ушик. Какой еще Ушик? Наша собака. Какая еще собака? Вот эта, что лежит у камина в двух метрах от вас, мусью. Оказывается, за два часа беседы так старательно по списочку шел, что собаку не приметил. Вот вам хваленая российская литературная наблюдательность! «Одиннадцать невидимых японцев».
Другой посетитель из того же цеха был все-таки значительно приличнее. Первого, надо сказать, отличает полное отсутствие Ч.Ю.[477] Очень не любит, когда собеседник шутит, досадливо морщится в таких случаях, скалится, как бы не слышит. Второй, напротив, с шуткой дружит и вообще порой все-таки вызывает что-то доброе в памяти: окрестности «Метрополя» и т. п. Однако и на старуху бывает проруха. Вдруг звонит озабоченный:
— Весь Нью-Йорк говорит, что ЭТО Я изображен в недавно вышедшем романе. Скандал. Ты что-то должен сделать.
— Пардон, что я могу сделать — переписать?
— Сказать, что это не я.
— Это не ты.
— А все говорят, что это я.
— Ты сам себя узнал?
— Нет, я думал, что это Б.
— Скорее уж Б., чем А.
— Однако он назван А.!
— Что же, разве нет других А.? Он мог бы быть отчасти и В., не так ли?
— Разумеется, но весь Нью-Йорк…
Поразительная чувствительность сейчас развивается в этом цеху при малейшем намеке на некоторую неполноценность репутации. «…Ну, вот и все. Да не разбудит страх Вас беззащитных среди дикой ночи. К предательству таинственная страсть, Друзья мои, туманит ваши очи…»[478]. (Даже «Грани» отредактировали в цитате «предательство» на «враждебность».)
Со времени же написания стиха, обратите внимание, какая произошла эрозия понятий: и страха уж нет, а есть опасочки, и страсти уж нет, а есть склонность, а уж разнокалиберные подляночки-то разве предательствами назовешь — это уж будет, как англичане ГОВОРЯТ, ТИПИЧНЫЙ «overstatement»[479].
Итак, вы видите, что родина все-таки снабжает меня достаточным запасом аутентичности, однако это вовсе не означает, что она остается единственным ее источником и поводом.
Тут, конечно, и своей «аутентичности» хватает, как в рассеянии, так и среди туземных масс. Недавно, например, вся творческая Америка со сдержанным умилением свидетельствовала примирение двух классиков, восемь лет назад бивших друг другу морды.
B соцреализме, помнится, такие процессы носили более загадочный характер. Вспоминается «время пробуждения», шестидесятые годы, когда в буфетной зале возникали турниры стульями и бутылками, а на следующий день участники турниров мирно знакомились друг с другом, как бы отказываясь отождествлять вчерашних фурий с собой, похмельными кисами. Простота этих отношений, увы, относится уж к ностальгии. Нынешние литературные мордобои на пространствах планеты и времени принимают диковиннейшие формы.
Вот вам пример. Прошлым летом в Париже процитировал я в статье одного из москвичей, возмутившегося наглостью одного из жителей передового ближневосточного государства. Имена, разумеется, ни того, ни другого не были названы, однако южанин себя узнал и разъярился и через несколько месяцев в Вашингтоне я узнал, что он, оказывается, давно уж меня ненавидит (вот какие сильные чувства!) и теперь у него «развязаны руки». Стало быть, надо ждать теперь пакости с Ближнего Востока. Как видите обстоятельства российской литературной жизни усложнились в сравнении с XIX веком, когда «Письмо Белинского Гоголю» проехало всего лишь от Бад-Бадена до Висбадена.
Или вот еще — для того, чтобы поскрежетать зубами в адрес вашего покорного слуги берут 20-летнюю американскую сикуху и под ее именем просовывают в местный журнал такую посконную мразь, которая этой сикухе и присниться не могла, если только она не спала с 10 лет с кем-нибудь из наших титанешти.
Словом, интересно; почти не скучно и почти не противно или, как поет советский народ: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!»
Обнимаем.
Вашингтонцы.
Посылаю копии не потому, что дорожу писаниной, а потому что писал в Белкином альбоме, а вырывать из него жалко.
VA
Христос Воскресе!
Дорогие родные Васька и Майка, странно и дико взывать к вам из яви хладно-солнечного ветреного дня, где кривятся и морщатся портреты вождей, снимаемые к Пасхе, толпы рыщут «сырковой массы особой», достижимые напитки — 13 р. 50 к. самые дешевые.
Но — бурно, многолюдно, страшновато. Зловещий бред этой яви очень усилился в последнее время… Или мне кажется, от капризности, или впрямь столь выпуклого и душного мрака не помню. Что-то новенькое невольно ощущаешь в вялом и безвыходном гибельном сюжете, то есть старенькое, конечно, — эх, где привычные <нрзб> их увядание теперь вспоминается как кротость и уютная унывность.
Остается принимать надрывности завихрений, невидимо колеблющих трясину, — за безграмотный и безошибочный исторический оптимум: несколько столетий, не больше.
А собственная жизнь, насущная жизнь людей вокруг и детей рядом — мимолетность, выгадаем какой-то блик, большего не надо.
В феврале и марте этого года была постояльцем дома творчества композиторов на окраине города Иваново: эта окраина сильно повлияла на меня.
Я и прежде знала — но здесь впопад очутилась, сильно действует, очнуться не могу.
Только что вернулись с Борей из Таллина — ощущение, как от Иваново; и шпили, и мостовые, и кроткий залив лишь усугубляют отчаяние: им-то за что?
Из смешного: 30 лет «Современника»[480], никто не опасался, но — вопреки елею — немного разговорилась и проговорилась бедная остаточная богема.
Взыскали с «Современника» — мое маленькое злорадство, но и «капустников», говорят, больше не будет.
Васька, если вдруг где-нибудь и как-нибудь соотнесешься с Юрием Петровичем Любимовым, передай ему изъявления любви, нежности, печали и верности, — я во всех этих чувствах к нему и к Театру еще крепче, чем прежде… — чего не скрываю, разумеется.
У нас — безвыходно (вдруг нет!) болен Володя Кормер.
Человек с честью, талантом и умом, — не может снести, нечаянно гибнет.
Я, Боря, близкие нам — все же имеем близ друг друга, шутки, вздоры, выпиванья, автомобили с флагами — печалит это, но и смешит.
Васька, пожалуйста, пришли еще один «Изюм» — у нас было два, я-то прочла и ликовала, а Борька, от честности, не успев прочесть, отдал Липкину и Женьке Попову.
У Андрея Битова — вдруг вышли две прекрасные книги: в Тбилиси и в Москве. («Вдруг» — это долго было, но сбылось. Андрей тоже печален, он тебе сам напишет завтра. Мы все едем в Переделкино. Женька собирался завезти письмо тебе: он завтра не сможет приехать. Светка ложится в больницу, но это ничего, не ужасно.)
Васька, ты — совершенная радость для меня и для нас, и многие, к счастью, люди любят и знают тебя. И в Таллине все что-то твое брезжило, мерцало, усмехалось и сияло — пили за тебя после двух часов пополудни, с вольнолюбиво-раболепными эстонскими литераторами.
Маята, не терзайзя из-за матушки чрезмерно[481]. Галя Балтер пишет тебе отдельно, письмо ее прилагаю. Я тебя люблю и целую, а ты будь мудра и спокойна, думать о поездке сюда — по-моему, никак нельзя, разве что иметь такую художественную грезу, всегда утешительную. Как не-греза — такое намерение не может тебя занимать, к счастью, это и невозможно, — иначе было бы слишком безумно и опасно («Подвиг» — Набокова, этого довольно для подвига).
Дорогие, родные, любимые!
Примите нашу любовь, да хранит вас Бог!
Целую Ушика!
Всегда ваши,
Белла,
Борис
Дорогие! Христос Воскресе! Целуем вас и пьем за вас.
Дорогие Белка и Борька!
Пасхальные письма приплыли к нам уж, пожалуй, не раньше, чем к столетнему юбилею статуи Свободы[482], потом мы стали собираться в бегство из Вашингтона, где жара этим летом невыносимая, и вот сейчас пишу уже из Вермонта, некоторые подробности из литературной жизни которого вы найдете в письме к Женьке. Впрочем, аккуратность — это, очевидно, последнее, чего можно ждать от наших почти астральных контактов.
Худо-бедно, но уже шесть лет прошло с того дня, когда вы все стояли за стеклянной стенкой, а мы уходили за священные турникеты. Белка, твое описание праздничной ситуации весьма впечатлило нас и лишний раз показало, как стопроцентно эти ситуации, пространства и периоды не считаются с нашими желаниями, столь умеренными, и надеждами, все скукоживающимися.
Мы заметили одну любопытную вещь. Ваши письма — твое, Женьки и Андрея — датированы 3 мая, но вы явно еще не знали о Чернобыле[483], в то время как наши «средства массовой информации» (советский перевод слова media) уже неделю! истерически об этом вопили. Нельзя не отдать должное большевикам — даже в нынешнем мире их стена, в общем, работает, хотя кирпичи уже и падают на их собственные головы, как в данном случае, когда и мужички нашего поколения, добравшиеся, наконец, до своих заветных рубежей, оказываются в той же позе, что и ушедшие «ворошиловские стрелки». Тем, впрочем, не было стыдно, а эти, кажется, все-таки немножечко стыдятся.
Не знаю, дошел ли до вас скандал, разразившийся в окрестностях Франкфурта и всколыхнувший литературную эмиграцию, а именно увольнение Жоры с поста редактора «Граней». Сделано это было на редкость бестактно и нагло. Его литературная независимость трактовалась как «нелояльное отношение» к организации. Пример этой черной неблагодарности и полной невозможности терпеть рядом сложную человеческую личность вместо партийного винтика лишний раз показывает, что писателю нечего делать по соседству с любой партией.
Так или иначе, но эта семья (их осталось двое вместо трех) оказалась в трагической и унизительной ситуации. Я все это знаю из первых рук и потому хочу вам рассказать, чтобы и вы получили какую-то информацию на фоне неизбежных в таких случаях сплетен.
Уже с середины мая к нам в Вашингтон начались почти ежедневные звонки из Германии и из Парижа. Максимов этим поворотом в Жориной судьбе был потрясен, кажется, не меньше, чем Жора, и старался поддерживать его изо всех сил. К слову сказать, несмотря на некоторую вздорность характера Емельяныч вообще относится к небольшому числу честных людей и во всяком случае он выгодно выделяется среди очумевших мегаломанов или наглых провокаторов, вроде гиньольной пары Синявских[484].
Я пытался «тихой дипломатией» хоть как-то улучшить Жорину ситуацию, но вскоре выяснилось, что дело зашло уж слишком далеко, и обратного хода нет. Превращение «Граней» в настоящий литературный журнал (а именно таким он становился под Владимовым) тамошних командиров не устраивало, да к тому же и личные отношения в их небольшой общине дошли уже до абсурда, не без помощи, увы, Наташкиного эпистолярного жанра.
В начале июня я оказался в Германии (по другому делу) и встретился сначала с Левой и Раей[485], а потом и с Владимовыми. Несколько слов о Копелевых, вернее, о том, что такое Неrr Kopelev для немцев.
Я никогда еще не прогуливался по улицам с человеком такой неслыханной знаменитости; Евтушенке такое только снится в самых сладких снах. И в Бремене, и в Кельне едва ли не все прохожие вздрагивали и застывали в радостном изумлении при виде нашего Льва. Дети подбегали дотронуться до штанин, девушки чуть прислониться щечкой к плечу, пока дружок снимает фотку с самим Копелевым. И это не просто узнавание, но именно радостное сияние. На вокзале нас увидел бургомистр Бремена, бросился к Леве и понес его чемодан до вагона.
Потом приехали Жора и Наташа и повезли меня в свой (довольно паршивенький) городишко возле Франкфурта. За день до этого Елену Юльевну[486] увезли в больницу с сердечной недостаточностью, но никто не предполагал трагического исхода. В общем, все это произошло из-за этого жуткого кризиса с «Гранями». Е.Ю. своего «Жорика» боготворила и от таких ударов слегла.
Через день я улетел в Вашингтон, а пока летел, Наташа уже позвонила Майе и сказала, что мама скончалась.
Это событие, разумеется, еще больше усугубило ситуацию в Niederhousene. Они сидят на десятом этаже в унылой хрущобе (хоть и с бассейном), по неделям ни с кем не разговаривают живьем, униженные и оскорбленные и, как мне показалось, основательно растерянные и убитые потерей Е.Ю. Наташка, хоть на поверхности, держится даже лучше, чем Жора; его же я никогда прежде не видел в таком нервном, раздраженном и неуверенном состоянии.
Мне показалось, что им надо как можно скорее уезжать оттуда, может быть, и из Германии, отправиться куда-нибудь в Италию или в Испанию, хотя бы на пару недель, продышать всю гарь этого скандала. В Америке, в том же Кеннановском институте, или в Гарварде, Жору могли бы принять на довольно продолжительный срок, и это, может быть, был бы для него лучший вариант, чтобы кончить роман и «зализать раны», но они пока ничего не решили, сидят на месте, даже отдохнуть не уезжают, что-то ждут, и мы за них (все друзья) очень волнуемся.
Владимовское дело многих (хоть на момент) объединило. Под письмом в его защиту подписалось (хотя текст, сочиненный Максимовым, далеко не всем нравился) около семидесяти «деятелей культуры», среди них были люди, годами пылавшие друг к другу омолаживающим чувством ненависти. Однако и у этого письма, составленного, казалось бы, по бесспорному поводу, нашлись ненавистники и завистники, в частности гиньольная пара Синявских. В эмиграции пошли бродить похабнейшие письма и листки. Любопытно, как люди, дома перед лицом общего пугала хранившие по отношению друг к другу хотя бы лояльное молчание, здесь развернулись в надменности, интриганстве и общем сволочизме. На вечеринках прежде всего оглядываешься — с кем нельзя говорить об X, при ком нельзя упоминать Y, будет ли уместным сказать об N пару теплых… Волей-неволей приходится проводить отбор и сокращать прежние связи.
Эта тема товарищества и предательства, тобой вздутая еще в 60-е, остается у нас, может быть, самой актуальной, несмотря на старение. Для меня она в недавние годы почему-то стала жгучей. В молодости, как ты помнишь, я был покладистым и почему-то даже не представлял, что могу стать объектом больших или малых предательств. Судьба, однако, развивает воображение. С тех пор, как «они» объявили меня «врагом», я столкнулся с чередой довольно ошеломляющих предательств. Теперь, казалось бы, не следует удивляться ничему, и все-таки иногда спотыкаешься в замешательстве.
Зачем, например, В. Конецкому понадобилось в № 4 «Невы» писать обо мне такую злобную ложь, расфуфыренную к тому же его пошлейшими ерническими художествами. При случае, если встретишь его, не затруднись, пожалуйста, передать ему мое презрение, ну а уж если я вдруг эту «помпу» встречу в окрестностях какого-нибудь порта, не затруднюсь дать по роже, зная к тому же его как труса, всегда убегавшего, пока мы с Данелией дрались в завязанных злобной шавкой драках.
Б-р-р-р… Сейчас начинаешь все больше ценить тепло и верность тех, в ком уже не усомнишься никогда, то есть вас, наши дорогие друзья.
Нельзя не видеться столько времени, это безобразие, диктат «чудища о.о.о.с. и л.»[487] У нас такое чувство, что если вы серьезно захотите приехать, вам не откажут.
Маевка после кончины матушки всерьез было уж собралась съездить, но твои замечания ее охладили, и я, конечно, ее не пущу, если даже просто возникают аналогии с набоковским героем.
Так что надо, чтобы хотя бы уж в эту сторону катился поезд. Я очень скучаю и хочу видеть также и Алешку, но тут пока что не возникает даже никаких вариантов. Нет ли у тебя, Белка, каких-нибудь соображений, не посоветуешь ли что-нибудь, что можно предпринять, чтобы мы могли с ним хоть ненадолго увидеться? Во всяком случае, огромное спасибо вам, друзья, за заботу о нем.
Целуем и мечтаем о встрече.
Вася и Майя
Письма Павла Васильевича Аксенова к Василию Аксенову (1980–1982)
Письма Павла Васильевича Аксенова к сыну относятся к начальному периоду эмиграции писателя из Советского Союза. Павел Васильевич (1899–1991) имел весьма обычную для партийного работника 30-х годов прошлого века биографию. В 1930 году этот тридцатилетний выходец из села Покровского Рязанской губернии становится председателем горисполкома Казани, в 1935-м по необоснованному обвинению смещается с должности, а в июле 1937-го его арестовывают как врага народа. В Казань он возвращается только через 19 лет. Момент возвращения отца запечатлен Василием Аксеновым в рассказе «Зеница ока» (1960, 2003).
А в конце 70-х годов тучи сгустились уже над самим Василием Аксеновым. Он окончательно перестал считаться с идеологическими требованиями, предъявляемыми коммунистической властью к творчеству писателей. Написал откровенно антисоветский роман «Ожог», который, конечно, не мог быть тогда напечатан на родине ни при каких условиях. Возглавил редколлегию независимого альманаха «Метрополь». В знак протеста против преследования молодых участников «Метрополя» вышел из Союза писателей СССР, то есть, как говорится, сжег за собой корабли. Эмиграция стала неизбежной. Летом 1980 года, перед тем как покинуть Советский Союз, Василий Аксенов поехал на машине вместе с женой Майей в Казань, проститься с отцом. На обратном пути на чету Аксеновых было совершено покушение, о котором Аксенов вспомнил в своем последнем завершенном романе «Таинственная страсть».
Оказавшись за границей, Василий Аксенов постепенно наладил переписку с самыми близкими и дорогими для него людьми, в число которых входил, конечно, и Павел Васильевич. Письма Василия Аксенова не сохранились, а вот ответы его отца на них мы предлагаем вниманию читателей. Их всего шесть, все они относятся к 1981 и 1982 годам. Павел Васильевич, со свойственной ему обстоятельностью, сообщает подробности своей жизни и жизни ближайших родственников, особенно то, что касается его внука и сына Василия Аксенова — Алексея, беспокоится за судьбу сына, сквозной темой писем является надежда на возвращение сына на родину, желание еще раз увидеться с ним и обнять его.
Долгожданная встреча с сыном состоялась в 1989 году, когда лишенный советского гражданства Василий Аксенов по приглашению американского посла Джека Мэтлока на время прилетел в Советский Союз.
Дорогие наши путешественники Майя и Вася!
Мы получили Ваши послания — открытку из Милана[488] и письмо из Анн Арбора.
На открытку из Милана мы послали Вам небольшое письмецо в Штаты. Но, по всей вероятности, не получите его. В спешке и растерянности я забыл оформить это письмецо надлежащим образом. Обычный конверт, рассчитанный на внутренние наши связи, я забыл оформить метками для писем, идущих в другие страны. Мне это письмецо не вернули. Не исключаю, что его просто выбросили в мусорный ящик.
Ваше второе письмо от 12 октября еще более обрадовало нас. Из письма ясно, что Вы не только живы, но ведете активную жизнь и у Вас есть творческие планы на будущее. Из этого не следует, конечно, что мы теперь полностью спокойны за Вас. Может быть, это покажется странным, слишком провинциальным, но мы не будем скрывать свою отсталость, а скажем прямо: покой для нас придет тогда, когда Вы, выполнив свои творческие планы, вернетесь домой, хотя бы на короткое время[489].
При всем этом мы желаем Вам и Вашим друзьям и коллегам творческих успехов для блага наших народов и обогащения наших культур.
Тетя Ксения[490] стала совсем старенькой, плачет, заговаривается и часто вспоминает Вас. Долго она, по-видимому, не протянет. Все другие родственники и друзья живы и здоровы.
С Алешей мне пока не удалось связаться. Вероятно, потому, что его все не было дома и вполне возможно, что моя персона не представляет для него интереса. В этом я его понимаю и не осуждаю. Судя по слухам, учебные и творческие дела складываются у него неплохо.
Анна Ивановна[491] весь остаток лета и осень тяжко болела. В сентябре — октябре пришлось лежать в больнице. Ей оперировали правую грудь. Болезнь сердца и диабет очень усложнили операцию. Были всякие опасения, но отличный хирург (профессор) и его коллеги обеспечили успех операции. Этому способствовало героическое поведение больной. Все окончилось отлично. Неделю назад А.И. выписали из больницы. Теперь она дома отдыхает, включается в жизнь и набирается сил.
Скоро будем праздновать наш великий праздник. Поздравляем и Вас с 63-й годовщиной Великого Октября[492].
Относительно барахолочных дел. Не расходуйте на эти дела своих сил и не тратьте нужных Вам денег. У нас есть все необходимое для жизни — одежда, обувь и т. д и т. п. Всего, чем мы располагаем, нам хватит до конца нашей жизни. Ради бога, не канительтесь.
Плохо, что Вы гриппуете. Нельзя допускать этого. Берегите себя, будьте осторожнее во всех Ваших делах. Ведь Вы не акклиматизировались там.
Пока все. Желаем Вам успехов, здоровья, радости и счастья. Целуем Вас крепко, крепко.
Ваши Дед Павел и Анна Ивановна
P.S. Когда будет постоянный адрес, чтобы я мог хотя (неразборчиво) его?
Дорогой Вася!
Получили оба твоих письма — июньское и августовское.
Июньское письмо напомнило о двух твоих книжках для детей[493]. Наша литературная критика дала им высокую оценку. Я с удовольствием снова посмотрел и полистал эти книжицы. Очень удивило меня перемещение англосаксов из господствующей нации в нацию РИКШЕЙ[494]. Я понимаю, что это явление носит местный характер (а может быть, не совсем местный?!), но тем не менее оно весьма показательно. Не один раз в истории народов Великие господствующие нации дряхлели, распадались и превращались во второстепенные и даже зависимые народности. Не об этом ли говорит опыт РИКШЕЙ на Гавайских островах? А может быть, в этом факте скрывается многосторонний талант англосаксов? Если так, то они, в какой-то степени, похожи на нас, россиян, способных решать космические проблемы и выполнять простейшие ручные работы?
Мне приятно сознавать, что твоя командировка является деловой и творческой. Уверен, что она будет полезной не только для тебя, но и для нашей страны, а также для страны, в которой тебе приходится работать.
Посылку получили в июне. Таможенную плату внесли в сумме 67 рублей и сколько-то копеек. Все было в порядке. Все вещички весьма приятные и, безусловно, полезные. В них чувствуется Майин хозяйственный практицизм. Большое Вам спасибо за внимание и заботы. Однако я хочу посоветовать Вам не расходовать время и денег на подарки для нас. Не такие Вы богачи, чтобы разбрасываться на подарки. К тому же Вы ведь знаете, что у нас есть все необходимое для жизни: хорошая квартира, пенсия, необходимое барахлишко, которого хватит до конца наших дней. Не забывайте, жить-то нам ведь немного осталось. Правда, нас хорошо лечат квалифицированные врачи, но ведь на лекарствах далеко не уедешь.
Нас волнует теперь не барахлишко, а очень быстро бегущее время. Дождемся ли мы встречи с Вами, удастся ли нам встретить Вас на нашей земле, посмотреть, обнять, напоить чаем, поговорить, уложить для отдыха на мою стариковскую кроватку и на раскладушку, послушать Ваши рассказы о жизни вдалеке, рассказать Вам о нашей жизни, покритиковать друг друга, посмеяться и обсудить планы на будущее. Точнее, Ваши планы на будущее, так как нам-то уже нечего планировать, у нас все в прошлом. Вот об этом прошлом, может быть, и следует поговорить. В нашей жизни тоже ведь было много важного и интересного, много трудностей и радостей, много умных и глупых поступков, ну и т. д. и т. п.
Вы предлагаете приехать к Вам в гости, пока Вы там. Это было бы хорошо, но абсолютно нереально. У меня не хватит сил на такую дорогу. Я имею в виду физические силы и полное отсутствие языка. Без языка даже молодые люди не могут ориентироваться, а что же спрашивать с представителя ХIХ века, у которого израсходованы физические и умственные ресурсы.
Пусть будет, что будет, а мы будем ждать встречи на нашей земле, в нашем доме.
Тетя Ксения пока живет, но становится все более немощной. Часто все забывает, но в минуту просветления вспоминает тебя и улыбается или плачет.
Многие твои друзья иногда встречаются со мной и заинтересованно расспрашивают о твоей жизни.
С Алешей редко удается поговорить. Он всегда или на работе или отсутствует. Умный он парень и, безусловно, перспективный.
У нас было очень сухое и жаркое лето. Тяжело было земле, растениям, животному миру и, особенно, нам — старикам. И все-таки мы выдержали все природные невзгоды. Заканчивается уборка урожая всех культур, коровки дают отличное молочко, все идет чин-чинарем. А теперь наступила вполне приемлемая погода.
Желаем тебе и Майе доброго здоровья и успеха в Ваших трудах.
Целуем крепко, крепко.
Дед и А.И.
Дорогой Вася!
Получили Вашу открытку из Греции. По всему видно. Что ВЫ с Майей развлекались там с олимпийскими богами и богинями и прогуливались по Акрополю. Надо полагать, что такая прогулка будет отличной зарядкой для Вашей работы.
Письма и посылку получили. Об этом я сообщил тебе в прошлом месяце. Вероятно, теперь Вы уже получили это письмо.
Звонили Алеше, но нам не удалось поймать его. Вероятно, он был в отлучке. Однако нам известно, что он по-прежнему хорошо работает.
Мы помаленьку колдыбаем. А.И. вчера выходила на прогулку. Здоровье у нее понемногу улучшается.
Тетя Ксения становится совсем слабенькой.
Мы вступили в осень. Кончилась жара, дышать стало лучше. Город готовится к зиме. Надеемся, что она будет мягкой, удачливой и вполне приемлемой для стариков. Впрочем, мы не такие эгоисты, как Вам может показаться, мы желаем хорошей и легкой зимы для всех наших больших и маленьких граждан.
Не обижайтесь на нас, стариков. Но мы не можем расстаться с мыслями и желаниями увидеть Вас дома, как только можно скорее.
Очень желаем Вам здоровья и успехов в Вашей сложной и трудной работе.
Целуем крепко, крепко.
Ваши Дед и А.И.
Спасибо за письмецо. Теперь знаем, что Вы живы и здоровы. К сожалению, этого мы не можем сказать о себе. Головокружение, бессонница и расстройство памяти становятся постоянным явлением. Медицину нельзя обвинять в этом. Возраст и условия прошедшей жизни накладывают глубокие отпечатки на наше сегодняшнее бытие. Мы все это понимаем и не жалуемся. Скоро наступит лето и наше положение улучшится. Прогулки в лес и купанье в Лебяжьем озере улучшат и стабилизируют наше здоровье.
Что касается молодого человека, то Вы не очень объективны в оценке его поведения. Вам ведь известно, что его легкомысленные родители не очень заботились о его воспитании и школьном образовании. Это, безусловно, отразилось на его дальнейшем пути. В высшей школе он оказался пред лицом весьма трудной задачи, к решению которой не был подготовлен. И все-таки, к нашему удивлению, в этом молодом человеке оказалось столько энергии, желания и способности, что он преодолел все главные трудности и оказался в числе вполне способных студентов.
Несколько дней назад мы говорили с ним по телефону о его делах и остались довольны его информацией. Приблизительно через месяц он заканчивает учебный год, а летом отправится в Сибирь на практику. Она будет и завершением образования.
В прошлом году он за практику получил отличную характеристику. Будем надеяться, что он успешно или, в крайнем случае, удовлетворительно закончит свое образование.
С большим интересом и вдохновением готовится он к службе в Советской Армии. Он надеется показать себя отличным солдатом и хорошим художником.
Предстоящим летом, если ничто не помешает, посетит Казань, то есть бабку и деда.
Казань стоит все на том же месте. Она продолжает расти, вширь и вверх. Углубляется во второй миллион[495]. Перспективы самые широкие и интересные. Но я не умею рисовать их.
Наши родственники живут там же, где были раньше. Они любят насиженные места. Тете Ксении идет 88-й год. Совсем старенькая, но пока передвигается на своих ножках и продолжает удивлять мир своими кухонными изделиями. Ее дочь Мотя[496] ведет тот же образ жизни, как в твои времена: углубляет свои познания в области медицины и рукоделия. Галя[497], помимо журналистской службы, все более углубляется в домашние хозяйственные дела. Все большая часть домашних дел размещается на ее слабеньких плечиках. Очень трудно ей!
Оренбуржцы растят своего мальчика Ваню, внука покойного Андреяна[498]. Собираюсь совершить поездку к ним, но не знаю, когда удастся эта операция.
Погода у нас, как во всем мире, какая-то странная. Вот в эти дни, после холодов, у нас установилась весьма теплая и влажная погода. Теплее, чем на Украине и в других теплых краях.
Интенсивное обсуждение проблем гражданской войны в Штатах меня не удивляет. Опыт и корни жизни народов вырастают из прошлого и переплетаются с настоящим. То же происходит в Европе и у нас. Мы никогда не забудем ни нашего крепостничества, ни Наполеона, ни Гитлера, ни Октябрьской революции и Гражданской войны, ни тем более В.И.Ленина. Во всем этом мы черпаем опыт и вдохновение.
Итак, ты много пишешь, читаешь лекции и ходишь по гостям. Изучаешь ли ты серьезно страну, в которой живешь в последнее время? Это ведь тоже весьма важно. Гостевания недостаточно для познания страны и народа. А еще важно было бы заняться изучением своей родной страны. Мы очень мало знаем самих себя и свое прошлое. Очень советую заняться этим делом, чтобы вернуться домой еще более обогащенным знанием своего народа (в прошлом и настоящем). Говорю об этом, потому что вижу твою тоску по родине. Это, как мне кажется, хорошо. Уверен, что ты вернешься домой еще более обогащенным знаниями, очень нужными для больших дел, которыми озабочен и занят наш народ. Думаю, что это принесет пользу и тому народу, среди которого ты теперь живешь.
Что касается Ушика, я думаю, что и это хорошо. Собака — друг человека, она помогает ему быть более гуманным и человечным.
Вася, твои скрытые упреки[499] в наш адрес несправедливы. Мне ведь труднее писать, чем тебе. Но каждый твой зов омолаживает нас и прибавляет сил для сотворения письма.
Целуем тебя и Майю.
Дед и Анна Ивановна Аксеновы
Дорогие наши старички, Майя и Вася, примите наши поздравления по случаю наступившего лета. Очень мы соскучились по Вас. Все реже и короче становятся Ваши письма. По-видимому, расстояния и время стирают такие понятия, как тоска и сердечные переживания. И все-таки мы не можем забыть такого события, как рождение Василия Аксенова. 20 августа этому мальчику исполнится целых 50 лет! Я очень хорошо помню это событие. Очень много в то время было канители, радости, страха и гордости! Потом мы потеряли этого маленького хулигана и крикуна, но через много лет он пришел к нам, а теперь снова удалился. Мы живем надеждами на новые встречи, но эти надежды с каждым днем угасают.
Вы оба теперь 50-летки. Это, пожалуй, самая интересная стадия в жизни людей. И мы поздравляем тебя и твою супругу с этим самым важным днем твоего рождения! Мы уверены, что следующую круглую дату Вы будете справлять дома, на родине, но нам, вероятно, не удастся принять участия в этом грядущем празднике. А жаль, что так получится.
Вася, чем дальше уходит время твоих путешествий по свету, тем больше растет уверенность, что ты вернешься домой, на родину, и эта наша славная родина будет рада твоему возрождению. Если бы ты знал, как хотелось бы нам дождаться этого дня и часа!
Но хватит об этом. Напишите, хоть немного, как Вы живете, в каком состоянии Ваше здоровье. Удается ли Вам заниматься литературой или Вы превратились в профессиональных преподавателей?
О нашей жизни. Анна Ивановна, бедняжечка, все еще болеет, но понемногу трудится в домашнем хозяйстве. О себе мне нечего сказать. Иногда мне кажется, что наступило время перепрыгнуть в мир иной, но проходит немного этого самого времени, и я возрождаюсь и живу, как все люди. Очень мне мешает склероз сосудов головного мозга, затухающее зрение и слух. И ничего с этим нельзя сделать. Но все-таки я живу: топаю ногами, общаюсь с другими людьми, пользуюсь трамваем и троллейбусом, понемногу читаю, наблюдаю за жизнью планеты, смотрю наш старенький телевизор (чуть-чуть), скоро буду с А.И., а иногда и в одиночку, ходить в лес и купаться в чудесном Лебяжьем озере.
Иногда планирую большие путешествия, НО… Прошло все-таки наше время, приходится ограничивать себя самыми малыми дозами настоящей реальной жизни.
Моя сестра, а твоя тетя, тетя Ксения еле-еле передвигается по территории дома, в котором когда-то ты жил, озорной мальчишка по имени Вася. Ей идет 88-й год. Трудно ей, но она не сдает своих позиций. Готовит пищу для внучки и всех остальных членов семьи. Частенько вспоминает того давнишнего озорного мальчишку и делает какие-то расчеты о встрече с ним.
Погода у нас стоит хорошая, и мы ждем хорошего урожая в текущем году.
Совсем недавно разговаривал с Алешей. Он был в хорошем настроении. Дела у него идут хорошо. В этом месяце он заканчивает учебный год.
Вот, кажется, и все. Желаем Вам обоим хорошего летнего отдыха и путешествий по планете. Берегите свое здоровье, оно Вам еще пригодится.
Целуем Вас самым наикрепчайшим образом.
А.И. и Дед
P.S. Получили ли Вы наше письмо в ответ на Ваше, полученное нами незадолго до майских праздников?
Дорогой Вася!
Твое большое письмо получил 12 ноября. Получили и открытки, посланные во время ваших каникул. Открытки мы читали вместе с Анной Ивановной, а вот большое письмо приходится читать и перечитывать одному. Нету больше моей Анны Ивановны, она скончалась 8 октября. Теперь я живу один. Она много болела, но жила, и мне хорошо было с ней. Мы оба старики, но мы любили друг друга, и нам было хорошо. А теперь ее нет, и я, в сущности, никому не нужен и, как мне кажется, мне тоже никто не нужен. У наших детей и внуков много своих личных проблем, и им некогда возиться с такими, как я.
Анна Ивановна прожила на этом свете 80 лет и 2 месяца. Я старше ее на три года и приблизительно 9 месяцев. Следовало мне уйти первому, но ушла она. Что же мне теперь делать? Этот вопрос я задаю себе днем и ночью. Но никто не дает мне ответа на проклятый вопрос. Вот такие дела…
Единственно, что хорошо было в этой трагической акции, это то, что «курносая злодейка» недолго мучила мою любимую и дорогую подругу. Она скончалась, по сути дела, у меня на руках. Не успели мы с соседкой (доктором) уложить ее в постель, как ее не стало. Медицинский диагноз: «Острое нарушение мозгового кровообращения».
За три дня до этого, в торжественной обстановке ей преподнесли почетную награду за ее общественную деятельность[500]. Она сказала в знак благодарности несколько горячих и искренних слов ученикам школы, в которой ее очень хорошо знали и уважали. Этим и закончилась общественная деятельность.
А теперь о твоем письме. Очень приятно и радостно сознавать, что у тебя всегда есть работа и при том не случайная, а фактически постоянная и соответствующая твоим знаниям и профессии. Приятно, что у тебя появляются и товарищи, приятно и то, что Майя теперь не одна, что может общаться с подружками и т. д.
Да, все это приятно и мне, но над этой приятностью вырастают целые вороха неприятных ощущений. В чем суть этих неприятных ощущений?
Суть в том, что с каждым годом, месяцем и неделей ты все глубже врастаешь в жизнь страны твоего пребывания и удаляешься от родных пенатов. Нет надобности углубляться в анализ этих ощущений, но учитывать это обстоятельство приходится. Я думаю, и тебе не следует забывать об этом. Ведь ты же не навечно пребываешь там. Времена меняются, и ты, безусловно, вернешься к своим корневищам. Не будем говорить о стариках. Твоя мать ушла из жизни, твой отец недолго еще будет коптить небо. Сил у меня осталось совсем немного. Но ведь сын твой здесь, на Родине, в Москве, и у этого сына непременно будут дети, твои внуки и т. д. Не отворачивайся от этих корней.
Что касается Алеши, могу сказать следующее. Алеша не получил хорошего родительского воспитания. Не буду анализировать причин такого важного явления, но корни, из которых вырос этот великан, безусловно хорошие. Он и умен, и, как мне кажется, талантлив, и у него мягкое сердце, он может любить свою жену. Своих родителей, дедушек, бабушек и просто людей. А за всем этим стоит родина. Он готовится к военной службе.
Недавно он вернулся из Сибири, куда ездил вроде как в творческую командировку. Вчера он сообщил мне (по телефону), что у него теперь есть все необходимое для подготовки и защиты вузовского диплома.
Рука, раненная при определенных обстоятельствах, приведена в порядок, он пользуется ею в полную силу.
Отношения с мамой и бабушкой урегулированы. Об этом он доложил мне, об этом сообщили мне его мама и бабушка. Живет он теперь на временно заарендованной квартире вместе со своей женой Ниной Александровной Аксеновой. Они любят друг друга. Между ними большие физические различия. Он великан, а она невысокого роста и тоненькая. Но у нее неплохо поставлены волевые центры. Она не великая красавица, но вполне стройная и симпатичная женщина. Они любят друг друга.
Моя поездка в Москву в известной мере была полезной в деле урегулирования отношений молодых людей со старшим поколением.
Вот адрес Аксеновых Алексея Васильевича и Нины Александровны: Москва, Дмитровское шоссе, д. 44, корпус 2, кв. 46. Телефон 488-60-74. Хозяева квартиры пока не знают почтового индекса.
Всем родным передал Ваши приветствия и добрые пожелания. Желаем Вам с Майей доброго здоровья и счастливой жизни.
Старый Дед
Василий Аксенов в интервью
Пете Вегину от Васи Аксенова. Блиц-интервью 1980-е годы
Знак Зодиака Лев
Любимое время года Осень
Любимый город Джорджтаун
Любимая страна Греция
Любимый политик Керенский
Любимый писатель Толстой
Любимый актер Табаков
Любимая актриса Томпсон
Любимый режиссер Феллини
Любимый певец Торме
Любимая певица Фицджеральд
Любимый художник Малевич
Любимый композитор Вивальди
Любимый вид спорта Баскетбол
Любимый напиток Клико
Любимое блюдо Макароны
Самая красивая женщина Ева
Самый красивый мужчина Адам
Любимый парфюм Поло
Любимая игра Роман
Ваша семья Я член семьи Пушкина, тибетского спаниеля
Вместо мемуаров
Жаль, если кого-то не было с нами. Беседы с Игорем Шевелевым
Помню Василия Павловича Аксенова поднимающимся по лестнице в кинотеатре «Октябрь» — кажется, был 1980 год, какой-то джазовый фестиваль. Уже было известно, что он уезжает. А я не решился подойти, поздороваться, познакомиться.
Прошла целая эпоха, когда в 1998 году, в один из своих приездов в Москву, Василий Аксенов пришел в «Общую газету» на традиционную встречу журналистов. Так произошла наша первая встреча, началось личное знакомство с писателем, из книг которого во многом я был «создан» в молодости. За последующие семь лет наших встреч и интервью много чего произошло. Писались и издавались в России новые романы, на экраны вышел многосерийный телефильм по «Московской саге», прибавивший Аксенову миллионы читателей. Василий Павлович поменял место жительства, переехав из разочаровавшей его Америки, где завершил преподавательский контракт, в Биарриц во Франции. По его словам, там работается не хуже, чем в советских домах творчества 1960–1970 годов. А для общения с друзьями и впечатлений о непрерывном российском карнавале быстротекущей жизни остаются все те же визиты в Москву.
Мы публикуем фрагменты бесед с В.П. Аксеновым с 1998 по 2002 год.
— Самый серьезный поворотный момент в вашей жизни?
— Их было несколько. Главный — не эмиграция в Америку, а приезд, когда мне было шестнадцать лет, в Магадан, к маме. После одиннадцатилетней разлуки это было, по существу, знакомство с ней. Юность совпала с переходом в абсолютно другую жизнь, Магадан по тем временам был самым свободным городом Советского Союза, поскольку многие не боялись говорить то, что хотели. Им нечего было терять — ну отправят опять в зону, да и хрен с ним.
Я вдруг оказался в интеллектуальной среде. Мама была на поселении, и народ из бывших зэков тянулся к ней. Профессора, которые работали вахтерами или мыли полы, приходили каждую неделю, вели интереснейшие разговоры. Для меня это имело колоссальное значение. Мама начала меня знакомить с частью запрещенной литературы, читая на память. В частности, Пастернака, которого не только не печатали — это был сорок восьмой — сорок девятый год, — но и из библиотек изъяли. Тогда, кстати, и Достоевского убирали с полок. Мама мне читала Гумилева, Ахматову, Игоря Северянина, которого она почему-то очень любила. Именно там я получил интеллектуальный заряд.
Самый драматический момент — когда ее забрали второй раз и я остался в шестнадцать лет совершенно один. Было довольно круто. Я носил ей в тюрьму передачи, стоял в очереди. И видел толпы заключенных, идущих из порта в сторону карантинной зоны, — все с номерами на спинах, некоторые в кандалах. А мы жили недалеко, и каждый день я проходил мимо этих людей и невольно спрашивал маму: «Что это, кто это такие, как это может быть?» Но она не торопилась раскрывать мне глаза на происходящее. Однако прямых объяснений и не нужно было, я уже все понял. Я познакомился тогда с Советским Союзом.
— Если бы у человека была возможность изменить что-то в прожитой жизни, что бы вы исправили в первую очередь?
— Вы знаете, я жалею свои юные годы. Я бы иначе их прожил. Слишком много было бессмысленной пьянки, бессмысленных связей с людьми. Я не имею в виду любовные связи. Возникали какие-то нелепые дружбы, совершенно ненужные. Вообще юность под Сталиным вспоминается как полоса полнейшей бессмыслицы. Не знаю, как я из нее выкарабкался.
— И каким бы хотели быть?
— Если бы мне сейчас опять было восемнадцать и был нынешний опыт, я бы стал филологом, был бы гораздо более эрудированным. Обязательно изучил бы несколько языков. В то время иностранные языки вообще казались нелепостью. Потом бы я занимался индивидуальными видами спорта. Не в баскетбол бы играл с командой каких-то шалопаев, а занимался горными лыжами или парусом. Такими вот вещами.
А получилось, как мне кажется, какое-то потерянное время. Хотя на самом деле оно, может, и не было потеряно. Потому что в этой забубенной хаотической жизни возникало такое, я бы сказал, спонтанное сопротивление: «Да катитесь вы все к чертовой матери! Ничего я не боюсь!» И это давало какое-то определенное мужество. Но на самом деле я бы предпочел более цивилизованное время.
— Это было как ощущение пустоты перед прыжком? Потом пришло ваше время, вы оказались на гребне волны?
— Да, начиная с пятьдесят пятого года было очень резкое изменение. Я к этому времени оказался уже в Питере. А начинал студенческие годы в Казани, где меня, к счастью, выгнали из института.
— Тоже медицинского?
— Медицинского. Это опять мне подсказала мать и ее муж, доктор Вальтер. Они сказали: «В литературный тебя не возьмут, в университет тоже не примут, иди-ка в медицинский — в лагере врачи лучше выживают». А выгнали за анкету. Я соврал в анкете, не указал, что родители — заключенные. Там, правда, и не было такого вопроса. Но когда они это узнали, то стали готовить меня на посадку. С пятьдесят первого года я был уже в разработке. Я читал в архиве Татарстана кэгэбешное дело матери и нашел там справку о себе. Они запросили «дело Евгении Гинзбург» из Магаданского отделения в Казанское «в связи с началом разработки дела ее сына, студента первого курса Василия Аксенова».
— Как же вам удалось тогда избежать тюрьмы?
— Сталин сдох, и на этом все прекратилось. Но как запоздалый рикошет, меня изгнали из института. Уже после смерти Сталина. Я довольно быстро восстановился. Поехал в Москву в министерство. Помню, как там какой-то пожилой чиновник посмотрел на меня всепонимающим взглядом и сказал: «Странно, что ваши товарищи предпринимают немного запоздалые действия». Меня восстановили, я вернулся в Казань и пошел на прием к ректору института. Был такой доцент Вясилев. Он говорит: «Вы что тут делаете? Вы же отчислены». Я говорю: «Дело в том, что я сейчас только из министерства. Там считают, что вы какие-то запоздалые действия предпринимаете». Он вдруг как заорет: «Мальчишка! Убирайся вон отсюда! Пошел вон!»
Я ушел. Прекрасно помню, как очень сильно хлопнул дверью. И вдруг меня восстановили. Видимо, он позвонил в Москву, и ему сказали: «Давайте, давайте, восстанавливайте». И я сразу подал заявление о переводе в Ленинградский первый мед. Там моя тетка жила, мамина сестра, и я был под ее присмотром.
— И это как раз совпало с новой жизнью?
— Это совпало с «оттепелью». Ленинград, литературные молодежные клубы, какие-то настроения в воздухе, ощущение Европы. Помню, осенью пятьдесят пятого года я шел по набережной Невы. Была такая высокая вода, начиналось небольшое наводнение. И вдруг я вижу, что на Неве стоит немыслимо огромный авианосец под британским флагом. У нас таких кораблей даже не было. И рядом четыре эсминца. Британская эскадра пришла с визитом доброй воли. После сталинизма это казалось чем-то невероятным. Вижу, гребут английские моряки к набережной. Выходят гулять, девки на берегу визжат. И весь город вдруг покрылся английскими моряками. Сукно, загорелые британские морды, лощеные офицеры у гостиницы «Астория». И вот в этот момент я понял, что времена изменились кардинально. Тогда все, видно, это поняли.
— Первое ощущение будущего романа «Остров Крым»?
— Тут же стали открываться выставки из запасников Эрмитажа — Матисс, Пикассо… Я начал ходить в литстудию, хотя, в общем-то, надо было медициной заниматься. У нас была там такая группа известных сейчас людей — Рейн, Найман, Бобышев. Заправлял Илья Авербах, студент нашего института, будущий кинорежиссер. Бродского не помню, он, видимо, мал еще был. С ним я познакомился году в шестидесятом. И вдруг сразу все выплыло на поверхность: крамольные разговоры, обмен изданиями Серебряного века. Помню Александра Городницкого студентом Горного института в мундире с погонами, такие у них были. Собирались, и он уже что-то пел под гитару. Вот такая питерская «оттепель»: танцы, рок-н-ролл, Невский проспект, где комсомольцы ловят стиляг…
— Тогда другой жизни не надо было?
— Да, было ощущение, что каждый день приносит что-то новое. В Питере вдруг оказалась масса всезнаек. Трудно представить, откуда они брали информацию. Помню, был такой Костя, фанатик джаза. Встречаешь его, он говорит: «Ты знаешь, в Гринвич Вилледж открылся новый клуб «Половинная нота», там такой молодой парень играет Диззи Гиллеспи…» Откуда это можно было узнать?
— Начавшись, все тут же и было придушено?
— Пятьдесят шестой год завершался трагически, удушением Венгрии. А у нас было много студентов-венгров. Мы с ними дружили. И когда было подавление Будапешта, они страшно горевали. И кстати, один с нашего курса оказался участником восстания. Мы с моим другом Мишей Карпенко увидели в кинотеатре хронику — «Подавление контрреволюционного мятежа». Там такой был текст: «Контрреволюция не дремлет. В город съезжаются грузовики с вооруженными бандитами». И вдруг мы видим, что на грузовике стоит наш друг Жига Тот с автоматом. Такая толстая рожа, очень близко проехала. Мы пять раз ходили, чтобы удостовериться, что это он. Это он и был. Потом мы узнали, что он был арестован, довольно долго просидел в тюрьме. Но поскольку он уже был врачом, у него был диплом, то все кончилось достаточно легко.
— Потом Москва, журнал «Юность»?
— Да, я женился, моя первая жена, Кира, была москвич— ка. Но до этого я довольно долго жил в Ленинградском порту. Меня после института распределили в пароходство. Я должен был быть врачом на корабле дальнего плавания. А пока работал карантинным врачом. В конце концов визу заграничную мне так и не дали, несмотря на то, что родители были уже реабилитированы.
— «Апельсины из Марокко» превратились в мечту?
— Да, тогда я распределился на Онежское озеро в больницу облздравотдела. Я там был единственный врач на довольно большом куске территории. Такой странный, сонный поселок. В глуши, в уединении я начал писать свою первую повесть «Коллеги». Года три назад я плыл на теплоходе из Москвы в Петербург. И вдруг в расписании вижу: поселок Вознесение. Тот самый поселок, где я тогда жил. Мы должны его были проходить в четыре часа утра. Я не спал. Белые ночи. Прошло сорок с чем-то лет. Остановки не было. Мы тихо-тихо скользили мимо этого поселка. И вдруг я увидел эту больницу, которая как была тогда, так и стояла. И вообще все дома как были, так и стоят. Абсолютно никаких изменений. Как мираж. Никого нет, тишина, кое-где рыбаки сидят. И я подумал, а ведь мог вообще тут всю жизнь просидеть. Меня такая оторопь взяла…
— Если бы не ошеломляющий успех «Коллег», так бы и остались?
— Нет, не остался бы. Но вообще очень много моих друзей остались там, где они были, на всю жизнь. Многие друзья как жили в Казани, так и живут там. Очень часто — на тех же улицах. Я даже не знаю, что лучше — такая жизнь бродяжная, как у меня, или такое постоянство?
— Не жалеете, что ушли из медицины?
— Нельзя сказать, чтобы я был убежденным доктором по призванию. А тут в пятьдесят девятом году в журнале «Юность» напечатали два моих рассказа, довольно слабые, они прошли незамеченными. В следующем году подоспели «Коллеги», я не ожидал, что будет такой шум. Потом — «Звездный билет». Тут полный скандал. Уже тогда нельзя было без скандала сделать себе имя. Не то чтобы у меня от успеха закружилась башка, но я решил, что мне надо отдавать все время литературе, и медицину забросил.
Властителем дум я себя не чувствовал и даже не понимал, почему столько народу ломились на мои выступления. Однажды в зале сидели полторы тысячи студентов, а этажом выше шумел танцевальный вечер, и я сказал: «Шли бы вы лучше танцевать…» Нет, они сидели и выясняли, как там, в «Звездном билете», была Галя верна герою или нет. Когда снимали в Таллине фильм «Мой младший брат», там Олег Даль, Андрей Миронов и Саша Збруев играли главные роли, и после съемок они сидели в каком-то кафе в той одежде, в которой снимались — джинсики, какие-то курточки. И человек за соседним столиком говорит: «Вы знаете, ребята, тут вышел роман в «Юности», вы очень похожи на его героев». Они говорят: «Так это мы и есть».
Сейчас, конечно, все изменилось. Если и осталась некоторая «культовость», то она не выходит за пределы межчеловеческого общения. Я был года три назад возле Керчи, там такой пустынный залив, я шел по кромке моря. Мне навстречу — молодой человек с собакой. Я присмотрелся и ахнул: мне навстречу бежал мой кокер-спаниель. «Боже, — говорю, — это копия моей собаки!» — «Ушика?» — спрашивает тот. Человек знал даже про мою собаку… Таких примеров довольно много. В прошлом году был в Астрахани — жуткое место возле рынка, полуазиатская толпа, и вдруг из троллейбуса выскочил человек и несется ко мне сквозь толпу: «Я не верю своим глазам — это вы?» Оказался читатель. Профессор местного пединститута.
Я не жалуюсь на невнимание читателя. И молодых людей встречаю, которые читают и увлекаются моими вещами. Другое дело, что в нашей литературной жизни сложилась враждебная среда. Враждебная ко всем вокруг, и в первую очередь к тем, кто либо своим образом жизни раздражает, либо местом проживания. Я думаю, что становлюсь некоторой жертвой этой автоматической вражды. Я не член тусовки и не могу впрямую защитить свои книги. Хотя сравнивая с прежним, грех жаловаться. Все, что я пишу, издается и переиздается. Помню, за три года до моего отъезда ко мне пришли два товарища и сказали, что у них есть рукопись моего романа «Ожог» и чтобы я не вздумал его печатать за границей. Я говорю: «А где вы его взяли-то, этот роман?» Они говорят: «Это наша работа». И добавили фразу, изумившую меня благородством: «Только не подозревайте своих товарищей».
Давление было ужасное и со стороны Союза писателей, и со стороны Комитета. Просто ходили за мной, устанавливали подслушивающие устройства. Мы приезжали на дачу, а дворничиха сообщала: «Тут заходили три молодых человека, взяли лестницу, залезли на ваш чердак и что-то там делали». И потом они меня еще и предупреждали: «Знаете, вам надо быть очень, очень осторожным. Особенно за рулем». Так что в конце концов меня «уехали» с одновременным предложением отправить совсем в другую сторону.
В Америке я погрузился в университетскую жизнь. Вся моя «политическая деятельность» заключалась в том, что раз в неделю я приходил на «Голос Америки» и записывал текст. Иногда подписывал «письма».
Что до литературы, то мне не нравится, когда возникают литературные лжепророки, которые загодя формулируют теории, а потом начинают подверстывать к ним все. Даже романы пишут, чтобы оправдать теории! Для меня в литературе самое важное — спонтанность, не подгонять книгу под идеологическую или литературоведческую схему, а делать так, чтобы роман сам рос, сам командовал писателем. Я еще за три страницы до конца не знал, чем кончится «Новый сладостный стиль», пока вдруг в голову не пришла идея «археологического трупа». Труп, покрытый медом из расколовшейся амфоры и так окаменевший, и в нем герой узнает себя.
У меня есть роман «Скажи изюм». Когда он вышел, здесь многие обиделись, что я изобразил в нем «Метрополь» и всех поименно оскорбил. На самом деле там нет ни Ерофеева, ни Попова, ни Липкина. Там есть продукты беллетристического соединения многих характеров. И тот же герой «Нового сладостного стиля» лично ко мне имеет небольшое отношение. Может быть, гораздо большее к Высоцкому, и одновременно к Тарковскому, и одновременно к Юрию Петровичу Любимову. И так во всех книгах. Я бы хотел считать себя беллетристом. Не больше, но и не меньше.
Мне кажется, что нигде в мире сегодня нет культовых писателей в прежнем смысле. Сэлинджер может делать себя культовым писателем довольно простым приемом — не писать ничего. Люди ходят, показывают друг другу: «Вот имение Сэлинджера», пытаются проникнуть внутрь, на них летят жуткие псы, которых спускает сам писатель. Вот так образуется культ. Или Воннегут заявляет, что больше не будет писать. Как будто боксер, который говорит, что уходит с ринга. А так в Америке все те же, кого мы знаем: Стайрон, Апдайк, Филипп Рот… Недавно натолкнулся в статье молодого критика на слова: «Апдайк и Рот — эти ломовые лошади американской литературы…» И там идет своя борьба поколений. Но не с такой звериной серьезностью, как у нас.
— Новая книга «Кесарево свечение», которую вы презентовали в нынешний свой приезд, весьма нетрадиционна по форме. Это роман, который включает в себя и прозу, и пьесы, и стихи, объединенные единым сюжетом. Это что, новая литература XXI века?
— Для меня это новаторская и в то же время программная вещь. Она отсекает закончившийся век и определенный период моей творческой жизни, за которым я перехожу в иную степень самовыражения. Возникал этот роман довольно спонтанно. Сначала были написаны три пьесы с одним героем. Потом я увидел, что могу их использовать в своем большом романе как своего рода паузы. Как глубокий выдох и вдох. Герои появляются уже в качестве сценических персонажей.
— То есть, как я понял, пьесы были написаны раньше прозы?
— Да. Сначала я думал, что это будет роман о молодом герое. Грубо говоря, о «новом русском» девяностых годов, хотя он и бывший филолог, бывший правозащитник, ставший в наши дни авантюристом. Но потом текст стал буксовать, и я понял, что мне нужен какой-то противовес этому герою. Так возник старый сочинитель, который очень сильно потянул одеяло на себя и сам превратился в главного героя. А молодой просто оказался его литературным детищем.
— Для вас этот роман — принципиально новая страница в вашем творчестве. А нет ощущений изменения самой литературы в наступившем веке?
— Появляются признаки очень серьезных изменений. Не исключено, что сам жанр романа может исчезнуть или стать другим. Во всем мире интерес к роману очень сильно падает. Возможно, возникнут какие-то иные виды самовыражения. А о романе будут вспоминать, как мы вспоминаем сейчас о Гомере или русских былинах.
— Не читают романы, а что читают — короткие рассказы, детективы?
— Нет, все читают, но сочинительство само по себе переживает кризис. При этом в тех же Штатах открываются все новые и новые книжные магазины. Очень часто они работают до полуночи, в них какие-то кафе, оркестры выступают. То есть книжные магазины становятся интеллектуальным центром целых районов. Но покупают чаще всего книги образовательные — по истории, антропологии, психоанализу, мемуары. А вот литература самовыражения занимает все меньше и меньше места. Я просто вижу, как полки в книжных магазинах сокращаются — что в Париже, что в Вашингтоне. Раньше целая стена была занята классикой и современной литературой. А сейчас приходишь — осталось три шкафчика. А по всем отраслям знаний — невероятное количество книг, альбомов. И как ни странно, не уменьшается спрос на поэтические книги. Рядом с нами в Вашингтоне огромный магазин, так там даже открыли еще новые полки по поэзии.
— Поразительно, уж поэзия, казалось бы, должна умереть первой!
— А поэзия — вечный жанр. Если роману всего триста пятьдесят лет, то поэзии по меньшей мере в десять раз больше. Как человек начал бормотать во время камлания в пещере, так поэзия и возникла. И будет, пока существует человеческий род. А вот сочинительство, романная форма — это порождение капиталистического рынка. Бродячие сюжеты, движение героев. Роман — это чистый капитализм, как говорил Бахтин о Достоевском. А это все колоссально сейчас меняется. Это не значит, что исчезнет потребность байронического самовыражения. В романе обязательно должен быть байронит, с которым отождествляет себя читатель. Может, это останется, но примет совершенно другие, более индивидуальные формы. Может, это будет своего рода гипертекст: какой-то будущий властитель дум будет задавать тему и основные мотивы, а каждый, кто захочет, будет сам играть внутри этой темы.
— Ну, пока что игра — прерогатива самого писателя. Ощущаете кураж во время писания романа?
— Вы знаете, да. Вообще писание большого романа вызывает совершенно особое состояние. Я уже несколько раз испытывал что-то подобное. Дома меня в такие периоды называют «Вася Лунатиков». Я действительно в это время немножко витаю. В этом состоянии, когда глубоко входишь в роман, я не совсем понимаю, откуда что возникает и почему именно так связывается. Причем явно связывается по законам не поверхностной, а внутренней, мало объяснимой логики создания метафор. В этом состоянии у меня даже появляется желание рифмовать и ритмизировать какие-то куски прозы. Что я и делаю. Например, одна из глав «Кесарева свечения» — это, по сути, цикл стихов.
— То есть вы себе в этот момент не критик и не судья?
— Я себе не судья и даже не понимаю, почему мне вдруг хочется писать стихи, которые в обычной жизни я никогда не сочиняю. Года к суровой рифме клонят.
— И дороги назад к реализму «Коллег» уже нет?
— «Коллеги» — это такой примитив, о котором я даже говорить не могу. Своей вершины я достиг в «Кесаревом свечении». Именно в нем мое видение романа. Это новая форма и «новый сладостный стиль», незавершенность и гармония в одно и то же время.
— То есть роман идет вперед вместе со временем?
— Время на самом деле идет назад. Каждый миг тут же становится прошлым. Мы идем не в будущее, а в прошлое. Например, когда слушаешь минималистскую музыку, в ней больше всего барокко.
— Еще есть культурные открытия?
— Я недавно нашел очень дешевое издание Французской академии: переписка русских вельмож по поводу Вольтера. Все открывается совершенно по-новому. Как все эти Шуваловы стремились отвратить Екатерину от вольтеровских штучек. Они очень боялись, что государыня отменит крепостное право. Сумароков говорил ей: «Где же вы тогда найдете слуг?» И отсюда возникли утопические романы того времени, направленные на одного читателя. На государыню. Там описывались счастливые общества неких славов из страны Светонии, окруженной западными Скотиниями и Игноранцами. Все рабы и хозяева счастливы, руководимые мудрейшей женщиной. Так они старались ее отвлечь от энциклопедистов. А той очень импонировало, что ее считали одной из их числа, — Дидро привезли в Петербург, Вольтер ею восхищался. Екатерина и на самом деле была достойна восхищения.
— Это еще одна тема вашего романа?
— Да, я хочу там коснуться женской власти. Это то, что нам сейчас нужно: возрождение женской власти в России. Именно XVIII век, три четверти которого правили женщины, внедрил у нас основы либерального общества. При крепостном праве была предъявлена антитеза диким мужланам этого государства, которые иначе просто вырезали бы друг друга, погрузив Россию в кошмар. Анна Иоанновна дала волю дворянам. Прекрасная Елизавета вообще никого не казнила. Екатерина отменила пытки, запретила бить слуг. И масса других вещей возникла в государстве. А у нас до сих пор в правительстве заседает одна Валентина Ивановна Матвиенко. Надо хотя бы Пугачеву вводить в правительство. Есть в ней что-то екатерининское.
— Василий Павлович, говорят, что вы уезжаете из Америки?
— Да, постепенно. У меня в университете остались два весенних семестра. А так купили небольшой домик в Биаррице во Франции, на море. Это на Бискайском заливе. Там, кстати, Набоков провел свое золотое детство. Там Стравинский долго жил, Чехов. Вообще много было русских. В этом январе я был там две недели. В маленьком русском ресторане мне говорят: «Заходите к нам на старый Новый год, будут одни русские». Я зашел выпить шампанского. Ресторанчик набит битком, гул голосов — и ни одного русского слова. Это третье поколение русских, они языка не помнят, но знают, что 13 января надо встречаться. Поскольку по-французски я не говорю, то тем более ничто не будет отвлекать от писательства. Разве что траву буду подстригать.
— Вы недавно написали, что кончилось время романа. Для романиста не слишком оптимистичное заявление.
— Это была лекция, которую я прочитал по-английски в университете Майами штата Огайо. Романы останутся, но как рыночный продукт, покупаемый в супермаркете вместе со стейком. Умирает роман самовыражения и самоиронии, который достиг своих вершин в XIX и в первой половине XX века. Внедряться в анализ личности героя и его автора у нынешних читателей нет ни времени, ни желания. Возникла железная классификация: любовный роман, детективный, готический, женский, авантюрный и так далее.
— Что же будете делать?
— Искать своих читателей. Не бояться сужения их круга. Ни в коем случае не писать, подлаживаясь под рыночные вкусы. Писать так, как ты хочешь. Мне кажется, что и компьютерная технология может помочь в создании какого-то гипертекста, вокруг которого может возникнуть клуб активных читателей-соавторов, которые, имея основной текст, будут импровизировать наподобие джазовых музыкантов.
— То есть это изменение формы романа, а не его умирание?
— Это оптимистический сценарий. А есть простая точка зрения: никому вы не нужны. Сидите и сами себя…
— Перелистываете?
— Я хотел сказать: дрочите. Всюду отчетливые черты отталкивания от жанра самовыражения. Я читал интервью Антуана Галлимара, серьезного французского издателя, которому славу создал новый роман — Роб-Грийе, Бютор, Натали Саррот, Клод Симон и другие. Так вот он сказал прямо: «Сейчас бы мы их не стали печатать».
— В Америке та же тенденция?
— Если автор начинает умничать, если видят гротеск — возникает активное неприятие. Когда у меня в Америке вышел «Новый сладостный стиль», было много рецензий. Как восторженных, так и враждебных. Очень влиятельный журнал «Нью рипаблик» напечатал большую статью: «Остановите карнавал. И Аксенова в особенности!» И остановили. Мой последний и лучший роман «Кесарево свечение» мне там завернули. Сказали, что он такой же, как «Новый сладостный стиль», а тот продавался плохо, всего семь тысяч.
— Ну и хорошо, вы же русский писатель, а не американский!
— Да, в России этот жанр еще популярен. Я только что прочитал два романа — Евгения Попова и Александра Кабакова. Типичные романы самовыражения. У них есть свои читатели. Моего «Кесарева свечения» продано тридцать тысяч экземпляров, и продажа идет. Значит, есть читатели. Значит, надо собирать свои манатки из Америки, как в восьмидесятом году из СССР. Я ведь, по сути дела, уехал не из-за «Метрополя», а спасая два романа — «Ожог» и «Остров Крым».
— То есть сегодня это не только перемена места жительства?
— Знаете, я работал в американском университете двадцать один год. Мне кажется, я рассчитался за гостеприимство. Я чувствовал себя в своей тарелке, мне нравилось работать со студентами. И там как-то знали, что я не только профессор, но и романист. И вдруг это общество указывает мне мое место: ты — профессор в отставке. А я не профессор в отставке. То есть я профессор в отставке, но, кроме этого, я еще что-то другое.
— До профессорства были Василием Аксеновым и после профессорства им останетесь.
— Да, Аксеновым. Так что на покой уходить не собираюсь. А от университета себя освобождаю. И возраст уже подошел.
— То, что прежняя жизнь закончилась, повлияет на творчество?
— Я надеюсь, что в Биаррице найду все, что мне нужно: сад, дом, море, отсутствие болтовни, компьютер. А захочу поболтать — на самолет и в Москву.
— Говорят, вы задумали новый роман о Франции XVIII века?
— Да, сначала я собирал материал, чтобы как можно ближе подойти к истории. Я собираюсь там говорить о многих серьезных вещах. А потом понял, что сугубый реализм у меня не получится. Роман опять-таки будет гротескным, иногда бурлескным. В центре его цикл полемик о принципах Просвещения. Но действуют там чудаки, русские агенты сыскной службы, дипломаты с понтом, которых натренировали на Францию.
— Не собираетесь браться за мемуары, Василий Павлович?
— Нет, у меня все уходит в беллетристику. На самом деле мы уже столько трепались о том, что было, что это уже неинтересно. Я люблю писать, когда не знаешь, чем дело кончится.
1998–2004
«Меня называют Васей Лунатиковым»[501]. Освобождение от зависимости
Бег, джоггинг[502] сыграл в моей жизни колоссальную роль. Когда на подходе было тридцать семь лет, мое состояние, честно говоря, похрамывало и в физическом плане, и в душевном. Тогда мы и с друзьями говорили, что тридцать семь — действительно паршивый возраст, гораздо хуже, чем сорок. Сорок — уже классный возраст, настоящий, мужской. Пока же как-то очень зыбко я себя чувствовал. И связано это было со многими обстоятельствами, но прежде всего с алкоголем. Тогда я и задумался: что мне вообще делать и, в первую очередь, как освободиться от зависимости? И если не пить, то как вообще-то жить? У меня были моменты, когда я даже не представлял себе, как можно жить без алкоголя и делать какие-то вещи, к которым уже привык, ну, скажем, ухаживать за женщинами. С градусами — легче! Воздушнее! Это был не творческий кризис. Творчество как раз в этих обстоятельствах не страдало. Я тогда начал писать «Ожог»: и открывалась метафизика, и открывалось подсознание, и развивалось презрение к тогдашнему государству. Я бы даже сказал, что меня не сам допинг стимулировал, а состояние после него, состояние очень тяжелое и неприятное, но в то же время побуждающее как-то высказаться. Вот что меня подвигало к творчеству, и за это я цеплялся и цеплялся. А под самим допингом вообще ничего не получалось, только иногда какой-то момент восторга промелькнет — и улетучится. Это и спасло.
Я был в Литве на Куршской косе и случайно наткнулся на книжку двух австралийских бегунов, как ни странно, напечатанную в Советском Союзе большим тиражом. Кажется, книга называлась «Бег для жизни». Прочитал. И решил попробовать бег. Возле нашего дома был подъем на большую дюну, на вершине которой стоял маяк, он все время вращался в закатном небе. Вокруг — пустынно, просторно. К тому же — светлые летние ночи. И я решил побежать сначала к этому маяку. Потом почувствовал, что мне это коротко. Я стал бегать дальше — за маяк. Сначала полчаса, потом по часу и так втянулся, что бег для меня стал своеобразным наркотиком, но в то же время он меня укреплял — во всем, не только телесно, но и творчески. В то лето я преодолел чуть ли не марафонскую дистанцию: бегал в день по два часа и больше. Бегал, бегал и никак не мог остановиться. Да, да, да…
И бегу себе, и бегу. И до сих пор, где бы я ни находился, бегу. Куда бы ни приехал. И приятно, и полезно. Приезжаешь в какой-то незнакомый город и в первый же день утром — на улицу и бежать, и сразу больше узнаешь о месте, где ты находишься, что тут, что там, а что с другой стороны и еще дальше. И бежишь, и бежишь. Иногда забежишь в курьезную ситуацию. Как в Амстердаме, например. Там был момент какого-то невероятного кризиса с койкоместами в гостинице, как у нас когда-то в Крыму. Мы с женой попали в жуткую очередь у главного туристического центра. Ждали долго, несколько часов, наконец, нам выдали талоны, и мы поехали по указанному адресу. Поздно вечером добрались до гостиницы и сразу завалились спать. Утром я встал, кроссовки надел, шорты, вышел на улицу — бежать… Что такое? Все смотрят на меня и смеются. Женщины какие-то странные — смеются, длинные местные голландцы смеются, смуглые индонезийцы смеются… Еще и пальцами в мою сторону тычут… Да что не так? Смотрю: майка на мне, шорты на мне — вроде все в порядке. Оглядываюсь и вдруг понимаю, что я бегу по утренней улице красных фонарей! И в некоторых витринах все еще сидят труженицы! И все хохочут, и они тоже, потому что никто не занимается джоггингом в таком месте!
Я бегаю, потому что хочу бегать. Я без этого жить не могу. Что бы ни происходило на свете — я бегу. Это часть моей жизни, часть отвоеванного для себя времени. И в этом проявляется мой эгоизм. Как ни странно, во время бега приходят какие-то «зернистые мысли» по поводу вещи, над которой работаю. Можно сказать — еще и за мыслями бегаю. В какой-то период увлечения бегом возникает желание всем делать добро, ты начинаешь всех агитировать за бег, чтобы все — как ты, чтобы всем было так же хорошо. Был в нашей компании Вова Бабичев, жил он в Лос-Анджелесе. Абсолютный фанатик бега. Он не мог остановиться, он участвовал в настоящих марафонах. Он автор известного выражения: «Лучше пить, курить и бегать, чем не пить, не курить и не бегать».
В Биаррице после отлива, когда обнажается пляж, он становится шириной метров триста, и такой плотный песок… Босиком по нему бежать — большего наслаждения я вообще не знаю. Да, да, да…
Чем больше я погружаюсь в какой-то свой роман, тем дальше от меня уходит жизнь, что вокруг. День делится на части: «пишу» и «не пишу». Бывает, работаю до обеда, когда совсем вхожу в писание, встаю очень рано. Потому что уже с утра начинаю беспокоиться о героях, как они там, и тороплюсь «к ним». А потом уже как получится, пишу в разное время суток не менее трех-четырех часов и по ночам, если душа требует. Изолируюсь, но не до крайности: все-таки кто-то дозванивается, это не полная инкоммуникада. Иногда я сам встаю, музыку включаю. Люблю современных минималистов, из барокко — Перселла, современный кантри-мьюзик и джаз. Это не значит, что я всегда слышу музыку, она просто создает какой-то фон.
Я никогда не заставлял себя писать. Потому что жутко люб-лю это занятие. Я — графоман по психологической структуре. На меня сам процесс письма действует гипнотически. Когда увлекаешься, то уж совсем не думаешь: устал, не устал… Мои домашние привыкли, что я могу настолько далеко «улетать» (тут бы к месту сказать «убегать»), что ничего вокруг не вижу. «Ну вот, ходит, как лунатик», — говорят они. И называют меня Васей Лунатиковым.
Этот Лунатиков денег больших никогда не зарабатывал. В Америке я все время преподавал в университете. Нужно было жить и кормиться. Когда я уходил из университета, пришло время подумать, где устроить новую базу. Случайно попал в Биарриц и очень рад, что именно там зацепился. Домишко небольшой, но с садом, на склоне горы. Виден океан, все время шумит… Да, да, да…
Наверное, как бегун — я человек длинной дистанции. Женат во второй раз, но уже большой срок. Наши отношения начинались с очень сильного незабываемого романа, мы вместе тридцать лет. И, разумеется, хорошо знаем друг друга. За время так называемого творческого пути моя семейная жизнь никак не изменилась. Мои домашние не особенно считаются с моей известностью. Уважения нет! Как в «Затоваренной бочкотаре» мой персонаж старик Моченкин, дед Иван, все жаловался, что уважения нет. Он писал все время доносы и все время жаловался, что не уважают его родственники. Пишет, пишет человек, старается, а не уважают.
Как только последняя страница дописана, начинается долгий период опущенности вниз. Я переживаю определенную депрессию: не то чтобы свет не мил, но как-то все теряет некоторый интерес, и думаешь, что никогда уже больше не будешь писать, что хватит… Когда высказался, и высказался до конца (каждый раз думаешь, что до конца), и полностью выполнил свою задачу, так что же делать теперь? Следующая-то задача еще не возникла, и возникнет ли? И этот период пустоты очень тяжелый. Потом чего-то ходишь, ходишь, бегаешь, бегаешь, и что-то опять появляется, из глубины выплывает, что-то задуманное много лет назад, что-то забытое.
Я не подвержен самокритике. И, когда работаю, говорю себе: «Старик, ты хорошо пишешь». Или: «Я-то знаю, как ты пишешь…»
Возраст мне не мешает, я его не чувствую, я чувствую только звучание цифры, и это давит. Причем не столько меня, сколько окружающих. Как-то стали ко мне иначе относиться… За эти годы в моем спортивном репертуаре прибыло: йога и баскетбол, в который играю в одиночестве. Из старых привычек: любовь к шумным компаниям, к сборищам в кафе, чтобы музыка лабала и все вокруг базлали. Да, да, да…
Не мало, не мало раз меня называли эгоистом, эгоцентристом. И дома, и вне дома. Ну как писатель может быть не эгоистом? Он же работает в одиночку! Даже в Советском Союзе — это главный источник конфликта между коммунистами и писателем. Коммунисты хотят всех согнать в фаланги, чтобы вместе трудились и вместе отдыхали, а писатель — эгоист, индивидуалист, одиночка. И он, даже преданный партии писатель, он — один всегда. У него развивается эгоистическое чувство мегаломании, он даже, как соцреалист какой-нибудь — Фадеев, например, мнит себя каким-то гением письма и не знаю, чего там еще. Восхищается написанной строчкой: «Позвольте мне пожать вам крепко руку, земным поклоном поклониться вам…»; «Ну кто же может так еще написать о Сталине?» — с восторгом думает о себе. Это главный источник конфликта.
В принципе каждый человек — эгоист. Всякая тварь — летящая, или ползущая, или бегущая, или плавающая — эгоист. Она, любая козявка, ничего даже, может быть, и не соображая, старается сделать, чтобы ей было лучше. И только человек и близкое к человеку животное (собаки, например) способны жить для других. Но не перечеркнув собственную жизнь! Это называется по-другому: испытывать чувства сострадания и привязанности. Перечеркнуть себя полностью невозможно. Настоящее сострадание — это редкое чувство, редкая акция, и целиком сострадать может только святой: Августин, наверное, или Франциск. Бывает, не понимая истинных причин, мы вдруг испытываем жалость, сострадание. Вот мне дико жаль бродячих собак. И не знаю, что делать, когда бедный пес стоит и «извиняется» за свое существование. Стоит бедный, мокрый, грязный… Ну как помочь? Был бы у меня под Москвой дом, увел бы ну хоть десяток таких собак, вымыл бы всех и накормил. Кстати, к Екатерине все время ластились животные… Она их жалела. Они чувствовали. Испытывать сострадание — это дар Божий. И эгоист способен сострадать. Все остальное привязано к биологии. И все человеческие подвиги, когда ради другого человека — больной матери или мужа — бросается собственная карьера, и это из сострадания. И в этом, как ни парадоксально, тоже есть проявления эгоизма. Жертвующий гордится собой, что он — смог, что он — лучше, что он — отдал. Для многих людей самопожертвование — источник удовлетворения. И все-таки в таком случае — это не совсем чистое сострадание. Да, да, да…
Труднее всего уживаюсь с занудами. Глупость прощаю, она бывает такой милой! Занудство милым не бывает. Занудство — это отрицание карнавала, жизни как карнавала, не обязательно все время беситься в карнавальном смысле, но хотя бы ощущать жизнь как какой-то выпавший тебе разноцветный карнавал — со всеми его подъемами и падениями, воспарениями и упадками… Есть же люди, которые ничего подобного не испытывают, живут монотонно, что-то такое не то и с собой, и с окружающими делают…
Мне очень дороги спонтанные моменты жизни, заводные, джазовые. Жить, как бы танцуя свинг. Даже если твердить себе каждый день: «Ни дня без строчки», — в этом тоже будет доля занудства. Хоть это сказал Стендаль. И у того же Стендаля есть прекрасное изречение: «Несчастлив тот, кто не жил перед революцией». Мы с вами счастливые люди! Мы жили перед падением коммунизма, мы испытали невероятные переживания!
К сожалению, не все, чего жаждал, я успел сделать. Не пошел туда, куда мог… Вот, скажем, не стал яхтсменом. Так хотелось ходить на яхте… Кроме английского, конечно, хотелось бы держать еще пять языков в запасе. Очень жаль. В чем повезло, так это в работе — выбрал именно то, что дает мне колоссальное удовлетворение. Я только хочу, чтобы каждая моя новая книга была еще лучше предыдущей. В писательском мире есть люди, которые не понимают: что вообще делают непишущие? Им это кажется очень странным. Да, да, да…
О байронитах, лисах и земле[503]. Беседовал Максим Масальцев
Роман Василия Аксенова «Редкие земли» попал в раздел бестселлеров. Название простое, но надежное. Читатель не соскучится, судьба молодых российских олигархов, сделавших состояние на полезных ископаемых, — это с первых полос газет. Книга притягивает фирменным аксеновским бредом очевидца: как ни фантасмагоричны описываемые события, найдется дюжина человек, которые поклянутся, что это истинная правда. Как и то, что русский писатель (это и есть В. Аксенов), поселившийся на юго-западе Франции в Биаррице, в записках и воспоминаниях выстраивает свою метафору существования отдельных людей на этой Земле.
— Как вы поселились в Биаррице?
— В 1999 году меня пригласили почетным гостем в Тулузу на забавный арт-фестиваль. В то время был популярен соц-арт. Организаторы опустили в реку Гарон гигантские фотокопии «Рабочего и колхозницы», фотографии Сталина с Мамлакат[504] и все в этом духе. Изображения простирались под мостами, по руслу реки, на очень большой глубине, и колебания воды создавали интересное впечатление. Когда фестиваль закончился, у меня появилось свободное время, и я захотел съездить к морю. В Ницце и прочих местах я бывал и повернул в сторону Биаррица. В начале прошлого века Биарриц был очень модным местом у русской аристократии. По весне они заезжали сюда целыми поездами вместе со слугами.
В конце 2000 года я уже планировал закончить работу в университете и перебраться в Европу. Темной ночью 1 января 2001 года я снова оказался в Биаррице и решил посмотреть рекламки по недвижимости — вдруг найду какой-нибудь домик для себя. В самом центре незнакомого города, сделав всего несколько шагов, я увидел окно и в нем фотографию дома. И вот это оказался мой домик с целым садом. Мне он подошел.
— Я был в Биаррице весной 97-го. Как раз на Пасху. По-моему, в Биаррице на 400 километров есть единственный русский храм.
— Да, храм Александра Невского.
— Через дорогу, прямо напротив, «Палас-отель», чуть ниже выход на городской пляж к зданию казино и променаду. Открыв первую главу «Редких земель», я испытал практически стереоскопические ощущения (история романа начинается в Биаррице). Все как 10 лет назад: пасхальная служба в игрушечном храме, сильный ветер с Атлантики, невероятной глубины отлив — в темноте только океан слышно, мокрый песок так черен, что идешь словно по пустоте.
— Приход, к сожалению, развалился, и вокруг храма жуткие дрязги. Распадаются остатки старого культа Биаррица.
— Жаль. А эти красивые люди с обожженными солнцем испанскими лицами, но говорящие по-украински, еще появляются?
— Это украинцы из Испании. Они-то и перестали ходить. До этого момента настоятелем был китаец — отец Георгий. У нас с ним были очень хорошие отношения. Он ратовал за воссоединение с Московской патриархией, так его турнули… Сейчас для тех, кто остался, приезжает служить священник из Парижа.
— Почему вас перестали печатать в Америке?
— В течение всех лет, пока я жил в Америке, меня печатало одно из крупнейших издательств, а может быть, и самое крупное, «Рэндом Хауз». Они издавали переводы моих книг. «Московская сага» ведь впервые вышла в Америке. Была ли от них прибыль? Как ни странно, мой самый авангардный роман «Ожог» стал наиболее прибыльным. Но они печатали меня не для прибыли: меня и похожих на меня публиковали для поддержания своего престижа, как необходимость. Но вот очень странная ситуация, типичная для XXI века. Во-первых, громадное издательство поглотил немецкий издательский дом, фактически откусил голову… Известно же, что динозавры без головы ходили. Мой издатель, конечно, сказал мне: «Ты не бойся…». Но немцы заслали своего агента. Потом его назначили, и он стал увольнять и набирать других людей. Разогнав редакцию, взялся за авторов, которые не приносят больших барышей, в том числе и меня. На прощальном вечере мне сказали, что я спасал свои романы из Советского Союза… А я им ответил, что пришло время спасать их из Америки.
— Ваши романы в России наверняка должны приносить прибыль.
— Да, хотя и не такую, как в Америке. Это для меня совершенно не главная цель, я ее не преследую. Если есть удача, то это хорошо. Но сам я за удачей не гонюсь. Я пишу по-русски, и здесь есть небольшое число людей, которые могут оценить язык книги, не только историю, рассказанную в книге, но и то, как она рассказана.
— Для русского писателя это чуть ли не самое важное…
— Конечно. Где писать — это все равно. Говорят, что писатель может работать вдали от родины…
— Пройдя через «Редкие земли», трудно пропустить одну из главных проблем мыслящего человека — отношения с властью. Доверие к власти — удел бесстрашных людей?
— От власти, так или иначе, все зависят. На то она и власть. Но требования, которые предъявляет власть к людям, должны иметь понятные законные формы, например в форме налога.
Ведь мы видели, что произошло с «ЮКОСом». Они стали первыми, кто стал нормально платить, последние годы своего существования вообще не выдавали никакого черного нала и стремились к прозрачности… В то время, да и сейчас больше половины страны ведет двойную игру. Трудно сказать, кто сколько зарабатывает денег и каким образом. Эта тема почти не существует — выписывают одну сумму, а платят другую…
Помните, в романе кто-то из асимметричных лиц спрашивает: «Как же можно верить нам? Вы должны верить Родине…» А ему отвечают: «Так как же можно этой суке верить?» Пока комсомольцы препирались, Ашка (героиня романа «Редкие земли») встала и спросила: «Где расписаться?» Она за многих мужчин приняла решение. Это были бесстрашные люди. Я слышал, что за время этого Клондайка не меньше 30 тысяч бизнесменов погибли. Это невероятно, столько людей решили рисковать, не имея никакой защиты государства.
И эти ребята, которых сейчас осудили на второй срок… Это такая сталинщина, такая хрущевщина… Хрущев, который за жалкие доллары приказал пересудить и расстрелять… Рокотов и Файбышенко — вот мученики этого уничтоженного капитализма. Фактически шла борьба не на жизнь, а на смерть… Вот книга Юлия Дубова «Большая пайка», она написана неровно, но в ней очень точно отражены процессы, которые необходимо знать и помнить.
— Может, должно произойти что-то ужасное, чтобы какое-то количество людей перестали гоняться друг за другом с палками?
— Прежде всего нам надо вырабатывать толерантность, должна приветствоваться либеральная идеология. Администрация Путина хотя и наваляла ерунды, но она еще какой-то стабилизирующий фактор. Что из этого получится, трудно сказать. Но не дай бог произойдет какой-нибудь путч…
— Что чем управляет: идеи идеалами или наоборот?
— Это, по-моему, совсем разные вещи. Идеал — это не-оформленное что-то, это вроде вдохновения… Идея же всегда выражается в политике. Это разные вещи.
— Выходит, что искусство ничего не может дать политике?
— Практически оно должно быть в стороне от политики. Искусство и политика — это строительный материал. Идеал — это то, что толкает людей к творчеству. Если влезаешь в политику, толка большого не будет. Вот так же, как Пастернак, который был в принципе рожденный гений. Он в идеалах весь витал, а его все время подталкивали стать ведущим поэтом социалистической державы и т. д. Я как раз сейчас читаю замечательную книгу Быкова (серия ЖЗЛ «Пастернак»), там есть упоминание о знаменитом телефонном разговоре с дядей Джо о Мандельштаме. И Пастернак все время пытался ему объяснить — он не из вашего огорода. Вам нужна формулировка, а у меня ее нет и не может быть по определению. При всем уважении он не может сделать выбор… А Сталин сказал, что хотел поговорить о жизни и смерти и в конце концов брякнул трубкой.
— В вашем романе многое звучит не впрямую, и тем не менее достаточно публицистично, что для вас особенно важно.
— Конечно. Это тема возвращения культа большевизма…
— Исторически поддержание любого культа прибавляет стране стабильности.
— Жажда стабильности — это понятно.
— Правда, возникает большой недобор в понимании, из чего на самом деле состояла эта стабильность. Я имею в виду молодое поколение.
— Но у нас и так достаточно инертный народ, с 88–89-го годов им открывают тайны этого страшного государства. Всех этих дыр в затылках всех этих страшных захоронений, пыток и всего прочего. И ни черта не действует! Что, ничего этого не было, стало быть? Мы опять собираемся НАТО сопротивляться?
— Ракеты, кажется, уже никого не пугают. Нефть, газ, энергетическая безопасность — штука посерьезнее.
— Европейский капитализм гибкий, вязкий. Его невозможно сразу уничтожить, он из всего выкарабкивается. Из Первой мировой войны — вылез, из революции зверской — вылез, из Второй мировой войны — вылез, хитро используя Сталина со всей его хеврой, правда, последним удалось захватить Восточную Европу. Западный капитал имеет очень сильную структуру. И Александр Исаевич Солженицын, когда он в Гарвардском университете кричал: «Вас разрушит монолит этого государства, вы все тут разнежились… Вот как сейчас ударят, и от вас ничего не останется», — пугал… Но это оказалась чепухой, и все получилось с точностью до наоборот — развалился этот монолит. А эти вроде бы и несильные, какие-то либеральные.
Я приехал в Штаты в эмиграцию в 80-м году. Коммунизм идет победной поступью по всей планете. В Африке — Ангола, Мозамбик — все становятся коммунистами. Все погибает. Вьетнам захвачен коммунистами и т. д. И никаких надежд нет. И вот я включаю телевизор в один из первых дней и вижу репортаж из корпуса морской пехоты, в кадре такие мощные, накачанные ребята. И ребята говорят, мол, вы не волнуйтесь, мы остановим коммунизм… Так и получилось. Наш посол Трояновский все твердил: «Вы поймите, господа, коммунизм необратим…» А Джин Киркпатрик, дама, которая представляла США, отвечала: «Александр, ну почему необратим? На острове Гренада это сделал один батальон морской пехоты». Так что не надо переоценивать возможности большевизма. Мне кажется, что в администрации президента есть ребята, которые это прекрасно понимают.
— Понимают, но о пропаганде не забывают.
— Это даже не пропаганда… Недавно у меня была запись на телевидении, и тут все телевизионщики стали говорить, что на них давление колоссальное… Я интересуюсь, а как же оно осуществляется… Вам кто звонит? Вас вызывают? А они: «Нет, да наши сами туда звонят…» Такого в Советском Союзе не было. Там самим позвонить нельзя было, а только надо было отвечать на звонки.
Кроме этого телевидения, где все перепуганы, у нас нет цензуры вообще. Стопроцентное отсутствие цензуры в литературе, в искусстве, в кино — нет никакой цензуры совершенно. Такого не было в России никогда. Мы недавно встречались в Союзе писателей с Дмитрием Анатольевичем Медведевым — молодым первым вице-премьером. Многие писатели как всегда жаловались на недостаток средств в журналах, издательствах. А он так толково говорит: «Вы что, хотите к прошлому вернуться?» И все, одной фразой поставил на место.
— Когда вас в первый раз уличили в антисоветчине? Кажется, в 68-м году за повесть «Затоваренная бочкотара»?
— Ну, это ерунда, главное началось в 78-м, после романа «Ожог». А после «Бочкотары» ничего не было. Ее напечатали в журнале «Юность», выходящем тиражом в три миллиона экземпляров. И все просто не верили своим глазам: такая лихая сатирическая повесть… Были статьи, которые меня долбали, но меня долбали всегда в советское время. В «Комсомольской правде» была огромная статья, где мне шили антисоветчину. Базировалось это все на эпизоде, когда они прибывают в Коряжск, а там такая башня с электрическими часами, на которых время 19.07, и через 10 минут должен приехать поезд. Он прибывает и уходит в никуда. Автор статьи пишет: «Вы приплюсуйте десять минут к 19.07 и получите 19.17. И вы поймете, что имел в виду этот автор». Это получилось как-то подспудно, у меня этого совершенно в голове не было — 1917 год. Случайность.
— Сегодня сатира нужна для оздоровления общества?
— Я даже не думаю, что это такая нацеленная сатира. Но желательно, чтобы общество не покидало чувство юмора. Не надо стремиться к звериной серьезности во всем, о многих вещах стоит говорить с легкостью. Не фиксироваться, не зацикливаться ни на чем… Ах, вот вы так считаете, месье, а я готов с вами согласиться, если бы я не думал в полностью противоположном направлении… Вот примерно такое джентльменское бытование… В стране надо создать институт джентльменов. Научить их хорошо шутить и не врать друг другу.
— В новом романе, кажется, эта тема звучит очень болезненно. Герои умеют не врать, понимают юмор, но столкновения с властью превращает их в основательных циников.
— Надо всегда иметь в виду, что все они последние комсомольцы. Вот это очень важный аспект. Я вообще склонялся к тому, что в последние советские годы комсомол практически превратился в партию, альтернативную КПСС. Несмотря на сопутствующую демагогию, было заметно, что с комсомолом происходит что-то серьезное. Вроде бы прикрываясь демагогическими лозунгами, что это борьба с мещанством…
И это началось еще в 69-м году. Я помню, в новосибирском Академгородке наблюдал, возможно, первую попытку ввести капиталистические принципы бизнеса. Инженеры-комсомольцы создали фирму «Факел» и вербовали ученых из различных НИИ для выполнения заказов, собранных по предприятиям. От желающих поработать не было отбоя, потому что один заказ приносил столько денег, сколько ученый не получал за год. Никакие государственные структуры не могли добиться подобной рентабельности. Они ничем не торговали, кроме своей интеллектуальной собственности. Под прикрытием комсомола их бизнес процветал год-два, потом их стали давить. И додавили, одновременно убив всю либеральную жизнь этого Академгородка.
А там была очень серьезная интеллектуальная жизнь. Там, например, было кафе «Интеграл», где комсомольцы отдыхали. Они устраивали идеологические дискуссии, например, о правомочности однопартийной системы. Собранные реплики записывались на доске и потом как-то суммировались. И на тот момент, по их расчетам, существующий политический строй себя исчерпал. Мы это вроде как все понимали, но не думали, что доживем. Оказалось, что дожили…
Ну, например, они устраивали такие театрализованные демонстрации — парад физиков под лозунгами различных политических партий послефевральской России: анархисты, синдикалисты, трудовики, конституционалисты, демократы. Происходило что-то совершенно невероятное. Наблюдавшим это безобразие партийным бонзам просто объясняли, что остальные партии — это те, кого одолела наша Коммунистическая партия.
Для подростков они открыли мушкетерский клуб, в котором прививались принципы офицерской чести. В Академгородке проходили выставки московских неформалов. Именно там впервые прошел первый открытый концерт Галича. И все это покрывал комсомол.
Это было зарождение какого-то инакомыслия. И если такое возможно было допустить, значит, система уже дышала на ладан. Многие из них превратились просто в циников. Но лучшие люди, редкие люди, в этом весь смысл этого романа — редкостность, редкие люди делались теми, кем был Ген Стратов. А кем он был? По сути дела он был байронитом. Это возвращение байронизма. Возвращение байронизма на фоне вот этого развала — подспудное, неназванное движение байронически настроенных молодых людей. Но воссоздать подобную редкостность по заказу правящей идеологической верхушки в этой стране невозможно. Это может стать результатом переработки и анализа обычной текущей жизни.
— Бизнесмена-писателя Минаева с его «Духлессом» можно зачислить в этот институт джентльменов?
— Да. Его герой тот же байронит… Его жизнь — проявление байронизма, и это совсем неплохо. Недавно в «Московских новостях» я видел рецензию на спектакль по новой пьесе, там шла речь о каком-то олигархе, у которого было три любовницы. И они одна за другой вступают в действие, а потом все вместе там с ним разбираются. Написал это сочинение бизнесмен гораздо круче Минаева…
— Когда бизнесмены писать успевают?
— Может быть, они бездельничают? А мы-то думаем, что они работают.
— Можно разделить писателей на бездельников и трудяг, подразумевая, что Пушкин — бездельник?
— Нет, я бы так не стал делить. Вот Исайя Берлин квалифицировал писателей на лис и ежей. Лисы — исследователи, разрывающие незнакомые норы, а ежи — накопители, блуждая по земле, собирают самые разнообразные впечатления о чем-то своем.
— А вы кто?
— Я… Пожалуй, лис.
Цикличность века
В октябре 2007 года на родине Василия Аксенова состоялся первый «Аксенов-фест», организованный мэрией Казани. Торжественное открытие фестиваля прошло в республиканском драматическом театре.
Участники фестиваля, среди которых были друзья и коллеги писателя Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Александр Кабаков, Евгений Попов, Михаил Генделев, Ирина Барметова, Светлана Васильева, Михаил Веллер, Андрей Макаревич, Алексей Козлов, посетили вместе с Василием Павловичем Казанский университет, школу, где он учился, дом, где он жил в детстве. В крупнейшем книжном магазине города прошла встреча с читателями.
Похоже на то, что аксеновский фестиваль в Казани станет традицией, во всяком случае, в ноябре 2011 он проводился в пятый раз.
Виктор Есипов
Я хочу сказать несколько слов о том, что я сейчас испытываю. Я первый раз попал внутрь оперного театра, хотя он сопровождает меня всю жизнь. Его начали строить, когда я был бэби. Мой папа был председателем горсовета, потом горсовет разогнали, всех поарестовывали, а ему дали это строительство. Он несколько месяцев продолжал строить, пока его не арестовали окончательно. А театр стоял все время, была строительная площадка, дело подвигалось очень плохо. Разразилась война, никто, конечно, в это время оперных театров не строил, но тут привалили немецкие военнопленные. Надо сказать, наша бывшая держава очень любила подневольный труд, и она использовала его в строительстве, в частности, оперного театра. Я помню, как я, мальчик, и тетушка моя, тетя Ксения, стояли и смотрели на пленных. Люди постоянно приходили смотреть на немцев. И тетка пожалела кого-то из них и дала полбуханки хлеба. Он до того был потрясен, этот несчастный немец, что весь задрожал, оторвал пуговицу от шинели и протянул ей в ответ на эту буханку хлеба. А женщины вокруг стали на тетю кричать: «Как тебе не стыдно! Ты захватчиков подкармливаешь!» — и так далее. Ну, в общем, все это строительство долго продолжалось. Я уехал из Казани в Магадан, провел там два года. Вернулся поступать в мединститут. Окончил первый курс — театр все строился, потом второй — а он все строился. И так до четвертого курса, после которого я уехал в Ленинград. Наконец театр достроили, но я ни разу не был внутри него.
Все-таки в этом я вижу определенную цикличность развития судьбы. В этой связи мне вспоминается моя нынешняя квартира в Москве. Нас в период застоя выгнали из всех квартир, взломали дверь топором, вышвырнули вещи. А когда в девяносто первом году случилась августовская революция, нам дали новую квартиру в высотном доме на Котельнической набережной. И вот я прихожу, а там огромные эркерные окна, и на одном выцарапано: «строили заключенные». А я — сын заключенных. Опять произошло цикличное завершение. И сейчас я сижу на сцене театра, которого все равно не вижу, — отсюда не видно ни черта. Вы-то видите, а я вроде здесь и не был. Я хочу сейчас прочесть стихи. Может быть, некоторые в зале знают, что на старости лет я стал писать стихи. Леша с Димой[506] подберут музыку. Мы не раз делали это в Центре Мейерхольда в Москве. Получалось так здорово, потрясающе! Все говорили: «Вы, наверное, репетировали целый год», а мы ни черта не репетировали…
Вот стихотворение о конце ХХ века. Я писал книгу «Кесарево свечение» — и вдруг почувствовал, что делаю это в самом конце двадцатого века, что наш век — кончается. Основное время, отпущенное нам Господом, — завершается. Одна героиня этого романа стала вдруг из проститутки бардессой, извините за игру слов. Она начала петь песенки, довольно серьезные. Вот одна из них. Вы, может быть, знаете, что в некоторых кругах ХХ век называли веком «Ха-Ха» — такое вот ерническое прочтение двух латинских букв.
Пятая песня
Дальше идет большая глава «Записки сочинителя», она вся в стихах. И вот один из стихов также о конце прошедшего века. Леша и Дима, вы не возражаете еще так замечательно играть? Здорово, здорово! Вы играете просто классно.
Весна в конце века Дневник сочинителя
Это написано весной девяносто девятого года в Вирджинии. А потом вдруг этот год обернулся страшной бессмысленной бомбардировкой Косово.
И еще из этого цикла одно стихотворение. Летит истребитель-бомбардировщик по кличке «Чарли Браво». Над ним летит наводящая станция «АВАКС».
Из-за туч
Эпилог с продолжением[507]
…Вдоль границы аквамарина ритмичной трусцой движется коренастая фигура. Она приближается — знакомое уставшее лицо, синь взгляда под опущенными веками. Легкий ветер треплет небрежную русую курчавость. Слышно немолодое дыхание. Под серебром усов пульсируют слова. Впереди горизонт — иллюзорный предел пространства с заваливающимся баскетбольным мячом заката. Волны набегают на следы бегуна. Его подпрыгивающий силуэт на фоне апельсинового марева медленно удаляется, делается размером с точку, которая постепенно исчезает под обложкой опускающейся темноты…
Образ «бегущего по волнам» автора знаком сегодня многим, кто соприкасался с творчеством Василия Аксенова. В реальности «стиляга из Лядского», писатель, герой и прототип в едином лице возник перед своими почитателями респектабельным господином профессорской наружности в английских ромбах пуловера и лекторских очках. Впервые — на творческом вечере в Оперном театре. Со сцены звучал неторопливый с хрипотцой рассказ о цикличности судьбы, о завершающемся времени. Спустя два дня состоялась короткая встреча представителей нашей редакции с Василием Павловичем. Свою беседу мы сочли уместным начать с литературной родословной писателя, с вопроса о «семейной саге» Аксеновых, которая стала частью истории и нашего журнала.
— Василий Павлович, книга вашей мамы Евгении Семеновны Гинзбург «Крутой маршрут» стала классикой лагерных мемуаров, но, наверное, не многие знают, что ваш отец, Павел Васильевич Аксенов — автор воспоминаний «Последняя вера» о годах своего заключения. Их в течение нескольких лет публиковал журнал «Казань». Знакомы ли вы с этим наследием?
— Да, знаком. Я читал эти воспоминания, когда еще нельзя было даже подумать об их публикации. Вариант рукописей хранится у моей сводной сестры Майи Павловны Аксеновой в Москве. Возможно, даже есть что-то, не вошедшее в вашу первую публикацию — так мне кажется.
Как-то мы общались по телефону, и она говорила мне, что воспоминания производят очень сильное, мощное впечатление. Воспоминания мамы очень эмоциональны, а у отца — спокойный рассказ о колоссальной несправедливости и подлости. По-моему — замечательная вещь, интересная очень. Язык в ней странный — вперемежку с бюрократизмами уже наплывающий сленг тюрьмы. И в то же время во всем какое-то спокойствие удивительное… Это показывает, что Павел Васильевич тоже внес свою лепту, и очень солидную, в «гулагиану». Хотя и сам он принадлежал к власть имущим.
— В Казани вы бываете нечасто. Сохранились ли сегодня у вас какие-то связи с «родом из детства», с аллеей Лядского садика?
— Да, конечно! Один из моих друзей, с кем я часто общаюсь, — Марик Гольдштейн. Мы жили дверь в дверь. Рядом с нашим домом стоял трехэтажный дом в стиле «прекрасной эпохи», в котором жила семья профессора рентгенологии Гольдштейна, его папы. (В Казани были два профессора рентгенолога, и оба — Гольдштейны.) Марик — это самый мой старый друг! Мы еще в детский сад ходили в одну группу, учились вместе в мединституте. Сейчас он живет в Германии. Приезжает ко мне в Биарриц. Проезжает всякий раз через Москву по направлению Обсерватории — там у него дача. Так мы дружим.
— Вы оставили профессию врача, занялись писательством — не первый случай в истории литературы, надо сказать. Как, на ваш взгляд, можно быстрее и вернее найти свое призвание, нужно ли поспешать тем, кто занялся сочинительством?
— Обретение призвания — это стихийный процесс… Как бы ты ни старался — это не случится, пока не придет время.
— И, тем не менее даже в этой стихийности вы являетесь сторонником профессионализма. Поясню, что я хочу сказать: в одном из интервью 1983 года вы заметили, что среди сочинителей остается много «литературных юношей», пренебрегающих профессионализмом. И особенно это заметно в прозе. Что вы имели в виду?
— Начинающих писать очень много — гораздо больше, чем тех, кто, в конце концов, совершаются как писатели…
Своим студентам в Америке, где я в течение двадцати четырех лет преподавал в университете русскую литературу, я всегда говорил: «Самое главное, чтобы вы научились завершать вещь, которую начали». Это очень редко бывает. Как правило, начинают писать, потом отбрасывают — ничего не получается… Постарайтесь, даже если вам не нравится, закончить вещь. И тогда вы по-новому посмотрите на себя и вокруг себя.
— На вашей встрече со студентами Казанского университета прозвучала мысль о том, что не нужно стремиться расширять аудиторию романа, напротив — ее нужно сузить. Но ведь и без того ваш читатель, вообще читатель серьезной литературы — это интеллигенция, она же — «меньшинство», как вы не раз выражались. Не думаете ли вы, что это сегодня — не просто «редкие» люди, а некая «уходящая натура»?
— Да. Я думаю, что это, может быть, действительно какой-то уходящий этнос. Но в то же время это люди, без которых невозможно существование современной жизни, цивилизации. И их — интеллигентов, читателей нашей литературы — очень трудно рассеять, даже в процессе эмиграции. Например, в поисках возможностей хороших заработков образовалась целая коммуна в Силиконовой долине, в штате Калифорния. Там живет несколько десятков тысяч русских интеллектуалов. Как-то я приехал туда выступать, и мне показалось, что я где-то в Новосибирске, в Академгородке — словно в те еще времена. Битком набитый зал своих! Своих не только в смысле языка, а в смысле выражения лиц! Такие свойские ребята! И все понимают. И все читали. Меня это потрясло! И это происходит в Силиконовой долине — маленький концентрат соли нашей земли… Из-за чего мы, кстати, все страдаем — она рассеялась, к сожалению. Они уже там отчасти американцы. Но тем не менее они — свои, живут и скучают по юности, прощание с которой отождествляется у них с утратой Родины. Много передвигаются, путешествуют. Сейчас это уже не изгнанники, а странники, я бы сказал. Не эмигранты, а — мигранты. Они в поисках. В самом начале перестройки в Интернете я встречал объявления, в которых эти люди подбрасывали друг другу возможности заработка: «есть работа на Марианских островах…», «ребята, спешите в Уругвай…» и так далее… Это уже часть космополитической диаспоры, в то же время — свои.
И конечно, очень важно, чтобы хоть часть этих людей возвращалась к нам, со знанием языков, с опытом работы за рубежом.
— Вы считаете, сегодня для такого возвращения есть предпосылки?
— Есть. Это в основном предпосылки экономического порядка. Когда начинают хорошо платить, специалисты возвращаются.
— Василий Павлович, в продолжение темы «уходящего» хотелось бы знать ваше мнение о судьбе «толстых» журналов, которые были культовым явлением в «самой читающей стране», особенно когда в ней стали происходить большие перемены. Через эти журналы к читателю пришло целое поколение талантливых литераторов. А что сегодня — какова их роль, каким может быть будущее?
— Будущее очень туманно, по-моему… Но они существуют — хотя далеко не роскошно, но все-таки — существуют. Государство их как-то поддерживает. Агентство по культуре выделяет гранты, средства из фондов. Помещения им предоставляются, что очень важно. Журнал «Знамя», например, переехал сейчас в хорошее здание на Садовом кольце. А Ирина Николаевна Барметова и «Октябрь» постоянно существуют в своем «кочетовском» дворце, откуда так и веет «кочетовским» мраком, но он рассеивается, когда там появляется эта «дама, прекрасная во всех отношениях». Там постоянно собираются люди, мы все здесь на «фесте», так или иначе, принадлежим к плеяде «Октября» — «октябрята»…
«Толстые» журналы отказываются умирать, зачахнуть, что само по себе очень показательно. Значит, может быть, пройдет какой-то период, и положение изменится к лучшему.
В Америке тоже есть «толстые» журналы, их несколько. Например, есть журнал «Гранта», журнал «Пари», на Манхэттене. Ничего в них особенного нет, это литературные сборники. Но они, в отличие от наших, гораздо шире продаются, и тиражи их больше. Есть еще «толстые» журналы при университетах.
— «Прощай, роман!» — так звучала тема встречи писателей со студентами и преподавателями в Казанском университете. Надеюсь, что вы-то сами с романом не прощаетесь?
— А куда мне без него?!. Мне некуда сбежать. Это мое любимое дело. Я и сейчас уже пишу новый роман. Как-то не могу уйти от этого. Я каждый раз, когда заканчиваю очередную вещь, думаю: ну вот и хватит уже, написал столько, что достаточно, что-то другое надо… Или ничего уже не надо вообще — старость… Потом ходишь, ходишь, и вдруг что-то тебя затягивает, к столу подводит. Включаешь машинку и начинаешь набрасывать. И так постепенно, постепенно, спонтанно появляется новое…
— И начинает жить своей жизнью…
— …Начинает жить. И у тебя уже есть смысл, движение какое-то.
В общем, лучше этого я для себя ничего не вижу… Может быть, осла только купить, Дурана Мороззо, и на нем в Испанию уйти…
— Манят близкие пределы соседней страны — Биарриц ведь на границе Франции и Испании?
— Скучно в Биаррице! Там я только пишу. А потом еду в Москву — вот где много интересного, постоянный напряженный нерв. Через месяц-два там уже изнемогаешь от многих вещей — от того же трафика, плохого воздуха, внимания вашего брата — журналиста. Мечтаешь сбежать в Биарриц. Приезжаешь — и через месяц чувствуешь, что невозможно — надо возвращаться.
— Как раз хотелось бы вернуться к вопросу о спонтанности создания ваших произведений, о том, что вам интересно писать, не зная, что будет дальше. А есть ли что-то, чего вы бы все же никогда не позволили своему герою или же себе по отношению к нему?
— Я об этом много раз говорил. Я пишу роман спонтанно, я не знаю, что там будет, не знаю, чем он закончится. Больше того, я начинаю писать и не знаю вообще, что произойдет с моим героем через пять страниц. Когда я писал «Редкие земли», то начал с описания тамарисковой рощи. Тамариск — очень странное растение: на уродливых стволах нежная зеленая хвоя, очень красиво. И я его описывал, описывал. И почему-то вдруг мне пришла в голову фраза: «Таков и наш комсомол…» Кажется, что это какой-то бред собачий… А эта фраза толкнула меня дальше — в среду «последних комсомольцев». Они взрастали на уродливых стволах уродливой идеологии, но на башках у них были шевелюры зеленой хвои…
— Василий Павлович, я хотела бы задать вопрос из области метафизики. Не показалось ли вам все происходящее, я имею в виду «Аксенов-фест», неким карнавальным реалити-эпилогом вашего последнего романа? Когда вас, Базза Окселотла, знаменитого писателя, чествуют в до неузнаваемости изменившемся родном городе. И делает это человек из той самой «нежной тамарисковой поросли»… Не было ли у вас этого ощущения?
— Да, да… Конечно, было такое! Ну, во-первых, действительно сама Казань очень изменилась. Я не узнал многие места, просто не узнал! Из развала и руиноподобного состояния все в ней вдруг обернулось блеском! Казань стала городом двадцать первого века. В этом большая заслуга городского руководства, вашего мэра. Это пример того, как «тамарисковые юноши» — вчерашние комсомольцы — стали сегодня образованными грамотными лидерами, что очень радует.
Мне кажется, что и национальное правительство помогает. В Татарстане есть ощущение своего, при полном отсутствии русофобии или чего-то подобного. Мне это нравится!
— Вдохновляет на продолжение?
— Мы решили каждый год устраивать такой фестиваль, это, конечно, здорово!.. Не знаю, получится ли — это все зависит еще от конкретных людей… В Самаре в 1993 году начались «Аксеновские чтения» в библиотеке. Меня пригласили — я приехал. Была скромная конференция. Очень умная. Съехались филологи из разных городов. И — «на следующий год обязательно приезжайте!». Я опять приехал из Америки. И смотрю — уже «Машина времени» там играет, и Козлов, и выставка какая-то открывается. И так каждый год в течение семи лет «чтения» расширялись, превращаясь в фестиваль. В конце концов уже немножко осточертевший — с детским хором с какими-то опахалами и всем прочим в этом духе… А потом он прекратился, потому что мэр города уехал в Москву. И все стало как-то увядать. А потом и прекратилось само по себе…
Надеюсь, здесь будет по-другому.
Путь изгнанных из рая[508]. Беседовала Валентина Серикова
Василий Аксенов с детства грезил о путешествиях. Сбылось. Правда, из родной страны ему пришлось уехать с билетом в один конец. Тогда думалось — навсегда. Да и маршрут оказался крутым. А когда писателю вернули российское гражданство, он стал жить на три дома. В Америке, приютившей его в лихолетье, во Франции, в которой ему легко работается, и в России — родину, как известно, не выбирают, ее просто любят.
— Ваше творчество сейчас переживает новую волну интереса и успеха на родине…
— Грех жаловаться — меня читают в России. А последние мои книги даже были, как мне сказали, лидерами продаж. Очень активно продавался роман «Москва-ква-ква». И «Вольтерьянцы и вольтерьянки» тоже очень хорошо шли, более того — получили премию. Но мой лучший и любимый роман «Кесарево свечение» не вышел к широкому читателю. Его читает узкий круг людей, хотя в романе затронуто очень много важных тем. Здесь не угадаешь. Роман — самый молодой жанр литературы, в отличие от вечной поэзии, которая началась с пещер, ритуальных церемоний, камлания, шаманства. А роман — детище капитализма, рынка, он возник на базаре благодаря революции. Пришло время, когда свиток превратили в книгу, чтоб продать. Ее можно было купить, принести домой, читать со свечой всей семьей — развлекаться, пока не придумали телевизоров. Все это продолжалось до середины ХХ века. А сейчас все опять возвращаются на базар.
— Только базар теперь совсем другой…
— Да — базар электронный, с маркетингом, с пиаром. Это уже опять рассказывание историй на потребу, для развлечения и для продажи. Не говорю, что его история кончилась, но, как мне кажется, роман должен не искать массового читателя, а наоборот, сужать круг чтения, обращаясь к людям, которые хотят читать всерьез — с наслаждением и глубиной, потом собраться вместе и обсудить. Кстати, в Америке, где, как у нас считают, все глупо и по-хамски, массовое распространение имеет так называемый брифинг группе — когда друзья собираются и читают серьезные книги, а потом их обсуждают. Это не значит, что нужно совсем отворачиваться и специально прятаться от массового читателя. Пожалуйста, читайте и убегайте от массовой культуры в эти области. Кстати, я вижу много таких беженцев из массовой культуры в сферы поиска глубины и истины. Я за годы преподавания в университете вел класс по литературе, и на моих глазах очень часто происходила трансформация молодых людей, которые ранее были заняты исключительно добыванием денег, в бескорыстных любителей умного слова. Поэтому я всегда говорю, что нам не надо преследовать успех. Надо, чтобы успех преследовал нас.
— Ваш последний роман «Редкие земли» о современных героях. Чем был продиктован ваш интерес к ним?
— Меня однажды спросили, почему я больше не пишу современных романов, все больше исторические. Вот я и подумал, что пора взяться. Все учились в школе и знают, что такое редкоземельные элементы. В таблице Менделеева внизу было семнадцать пустых клеточек — он предчувствовал появление новых элементов. Вскоре они действительно стали появляться, сейчас уже все открыты и очень активно используются в промышленности, потому что обладают удивительными и странными свойствами, до конца еще не изученными. В моем романе бывшие комсомольцы, ныне новое поколение бизнесменов, занимаются как раз ими. Но я вам хочу сказать, что эти типы и сами являются редкоземельными элементами. Там вопрос вообще о редкости. Земля в пределах видимой и невидимой Вселенной является чрезвычайно редким элементом творения, уникальной планетой, хотя она просто песчинка по сравнению с другими составляющими космоса. Человек в этом смысле тем более исключительная сущность. А среди людей есть совсем уж редчайшие экземпляры, миллиардные доли — божественный эксклюзив. Соль земли, настоящие созидатели. Вот обо всем этом мне и захотелось рассказать.
— Василий Павлович, к вам не раз обращались с предложением снять фильм по вашему знаменитому роману «Остров Крым». Планы не отменены?
— На моей памяти затевалось уже пять проектов, один из которых даже был запущен. Но все они потом как-то сами собой увядали или разваливались. И пока окончательного шага не предпринято. Все упирается в деньги, в финансовую подоплеку. Учитывая всю специфику съемки, фильм получается очень дорогой. Нужны серьезные актерские работы. А сейчас уже и отечественные известные актеры очень дороги, не только иностранные. Но если иметь в виду коммерческий успех картины на Западе, то лучшие имена, конечно, необходимы. Я все-таки надеюсь, что у кого-то получится довести идею до результата и достойный режиссер, который смог бы снять «Остров Крым», найдется. В одном проекте был такой человек, классик нашего кино Владимир Наумов, который работал вместе с Аловым. В общем, постановщики появились, это сейчас не самый неразрешимый вопрос. Были бы деньги — а режиссер найдется, как сказал бы в таком случае Козьма Прутков.
— Говорят, к вам во Францию приезжал Гришковец, который тоже хотел снять кино по одному из ваших произведений. Как обстоят дела с этой идеей?
— Никак, она ни во что не вылилась. Но я к этому уже привык. Одно время ко мне начали приезжать из России и бывшего Союза с разными предложениями. Вдруг один появляется с наполеоновскими планами, другой, все звонят, обещают, а потом исчезают. Ну что мне — ловить их, что ли? Так же и Женя Гришковец: приехал со своим другом олигархом, сказал, что он нас будет субсидировать. В общем, наобещали. Я говорю, ну что ж, давайте, ребята, делайте. А потом они пропали.
— А как вы относитесь к экранизации своего романа «Московская сага»?
— Для тех, кто читал книгу, это плохая экранизация, для тех, кто не читал, — хорошая. Но если говорить объективно, там упущено очень много возможностей, заложенных в романе. Это и моя вина, между прочим. Надо было писать сценарий самому. Мне предложили уступить авторские права или сделать самому сценарий. Я выбрал первое. Редко приходил на съемочную площадку, только когда наведывался в Москву. А мой сын, он художник кино, работал на этом проекте арт-директором. И как только я его что-нибудь спрашивал по поводу фильма, он почему-то все матом отвечал.
— Правда, что вы приложили руку к сочинению стихов и музыки к этому сериалу?
— Вообще, я что-то напевал. Во всяком случае, написал пожелание — «в ритме вальса-бостона». Но Журбин не обратил на это внимания и сделал что-то другое — говорят, что популярное. Я с юности любил джаз, и у меня дома большая коллекция старых пластинок с этой музыкой. Сейчас больше предпочитаю слушать классику. Но думаю, что джаз очень близок к русскому менталитету. Знаменитый джазмен Алексей Козлов говорил, что русские вообще очень близки к неграм: стремление к свободе русская душа очень улавливает. Вообще вся эта ритмика, походка джазмена в больших городах возникала спонтанно — там всем телом любили показать: мол, я вошел! Джаз во времена моей молодости был колоссальным творческим толчком для всего поколения. Недаром в романе «Москва-ква-ква» у меня выведены первые джазмены, классики жанра. Это мое собственное ощущение ритма жизни. Когда мы слушали эту музыку, нам будто кто-то говорил: ребята, не настраивайтесь на лагеря, готовьтесь все-таки к другой жизни!
— А вы можете определить, откуда в нас возникает тяга к определенным стилям, людям, городам?
— Наверное, мы с ней рождаемся. На меня в юности произвел впечатление один французский фильм, который я бегал смотреть раз пять. Там был так показан Париж, что меня просто потрясла его красота! Я совершенно влюбился в этот город, он меня очаровал, на пленке будто была разлита какая-то магия, которую узнавала душа. Вообще меня с юности влекло все красивое. Казалось бы, откуда эта тяга могла взяться? Сын заключенных, всю жизнь жил в бедности, спал на раскладушке под столом… Но та страсть к прекрасному, чистой красоте была выше меня и все время куда-то звала.
— Страсть к литературе того же происхождения? У вас диплом врача и дар литератора: когда в вас открылось это?
— Очевидно, я с детства, даже толком не зная своих родителей, был как-то предрасположен к сочинительству. Еще в двенадцать лет, живя у тети, когда родители оказались в лагерях, я начал писать длинные несусветные поэмы о ледовых конвоях, которые шли в полярных широтах… Потом уехал к освободившейся из заключения маме, и она начитывала мне стихи километрами. Я их записывал, потом перечитывал, учил. Вот так и просветился. А в медицинский институт я поступил просто потому, что мама и отчим сказали мне, что надо получить профессию доктора, чтобы спастись в лагерях. В медицинском я тоже увлекался сочинительством, у нас был даже маленький кружок футуристов.
— А нет ли у вас мысли приняться за мемуары?
— У меня есть рассказ «Зеница ока», который я написал сорок три года назад. Я тогда пришел с ним в журнал «Юность», где уже печатался, его прочли, испугались и сказали, мол, мы не можем такие темы принимать, за нами следят. Это биографический рассказ о моей встрече с отцом, вернувшимся из ссылки после пятнадцати лет отсидки. В 1955 году я приехал из Ленинграда в Казань к тетке, которая меня воспитывала. В свои двадцать два года я был стилягой, продвинутым молодым человеком. И как-то рано утром тетка, услышав стук в дверь, пошла открывать и вдруг начала страшно кричать. За дверью стоял ее брат, мой отец. Выглядел он тогда как Робинзон Крузо: огромный мешок, в котором было все, даже запас керосина и дров, чтобы развести костер. Он забыл, что можно прислать телеграмму, что можно сесть и доехать на трамвае — пришел со станции пешком. В начале рассказа написано: «Вместо мемуаров». Это мое самое большое приближение к такому жанру.
— В последние годы вы живете в Европе. Вам комфортнее в Биаррице?
— Это место на границе Франции с Испанией. В XIX веке французский Биарриц был очень модным курортом — там бывали Юсуповы, Романовы, Долгорукие. Сейчас в Биаррице живут их потомки, но многие по-русски не говорят. У меня там дом с садиком, море метров шестьсот по прямой, если представить, что летишь из окна на аэроплане. Соседи у меня наследники известных русских фамилий — Толстых и Лопухиных, и они это постоянно подчеркивают. Биарриц — место очень приятное, но безумно скучное. Когда я сижу там месяц, мне страшно хочется в Москву.
А в Москве через месяц мне хочется вернуться на побережье — москвичи даже не могут себе представить, какой там потрясающий воздух! А когда шумит и бурлит океан — это уже совсем не скучно. В Биарриц съезжаются тысячи молодых людей, любителей серфинга. Иисус Христос ходил по волнам, а они на досках по ним носятся. Это невероятное зрелище, с каждым годом все более популярное. Серфингисты все неформалы: с пирсингом, татуажем — в общем, типичная современная молодежь, устраивающая фестивали. Когда осенью они начинают исчезать, на поверхность выходят старики, которые там в основном живут. Я купаюсь, бегаю после отлива по твердому мокрому песку босиком. Очень полезно.
— А недавно вы могли прогуляться по черноморскому песку в Крыму, в котором немало знаковых мест из вашей биографии.
— Все они для меня знаковые. В Ялте я познакомился со своей женой… Майя Афанасьевна сыграла большую роль в моей писательской судьбе. Она очень большой любитель чтения. И я в какой-то мере верю ее вкусу. В последнее время Майю Афанасьевну очень утомляют перелеты. Даже наша собака, тибетский спаниель, не выдерживает темпа поездок. Мы его все время куда-то тащим, к нему без конца цепляются дети в самолетах. Нам его предлагают сдать в багаж, мол, слишком тяжелый, поэтому жена с собакой чаще сидят дома в Биаррице.
— Он чем-то напоминает вам Крым?
— Может, я и выбрал его потому, что очень похоже на Крым. Из окна я вижу отроги Пиренеев, за ними испанский берег, там тоже горы, и я все время невольно оговариваюсь, вместо «Биарриц» говорю «Коктебель». «Вот приеду в Коктебель…» Они действительно похожи. Я неплохо себя чувствую в России, но постоянно выезжаю во Францию, потому что в Москве совершенно невозможно работать. А в Биарриц уезжаю — звонков сразу меньше раз в сто, я сижу себе и пишу. Сейчас уже не стоит вопрос, где ты живешь. Теперь того понятия «эмиграция», что раньше, нет. Многие едут за границу — ищут работу, учатся. У меня два гражданства, американское и российское. Еще хочу получить вид на жительство во Франции. Одиннадцать лет я жил без всякого гражданства, у меня был только грин-кард в Америке. А подал на гражданство — никакой реакции, молчат. Бюрократия страшная. Вообще страшнее французской бюрократии нет, эта самая страшная. В Америке тоже, но все-таки не такая.
— И как же вам удалось стать гражданином Соединенных Штатов?
— А у меня был коллега в нашей группе профессоров, в прошлом член правительства, чернокожий историк. Я ему говорю: «Роджер, ты всех здесь знаешь, устрой мне американское гражданство». Через неделю меня вызывают в комиссию по визам и в торжественной обстановке — руку кладешь на сердце, присягаешь флагу — дают сертификат. Проходит еще неделя, мне звонят из агентства и говорят: «Господин Аксенов, у нас для вас приятная новость: решено дать вам американское гражданство», — а я отвечаю: «Спасибо, у меня уже есть, а это отдайте кому-нибудь другому».
— Наших эмигрантов часто просили писать или говорить плохо об СССР, о нашей недавней действительности. Вы сталкивались с этим за рубежом?
— Ой, постоянно! У них выработались странные клише, что русские и вообще славяне — какие-то топорные мужики, в этом русле они нас и отображают. Люди коммерции до сих пор не интересуются современными тенденциями и культурой. В университетах, а я преподавал в них 24 года, совсем другая среда, и там иной разговор. А что касается Голливуда или больших издательств, то они ищут что-то похожее на «Братьев Карамазовых», чтоб были страсти-мордасти, бубенцы везде звенели, кто-то кого-то придушил, сожрал стакан. Недавно они вдруг поймали то, что пришло из России и явилось для них откровением, из которого они тут же сделали новое клише, — это образ русской мафии. И пошло-поехало: все страшные, мордастые, обвешанные цепями. Такие вещи в Голливуде проходят и даже приветствуются. А тему из моего романа о превращении полуострова Крым в остров они не понимают, потому что вообще не знают, что Крым — полуостров. У нас своя версия обороны Севастополя — а там другая. У них есть только героическая медсестра Флоренс Найтингейл[509], а матроса Кошку они уже не знают. Так что нам еще надо пробиваться в тот мир.
— М-да, а для нас американский стандарт еще не так давно состоял из ломящихся полок супермаркета…
— Это в самом деле сильно действовало. Помню, когда Горбачев стал генеральным секретарем и приехал в Америку к своему другу Александру Яковлеву, который тогда был там послом, ему устроили несколько неформальных визитов, в том числе в супермаркет. Михаил Сергеевич вошел туда, превозмогая ошеломление, прошелся по рядам, посмотрел, но сдержал эмоции. А когда они поехали дальше, он, увидев супермаркет у дороги, вдруг попросил: «Остановите!» Ему говорят: «Михаил Сергеевич, зачем, вы же только что были там». Но он настоял. Опять зашел и, увидев те же бесконечные ряды с разной всячиной, понял, что первый супермаркет — это не какой-то специальный магазин, укомплектованный, чтобы произвести на него впечатление. То есть даже первому лицу было трудно поверить, что их быт — не миф. Кстати, недавно Михаил Сергеевич, увидев меня на одном мероприятии в Москве, похлопал по спине и сказал: «Вася, я до сих пор помню одну твою фразу из любимого романа». Я заинтересовался: «Какую же?». Горбачев ответил: «Вошла пожилая женщина тридцати пяти лет».
— В общем, генсека тоже можно понять… А как долго вы вписывались в американскую реальность? Изменился ваш менталитет за годы жизни за границей?
— Очевидно, изменился. Я приехал в Америку в 1980 году и сразу же начал работать в университете. Это большая удача. Все прошедшие годы мой главный источник существования — университетская деятельность и преподавание. Я сменил несколько университетов и в целом отдал им много сил. Должен ответственно сказать, что университетский кампус — это самая лучшая часть американской жизни. Я всегда с каким-то даже наслаждением начинал каждый новый учебный год, за эти годы через мой класс прошли тысячи студентов.
— По иронии судьбы в Москве вы снова живете в знаменитой высотке на Котельнической набережной, из которой когда-то уезжали в эмиграцию…
— Эту квартиру мы получили от нового московского правительства после путча 1991 года. Как ни странно, в том же доме, в котором жили прежде. Когда-то в нем жило много известных людей культуры, а теперь больше иностранцы.
— Василий Павлович, что сейчас вас интересует больше всего?
— Больше всего меня интересует писанина, между прочим. Когда я писал «Кесарево свечение», для меня это было как бы итоговым трудом XX века, и я даже решил, что уже хватит. Навалял много. Но потом через несколько месяцев опять воспрял и стал что-то сочинять.
— В свое время вы выказали явное неравнодушие к творчеству Венедикта Ерофеева. Ваше мнение о нем остается прежним?
— Веничка — человек совершенно колоссального таланта. Но, к сожалению, несостоявшейся писательской судьбы. Он просто сжег сам себя, это был акт самоуничтожения — не мог остановиться перед водкой. Можно сказать, он прожил жизнь своего героя. Трудно говорить как о классике о человеке, все наследие которого помещается в книжечке в палец толщиной, хотя «Москва — Петушки» очень талантливая вещь. У Сергея Довлатова похожая судьба. Хотя он, конечно, намного больше написал. Но Веничке не надо было никого обеспечивать, кроме себя самого, а Сергею надо было содержать две семьи, он работал на несколько редакций. Он мог стать грандиозным писателем. Когда я прочел его «Заповедник», я был потрясен и подумал, что он подошел к большому роману, но, к сожалению, он этот шаг не сделал и погиб.
Довлатов был у меня за полгода до смерти. Собралась компания, все выпивали, а Сергей ничего не пил, говорил: мне врач сказал, что если в течение полугода не прикоснусь к спиртному, то могу выздороветь. Но потом не смог… Сейчас все стали с ним носиться, а тогда здесь никто его не знал, его упорно не печатали, только в самиздате что-то выхолило. Сначала Довлатов стал известен американскому читателю. У него появилась переводчица-американка, которая была вхожа в журнал «Нью-Йоркер». А в этом журнале напечататься — все равно что Героя Социалистического Труда получить. Я в нем тоже печатался. А у Сергея там выходил рассказ за рассказом, и он получал большие гонорары, известность. Его стиль точно совпал с минималистским лекалом американских журналов. В нем была недоговоренность, острый, но ненавязчивый юмор…
— Ваши взгляды как-то изменились за прошедшие годы?
— Взгляды у меня хамелеоновские — везде приспосабливаюсь. (Смеется.) А если всерьез, то они у меня как были, так и остались — антитоталитарные. Я западный либерал.
— Отшлифованный взаимодействием с другой культурной средой?
— У меня это вопросик патриотизма, между прочим. Когда я здесь — защищаю Запад, даже Америку. Когда я в Америке или в Европе — защищаю Россию. Мне не нравится, когда ее критикуют, бесит, если представляют по стереотипам. А здесь меня раздражает, как об американцах говорят, что они жирные и тупые.
— А они белые и пушистые?
— Со многих сторон они в самом деле лучше нас. Они крепко стоят на религиозной основе. А общество, которое зиждется на религиозном фундаменте, всегда прочней. В Америке два самых сильных фундамента: банк и церковь. Банк, наверное, на первом месте, хотя и без церкви это общество тоже немыслимо.
— А вам самому такая категория, как деньги, небезразлична?
— У меня никогда больших денег не было, только в последние годы, когда получил профессорское кресло в университете и зарабатывал 120 тысяч долларов в год. А на писательстве богачом не станешь. Хотя издают меня сейчас хорошо. Для меня деньги — это только вопрос свободы, они освобождают от зависимости: я могу делать то, что хочу, а не тащить и влачить, как почти всю жизнь что-то тащу.
— А насколько вы продвинулись по дороге к Богу и вере в течение жизни?
— Я человек религиозный, но, в общем, поверхностно. Иногда хожу в церковь. Мой путь начался еще лет с шестнадцати, в Магадане, где люди обращались к религии в попытке спастись, получить поддержку — и они ее получали. Это очень серьезная вещь, а не просто «Господи, Боженька…» и чтение Библии… Появление в Коктебеле на пляже с крестиком на шее было в свое время серьезной акцией. На окружающих советских писателей это подействовало сильно. Затем это все у меня эволюционировало. Я вижу в любой религии какие-то ценности. То, что я чувствую сейчас, по-моему, уже где-то за пределами ритуальных религий. Вообще у меня есть собственная философия существования, которую я пытался изложить в «Новом сладостном стиле» — мне интересно знать, что такое Время. Время — это как раз и есть изгнание из рая. Наша жизнь — путь Адама для всех поколений. Как только мы попали в бренный мир, часы сразу стали нам отсчитывать — тик-так… Будущего практически нет, каждый миг будущего мгновенно становится прошлым. Обратное движение… Когда нас выперли из рая, что-то переменилось. А изначальный замысел был какой-то другой. Не знаю какой, но, наверное, более целесообразный. Я просто ощущаю, что момент обреченности человечества — это не трагедия, в этом его судьба: для чего-то большего… Пришли, чтобы уйти, завершить путь. Апокалипсис, испепеляющий и приносящий новую суть, — это ведь наоборот — духовное возрождение.
— Технократический век, обеспечив комфорт, взамен отнял у человека что-то несравнимо более важное, и мы еще не знаем, чем расплатимся за это…
— А вы знаете, чем развлекались римские легионеры, когда шли через Африку? Они распинали львов на крестах. И смотрели, как львы мучаются, какие они исторгают вопли и рыки. Это было главное развлечение. А сейчас все-таки жажды крови несравнимо поубавилось. Например, когда появилось огнестрельное оружие, убивать людей стали больше. Из этого может последовать вывод, что люди стали более жестокими и отвратительными. На самом деле огнестрельное оружие уменьшило садизм. Потому что когда ты врубаешься в человеческую плоть ножом, то просто сатанеешь от запаха крови, убийства, резни. А современный летчик нажимает кнопку в своем компьютере, выпускает ракету, возвращается и смотрит футбол. Короче говоря, в этом, как ни странно, проявляется нарастание безличностного: в этот момент он не думает, какой ужас у кого-то вызовет его ракета, не видит перед собой лица жертв. У него нет жажды убивать, он выполняет техническую задачу. Хотя здесь, конечно, кроется парадоксальная обманчивость дьявольщины — ответственность за содеянное ведь никто не отменял. Я вот был на израильской военно-воздушной базе, где стоят самолеты-компьютеры. Там такие милые ребята-симпатяги. На самом деле они черт знает что могут сделать своей техникой. Мне все же кажется, что символ величия в духовных достижениях — в искусстве, науке, благотворительности и сострадании. Так или иначе, каждый из нас дает свой ответ Богу.
Джон Глэд. «Беседы в изгнании»[510]
ДГ. Сергей Юрьенен пишет, что вы безусловный лидер авангардного направления в современной русской прозе. В чем этот авангардизм заключается, и сознательно ли вы к нему стремились?
ВА. Да нет, я бы сказал, что все это получается спонтанно. И мой авангардизм тоже не был таким надуманным заранее, понимаете, с уклоном в эту сторону. Просто, вероятно, так шло развитие моего письма. Я помню, что особенно резким таким переходом для меня был 1963 год. Именно в том году я приблизился больше всего к тому, что называется авангардом. Как вы понимаете — условно, конечно.
Тогда был такой острый момент в жизни молодой генерации советских артистов и писателей. Это была такая массированная атака партии на молодое искусство. Она началась с выставки модернистов и авангардистов в Манеже. И потом Никита Сергеевич явился туда со своей камарильей, устроил разнос и хулиганил очень безобразно, кричал: «Мы вас сотрем в порошок». С этого и пошло. В 1963 году я и Андрей Вознесенский оказались выволоченными на трибуну перед лицом всесоюзного актива, и, имея за спиной все Политбюро и Никиту, размахивавшего кулаками и угрожавшего… Довольно неприятное, довольно острое, я бы сказал, ощущение, похожее…
ДГ. На Колизей римский?
ВА. Отчасти на Колизей, отчасти на лавину, которая уходит из-под ног, когда альпинизмом занимаешься: вдруг у тебя начинает скользить, из-под ног уходит снег, и ты чувствуешь, что уже не остановишь ничего, вот и сам туда сваливаешься. Вот в тот момент я понял, что мы живем в совершенно каком-то абсурдном мире и что действительность так абсурдна, что, употребляя метод абсурдизации и сюрреализм, писатель не вносит абсурд в свою литературу, а наоборот, этим методом он как бы пытается гармонизировать разваливающуюся, как помойная яма, действительность, эту мусорную кучу. Вот тогда-то я и начал писать свои первые, такие чисто авангардные вещи для театра. Первая моя авангардная вещь — пьеса «Всегда в продаже», поставленная «Современником». Я бы не сказал, что я сейчас ревностно следую линии, я бы сказал, что сейчас несколько отхожу от такого авангардного метода.
События 1963 года, эту расправу с молодым искусством, я отразил в пьесе «Поцелуй, оркестр, рыба, колбаса». Там действие происходит как бы в Латинской Америке, в неназваной стране, где царствует хунта. В общем, там отражены события, дискуссии и атмосфера вот той атаки на искусство. И как ни странно или смешно, эта пьеса чуть не была поставлена в Москве, в театре Ленинского комсомола. Но все-таки она не была поставлена.
ДГ. Вы пишете, что в конце 60-х годов вы сменили молодежную тему на тему тотальной сатиры. Но герои большинства ваших рассказов были молодыми людьми, и читатели ваши — молодежь. Теперь вам 50 лет, кажется, да?
ВА. Да, вот через месяц. Вы знаете, молодость безобразно затянулась, я бы сказал, и не только у меня, но и у нашего поколения писателей… Нас считали официально молодыми в советской литературе чуть ли не до 45 лет. Мы числились все время молодыми. И мой герой старел, и мой читатель старел, и в последней, скажем, вещи «В поисках жанра» мой герой — это человек моего возраста. Очень часто критики, а чаще читатель, совершенно идентифицирует меня, автора, и героя, как будто это одно лицо. Но это абсолютно не так, это неверно, хотя очень много биографического, очень много личного вкладываю в героя, но тем не менее это все-таки герой, это вымысел, и тут же эти проблемы среднего возраста появляются, появляется ностальгия, чего не было у молодых героев, появляется что-то такое в общем уже тревожное, я бы сказал, вегетативно-дистонический фон, типичный для среднего возраста. Но в «Бумажном пейзаже» я опять отошел от этого планомерного старения, и мой герой уже значительно моложе меня. Это 30-летний человек, а действие происходит в 1973 году в Москве и завершается в Нью-Йорке через 10 лет. Я именно писал о людях, сознательно писал не о себе, о людях другого поколения и другой среды.
ДГ. И вы не собираетесь переходить на нерусскую тематику?
ВА. Я думаю об этом, но, так или иначе, я связан с Россией, с русской темой. У меня уже завершен другой роман, он лежит в черновике. Он еще очень тесно связан с Москвой, с событиями последних лет моей жизни, с альманахом «Метрополь». А потом, я думаю, буду писать книгу с американским фоном, то есть тут даже трудно сказать, что будет фоном. Там будет русский герой, живущий сейчас в Америке, с уходом в далекое-далекое прошлое, понимаете? Это значит уйти к истокам того пути, который привел на эти берега, понимаете? Это же все не просто так произошло, не просто так вдруг собрались несколько десятков тысяч людей, интеллигенция, я имею в виду, я не говорю обо всех этих трехстах тысячах эмигрантов, а о нескольких десятках тысяч людей, которые собрались и покинули Россию.
ДГ. В предисловии к «Золотой нашей Железке» вы называете 60-е годы «десятилетием советского донкихотства». Что это значит?
ВА. Это значит, что в течение именно этого десятилетия, пожалуй, общество, литература были охвачены иллюзиями, и казалось, что можно преодолеть мрачное прошлое сталинизма, можно продвинуться как-то вперед, что можно сделать шаг в сторону либерализации, в сторону более счастливой, более свободной жизни.
ДГ. Вот именно тогда ваша мать писала «Крутой маршрут».
ВА. Да, она написала книгу в начале 60-х годов и предложила воспоминания «Новому миру». Журнал фактически принял вещь к публикации…
ДГ. Твардовский?
ВА. Нет, Твардовский как раз зарубил. Вся редколлегия приняла, а Твардовский зарубил. У него довольно узкие взгляды были, ограниченные… Насколько я знаю, его реакция была такова: «Жертвы, о которых она пишет, к привилегированному классу принадлежали. Именно крестьян терзали, и о крестьянах надо писать». Как будто только крестьяне были жертвами этой власти. Это неверно. Я бы сказал, что интеллигенция как раз была самой первой жертвой.
ДГ. Расскажите о критике, которой подверглись «Звездный билет», «Апельсины из Марокко» и «Затоваренная бочкотара»…
ВА. Простите, но вы назвали в одном ряду несколько разных вещей. Я бы поставил в один ряд три книги на молодежную тему: «Апельсины из Марокко», «Звездный билет» и «Пора, мой друг, пора!». Некоторые критики даже говорили, что это в принципе одна и та же книга, с одним героем, как-то изменяющимся.
Это был целенаправленный удар по комсомольской, партийной критике. И они почувствовали опасность, якобы исходящую от этого нового поколения героев. Они искали прямого отражения этого героя в жизни, и они, видимо, находили его. И была какая-то такая, я бы сказал, социально-политическая критика.
Что касается «Бочкотары», которую вы назвали, то это все-таки сюрреалистическая вещь. Они как-то растерялись, они ее не поняли совсем. И критика была совершенно идиотская. Они не могли понять, против чего же тут Аксенов. Они уже хорошо знали, что я всегда против чего-то, и не ждали от меня хорошего. Но вот против чего конкретно — совершенно непонятно.
Я вам расскажу анекдотический эпизод с «Бочкотарой». Был такой критик — он и сейчас, по-моему, работает в ЦК — по фамилии Оганян или Оганов. Он, кажется, писал под псевдонимом Оганов, но на самом деле он Оганян, преотвратительнейшая личность. И он написал в «Комсомольской правде» огромную разгромную статью на «Бочкотару». Я ничего другого не ждал от них, но потом кто-то из моих друзей сказал: «Посмотри, что он тебе шьет». Я сначала ничего такого не заметил, но мне показали, что он мне «шил» прямо-таки контрреволюцию…
Вот что там было: герои книги подъезжают к станции Коряжск, и на башне этой станции фигуры пограничников, доярки, шахтера и так далее. И там есть электрические часы, и на них время показывает 19.07, а в тексте сказано: «Через десять минут должен прийти поезд, поезд пришел ровно через десять минут, но никто на него не сел. Поезд ушел и растворился в каком-то пространстве». И опять-таки я ничего не понимаю. Мой друг говорит мне: «А ты сложи эти цифры — 19.07 и 10, и получится, что поезд ушел в 1917, и никто не сел на Поезд Революции». Вот в чем дело, до меня это не дошло. Это по Фрейду, между прочим, фрейдовская теория тут, видимо, работает в отношении этого критика.
ДГ. Насчет формы ваших произведений. Я уже упоминал о Юрьенене. Пишут, что «Ожог» довольно оптимистический роман и реакция властей объясняется тем, что роман не устраивал их по форме скорее, чем по содержанию.
ВА. Ну, не совсем, не совсем. В последние годы у меня были, конечно, большие трения именно из-за формы с официальными властями, потому что у нас установились к тому времени стандарты «деревенской прозы». Вы знаете, она навязывалась, и когда были напечатаны «Поиски жанра», книга вызвала маленькую бурю. Мне молодые писатели из провинции писали, что «вдруг поняли, что можно писать иначе, чем Абрамов там или Астафьев, понимаете? Нам говорили, что просто нельзя так делать, что это уже все чуждое». Так что проблемы формы были всегда. Вот, скажем, пьесы мои — они такие зашифрованные, что их можно было ставить как-то, но форма неприемлемая — не советская и не народная. Что же касается «Ожога», то тут совсем особое дело. Конечно, он очень модернистский, очень сюрреалистический. Но он вызвал реакцию со стороны КГБ, я был предупрежден официально, и не по форме, а по содержанию.
ДГ. А вот насчет писателей-деревенщиков. Солоухин, например, не любит, чтобы его так называли…
ВА. Я думаю, что он и не принадлежит к ним.
ДГ. А Абрамов или Распутин?
ВА. С ними произошла трагическая история. Я бы сделал ударение именно на этом слове «трагическая». Начинали они очень неплохо, это люди небездарные. И среди них много действительно ярких, я бы прежде всего назвал Василия Белова и Бориса Можаева. У них чувствовался и художественный и общественный протест против застоя. Но тут произошла очень ловкая акция со стороны идеологического аппарата. Им не дали превратиться в диссидентов, хотя они шли к этому гораздо более коротким путем, чем я со своими формалистическими поисками. И вот писатели такого типа, как я, — их мало волнует вопрос о том, как пройдет посевная этого года. Мне гораздо важнее, чтобы в Казани, в моем родном городе, хоть раз в 20 лет появилось в продаже масло. Но аппарат ловко употребил деревенщиков. Их стали продвигать, стали навязывать им русофильство самого дурного тона.
ДГ. Но им это не было совсем чуждо.
ВА. Не было чуждо, но русофильство ведь тоже бывает разное. Русофильство бывает просвещенным, а это русофильство на уровне райкомов партии, понимаете?
ДГ. Кого вы имеете в виду?
ВА. Федора Абрамова, например, и даже Виктора Астафьева. Вот недавно я читал, что Астафьев возглавляет кампанию против молодежных рок-групп в Советском Союзе. А ведь я знал Астафьева, он был славным парнем. Сейчас вся эта деревенская литература награждена, все они лауреаты. В чем же смысл этого? Почему аппарат их употребляет? Ведь их произведения иногда бывают острыми. Но, во-первых, эта острота уже перестает быть остротой, а во-вторых, я думаю, главная идея этого приручения — снова создать культуру, изолированную от Запада, от западной культуры. Разорвать восстанавливающиеся слабенькие связи между русской и западной культурами. Они озабочены состоянием хлебов, они растирают эти зернышки на ладони, но все это бездарно: чего там растирать зернышко, когда в стране катастрофически не хватает продуктов питания? Смешно просто.
ДГ. После выхода «Апельсинов из Марокко» вы написали официальное покаяние. Оно было напечатано в «Правде» 3 апреля 1963 года.
ВА. Это было связано не с «Апельсинами», а с той атакой Хрущева, о которой я уже рассказывал. Когда он орал: «Мы вас сотрем в порошок, если вы не будете с нами. Мы вам Венгрию не дадим устроить, вы мешаете нашим польским друзьям строить социализм», — и так далее.
Вот как это произошло. Я вовсе не собирался каяться. Но в журнале «Юность» произошло такое полуподвальное совещание редколлегии и актива, и мои друзья просили меня написать что-то такое, чтобы спасти журнал. Ну вот, я и написал, что раньше я писал плохо, а теперь буду писать хорошо, вот и все. Кстати говоря, это мне абсолютно ничего не дало, меня по-прежнему не печатали…
ДГ. Расскажите теперь об альманахе «Метрополь».
ВА. Это очень сложное дело, и очень много до сих пор неясного в этом деле. Но, вероятно, вы хотите, чтобы я с самого начала это как-то осветил?
ДГ. В той мере, в какой вы были к этому причастны.
ВА. В общем, идея была спонтанная. Некоторые утверждают, что идея была заброшена в провокационных целях откуда-то извне. Но так как я у самых истоков этой идеи стоял, то это вряд ли возможно. Просто мы с моим приятелем, Виктором Ерофеевым, говорили о том, что совершенно невозможно продвинуться новому поколению литературы.
Трудно теперь вспомнить, кто первый сказал, — я или Ерофеев: «Давай устроим новый журнал». Во всяком случае, мы вдвоем идею обсуждали. Так это и пошло, стали вовлекаться все новые и новые люди. И пока целый год составлялся «Метрополь», вся Москва говорила, это не было тайной. Только как бы Союз писателей не знал об этом, но я не допускаю, чтобы КГБ не знал: они следили тогда за мной, очень сильно следили. Может быть, они старались нас протянуть подольше, чтобы все это осуществилось для каких-то их там делишек. Ну, и что же, кто от этого выиграл, кроме русской литературы? Выиграла только литература. В общем-то, они проиграли, альманах был создан, произошло художественное событие, событие литературной жизни, на поверхность вышло несколько интереснейших авторов — и молодое поколение, и старики, то есть произошло событие, прозвучавшее на весь мир.
ДГ. А если бы просто напечатали? Там ведь политического ничего почти нет.
ВА. Там нет ничего политического, мы специально старались быть очень умеренными, мы специально делали отбор, чтобы не было никаких политических красных тряпок. Так что это был очень позитивный момент, мы как бы потягивали им руку — советской литературе. У вас есть еще шанс, все-таки давайте попробуем, хотя бы в последний раз попробуем открыть окно, чтобы не воняло так уж сильно сортиром вашим. А вместо этого они окна опять законопатили. На мой взгляд, все эти провокации литературные приносят совершенно обратный результат.
ДГ. Вы предлагали куда-нибудь?
ВА. Нет, у нас была идея: открыть его — такой роскошный social event с хорошенькими манекенщицами, с саксофонами и т. д., а потом предложить его Госкомитету по делам печати. Но они не допустили до этого: тут уже началась истерия. Этот самый бранч с шампанским запретили, закрыли кафе, начали охоту на ведьм.
ДГ. Когда именно ваши книги стали из библиотек изыматься?
ВА. После скандала с «Метрополем». В начале 1979 года был издан официальный приказ.
ДГ. Вы считаете, что вас заставили уехать?
ВА. Фактически да. Иначе почему они через три месяца лишили меня гражданства? Как еще можно было объяснить это? Потом они мне просто сказали, когда я был предупрежден по поводу «Ожога», что, если вы выпустите «Ожог», придется тогда сказать «гуд бай». Это было просто сказано, и они очень четко шли к этому. Я был очень плотно окружен, и другого выхода у меня не было. Либо подчиниться и превратиться в рептилию, отказаться от того, что я пишу, стать ремесленником литературным…
ДГ. Ну, вот на Западе и возникает такой вопрос: мир, который вы описываете, совершенно непонятен западному читателю. Каковы ваши шансы, русского писателя, найти американского читателя? Возможно ли это? Вы стремитесь к этому?
ВА. Да, конечно, но это не главная цель. Я буду продолжать писать для тех же читателей, часть из которых оказалась за границей. Но это не значит, что я не ищу американского читателя. Я думаю, что американскому читателю как раз интересно будет читать про неизвестный мир, читают же сейчас научную фантастику. Я думаю, что со временем, может быть, я как-то начну больше жить внутри американского общества. И это не значит, что я уйду из своего прошлого. Прошлого у меня достаточно, чтобы писать до конца жизни, сколько там ее осталось, я не знаю. Вот когда уезжаешь из страны в 48 лет, это уж хватит тебе, чтобы писать, а новый американский опыт мне очень интересен. Вот, в частности, в «Бумажном пейзаже» у меня идут 12 глав жизни в России, а в последней главе все герои оказываются в Нью-Йорке. Прошло 10 лет, и они все в Нью-Йорке. И даже майор милиции оказывается в Нью-Йорке, работает телохранителем (бодигард). Вот мне это было интересно писать не только по формальному ходу, но и еще потому, как они сами не замечают, как меняется их речь. Как он совершенно небрежно может сказать: «Она стояла рядом со своей машиной, ее машина — левая передняя флэт…» Вот так, знаете, это тоже уже какая-то игра идет, но так вот тут люди говорят…
ДГ. Живя в России, вы употребляли много сленга, жаргона всякого. Теперь вам не приходится бороться за то, чтобы сохранять язык? И, может быть, вы будете избегать этого как раз? Ведь сленг меняется.
ВА. Да, да, да. Конечно, невозможно следить за изменениями бытового языка, находясь на таком расстоянии, но, тем не менее пока я еще такого недостатка не испытываю. И, в конце концов, я не исследователь сленга.
ДГ. Вот если поговорить о тиражах, там и здесь, это не очень удручает вас?
ВА. Конечно, тиражи русских изданий на Западе ничтожны. Но я себя утешаю, и недавно даже написал статью на эту тему, что, если «Ардис» выпускает роман тиражом две тысячи экземпляров (это ничтожный тираж по сравнению с Советским Союзом) и весь тираж расходится среди новых эмигрантов, которых здесь тысяч триста, — это как если бы он вышел в СССР тиражом в два миллиона. Это некоторое утешение. Или, например, я выпускаю здесь свои пьесы — сборник пьес, которые я выпустил в Москве в 1978 году тиражом четыре экземпляра, а сейчас я выпускаю здесь в эмиграции тиражом в тысячу экземпляров. Колоссальное увеличение.
ДГ. Как вы оцениваете состояние современной русской прозы? Некоторые считают, что она, как и поэзия, по сравнению с западной литературой, находится в упадке. Вы согласны?
ВА. Нет, абсолютно нет. Я как-то более или менее слежу за западной прозой, я бы не сказал, что она сильно ушла вперед по сравнению с русской прозой современной, если не сказать наоборот. Может быть, средний какой-то уровень западной прозы выше, но западная литература, к счастью для нее, а может быть, к несчастью, не прошла драматических событий, связанных с самим существованием литературы. И борьба за существование литературы, эта болезненность, подавленность, попытка освобождения от рабства, она пронизывает лучшее в современной русской литературе и придает ей большую художественную силу.
ДГ. Какие имена вы можете назвать?
ВА. Ну, можно назвать действительно гиганта Александра Исаевича Солженицына. Или глобальная сатира Зиновьева, который мне не нравится, и я со многим у него не согласен, мне это и в художественном отношении не близко, но тем не менее, это явление серьезное и что-то новое. Или, скажем, из молодых вот Саша Соколов, очень интересный прозаик растет, и Лимонов опять же появился. Очень такой пронзительный, и скандальный, и грязный, и провокационный, и безвкусный, и все это очень сильно намешано, а вместе с тем получается букетик неплохой.
ДГ. Ну, это все эмигранты, а как насчет советских писателей?
ВА. Советская литература… Те, кто еще там остался… Вы знаете, я все-таки считаю, что это одна литература: и те, кто там, и те, кто здесь. Граница проходит не по границе СССР и лагеря мира и социализма, как они говорят, граница идет между литературой и паралитературой, то есть фиктивной литературой. И эта граница идет и внутри советской литературы тоже. И, что интересно, внутри каждой отдельной книги. Предположим, Катаев — блестящий писатель, а там у него, внутри книги, эта граница виляет совершенно немыслимо, как Амазонка. Или у тех же деревенщиков. И среди тех лучших, кто еще там живет, — Битов, например, великолепный писатель; Искандер, во всяком случае, в современной русской литературе. Есть дюжина имен по самому высокому классу мировой литературы, а этого достаточно.
ДГ. В какой степени «Остров Крым» — это эскапизм? Кусок свободной России, экстравагантная жизнь…
ВА. Ну, это в общем игра с самого начала, конечно, была. То есть тут сочетается игра, такая прекраснодушная игра, вот какой бы была Россия, если бы… А с другой стороны, все это очень реалистично, я старался делать это реалистически. Ибо сам замысел фантастический, нет такого острова, это полу-остров, и нет такого государства. Значит, замысел фантастический, сюрреалистический, как хотите его назовите, поэтому я решил, что манера письма будет строго-строго реалистическая, консервативная, традиционная, и всю книгу выдержал в этом духе. И благодаря этому получилось действительно отражение современного западного мира перед лицом тотальной агрессии, даже не агрессии, а просто механического поглощения.
ДГ. Что изменилось для тебя с тех пор, как я брал интервью?
ВА. Изменилось многое. Во-первых, я стал американским гражданином, жителем краснознаменного города (Вашингтона). Уже десять лет живу в Америке, и привык к ней.
ДГ. А Россия?
ВА. В течение долгого времени она была для меня чем-то вроде литературного материала. Живая связь становилась все слабее и слабее. Все эти годы я чувствовал быстрый процесс отдаления от текущей русской жизни, но, как ни странно, было приближение культуры, которая становилась все ближе и дороже мне. Но сейчас, когда открылись границы, когда нахлынул поток друзей и недругов и просто обычной публики, я иногда думаю о возможности делить свое время между Америкой и Россией, может быть, даже на равные части. То есть больше и больше сближаюсь с сегодняшним днем России, живу ее проблемами.
Сегодня утром пришла новость, что будто бы Горбачев издал указ о возвращении гражданства всем лишенным. Если это подтвердится, то меняет ситуацию. Я уже не буду чувствовать себя врагом этого государства.
ДГ. Я вчера с тобой говорил по телефону, и ты сказал, что изгнание еще не кончилось. Сегодня оно кончилось?
ВА. Я уже гораздо свободнее буду себя чувствовать, путешествовать, может быть, построю себе дачу в Крыму… Америка — это мой дом, но я не почувствовал себя американцем и никогда не почувствую; однако за эти десять лет я сформировался как некий космополитический отщепенец.
ДГ. Расскажи о своей поездке в Россию. Ты все-таки там знаменитость.
ВА. Я был окружен телевизионными камерами с первого до последнего часа. Возвращается моя прежняя популярность. «Золотая моя Железка» и «Остров Крым» напечатаны в журнале «Юность». «Ожог» выходит книгой — тираж 500 000 экземпляров. Есть предложения делать фильмы, ставить спектакли и все прочее. Этой осенью выходят четыре или пять книг. Есть небольшие цензурные купюры в отношении крепких словечек и эротических сцен. Но они заменяют их многоточием, что уже большой прогресс. Политически нет никаких ограничений — полная свобода. Мы никогда не думали, что в культуре дела так далеко зайдут. Россия переживает поразительное время. Иногда кажется, что здесь находишься на какой-то периферии, в глуши, что главные события идут там.
ДГ. Америка как дача — даже в том смысле, что там ведь писать нельзя.
ВА. Ты абсолютно прав — там писать нельзя. Может быть, поэтому советские писатели как бешеные носятся по заграницам, где, впрочем, тоже нельзя писать. Всех трясет, никто не может успокоиться.
ДГ. Есть какие-нибудь антипатии между теми, кто остался, и теми, кто уехал?
ВА. Гласность многое вскрывает — всякие маленькие предательства, но не дай нам Бог начать сводить счеты. Лучше забыть, чем выяснять некоторые обстоятельства.
ДГ. Так что Вознесенскому и Евтушенко все прощено?
ВА. Это слишком болезненная тема. Я не знаю, что прощать Вознесенскому. Он просто старался быть на поверхности при любых обстоятельствах. Он никому ничего хорошего не делал, но и не подводил, тогда как Евтушенко многим делал хорошее, а многим делал гадость. Он писал безобразно: одни убегали на «Радио Свобода», а другие дрались в баррикадных боях. Хороши баррикадные бои, когда он получал государственные премии, издавал свое полное собрание сочинений и путешествовал во все концы мира! Но Бог с ним. С другой стороны, многие эмигранты говорят: вы, гады-конформисты, подлизывали жопу советской власти, а нас вышвыривало ГБ за пределы страны.
Я не отрицаю заслуги либеральной общественности, которая действовала в годы так называемого застоя. Они очень многое сделали — особенно партийцы. Они приспособлялись, писали речи для Андропова, Подгорного, Брежнева, но среди них были либералы, которые подспудно готовили реформы. Чего не могу сказать о многих писателях.
ДГ. Давай имена.
ВА. Я не могу сказать, что «деревенские писатели» — Белов, Распутин и т. д. — подготавливали перестройку. Они упустили свой шанс, и клюнули на приманку из ЦК, и стали очень быстро превращаться в часть истэблишмента советского, издавая гигантскими тиражами свои книги, получая свои премии — все ахая о судьбе бедной тетушки Матрены. Неудивительно, что многих из них привело в лагерь черносотенцев.
ДГ. Последний вопрос — чем литература должна теперь заниматься?
ВА. Надо вырвать литературу из водоворота злободневных событий. Это самое главное сейчас. Иначе литература рассеется. Не надо стремиться создавать актуальные вещи. Надо просто успокоиться и наблюдать со стороны. Раньше русский литератор всегда был вовлечен в политику. На него смотрели как на властителя дум. Он должен был заниматься устройством государства и прочим. Сейчас этого, слава Богу, не нужно делать. Пусть политики занимаются политикой. Освободите литературу от этого бремени.
Александр Минчин[511]. Интервью с писателем Василием Аксеновым
МИНЧИН: Как все это началось? Случайно? Ведь вы были врачом?
АКСЕНОВ: Случайным был как раз медицинский путь. До 8-го класса я учился в Казани, потом, 9–10 классы, доучивался в Магадане. Мама вышла из лагеря в 1947 году и оставалась ссыльной в этом городе. Как раз в Магадане я и начал стишки писать. Воображал себя поэтом. Но поступил на медицинский факультет. Мама и отчим уговорили: «В лагерях врачам легче». Очевидно, вам ясно, какое у мальчика подразумевалось будущее. В 1953-м меня выгнали из Казанского университета как сына «врагов народа». Телега по инерции катилась даже после смерти «Старика Онуфрия», как мы тогда называли Сталина. Позднее меня восстановили, и я уехал в Ленинград и в этом городе, представляющем из себя колыбель революции, доучился до диплома. Первая публикация моя состоялась в 52-м году в газете «Комсомолец Татарии», выиграл конкурс студентов на лучшее стихотворение. Прозу начал писать в конце института. Первая серьезная публикация была под эгидой Катаева — в «Юности» в 1959 году: «Асфальтовая дорога» и «Полторы врачебных единицы», мои первые опубликованные рассказы.
МИНЧИН: Как же сложилось дальше?
АКСЕНОВ: По распределению я начал работать в порту Ленинграда карантинным врачом. Принимал и отправлял торговые суда. Знаете песенку?
«Большие корабли из океана…»
Там было интересно, совершенно новый опыт, люди из разных стран. Потом меня, однако, заслали в глушь, в больницу водников на Онежское озеро. Поселок назывался Вознесение, там я и начал писать первый роман. Как всякий начинающий писатель, писал о собственном опыте, но так как мои первые шаги происходили на фоне «оттепели», колоссальных перемен в жизни советского общества, ХХ съезда, событий в Венгрии и т. д., я старался это хоть как-то отразить в своем романе. Я был четко намерен опубликовать «Коллег», поэтому с самого начала бронировал свою повесть, твердо зная, что звание советского писателя предусматривает определенный изгиб души. Так что компромиссы начались с первых шагов. Поэтому рядом с образом бунтаря Максимова, отвергающего сталинизм, оказался и образ этакого идеалистического дурачка Зеленина. На Онежском озере я закончил «Коллег». В 1959 году переехал в Москву, женился. Писатель Владимир Померанцев, которому я первому показал роман, отнес его в «Юность». Тогда там прозой заведовала чудеснейшая молодая женщина, ее звали Мэри. В июне 1960-го, когда появилась повесть, журнал праздновал свой пятилетний юбилей в ресторане «Будапешт», и туда принесли еще «горячую» «Литературную газету» со статьей Рассадина. Статья была о «Коллегах» и называлась «Шестидесятники». Ну и пошло: «Малый театр» сделал пьесу, которую потом играли шестьдесят театров по всей стране, издательство «Советский писатель» выпустило повесть отдельной книгой, был поставлен фильм, в котором играло замечательное трио: Ливанов, Лановой, Анофриев. Такого поворота я, признаться, не ожидал.
МИНЧИН: Как изменилась ваша жизнь, когда вы стали известным?
АКСЕНОВ: Жизнь стала суетной: выступления, встречи, звонки. Я не всегда понимал, что происходит. Времени ни на что не хватало.
МИНЧИН: И все-таки вы писали? Уже пошли повести, цикл о молодых. «Звездный билет», июнь — июль 61-го, «Апельсины из Марокко», январь 63-го.
АКСЕНОВ: Да, я увлечен был тогда своим молодым героем, мне казалось, что он своим существованием меняет советскую жизнь.
МИНЧИН: Как они проходили, эти повести?
АКСЕНОВ: «Звездный билет» и «Апельсины из Марокко» подверглись жестокой критике. Говорилось, что они написаны «об извращенном типе молодежи», что хотя «у нас есть и такая молодежь, но не она определяет подлинную жизнь советского общества». Не проходило дня, чтобы не появлялось какой-нибудь омерзительной статьи по поводу «Билета». Похоже, что они стали меня подозревать… Лично неоднократно бомбил секретарь ЦК КПСС Ильичев; комсомольский вождь (бывший, ныне — спортивный) Сережа Павлов уподобился римскому сенатору Катону, который, помните, все талдычил про Карфаген, — так и Павлов каждый день давил по «Звездному билету». Потом и самого Хрущева к этому делу пристегнули. Четвертая моя книга о молодежи, роман «Пора, мой друг, пора» завершил эту серию. Я чувствовал, как говорится, «тема исчерпана».
МИНЧИН: И начался…
АКСЕНОВ: Я тогда очень увлекался жанром рассказа. Собственно говоря, еще в 1962 году на фоне «молодежной темы» я написал несколько рассказов и с волнением почувствовал, что нащупывается новый путь. Дальше — больше.
МИНЧИН: По вашим рассказам поставлен один из наиболее популярных фильмов «Путешествие», состоящий из трех новелл: «Папа, сложи», «Завтраки 43-го года», «На полпути к Луне». Мой любимый фильм.
АКСЕНОВ: Кроме того, что он ваш любимый, он замечателен еще тем, что в нем дебютировали три молодых режиссера и все три — женщины: Инна Селезнева, Инна Туманян и Джема Фирсова. Согласитесь, довольно редкий триумф феминизма.
МИНЧИН: Как вы считаете, какие рассказы вам наиболее удались?
АКСЕНОВ: «На полпути к Луне», «Победа», «Дикой», «Маленький Кит, лакировщик действительности». Из последних «Гибель Помпеи».
МИНЧИН: А «Местный хулиган Абрамашвили»?
АКСЕНОВ: Нормально.
МИНЧИН: Вскоре, видимо, появилась «новая тема»?
АКСЕНОВ: Я бы назвал свою новую тему конца шестидесятых темой «тотальной сатиры». Первой в этом ряду стоит «Стальная птица» (написана в 1965 году, напечатана в 1978 году в США). Я тогда в шестидесятые увлекся театром. Сцена казалась мне подходящим местом для «тотальной сатиры». Первая пьеса «Всегда в продаже» была поставлена в театре «Современник» Олегом Ефремовым. С такими чудесными актерами, как Табаков, Лаврова, Гурченко, Казаков, Евстигнеев. Остальная моя драматургия была не так удачлива.
МИНЧИН: 60-е годы — зенит популярности: кино, пьесы, журналы, рассказы, книги. Что для вас стало пиком этого времени?
АКСЕНОВ: «Затоваренная бочкотара». Люблю ее до сих пор нежною любовью.
МИНЧИН: Как ее опубликовали?
АКСЕНОВ: Это загадка. Думаю, что в редакции ее не поняли. Толчком к повести явилось путешествие с отцом в его родное село на Рязанщине, в глубинку России. Там я нашел этот символ. Это не просто бочкотара, от нее попахивает метафизикой. Она что-то вроде неопознанных летающих объектов. Это как бы сублимация народной любви. Народ, лишенный духовной жизни, тем не менее ее подспудно жаждет и ищет предмет своей любви. В абсурдных обстоятельствах предмет может оказаться тоже абсурдным, например, «затоваренной бочкотарой». Люди одушевляют ее.
МИНЧИН: Как встретила печать «Бочкотару»?
АКСЕНОВ: Разгромными статьями в «Литературной газете», «Комсомольской правде». Помню даже, как во время чехословацких событий какой-то военкор в какой-то газете писал о солдатах: «Какая у нас замечательная молодежь, и это несмотря на зловредные сочинения разных писак с их «затоваренными бочкотарами»». Позднее я отразил это в «Ожоге», где ребята на танках в Чехословакии сидят и читают «Бочкотару».
МИНЧИН: «Жаль, что вас не было с нами» — одна из наиболее читаемых книг в советской литературе, продающаяся у торговцев по 10–15 рублей за книгу. (Теперь, наверное, дороже.)
АКСЕНОВ: Это последний сборник, который мне удалось собрать и выпустить. Потом в течение долгих лет в издательствах был запрет на мои сборники, несмотря на то, что в периодике кое-что появлялось.
МИНЧИН: Серия «Пламенные революционеры», ваш роман «Любовь к электричеству». Говорят, писатели шли в эту серию в основном из-за денег?
АКСЕНОВ: Да, там жадные до денег люди собрались: Войнович, Трифонов, Гладилин, Окуджава, Ефимов, Аксенов. Конечно, все, не исключая меня, хотели заработать. Хотя бы для того, чтобы следующий год не батрачить, а писать «для души». Впрочем, я был даже увлечен по мере проникновения в материал. Время первой русской революции и сам образ Красина показались мне противоречивыми и интересными. Если внимательно читать, можно увидеть образ одержимого, как бы больного лихорадкой человека. В принципе, это кровавая история о том, как мужчины посылали умирать юношей.
МИНЧИН: В «Новом мире» были опубликованы ваши «Поиски жанра» и «Круглые сутки нон-стоп». О вашем сотрудничестве в последние годы с «Новым миром». Как он изменился, на ваш взгляд? После ухода Твардовского…
АКСЕНОВ: Изменился кардинально, полностью утратил общественную позицию. Так же изменился и его оппонент — «Октябрь». Если первый выражал когда-то «либеральные» настроения, а второй — «консервативные», то сейчас оба приравнены к общему знаменателю. Ни один советский журнал сейчас не отличается от другого. Но все-таки «Новый мир» иногда старается «держать марку», видимо, с молчаливого согласия аппарата. Публикация «Поисков жанра» имеет некоторую подоплеку. К концу 77-го года повесть, после жестокой редактуры, наконец была набрана. Я был в Париже, когда вдруг мне сообщили, что ее выбросили из номера и вообще из плана журнала. Тогда я дал телеграмму в журнал и потребовал, чтобы восстановили, и в интервью для «Голоса Америки» сказал об этом случае и о том, что мне надоели постоянные запреты и торможения, которые сопровождают меня всю мою литературную жизнь. И после этого вещь пошла в номер. Так что Париж — очень удобное место для разговора с «Новым миром».
МИНЧИН: Люди иногда спрашивают, зачем Аксенов пишет пьесы?
АКСЕНОВ: Я писал их с 64-го по 68-й, прошу прощения, не так уж много, всего четыре. Они как раз выражали идею «тотальной сатиры»: «Всегда в продаже», «Твой убийца» (должен был ставить А. Эфрос, но…) и «Аристофаниада с лягушками» (должен был ставить В. Плучек, но…). Чрезвычайно горжусь своей несостоявшейся драматургией. Что касается новой пьесы «Цапля»…
МИНЧИН: Одну секунду, это уже следующий этап, так сказать, ваш западный литературный период: «Стальная птица» в «Глаголе», «Золотая наша Железка» в «Ардисе», пьеса «Цапля» в «Континенте», то есть публикация произведений, которые так и не появились в Союзе. Почему вы решились?
АКСЕНОВ: Почему я решил все это печатать на Западе? Накапливалось все больше и больше литературы под поверхностью. Меня, признаться, раздражали слухи, что я кончился как писатель. Был, дескать, писателем «молодежной темы» и выдохся. В то время, как это были годы самой интенсивной работы. Я понял вдруг, что аппарат хочет из меня сделать литературного ремесленника. И в самом деле, поденной работы в кино и в издательствах было хоть отбавляй, свои же вещи я уже отчаялся напечатать. Тогда я принял решение публиковаться на Западе. Пусть будут маленькие тиражи, в тысячу раз меньше читателей, но тем не менее книги осуществятся, не сгниют. Рукописи, может, не горят, но гниют отлично. Так я пришел к этой идее — ВЫХОДИТЬ НА ПОВЕРХНОСТЬ, — и первым шагом была публикация в «Ардисе».
МИНЧИН: Как это отразилось на вашей жизни?
АКСЕНОВ: Поначалу начальство сделало вид, что не заметило этих публикаций. К тому же это были почти легальные книги, ведь я предлагал их повсюду. «Стальная птица» и «Золотая наша Железка» кочевали по всем редакциям, вплоть до «Байкала» и «Огней Сибири», часто были близки к публикации, но какая-то рука в последний момент их останавливала. Начальство — после их появления — дало понять, что согласно смотреть сквозь пальцы, если в дальнейшем я остановлюсь и не будет «Ожога». Однако я уже принял решение, в общем-то, довольно мучительное для русского прозаика — печататься за границей. Другого пути уже не было.
МИНЧИН: Следующей, по-моему, была «Цапля»? Какое, скажите, у вас сложилось впечатление от «Континента»? Как у автора и как у читателя.
АКСЕНОВ: В «Цапле» у меня много словесной игры, и я, честно говоря, сидя в Москве, боялся, что опечаток будет тьма. Связаться я не мог, прочитать гранки тоже, но вдруг был приятно поражен высокой культурой набора — думаю, это заслуга Наташи Горбаневской. В России каждый номер «Континента» — нарасхват, и для меня всегда это было захватывающее чтение. Журнал склоняется к политическому звучанию, общественному. Хотя и литературные публикации, многие из них, заслуживают внимания. Максимов сделал то, о чем трудно было и мечтать.
МИНЧИН: О нашумевшем, знаменитом, историческом «Метрополе»! «Метрополь» — что это значит?
АКСЕНОВ: Название «Метрополь» имеет три смысла. Прежде всего — это столица, мать городов, стало быть, Москва как наш непреходящий духовный центр. Во-вторых, «Метрополь» — это гостиница, крыша над головой для бездомной литературы. И третье — иронический смысл, связанный с метрополитеном. В русской литературе уже много десятилетий идет своего рода колониальная война. Писатели пытаются отстоять автономию литературы, ну, скажем, хотя бы отделить литературу от государства, как церковь. «Метрополь» тоже был выражением этой борьбы. За двадцать лет своей работы я наблюдал развитие второго пласта литературы, и в нем мне виделись гораздо большие достижения, чем на поверхности. Я был свидетелем многих драматических судеб весьма талантливых литераторов.
МИНЧИН: Например?
АКСЕНОВ: Генрих Сапгир, который не напечатал ни одного своего серьезного стихотворения «на поверхности». Евгений Рейн — очень большого дарования поэт, который к сорока пяти годам сумел напечатать два стихотворения в альманахе «Молодой Ленинград». Фридрих Горенштейн за двадцать лет опубликовал один рассказ в журнале, а у него на солидное собрание сочинений наберется произведений. И так далее. Передо мной вставала малообнадеживающая судьба следующего за нами молодого поколения. У них нет перспектив вынырнуть «на поверхность», потому что они не хотят следовать за толпой эпигонов «деревенской литературы», я бы ее назвал — «квасной литературой». Так мы решили осуществить попытку прорыва. Это был не бунт, а прорыв с такой конструктивной целью: не разрушение здания, а попытка открыть окна, чтобы поменьше воняло сортиром.
МИНЧИН: Об авторах?
АКСЕНОВ: Сначала мы думали, что не наберем авторов, а потом пришлось даже проводить селекцию. Появились новые имена: Тростников — философ, П. Кожевников — молодой прозаик, Ю. Кублановский — поэт, прежде в России не публиковавшийся. Первая большая публикация текстов покойного В. Высоцкого также имела место именно в «Метрополе».
МИНЧИН: Значит, сначала было «Что делать», а потом, в традициях русской демократии, «Кто виноват»?
АКСЕНОВ: Метко замечено. Травля «Метрополя» носила странный характер, все было шито белыми нитками. Трудно допустить, что они не знали о подготовке альманаха: вся Москва трепалась целый год, никто ничего не скрывал, а начальство молчало. Вой начался, когда мы назначили «вернисаж», завтрак с шампанским в кафе «Ритм», решили пригласить прессу: «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Ле Монд», «Литературную газету», «Советскую культуру»… Завтрак не состоялся, кафе закрыли на «санитарный день». Начались вызовы авторов вместе и по отдельности, потом состоялся первый секретариат, на который пригласили составителей, и второй, на который нас даже не пригласили, в своей собственной гоп-компании отвели душу. Однако наше дело было уже сделано: мы изготовили ровно двенадцать экземпляров нашего красивого альманаха, так как есть какая-то инструкция: что свыше двенадцати — это уже как бы нелегальное, противозаконное печатание и распространение литературы. Этот тираж — двенадцать экземпляров — мы и считали первым изданием. Один экземпляр, разумеется, вы знаете, — береженого Бог бережет — отправили на всякий случай на Запад. Еще один собирались представить в Госкомитет по издательским делам, добиваться официальной государственной публикации. Тут и началась свистопляска.
МИНЧИН: Какова судьба участников альманаха?
АКСЕНОВ: Судьба участников разная. Начальство старалось проявлять в этом деле гибкость, непривычную для себя. Меня вот вытолкали на Запад. Уехал Горенштейн, не видя для себя никаких перспектив. Исключили из Союза писателей молодых талантливых прозаиков — Попова и Ерофеева. В знак протеста против этого пошлого акта из членов этой мрачной организации вышли Липкин и Лиснянская. Белла Ахмадулина находится в изолированном положении, отрезанная от своих читателей. С другими стараются заигрывать, на что-то закрывают глаза, намекают на возможные подачки. Словом, типичная колониальная политика «разделяй и властвуй». Нелепая, конечно, политика в век такого широкого антиколониального движения.
МИНЧИН: О взорвавшемся «Ожоге»?
АКСЕНОВ: Да никого я вовсе и не думал взрывать. Я не взрывник — наоборот, пытаюсь разминировать поле. «Ожог» я задумал давно, очень давно, может быть, в середине 60-х. Толчком послужил смешной эпизод: не то в ВТО, не то в Доме кино я обратил внимание, когда одевался, на гардеробщика, похожего на министра. И мне кто-то сказал, что он действительно был важная птица при Сталине. Тут, разумеется, и зощенковский банщик вспомнился, и Жданов, и вообще вся эта бражка, которая из нас всю нашу жизнь старалась высосать. Но это был только толчок. Книга, к счастью, получилась не о них, а о жизни, слава Богу.
МИНЧИН: В русской литературе было, кажется, три врача: Чехов, Вересаев и Булгаков, Аксенов — врач четвертый. В «Ожоге» как ни в каком другом вашем произведении много сравнений, символов, метафор, связанных с анатомией и физиологией человеческого тела, — с медициной. Это дань профессии?
АКСЕНОВ: Вам так показалось? Странно, я даже не заметил этого. Может быть, и в самом деле дань профессии, как вы выразились.
МИНЧИН: Сейчас широко дискутируется употребление крепких выражений в современной прозе. Как вы относитесь к мату на страницах художественного произведения?
АКСЕНОВ: Я думаю, что мат может обогатить произведение, может и разрушить. Это зависит от чувства меры и от разных других причин, еще не выясненных теорий прозы.
МИНЧИН: Как вы думаете, будет ли когда-нибудь «Ожог» напечатан в России?
АКСЕНОВ: А почему бы и нет? Я — оптимист. В Америке постановлением суда когда-то был запрещен Генри Миллер. Его книги, я слышал, из Канады контрабандой возили. Ханжей раньше и здесь было навалом…
МИНЧИН: Пожалуй, в «Ожоге» вы первый раз приходите к Богу, явно и откровенно. Вы верите в Бога?
АКСЕНОВ: Я очень давно верю в Бога. Человек я, к сожалению, не очень церковный, но по мироощущению своему полностью религиозен. Не могу себе представить мир в его материалистической модели — без Бога, в машинной модели.
МИНЧИН: Вижу у вас Библию на столе. Разрешили вывезти из Советского Союза?
АКСЕНОВ: Если уж я ее ввез когда-то в СССР… С вывозом проблем было меньше. Впрочем, вспоминается смешной момент. Во время «шмона» в Шереметьево один таможенник подцепил нашу Библию. Он знал, что Библии запрещены к провозу, но как-то, видимо, перепутал направления. Майя (жена) ему объяснила, что мы не ввозим, а вывозим, что им это только на пользу.
МИНЧИН: Что стало с вашими книгами в Союзе?
АКСЕНОВ: Мои книги были изъяты из всех библиотек еще за год до моего отъезда.
МИНЧИН: Все-таки один коронный вопрос, а то как бы и не «интервью» получается. Что вы думаете по поводу затворничества Александра Исаевича Солженицына?
АКСЕНОВ: Ничего по этому поводу не думаю. Затворничество — это дело личное. Его новых книг жду, как всегда, с интересом. Очень высоко ценю Солженицына как писателя-историка.
МИНЧИН: Когда-то вас бичевали вместе с Андреем Вознесенским. Что он делает и делает ли что-нибудь?
АКСЕНОВ: Вознесенский — человек очень талантливый, это, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Он все время находится в творческом состоянии: либо продуцирует стихи, либо готовится к этому процессу. Ему нелегко, так как он старается выражать себя в условиях почти полной немоты. Но есть тут и нечто парадоксальное. Я иногда думаю, если бы немота кончилась и возникло бы много звука, то Вознесенскому, может быть, стало труднее. Он, по сути дела, тренированный «астронавт» и настолько выработал искусство работать в безвоздушной среде, что если бы вакуум вдруг заполнился, то… Понимаете?
МИНЧИН: О вашем друге — Белле Ахмадулиной?
АКСЕНОВ: Белла — это очень серьезное явление русской культуры. Белла — своего рода «Незнакомка», и была такой для целого поколения. Очень гармоничная личность, сливающаяся со своими стихами. Она живет внутри них. Сейчас она находится, я считаю, в очень важном для себя промежутке жизни и творчества. Возможно, ей нужно преодолеть свой романтический имидж, что она, кажется, и делает. Это тяжело, может быть, не только для нее, но и для всех нас, ее друзей. В принципе, мы не хотим, чтобы она уходила из своего привычного и любимого нами образа к другому. Но это, очевидно, необходимо для нее как для поэта. И для нас всех — вокруг. А мы живем вокруг нее — какие бы расстояния нас не разделяли.
МИНЧИН: Каких писателей-современников вы больше всего любите читать?
АКСЕНОВ: Битова, Владимова, Бахтина, Искандера, Трифонова… Из молодых мне интересно читать Попова, Виктора Ерофеева, Соколова… Поставьте, пожалуйста, и там и сям многоточия.
МИНЧИН: Пять ваших любимых романов?
АКСЕНОВ: «Фиеста», «Петербург», «Мастер и Маргарита», «Ловля форелей в Америке» Ричарда Бротигана, «Бильярд в половине десятого»[512].
МИНЧИН: И в заключение, по традиции: какие у вас…
АКСЕНОВ: Планы. После «Ожога» выходит мой следующий роман «Остров Крым». Начал писать новый большой роман о фотографах. Затем будет роман о моем поколении, о нашей юности в пятидесятых годах. Есть много попутных идей, но времени не хватает. Пока вот буду романы писать. Пока есть замыслы, их осуществлять надо, иначе эти замыслы «затариваются, затюриваются, цветут желтым цветком и с места скатываются…», как в газетах пишут.
P.S. Мы расстались перед Рождеством в Анн-Арборе, закончив наше основное интервью. С тех пор прошло семь лет; наверно, это совпадение, но — опять приближается Рождество. Теперь вы на постоянном месте жительства, опять в столице, в Вашингтоне. И если основное интервью было посвящено вашему русскому периоду творчества, то в «постскриптуме» мне хочется остановиться на последних семи годах, то есть сугубо американском периоде вашей жизни.
МИНЧИН: Когда мы встретились, вы были «новоприбывший» в Америке, теперь вы — «старожил». В чем изменилось ваше отношение к жизни, мышление, философия, — как?
АКСЕНОВ: Философия, по-моему, никак не изменилась, мышление — тоже. Отношение к жизни… Хочешь этого или не хочешь, я стал, в принципе, западным человеком, я стал отчасти членом американского общества, но не полностью, разумеется. Главным образом, я чувствую, что я очень основательно оторвался от советской жизни, это не значит, что я оторвался от русской культуры, может, я даже стал к ней ближе (будучи вдали…), так как все эти годы мне приходится читать курс лекций в университете и я глубже вникаю в классику, я стал как-то яснее и, кажется, более серьезно воспринимать прошлое моей Родины. Но вот от сегодняшнего дня оставленной Родины я отхожу как-то все дальше и дальше, я все больше себя ощущаю членом американского общества. Именно в моем качестве эмигранта. Может быть, это общество уникально тем, что эмигрант в нем не чувствует себя «белой вороной». Это ощущение «дома», я думаю, гораздо труднее возникло бы в какой-нибудь более гомогенной, чем Америка, структуре: предположим, в Японии или Канаде.
МИНЧИН: Ваше отношение к эмиграции, эмигрантам? В чем вы очаровались и разочаровались, покинув «родные пенаты»?
АКСЕНОВ: Я ощущаю себя русским эмигрантом в американском обществе. Эмигрантом — членом американского общества; мне кажется, что этот статус выглядит в Америке естественно, во всяком случае, у меня он не вызывает никакого «комплекса неполноценности». Примеры из классики показывают довольно красноречиво, что для писателя, оторванного от своей родной почвы, погоня за аутентичностью, за прежней аутентичностью, очень редко бывает успешной. И я думаю, что за ней не следует гнаться, следует, очевидно, пытаться выработать в себе новую аутентичность — аутентичность эмигранта. С этой точки зрения я смотрю и на нашу историческую эмиграцию, на все ее поколения, и теперь они стали для меня не каким-то абстрактным понятием, а как бы — родством. И я начинаю понимать то великолепное мужество, которое демонстрировали русские писатели в эмиграции на протяжении многих десятилетий.
МИНЧИН: После великолепного «Ожога» вышли книги «Остров Крым», «Скажи изюм». Как отнеслась читающая публика к «американскому» Аксенову? Чувствуете ли вы разницу между собой «прошлым» и настоящим?
АКСЕНОВ: «Ожог» и «Остров Крым» были написаны еще в России. Здесь за семь лет эмиграции я написал три большие книги: это роман «Бумажный пейзаж», роман «Скажи изюм» и книгу эссеистики, которая недавно вышла, «В поисках грустного бэби». Кроме этого, несметное количество эссе для радиопрограмм «Голоса Америки», «Свободы». Я собираюсь даже сделать какую-то выборку из этих программ, для того чтобы организовать их в книгу под несколько ироническим, самоироническим названием «Радиодневник писателя», по аналогии с «Дневником писателя» Федора Михайловича Достоевского. Также нередко участвую в американских изданиях, пишу кое-какие эссе, рецензии на книги, — вообще, я бы сказал, что довольно большая идет выдача. Конечно, могло быть и больше, если бы не моя университетская, преподавательская работа, но иногда, бросая взгляд назад, вспоминаю, что и в России очень многое отвлекало от прямой писательской работы.
Моя читающая публика несколько разделилась, она стала частично американской, которая читает мои произведения в переводе, разумеется, с некоторым опозданием; например, в этом сезоне вышел по-английски сборник моих рассказов и пьес «Право на остров» — это вещи, написанные по крайней мере семь-восемь лет назад. Но так или иначе, читатель, который у меня уже намечается и в Америке, он, я надеюсь, относится к моим вещам с интересом, мне так кажется. Во всяком случае, я это вижу по определенной реакции американской читающей публики и по отзывам прессы.
МИНЧИН: Оглядываясь назад: какое место занял в истории современной литературы альманах «Метрополь», рожденный в таких муках, и чем занимаются ныне его участники?
АКСЕНОВ: Я думаю, что он занял весьма достойное место в истории современной русской литературы и ее борьбе против тоталитарного давления. Несмотря на то, что даже сейчас, в период «гласности», «Метрополь» никогда не упоминается даже самыми смелыми и либеральными советскими критиками. Эта тенденция очень отчетливо прослеживается в столь дерзких дискуссиях на страницах советских журналов и еженедельников, когда уже, кажется, разрешено упоминать почти все, кроме литературы эмиграции и каких-то событий, связанных с живущими сейчас на Западе современными русскими писателями.
МИНЧИН: «В поисках грустного бэби» — ваша последняя книга — трогательный пример мемуарно-публицистического жанра. Были ли «предтечи» у этой книги?
АКСЕНОВ: Да, это моя вторая книга об Америке, первая книга вышла еще в Советском Союзе в 1976 году, она называлась «Круглые сутки нон-стоп». И еще, разумеется, был «предтеча» у моей книги — сама песенка «Грустный бэби» из кинофильма «Судьба солдата в Америке».
МИНЧИН: Что вы думаете по поводу происходящего в России? Верите ли вы в ЭТО?
АКСЕНОВ: То, что происходит сейчас в России, это, конечно, чудо. Если попытаться вспомнить совсем недавние «брежневские» времена и первые «послебрежневские» годы, можно точно сказать, что никто не рассчитывал на столь быстрые и такие весьма основательные изменения в обществе, в правящей партии, в прессе коммунистической. Все это выглядело тогда просто как мертвое тело, не способное ни на какие движения, и казалось, что партия в принципе уже никогда не сможет выдвинуть живого инициативного человека из своего состава. То, что произошло, это, разумеется, проявления каких-то еще малоизученных процессов, малопроявившихся процессов внутри страны. Тут присутствует масса всего: и много спекуляции, и попытка гальванизировать этот «труп», попытка начать какую-то новую жизнь, и демагогия, и искреннее желание спасти народ, спасти культуру и страну. Конечно, не могут произойти решительные изменения и резкие перемены внутри в принципе неподвижного и не изменившегося общества в течение одной ночи, возникает масса путаницы, какая-то глухая борьба, какие-то непонятные телодвижения. И наряду с искренними попытками оживить что-то, внести какую-то новую творческую струю в этот поток, присутствует масса фальши, масса дурного вкуса, и это даже становится еще более видным, чем в прежние, так называемые «застойные» времена, потому что стали больше говорить. Говорить стали больше, но манера речи еще не выработана, не выработана также и нравственная основа этой речи.
Верю ли я в это? Верить в это совершенно невозможно, здесь нет никакого постулата веры, я пока еще не увидел ничего священного. Другое дело, что можно надеяться, и я, разумеется, вместе со всеми надеюсь, что что-нибудь толковое получится.
МИНЧИН: Почему столько шума и прессы вокруг «Письма десяти»?
АКСЕНОВ: Я думаю, что и шум вокруг «Письма десяти» возник, потому что не выработана еще манера речи и нравственная основа «гласности». С другой стороны, множество сил «темных», прикидывающихся только сторонниками перемен, множество таких субъектов, которые в принципе остались на тех же своих местах, особенно в культуре, пытались демагогически раздуть это письмо и начать свистопляску идеологическую вокруг него, чтобы показать как бы «лицо врага» и «как мы смело боремся» с этим врагом. Когда меня спрашивают об этом и задают вопрос, почему ты подписал «письмо десяти», я обычно отвечаю: а как же я мог его не подписать, если бы я его не подписал, тогда бы оно было «письмом девяти», а не «письмом десяти».
МИНЧИН: Ходят слухи, что вы или собираетесь, или уже уехали в Советский Союз. Вернулись бы, появись такая возможность?
АКСЕНОВ: Слухам верить не надо. Нет, я не собираюсь уехать в Советский Союз. Я, честно говоря, после здешних зим, а может, главным образом, после того, что произошло со мной в течение нескольких лет перед эмиграцией, перед высылкой из Советского Союза, уже совершенно как-то не представляю себя работающим писателем в том обществе.
МИНЧИН: Что вы думаете о прибавлении в русской литературе Нобелевских лауреатов?
АКСЕНОВ: Вопрос как-то странно поставлен. Однако принцип его ясен, и я думаю — должен сказать, может, я вас этим огорчу, но я думаю, что Бродский — это совсем не то, что я имею в виду, когда говорю «поэт» или «поэзия».
Впрочем, он хоть и несуразно, нескладно, но вполне скроен для нобелевского фрака. Ничем не хуже своего предшественника, поэта из Нигерии Вола Соинки, и ничем не лучше своего главного соперника Чингиза Айтматова.
МИНЧИН: И, конечно: над чем вы работаете сейчас? Какие планы на ближайшую «пятилетку»?
АКСЕНОВ: Я сейчас, в промежутках между рассеиванием «разумного», «доброго», «вечного» в мэрилендских университетах, работаю попеременно над двумя проектами, один — это мой первый, сугубо американский роман, действие которого происходит целиком в Америке, а именно, в Вашингтоне. Второй — понемножку я начинаю писать семейную хронику, уходящую в двадцатые годы, хронику семьи московских интеллигентов.
МИНЧИН: Вопрос, который бы вы хотели задать самому себе и ответить?
АКСЕНОВ: Вопрос таков: который час, спрашиваю я себя, и отвечаю: 10 часов 10 минут. Всего доброго.
21 декабря 1987 г. Перед Рождеством, из Нью-Йорка в Вашингтон
Последнее интервью[513]. Беседовала Ольга Кучкина 12.01.2008
— Вася, давай поговорим о любви. У Тургенева была Виардо, у Скотта Фитцджеральда — Зельда, у Герцена — Наташа, не будь ее, не родилась бы великая книга «Былое и думы». Что такое для писателя его женщина? Случалось в твоей жизни, что ты писал ради девушки, ради женщины?
— Так не было… Но все же такое возвышенное было. И наша главная любовь — я не знаю, как Майя на это смотрит, но я смотрю так: Майя, да.
— Хорошо помню: Дом творчества в Пицунде, ты появляешься с интересной блондинкой, и все шушукаются, что, мол, Вася Аксенов увел жену у известного кинодокументалиста Романа Кармена…
— Я ее не уводил. Она была его женой еще лет десять.
— Ты с ним был знаком?
— Нет. Я один раз ехал с ним в «Красной стреле» в Питер. Я был под банкой. А я уже слышал о его жене. И я ему говорю: правда ли, что у вас очень хорошенькая жена? Он говорит: мне нравится. Так он сказал, и может, где-то отложилось.
— Сколько лет тебе было?
— Года 32 или 33. Я был женат. Кира у меня была жена. Кира — мама Алексея. И с ней как-то очень плохо было… На самом деле мы жили, в общем, весело. До рождения ребенка, до того, как она так располнела…
— Все изменилось оттого, что она располнела? Тебя это стало… обижать?..
— Ее это стало обижать. Я к этому времени стал, ну, известным писателем. Шастал повсюду с нашими тогдашними знаменитостями… разные приключались приключения… она стала сцены закатывать…
— А начиналось как студенческий брак?
— Нет, я уже окончил мединститут в Питере. И мы с другом поехали на Карельский перешеек, наши интересы — спорт, джаз, то-се. И он мне сказал: я видел на танцах одну девушку… Она гостила там у своей бабушки, старой большевички. Та отсидела в тюрьме, ее только что отпустили, это был 1956 год. А сидела она с 1949-го…
— И твоя мама сидела…
— Моя мама сидела в 1937-м. А Кирину бабушку каким-то образом приплели к делу Вознесенского…
— Какого Вознесенского?
— Не Андрея, конечно, а того, который направлял всю партийную работу в Советском Союзе. Его посадили и расстреляли. Приходил его племянник, который рассказывал, как тот сидел в тюрьме в одиночке и все время писал письма Сталину, что ни в чем не виноват. И вдруг в один прекрасный момент Политбюро почти в полном составе вошло в его камеру, и он, увидев их, закричал: я знал, друзья мои, что вы придете ко мне! И тогда Лазарь Каганович так ему в ухо дал, что тот оглох.
— Зачем же они приходили?
— Просто посмотреть на поверженного врага.
— Садисты…
— А Кира кончала институт иностранных языков и пела разные заграничные песенки очень здорово…
— И твое сердце растаяло.
— Вот именно. А потом… всякие штучки были…
— Штучки — любовные увлечения?
— Любовные увлечения. Это всегда по домам творчества проходило. И вот как-то приезжаем мы в Дом творчества в Ялте. Там Поженян, мой друг. Мы с ним сидим, и он потирает ручки: о, жена Кармена тут…
— Потирает ручки, думая, что у тебя сейчас будет роман?
— Он думал, что у него будет роман. Она только что приехала и подсела к столу Беллы Ахмадулиной. А мы с Беллой всегда дружили. И Белла мне говорит: Вася, Вася, иди сюда, ты знаком с Майей, как, ты не знаком с Майей!.. И Майя так на меня смотрит, и у нее очень измученный вид, потому что у Кармена был инфаркт, и она всю зиму за ним ухаживала, и когда он поправился, она поехала в Ялту. А потом она стала хохотать, повеселела. А в Ялте стоял наш пароход «Грузия», пароход литературы. Потому что капитаном был Толя Гарагуля, он обожал литературу и всегда заманивал к себе, устраивая нам пиры. И вот мы с Майей… Майя почему-то всегда накрывала на стол, ну как-то старалась, я что-то такое разносил, стараясь поближе к ней быть…
— Сразу влюбился?
— Да. И я ей говорю: вот видите, какая каюта капитанская, и вообще как-то все это чревато, и завтра уже моя жена уедет… А она говорит: и мы будем ближе друг к другу. Поженян все видит и говорит: я ухожу… И уплыл на этой «Грузии». А мы вернулись в Дом творчества. Я проводил Киру, и начались какие-то пиры. Белла чего-то придумывала, ходила и говорила: знаете, я слыхала, что предыдущие люди закопали для нас бутылки шампанского, давайте искать. И мы искали и находили.
— Развод Майи был тяжелым?
— Развода как такового не было, и не было тяжело, она хохотуха такая была. Все происходило постепенно и, в общем, уже довольно открыто. Мы много раз встречались на юге и в Москве тоже. Я еще продолжал жить с Кирой, но мы уже расставались. Конечно, было непросто, но любовь с Майей была очень сильная… Мы ездили повсюду вместе. В Чегет, в горы, в Сочи. Вместе нас не селили, поскольку у нас не было штампа в паспорте, но рядом. За границу, конечно, она ездила одна, привозила мне какие-то шмотки…
— Время самое счастливое в жизни?
— Да. Это совпало с «Метрополем», вокруг нас с Майей все крутилось, она все готовила там. Но это уже после смерти Романа Лазаревича. Мы в это время были в Ялте, ее дочь дозвонилась и сказала.
— Он не делал попыток вернуть Майю?
— Он нет, но у него друг был, Юлиан Семенов, он вокруг меня ходил и говорил: отдай ему Майку.
— Что значит отдай? Она не вещь.
— Ну да, но он именно так говорил.
— У тебя нет привычки, как у поэтов, посвящать вещи кому-то?
— Нет. Но роман «Ожог» посвящен Майе. А рассказ «Иван» — нашему Ванечке. Ты слышала, что случилось с нашим Ванечкой?
— Нет, а что? Ванечка — внук Майи?
— Ей внук, мне был сын. Ему было 26 лет, он окончил американский университет. У Алены, его матери, была очень тяжелая жизнь в Америке, и он как-то старался от нее отдалиться. Уехал в штат Колорадо, их было три друга: американец, венесуэлец и он, три красавца, и они не могли найти работы. Подрабатывали на почте, на спасательных станциях, в горах. У него была любовь с девушкой-немкой, они уже вместе жили. Но потом она куда-то уехала, в общем, не сладилось, и они трое отправились в Сан-Франциско. Все огромные такие, и Ваня наш огромный. Он уже забыл эту Грету, у него была масса девушек. Когда все съехались к нам на похороны, мы увидели много хорошеньких девушек. Он жил на седьмом этаже, вышел на балкон… Они все увлекались книгой, написанной якобы трехтысячелетним китайским мудрецом. То есть его никто не видел и не знал, но знали, что ему три тысячи лет. Я видел эту книгу, по ней можно было узнавать судьбу. И Ваня писал ему письма. Там надо было как-то правильно писать: дорогому оракулу. И он якобы что-то отвечал. И вроде бы он Ване сказал: прыгни с седьмого этажа…
— Какая-то сектантская история.
— Он как будто и не собирался прыгать. Но у него была такая привычка — заглядывать вниз…
— Говорят, не надо заглядывать в бездну, иначе бездна заглянет в тебя.
— И он полетел вниз. Две студентки тогда были у него. Они побежали к нему, он уже лежал на земле, очнулся и сказал: я перебрал спиртного и перегнулся через перила. После этого отключился и больше не приходил в себя.
— Как вы перенесли это? Как Майя перенесла?
— Ужасно. Совершенно ужасно. Начался кошмар.
— Когда это случилось?
— В 1999 году. Мы с ним дружили просто замечательно. Как-то он оказался близок мне. Лучшие его снимки я делал. Я еще хотел взять его на Готланд. Я, когда жил в Америке, каждое лето уезжал на Готланд, в Швецию, там тоже есть дом творчества наподобие наших, и там я писал. Этот дом творчества на вершине горы, а внизу огромная церковь святой Марии. Когда поднимаешься до третьего этажа, то видишь химеры на церкви, они заглядывают в окна. Я часто смотрел и боялся, что химера заглянет в мою жизнь. И она заглянула. Майя была в Москве, я — в Америке. Мне позвонил мой друг Женя Попов и сказал…
— Мне казалось, что, несмотря ни на что, жизнь у тебя счастливая и легкая.
— Нет, очень тяжелая.
— Ты написал рассказ о Ванечке — тебе стало легче? Вообще, когда писатель перерабатывает вещество жизни в прозу, становится легче?
— Не знаю. Нет. Писать — это счастье. Но когда пишешь про несчастье — не легче. Она там, в рассказе, то есть Майя, спрашивает: что же мы теперь будем делать? А я ей отвечаю: будем жить грустно.
— Вася, а зачем ты уехал из страны — это раз и зачем вернулся — два?
— Уехал, потому что они меня хотели прибрать к рукам.
— Ты боялся, что тебя посадят?
— Нет. Убьют.
— Убьют? Ты это знал?
— Было покушение. Шел 1980 год. Я ехал из Казани, от отца, на «Волге», летнее пустое шоссе, и на меня вышли «КамАЗ» и два мотоцикла. Он шел прямо мне навстречу, они замкнули дорогу, ослепили меня…
— Ты был за рулем? Как тебе удалось избежать столкновения?
— Просто ангел-хранитель. Я никогда не был каким-то асом, просто он сказал мне, что надо делать. Он сказал: крути направо до самого конца, теперь газ, и крути обратно, обратно, обратно. И мы по самому краю дороги проскочили.
— А я считала тебя удачником… Ты так прекрасно вошел в литературу, мгновенно, можно сказать, начав писать, как никто не писал. Работа сознания или рука водила?
— В общем-то рука водила, конечно. Я подражал Катаеву. Тогда мы с ним дружили, и он очень гордился, что мы так дружны…
— Ты говоришь о его «Алмазном венце», «Траве забвения», о том, что стали называть «мовизмом», от французского «мо» — слово, вкус слова как такового? А у меня впечатление, что сперва начал ты, тогда и он опомнился и стал по-новому писать.
— Может быть. Вполне. Он мне говорил: старик, вы знаете, у вас все так здорово идет, но вы напрасно держитесь за сюжет, не надо развивать сюжет.
— У тебя была замечательная бессюжетная вещь «Поиски жанра» с определением жанра «поиски жанра»…
— К этому времени он с нами разошелся. Уже был «Метрополь», а он, выступая на своем 80-летии по телевизору, сказал: вы знаете, я так благодарен нашей партии, я так благодарен Союзу писателей… Кланялся. Последний раз я проезжал по Киевской дороге и увидел его — он стоял, такой большой, и смотрел на дорогу… Если бы не было такой угрозы моим романам, я бы еще, может, не уехал. Были написаны «Ожог», «Остров Крым», масса задумок. Все это не могло быть напечатано здесь и стало печататься на Западе. И на Западе же, когда я начал писать свои большие романы, произошла такая история. Мое главное издательство «Рэндом Хауз» продалось другому издательству. Мне мой издатель сказал: не волнуйся, все останется по-старому. Но они назначили человека, который сперва присматривался, а потом сказал: если вы хотите получать прибыль, вы должны выгнать всех интеллектуалов.
— И ты попал в этот список? Прямо как у нас.
— Приноси доход или пропадешь — у них такая поговорка. Этот человек стал вице-президентом издательской компании, и я понял, что моих книг там больше не будет. И я вдруг понял, что возвращаюсь в Россию, потому что опять спасаю свою литературу. Главное, я вернулся в страну пребывания моего языка.
— Вася, ты жил в Америке и в России. Что лучше для жизни там и здесь?
— Меня греет то, что в Америке читают мои книги. Это, конечно, не то, что было в СССР… Но меня издают тиражами 75 тысяч, 55 тысяч…
— Но я спрашиваю не о твоих эгоистических, так сказать, радостях, я спрашиваю о другом: как устроена жизнь в Америке и как у нас?
— В Америке удивительная жизнь на самом деле. Невероятно удобная, уютная. Во Франции не так уютно, как в Америке.
— В чем удобство? К тебе расположены, тебе улыбаются, тебе помогают?
— Это тоже. Там много всего. Там университет берет на себя множество твоих забот и занимается всей этой бодягой, которую представляют формальности жизни, это страшно удобно.
— А что ты любишь в России?
— Язык. Мне очень язык нравится. Больше ничего не могу сказать.
— Кому и чем чувствуешь ты себя обязанным в жизни?
— Я сейчас пишу одну штуку о моем детстве. Оно было чудовищным. И все-таки чудовище как-то давало мне возможность выжить. Мама отсидела, отец сидел. Когда меня разоблачили, что я скрыл сведения о матери и об отце, меня выгнали из Казанского университета. Потом восстановили. Я мог загреметь на самом деле в тюрьму. Потом такое удачное сочетание 60-х годов, «оттепели» и всего вместе — это закалило и воспитало меня.
— Ты чувствовал себя внутри свободным человеком?
— Нет, я не был свободным человеком. Но я никогда не чувствовал себя советским человеком. Я приехал к маме в Магадан на поселение, когда мне исполнилось шестнадцать лет, мы жили на самой окраине города, и мимо нас таскались вот эти конвои, я смотрел на них и понимал, что я не советский человек. Совершенно категорично: не советский. Я даже один раз прицеливался в Сталина.
— Как это, в портрет?
— Нет, в живого. Я шел с ребятами из строительного института по Красной площади. Мы шли, и я видел Мавзолей, где они стояли, — черные фигурки справа, коричневые слева, а в середине — Сталин. Мне было девятнадцать лет. И я подумал: как легко можно прицелиться и достать его отсюда.
— Представляю, будь у тебя что-то в руках, что бы с тобой сделали.
— Естественно.
— А сейчас ты чувствуешь себя свободным?
— Я почувствовал это, попав на Запад. Что я могу поехать в любое место земного шара, и могу вести себя, как захочу. Вопрос только в деньгах.
— Как и у нас сейчас.
— Сейчас все совсем другое. Все другое. Кроме прочего, у меня два гражданства.
— Если что, будут бить не по паспорту.
— Тогда я буду сопротивляться.
— Возвращаясь к началу разговора, женщина для тебя, как писателя, продолжает быть движущим стимулом?
— Мы пожилые люди, надо умирать уже…
— Ты собираешься?
— Конечно.
— А как ты это делаешь?
— Думаю об этом.
— Ты боишься смерти?
— Я не знаю, что будет. Мне кажется, что-то должно произойти. Не может это так просто заканчиваться. Мы все дети Адама, куда он, туда и мы, ему грозит возвращение в рай, вот и мы вслед за ним…
Блиц-опрос
— Что значит красиво стареть?
— Это ты у меня взяла?
— У себя, а у тебя есть такой вопрос?
— По-моему, есть.
— И какой ответ?
— Я не помню.
— А сымпровизировать?
— Все-таки не сдаваться, а как-то кружиться.
— Как бы ты прожил свою жизнь, если бы не стал писателем?
— Не могу себе представить.
— Какое главное свойство твоего характера?
— Я люблю писать.
— А что в других людях тебе нравится больше всего?
— То, что они не любят писать.
— Есть ли у тебя какой-нибудь девиз жизненный или жизненное правило?
— Я считаю, что надо все время писать. Раз ты писатель, то, когда ты пишешь, у тебя все должно само получаться.
Список персоналий
Абдрашитов Вадим Юсупович (р. 1945), кинорежиссер.
Абрамов Федор Александрович (1920–1983), писатель.
Авербах Илья Александрович (1934–1986), кинорежиссер, сценарист.
Азо Анатолий Георгиевич (1934–2007), актер театра и кино.
Айтматов Тенгиз Торекулович (1928–2008), киргизский писатель, писавший на русском и киргизском языках.
Акашукели Резо — см. с. 253.
Аксенов Адреян Васильевич (1910–1980?), младший брат П.В. Аксенова, отца писателя.
Аксенов Павел Васильевич (1899–1991), отец Василия Аксенова.
Аксенова Антонина Павловна (р. 1945), приемная дочь Е.С. Гинзбург.
Аксенова Ксения Васильевна (1893–1983), старшая сестра П.В. Аксенова, отца писателя.
Аксенова Майя Павловна (1925–2010), дочь П.В. Аксенова от первого брака, сводная сестра Василия Аксенова.
Аксенова Матильда Андреевна (1911–1997), дочь К.В. Аксеновой, двоюродная сестра Василия Аксенова.
Аксенова-Овчинникова Майя Афанасьевна (р. 1930), вторая жена Василия Аксенова.
Алданов Марк (1886–1957), писатель, публицист, автор очерков на исторические темы. С 1987 года произведения Алданова стали активно издаваться в СССР и в России.
Алена, Гринберг Алона (1952–2008), дочь Майи Аксеновой.
Алешковский Юз (р. 1929), писатель, поэт, бард. После публикации в альманахе «Метрополь» в 1979 г. вынужден был эмигрировать.
Алов Александр Александрович (1923–1983), кинорежиссер, драматург.
Амирэджиби Чабуа Ираклиевич (р. 1921), классик грузинской литературы. Наиболее известен его роман «Дата Туташхиа».
Андреев Алексей Николаевич — литературный критик, прозаик, заместитель главного редактора журнала «Октябрь».
Андронов Николай Иванович — см. с. 523.
Анофриев Олег Андреевич (р. 1930), актер театра и кино, режиссер, певец, автор песен.
Анчаров Михаил Леонидович (1923–1990), писатель, поэт, бард, драматург, сценарист и художник. Один из первых исполнителей в жанре авторской песни.
Апдайк Джон (1932–2009), американский писатель, участник альманаха «Метрополь».
Арканов Аркадий (Аркадий Михайлович Штейнбок; р. 1933), писатель-сатирик, драматург.
Астафьев Виктор Петрович (1924–2001), писатель.
Ахмадулина Белла Ахатовна (1937–2010), поэтесса, писательница, переводчица.
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966), поэт, классик русской литературы.
Ахметдянов — см. с. 229.
Бабенышева Сарра Эммануиловна (1910–2007), литературный критик, правозащитница, эмигрировала из Советского Союза в начале 80-х годов.
Балтер Борис Исаакович (1919–1974), писатель, автор повести «До свидания, мальчики!».
Бараташвили Николай (Николоз) (1817–1845), поэт, классик грузинской литературы.
Барметова Ирина Николаевна — литературный критик, главный редактор журнала «Октябрь» с 2002 г.
Барышников Михаил Николаевич (р. 1948), артист балета, балетмейстер. В 1974 г. во время гастролей в Канаде стал невозвращенцем. Живет в Америке.
Баташев Алексей Николаевич (р. 1934), старейшина джазовой критики, историк и активный популяризатор джаза, автор первой монографии «Советский джаз».
Бахчанян Вагрич Акопович — см. с. 452.
Бахчиев Гера — см. с. 243.
Бек Татьяна Александровна (1949–2005), поэтесса, литературный критик, литературовед.
Белов — см. с. 35
Беляев Альберт Андреевич — см. с. 471.
Бенсон Рей — см. с. 519.
Берберова Нина Николаевна (1901–1993), писательница, автор документально-биографических исследований. Эмигрировала во Францию в 1922 г. вместе с поэтом В.Ф.Ходасевичем (1886–1939).
Березовский Борис Абрамович (р. 1946), российский предприниматель и политический деятель, в 2001 г. эмигрировал в Англию.
Берман Филипп (р. 1936), писатель, драматург. Участник и составитель антологии «Каталог». Был выслан из СССР в 1981 г.
Бисти Дмитрий Спиридонович (1925–1990), художник-график, иллюстратор и оформитель книг.
Битов Андрей Георгиевич (р. 1937), писатель.
Блейк Патриция — см. с. 159.
Бобышев Дмитрий Васильевич (р. 1936), поэт, переводчик, эмигрировал из Советского Союза в 1979 г. В 1960-е годы вместе с И.Бродским, А. Найманом, Е. Рейном входил в ближайший круг Анны Ахматовой.
Богораз Лариса Иосифовна (1929–2004), лингвист, публицист, правозащитница. В 1989–1996 гг. — председатель Московской Хельсинкской группы.
Богуславская Зоя Борисовна (р. 1929), прозаик, эссеист, драматург, автор крупных культурных проектов в России и за рубежом. По проекту З.Б. Богуславской была учреждена первая в России независимая премия «Триумф» во всех видах искусства. Вдова поэта Андрея Вознесенского.
Боннэр Елена Георгиевна — см. с. 422.
Борисова Инна Петровна — литературный критик.
Борисова Майя Ивановна (1932–1996), поэт, прозаик, журналист.
Боровик Генрих Авиэзерович — см. с. 472.
Боровой Константин Натанович (р. 1948), предприниматель и политик.
Боровский Давид Львович (1934–2006), театральный художник, сценограф.
Бородин Леонид Иванович — см. с. 512.
Брин Сергей Михайлович (р. 1973), американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники. Один из основателей поисковой системы Google.
Бродский Иосиф Александрович (1940–1996), поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии. Эмигрировал из Советского Союза в 1972 г.
Бротиган Ричард (англ. Richard Brautigan; 1935–1984), американский писатель и поэт, знаковая фигура контркультуры 1960–70-х годов. Самый известный его роман «Рыбалка в Америке» (1961; в переводе И. Кормильцева «Ловля форели в Америке»).
Будкер Герш Ицкович (1918–1977), физик, академик АН СССР.
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), писатель.
Бурштейн Анатолий Израилевич (р. 1935), российский физик-теоретик.
Быков Василь Владимирович (1924–2003), белорусский писатель и общественный деятель.
Вайскопф Михаил Яковлевич (р. 1948), израильский филолог-славист.
Вакамиа Лиза Риоко — американский филолог, славистка.
Ваксберг Аркадий Иосифович (1927–2011), адвокат, писатель, драматург, киносценарист.
Вальтер Антон Яковлевич (1899–1959), врач, был арестован в 1935 г., в Магадане в 50-е годы стал мужем Е.С. Гинзбург.
Вампилов Александр Валентинович (1937–1972), драматург.
Варшавская Юлия — см. с. 23
Васильева Светлана Анатольевна (р. 1950), поэт, прозаик, литературный и театральный критик.
Вахтин Борис Борисович (1930–1981), писатель, драматург, сценарист, философ, переводчик, востоковед-синолог.
Вегин Петр Викторович (1939–2007), поэт, в 1989 г. выехал в США для чтения лекций и стал невозвращенцем.
Веллер Михаил Иосифович (р. 1948), писатель.
Вергасов Илья Захарович (1914–1981), писатель, ветеран Отечественной войны; дача Вергасовых в Переделкино соседствовала с домом Б. Ахмадулиной и Б. Мессерера.
Вересаев Викентий Викентьевич (1867–1945), писатель.
Виан Борис (фр. Boris Vian; 1920–1959), французский прозаик, поэт, джазовый музыкант и певец.
Виардо Полина (1821–1910), французская певица, близкий друг И.С. Тургенева.
Вигорелли Джанкарло — см. с. 477.
Винокуров Изидор Григорьевич — см. с. 100.
Виттих Владимир Андреевич (р. 1940), доктор технических наук, профессор, джазовый музыкант.
Влади Марина (р. 1938), французская актриса и певица, жена Владимира Высоцкого с 1970 по 1980 гг.
Владимов Георгий Николаевич (1931–2003), писатель, правозащитник, руководил московским отделением «Международной амнистии», под угрозой ареста вынужден был эмигрировать из Советского Союза в мае 1983 года. С 1984 по 1986 гг. был главным редактором журнала «Грани».
Владимова Наталья Евгеньевна — жена Г.Н.Владимова.
Вогман Михаил Викторович (р. 1984), востоковед.
Вознесенский Андрей Андреевич (1933–2010), поэт.
Вознесенский Николай Алексеевич (1903–1950), советский политический и государственный деятель, экономист, расстрелян в 1950 г.
Войнович Владимир Николаевич (р. 1932), прозаик, поэт, драматург. Эмигрировал из СССР в 1980 г., в 1981 г. лишен советского гражданства.
Волковицкий Петр — физик, советский эмигрант (1995), профессор американского Национального института стандартов и технологий.
Володин Александр Моисеевич (1919–2001), драматург, сценарист, поэт.
Волчек Галина Борисовна (р. 1933), актриса театра и кино, театральный режиссер.
Воронов В.И. — см. с. 101.
Ворошильский Виктор — см. с. 518.
Ворт Дин — см. с. 454.
Врангель Петр Николаевич (1878–1828), генерал, один из руководителей Белого движения во время гражданской войны.
Вуди Герман (Вудро Чарлз Томас Герман; 1913–1987), американский джазовый кларнетист, руководитель джаз-бэнда.
Высоцкий Владимир Семенович (1938–1980), актер, поэт, бард.
Гавро Лайош (1894–1938), венгерский интернационалист, участник гражданской войны в России на стороне большевиков.
Газман — см. с. 35
Галич Александр Аркадьевич (1918–1977), поэт, бард, композитор, драматург, эмигрировал из Советского Союза в 1974 г.
Галосси Джонатан (англ. Jonathan Galassi; р. 1949), в начале 80-х годов редактор нью-йоркского издательства «Random House», в 1986 г. перешел в издательство «Farrar, Straus and Giroux», президентом которого является в настоящее время; поэт и переводчик итальянской поэзии.
Гарагуля Анатолий — капитан теплохода «Грузия», курсировавшего на крымско-кавказской линии Черного моря.
Гашек Ярослав (1883–1923), чешский писатель-сатирик.
Гельфанд Израиль Моисеевич (1913–2009), математик, биолог, педагог и организатор математического образования, в 1989 г. эмигрировал в США.
Генделев Михаил Самуэлевич (1950–2009), поэт, в 1979 г. эмигрировал в Израиль.
Гербер Алла Ефремовна (р. 1932), кинокритик, писательница, политический и общественный деятель, правозащитница.
Гердт Зиновий Ефимович (1916–1996), актер театра и кино.
Герра Рене (фр. Rene Guerra; р. 1946), французский филолог-славист, коллекционер.
Герцен Александр Иванович (1812–1870), писатель, философ, общественный деятель.
Гинзбург Александр Ильич — см. с. 537.
Гинзбург Евгения Семеновна (Соломоновна) (1904–1977), журналистка, писатель, автор книги «Крутой маршрут», мать В.П. Аксенова.
Гиршвельд Борис Исаакович — см. с. 229.
Гладилин Анатолий Тихонович (р. 1935), писатель; в эмиграции с 1976 года; глава русской редакции американского радио «Свобода» в Париже.
Гладилина Мария Яковлевна — жена А.Т. Гладилина.
Глезер (Глейзер) Александр Давидович — см. с. 452.
Глэд Джон (р. 1941), американский филолог-славист, переводчик русской литературы.
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель, драматург, классик русской литературы.
Гозман Леонид Яковлевич (р. 1950), политик.
Гольдштейн Марк — см. с. 655.
Горбаневская Наталья Евгеньевна (р. 1931), поэтесса, переводчица, правозащитница. Эмигрировала из Советского Союза в 1975 году, постоянная сотрудница журнала «Континент» и парижской газеты «Русская мысль».
Горенштейн Фридрих Наумович (1932–2002), писатель, драматург, сценарист. Эмигрировал из Советского Союза в 1980 г.
Горин Григорий Израилевич (1940–2000), драматург, прозаик, писатель-сатирик, сценарист.
Горковенко Юрий Иванович (р. 1941), режиссер, сценарист.
Городницкий Александр Моисеевич (р. 1933), ученый-геофизик, член Российской академии естественных наук, поэт, бард.
Горчаков Овидий Александрович (1924–2000), разведчик, писатель и сценарист.
Гранин Даниил Александрович (р. 1919), писатель и общественный деятель.
Грасс Гюнтер (р. 1927), немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии.
Гребенщиков Борис Борисович (р. 1953), музыкант, поэт, лидер рок-группы «Аквариум».
Григорьев Владимир Викторович (р. 1958), заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Гриневич Дмитрий Петрович (1895–1966), художник.
Гришковец Евгений Валерьевич (р.1967), писатель, драматург, режиссер.
Грошев Валерий — см. с. 332.
Губайловский Владимир Алексеевич (р. 1969), поэт, литературный критик, эссеист.
Гудмен Бенни (1909–1986), легендарный джазовый кларнетист, дирижер.
Гумилев Лев Николаевич (1912–1992), ученый, историк-этнолог, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой.
Гумилев Николай Степанович (1886–1921), поэт Серебряного века.
Гурченко Людмила Марковна (1935–2011), актриса театра и кино, эстрадная певица.
Гуцко Денис Николаевич (р. 1969), писатель, лауреат премии Русский Букер (2005) за роман «Без пути-следа».
Даль Олег Иванович (1941–1981), актер театра и кино.
Даниэль Юлий Маркович (1925–1988), поэт, переводчик, писатель, диссидент, с 1965 по 1970 гг. находился в заключении.
Дар Давид Яковлевич (1910–1980), писатель.
Демичев Петр Нилович (1917–2010), советский государственный и партийный деятель.
Державин Гавриил Романович (1743–1816), поэт, классик русской литературы.
Джалиль Муса (1906–1944), татарский поэт, автор «Моабитской тетради», написанной в фашистских застенках перед казнью.
Джойс Джеймс (1882–1941), ирландский писатель и поэт, один из столпов европейской литературы ХХ века.
Довлатов Сергей Донатович (1941–1990), писатель, эмигрировал из Советского Союза в 1978 году; в Нью-Йорке основал русскую газету «Новый американец».
Доктороу Эдгар Лоуренс (англ. Edgar Lawrence Doctorow; р. 1931), американский писатель, лауреат многих профессиональных премий. Автор романов «Добро пожаловать в тяжёлые времена», «Регтайм», «Всемирная выставка», «Билли Батгейт» и других. Роман «Регтайм» переведен на русский язык Василием Аксеновым в 1976 г.
Домбровская Елена Юльевна — см. с. 559.
Евстигнеев Евгений Александрович (1926–1992), актер театра и кино.
Евтушенко Евгений Александрович (р. 1929), поэт.
Елигулашвили Эдуард Вениаминович (1931–1999), журналист, литературный критик, переводчик, литературовед. Более четверти века работал собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Грузии.
Ермаш Филипп Тимофеевич — см. с. 426.
Ерофеев Венедикт Васильевич (1938–1990), писатель, автор поэмы в прозе «Москва — Петушки».
Ерофеев Виктор Владимирович (р. 1947), писатель.
Есипов Виктор Михайлович (р. 1939), поэт, литературовед, пушкинист.
Ефимов Игорь Маркович (р. 1937), писатель, эмигрировал из Советского Союза в 1979 году, работал в издательстве «Ардис», затем основал в г. Анн-Арбор русское издательство «Эрмитаж».
Ефремов Олег Николаевич (1927–2000), актер театра и кино, театральный режиссер.
Жданов Андрей Александрович (1896–1948), советский государственный и партийный деятель, организатор погромной кампании против журналов «Звезда» и «Ленинград» в 1946 г.
Женя Сидоров — см. Сидоров Евгений Юрьевич.
Жук Вадим Семенович (р.1947), поэт, драматург, актер.
Жуков Юрий Александрович (р. 1908), советский журналист-международник.
Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991), актер, мастер художественного слова, народный артист СССР.
Журбин Александр Борисович (р. 1945), композитор.
Залка Мате (1896–1937), венгерский писатель и революционер, активный участник гражданских войн в России 1918–1921 и Испании 1936–1939 гг.
Зархи Александр Григорьевич (1908–1997), драматург, кинорежиссер.
Збарский Лев (Феликс) Борисович (р. 1931), художник книги, театра и кино; эмигрировал из Советского Союза в середине 70-х годов.
Збруев Александр Викторович (р. 1938), актер театра и кино, исполнитель главной роли в фильме «Мой младший брат» по повести Василия Аксенова «Звездный билет».
Зерчанинов Юрий Леонидович (1931–2009), заведующий отделом публицистики журнала «Юность» в 60-е годы.
Зиновьев Александр Александрович (1922–2006), логик, философ, социолог, писатель, автор книги «Зияющие высоты», за которую был лишен всех научных званий, военных наград и уволен с работы. В 1978 г. выслан из Советского Союза.
Зорин Леонид Генрихович (р. 1924), писатель, драматург, сценарист.
Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958), писатель-сатирик.
Зубков — см. с. 393.
Ибраимов Вели (1888–1928), крымский политический деятель, большевик.
Ильичев Леонид Федорович (1906–1990), советский государственный и партийный деятель, в 1961–1965 гг. секретарь ЦК КПСС и председатель идеологической комиссии.
Ильф Илья Арнольдович (1897–1937), писатель-сатирик, соавтор Евгения Петрова.
Иоселиани Отар Давыдович (р. 1934), кинорежиссер, с 1984 г. живет во Франции.
Иртеньев Игорь Моисеевич (р. 1947), поэт.
Искандер Фазиль Абдулович (р. 1929), прозаик, поэт.
Ка´зак Вольфганг (1927–2003), немецкий славист, литературный критик, переводчик русской литературы, составитель «Энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года».
Кабаков Александр Абрамович (р. 1943), писатель.
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991), советский государственный и партийный деятель.
Казаков Юрий Павлович (1927–1982), писатель.
Калинин Михаил Иванович — см. с. 415.
Камшалов Александр Иванович (р. 1932), общественный и государственный деятель, секретарь ЦК ВЛКСМ с 1962 по 1970 г., в 1980–1991 г. председатель государственного комитета СССР по кинематографии.
Карабчиевский Юрий Аркадьевич (1938–1992), поэт, прозаик, литературный критик-эссеист.
Карелин Лазарь Викторович (1920–2005), писатель.
Кармен Роман Лазаревич (1906–1978), кинооператор и кинодокументалист, фронтовой оператор. Народный артист СССР.
Карпенко Михаил — см. с. 620.
Карпович Ярослав — полковник КГБ СССР.
Кастро Фидель (р. 1926), лидер кубинской революции, руководитель республики Куба с 1959 по 2006 г.
Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель, драматург, инициатор создания журнала «Юность» и главный редактор журнала с 1955 по 1961 г., когда в «Юности» была опубликована повесть Василия Аксенова «Звездный билет».
Каушанский Владимир Яковлевич (р. 1946), журналист, музыкальный критик, джазовый обозреватель журнала «Aмерика Illustrated»; преподает историю джаза в Московском государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства.
Кафка Франц (1883–1924), писатель, один из столпов европейской литературы ХХ века.
Кашен Марсель (1869–1958), один из руководителей французской компартии.
Кенжеев Бахыт Шкуруллаевич (р. 1950), поэт.
Кеннеди Джон (1917–1963), 35-й президент США (1961–1963).
Керенский Александр Федорович (1881–1970), российский политический и общественный деятель, председатель временного правительства в 1917 г. Эмигрировал из России в 1918 г.
Керуак Джек (1922–1969), американский писатель.
Ким Юлий Черсанович (р. 1936), поэт, композитор, бард, драматург.
Кириллов-Угрюмов Михаил — см. с. 460.
Киркпатрик Джин (1926–2006), американская государственная деятельница.
Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972), поэт.
Кисин Евгений Игоревич (р. 1971), пианист.
Климонтович Николай Юрьевич (р. 1951), писатель, драматург, участник альманаха «Каталог».
Клинтон Билл (р. 1946), 42-й президент США (1993–2001).
Кобо Абэ (1924–1993), японский писатель, драматург и сценарист, один из лидеров японского послевоенного авангарда в искусстве.
Коваль Юрий Иосифович (1938–1995), писатель, сценарист мультфильмов и детских фильмов, художник и скульптор, автор и исполнитель песен.
Кожевников Петр Валерьевич (р. 1953), писатель, сценарист, актер. Первая публикация состоялась в альманахе «Метрополь» (повесть «Две тетради»).
Козаков Михаил Михайлович (1934–2011), актер театра и кино, режиссер.
Козин Вадим Алексеевич (1905–1994), эстрадный певец, композитор, поэт.
Козлов Алексей Семенович (р. 1935), саксофонист, джазмен, композитор, основатель джазового коллектива «Арсенал».
Козловский Евгений Антонович (р. 1946), прозаик, драматург, режиссер. Участник антологии «Каталог».
Колобов Евгений Владимирович (1946–2003), дирижер, основатель театра «Новая опера».
Колюжный — см. с. 35.
Конецкий Виктор Викторович (1929–2002), писатель, сценарист, художник, капитан дальнего плавания.
Коновер Уиллис (младший) (англ. Willis Clark Conover; 1920–1996), американский джазовый продюсер и радиоведущий на радио «Голос Америки», более сорока лет знакомил слушателей во всем мире с джазовой музыкой.
Кононов Николай Михайлович (р. 1958), поэт и прозаик.
Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997), критик, литературовед, диссидент и правозащитник. В 1980 году, во время пребывания в ФРГ был лишен советского гражданства.
Кораллов Марлен Михайлович (р. 1925), критик, публицист. В 1949 г. был арестован и осужден на 25 лет лишения свободы, реабилитирован в 1955 г.
Коржавин Наум Моисеевич (р. 1925), поэт, прозаик, драматург, переводчик. В 1974 г. эмигрировал в США.
Кормер Владимир Федорович (1939–1986), писатель, философ, участник альманаха «Каталог».
Корнилов Владимир Николаевич (1928–2002), поэт, писатель, литературный критик.
Кортасар Хулио (1914–1984), аргентинский писатель и поэт, живший преимущественно в Париже.
Костанян Алексей Львович (р. 1959), с 1992 г. главный редактор издательства «Вагриус».
Котельникова Галина Евгеньевна (р. 1934), дочь двоюродной сестры В.П. Аксенова М.А. Аксеновой.
Кочетов Всеволод Анисимович (1912–1973), писатель-сталинист. Автор одиозного романа «Чего же ты хочешь?» (1969).
Красаускас Стасис (1929–1977), литовский график. В 1961 году его линогравюра «Девушка-весна» стала символом журнала «Юность».
Красин Виктор Александрович (р. 1929), экономист, правозащитник. Во время политического судебного процесса в 1973 г. активно сотрудничал со следствием.
Краснопольский Валерий Липович (р. 1947), поэт.
Крахмальникова Зоя Александровна — см.с.512.
Кривомазов Александр Николаевич — см. с. 481.
Кристенсен Джули (Julie A Christensen), декан факультета современных и классических языков университета им. Джорджа Мейсона.
Кронкайт-младший Уолтер Лиланд — см. с. 464.
Кублановский Юрий Михайлович (р. 1947), поэт, эмигрировал из Советского Союза в 1982 году, вернулся в Россию в 1990 г.
Кузнецов Анатолий Васильевич (1929–1979), автор романа-документа «Бабий Яр», опубликованного в журнале «Юность» в 1966 г. В 1969 г. эмигрировал. По его собственному признанию, за полгода до этого, чтобы получить командировку в Лондон, согласился работать на КГБ и доносил на некоторых писателей.
Кузнецов Феликс Феодосьевич (р. 1931), руководитель Московского отделения Союза писателей СССР, инициатор преследования участников альманаха «Метрополь».
Куняев Станислав Юрьевич (р. 1932), поэт, публицист, литературный критик, главный редактор журнала «Наш современник» (с 1989 г.).
Курчаткин Анатолий Николаевич (р. 1944), писатель.
Лаврова Татьяна Евгеньевна — см. с. 460.
Лазарев Лазарь Ильич (1924–2010), литературный критик, литературовед.
Лановой Василий Семенович (р. 1934), актер театра и кино.
Ланщиков Анатолий Петрович (1929–2007), литературный критик, публицист.
Ласкин Семен Борисович (р. 1930), писатель.
Леви-Стросс Клод (1908–2009), французский этнограф, социолог и культуролог.
Левитанский Юрий Давидович (1922–1996), поэт, переводчик, пародист.
Левитин Михаил Захарович (р. 1945), театральный режиссер, драматург.
Левитин Юрий Абрамович (1912–1993), композитор, ученик Дмитрия Шостаковича.
Лен Слава — см. с. 480.
Леонов Николай Иванович (1933–1999), писатель и кинодраматург, классик советского детектива, автор популярных романов о Льве Гурове.
Лесневский Стасик Стефанович (р. 1930), критик, литературовед.
Ливанов Василий Борисович (р. 1935), актер театра и кино, сценарист, писатель.
Лимонов Эдуард Вениаминович (р. 1943), писатель, эмигрировал из Советского Союза в 1974 г., возвратился на родину в 1991 г.
Липкин Семен Израилевич (1911–2003), поэт, переводчик восточной поэзии. В 1979 году вместе с женой, поэтессой Инной Лиснянской, и Василием Аксеновым вышел из СП в знак протеста против исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения Попова. В 1986 году был восстановлен в рядах Союза писателей.
Лиснянская Инна Львовна (р. 1928), поэтесса. В 1979 году вместе с мужем, поэтом Семеном Липкиным, и Василием Аксеновым вышла из СП в знак протеста против исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения Попова. В 1986 году была восстановлена в рядах Союза писателей.
Литтел Бигги — см. с. 546.
Литтел Пик — см. с. 456.
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999), филолог, академик АН СССР и РАН.
Лозанский Эдуард — см. с. 479.
Лондон Джек (1876–1916), американский писатель, общественный деятель.
Лукьянов Герман (р. 1936), джазовый музыкант, композитор.
Лундстрем Олег Леонидович (1916–2005), джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра. Оркестр Лундстрема стал самым «долгоиграющим» в мире, что зафиксировано в российской «Книге рекордов Гиннеса».
Любимов Юрий Петрович (р. 1917), театральный режиссер, актер, создатель московского Театра драмы и комедии на Таганке. В 1984 г., во время пребывания в Англии, был лишен советского гражданства. В 1988 г. вернулся на родину.
Маевский Валерий (р. 1932), профессор физики в университете Джорджа Мейсона, коллега и друг Василия Аксенова по преподавательской деятельности.
Мазурин Георгий — поэт, художник, редактор издательства «Заря Востока».
Макаревич Андрей Вадимович (р. 1953), лидер рок-группы «Машина времени», музыкант, певец, композитор, поэт.
Макарыч — см. Шукшин Василий Макарович.
Маклах Елена Константиновна — редактор в издательстве «Детская литература» (до 1963 г. — «Детгиз»).
Максимов Владимир Емельянович (1930–1995), писатель, публицист. После публикации романа «Карантин» (1973) на Западе и в «самиздате» был помещен в психиатрическую лечебницу и исключен из Союза писателей. Эмигрировал из Советского Союза в 1974 г., с 1980 г. — главный редактор крупнейшего в эмиграции русского литературного журнала «Континент» (Париж).
Малевич Казимир Северинович (1879–1935), художник-авангардист.
Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1980), мемуарист, лингвист, жена поэта Осипа Мандельштама.
Манн Томас (1875–1955), немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии.
Марамзин Владимир Рафаилович (р. 1934), писатель. Арестован в 1974 г. за составление рукописного собрания сочинений И.Бродского. С 1975 г. — в эмиграции во Франции.
Маркес Габриэль Гарсия — см. с. 551.
Марков Георгий Мокеевич — см. с. 426
Марков Сергей Николаевич (1906–1979), поэт, прозаик, историк, географ, путешественник, архивист, этнограф.
Марченко Алла Максимовна (р. 1932), критик, литературовед.
Матич Ольга — литературовед, славист, профессор Калифорнийского университета в Беркли.
Махно Нестор Иванович — см. с. 415.
Медведев Жорес Александрович (р. 1925), ученый-биолог, диссидент, в 1973 г. был лишен советского гражданства.
Медведев Рой Александрович (р. 1925), брат-близнец Жореса Медведева, советский историк, публицист.
Межиров Александр Петрович (1923–2009), поэт и переводчик.
Мертен Алан (р. 1941), американский ученый, президент университета им. Джорджа Мейсона.
Мессерер Азарий Эммануилович — см. с. 456.
Мессерер Александр Борисович — см. с. 487.
Мессерер Борис Асафович (р. 1933), театральный художник, сценограф.
Миллер Генри Валентайн (1891–1980), американский писатель, художник.
Милош Чеслав (1911–2004), польский поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии.
Минаев Сергей — писатель, телеведущий.
Минчин Александр — американский русский писатель, драматург, Эмигрировал в середине 1970-х годов.
Миров Сергей Геннадьевич (р. 1958), телережиссер, снимал первый «Аксенов-фест» в Казани в 2007 г.
Миронов Андрей Александрович (1941–1987), актер театра и кино.
Михайлов Михайло (1934–2010), сербский философ, литератор, диссидент.
Михайлов Олег Николаевич (р. 1933), прозаик, литературовед.
Можаев Борис Андреевич (1923–1996), писатель.
Монк Телониус (1917–1982), американский пианист и композитор.
Мориц Юнна Петровна (р. 1937), поэт, переводчик.
Мощенко Владимир Николаевич (р. 1932), поэт.
Муратов Дмитрий Андреевич (р. 1961), журналист, один из основателей и с 1995 г. главный редактор «Новой газеты».
Мэл Торме (р. 1925), один из самых разносторонних вокалистов джаза, пианист, барабанщик, композитор и оранжировщик, продюсер и ведущий ток-шоу на телевидении. За свой голос Мэл Торме получил прозвище «Бархатный туман».
Мэрилин Монро (1926–1962), американская киноактриса, певица.
Нагибин Юрий Маркович (1920–1994), писатель, сценарист.
Надежда Яковлевна — см. Мандельштам Надежда Яковлевна.
Назарова Инесса Клементьевна — редактор Василия Аксенова в журнале «Октябрь» (до 2008 г.).
Найман Анатолий Генрихович (р. 1936), поэт, писатель.
Нарышкин Сергей Евгеньевич (р. 1954), российский государственный деятель, с 2012 г. спикер Госдумы РФ.
Наумов Владимир Наумович (р. 1927), кинорежиссер, сценарист, актер.
Неизвестный Эрнст Иосифович (р. 1925), скульптор, в 1976 г. эмигрировал из Советского Союза.
Некрасов Виктор Платонович (1911–1987), писатель, эмигрировал из Советского Союза в 1974 году.
Некрич Александр Моисеевич — см. с. 427.
Немзер Андрей Семенович (р. 1957), литературный критик, литературовед.
Нилин Павел Филиппович (1908–1981), писатель, драматург, сценарист.
Нисневичи Лев и Тамара — см с.342.
Нонешвили Иосиф Элиозович (1918–1980), грузинский поэт.
Нузов Владимир (р. 1941), журналист, писатель, живет в США.
Нуреев Рудольф Хаметович (во всем мире известен как Нуриев; 1938–1993), артист балета, балетмейстер.
Оболенская-Флам Людмила Сергеевна — родилась в Риге, с 1954 г. живет в США, бывший сотрудник русской службы радиостанции «Голос Америки», в настоящее время сотрудничает с «Домом русского зарубежья».
Овсянников Юрий Максимилианович (1925–2001), писатель-историк, издатель.
Оганян (Оганов), см. с. 586.
Озерова Мэри Лазаревна (? — 2003), завотделом прозы в журнале «Юность». Ввела в большую литературу имена Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Анатолия Кузнецова и многих других талантливых писателей.
Окуджава Булат Шалвович (1919–1997), поэт, композитор, бард, писатель.
Олби Эдвард (р. 1928), американский писатель, драматург.
Олежек — см. с. 229.
Олеша Юрий Карлович (1899–1960), писатель, драматург.
Орлов Юрий Федорович (р. 1924), физик, правозащитник, член Московской Хельсинской группы, в 1977 г. был арестован и осужден, в 1986 году после освобождения из ссылки эмигрировал в США.
Освальд Ли Харви (1939–1963), убийца президента Джона Кеннеди.
Осецкая Ангешка (1936–1997), польская поэтесса, на русский язык ее стихи переводил Булат Окуджава.
Осипова Татьяна Семеновна (р.1949), правозащитница, член (секретарь) Московской Хельсинской группы, политзаключенная с 1980 по 1987 год. После освобождения эмигрировала в США.
Оснос Питер — см. с. 165.
Остин Энтони — см. с. 463.
Отец Александр Борисов (Борисов Александр Ильич; р. 1939), русский ученый-биолог, публицист и общественный деятель, священник Русской Православной Церкви, до сентября 2010 г. занимал пост президента Российского библейского общества. С 1991 г. настоятель храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Москве.
Оффенгенден Иосиф Моисеевич (1925–1993), график-карикатурист, долгие годы печатался в журнале «Юность».
Павлов Сергей Павлович (1929–1993), советский государственный деятель, первый секретарь ЦК ВЛКСМ с 1968 по 1983 г.
Павлова Вера Анатольевна (р. 1963), поэтесса.
Палиевский Петр Васильевич (р. 1932), литературовед.
Парамот — см. с. 229.
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт, писатель, классик русской литературы.
Пастернак Евгений Борисович (р. 1923), литературовед, сын и биограф Б.Л.Пастернака.
Паустовский Константин Георгиевич (1923–1968), писатель.
Пелевин Виктор Олегович (р. 1962), писатель.
Петров Дмитрий Павлович (р. 1958), журналист, писатель, автор книги «Аксенов» в «малой серии» ЖЗЛ.
Петров Евгений Петрович (1903–1942), писатель-сатирик, соавтор Ильи Ильфа.
Петров Саша — см. с. 243.
Пинчон Томас (р. 1937), американский писатель, один из основоположников «школы черного юмора».
Питерсон Оскар Эммануэль (1925–2007), канадский композитор, руководитель трио, один из самых выдающихся пианистов — виртуозов джаза.
Платонов Андрей Платонович (1899–1951), писатель, драматург.
Плисецкий Герман Борисович (1931–1992), поэт, переводчик.
Плоткин — см. с. 35.
Плятт Ростислав Янович (1908–1989), актер театра и кино.
Подгорный Николай Викторович (1903–1983), советский государственный деятель, председатель президиума Верховного Совета СССР с 1965 по 1977 г.
Поженян Григорий Михайлович (1922–2005), поэт, сценарист.
Полевой Борис Николаевич (1908–1981), журналист, писатель, с 1961 г. по 1981 г. — главный редактор журнала «Юность».
Поллок Пол Джексон (1912–1956), американский художник-абстракционист.
Попов Евгений Анатольевич (р. 1946), писатель.
Правдина Татьяна Александровна — жена З.Е.Гердта, переводчик с арабского.
Пригов Дмитрий Александрович (1940–2007), поэт, художник, скульптор.
Прилепин Захар (р. 1975), писатель.
Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), писатель.
Проффер Эллендея — см. Профферы Карл и Эллендея.
Профферы Карл (1938–1984) и Эллендея (р. 1944), американские слависты, организаторы и владельцы «Ардиса», одного из крупнейших издательств русской литературы за рубежом. Здесь, начиная с 1971 года, выходили запрещенные в СССР романы Владимира Набокова, Михаила Булгакова, Андрея Платонова, Василия Аксенова, Андрея Битова, Владимира Войновича, Фазиля Искандера, поэтические книга Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Семена Липкина, Инны Лиснянской, Владимира Сосноры и многих других прозаиков и поэтов.
Радченко Ирина Всеволодовна (1951–2005), переводчик французской литературы.
Радченко-Балтер Галина Федоровна (1930–1995), вторая жена писателя Бориса Исааковича Балтера.
Распутин Валентин Григорьевич (р. 1937), писатель.
Рассадин Станислав Борисович (1935–2012), литературный критик, литературовед.
Рахлин Сэм — см. с. 460.
Рачихин — см. с. 473.
Рейн Евгений Борисович (р. 1935), поэт и прозаик.
Ремарк Эрих Мария (1898–1970), немецкий писатель.
Ремизова Мария Станиславовна (р. 1960), литературный критик, писатель.
Рина Зеленая, Зеленая Екатерина Васильевна (1901–1991), актриса эстрады, театра и кино.
Рич Бернард «Бадди» (1917–1987), американский музыкант, джазовый барабанщик.
Роб-Грие Ален (1922–2008), французский писатель и кинорежиссер, идеолог «нового романа».
Роднянская Ирина Бенционовна (р. 1935), литературный критик, литературовед.
Розанов Василий Васильевич (1856–1919), русский религиозный философ, литературный критик и публицист.
Рознер Адольф Эдуард (Eddie Rosner; 1910–1976), джазовый трубач, скрипач, дирижер, композитор и оранжировщик.
Розовский Марк Григорьевич (р. 1937), театральный режиссер, драматург, писатель.
Ронен Омри (р. 1937), израильско-американский филолог-славист.
Ростропович Мстислав Леопольдович (1927–2007), виолончелист, дирижер.
Рот Филип (р. 1933), американский писатель.
Рощин Михаил Михайлович (1933–2010), прозаик, драматург и сценарист.
Рязанов Эльдар Александрович (р. 1927), кинорежиссер.
Ряшенцев Юрий Евгеньевич (р. 1931), поэт, сценарист, писатель.
Сагдеев Роальд Зиннурович (р. 1932) — физик, академик АН СССР и РАН.
Садовников Георгий Михайлович (р. 1932), писатель.
Садовникова Ирина Яковлевна (1931–1999), жена Г.М.Садовникова.
Садовский Валерий — см. с. 37.
Сакмаров Олег Адольфович (р. 1959), рок-музыкант, музыковед, известен также под прозвищем Дед Василий.
Салимон Владимир Иванович (р. 1952), поэт.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889), писатель-сатирик, классик русской литературы.
Сальтина Анна Ивановна — см. с. 564.
Самодуров Юрий Вадимович (р. 1951), правозащитник, директор музея А.Д.Сахарова с 1996 по 2008 г.
Самойлов Давид Самойлович (1920–1990), поэт, переводчик.
Сапгир Генрих Вениаминович (1928–1999), поэт, прозаик, переводчик.
Сарнов Бенедикт Михайловия (р.1927), литературный критик, литературовед.
Сарнова Слава Петровна (р.1927), жена Б.М. Сарнова.
Саррот Натали (Наталья Ильинична Черняк; 1900–1999), французская писательница, родоначальник «нового романа».
Сахаров Алексей Николаевич (1934–1999), кинорежиссер и сценарист.
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989), академик АН СССР, правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира.
Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964), поэт.
Свирский Григорий Цезаревич (р. 1921), писатель, диссидент, эмигрировал из Советского Союза в 1972 г.
Севела Эфраим (1828–2010), писатель, эмигрировал из Советского Союза в 1971 году.
Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич; 1897–1941), поэт Серебряного, эго-футурист.
Селезнева Инесса (1929–2006), кинорежиссер.
Семенов Георгий Витальевич (193–1992), прозаик.
Семенов Юлиан Семенович (1931–1993), писатель, сценарист, журналист, поэт.
Семиженов Г. — см. с. 102
Семина Тамара Петровна (р. 1938), актриса театра и кино.
Сергеева Галина Ермолаевна (1914–2000), актриса театра и кино.
Сеславинский Михаил Вадимович (р. 1946), руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (с 2004 г.).
Сидоров Евгений Юрьевич (р.1938), литературный критик, литературовед.
Симон Клод (1913–2005), французский писатель, лауреат Нобелевской премии.
Синатра Фрэнсис Альберт (1915–1998), американский актер, певец (крунер) и шоумэн. Девять раз становился лауреатом премии Грэмми.
Синельников Михаил Исаакович (р. 1946), поэт, переводчик.
Синявский Андрей Донатович (1925–1997), литературовед, писатель, литературный критик. Прозаические произведения публиковал на Западе под псевдонимом Абрам Терц. В 1965 г. А.Синявский был арестован вместе с Ю. Даниэлем по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации. В феврале 1966 г. осуждён на семь лет колонии. В суде над писателями («Процесс Синявского-Даниэля») ни Синявский, ни Даниэль не признали себя виновными. После освобождения в 1973 г. поехал по приглашению Сорбонны на работу во Францию. С 1973 г. — профессор русской литературы в Сорбонне. Издавал совместно со своей женой Марией Васильевной Розановой с 1978 г. журнал «Синтаксис».
Скура Веслава — с. 494.
Славкин Виктор Иосифович (р. 1935), драматург.
Смеляков Ярослав Васильевич (1912/1913–1972), поэт, критик, переводчик.
Смехов Вениамин Борисович (р. 1940), актер театра и кино, режиссер, сценарист, литератор.
Смит Уильям Джей — см. с. 501.
Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971), писатель.
Соинки Воле (Шойинка Воле) (р. 1934), нигерийский драматург, писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии.
Соколов Александр Всеволодович (р. 1943), писатель, эмигрировал из Советского Союза в 1975 году.
Соколов Владимир Николаевич, (1928–1997), поэт, переводчик.
Соколов Саша — см. Соколов Александр Всеволодович.
Солженицын Александр Исаевич (1918–2008), писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, правозащитник.
Соловьев Владимир Рудольфович (р. 1963), журналист, теле— и радиоведущий.
Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997), писатель и поэт.
Солсбери Харрисон (Гаррисон), см. с. 457.
Сорин Семен Григорьевич (1921–2000), поэт, переводчик. Фронтвик.
Сорокин Владимир Георгиевич (р.1955), писатель.
Сорокин Иван Лукич — см. с. 415.
Софронов Анатолий Владимирович — см. с. 428.
Спиваков Владимир Теодорович (р. 1944), дирижер и скрипач.
Спиноза Бенедикт (1632–1677), нидерландский философ.
Стайрон Уильям (1925–2006), американский писатель.
Стравинский Игорь Федорович (1882–1971), композитор, дирижер, пианист, один из крупнейших представителей музыкальной культуры ХХ века.
Строева Марианна Николаевна (1917–2006), театральный критик, искусствовед.
Струве Никита Алексеевич — см. с. 422.
Стругацкий Аркадий Натанович (1933–1991), писатель-фантаст, соавтор своего брата Бориса Стругацкого (р. 1925).
Стуруа Мэлор Георгиевич — см. с. 455.
Сурат Ирина Захаровна (р. 1959), литературовед, пушкинист.
Суслов Михаил Андреевич (1902–1982), советский государственный и партийный деятель.
Сысуев Олег Николаевич (р. 1953), политик, финансист.
Сэлинджер Джером Дэвид (1919–2010), американский писатель.
Сэттер Дэвид — см. с. 495.
Табаков Олег Павлович (р. 1935), актер театра и кино, театральный режиссер.
Табидзе Галактион Васильевич (1892–1959), поэт.
Тайманов Марк Евгеньевич (р.1926), международный гроссмейстер по шахматам, пианист.
Тайц Яков Моисеевич (1905–1957), детский писатель, иллюстратор, переводчик классиков еврейской литературы.
Тарковский Андрей Арсеньевич (1932–1986), кинорежиссер, сын поэта Арсения Тарковского; эмигирировал из Советского Союза в 1982 году.
Тарковский Арсений Александрович (1907–1989), поэт, переводчик восточной поэзии.
Тарыдина Татьяна Павловна — см. с. 164.
Татищев Степан Николаевич — см. с. 413.
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971), поэт, общественный деятель, главный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954; 1958–1970).
Тимаковы Сергей и Марина — см. с. 376.
Товмасян Андрей Егеазарович (р. 1942), джазовый трубач, основная фигура в джазе СССР в 60-е. Был сторонником традиционного американского джаза. В игре Товмасяна ассимилировалась манера американских трубачей Клиффорда Брауна и Ли Моргана.
Торме Мэл (1925–1999), американский певец.
Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981), писатель, мастер «городской» прозы, одна из главных фигур литературного процесса 1960-х–1970-х годов в СССР.
Тростников Виктор Николаевич (р. 1928), писатель, ученый, философ. Профессор Российского православного университета им. Иоанна Богослова. Автор более ста работ по различным разделам физики и математики, а также книг по научной апологетике.
Трунин Иван (1971–1999), поэт, прозаик, внук Майи Аксеновой.
Туманян Инна (Инесса) Суреновна (1929–2005), режиссер и сценарист.
Тухачевский Михаил Николаевич — см. с. 414.
Тышлер Александр Григорьевич (1898–1980), живописец, график, театральный художник, скульптор.
Уорхолл Энди (1928–1987), американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.
Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт.
Уэбстер Бен (англ. Ben Webster; 1909–1973), американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист, выдающийся исполнитель стиля свинг.
Фадеев Александр Александрович (1901–1956), писатель, с 1946 по 1954 г. руководил Союзом писателей СССР.
Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958), художник.
Феллини Федерико (1920–1993), выдающийся итальянский кинорежиссер.
Филонов Павел Николаевич (1893–1941), художник.
Фирсова Джема Сергеевна (1935–2012 гг.), актриса, режиссер-документалист, общественный деятель.
Фицджеральд Зельда Сейр (1900–1948), американская писательница, жена Френсиса Скотта Фицджеральда.
Фицджеральд Френсис Скотт (1896–1940), писатель, классик американской литературы.
Фицджеральд Эмма (1917–1996), американская джазовая певица, «Леди Элла».
Фогельсон Виктор Сергеевич — см. с. 468.
Фолкнер Уильям (1897–1962), писатель, классик американской литературы, лауреат Нобелевской премии.
Фрадков Михаил Ефимович (р. 1950), российский государственный деятель, Председатель Правительства России с 2004 по 2007 г.
Фрейд Зигмунд (1856–1939), австрийский психолог и психиатр.
Фридманы — см. с. 243.
Фрумкин Владимир Аронович — см. с. 458.
Фурцева Екатерина Алексеевна (1910–1974), министр культуры СССР с 1960 по 1974 г.
Хазанов Борис (р.1928), прозаик, эссеист, переводчик. Публиковался в самиздате и за рубежом. В 1982 г. эмигрировал в Германию.
Хазанов Юрий Самуилович (р. 1920), писатель, переводчик.
Ханютин Юрий Миронович (1929–1978), кинокритик, сценарист.
Харитонов Евгений Владимирович (1941–1981), поэт, прозаик, драматург, режиссер. Участник альманаха «Каталог».
Харитонова Зоя — см. с. 35
Харт Гэри (р. 1936), американский писатель, юрист, политик.
Хачатурян Гаянэ Левоновна (1942–2009), художница.
Хемингуэй Эрнест (1899–1961), писатель, классик американской литературы, лауреат Нобелевской премии.
Хлебников Велемир (1885–1922), поэт, один из основоположников русского футуризма.
Хмельницкая Людмила Матвеевна — см. с. 494.
Ходжес Джон Корнелиус «Джонни» (англ. John Cornelius «Johnny» Hodges; 1906–1970), выдающийся американский альт-саксофонист, мастер свинга, яркий мелодист. Сыграл важную роль в становлении знаменитого оркестра Дюка Эллингтона и оказал значительное влияние на многих музыкантов джаза.
Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993), писатель, сестра М. И. Цветаевой.
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), поэт, классик русской литературы.
Церетели Зураб Константинович (р. 1934), художник и скульптор, президент Российской академии художеств с 1997 г.
Цыбулевский Александр Семенович (1928–1975), филолог-грузиновед.
Чалидзе Валерий Николаевич — см. с. 424.
Чачхиани Юрий — см. с. 253.
Чеботок — см. с. 229.
Чиковани Симон Иванович (1902/1903–1966), поэт.
Чиладзе Отар Иванович (1933–2009), писатель, сценарист.
Чубайс Анатолий Борисович (р. 1955), политик, государственный деятель.
Чудаков Александр Павлович (1938–2005), литературовед, писатель.
Чудакова Мариэтта Омаровна (р. 1937), литературовед, историк, писательница, мемуарист, общественный деятель.
Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996), писательница, публицист, диссидент.
Чухонцев Олег Григорьевич (р. 1938), поэт.
Шагал Марк Захарович (1887–1985), белорусский и французский художник еврейского происхождения.
Шайтанов Игорь Олегович (р. 1947), критик, литературовед, главный редактор журнала «Вопросы литературы»
Шатров Михаил Филиппович (1932–2010), драматург.
Шаховская Зинаида Алексеевна (1906–2001), русская эмигрантка первой волны, княжна, писательница, поэтесса, переводчица.
Шварцман Михаил Матвеевич (1926–1997), живописец, график, художник книги.
Шевелев Игорь Леонидович (р. 1953), писатель, критик, журналист.
Шелепин Александр Николаевич (1918–1994), советский партийный и государственный деятель, с 1958 по 1961 г. руководитель КГБ СССР.
Шемякин Михаил Михайлович (р. 1943), художник, представитель русского авангарда, эмигрировал из Советского Союза в 1971 году; действительный член академии наук Нью-Йорка и академии искусств Европы.
Ширак Жак (р. 1932), президент Франции с 1995 по 2007 г.
Шкляревский Игорь Иванович (род. 1938), поэт.
Шкурович Леонид Владиленович — издатель, с 2012 г. главный редактор издательства «Азбука», до 2012 г. — директор редакции издательства «Эксмо», в котором издаются книги Василия Аксенова.
Шпаликов Геннадий Федорович (1937–1974), поэт, кинорежиссер, киносценарист.
Штемпель Наталья Евгеньевна — см. с. 513.
Шубина Елена Данииловна — редактор книг Василия Аксенова «Зеница ока» в издательстве «Вагриус» и «Логово льва» в издательстве «Астрель».
Шукшин Василий Макарович (1929–1974), писатель, актер, кинорежиссер, сценарист.
Шукшин Макар Леонтьевич (1912–1933), крестьянин, отец Василия Шукшина, расстрелян во время коллективизации.
Шурик Шелепин — см. Шелепин Александр Николаевич.
Щорс Елена — советская эмигрантка, жена Петра Волковицкого.
Эдлис Юлиу (1929–2009), писатель, драматург и киносценарист.
Эль Лисицкий (Лисицкий Лазарь Маркович; 1890–1941), художник и архитектор, один из выдающихся представителей авангарда.
Эмка Мандель — см. Коржавин Наум.
Эткинд Ефим Григорьевич (1918–1999), филолог, историк литературы, переводчик. В 1974 г. выслан из СССР за хранение рукописей Александра Солженицына. Подготовил и выпустил во Франции роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».
Эфрос Анатолий Васильевич (1925–1987), театральный режиссер.
Юзефович Леонид Абрамович (р. 1947), писатель, сценарист, историк.
Юрьенен Сергей Сергеевич (р. 1948), писатель, прозаик, переводчик, журналист, издатель; в прошлом автор и ведущий программ «Радио Свобода», диссидент. Роман «Дочь генерального секретаря» опубликован в 1999 г. в издательстве «Внешсигма».
Юшенков Сергей Николаевич (1950–2003), депутат Государственной думы, кандидат философских наук. Один из лидеров партии «Либеральная Россия». Убит 17 апреля 2003 года.
Якир Петр Ионович (1923–1982), историк, правозащитник. Во время политического судебного процесса в 1973 г. активно сотрудничал со следствием.
Якобсон Елена Александровна (урожд. Жемчужная; 1913–2002), американская славистка.
Яковлев Александр Николаевич (1923–2005), советский политический и общественный деятель, один из идеологов перестройки конца 1980 г.
Якут Александр Всеволодович (р. 1955), художник, галерист, архитектор.
Ямщиков Савва (Савелий) Васильевич — см. с. 460.
Иллюстрации к книге
«…наверное, как бегун — я человек длинной дистанции…»
Василий Аксенов, главный герой этой книги
Вася Аксенов, которого вот-вот отправят в дом для детей «врагов народа»
1934 год
Павел Васильевич Аксенов и Евгения Семеновна Гинзбург на заре их комсомольской юности, закончившейся ГУЛАГом
Магадан, 1950 год
Студент Василий Аксенов, Евгения Семеновна, Антон Вальтер
Магадан, 1949 год
Евгения Семеновна Гинзбург, Вася Аксенов, сводная сестра Тоня,
Антон Яковлевич Вальтер
«Строгий юноша» В.П. Аксенов
Е. С. Гинзбург, уже изведавшая все «прелести» «крутого маршрута»
Магадан, Ногайская бухта,
1949 год. Вася
Магадан, парк им. Горького, 1952 год. Вася Аксенов, Евгения Семеновна Гинзбург, сестра Тоня, Антон Яковлевич Вальтер
Магадан, 1954 год
Евгения Семеновна с детьми — Василием и Антониной
Подмосковье 1961 год
Евгения Семеновна Гинзбург с сыном
Встреча с отцом, Павлом Васильевичем Аксеновым, вернувшимся из ссылки после пятнадцати лет отсидки
1960-е годы. Кира и Василий Аксеновы с сыном Алексеем
Василий Аксенов с первой женой Кирой Менделевой
«…мама и отчим сказали мне, что надо получить профессию доктора, чтобы спастись в лагерях…»
Коллеги. Студент 1-го Ленинградского медицинского института Василий Аксенов (справа) с друзьями
Титульный лист той самой знаменитой книги, с которой началась слава молодого писателя Аксенова
Кадр из фильма «Коллеги» (Олег Анофриев, Василий Ливанов, Василий Лановой)
Портрет этот появился в витрине фотоателье на главной площади Львова осенью 1961 года среди снимков важных людей города-барокко.
Все фото были с фамилиями, кроме этого. Мы с поэтом Виктором Соснорой шли мимо.
«Гляди, там кто-то знакомый в витрине», — сказал я.
Остановились и смотрели минут пять. «Балда, — сказал наконец
Соснора, — это же ты». Две стоящие рядом девушки повернулись:
«А вы кто?» Я промолчал, но Соснора объяснил: «Он стахановец».
«…в 1963 году я и Андрей Вознесенский оказались выволоченными на трибуну перед лицом всесоюзного актива, а за спиной все Политбюро и Никита, размахивавший кулаками и угрожавший…»
Москва. Кремль, 1963 год
Разгромное выступление Н. Хрущева на встрече с интеллигенцией
Василий Аксенов и Андрей Вознесенский
Анатолий Гладилин
Закадычный друг Аксенова
Илья Авербах
Друг питерской юности Аксенова, кинорежиссер
Василий Аксенов, Андрей Вознесенский
Булат Окуджава
Андрей и Зоя
Коктебель. Василий Аксенов и Роберт Рождественский
Анатолий Найман
Старинный друг Аксенова
Василий Аксенов и Евгений Евтушенко мирно курят на фоне автомобиля «жигули», принадлежащего одному из них
Юрий Казаков. Прозаик, которого обожал Аксенов
1960-е годы. В Болгарии
Москва, апрель 1979 года. Мастерская Б. Мессерера. Метропольцы со своим «МетрОполем»
Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Зоя Богуславская, Борис Мессерер, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Василий Аксенов с женой Майей
В кафе «Синяя птица» на джазовом фестивале с молодым писателем Александром Кабаковым
«…на сцене музыканты «Арсенала» выглядели и держались, как типичные хиппи — в джинсе, длинноволосые, с особой манерой…»
Два великих «шестидесятника» — Алексей Козлов и Василий Аксенов
Москва, 1979 год
6 ряд (стоят) — Б. Окуджава, В. Тростников, Ф. Горенштейн, В. Ракитин, Е. Попов
5 ряд (стоят) — С. Бабенышева, Н. Кузнецова, С. Иванова, Ф. Искандер, О. Окуджава, Л. Копелев
4 ряд (сидят, стоят) — В. Войнович, Б. Мессерер, С. Липкин, И. Лиснянская, Г. Владимов, А. Битов, Л. Баткин
3 ряд (сидят) — Г. Балтер, <Р. Бель, сын Беля, немецкий гость???>, Г. Бёль с «Метрополем» в руках, А. Бёль, В. Славутская, узница сталинских лагерей, подруга Е. Гинзбург <Мишка??? друг Бёлей>, Р. Орлова
2 ряд (сидят) — Г. Сапгир, М. Кармен Трифонов, В. Аксенов, Вик. Ерофеев, В. Скура <жена Ерофеева??? >
1 ряд (сидят) — Жан-Луи (фамилия???), бельгийский дипломат, сейчас посол Бельгии не то в Словении, не то в Словакии. Это можно узнать в посольстве <иностр. корр.???>, О. Мирошниченко-Березко (Трифонова), <Х. Уитни, жена К. Уитни, иностр. корр.???>, <К. Уитни, иностр. корр.???>
«…целый год составлялся «Метрополь», вся Москва говорила, это не было тайной… Альманах был создан, произошло художественное событие, событие литературной жизни, на поверхность вышло несколько интереснейших авторов — и молодое поколение, и старики, то есть произошло событие, прозвучавшее на весь мир…»
Обложка первого типографского издания альманаха «МетропОль», напечатанного в США
Переделкино. Дэвид Сэттер, американский журналист, Кевин и Элиза Клоссе, Василий Аксенов, Майя, Галина Балтер
«…мне очень дороги спонтанные моменты жизни, заводные, джазовые.
Жить, как бы танцуя свинг…».
С Андреем Вознесенским
Верхний ряд: Юрий Робтиевский, Виктор Тростников, Юрий Кублановский, Семен Липкин, Евгений Попов, Василий Аксенов, Владимир Высоцкий, Виктор Ерофеев, Леонид Бабкин, Фридрих Горенштейн
Средний ряд: Аркадий Арканов, Фазиль Искандер, Инна Лиснянская, Анатолий Брусиловский, Марк Розовский
Нижний ряд: Василий Ракитин, Генрих Сапгир, Давид Боровский
С Владимиром Высоцким и Виктором Ерофеевым
«Белла — это очень серьезное явление русской культуры. Белла — своего рода «Незнакомка», и была такой для целого поколения. Очень гармоничная личность, сливающаяся со своими стихами…»
Красная Пахра
<…>, Виктор Тростников, Инна Лиснянская, Семен Липкин
Василий и Майя
Майя — главная любовь
Переделкино, 1980 год. Свадьба
Слева направо: Галя Балтер, Борис Биргер, Майя, Белла Ахмадулина, Василий, Борис Мессерер
Василий Аксенов у портрета работы Бориса Биргера
Переделкино, 1980 год. Проводы
На заднем плане с сигаретой Евгений Рейн
1980 год. Перед отъездом на чужбину
«Жаль, что вас не было с нами»
Василий Аксенов и Евгений Попов
США, 80-е годы. Борис Мессерер, Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина, Михаил Барышников
Нью-Йорк, 1987 год. Встреча
«…желательно, чтобы общество не покидало чувство юмора. Не надо стремиться к звериной серьезности во всем, о многих вещах стоит говорить с легкостью. Не фиксироваться, не зацикливаться ни на чем…»
Профессор Университета им. Дж. Мэйсона В. П. Аксенов
«…Своим студентам в Америке, где я в течение двадцати четырех лет преподавал в университете русскую литературу, я всегда говорил:
«Самое главное, чтобы вы научились завершать вещь, которую начали».
1990 год
В студии «Голоса Америки» Журналист Илья Левин, Евгений Попов, Владимир Войнович, Василий Аксенов
Евгений Попов и Василий Аксенов перед вратами «Голоса Америки»
Орлеан,1984 год. Жизнь эмигрантская. Виктор Некрасов, жена его пасынка Мила Кондырева, Василий Аксенов, сотрудник радио «Свобода» Макс Раллис, Майя Аксенова
В. П. Аксенов посвятил красавице Майе Кармен, своей будущей жене, судьбоносный роман «Ожог»
Вашингтон. У памятника Альберту Энштейну
В.П. Аксенов, которого любили женщины, дети и животные
Со спаниелем Ушиком
У стенда русскоязычного калифорнийского еженедельного альманаха «Панорама» (издается с 1980 г. в Лос-Анджелесе)
В американском книжном магазине. В центре — изданный на английском языке роман «Ожог» (The burn)
80-е годы
Вашингтон, с Майей
«…за годы в моем репертуаре прибыло: йога и баскетбол, в который играю в одиночестве…»
«Одиннадцать лет я жил без всякого гражданства, у меня был только Грин-кард в Америке…»
С сыном Алексеем
Вашингтон, 80-е годы Дома. С кошкой Маруськой
Внук Майи Иван Трунин
С семьей. Слева направо: Майя, внук Иван, дочь Майи — Алена
1980-е годы. Новый год с друзьями. «Танец маленьких лебедей»: Василий Аксенов, <???>, Владимир Войнович, <???>
«Не все знают, что я не только писатель, но и читатель»
С Майей и сыном Алексеем
«…я не подвержен самокритике. И когда работаю, говорю себе: «Старик, ты хорошо пишешь». Или: «Я-то знаю, как ты пишешь…»
«Желток яйца»
В.П. Аксенов — классик на босу ногу
«…случайно попал в Биарриц и очень рад, что именно там зацепился. Домишко небольшой, но с садом, на склоне горы. Виден океан, все время шумит…»
Биарриц, Франция, 2003 год. В костюме эритрейца Фото В. Есипова
1989 год. Первый приезд Василия Аксенова в Россию…
Театр «Современник», капустник после спектакля «Крутой маршрут»
У посла США Джека Мэтлока
Биарриц, Франция, 2006 год
Василий Аксенов с Евгением Поповым в день его шестидесятилетия
Четыре друга — Евгений Попов, Василий Аксенов, Александр Кабаков и тибетский спаниель Пушкин (в центре)
Подготовка к съемкам фильма «Московская сага»
«…я редко приходил на съемочную площадку, только когда наведывался в Москву…»
Дом в Серебряном бору, который стал местом действия в телефильме «Московская сага»
«… указав на деревянный особняк, стоящий за забором на большом участке, Василий воскликнул: «Вот этот дом! Таким я себе его и представлял!»
Василий Аксенов. Александр Кабаков
«Жизнь стала суетной: выступления, встречи, звонки. Я не всегда понимаю, что происходит. Времени ни на что не хватает…»
Белла Ахмадулина, Василий Аксенов, Борис Мессерер
Анатолий Гладилин. Патриарх «исповедальной прозы»
Евгений Попов и Александр Кабаков с двумя кумирами их юности — Анатолием Гладилиным и Василием Аксеновым
Илья Левин, Алексей и Василий Аксеновы, А. Кабаков, О. Сакмаров
Москва, Котельническая набережная. У В.П. Аксенова дома Василий Аксенов, Олег Сакмаров и Владимир Мощенко
Москва, Галерея Якута, 2007 год. На презентации романа «Редкие земли» Василий Аксенов, его литературный представитель Виктор Есипов, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова
С Бенедиктом Сарновым и Марленом Коралловым
«Время — это как раз и есть изгнание из рая. Наша жизнь — путь Адама для всех поколений. Как только мы попали в бренный мир, часы сразу стали нам отсчитывать — тик-так…
Будущего практически нет, каждый миг будущего мгновенно становится прошлым. Обратное движение… Когда нас выперли из рая, что-то переменилось. А изначальный замысел был какой-то другой. Не знаю какой, но, наверное, более целесообразный. Я просто ощущаю, что момент обреченности человечества — это не трагедия, в этом его судьба: для чего-то большего… Пришли, чтобы уйти, завершить путь. Апокалипсис, испепеляющий и приносящий новую суть, — это ведь наоборот — духовное возрождение…»
«— Ваша семья? Я член семьи Пушкина, тибетского спаниеля»
«Я очень давно верю в Бога. Человек я, к сожалению, не очень церковный, но по мироощущению своему полностью религиозен. Не могу себе представить мир в его материалистической модели — без Бога, в машинной модели».
2007 год. С мэром Казани И. Метшиным
«Грех жаловаться — меня читают в России. А последние мои книги даже были, как мне говорили, лидерами продаж…»
2006 год
Размышление
Андрей Макаревич
Казань, 2007 год
Участники первого «Аксенов-фест» в майках с автопортретом Василия Аксенова
«…к сожалению, не все, чего жаждал, я успел сделать. Не пошел туда, куда мог… Вот, скажем, не стал яхтсменом. Так хотелось ходить на яхте… Кроме английского, конечно, хотел бы держать еще пять языков в запасе. Очень жаль. В чем повезло, так это в работе — выбрал именно то, что дает мне колоссальное удовлетворение…»